Светлана Мрочковская-Балашова. Она друг Пушкина была Часть 1. Музу на светский раут привожу…
Так Риму, Дрездену, Парижу
известен впредь мой будет вид.
А. С. Пушкин.Мой Пушкин
О Пушкине написано бесконечно много. О ком другом больше? Изучен почти каждый день жизни Поэта, а мы всё ещё очень мало знаем о нём. Парадокс? Фактов биографии ещё недостаточно, чтобы познать человека — его Дух, его Душу, его Тайну — то, что Семён Франк, говоря о Пушкине, назвал миросозерцанием. А сами факты жизни Поэта (из-за неистребимой потребности русских создавать идолы) на протяжении почти 160 лет со дня его смерти подбирались по мерке крепко сколоченного для него прокрустова ложа — всё, что не умещалось в его размеры, отбрасывалось. План автобиографического — задуманного, но не написанного — романа Пушкина «Русский Пелам» — ошеломляет невозможностью расшифровать закодированную в нём тайнопись — и прежде всего жизни самого Поэта. План этот, словно насмехаясь над сотнями, тысячами пушкинистов, говорит: как далеко вам ещё до истины! Героями задуманного романа должны быть знакомцы Пушкина — братья Орловы, Всеволожский, Наталья Кочубей, граф Завадовский, князь Шаховской, Грибоедов, Мордвинов, Илья Долгоруков, декабристы — живые, реальные люди, ещё не упрятанные под псевдонимы. Что мы знаем о их общении с Поэтом? Очень мало реальных фактов и очень много фантазии. Если бы Пушкин успел написать роман, какими удивительными подробностями обогатилась бы для нас его биография. Тайна романа, тайна жизни, переплетённой с сотнями других, унесена Поэтом в иной мир.
Но отчего такое любопытство к Его жизни, к любому новому факту, эпизоду, штриху его биографии? Не оттого ли, что Пушкин — духовная святыня россиян. Что он выразил самые светлые, самые добрые черты нации — и в своей личности, и в своих творениях. Ибо гений — и в первую очередь гений поэта — есть всегда самое яркое и показательное выражение народной души в её субстанциальной первооснове. Это сказал о Пушкине Семён Франк — замечательный российский философ. Познавать Пушкина — значит познавать и самого себя. А самопознание — одна из главнейших задач человеческой жизни. Русскому человеку исконно присуще раздумье о своём месте под солнцем, осмысление исторической и духовной миссии России и её народа. Всё это есть у Пушкина. Этим и можно объяснить неиссякаемый интерес к Поэту.
Предлагаемая Читателю (как сказал Пушкин, если Бог пошлёт мне его!) книга потревожила тени близких друзей поэта — Елизаветы Хитрово, Долли Фикельмон, Александрины Гончаровой, Каролины Собаньской. За ними тянется вереница других теней — тех, кого мы называем Его окружением. Все они — ваши старые знакомые по пушкиниане — представлены в свете новых документов, обнаруженных мною в зарубежных архивах.
Она долго рождалась. Многолетние поиски документов, перевод иноязычных текстов, атрибуция персонажей из дневников Д. Ф. Фикельмон и князя Фридриха Лихтенштейна, вызревание идеи. И наконец, осуществление её. Соприкасаясь ежедневно с Пушкиным, я сама изменилась. Повзрослела — не годами, а духом, душою, опытностью — нравственной, литературной. Теперь, перечитывая свой трёхлетний труд, я вижу в нём немало просчётов и недостатков. Начни сейчас сначала, я бы о многом рассказала по-иному. Переделывать бессмысленно — это равносильно написать новую книгу. Как за спасительную соломинку, хватаюсь за пушкинскую мудрость:
Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию. Бескорыстное признание в оном требует душевной силы.
Не претендую ни на роль исследователя, ни на лавры первооткрывателя каких-то истин о Поэте. Пропустив через себя тысячи страниц пушкинианы, я создала своего Пушкина. Собственное понимание Его миросозерцания, Его жизни, Его творчества. Он ведь у каждого свой — будь то читатель, писатель или исследователь. И всяк вправе принять или не принять моё к нему отношение.
Приношу бескрайнюю благодарность моим друзьям, без помощи которых не была бы завершена эта работа, — барону Эдуарду Александровичу Фальц-Фейну, князю Никите Дмитриевичу Лобанову-Ростовскому, бельгийскому дипломату Жоржу Англоберу, Марии Чакыровой, Рите Николаевне Гамалее, Марии Балашовой, д-ру Платону Чумаченко, проф. Гюнтеру Витченсу, Марии Бойкикевой. Они снабжали меня статьями о Поэте в русской и зарубежной периодике, новинками Пушкинианы, присылали выписки из русских родословных книг, консультировали в переводе французских текстов. Э. А. Фальц-Фейну обязана пушкинистика появлением на свет дневника князя Фридриха Лихтенштейна — находкой, расшифровкой, преподнесением в дар Пушкинскому дому. Так уж получилось, что мне первой выпала честь перевести его на русский язык и рассказать о нём в своей книге.
Светлана Балашова
София, 15 ноября 1997 г.
Часть первая Музу на светский раут привожу…
Неимоверный случай
И он Варвары Алексевны
зевоту вдруг благословил.
А. Пушкин1980 год, Вена. Начало эпохи, которая длилась целых семь лет. Где-то там, в небесной книге моей судьбы, этот миг жизни записан был, наверное, в момент моего рождения. Там, в других временных мерностях, приготовленная для земной стези, я проскочила по ней в мгновение ока с какой-то неведомой землянам внепланетарной скоростью. А земное бытие оказалось всего лишь замедленным зеркальным отражением того иного, уже прожитого. Иначе как объяснить, что в детстве мечтала я о Вене и ещё двух городах, ничем не связанных друг с другом, — Вавилоне и Париже? И не просто мечтала, а изучала их карты, будто готовясь к путешествию, и без устали блуждала по их улицам, переулкам, площадям. Знала наизусть — разбуди ночью, без запинки отвечу — расположение всех их знаменитых достопримечательностей — музеев, соборов, дворцов, памятников, парков. Можно, конечно, объяснить и по-иному. Интерес к Вене пробуждён был музыкой Моцарта, Бетховена, Шуберта, Штрауса. Она породила желание узнать и о них самих и городе, пропитанном их мелодиями. Любопытство к Парижу пришло через французскую литературу, а к Вавилону? Нет, не через сказки Шехерезады — они созданы другой цивилизацией и другим народом. Мечта о нём была навеяна его тайной: город-мираж, рождённый и погребённый песками, город-химера, в гордыне дерзнувший построить башню до самого Неба и наказанный за своеволие великим столпотворением. Мечты, как резинка, могут растягиваться в длину — мои растянулись на всё детство и были его наиглавнейшим естеством: не мечта-желание, а мечта-реальность, своеобразный вид мимикрии в жизни девчонки из глухой сибирской деревни, куда после окончания мединститута была «сослана» моя репрессированная мама. И совсем естественно в ней не жила надежда увидеть когда-нибудь своими глазами эти города-сказки. А они, несбыточные, сами вошли в мою жизнь именно в той последовательности, в какой грезились: Париж, Вавилон, Вена.
«Wien, Wien, nur Du allein…»[1] — поют австрийцы о своей столице. В самом деле другой такой нет на свете. В этом я убеждена. Но смогу ли объяснить её неповторимое очарование? От прочих городов-музеев мира её отличает прежде всего особый венский стиль. Точёная готика, пышное барокко, строгий ампир, томная разнеженность сецессиона. И многие другие приметы: особая элегантность венок, изысканные витрины — эти маленькие шедевры искусства, каких не встретишь даже в Париже (диву даёшься при каждой сезонной их смене безграничности фантазии венских дизайнеров); особая чистота улиц и не на последнем месте — вышколенная приветливость и улыбчивость венцев и вкус, изящество везде и во всём.
Русский или австрийский князь?
Бесконечно бродя-блуждая по городу, я натолкнулась на переулок Разумовского. В ту пору я ещё мало знала о бывшем русском после в Австрии — графе Андрее Кирилловиче Разумовском. Память о нём сохранилась в названиях принадлежавшего ему дворца, обустроенной им там же площади и улицы, упирающейся в один из рукавов Дуная (ныне венский отводной канал). Вельможа воздвиг через него мост, чтобы не кружа, напрямик попадать в Пратер. Долгое время мост этот его именем назывался. Очередное наводнение разрушило его. На его месте построен другой, каменный, — Софиенбрюкен, позднее Ротунденбрюке. Имя Разумовского за полтора века так прочно вписалось в топонимику города, что спроси сегодня любого австрийца, кем был князь Разумовский, в ответ услышишь: богатым австрийским аристократом.
Ответ этот не так уж далёк от истины: родной брат русского дипломата Григорий Разумовский принял австрийское подданство, положив начало новой ветви рода. Его потомки и сегодня живут в Вене…
Если бы мы, не помнящие родства, знали, подобно Пушкину, историю своих предков, подмеченная Поэтом закономерность о «странных сближениях» через века и эпохи не показалась бы нам столь мистичной. Сию не разгаданную ещё человечеством взаимосвязь восточные религии называют кармой. Современные парапсихологи научились заставлять человека под гипнозом раскодировать воспоминания о минувшем, даже не связанном с его нынешним существованием. Не будем сейчас уточнять, генетическая ли это память или память души о её воплощениях в иных жизнях. Важно, что она существует. И об этом ныне можно говорить, не рискуя репутацией. Зафиксированная в анналах России история рода Разумовских облегчает нашу задачу путешествия во времени. Летописания послужат ориентиром, который поможет познакомиться с некоторыми представителями этого рода — теми, кто попал в орбиту жизни Пушкина…
Распахиваются ворота огромной, размахнувшейся на целую версту усадьбы в некогда окраинном районе Вены — граф, прежде чем построить дворец, в течение нескольких лет скупал земли у мелких владельцев. Великолепная карета с графскими (через несколько лет княжескими) вензелями, запряжённая орловскими (из России выписывал) рысаками, вылетает на площадь и устремляется вниз к реке, а оттуда через мост к излюбленному венцами месту прогулок — Пратеру. Его тенистые аллеи уже запружены колясками титулованных венских вельмож, легкомысленных красавиц, императорскими конногвардейцами. Знаменитый посол Российской империи, сказочно богатый, как уверяла молва, русский граф со сдержанным достоинством раскланивается со знакомыми…
По-русски широко жил граф Разумовский. В Вене женился на австрийской графине фон Тун, остепенился и стал устраивать своё гнёздышко. Обустраивался прочно, надолго, с размахом. Его богатство позволяло ему соперничать с знатнейшими аристократами Австрии — Эстергази, Лобковицем, Лихновским, Кинским. Это было не грубое, провинциальное сумасбродство русских бар, а утончённый, просвещённый, как обязывала мода времени, стиль жизни. У Разумовского собирался весь цвет венского общества, там любили говорить записные умники, туда являлись с поклоном все знатные иностранцы, туда же стали стекаться теперь все заклятые враги Франца (австрийского императора) и Наполеона Бонапарта[2].
Прежде всего граф начал возводить огромный дворец. Строился он более десяти лет. Но и получился на диво. По роскоши, твердят современники, не уступал императорскому — картины старинных мастеров, скульптуры великого Кановы, редчайшие коллекции фарфора, драгоценные ковры, антиквариат. Разумовский постоянно пополнял коллекцию в антикварных лавках Парижа и Вены.
Завёл он и собственный оркестр. Музыкантов выписал с Украины. Возможно, набирал их из крепостных. В исполнении его квартета русская музыка впервые зазвучала в Вене. Сам граф недурно играл на скрипке, иногда участвовал в концертах. Музыку понимал и был одним из немногих, кто сразу же оценил Бетховена. Из снобизма или искреннего восхищения гением стал его меценатом. Композитор часто играл во дворце Разумовского, нередко доверял музыкантам посла первое исполнение своих новых камерных произведений. Для графа Бетховен написал три струнных квартета на русские темы (навеянные услышанной во дворце русской музыкой) — так называемые Квартеты Разумовского. Ему и Францу Йозефу Лобковицу — другому своему меценату — Бетховен посвятил также Пятую и Шестую симфонии.
Дипломатическая деятельность Андрея Кирилловича заслуживает специальных исследований. А о ней — всего несколько слов в Дипломатическим словаре да несколько небрежных штрихов к образу в книге Валентина Пикуля «Фаворит». И лучше бы не касался Пикуль этой личности — предвзятость автора родила отталкивающий образ: космополит, ловелас, русофоб и предатель. Граф, а после Венского конгресса князь Разумовский был уникальной, всесторонне образованной, одарённой личностью. Факт его общения с Бетховеном уже сам по себе значителен и навсегда вписал имя Разумовского в биографию композитора. Об этом знают австрийцы, но позабыли русские. Портрет князя Андрея Разумовского висит в венском музее Бетховена «Паскуалатихауз».
В дни безумно веселящегося Венского конгресса во дворце Разумовского случился пожар. В огне погибли его бесценнейшие коллекции картин, скульптуры, бронзы. Он оказался практически разорённым. Но князь, утверждают очевидцы, скорбел не об этом. Он сокрушался, что теперь не сможет содержать квартет и во дворце не будет звучать музыка Бетховена.
Отшумели победные торжества. Присмиревшая и обнищавшая Европа принялась зализывать нанесённые войной раны. За заботами да убытками богачи позабыли о музыке, меценатстве и Бетховене. А он бедствовал. В это время король Вестфалии предложил ему место капельмейстера при своём дворе и весьма приличное вознаграждение. Композитор решился покинуть музыкальную столицу. Разумовский огорчился не на шутку. Вместе с князем Лобковицем принялся собирать для гения милостыню. Проценты с подаяния в 4000 флоринов обеспечили Бетховену на какое-то время сносное существование в Вене.
Вскоре после Венского конгресса А. К. Разумовский вышел в отставку. Ему было 64 года. Он не вернулся в Россию. К Австрии окончательно привязала его вторая жена — австрийская графиня Констанция Тюрмгейм. Умер князь в Вене в 1836 году на 84-м году жизни. Похоронен в усыпальнице Тюрмгеймов в Швертберге. Огромный дворец был продан его вдовой в 1837 году князю Лихтенштейну. А тот позднее уступил его казне… Ныне в нём размещается Министерство геологии и музей минералов.
Любовник вселенского масштаба
Дипломатическая служба Разумовского — сначала в Неаполе, затем Швеции и наконец Австрии — была своего рода почётной ссылкой для молодого повесы. Красавец граф Андрей Кириллович был придворным цесаревича — своего ровесника и друга детства Павла Петровича. Его дружба с наследником престола многим мозолила глаза. Беспокоила она и Екатерину II. Молодой граф демонстративно кичился близостью с ним. Западные дипломаты взахлёб сообщали о ней своим правительствам. Прогнозировали его будущую роль после восшествия Павла на престол. А пока граф Андрей наслаждался жизнью. Слыл мотом, кутилой, первым волокитой. Весь Петербург судачил о любовных похождениях самоуверенного красавчика. Много шума наделала его история с французской комедианткой Дорсеваль. Эта прибывшая в Россию искательница счастья имела дерзость поносить всё русское. Её публичные оскорбления россиян кое-кого вывели из терпения. Был отдан приказ об аресте хулительницы. Граф Андрей вместе с французским дипломатом увёз её из-под стражи. И эта проказа сошла ему с рук. Подобные забавы были во вкусе эпохи. Царица смотрела на них снисходительно. Только старики, сокрушённо качая головами, бранили нравы нынешней молодёжи.
О той поре его жизни сохранился анекдот, пересказанный историком Бантыш-Каменским. Однажды его отцу пришлось выложить портному за «платье» сына 20 тысяч рублей. Старший Разумовский в сердцах пожелал взглянуть на «знаменитую гардеробу» своего отпрыска. Одних жилетов у молодого графа оказалось несколько сот. «Зачем тебе столько? — сурово спросил его Кирилл Григорьевич. — Я вот двумя камзолами обхожусь». — «Между нами великая разница, — сострил граф Андрей. — Я — сын российского генерал-фельдмаршала, а вы — сын простого казака». Молодой граф приглянулся Наталье Алексеевне — первой жене цесаревича и по неосторожности стал её любовником. Бездетная дотоле царевна молодая с первой ночи понесла… Наталья умерла родами. Екатерина II завладела её перепиской — погибельной для графа. Любовные признания перемежались с политическими интригами. Граф Андрей был вовлечён в закулисные козни малого двора — за спиной царствующей императрицы. В бумагах покойной обнаружились политические прожекты его авторства. Вскрылись сношения Разумовского — через французских дипломатов — с министрами бурбонского дома. Были найдены денежные расписки — великая княгиня Наталья Алексеевна вечно нуждалась в средствах, не брезговала одалживаться и у западных царствующих особ в счёт будущих политических дивидендов.
Царица знала болезненную, наивно-ребяческую привязанность Павла к графу Андрею. Любыми средствами старалась разлучить с ним сына. Любовные шалости графа, на которые Екатерина II до поры смотрела сквозь пальцы (ой как грешна сама в этом была!), сыграли теперь роковую роль. Екатерина использовала недозволенный приём — показала Павлу письма Разумовского Наталье. Свидетельства об измене жены (с его лучшим другом!) оказались для Павла поистине ударом ниже пояса. Велико было потрясение. Столь же велик и страшен был гнев цесаревича. Очевидцы утверждают: именно с той поры изменился Павел Петрович — стал вспыльчивым, необузданным, с бурными припадками. Заболел вельможной болезнью — самодурством.
Русская кровь, как оказалось, текла в его жилах. Екатерина прижила его от своего любовника Сергея Салтыкова. В этом она сама недвусмысленно признаётся в своих «Мемуарах». Неслучайно царица посвящает их сыну — дабы объяснить ему, за что низвергла с трона «отца». И уже совсем не случайно оказалось между страницами рукописи покаянное письмо Алексея Орлова о «нечаянном» убийстве Петра III. Дескать, сотворил во хмелю, сгоряча не ведая, что делает. У Павла, обнаружившего это письмо, — гора с плеч: значит, матушка не отдавала прямого приказа об убийстве отца! А историки утверждают — граф Орлов писал это послание по просьбе Екатерины спустя много лет после событий. В те годы, когда престарелая императрица занялась ревизией истории — решала, что может, а что не должно остаться в летописи её правления. С обывательской точки зрения, признание это — чисто женская слабость, ошибочный ход царицы. Но Екатерина была слишком умна и искушена в царедворческих интригах, чтоб допустить такой промах. Сделано это с целью оправдать большее зло — низложение и убийство супруга — злом меньшим — рождением незаконного, не царского ребёнка. Но как тонко рассказывала, как целомудренно прикрывалась вуалью девичьей наивности.[3]
«К несчастью, я продолжала его (Сергея Салтыкова) слушать; он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приёмов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет, вообще и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся…»[4], «…семья Салтыковых была одна из самых древних и знатных в империи (подчёр. мною. — С. Б.). Она даже была в свойстве с императорским домом через мать императрицы Анны, которая была Салтыковой, но от другой ветви, чем эти…».[5]
Для оправдания того поступка молодой и ещё столь неопытной великой княгини зрелая и циничная императрица прибегла к защите, какой мог бы позавидовать самый виртуозный адвокат. Пущены были в ход все средства: и мужская беспомощность великого князя Петра — что само по себе было дерзким и постыдным ходом; и страстное, прямо-таки неудержимое желание императрицы Елизаветы иметь наследника — оно было столь велико, что она сама толкнула Салтыкова в постель к великой княгине; и наконец — что совсем немаловажно! — древность рода Салтыковых и их родство с царским домом. Императрица умышленно ссылается на это — она знала недоброжелательность русских к иноземцам на престоле. В допетровское время цари брали в жёны дочерей русских бояр. И от этого не скудел род Романовых. А фамилия Салтыковых древностью и знатностью могла поспорить с немецкими князьками Гольштейн-Готторпскими!
Великой провидицей оказалась императрица! Она предугадала, что этот грех потомки простят ей. Пройдёт сто лет, и её праправнук Александр III, выведав у придворного историка хранившуюся за семью печатями тайну рождения Павла, радостно воскликнет: «Слава Богу, в моих жилах течёт хоть немного русской крови!..»
Екатерина точь-в-точь повторила наказание, которому в своё время подвергла Елизавета Салтыкова — его отправили с донесением шведскому королю о рождении наследника престола. Потом пристроили на дипломатическую службу в чужбину. Андрея Разумовского Екатерина тоже выдворила из Петербурга. Для начала в ревельский[6] гарнизон. Бесспорно, прегрешение молодого графа было лишь предлогом для удаления от двора. Причиной же было его предательство. Этого Екатерина не смогла простить графу до конца своей жизни. Однако, размыслив, умная императрица оценила дипломатическую ловкость противника и решила обратить её во благо державы. Царица назначает Разумовского посланником при неаполитанском короле. С условием — никогда не являться пред Ея царски очи. Это было почётное изгнание, которое длилось всю его жизнь. Мера наказания, успешно прилагаемая современными политиками.
Где бы ни появлялся граф Андрей, он тут же заводил любовные интрижки. Иногда с выгодой для России. Королеве Каролине Неаполитанской он вкрадчиво внушал в постели, как вести дела с Россией. Оплачивал её уступчивость любовными ласками и щедрыми подарками. Сердобольный батюшка Кирилл Григорьевич сбился с ног, выполняя поручение любимого сына — прислать королеве десяток отборных орловских рысаков. В Швеции Разумовский вновь попробовал испытанный способ воздействия на дипломатию. На сей раз безуспешно. Ему не удалось предотвратить войну Швеции против России. Екатерина перевела графа в Вену. Граф искупил вину удачными переговорами с австрийским правительством. В результате чего был заключён Петербургский союзный договор 1792 года. Неровной была его карьера в Австрии. Опала при Павле. Взлёт при Александре I. Новая немилость после поражения русской армии под Аустерлицем. Разумовского обвинили в неудачно скоординированном (но одобренном самим царём!) русско-австрийском плане ведения войны. Отставка в 1807-м. Прощение императора. Новые ответственные поручения. Последним из которых стало участие в заключении Парижского мирного договора в 1815 г.
Ловлю себя на мысли, что без устали могу рассказывать об уникальной для того времени личности российского посла. Как мало мы ещё знаем о многих некогда славных сынах отечества, вершителях истории России, обойдённых или почти обойдённых вниманием историков! Разумовские — увы! — в их числе. Попытаюсь воскресить память хотя бы о тех из них, кто был вовлечён в орбиту жизни Пушкина.
«Временщик» — пророческое слово
В один год с Поэтом умер Григорий Кириллович — последний русский отпрыск ослепительно вспыхнувшего графско-княжеским вельможеством рода Разумовских. Метеором промелькнул этот род на небосводе российской истории, ярко блеснув и быстро угаснув. Всего два его поколения восхищали и удивляли Россию ратными, административными, дипломатическими и любовными подвигами. Всего два поколения! Как подметил большой знаток русской истории XVIII—XIX веков Натан Эйдельман, в этом есть какая-то загадочная закономерность: волею случая высоко вознесённые роды временщиков угасали через два поколения. Может, разгадка в самом слове — временщик, одном из тех удивительно метких и пророческих русских слов: сказано — так тому и быть. Будто подчиняясь этому таинственному закону Провидения, и мои герои — умные, талантливые мужи, наследовавшие здоровую сельскую красоту своих предков от сохи, оставили чахлое, нежизнеспособное потомство или же не оставили его вовсе. Не было законных детей ни у знаменитого любимца Елизаветы и её тайного мужа Алексея Григорьевича — пастушонка и церковного певчего, неимоверным случаем возведённого к ступеням императорского трона. Ни у статного чернобрового красавца, любовника планетарного масштаба выше упомянутого Андрея Кирилловича. Ни у его братьев — Петра, Ивана, Льва. Не продолжили рода и оба сына их старшего брата Алексея Кирилловича.
А как расточительно, с каким размахом начинали жизнь основатели графской династии — фаворит Алексей и его брат Кирилл! Крестьянский сын, подпасок Кирилл взял в жёны троюродную сестру императрицы Елизаветы Екатерину Ивановну из царско-боярского рода Нарышкиных. Этот союз принёс обильный урожай — одиннадцать сыновей и дочерей. И все рослые, статные, чернобровые. Но на двух младших — Григории и Иване — щедрая природа утомилась. Болезненный с детства Григорий рос нервным, угрюмым и в отличие от других братьев и сестёр некрасивым — щупленький, неуклюжий, с изрытым оспой лицом (что не помешало ему иметь двух жён одновременно, начавших из-за него — а может, из-за пресловутого богатства Разумовских — войну, в которую было вовлечено несколько государств Европы). Не вышел лицом, зато удался умом — он стал учёным с европейской славой. Иван же оказался просто выродком — ни наследственного, отразившегося в прозвище, разума, ни здоровья. Ему было десять лет, когда умерла его мать. А отец, президент Российской академии, а позже гетман Малороссии, фельдмаршал, за делами государственной важности, кажется, забыл о его существовании. Дав блестящее европейское образование старшим сыновьям и даже племянникам, младшего Ивана оставил недорослем. Что, впрочем, не стало помехой для получения им высоких чинов (магическое действие фамильного имени!). Но ничего путного из него так и не вышло. Мот, кутила, волокита, картёжник… Беспутная жизнь усугубила «грудную болезнь» и сорока одного года свела его в могилу. Он тоже не оставил наследников.
Сирена большой семьи
Судьба соприкоснула Пушкина со многими представителями второго поколения Разумовских. А с фрейлиной и статс-дамой Натальей Кирилловной Загряжской он даже в родстве состоял — она приходилась Наталье Николаевне Пушкиной тётушкой, то бишь женой её дяди по материнской линии. «Сиреной семьи» величал её отец. За то, что вечно опекала кого-нибудь из своей огромной родни, хлопотала, радела о «родных человечках». Ей обязаны своим фрейлинством и Наталья Ивановна Загряжская — мать H. Н. Гончаровой, и Екатерина Гончарова — роковая свояченица Пушкина.
Суть характера Натальи Кирилловны выразил в нескольких строках Александр Иванович Тургенев: «Вчера скончалась в 7 ч. вечера Н. К. Загряжская, только 3-го дня ввечеру не принимала она и не играла в карты; ещё свидетельницы давно прошедшего не стало. Оригинальный ум и доброта сердца: забавляясь картами — умела находить пищу для доброго сердца, откладывая часть выигрышей бедным»[7]. Европейски образованный А. И. Тургенев слыл выдающимся умом России, его общества искали самые блестящие женщины Петербурга и Москвы. В их числе была и Долли Фикельмон, после первой встречи с ним записавшая в дневнике: Много ума. Он в высшей степени культурен и вполне европеец[8]. И этот замечательный человек любил посещать салон девяностолетней старухи. Весьма существенное свидетельство в пользу незаурядности Загряжской.
Старшая дочь Кирилла Разумовского была богатой наследницей. Замуж вышла по любви за не очень знатного измайловского офицера Н. А. Загряжского. Брак кончился крахом — супруг начал изменять Наталье Кирилловне. Почти тридцать лет терпела она шалости мужа, но наконец прогнала с глаз долой. Поселилась у своей племянницы и воспитанницы Марии Васильевны Васильчиковой, просватанной за гр. В. П. Кочубея. На неё переписала всё своё состояние, довольствовалась скромным содержанием на свои насущные расходы. Славилась своими причудами, независимостью, строптивостью, но и добродушием нрава. Современник Пушкина, завсегдатай её салона В. И. Сафонович рассказывал, что она отказала от дома царскому любимцу, военному министру А. И. Чернышёву за то, что упёк на каторгу своего родственника, декабриста графа 3. Г. Чернышёва, и завладел его имуществом. Она любила карточную игру, но большей частью проигрывала. Многие черты её характера заимствовал Пушкин для своей «Пиковой дамы». Поэт познакомился с Натальей Кирилловной в июле 1830 г. Возвратившись в Петербург после обручения с Натальей Гончаровой, почёл первейшим долгом навестить её родственников.
Завтра начну делать визиты вашим родным. Нат. Кир. на даче, Кат. Ив. в Парголово, — извещает он невесту в письме (от 29 июля). А уже в следующем пишет: Надо вам рассказать о моём визите к Наталье Кирилловне. Приезжаю, обо мне докладывают, она принимает меня за своим туалетом, как очень хорошенькая женщина прошлого столетия. — Это вы женитесь на моей внучатой племяннице? — Да, сударыня. — Вот как. Меня это очень удивляет, меня не известили, Наташа ничего мне об этом не писала. (Она имела в виду не вас, а маменьку.) На это я сказал ей, что брак наш решён был совсем недавно, что расстроенные дела Афанасия Николаевича и Натальи Ивановны и т. д., и т. д. Она не приняла моих доводов; Наташа знает, как я её люблю, Наташа всегда писала мне во всех обстоятельствах своей жизни, Наташа напишет мне, — а теперь, когда мы породнились, надеюсь, сударь, что вы часто будете навещать меня… Затем она долго расспрашивала о маменьке, о Николае Афанасьевиче и о вас; повторила мне комплименты государя на ваш счёт — и мы расстались очень добрыми друзьями.[9]
И они — Поэт и тысячелетняя фея (как назвала её Фикельмон) — стали добрыми друзьями. Встретил Новый год у Натальи Кирилловны Загряжской, — записывает Пушкин в Дневнике 1 января 1834. — Разговор со Сперанским о Пугачёве, о Собрании законов, о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc. Другая о ней запись, 4 декабря 1833 г.: …вечером у Загряжской (Нат. Кир.). Разговор о Екатерине: Наталья Кирилловна была на галере вместе с Петром III во время революции…[10] Поэт начал записывать впрок воспоминания Натальи Кирилловны. Они были похожи на исторические анекдоты. Пушкин намеревался использовать их в будущей повести о екатерининской эпохе[11]. Наблюдательная, с колючим умом, с большой живостью излагала она преданья старины глубокой.
Потёмкин очень меня любил; не знаю, чего бы он для меня не сделал… Приезжает ко мне Потёмкин. Я говорю ему: «Как ты хочешь, Потёмкин, а мамзель мою пристрой куда-нибудь». — «Ах, моя голубушка, сердечно рад, да что для неё сделать, право, не знаю». Что же? через несколько дней приписали мою мамзель к какому-то полку и дали ей жалованья. Нынче этого сделать уж нельзя[12]. Потёмкин решил подарить Наталье Кирилловне земли в Крыму. Зачем мне брать у тебя земли, к какой стати? — возражает ему Н. К. А он ей в ответ: Разумеется, государыня подарит, а я только ей скажу. Так и сталось. Земли начали приносить доход. Через два года Загряжскую обязали заселить эти земли крестьянами. Попросила она у своего батюшки крестьян, пожаловал он ей 300 душ, отправила она их в свою крымскую вотчину, да только через год они все разбежались. Когда Кочубей сватался за её племянницу Машу, Н. К. предложила ему: Кочубей, возьми, пожалуйста, мои крымские земли, мне с ними только что хлопоты. — Что же? — продолжает свой рассказ Н. К. — Эти земли давали после Кочубею 50 000 доходу[13].
Ах, как колоритно описывала она толстобрюхую старину! Чего стоит её рассказ о гр. Алексее Орлове!
Сотням хвалебным жизнеописаниям фаворита не стереть впечатления от пяти её хлёстких фраз: Орлов был плохо воспитан… Однажды у государыни сказал он при нас: по одёжке дери ножки, — далее Н. К. продолжает по-французски, привожу её рассказ в переводе: Я нашла это выражение весьма пошлым и очень неприличным. Он был человеком неглупым и впоследствии, я думаю, приобрёл манеры. Его шрам делал его похожим на разбойника.[14] В набросках к «Истории Пугачёвского бунта» сохранилась запись, озаглавленная Пушкиным «Анекдот о разрубленной щеке». Пушкин пересказывает занятную историю о четырёх братьях Орловых, до восшествия Екатерины II на престол, бедных гвардейских офицерах, известных своей буйною и беспутною жизнью. Народ их знал за силачей, которых никто не мог одолеть, кроме Шванвича. Он-то, поссорившись однажды с Алексеем, и разрубил ему палашом щёку. Когда Екатерина возвела братьев на первую ступень государства, Шванвич почёл себя погибшим. Орлов пришёл к нему, обнял его и остался с ним приятелем. А позднее, когда его сын примкнул к Пугачёву, Орлов выпросил для него у государыни смягчение приговора…[15]
Весь Петербург приезжал на поклон к Н. К. Загряжской. Это был ритуал, обязанность. Довольно скучно, но надо туда ходить, — скажет в своём дневнике современник Пушкина П. Д. Дурново. Впрочем, в другом месте он заметит: Она совсем не меняется, и, несмотря на свои 84 года, она всегда очень весела[16]. Дань почтения выражали ей даже особы императорской семьи. Царь с царицей наносили ей визиты в дни её рождений и именин. Тот же В. И. Сафонович в своих воспоминаниях воспроизвёл любопытный разговор Натальи Кирилловны с братом императора:
Однажды она сказала вел. князю Михаилу Павловичу:
— Не хочу умереть скоропостижно. Придёшь на небо как угорелая и впопыхах, а мне нужно сделать Господу Богу три вопроса: кто были Лжедмитрии, кто — Железная Маска и шевалье д’Еон — мужнина или женщина? Великий князь спросил:
— Так вы уверены, что будете в небе?
Старуха обиделась и с резкостью ответила:
— А вы думаете, я родилась, чтобы маяться в чистилище?[17]
Из всего того, что мы знаем о Загряжской, складывается весьма симпатичный образ старой и добродетельной феи. В самом деле, она имела право рассчитывать на лучшую долю в загробной жизни.
Оставьте его поэтом, господин министр!
Пушкину было двенадцать лет, когда он познакомился с Алексеем Кирилловичем Разумовским. 12 августа 1811 года брат Н. К. Загряжской, министр народного просвещения, сам принимал вступительные экзамены в Царскосельский лицей. Как это было рассказал Иван Пущин — лицейский товарищ Пушкина: «1811 года, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, повёз меня и двоюродного моего брата Петра, тоже Пущина, к тогдашнему министру народного просвещения гр. А. К. Разумовскому. Дедушка наш насилу вошёл на лестницу, в зале тотчас сел, а мы с Петром стали по обе стороны возле него… Старик, не видя появления министра, начал сердиться. Подозвал дежурного чиновника и объявил ему, что андреевскому кавалеру не приходится ждать, что ему нужен Алексей Кириллович, а не туалет его. Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с нами повели во внутренние комнаты, где он нас поручил благосклонному вниманию министра, рассыпавшегося между тем в извинениях. Скоро наш адмирал отправился домой, а мы, под покровом дяди Рябинина, приехавшего сменить деда, остались в зале, которая почти вся наполнилась вновь приехавшими нашими будущими однокашниками с их провожатыми… Скоро начали нас вызывать поодиночке в другую комнату, где в присутствии министра начался экзамен… Всё кончилось довольно поздно»[18].
К описываемому времени Алексею Кирилловичу Разумовскому исполнилось 63 года. Старый по тогдашним понятиям человек. Угрюмый, деспотичный. Жил отшельником — разочарованный в людях, не особенно счастливый. С молодости был ревностным масоном, и это углубление в тайные знания тоже сыграло свою роль. Он принадлежал к масонской ложе «Capitulum Petropolitanum», разрешённой в России Екатериной II и запрещённой, подобно многим другим, при Павле I. Начало либерального правления Александра I стало благодатной почвой для масонства — ложи, старые, новые, плодились, как крысы во время голода.
Вместе с другими старшими братьями Алексей Разумовский учился в Страсбургском университете, а затем довершал образование в Италии, в Англии. В 21 год вернулся в Россию, чтоб отечеству полезным быть, как хотел того и он сам, и его отец. Пользу приносил при дворе в мундире камер-юнкера, а позднее камергера. Отечеству служил недолго. Женившись на богатейшей невесте России графине Варваре Петровне Шереметевой, подал прошение об отставке, поселился в Москве и погрузился в помещичий быт. Отец выделил ему обширное имение под Москвой — Горенки. В его обустройство вложил он всю свою энергию, практичность, размах — знать, к земле, к хозяйству имел истинное призвание. Перестроил дом. Расширил парк и засадил его и оранжерею диковинными, из разных стран и губерний России привезёнными растениями. В прудах разводил рыбу. Всё это делалось добротно, со смаком, с выпестованным с детства вкусом. Только развернулся, как из Петербурга снегом на голову свалилась монаршая милость: Екатерина произвела графа Разумовского в тайные советники и повелела без промедления явиться на службу в Сенат. Неохотно покинул Алексей Кириллович полюбившиеся ему Горенки, где тихо средь мирных трудов, книг, произведений искусства текла его сельская жизнь. Прошло девять лет. Однажды при обсуждении одного закона он позволил не согласиться с мнением её величества. Строптивость сенатора разгневала императрицу. Она приняла его прошение об отставке. Случилось это за год до смерти Екатерины.
Категоричность этого поступка, казалось, его самого удивила. Он задумался о свой доколешней жизни и решил попробовать начать всё заново. Вихрь раздумий взметнул в Алексее Кирилловиче решительность ураганной силы: он порывает с светским обществом, ограничивает свои знакомства, общение с родственниками, расстаётся с опостылевшей, давно раздражавшей его женой — глуповатой Варварой Шереметевой. Свой дерзкий по тому времени поступок оправдывал её дурным влиянием на детей. Теперь он целиком отдаётся своей страсти к созиданию — продаёт старый московский дом, возводит богатейшие палаты на Гороховом поле. И вновь рьяно обустраивает свою обитель, украшая её дорогими гобеленами, картинами старинных и новейших мастеров, уникальными минералогическими и ботаническими коллекциями, книгами. Особую ценность в его огромной библиотеке представляло редчайшее собрание первопечатных изданий XV века.
Среди царской роскоши А. К. заперся один со своими растениями… Из познаний своих он делал то же употребление, что из богатства: он наслаждался им без всякой пользы для других[19], — пишет в «Записках» его современник Ф. Ф. Вигель. Уединение он нарушил лишь по случаю приезда в Москву нового императора Александра I. Вторая столица, как обычно, отмечала пребывание царя бесконечными обедами и балами. На одном из раутов Александр удостоил Разумовского своей беседой. Мы не знаем, о чём они вели разговор, но московская молва быстро разнесла новость: царь весьма впечатлён его блестящим французским языком. Но вероятнее — рассудительность, оригинальность ума и недюжинная эрудиция вельможи, превосходно выраженные по-французски, обратили внимание императора. Он предложил графу вернуться к государственной службе. Надо также учитывать и традицию самодержцев возвращать милость к опальным личностям. Разумовский вежливо отказался.
Однако в 1807 году последовал императорский указ о назначении Алексея Кирилловича попечителем Московского университета. Злоязычный Вигель утверждает, что граф вообще не занимался попечительскими делами. В ту эпоху аристократы весьма условно исполняли свои служебные обязанности, лишь время от времени посещали присутственные места. Вспомним об отношении к службе Пушкина, Вяземского, Грибоедова, Дельвига — чиновников средней руки. Стоит ли удивляться нерадивости таких высокопоставленных чиновников, как Разумовский. И тем не менее анналы Университетского общества естествоиспытателей, президентом которого Алексей Кириллович состоял уже несколько лет, говорят о другом. Разумовский добился наконец присвоения обществу звания Императорского. Что прежде всего увеличивало ассигнования на исследовательскую деятельность. Новый попечитель тут же засадил естествоиспытателей за работу: одни составляли градостроительные планы, другие занялись описанием Московской губернии, третьи принялись за оборудование обсерватории. Сбылась мечта Алексея Кирилловича создать астрономический центр и в Москве. Он удлинил срок пребывания ректоров на посту с одного года до трёх лет. А это, согласно его рассуждениям, с одной стороны, укрепляло власть ректоров, а с другой — позволяло попечителю требовать с них большей ответственности. Пытался он также перевести университет в другое, просторное помещение. В его время альма-матер теснилась в старом, построенном ещё Казаковым здании. Разумовский облюбовал для него Екатерининский, или Головинский, дворец, что в Лефортово. Правда, далековато, даже по нынешним временам. А для эпохи пролёток и дилижансов и подавно. Возможно, двигало графом и эгоистическое желание разместить университет поближе к своему дому на Гороховом поле. Идея осталась неосуществлённой.
В 1810 г. последовала новая милость — Разумовского назначили министром народного просвещения вместо совсем одряхлевшего Завадовского. Это событие тоже отражено в «Записках» Вигеля:
От любимых Разумовскому теплиц оторвали его, чтобы поручить ему рассадники наук. Все эти баричи при Екатерине и после неё, на французский манер воспитанные, в делах были ни к чему не годны, следственно с властию и вредны, и к сотням доказательств того принадлежит Разумовский. Никакой памяти не оставил он по себе в министерстве [20] .
Современники критически воспринимали и воспоминания Вигеля, и саму личность автора. Его озлобленные оценки выдают желчный характер и его комплексность и, вероятно, являются реакцией на отношение общества к его порокам. Но вот что любопытно — Пушкин был одним из немногих современников, кого Вигель уважал за талант и ум. Конечно, надо учитывать, что воспоминания он писал много лет спустя после смерти Пушкина, когда слава Поэта была бесспорной и непререкаемой и бросала отсвет на самого мемуариста. В отношении к Вигелю Пушкин проявил величие своей души, способность быть снисходительным к недостаткам человека ради его достоинств. Ценил Филиппа Филипповича за острый ум, эрудицию, занимательную беседу. Пути-дорожки обоих много раз пересекались со времен «Арзамаса»: Петербург, Кишинёв, Одесса и снова Петербург. Вигель получил звезду, — записал Поэт в дневнике 7 января 1834 г., — очень ею доволен. Вчера был он у меня. Я люблю его разговор — он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложстве. Вигель рассказал мне любопытный анекдот… (Анекдот о вещем сновидении матери Вигеля, совпавшем с датой смерти Екатерины.)
Вигель не любил Разумовского за его вельможное высокомерие. Впрочем, он никого не любил. Министр А. К. Разумовский немало сделал для отечественного просвещения. В то время в России почти не было казённых учебных заведений. За первые два года пребывания А. К. на посту было открыто 72 приходских школы, 21 уездное училище, несколько гимназий. Он лично разрабатывал систему преподавания, предписывал попечителям учебных заведений строже отбирать воспитателей из иностранцев. Как тут не вспомнить пушкинские строки об этих наводнивших Россию иноземных искателях счастья: Monsieur l’Abbe, француз убогой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя. Разумовский открыл при Московском университете первую кафедру славянской словесности. Учредил несколько учёных обществ — старик почитал учёность и науку, а в тот легкомысленный век просвещённость была редким явлением: Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…
Образованный европейскими университетами и непрестанным чтением, Разумовский был белой вороной среди современников. Его личность приковывает к себе внимание сокровенностью и недюжинностью натуры, какой-то раздольной, былинно-русской исполинской фантастичностью. Но именно эти качества являются благодатной почвой для самодурства. Оно вместе с деспотизмом вкоренилось в натуру русского человека. Причин на то много — 250-летнее влияние татар, климат, раздольные пространства… При благоприятных условиях пышно расцветают в человеке. Наипервейшее из них — власть, сознание её неограниченности. Наблюдаются эти черты и в людях, недавно шагнувших из одной социальной среды в другую, на ступеньку, на две выше. И это объяснимо: экономически они уже закрепились в новой среде, но образование, воспитание, привычки заставляют их чувствовать себя здесь чужаками. Вот и начинают дурить, выламываться, показывать своё пренебрежение к условностям не принимающего их сословия. Чем ближе человек своими корнями к демосу, тем бесшабашнее проявление дури: купцы — вчерашние крестьяне, выбившиеся «в люди» служилые, чиновники, полицейские, вознесённые в бары холопы оставили в российской летописи бесчисленные тому свидетельства. Классический пример — городничий Салтыкова-Щедрина, пожелавший высечь море за то, что оно движется и непослушно. Нет другого лекарства от этой болезни, как просвещение и непрерывность культурной традиции в поколениях рода и в государстве.
Алексей Кириллович, несмотря на свой внешний лоск — эрудицию, манеры, вкус, — корнями всё ещё оставался малороссийским мужиком, облачённым в европейский камзол. Память клеточек пробудилась в последнее десятилетие его жизни. Бывший вольтерьянец и масон попал под губительное влияние иезуитов. И прежде всего графа Жозефа де Местра, посла сардинского короля в России, публициста и философа. После смерти патера Губера — главы иезуитского ордена — его фактическим руководителем стал де Местр. Между ним и Разумовским завязалась оживлённая переписка.
Иезуиты, говорят, намерены учредить государство в государстве! — писал де Местр. — Какая нелепость, граф!.. Но, во-первых, нет ничего легче, как обратить тот же аргумент против университетов. Они-то именно и хотят быть государством в государстве, потому что намереваются обратить общественное воспитание и народное обучение в монополию и присвоить их исключительно себе.[21]
Возраст, власть, воздействие де Местра ослабили сопротивление, изменили психику и в конечном счёте разрушили личность Разумовского. Он начал слепо и безвольно следовать советам графа-иезуита. Де Местр диктовал, чему должно и не должно учить русских. Министр просвещения подготовил записку с предложением убрать из учебной программы Лицея греческий язык, археологию, естественную историю, астрономию, химию и историю философских систем, как «не озаряющую ум полезными истинами, а помрачающую заблуждениями и недоумениями». К вящему благу лицеистов, его рассуждения не приняли во внимание. Следующие, отнюдь не либеральные, действия министра — введение новых цензурных ограничений, борьба с виленским попечителем Адамом Чарторыйским за обрусение Западного края.
В самом деле вырисовывается не очень приятный образ. Советское литературоведение записало Алексея Кирилловича Разумовского в разряд консервативных, ограниченных людей. В подкрепление сего неизменно приводились два эпизода из жизни Пушкина, на веки вечные связавшие имя Поэта и министра. Позволю себе вновь пересказать их с позиции адвоката Алексея Кирилловича.
Однажды вечером расшалившиеся лицеисты устроили пирушку с пуншем собственного приготовления. Упросили приставленного к ним добрейшего дядьку Фому достать рому, добавили к нему снадобья. И началось веселье. В нём приняли участие многие, но пострадали только трое. Они рыцарски взяли на себя всю вину. Мы недавно от печали, Пущин, Пушкин, я, барон, по бокалу осушали. И Фому прогнали вон, — так выглядит это событие в приписываемой Пушкину версии. В варианте Пущина оно преподнесено как история с гоголь-моголем[22]. Разумовский самолично и, как считали мальчишки, сурово наказал провинившихся лицеистов — Пушкина, Пущина, Малиновского. А дядьку Фому за содействие им прогнал из Лицея. Виновникам пришлось две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, а что ещё обиднее — их переместили на край обеденного стола; по сему поводу Пушкин выдал новый экспромт:
Блажен муж, иже сидит к каше ближе.Имена отличившихся велено было занести в чёрную книгу Лицея с указанием их вины и меры наказания. Таков был высочайший приговор министра. Алексей Кириллович насквозь пропитался иезуитской строгостью — насаждать безукоризненную дисциплину в Лицее почитал своим долгом. Он был непреклонен — строго наказать виновников, дабы неповадно было другим. Министр считал Лицей своим родным детищем и вникал в малейшие подробности его бытия. Александр I наградил Разумовского за труды на ниве просвещения голубой лентой — знаком ордена Андрея Первозванного. А пубертатные мальчишки были иного, отнюдь не столь высокого мнения о министре.
— Ах! Боже мой, какую Я слышал весть смешную: Разумник получил ведь ленту голубую. — Бог с ним! а недруг никому: Дай Бог и царствие небесное ему.Конечно же, эту эпиграмму на гр. Разумовского написал Пушкин. Строгости министра воспринимались лицеистами в штыки. Что совсем естественно для их возраста. Вспомним-ка свой школьный нигилизм! Разумовский продолжал ужесточать дисциплину: запретил лицеистам выезжать за пределы Лицея, а родственникам только по праздникам дозволялось навешать своих чад, дабы их не разнеживать. Эта суровая мера повергла в уныние избалованных баричей. Спустя много лет зрелый И. И. Пущин совсем по-иному оценил её: Теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаёшь, что в нём-то и зародыш той неразрывной, отрадной связи, которая соединяет первокурсных Лицея. На этом основании, вероятно, Лицей и был так устроен, что по возможности были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения[23].
В последние два года Разумовский действительно охладел к делам службы. А был он человеком высокого долга. Не какой-нибудь вертопрах, быстро теряющий интерес к надоевшему занятию. Напрашивается естественный вопрос: почему он вдруг перестал исполнять свои обязанности? Не интересовался более реформами просвещения? Вероятно, оттого, что не встретил понимания со стороны правительства так рьяно разделяемых им иезуитских идей. Мысленно он воплощал их — одну за другой, видел преображённым под их влиянием отечественное образование. Он, такой глубокомысленный, проглядел истинную цель иезуитов — прочно внедриться в России, подчинить светскую власть духовной. Это в конечном счёте означало политическое господство в стране. Не получив поддержки, Разумовский в 1816 году подал в отставку. На сей раз она была охотно удовлетворена.
Но вернёмся немного назад. Лицейский экзамен в 1815 году. Юноша-поэт читает свои стихи «Воспоминания в Царском Селе». Державин от них в восторге. Это, бесспорно, понравилось Разумовскому — как-никак, а первый поэт России одобрил рифмоплётство мальчишки. За праздничным обедом произошёл забавный эпизод. О нём потом часто рассказывал отец Пушкина. Разомлевший от вина и обильных кушаний граф добродушно сказал Сергею Львовичу: — Я бы желал, однако же, образовать вашего сына в прозе. — Оставьте его поэтом, — отвечал ему за меня Державин…[24]
Поистине трогательна отеческая забота министра о молодом человеке! Но я уверена — его пожелание нельзя объяснить непониманием поэзии. Все Разумовские хорошо пели, музицировали. Не могли оставаться глухи и к музыке слов. Однако для трезвого, практичного Алексея Кирилловича стихоплётство — не профессия. Разве для этого готовили выпускников Лицея? Что же касается Пушкина, то он сам, без помощи министра, образовался в прозе — да так, что опередил несколько поколений русских писателей, шагнув лет на 150 вперёд, — его лаконичный, образный, ёмкий стиль, без усложнённых конструкций Толстого и Достоевского, можно принять за образец прозы конца XX века.
Новая эра началась в России после окончания Отечественной войны 1812 года. Алексей Кириллович — осколок иных времён, иных нравов, нё сумел вписаться в неё. Типичный представитель ушедшего XVIII века оказался не ко двору иной эпохи. Он был из выродившегося племени вельмож, воспетых Державиным:
Я — князь, коль мой сияет дух, Владелец — коль страстьми владею. Болярин — коль за всех болею, Царю, отчизне, церкви друг…Не будем судить его строго. Он умел, когда хотел и когда это было нужно, отбросив хандру и брюзгливость, блеснуть утончённой светскостью, остротой ума, эрудицией. Свой жизненный заряд не сумел передать двум законным сыновьям — Петру и Кириллу. Зато воплотился в десяти воспитанниках — своих внебрачных детях. Дал им фамилию Перовские (по названию доставшейся ему в наследство вотчины Перово — той самой, где тайно сочетались браком Елизавета и Алексей Григорьевич Разумовский). Все пять сыновей Перовских получили университетское образование и изрядно служили отечеству, удостаивались чинов, орденов, графских титулов.
Прямое же потомство графа по женской линии процветало в родах Репниных и Уваровых.
И он Варвары Алексевны зевоту вдруг благословил…
Варвара Алексеевна Репнина — любимая дочь Алексея Кирилловича — была женщиной незаурядной. О ней стоит рассказать — ведь она вошла в биографию Пушкина забавным анекдотом. Как-то раз в компании друзей Поэт читал только что завершённое стихотворение «Демон». Вдруг он заметил: одна из дам — Варвара Алексеевна — зевнула. Пушкин мгновенно отреагировал и вместо положенной концовки, не меняя интонации, экспромтом сочинил новую строфу: Но укротился пламень гневный / Свирепых демоновских сил, I И он Варвары Алексевны / Зевоту вдруг благословил.
Варвара Алексеевна получила изрядное образование. Для девицы — в ту пору явление исключительное. Девочке было шесть лет, когда отец оградил её от дурного влияния матери. Её воспитанием занялась гувернантка-немка, а в 13 лет к ней приставили швейцарку.
Быстроглазая, бойкая на язык, смышлёная Варенька приглянулась лучшему другу её отца екатерининскому фельдмаршалу Николаю Васильевичу Репнину. Он решил сосватать её за своего внучатого племянника Николая Григорьевича Волконского, флигель-адъютанта и любимца императора Павла I. Вызвал Волконского из Петербурга в Москву и познакомил с чаровницей Варенькой. Произошло чудо — намечавшийся сословный брак обещал стать браком по любви. Молодые влюбились друг в друга с первого взгляда. А то, что невеста оказалась немного старше жениха, — так это было совершенным пустяком. Их роман развивался по всем канонам этого жанра: на пути влюблённых внезапно возникло препятствие — отец невесты и дядя жениха поссорились и перестали общаться. Столь неожиданная коллизия подвергла чувства молодых испытанию. В 1801 году умирает бездетный фельдмаршал Репнин, а вместе с ним должен был угаснуть древнейший российский род. И вновь вмешалось провидение — император Александр I указом от 12 июля 1801 года повелевает: дабы «столь отечеству послуживший род» не угас, князю Николаю Григорьевичу Волконскому принять фамилию Репнина.
В 1802 г. Волконский-Репнин пышно отпраздновал свадьбу с Варварой Алексеевной в Батурине — украинском имении её деда графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Посажёной матерью невесты была её тётка Прасковья Кирилловна, жена фельдмаршала Гудовича. Она с детства опекала Вареньку, заменив ей отстранённую родную мать. Забавная подробность — фактически разведённый с женой Алексей Кириллович вытребовал от неё содержание на воспитание их общих детей. Отец выделил невесте 30 тысяч рублей на приданое, а не допущенная до свадьбы родная мать Варвара Петровна — 50 тысяч рублей, да ещё 4 тысячи на туалет, серебряный сервиз весом в 5 пудов 37 фунтов, 46 золотых приборов ценою в 10 184 рубля, а в придачу 3000 душ из нижегородских своих имений. После её смерти дочери должно отойти ещё 1000 душ. Всё это до малейших подробностей занесено в брачную опись приданого невесты. Для молодых был куплен дом на Гороховом поле по соседству с Алексеем Кирилловичем. Сады двух имений были соединены калиткой, чтобы запросто друг к другу захаживать. Не долго радовался угрюмый граф счастью своей любимицы — вскоре Репнины переселились на жительство в Петербург. Молодая обаятельная княгиня полюбилась императрице Елизавете Алексеевне и её золовке великой княгине Марии Павловне и стала их лучшей подругой.
В 1805 г. Репнин-Волконский вновь поступил в армию. Началась война с Наполеоном. Варенька, всё ещё страстно влюблённая в мужа, стала первой «декабристкой» — последовала в армейском обозе за отрядом супруга. Детей своих она оставила на попечение свекрови, Александры Николаевны Волконской. Ей подражали и другие женщины — графиня Елизавета Михайловна Тизенгаузен — будущая приятельница Пушкина, маркиза Елизавета Александровна де Валеро (урождённая Апраксина), Аглая Антоновна Давыдова.
Русская женщина славится своей решительностью: коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт! Это свойство можно было бы объяснить экстремальными условиями её нынешнего бытия. Этакая матушка Кураж, которая тянет непосильную ношу! Но откуда взялась она в изнеженных аристократках прошлого века? Откуда эта жертвенность, самоотверженность, мужество? Миновал всего лишь один век, как русская боярышня вышла из своих девичьих теремов, обречённая в них на полутюремное существование. Один век — четыре-пять поколений! За столь короткий исторический срок не смогли бы выпестоваться в ней качества «бой-бабы». Должно быть, они исконно присущи характеру русской женщины и пробуждаются в ней в дни тяжких испытаний. Это то, что религиозный философ Иван Ильин назвал подпочвенными глубинами национального характера. В них, не доступных рассудку безднах, коренятся национальный инстинкт и национальный дух. В период нечеловеческих напряжений и борьбы пробуждается дар русского человека — черпать силы из своих тайных кладовых, вовлекать свой инстинкт в духовное горение и прожигать своё страдание огнём молитвы. Огнём веры и любви.
Во время битвы под Аустерлицем князь Репнин был ранен и взят французами в плен. Наполеон захотел встретиться со столь знатным пленником. Но в ту первую встречу не пожелал даровать князю свободу. Во французском лагере немедленно появилась Варенька. Она решительно заявила, что не покинет раненого мужа и сама будет за ним ухаживать. И не отходила от него ни на шаг. Вскоре Наполеон вновь потребовал князя в свою ставку в Брюнн (Брно) и уполномочил его передать Александру I своё предложение о мирных переговорах. Дальнейшая карьера князя складывалась вполне благополучно — дипломатическая деятельность чередовалась с ратной. В войне 1812 года он уже командовал кавалерийской дивизией, в 1813 году — авангардом армии Витгенштейна, участвовал в сражениях под Дрезденом, Лейпцигом, Кульмом. Княгиня повсюду следовала за ним. Она учредила в Праге госпиталь и ухаживала за ранеными. После окончания войны Репнин-Волконский был назначен генерал-губернатором Саксонии. Принимал участие в Венском конгрессе, а затем сопровождал императора в так называемом походе сто и одного дня. Княгиня вернулась в Петербург и вместе с императрицей Елизаветой Алексеевной занялась устройством Патриотического института (впоследствии именуемого Елизаветинским) для детей-сирот. С тех пор благотворительность стала её второй натурой. В период генерал-губернаторства Репнина в Малороссии Варвара Алексеевна учреждала там больницы, приюты, основала Полтавский институт для сирот, вложив в его обустройство немало собственных средств. Во время свирепствовавшего на Украине голода неустанно пеклась о голодающих, нередко делясь с ними последним. Доброе имя оставили Репнины на Украине. Но, как и полагается, их богоугодные дела не остались безнаказанными. В 1834 г. князь Репнин был назначен членом Государственного совета и семья переехала в Петербург. Вскоре по доносу злопыхателей было заведено дело о «растрате» князем государственных средств. Речь шла о недостаче именно той суммы, которая была затрачена на обзаведение Полтавского института. Следствие при пресловутой российской расторопности затянулось на многие годы. В конце концов, не выдержав этой бесконечной нервотрёпки, князь подаёт в отставку и со всей семьёй надолго уезжает за границу.
В Петербурге возобновилось светское знакомство Пушкина с Варварой Алексеевной Репниной — он встречал её на придворных балах, в салонах, у её тётушки Натальи Кирилловны Загряжской. В 1836 г. Пушкин пишет князю Репнину, с которым лично не был знаком, резкое письмо по-французски. Князь примирительно отвечает ему по-русски. Поостывший Пушкин извиняется перед ним тоже по-русски. Нам нелегко разобраться в этих светских нюансах взаимоотношений, но они говорили о многом: например, написанное по-французски письмо женщине свидетельствовало о выражаемом ей почтении и об отсутствии между ними определённой степени близости, которая позволила бы им перейти в переписке на родной язык. И напротив, было бы крайне неучтиво написать по-русски послание светской женщине. Первые письма Пушкина Наталье Николаевне — невесте написаны по-французски. В дальнейшем он не церемонился — шпарил по-русски, то хваля свою жёнку, то браня её на ёмком родимом наречии.
Поводом к возникшему между Поэтом и Репниным недоразумению послужила «Ода на выздоровление Лукулла». Она адресована свояку Репнина — Сергею Семёновичу Уварову. У Варвары Алексеевны была сестра Екатерина — моложе Вареньки на пять лет, да лицом не вышла. Засиделась она в девках, и в 1811 году отец — Алексей Кириллович Разумовский купил ей мужа — вконец разорившегося молодого человека Сергея Уварова. Он был на 12 годков моложе её. Говорят, был умён, способен, образован. Слыл моралистом. Но ежели так, как понимать пушкинское выражение: разврат его известен! Или его дальнейшее безнравственное поведение было следствием совершённого им грехопадения — женитьбы по расчёту? Злоязычный Вигель не обошёл молчанием и это наделавшее шуму событие. Дочь Алексея Кирилловича, фрейлина, утверждает мемуарист, давно в него была влюблена. Узнав о крайности, в которую он впал, она без обиняков предложила ему свою руку. И он, на краю пропасти, ухватился за эту руку, как за спасительную соломинку. А соломинка-то оказалась дубовым мостком, по которому он быстро пошёл вверх: попечитель Санкт-Петербургского округа, с 1833 года — министр народного просвещения, президент Академии наук, член Государственного совета, кавалер орденов Св. Андрея и Владимира I-й степени, а под конец и графское достоинство. И несметное богатство. Рачительная Екатерина Алексеевна Репнина после смерти своего дядюшки Льва Кирилловича откупила у родственников знаменитые можайские вотчины, некогда подаренные императрицей Елизаветой Григорию, и преподнесла их в подарок мужу. А он наполнил имение превосходными полотнами, редкими книгами, античными статуями, приобретёнными им в Риме у герцогини Альтемис. Чем другим, но вкусом его Бог одарил.
Этот блестящий и плодотворный ум — по мнению благорасположенного к нему его современника — был большим подлецом, большим негодяем и шарлатаном — по мнению Пушкина. Он начал тем, что был б…, потом нянькой и попал в президенты Академии наук, при своих 11 000 крепостных душ крал казённые дрова.[25] Эта запись в «Дневнике» сделана Поэтом в крайне возбужденном состоянии — книга о Пугачёве раскупалась плохо, а светская молва с удовольствием смаковала слухи о возмутительном сочинении. Так, мол, сам Уваров назвал «Историю Пугачёва». Это был 1835 год — начало травли Поэта. Ещё в мае 1834-го Пушкин, по собственному признанию, чуть было не поссорился со двором — подал прошение об отставке. Через Жуковского ему ответили: отставку примем, но запретим работать в архивах. А он только развернулся — «История Пугачёва», «История Петра», исторические заметки о русской истории, о покорении Сибири, о смутных временах Анны Иоанновны, царствовании Екатерины… Замыслы будущих произведений. А тут выбор — кнут или пряник. Он предпочёл пряник — остался в камер-юнкерах, а ему оставили архивы. Первые строфы Поэмы конца. Клубок судьбы начал разматываться с ускорением. В жизнь Пушкиных уже вошёл Дантес… Нынешний Пушкин — натянутый нерв. В народе о таких говорят «лезет на рожон». Он в самом деле лез на рожон. Какой-то уваровский лизоблюд Боголюбов во всеуслышание заявил Пушкину, что князь Репнин, кажется, принял злополучную «Оду» на свой счёт. Спичка, поднесённая к пороху. В феврале 1836 года Пушкин разражается письмом — странным для умного человека, но объяснимым для затравленного:
«Князь,
С сожалением вижу себя вынужденным беспокоить Ваше сиятельство; но, как дворянин и отец семейства, я должен блюсти мою честь и имя, которое оставлю моим детям…»
Послание фактически означало вызов Репнина на дуэль. Благородный князь учтиво разъяснил Поэту его заблуждение. Пушкин извинился. Недоразумение уладилось.
Дальнейшая судьба князя Репнина сложилась как и подобает судьбе честного человека: вернувшись из странствий по Италии и Швейцарии, он удалился от света, поселился с Варварой Алексеевной в своём имении Яготине. Он умер в 1845 году, так и не дождавшись окончания следствия. Крестьяне любили своего доброго барина и, несмотря на январскую стужу и метель, всей округой проводили его в последний путь. А через два месяца было получено заключение следственной комиссии о полной невиновности князя. Для этого российскому судопроизводству потребовалось 11 лет. Поруганная честь, достоинство, подорванное здоровье и преждевременная смерть князя не вошли в регистр судебных издержек.
Фельдмаршал, гетман, президент
Потомок Разумовских по женской линии А. А. Васильчиков в конце прошлого века издал свой многолетний труд «Семейство Разумовских». Обширное четырёхтомное исследование документировано доступными в то время его автору богатейшими архивами Разумовских и родственных им родов Репниных, Уваровых, Васильчиковых. Читается как увлекательный роман и заслуживает быть переизданным сегодня в назидание потомкам. Диву даёшься той могучей российской силе, которая вдруг пробуждалась вулканической мощью в отдельных, словно по воле Провидения созданных, скрещённых, подобранных родах. На Руси всегда рождались самородки. Само явление Петра на русском троне — это тоже диво в лоне дремотного, ленивого, азиатски патриархального российского бытия. С гениальной прозорливостью Пётр умел отыскивать, вырывать из бездеятельного прозябания умных, расторопных людей. С тех пор это стало государственной политикой и давало прекрасные результаты. Меньшиковы, Разумовские, Орловы, Потёмкины, Завадовские — тому убедительный пример. Наш XX век не удивишь такими взлётами человеческих судеб. Но в XVIII веке подобное явление было чудом: до десяти лет неграмотный пастушонок Кирилл Григорьевич, брат елизаветинского фаворита, пройдя ускоренный курс обучения в Европе, беспрецедентно в 18 лет становится президентом Российской академии наук. В Петербурге он открывает для своих детей и племянников первый частный лицей, где их обучают выписанные из Европы известные профессора. А затем Кирилл Григорьевич отправляет детей отшлифовывать образование в лучшие европейские университеты.
Разумовский строит замечательной архитектуры дворцы, создаёт первые на Руси ботанические сады, оранжереи, выращивает в них экзотические фрукты и растения, наполняет свои палаты замечательнейшими произведениями искусства — картинами, гобеленами, фарфором. В Москве сохранился построенный им Петровско-Разумовский дворец — ныне в нём размещается Тимирязевская академия. Любимое загородное имение гетмана поражало современников роскошью, утончённостью вкуса хозяина. Здесь перед коронацией в Москве останавливалась Екатерина II. Позднее по её приказу у Тверской заставы построен дворец (не вечно же одалживаться у своих подданных!) для отдыха царских особ после долгого путешествия из Петербурга в древнюю столицу. Петровский въездной дворец строился М. Казаковым целых семь лет, с 1775 по 1782 год. Он стал жемчужиной русского зодчества — сказочный древнерусский терем-теремище.
Несколько лет назад в Вене культурный атташе бельгийского посольства, историк и исследователь Жорж Англобер показал мне прелюбопытный документ, связанный с Отечественной войной 1812 года. В дни оккупации французами Москвы в Петровском дворце находилась временная резиденция пасынка Наполеона Эжена Богарне[26]. Это была обнаруженная Англобером в каком-то архиве записка маркиза Жюля де Сейва, состоявшего в свите вице-короля. В ней излагалась история вывезенных маркизом из Москвы картин и поисков их владельцев. Де Сейв квартировал не в усадьбе Разумовского, а в деревянном доме напротив. Сам же дворец, примечательный своей конструкцией, построенный из камня, что весьма редко в столь удалённом от центра районе, упоминается как ориентир. Дом с картинами был необитаем, отмечает маркиз, как была необитаема тогда почти вся Москва.
Когда начался пожар, я побросал в мою бричку несколько самых маленьких картин из большой коллекции этого дома. И они, подвластные воле той невидимой руки, которая провела меня через все опасности, благополучно прибыли во Францию.
Шли годы. Угрызения совести мучили маркиза. Он решил разыскать владельцев картин. Естественно, их имён он не знал. Поиски не увенчались успехом. Наконец, в апреле 1847 г., он обратился за содействием к русскому послу в Париже М. Ермолову. Желание де Сейва вернуть незаконную собственность было столь велико, что он снял отпечатки пальцев одной и той же руки, обнаруженные им на картинах, и передал их в русское посольство. Факт, достойный удивления, ибо происходило это более 150 лет назад. Тогда, возможно, ещё были живы собственники того сгоревшего дома или их наследники, но тем не менее де Сейв не смог их отыскать. Ермолов поручил это дело своему другу, как раз уезжавшему в Москву, кн. Голицыну. Записка заканчивается обращением престарелого маркиза к своим наследникам: если сведения из России поступят после его кончины, исполнить его волю и вернуть все девять картин их собственникам, при условии, что их самоличность будет убедительно доказана. В приложенном описании значатся настоящие шедевры: «Морской пейзаж» Сальваторе Роза, «Паж и солдаты» Давида Тенирса, гравюра по меди Франка (вероятно, Meister Francke). Была здесь и миниатюра «Лошади» (указан её размер — 10x10 см). Некоторые надписи полустёрлись от времени и, вполне вероятно, что эта картина принадлежала не кисти Ван Фаленса, как указывает де Сейв, а Ван Дер Мейлену, рисовавшему животных и батальные сцены на холстах маленького формата. Неизвестно, чем кончилась эта история. По предположению Англобера, полотна так и не вернулись в Россию. Со смертью маркиза поиски, вероятнее всего, прекратились.
Г-н Англобер попросил меня навести в Москве справки о бывших владельцах этого дома. В первый же свой приезд в Россию я обратилась в Музей реконструкции г. Москвы. Мне показали старые градостроительные планы, но, как ни странно, в музее не нашлось ни одной карты допожарного города. Посоветовали обратиться в Исторический музей, а он как раз в то время закрылся на ремонт. Не повезло! История эта ждёт своего дотошного исследователя. Ну, а картины, наверное, уже навсегда потеряны для России. Впрочем, как знать. Иногда случаются самые невероятные вещи…
Чистейшей рыцарской чести
После смерти Кирилла Григорьевича в 1803 г. подмосковное имение Петровское по завещанию досталось его сыну Льву Кирилловичу, человеку в высшей степени благородному, чистейшей рыцарской чести (характеристика А. А. Васильчикова). Ещё один колоритный представитель рода. Как все Разумовские, жил на широкую ногу, славился хлебосольством, умом, образованностью. Его прекрасный дом близ Тверских ворот по обширности, роскошному убранству и расположению может почесться одним из лучших домов в Москве, — писала в 1831 г. русская газета «Молва».[27] Известный литературный салон графа Разумовского посещали видные писатели, поэты, музыканты. Большая дружба связывала Льва Кирилловича с родственником жены — П. А. Вяземским. Le Comte Leon, — писал Вяземский, — был замечательной и особенно сочувственной личностью. Он долго жил в допотопной и допожарной Москве, забавлял её своими праздниками,спектаклями, концертами и балами, как в доме своём на Тверской (дом этот, купленный графом Львом Кирилловичем у Мятлевых, принадлежит ныне господину Шаблыгину, в нём помещается Английский клуб), так и в прекрасном Петровском. Он был человеком высокообразованным: любил книги, науки, художество, музыку, картины, ваяние. У него едва ли не у первого в Москве был зимний сад в доме. Это смешение природы с искусством придавало ещё новую прелесть и разнообразие праздникам его. Граф Лев Кириллович был истинный барин, в полном и настоящем значении этого слова, добродушно и утончённо вежливый, любил он давать блестящие праздники, чтобы веселить и угощать других, но вместе с тем дорожил он ежедневными отношениями с некоторыми избранными: графом Ростопчиным, Карамзиным, князем А. И. Вяземским и другими[28].
Петровско-Разумовское было одной из лучших подмосковных усадеб XIX века. Многие знатные иностранцы приезжали полюбоваться на диковинки дворца. Мадам де Сталь рассказала о нём в своих путевых записках. Александр I пообещал графине Разумовской привезти в усадьбу гостившего в России прусского короля Фридриха-Вильгельма III. Чтоб показать пруссаку, как живут московские аристократы, Вильгельм III вместе с сыном и Мекленбургским принцем действительно посетил уже восстановленное после нашествия французов имение.
В 1872 г. в связи с пятидесятилетием Отечественной войны журнал «Русский архив» опубликовал переписку военных лет между двумя барышнями — Марией Аполлоновной Волковой и Варварой Алексеевной Ланской. Этот эпистолярный документ ценен достоверными — не романизированными — бытовыми деталями той эпохи. Ниже — несколько отрывков, в которых упоминаются имена моих героев.
1812 год, Волкова — Ланской: Вчера мы снова появились в свете, на ужине у гр. Разумовской[29]. Это был день её рождения. Я слышала у неё Штейбельта, который, однако, отнюдь не привёл меня в восторг; что касается игры, то он Филдонова мизинца не стоит…
Тамбов [30] битком набит. Каждый день прибывают новые лица… Кроме нашего семейства, здесь находятся Разумовские, Шурыгины, княгиня Меньшикова и Каверины…
Мы часто видимся с Разумовскими. Граф теперь неоценимый собеседник. Везде ему рады, куда он ни приедет… Двое или трое людей из его прислуги, оставившие Москву, по вступлении французов, привезли известие, его имения в городе и в Петровском истреблены со всем, что в них находилось, т. е. миллиона на два вещей. Это нисколько не омрачило его. Он по-прежнему всегда добродушно любезен, за что все любят его.
1814 г., Ланская — Волковой: Знаешь ли, что сделали французы из гостиных Разумовских, о которых ты упоминаешь в письмах твоих? В третьем этаже, в кабинете графа, они устроили бойню; по уходе их там нашли зарезанных коров и телят. В нижнем этаже были конюшни; в среднем, на устройство которого граф прошлым летом положил огромные деньги, — они всё истребили. Петровское исчезло, там происходили ужасы, от которых дыбом становились волосы…
Если желаешь составить себе понятие об образованнейшем народе, называющем нас варварами, прими к сведению, что во всех домах, где жили французские генералы и высшие чины, спальни им служили также чуланами, конюшнями и даже кое-чем похуже. У Валуевых в этом отношении так дом отделали, что в нём дышать нельзя и всё ломать надобно, а эти свиньи тут жили.
Как следует из этих писем, Лев Кириллович не очень расстроился разорением усадеб и с новым жаром принялся за их восстановление. Видимо, страсть к созиданию была у Разумовских в крови.
Лев Кириллович скончался в 1818 году. Пушкину, вероятнее всего, не довелось с ним общаться. Но с женой его Марией Григорьевной он был знаком. И даже больше — находился с ней в приятельских отношениях. Гр. Разумовская была дружна с его друзьями — Вяземскими, Карамзиными, Виельгорскими, Жуковским, А. И. Тургеневым. Находилась в свойстве с семьёй Пушкина, через тётушку Натальи Николаевны — Загряжскую. Она слыла одной из самых блестящих и умнейших женщин своего времени. Это не могло не привлечь к ней Поэта. Кто же она, эта графиня, чьё имя спрягается в пушкинистике в связи с последним балом в его жизни?
«Качуча» приехала!
Мы немало знаем о женщинах, окружавших Пушкина — кн. Вере Вяземской, гр. Долли Фикельмон, Екатерине и Софьи Карамзиных, Елизавете Хитрово-Тизенгаузен, Александре Смирновой-Россет, П. А. Осиповой, сёстрах Ушаковых и ещё о многих-многих других. Но почти ничего о той, в чьём доме поздним вечером 26 января дописывались последние строки драмы. А. И. Тургенев в своём дневнике несколько раз упоминает о ней по поводу преддуэльного бала. По тому же случаю её имя появляется в исследовании П. Е. Щёголева «Дуэль и смерть Пушкина». В примечаниях к последнему изданию этой книги[31] дана краткая справка о Разумовской: урожд. княж. Вяземская, гр. (1772—1865), статс-дама, в первом браке жена А. Н. Голицына, во втором — Л. К. Разумовского. Этим исчерпываются сведения о ней в пушкинистике. А между тем П. А. Вяземский в полузабытых «Записках» не скупится на похвалы Марье Григорьевне — своей кузине, дочери статского советника кн. Григория Ивановича Вяземского от его второго брака с Беклемишевой.
Есть имена, — писал П. А. Вяземский, — которые, раз попавшись под перо, невольно вовлекают его в дальнейшие подробности. Имя графини Разумовской принадлежит к этому разряду. Она в некоторых отношениях едва ли имела себе подобных[32]. В зрелые годы и даже в старости она сохраняла черты красавицы и необычайную моложавость. Почти ребёнком была выдана замуж за кн. Александра Николаевича Голицына. А у него самого ещё пух над губой — он был старше её всего на три года. Молодой князь на всю Москву славился разгулами и самодурством — ещё один пример этой странной русской болезни! Ежедневно отпускал он кучерам шампанское, крупными ассигнациями зажигал трубки гостям, подписывал, не глядя, векселя, и заимодавцы, зная это, указывали суммы в цифрах, а не прописью, что давало им возможность жульничать, приписывая дополнительно нули; горстями бросал золото извозчикам — юного спесивца тешило, что они толпились у его подъезда. А это умножало его славу неслыханного богача. Огромное состояние с 24 тысячами душ крепостных таяло на глазах отчаявшейся княгини. Как раз в это время на её горизонте появился недавно вышедший в отставку Владимирский кавалер, генерал-майор, сорокадвухлетний Лев Кириллович. Обаяние и страдание молодой княгини тронули чувствительное сердце графа. Не устоял — влюбился в неё. Вскоре об их романе заговорила вся Москва. По обоюдному и дружескому согласию супругов состоялся развод — должно быть, один из первых в России. В те блаженные, как выразился А. А. Васильчиков, времена развод считался чем-то необычайным и чудовищным. Лев Кириллович женился на Марье Григорьевне в 1802 году. Молодожёны зажили на редкость счастливой жизнью. Не особенно её омрачали даже московские кривотолки о незаконности их брака. Конец им положил император. В 1809 году Александр I приехал в Москву. На балу у фельдмаршала гр. А. В. Гудовича — зятя Льва Кирилловича (мужа его сестры Прасковьи Кирилловны), царь подошёл к графине Разумовской и пригласил её на полонез. С этой минуты Мария Григорьевна вступила в права законной жены и носительницы графского титула.
16 лет брака протекли в нежной любви и согласии. Супруги почти никогда не расставались, а во время вынужденных коротких отлучек писали друг другу обстоятельные письма. Долго оплакивала мужа графиня. Озабоченные её здоровьем доктора посоветовали ей сменить обстановку. Мария Григорьевна отправилась лечить нервы на заграничных водах. Оптимистический склад её натуры взял своё. Графиня вновь широко распахнула двери своего салона. Где бы ни появлялась — в Париже, Вене, Карлсбаде. Её рауты поражали европейцев русским хлебосольством, умом, эрудицией, утончённым вкусом хозяйки. Они превращались в событие. Как об одной из достопримечательностей столичной жизни рассказывает о них в книге «Парижские письма» французская писательница Эмили де Жирарден, писавшая под псевдонимом виконт де Лоне. В Карлсбаде русская графиня стала душой здешнего общества курортников, заводилой всех увеселений, вечеринок, пикников. В память о её пребывании в галерее известных личностей был установлен её бюст.
Она слишком долго жила за границей и отвыкла от российских нравов. Чопорное петербургское общество враждебно встретило эту офранцузившуюся русскую. Его возмущали её экстравагантные замашки, непосредственность, легкомысленные не по годам туалеты. Графиня Разумовская приехала очень поздно на бал. Лакеи спросили у её лакея: «Откуда ты привёз свою качучу?»[33] Она раз танцевала во дворце и очень хорошо, — вспоминает А. О. Смирнова. — Она тоже давала балы и matine’es dansantes très choisies[34] и возбуждала неудовольствия в том обществе, где её пригревали после многолетнего пребывания за границей в Париже, где она проживала и тешила французское общество.[35] Мария Григорьевна поселилась в Петербурге в своём собственном доме на Большой Морской. Он стал одним из самых посещаемых в столице — обеды, вечеринки, балы следовали один за другим. Императорская чета удостаивала её рауты своим присутствием и принимала её запросто на своих маленьких интимных вечерах. В ту зиму (1831—1832) не было конца вечерам и балам: танцевали у графини Лаваль, у Сухозанетши, у графини Разумовской и в Аничкове дважды в неделю[36]. Большой ценитель женских прелестей Вяземский не скупится на эпитеты по её адресу — естественная, чистосердечная, весёлая, жизнерадостная. Перед ней немело строгое суждение, насмешливое злоречие общества, утверждает её кузен вопреки мнению петербургского света и остроязычной Смирновой-Россет.
Несколько забавных анекдотов из её жизни лишь усиливают обаяние графини. Однажды, возвращаясь из Парижа в Россию, она встретила в Вене знакомца, служившего по таможенному ведомству. Разумовская радостно защебетала: Сам Бог послал мне вас на помощь! Я ужасно боюсь формальностей на границе! — Да что же намерены провезти вы с собою? — спросил её чиновник. Безделицу, — ответила графиня, — триста платьев. Разве не восхитительно другое простодушное её признание: Я обожаю Париж, потому… что там немолодые женщины носят платья нежных, светлых оттенков.
Ей было 84 года, когда на престол взошёл царь Александр II. Перед предстоящей коронацией молодящаяся, но и моложавая Мария Григорьевна отправилась в Париж, чтобы… выглядеть прилично на торжествах в Москве. Одним духом доскакала до Парижа. Поздно вечером карета высадила её у отеля, а наутро как ни в чём не бывало она уже гуляла по своей любимой rue de la Paix. Так случилось, что тогда же в Париже оказалась её старая венская приятельница и ровесница княгиня Грасалькович. Эти две женщины без возраста — русская и австрийка — старались перещеголять друг друга в бодрости, жизнелюбии и туалетах. Узнав о причине курьерской скачки графини, княгиня с завистью воскликнула: «В таком случае мне остаётся слетать денька на два в Нью-Йорк!»
Вяземскому можно верить — в Марье Григорьевне удивительно сочеталась светская суетность и расточительность с душой нежной, чувствительной, сердобольной, глубоко религиозной и сострадательной к чужим бедам. До конца жизни она сохранила трогательную верность Льву Кирилловичу. А при своём умении очаровывать и кружить мужчинам головы (в шестьдесят лет танцевать на балу качучу!) могла бы легко подыскать себе мужа. Она была отменно, деятельно добра — отмечает Вяземский. Охотно, никому о том не говоря, помогала своим родственникам, ближним, дальним, столичным, провинциальным. Деньги, скопленные для столь мечтанной поездки в Лондон на выставку 1861 г., не раздумывая, вдруг отдала в уплату долгов своего молодого родственника. Вечно нуждавшемуся брату подарила московский дом у Тверских ворот (в 1831 г. туда переселился заслуженный ветеран московской общественной жизни Английский клуб, который часто посещал Пушкин).
Мария Григорьевна вела знакомство с другой героиней нашего рассказа — графиней Фикельмон. Факт их знакомства подтверждает дневниковая запись Долли, сделанная в Вене: В воскресенье на мессе снова видела г-жу Гурьеву, рождённую Толстую, графиню Леон Разумовскую (по обычаю того времени называет её по титулу, имени и фамилии мужа)[37]. Они встречались и в петербургском обществе, и в венском. Мария Григорьевна поддерживала дружеские отношения с деверем Андреем Разумовским, часто и подолгу гостила у него в Вене. В венском высшем свете у неё было много друзей и знакомых.
По воле рока в доме Марии Григорьевны завершались последние приготовления к дуэли. Пушкин приехал к графине один, без жены. Он был очень озабочен — до дуэли оставалось менее суток, а у него всё ещё не было секунданта. Д’Аршиак проявлял нетерпение — по правилам поединка он должен заранее обсудить процедурные детали с представителем противника. Д’Аршиак уведомил Пушкина, что будет ждать его секунданта у себя дома до 11 часов вечера, а позже — на балу у гр. Разумовской.
Представим, как это было… Близится полночь. В ярко освещённую танцевальную залу входит Пушкин. Подходит к хозяйке дома, галантно целует ей руку. Мария Григорьевна, как всегда, ослепительна, в новом, только что полученном из Парижа туалете. Приветливо улыбается Поэту, а взором тревожно впивается в его глаза. Она в курсе всех последних сплетен о чете Пушкиных. Тактично не спрашивает его, почему он сегодня один, без очаровательной Натали. Но внешне Пушкин спокоен, как никогда, весел, разговорчив. Ничто не предвещает драму. Болтая с Марией Григорьевной, оглядывает залу. Видит того, ради которого приехал на бал, — д’Аршиака. Извиняется перед Марией Григорьевной и стремительно направляется к французу. О чём-то оживлённо говорят. Наверное, Пушкин извиняется за то, что всё ещё не нашёл секунданта. Внимание многих приковано к ним. Кто-то подошёл к Вяземскому, что-то шепнул ему на ухо. Накануне Вера Фёдоровна сообщила мужу о намечающейся дуэли — сам Пушкин проговорился ей об этом! Вяземский, прервав галантную беседу с дамой, быстро подходит к ним. При его приближении они замолкают. Если бы можно было на какой-нибудь галактической машине времени догнать прошлое и заснять на плёнку всё происходившее тогда. И сделать на этой сцене СТОП-КАДР! Внимательно всмотритесь в него — зафиксирован один из самых загадочных и необъяснимых моментов преддуэльной истории, который уклончиво обходят пушкинисты: Вяземский, знавший от жены о готовящемся поединке, не сомневавшийся, что именно о нём сейчас Пушкин разговаривает с д’Аршиаком, не сделал попытки предотвратить её. А ведь из посвящённых Верой Фёдоровной в эту тайну — Михаила Виельгорского и Василия Перовского, он один мог повлиять на Пушкина, отговорить его или в случае неуспеха прибегнуть к помощи царя, полиции. Почему он не сделал этого? Почему? Не взыграли ли в нём сальериевские чувства? Оттого ли, что завидовал? Как поэт, лучше других понимал гениальность Пушкина. Питал зависть к его божественному таланту? К тому, что жена у него — первая красавица Петербурга? Вяземский долго не мог поверить слухам о женитьбе Пушкина на Гончаровой, а узнав о помолвке, желчно заметил: Он первым делом постарается развратить её! Пушкин говаривал Нащокиным, что недолюбливает Вяземского за его злословие и вечное стремление напакостить ему.
На сей раз Пушкин, чтобы не расстроить дуэли, скрывает её от друзей и от Вяземского тоже. Наверное, позабыл, что проговорился о ней княгине Вере. А что, если князь включился в зловещую игру, ничем не выдавая, что знает о намерениях Пушкина? Для Пушкина же всё решено. Отступать поздно. И как это свойственно решительным и бойцовым натурам, определённость ситуации и предстоящих действий успокаивает его. По словам А. И. Тургенева, видевшего его на этом балу, Поэт был весел, полон жизни, без малейших признаков задумчивости. Вот он подходит к секретарю английского посольства Артуру Медженису, долгоносому англичанину, прозванному из-за вечно нахохленного вида больным попугаем. Но в общем-то очень порядочного, честного человека. Именно за это и уважал его Пушкин. Как потом выясняется, Поэт просил Меджениса стать его секундантом. Тот обещал подумать. Чуть позже переговорил с д’Аршиаком, убедился, что всё гораздо серьёзнее, чем он себе представлял. Что свою миссию — примирить противников — не сможет выполнить. И не посмел взять на себя роль соучастника убийства. Стал разыскивать Пушкина, чтобы сообщить ему свой отказ, но тот уже уехал с бала. Был второй час ночи, ехать домой к семейному человеку в столь поздний час почёл неудобным, решил утром известить Пушкина об этом письмом.
Современники свидетельствуют: Вяземский тяжело перенёс гибель Пушкина. При отпевании усопшего в Конюшенной церкви ничком лежал на полу. Молился, каялся. Может, его терзали угрызения совести? Ни на один из этих вопросов я не решаюсь ответить утвердительно. Нужны новые факты и исследования…
Мария, Марина и Пушкин
Добросовестный труд Васильчикова, забытый, ставший сегодня библиографической редкостью, сохраняется в специальных фондах и посему недоступен не только рядовому читателю, но и даже специалистам. О существовании этого произведения узнала из словаря Брокгауза и Эфрона. Без всякой надежды на успех поискала его в каталогах Софийской Национальной библиотеки имени Кирилла и Мефодия — не числилось. Решила проверить в Университетской библиотеке, располагающей редкими русскими книгами конца прошлого и первой половины нынешнего века. К большой моей радости, обнаружила первые два тома. Полный комплект из 4-х томов хранился в спецфонде библиотеки Болгарской Академии наук. Почему так подробно об этом? Но разве этот факт не достоин удивления? В Болгарии сохраняется редкая, дорогая даже для того времени книга о мало что говорящем болгарину роде Разумовских! Объяснить это можно двумя обстоятельствами: профессорский костяк первого болгарского университета представляли русские воспитанники, а революционная чистка нежелательной литературы началась в Болгарии значительно позже, чем в советской России, — после 1944 года и не коснулась старых русских фондов.
К сожалению, с этой книгой я познакомилась уже после моего окончательного возвращения из Австрии в Болгарию. Она открыла мне умалчиваемый отечественной историей факт переселения рода Разумовских в Австрию.
Не российский посол Андрей Кириллович оказался продолжателем австрийской ветви рода — у него не было детей ни от первого, ни от второго брака. А его младший брат — Григорий Кириллович. Его потомки ныне живут в Вене.
Я долго искала случая познакомиться с Марией Андреевной Разумовской. О ней узнала от Ольги Раевской — преподавательницы в Венском французском лицее. Интерес к Разумовской родила вышедшая на немецком языке её замечательная книга «Марина Цветаева. 1892—1941. Миф и действительность»[38]. А через два года английское издательство[39] опубликовало её русский перевод. Это была первая биография поэта. Ещё не появились воспоминания Анастасии Цветаевой, Ариадны Эфрон. Только задумывались и писались книги Анны Саакянц, Марии Белкиной, Виктории Швейцер. Не были опубликованы воспоминания современников, собранные Вероникой Лосской. Глубокий поклон Марии Андреевне и за то, что написала и издала раньше других «Хронику жизни» Цветаевой, и за то, что с юности была очарована поэтом, переводила в тетрадку её стихи на немецкий язык, а потом решила познакомить с ними немецкоязычных читателей — подготовила сборник и опубликовала его в Германии.
Раевская обещала представить меня Разумовской, но ей пришлось неожиданно уехать из Вены, а я осталась… не солоно хлебавши. Решилась разыскать её сама. Знала, что работает в русском отделе Австрийской Национальной библиотеки. Звоню в библиотеку, прошу телефониста связать меня с графиней Разумовской, в ответ он строго переспросил: «Frau Razumovsky?» Хороший урок мне преподнёс: в Австрии после установления республики в 1918 году отменены все дворянские титулы. Они сохранились лишь в узком кастовом кругу, а в гражданском обществе не принято употреблять их в общении. Связаться с Марией Андреевной было не так просто — она работала по сменам, не сидела сиднем в бюро — то в книгохранилище отлучится, то в коллектор. Наконец-то услышала в трубке её голос — низкий, чуть глуховатый, с лёгким немецким акцентом. Она согласилась на встречу, но сразу же предупредила, что времени у неё в обрез.
Мы встретились в кафе библиотеки. Очень высокая, сухопарая, внешне — типичная австрийка, хотя по матери, княгине Екатерине Николаевне Сайн-Витгенштейн, — русская. Но русской себя не считает. «Мы, австрийцы…» — очень часто подчёркивала она. Это нарочитое отмежевывание от собеседника немного раздражало и держало в напряжении. За ним слышалось другое: «Вы, советские…» Думаю, что её отчуждённость не была плодом моей фантазии, обострённой чувствительности или закомплексованности. Читая русский перевод этой книги, сделанный матерью Марии Андреевны — Екатериной Николаевной, я ещё раз поразилась её гипертрофированному антисоветизму. В своём блокноте, записывая по ходу чтения впечатления о книге, отметила это резкое несоответствие между жанром повествования — хроникой — и стилем: спокойный рассказ вдруг превращался в яростное памфлетное обличение. Меня, читателя, это повергало в уныние: подобные эскапады в один миг разрушали впечатление об авторе произведения как об обаятельном, умном человеке. Убеждена, что писателю, да ещё хроникёру, категорически противопоказано отдаваться во власть неподвластных разуму эмоций. «Милая вы моя, Мария Андреевна, — писала я в записной книжке, не смея высказать ей это в письме или при встрече, — какую же замечательную книгу вы написали! А слог-то какой: краткий, ясный, без словесных выкрутасов, — только мысль, просто и точно выраженная. Это лучшее и самое полное, что я читала о поэте Марине. Как это выгодно отличается от Анастасии Цветаевой (к тому времени уже был опубликован журнальный вариант её книги. — С. Б.)! Как правильно заметила Ариадна, сестра, хотя и похожа на Марину, лишь бледная её тень. Вы превзошли Анастасию непредвзятостью к Марине, точностью, обилием сведений…»
И вот мы сидим в кафе — на столе стынет заказанный кофе, стоят нетронутыми вкусные венские пирожные. Разговор не клеится, по крайней мере так мне кажется, — не получилось той задушевной, располагающей беседы, какая иногда получается у незнакомых людей с первой встречи. И я злюсь на себя за своё бессилие преодолеть барьер безличного общения. Может, оттого, что я так долго подступалась к ней? Или от сразу же возникшего убеждения, что я давно, тысячу лет, знаю эту женщину и она неслучайный для меня человек, а она этого не понимает, не хочет понять? А может, Марина связала нас — она так глубоко почувствовала Цветаеву, что я сразу же полюбила её за близость приближения к поэту, что не каждому дано… Мария Андреевна между тем ведёт вежливую беседу, расспрашивает о газете, которую я представляла в Вене, обо мне самой, о семье. Между прочим совсем не обидно заметила, что в Австрии не очень доверяют советским журналистам за их необъективность и тенденциозность. И я снова почувствовала себя виновной за всё и вся, за всех советских корреспондентов за границей, за то, что происходило за советским железным занавесом. Ах, как мне надоела эта роль — полпреда моего дорогого отечества! Как нелегко было отвечать — где бы я ни находилась — на бесчисленные «отчего» и «почему» моих собеседников. Я пообещала Марии Андреевне снабжать её новыми книжками о Цветаевой, которые покупала в русских книжных магазинах Москвы, Чехословакии, Польши. Однажды привезла ей из Москвы только что выпущенную пластинку с душераздирающим доронинским завыванием стихов Цветаевой. Разумовская несказанно обрадовалась подарку, но ещё больше списку — в несколько страниц — всех публикаций Цветаевой и о ней, составленному мною по каталогу Ленинской библиотеки.
Род матери Разумовской по отцовской линии имел австрийские корни. Габсбургский подданный, младший в семье сын, граф Христиан Людвиг Сайн-Витгенштейн-Берлебург в 1762 году приехал в Россию искать славы и богатства. Он поступил на службу в русскую армию, дослужился до чина генерал-лейтенанта. Его сын Пётр Христианович был известным фельдмаршалом, а после смерти Кутузова — главнокомандующим русской армией в Отечественной войне 1812 года. За боевые заслуги ему был пожалован титул светлейшего князя. Мать Разумовской, Екатерина Николаевна, представляла пятое обрусевшее колено этой фамилии в России. После революции семья Витгенштейн эмигрировала в Австрию — свою прародину. Здесь произошло то, что, наверное, должно было произойти: Екатерина Николаевна встретила Андреаса Разумовского. Их встреча была игрой Провидения. У него свои, неведомые нам законы. Возможно, выбор пал на эти две фамилии ещё вот почему: в них шло как бы «выпаривание» основной, родовой крови — с каждым поколением русел австрийский род, а русский род Разумовских — онемечивался. Примерно в то же самое время, когда первый Витгенштейн обустраивался в России, младший сын гетмана Кирилла Григорьевича был отправлен обучаться наукам в Европу. Он единственный из детей гетмана не пожелал вернуться в Россию. Звали его Григорием.
Помните угрюмого, некрасивого, щупленького юношу — одним словом, гадкого утёнка? Вот и подошло время рассказать о нём. От него, Григория, началась австрийская ветвь Разумовских. Он, его дети, внуки брали в жёны австриек. Андреас Разумовский также был представителем пятого поколения переселенцев. Соотношение австро-русской крови в их жилах было одинаковым. Соединение этих двух родов было перстом судьбы. От этого брака родилось пятеро детей: два сына и три дочки. Мария Андреевна одна из них.
Угораздило родиться в России с умом и сердцем!
Григорий Кириллович оказался самым учёнолюбивым сыном гетмана и российского президента Академии наук. Этим своим свойством он, наверное, больше всего походил на отца. Но отец не понял их похожести, потому что не любил его. А за нелюбовью не разглядел прекрасных качеств ума и души своего младшенького. Хотя примечал в нём что-то особое, отличное от других детей и удивлялся его странностям, иронично философом называл. Сомнениями своими о роде избранных Гришкою занятий делился с любимым, самым удачливым сыном Андреем. А Андрей, живя на Западе, уже по-иному смотрел на жизнь. При всей его странности, — отвечал он на озабоченное письмо отца, — хорошо, что он избрал такое упражнение, которое и похвально, и может быть полезно для молодого человека, а ему всегда приятно. Я не только что на него за сие сердит, но сам апробую его упражнение, яко могущее со временем ему славу наносить. Правда, что оно противно военному званию, но что делать, когда ни сложение его здоровья, ни склонности его к тому не влекут? Много охотников есть, которые его место займут в военном искусстве. Но в том, куда его судьба влечёт, мало; а что не имеет стремления ни к знатным чинам, ни к декорациям, им свойственным, то сие редкость неслыханная в молодом человеке; почитаю счастливым того, который на все суеты со спокойным духом смотрит и не занимается желанием оных. Такой человек жизни всегда довольнее и спокойнее быть может.[40] Позволяю себе эту длинную цитату, потому что она лучом прожектора высвечивает и нравы эпохи, и характеры трёх действующих лиц моего рассказа.
Сердцем Кирилл Григорьевич скорее всего понимал Григория, но не мог преодолеть старый служака предрассудка своего времени (который держался ещё доброе столетие в России): аристократ, притом знатный, не может посвящать себя такому неаристократическому роду деятельности, как наука. Единственно достойное для него занятие — служить в армии или при дворе. Крайне его учением и поведением доволен, — пишет далее отцу А. К. Деньги, отпускаемые отцом, Григорий тратит разумно и расчётливо. А кто из вас похвалиться этим может? — спрашивает расточительный сын Андрей не менее расточительного батюшку. — И я бы желал, чтобы вы сей статье у него поучились! Бог ему в помощь, пусть из себя он делает учёного человека!
Григорий стал известным европейским учёным. В 1783 г. издал в Лозанне свою первую научную работу по минералогии на основе данных, собранных им во время путешествия из Брюсселя в Швейцарию. За ней последовала брошюра о геологических изысканиях в Швейцарии. Обе работы быстро разошлись и были переизданы в 2-х томах, причём 2-й том вышел с посвящением Андрею Кирилловичу в благодарность за поощрение к учёной деятельности. Следуют другие «замечательные исследования» по естественной истории, труды по геогностике, минералогии. В Силезии Григорий Кириллович открыл новый минерал, в его честь названный «Разумовскин». Был членом нескольких королевских академий — Стокгольмской, Туринской, Мюнхенской — и нескольких минералогических обществ, в том числе Петербургского, Иенского, а также Императорского московского общества естествоиспытателей. Неудачно сложились у него отношения с Российской академией наук: он был избран её членом, но скандально покинул её из-за ссоры с Екатериной Дашковой, потребовавшей от него принудительно покупать все печатные издания этой академии. Для него это означало опеку, посягательство на свободу учёного и права личности. Нет, в России он положительно задыхался. Привыкнув к независимости и кабинетной тишине в пасторальной Швейцарии, он снова уехал за границу. Встретивший его в Лозанне Карамзин восторженно описал его в «Письмах русского путешественника»: Здесь поселился наш соотечественник, учёный-натуралист. По любви к наукам отказался он от чинов, на которые знатный род его давал ему право, удалился в такую землю, где натура столь великолепна и где склонность его находит для себя более пищи; живёт в тишине, трудится над умножением знаний человеческих в царствах природы и делает честь своему отечеству. Интересно сопоставить оценки двух примечательных личностей эпохи — дипломата и историка. Оба они поощряют, оправдывают и находят полезными для отечества занятия Григория Разумовского. Родные же, общество, к которому он принадлежал от рождения, не понимали его. Он был чужаком на родине и своим на чужбине. Не было у него другого пути, как окончательно поселиться на Западе. Не сложилась и личная жизнь. Светская, любящая развлечения, салонные знакомства француженка Генриетта Мальсон совсем не подходила замкнутому, с головой в науку погружённому учёному. Не получив официального развода, поменял её на тихую, преданную, на тридцать лет моложе его немецкую баронессу Терезию-Елизавету Шенк де Кастель. Генриетта Мальсон приехала в Россию и завела дело о незаконности второго брака. Случаем занимались Сенат, Синод. Ходатайство молодой хорошенькой баронессы перед императором Александром I не принесло желанных результатов: император ответил, что всем сердцем рад помочь, но последнее слово за стоящим над ним законом. Он, возможно, и решил бы дело в пользу Елизаветы де Кастель, если бы оно было внутрироссийским. Но за ходом процесса наблюдала Европа — Франция, Австрия, Германия. Международная репутация справедливого монарха-законника была превыше добрых порывов сердца. А между тем баронесса рожает третьего ребёнка, и все трое, согласно российскому закону, оказались внебрачными. Сломленная морально и физически, Елизавета де Кастель умерла вскоре после родов. Девочку усыновила бездетная чета — Лев и Мария Разумовские. Элиза получила приличное приданое и вышла замуж за датского дипломата графа Адама Готлиба Мольтке-Гвигфельде. После смерти жены Григорий с сыновьями поселился в Вене. Вместе с ними, в знак протеста против православной церкви, не признавшей законность его второго брака, перешёл в протестанство. Купил загородный дом в Бадене под Веной, имение Рудолец в Моравии. Жил то в самой Вене, то в своих имениях. Продолжал научную деятельность, сумел опубликовать ещё два фундаментальных труда по минералогии. Книги его переводились на иностранные языки. Умер в один год с Пушкиным, похоронен в имении Рудолец. Дети вернулись к нарушенным отцом заветам предков: старший Максимилиан был офицером австрийской армии, женился на графине Мариспан, брак был бездетным; младший Лев состоял адъютантом при владетельном герцоге Саксен-Кобургском, дослужился до должности сенешаля Кобургского герцогства. Был женат на баронессе Розе Левенштерн. Имел двух детей — дочь и сына Камилло. У Камилло было пятеро детей, младший Андреас стал отцом Марии Андреевны.
Недавно она но моей просьбе прислала мне из Вены сведения об австрийской ветви Разумовских. Сообщила, что работает над книгой о своих предках. Так усилиями заграничного автора, будет воскрешена ещё одна страничка русской истории. Но мы к этому привыкли, принимаем как должное, не сетуя на свою отечественную нерасторопность. Я очень рада за Марию Андреевну — её замечательная повесть о Марине Цветаевой, ещё в доперестроечные времена попавшая в Россию окольными путями, вышла наконец-то на родине поэта и сразу же стала библиографической редкостью. Один из последних экземпляров я видела на книжном прилавке музея Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке в Москве. Здесь же узнала, что Разумовская подружилась с его сотрудниками (дружба эта началась ещё в те годы, когда в этом полуразвалившемся доме поэта жила и берегла его от окончательного разрушения удивительная женщина, Надежда Ивановна Лыткина — ревностный собиратель и создатель нынешней экспозиции музея). Мария Андреевна подарила дому поэта собрание изданных за границей произведений Марины Цветаевой и книги о ней. Но что особенно трогательно — три сделанных дарительницей ксерокопии ранних сборников стихов — 1910-го, 1912-го и 1928 года. Музей сразу же издал каталог «Из собрания Марии Андреевны Разумовской». И теперь каждый приходящий в открытую библиотеку Дома Марины может пользоваться редкими книгами…
Чуть-чуть приоткрыв дверцу времени, я вытащила из забвения имена славных представителей рода Разумовских. Сожалею, что не смогла распахнуть дверцу пошире. Любопытствующих отсылаю к книге Васильчикова, если сумеют её найти… Меня вело Провидение. Я верю в него, в предопределённость событий, явлений, встреч — в те самые «странные сближения», в которые верил и Пушкин.
Начало детективной истории
В один прекрасный день (поистине прекрасный, потому что за ним последовал целый ряд событий, ставших сюжетом этой книги)… итак, в прекрасный день мне позвонила Мария Андреевна и голосом сфинкса сказала: «Помните, я говорила вам о проживающих в Вене Трубецких? Так вот, у внучки князя Николая Сергеевича Трубецкого Варвары Александровны хранится пушкинское кольцо. — Мария Андреевна сделала паузу, вероятно, чтоб дать мне возможность переварить сказанное. И уже совсем буднично добавила: — Хотите я вас с ней познакомлю?»
Хочу ли я? Голубушка, графинюшка, да о чём же тут толковать! Ну конечно же, хочу, причём сейчас же, немедленно! Но сдерживаюсь и как можно спокойнее отвечаю: «Да, это очень интересно. Когда с ней можно встретиться?» А она: «Об этом надо её спросить. Я ей позвоню и, если позволите, дам ей ваш телефон».
Ждать пришлось долго. Но о встрече с внучкой Трубецкого — следующий рассказ. Так вот — о Провидении. С этого звонка началась для меня иная жизнь — я стала и архивариусом, и детективом, и следователем одновременно. Но это внешняя её канва. Суть значительно глубже и серьёзнее — я стала сопричастна… Я вдруг поняла — моя встреча с Марией Андреевной неслучайна. Она помогла мне соединить серебряной нитью в кольцо времени два конца: водоворот преддуэльных событий, балы, интриги, сплетни, женщин. И одна из них — умная, сердобольная, очаровательная Мария Григорьевна Разумовская, с её последним для Пушкина балом, вписана в завершающее звено его биографии. И другая, названная пусть не в её, а родной бабушки честь Марией, её пра-пра — в пятой степени племянница, и тоже Разумовская, и, как она, умная, пленяющая духовными глубинами и также влюблённая в поэзию и поэта — такого же трагичного, безмерно талантливого, не понятого, как всякий предтеча, современниками и преждевременно ушедшего из жизни. Любимый ею поэт был влюблён в того, другого, и мыслью к нему постоянно возвращался в стихах и прозе — «Мой Пушкин». На повороте русской судьбы — Гений полёта. Бега. Борьбы. Это о нём и о себе тоже. Потому что в женской судьбе повторяла его жизнь. Говорила, скажу и Господу, / — Что любила тебя, мальчоночка, / Пуще славы и пуще солнышка…
Так через сто пятьдесят лет после смерти Пушкина звонок нынешней Разумовской всколыхнул тени его близких друзей — Александрины Гончаровой, Долли Фиксльмон, Елизаветы Хитрово, а за ними потянулась вереница других теней, тех, кого мы сегодня называем «его окружением».
Суеверие или гениальная интуиция?
Вздёрнув Россию на дыбы,
Пётр загадал ей великую загадку.
И Россия ответила ему Пушкиным.
А. ГерценИ повернул оглобли Пушкин
Пушкин обожал талисманы и по-ребячески верил в них. В этом убеждают его биографы. И смакуют повторенные многими — около Пушкина вращавшимися — примеры его суеверия: заяц дорогу перебежал, поп попался навстречу… Этого оказалось достаточно, чтоб вернулся, не поехал к товарищам-декабристам на Сенатскую площадь. И таким вот образом избежал каторги, Сибири. Маленькая слабость — этакий забавный пустячок — сберегла для России Поэта… Вдумайтесь: Пушкин — дерзкий, бесстрашный, задиристый, чуть что — вызывал обидчика на дуэль. И вот этот с гипертрофированным чувством чести человек просто так, из-за ребяческого суеверного страха поворачивает оглобли саней и остаётся в деревне!
Как часто оставались непонятыми, даже близкими из близких, ребяческие всплески, сумасшедшие — с позиций стариковской рассудительности, но такие артистичные, рождённые огненным интуитивным вихрем свойства великой в простоте и наивности натуры Поэта! Непонимание вело к упрощению, к стиранию оттенков! Пушкин в чёрно-белом варианте подносился нам ещё со школьных лет. Неподправленная детская интуиция подсказывала — здесь что-то не так. Моё заражённое максималистской моралью поколение оценивало эту маленькую слабость строже. Подленькое, гаденькое, так не вяжущееся с обликом Поэта, выпирало из этого поступка (проступка!): испугался, отмежевался от товарищей, отсиживался в безопасном местечке!..
Мемуары современников, как правило, писались через много лет после смерти Пушкина. Согласна с Вацурой{1}: Современники передавали его рассказы, подчёркивая и усиливая их… Если мы возьмём на себя труд убрать облекающие их позднейшие легенды и наслоения, они предстанут перед нами как драгоценный и уникальный историко-психологический документ (выделено мною. — С. Б.).[41] Умение прочитать мемуары — это прежде всего умение пропустить события, факты из биографии Поэта сквозь призму собственного критерия. Но есть и иной аспект оценки — расширение перспективы. Об этом уже говорила Ахматова: Мы — люди XX века — знаем в сто раз больше о немалодушии поэта, чем знали его современники[42].
Разве не истина, что любое явление жизни — личной, общественной — становится яснее и понятнее с позиций времени. Можно сказать и по-иному: с позиций личного и исторического опыта. Когда само явление уже вписалось, заняло определённое место в судьбе человека, общества, народа. Новые архивные находки и нарождающаяся современная пушкинистика заставляют многое пересмотреть в Пушкине. К примеру, тему «Пушкин и декабристы». Критически отнестись к легендам о том, что декабристы никогда серьёзно не воспринимали Пушкина, не очень доверяли ему или же не допускали в тайное общество потому, что оберегали Поэта. Истина же значительно сложнее. Давайте вспоминать вместе!
Вспомним, какой резонанс в обществе вызвали дерзкие политические стихи Пушкина, как они распространялись в списках по всей России. Многие декабристы признавались на допросах, что использовали произведения Пушкина в пропагандистских целях.
Далее — о роли общества «Зелёная лампа» в мужанье Поэта. Оно было учреждено Яковым Толстым, Фёдором Глинкой, Сергеем Трубецким по тайному поручению Союза благоденствия как подготовительное отделение, как его «побочная управа»! Руководители Северного тайного общества растили «свои кадры»!
Что в сущности мы знаем о «Зелёной лампе»? Раз в две недели в доме Никиты Всеволожского проводились собрания любителей словесности. Вольные разговоры, споры в зале под зелёной лампой, перстни с изображением светильника — а изображение это почему-то воспроизводило светильники первых христиан в римских катакомбах[43]; литературные опусы («Сон» Улыбышева) и стихи, стихи… Члены общества спаяны клятвой хранить тайну этих встреч. Её позднее раскроет зашифрованная Поэтом десятая глава «Евгения Онегина». Расскажет истину лучше, точнее, правдивей поздних свидетельств декабристов.
Тут Лунин дерзко предлагал Свои решительные меры И вдохновенно бормотал, Читал свои Ноэли Пушкин. Меланхолический Якушкин, Казалось, молча обнажал Цареубийственный кинжал, Одну Россию в мире видя, Преследуя свой идеал. Хромой Тургенев им внимал И, плети рабства ненавидя, Предвидел в сей толпе дворян Освободителей крестьян.«Зелёная лампа» — чуть-чуть приоткрывает тайнопись жизни поэта этого периода. Была ли она масонской ложей? Видимо — да. В таком случае Пушкин познакомился с учением масонов ещё до вступления в Кишинёвское общество.
Вспоминаем дальше… Пушкин в Михайловском после разгрома восстания. Напряжённо вслушивается в звон каждого приближающегося колокольчика — ожидает жандармов, обыска, возможно, и ареста. Сжигает крамольную X главу «Онегина», дневники последних лет. Значит, для этого были основания. На допросах декабристов царь пытается узнать о причастности Пушкина к движению. Неужели причиной тому только прошлые «грехи»? И почему вместе с агентом Бошняком в июле 1826 г. прибыл в Псковскую губернию и фельдъегерь Блинков, имея на руках открытый лист за подписью военного министра Татищева — в случае ареста он должен был вписать в него имя Пушкина? Почему уже «прощённый» Пушкин до самой смерти оставался под надзором полиции, должен был просить у Бенкендорфа разрешение на каждую отлучку из столицы? А унесённая в могилу обоими поэтами, Пушкиным и Рылеевым, тайна их взаимоотношений накануне восстания? Вопросы, вопросы… Множество вопросов. Даже неполные ответы на них убеждают: было, бесспорно, было и участие молодого Пушкина в тайных сходках Южного общества декабристов, и его сопричастность к их идеям, планам, программе. И его готовность вместе с ними выйти на баррикады. Но до справедливого приговора о роли Поэта в заговоре декабристов ещё далеко.
Проблема не только в том, что досконально не изучены (хотя и опубликованы в десятках томах) документы декабристского движения. Н. Эйдельман в своём добросовестном исследовании «Пушкин и декабристы» предупреждает, что не претендует на полный охват огромной проблемы — материалов так много, проблемы столь многообразны и расчленены! Тема оказалась не под силу даже исследователю такого невероятного масштаба, как Эйдельман. Главная беда пушкинистики — безмерного Поэта постоянно пытаются вместить в прокрустово ложе, сооружённое ему ещё при жизни. Одни укорачивают его, другие — растягивают. Одним необходимо было во что бы то ни стало отделить Поэта от бунтовщиков, другим же, наоборот, сделать из него революционера, борца за народное счастье. А он был и тем, и другим, и третьим… Вольнодумцем и дуэлянтом, свободолюбцем и картёжником, циником и влюблённым до потери сознания, антиклерикалом и убеждённым верующим, монархомахом и монархистом, декабристом до кровопролития на Сенатской площади и противником всякого насилия — после. И всё это в одном человеке. Не из-за отсутствия убеждений, а оттого что убеждения эти мужали, зрели и видоизменялись. «Дурак, кто не меняется», — говаривал Пушкин. Семён Франк эту уживчивость крайностей в Поэте считал проявлением истинно русской широкой натуры, в которой едва ли не до самого конца жизни сочетается буйность, разгул, неистовство с умудрённостью и просветлённостью.[44]Спорить о том, был или не был Пушкин членом декабристской организации, бессмысленно. Он был декабристом по мировоззрению — декабристом без декабря. Членство в обществе было так засекречено, что многие декабристы узнали имена своих сотоварищей уже в Петропавловской крепости после начала над ними следствия или же в день вынесения им приговора. Почти никто не догадывался, например, о принадлежности к движению Пущина. А ведь он в последний год входил в его руководство. С. П. Трубецкой в своих Записках писал: …10-го числа (он ошибся в дате — это было 12 июля 1826 г. — С. Б.) пришли за мной рано поутру и повели меня в комендантский дом. Я нашёл его наполненным часовыми, а в комнате, в которую меня ввели, Артамона Муравьёва и князя Барятинского. Я удивился, увидя себя в их обществе, ибо полагал, что ничего не имею с ними общего; за мной вслед вошли два брата Борисовых, которых я ни лиц, ни имён, ни участия не знал…[45] (Выдел. мною. — С. Б.) Возможно, когда-нибудь будут найдены документы, подтверждающие принадлежность Пушкина к Обществу декабристов. Уже и сейчас знаем, что Поэт не разделял полностью их убеждений, что не был радикалом. Но при этом был противником абсолютизма. И одновременно не одобрял свержения монархии. Он был за конституционное ограничение самодержавия, за отмену крепостного права, за предоставление земли крестьянам. Превыше всего ценил свободу личности. Но был далёк от иллюзии о воцарении всеобщего братства и равноправия. Интуицией гения он понимал утопичность этих идей в обозримом будущем. История подтвердила правоту Поэта. Несвоевременным оказалось не только декабристское восстание. Преждевременной была для России и совершённая почти сто лет спустя Октябрьская революция.
Раздумья в тиши Михайловского о судьбе России и о своей роли в ней породили желание Поэта вполне и искренне примириться с правительством. В этом он признался в письме к Дельвигу в начале 1826 г. Дельвиг и другие друзья Пушкина (Жуковский, Вяземский) одобрили его намерение. Пушкин пишет прошение на имя императора Николая. По совету друзей отправляет его через псковского губернатора барона фон Адеркаса. Этот факт старательно обходили биографы Поэта. Привожу содержание прошения, опубликованного в книге Н. К. Шильдера «Император Николай Первый. Его жизнь и царствование».
В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был исключён из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором.
Ныне с надеждой на великодушие вашего императорского величества, с истинным раскаянием и твёрдым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку (в чём и готов обязаться подпиской и честным словом), решился я прибегнуть к вашему императорскому величеству со всеподданнейшею моею просьбою.
Здоровье моё, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чём и предоставляю свидетельство медиков; осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края.
Всемилостивейший государь,
ваше императорское величество,
верноподданный
Александр Пушкин.К письму было приложено обязательство:
Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать; свидетельствую при сём, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них. 10-го класса Александр Пушкин. 11 мая 1826 года[46].
В дни коронации в Москве Николай I отдал генерал-адъютанту Дибичу письменное распоряжение:
Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину позволяется ехать в своём экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать о сём псковскому гражданскому губернатору.
8 сентября Пушкина привезли в Москву на встречу с императором. Николай даровал ему прощение.
Был ли до конца искренен Пушкин в своём послании царю? Думаю, нет. Ведь на вопрос царя: «Что бы ты сделал, если бы был 14 декабря в Петербурге?» — честно ответил: «Стал бы в ряды мятежников».
Прошение было хорошо продуманным дипломатическим ходом. Своего рода игрой в кошки-мышки. Где вполне честное признание — впредь ни к каким тайным обществам… не принадлежать — тут же опровергается: ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал. Попробуй докажи! Следствие над декабристами к этому времени закончилось. И если до сих пор Поэта не арестовали, значит, товарищи не выдали. Не хитрость, не расчёт и даже не раскаяние, а трезвая оценка случившегося и не менее трезвый взгляд на своё дальнейшее бытие. Этому предшествовали глубокие раздумья о событиях, своём поведении. А подтолкнула безумная жажда свободы. Без которой не было для него жизни.
Хорошо ли быть масоном?
Гений созревает подобно скороспелому фрукту. Юношеское увлечение Пушкина масонством отвечало духу времени — им увлекалась вся передовая Россия. И даже Александр I. В начале своего царствования он легализовал запрещённые Павлом I масонские ложи. Молод-зелен был, вскормлен вольтерьянством. Не ведал, какие плоды созреют от пышного процветания тайных обществ в отечестве. Спохватился, когда в России запахло революцией. И ещё до восстания пытался запретить их. Разрешил, поощрял — запретил, искоренял. Самодурствовал: «Я тебя породил, я тебя и убью!» Но не так просто было искоренить то, что глубоко пустило корни в различные слои общества. Пушкин порвал с масонством ещё до поражения восстания. По крайней мере, так уверял друзей в письмах того времени. Не для усыпления ли бдительности надзирателей? Некоторые загадочные обстоятельства вызывают сомнения в искренности этих признаний. Пушкин стал осторожничать. Я ещё вернусь к этим почти неизвестным преддекабрьским событиям в жизни Поэта. История его творчества и жизни доказывает обратное — метафизичность Поэта углублялась с годами. Увлечение масонством для Поэта было этапом формирования его мировоззрения. Знакомство с тайным учением масонов о мироздании, Боге, вселенной обострило его интуицию, почти стёрло для него границу между реальным и сюрреальным, углубило прозрение в иррациональный мир. На первый взгляд всё это кажется таким нелепым в отношении к Пушкину. Но только на первый взгляд…
Позволю экскурс от Пушкина к современности. К одному удивительному её явлению, которое называется «Фантастические игры», — недавно изданной в Болгарии (посмертно!) книге доктора философии проф. Недялки Миховой. Её рассказы трудно назвать научной фантастикой, это философические прозрения в мир, условно именуемый нами сюрреалистическим. Но для Миховой — это сфера будущего. И она создаёт модели поведения его обитателей. Мы можем экспериментировать, например, с миром, где нет причинных связей или же есть симметричная обратимость причинно-следственных связей, с миром без случайностей или без необходимости, абсолютно линейным миром…[47] — в этой мысли суть её дерзкого философического «эксперимента» — проникновения в ноумен, в непознаваемую, по Канту, сущность — «вещь в себе». В ту сферу, откуда получают информацию — о себе, о других, о прошлом, о будущем — люди, наделённые сверхсенситивной способностью. Их называют пророками, ясновидящими. Или, если хотите, предвестниками грядущего, в котором этой способностью будет наделён каждый.
Пушкин обладал этим даром. Первым о нём заговорил Александр Фейнберг в вышедшей (тоже посмертно!) книге «Заметки о „Медном всаднике“». Его безвременный, в христовом возрасте, уход из жизни словно расплата за дерзость проникновения за границы «дозволенного»! Впрочем, при всей абсурдности этого предположения, в нём есть своя логика! Другие догадывались о метафизичности произведений Пушкина, а Фейнберг взялся её исследовать и открыл дверцу в неизведанный, нерасшифрованный мир Поэта.
Один из видов счастья — встреча (пусть даже заочная!) с единомышленником! Особенно с таким, кто подкрепляет твои собственные, абсурдные для других умозаключения. Так нередко бывает — разные, не знакомые между собой люди независимо друг от друга в одно и то же время получают одинаковое озарение. Но ведь идеи в самом деле витают в воздухе. Через какие-то невидимые каналы они просачиваются к нам из мира «вещей в себе», следуя той симметричной обратимости причинно-следственных связей, о которой говорила Михова. Сверхинтуитивность позволяет улавливать эти незримые образы. Фейнберг доказывал: Пушкин далеко шагнул в XX век! Когда он писал об этом, до конца нашего века оставалось полтора десятка лет. Учитывая нарастающее ускорение времени, можно было надеяться, что человечество сумеет переступить границу в метафизический мир. Мы на его пороге. На заре века Циолковский предрёк — это осуществится к средине XXI столетия. Странная мысль Циолковского не даёт покоя: человечество лишь тогда вырвется за пределы доступного космоса, когда научится отделять душу от тела! Придётся поправить Фейнберга — Поэт шагнул в XXI век! Гении на десятки лет опережают время. Словно приходят к нам из будущего. Человечество долго дозревает до понимания их идей.
Увлечение масонством, бесспорно, помогло Пушкину овладеть и секретами каббалы. Фейнберг расшифровал символику «Евгения Онегина». В пророческом сне Татьяны, по его мнению, представлено будущее героев, которое воспроизведено автором в обратном порядке. Пушкин иносказательно раскрывал перед читателем своё знание: жизнь наша и её кодированные образы — сновидения — зеркальная симметрия космического плана, предварительно запрограммированного и записанного «в книге наших судеб». Проникнуть в сюрреализм Поэта невозможно без определённых эзотерических знаний. Через их призму следует попытаться заново прочесть Пушкина. И как на посводивших с ума весь мир стереокартинках «Магическое око», перед изумлённым читателем вдруг объёмно «проявится» невидимый доселе зазеркальный мир Пушкина.
Убеждена, изучение влияния масонства на мировоззрение Пушкина откроет новый раздел в его творчестве — космогония Поэта. Мысль о бесспорной роли масонов в мировых катаклизмах не нова. Но истина о масонстве значительно глубже и серьёзнее. Настолько серьёзнее, что мы можем только иронично улыбаться — по своему невежеству — утверждению о том, что и Иисус был масоном (об этом — в серьёзном исследовании Мэнли Холла об эзотерической философии).[48] Но это уже другая тема — для других книг, для других исследований…
Конечно, надо иметь мужество серьёзно взяться за тему «Пушкин и русское масонство». Время как будто уже не мешает этому. В январе 1995 г. в Москве сделана первая попытка: проблема была включена в тему научной конференции, организованной Научным советом Российской академии наук по истории мировой культуры и Государственным музеем Пушкина. В списке докладов — сообщение японского исследователя Кэйдзи Касама «Пушкин и русское масонство» (нашёлся-таки смельчак, хотя опять из иностранцев!). Спрашиваю учёного секретаря музея Пушкина о сути выступления Касамы. Ответ: стенограмму не вели. Неужели все 45 подготовленных к симпозиуму интересных пушкинских тем (судить могу только по заголовкам) оказались бабочками-однодневками? Очередным «мероприятием» к юбилею поэта?! Стенограмму докладов не получила, но зато снабдилась важной информацией: в дни конференции вход в музей со стороны Хрущёвского переулка осаждали толпы националистов. Они услышали звон, не зная, о чём он. Масон — сон — мезон — зон — звенящее слово. Оно всколыхнуло чёрную муть со дна мрачных черносотенных душ. Чернели лозунги, дробились крики: «Бей жидо-масонов!» Разве я не права, утверждая: нужно быть смельчаком, чтоб взяться в России за эту тему! Нет, плохо быть на Руси масоном…
Но вернёмся к зайчикам, попам и прочим дурным приметам. Конечно же, не страх перед ними остановил Пушкина на пути к Сенатской площади. Предчувствие, его гениальная Интуиция, та, полученная свыше и не сразу расшифрованная им, информация-озарение о провале дела, о бессмысленности поездки вернули Поэта обратно.
Это и есть ответ на вопрос: почему Поэт отказался от намерения ехать в столицу? Дошедшие до Михайловского слухи о петербургских беспорядках, о стрельбе на Сенатской площади взбудоражили истомившегося в ссылке Поэта. 15-го утром[49] он выехал в Петербург. Заметьте, остановиться намеревался у Рылеева. А к кому ещё было ехать? Во-первых, предполагал, что у чуждого светской жизни товарища его нелегальный приезд в столицу останется незамеченным! А во-вторых… Но об этом чуть позже. Оно связано с другим, не менее важным вопросом: зачем он собирался туда? Мальчишество? Безрассудство пылкого юноши? Пушкин — непоседа, странник, салонный волокита, любитель «мальчишников» с беседами, спорами, пирушками, картами — тяжело переносил вынужденное михайловское затворничество. Оно остепенило его, изменило его характер. Категория взросления связана с желанием обзавестись семьёй. После ссылки Пушкин принялся подыскивать себе жену. Безрассудство вообще не было свойством Поэта. Но о закрытом кладе его правильных суждений и благородных помыслов (слова Вигеля) знали не многие из его современников.
Предлагаю поискать разгадку этого «во-вторых» в истории взаимоотношений Пушкина и Рылеева в последний, преддекабрьский год. Пущин — близкий из ближайших и одному и другому — в 1858 году, через тридцать с лишним лет после событий, признался: отношения двух поэтов для него как в тумане. Не в этой ли фразе искомый ключик к тайне — Пушкин и декабристы? Известно, что в 1818 году офицер Рылеев вышел в отставку — для нынешней службы нужны подлецы — и вскоре приехал в Петербург. Стал печататься в столичных журналах, и прежде всего в «Благонамеренном». Сблизился со многими петербургскими писателями. Познакомился и с Пушкиным. А потом между ними что-то произошло. И Пушкин вызвал его на дуэль. Стрелялись ли они или поединок был предотвращён — пока неизвестно. Вероятно, он относится к числу неустановленных дуэлей 1820 года. Но расстались они примирёнными.
Письмо Пушкина к А. А. Бестужеву из Кишинёва от 21 июня 1822 г. говорит об этом: С живейшим удовольствием увидел я в письме вашем несколько строк К. Ф. Рылеева, они порука мне в его дружестве и воспоминании. Обнимите его за меня, любезный Александр Александрович…[50] (Подч. мной. — С. Б.)
Рылеев начал с тяжеловесных стихов — в ту пору был скорее рифмующим свои мысли философом, чем поэтом. Но истинную поэзию чувствовал тонко, а из поэтов превыше других ставил Пушкина. Именно ему в 1824 году пересылает для отзыва свою поэму «Войнаровский». Рукопись попала к Пушкину через адьютанта H. Н. Раевского П. А. Муханова. Из Киева доверенными лицами, а может, самим Мухановым[51] она была привезена в Одессу. «Войнаровский», твой почтенный дитятко, пожаловал к нам в гости; мы его приняли весьма гостеприимно, любовались им, он побывал у всех городских любителей стихов и съездил в Одессу (подч. мною. — С. Б.). «Войнаровский» твой отлично хорош, я читал его М. Орлову (в Киеве), который им любовался; Пушкин тоже… Не выдавай секрета: жду из Одессы решительного ответа по сей почте, — Муханов — Рылееву (13 апреля 1824 г.).
Но ещё ранее в письме к А. А. Бестужеву из Одессы от 12 января 1824 г. Пушкин похвалил поэму Рылеева: «Войнаровский» несравненно лучше всех его «Дум», слог его возмужал и становится истинно повествовательным, чего у нас ещё почти нет[52]. В воспоминаниях о Рылееве Бестужев рассказывает об этом данном Пушкину «для мнения» экземпляре. Пушкину особенно понравилась строчка о палаче — Вот засучил он рукава. И на полях рукописи сделал пометку: Продай мне этот стих![53]
В последний до восстания год Рылеев стал фактическим руководителем тайного общества и проводил жизнь, по свидетельству его друга и соратника Николая Бестужева, в бесконечных разъездах по России: он обязан был многих посещать, совещаться со многими членами, чаще всего тайно. Поэт знал об этом. Кто поведал ему это тайное тайных? Конечно же, не Пущин в тот его краткий визит в Михайловское в январе 1825 года, когда они оба фактически играли в прятки: Пущин полупризнался, что он член тайного общества, добавив — не я один, есть и другие наши общие друзья. Пушкин бурно реагировал и тут же, спохватившись, смиренно заметил: Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Видно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям.
А между тем вскоре после этой встречи завязывается оживлённая «литературная» переписка Пушкина с Рылеевым и Бестужевым. В одном из писем этого периода Рылеев сообщает ему: Мы с Бестужевым намереваемся летом проведать тебя: будет ли это к стати? (Подч. мною. — С. Б.) Приезжали ли они к Пушкину? Если приезжали, то, конечно же, тайком. Мы пока ничего не знаем об этом. Но почему такое неожиданное доверие обоих декабристских вождей к Поэту? Не потому ли, что во время этой встречи они «посвятили» Поэта в декабристы? Об этом догадывался Эйдельман: Его позиция в отношении тайных обществ значительно богаче того образа «виноватого мальчика», который отчасти присутствует в этом месте пущинских «Записок»…[54] Вчитайтесь ещё раз в строки последнего рылеевского ноябрьского письма Пушкину: Будь Поэтом и Гражданином, — мы опять собираем «Полярную звезду». Она будет последняя; так, по крайней мере, мы решили. Желаем распроститься с публикой хорошо и просим тебя поддержать нас чем-нибудь, подобным твоему последнему нам подарку[55]. (Подч. мною. — С. Б.)
Последняя… распростились с публикой… — не доказывает ли эта откровенность, что Пушкин был посвящён в секретные планы подготовки восстания, знал о его предполагаемых сроках? И имел от Рылеева обещание быть извещённым о его точной дате?
В связи с этим неожиданно получает объяснение и странное с точки зрения приличий намерение Пушкина (они же не были близкими друзьями) остановиться на постой у Рылеева. Влекло его туда не только достаточно надёжное убежище, как утверждал позднее Соболевский. Да и само-то убежище оказалось совсем ненадёжным — вечером 14 декабря жандармы нагрянули к Рылееву с обыском! Давайте предположим: намерение Пушкина вызвано тем, что только Рылеев да Бестужев знали о его причастности к движению.
Но подтвердить всё это мог бы только сам Рылеев. С того света…
Задача с тремя неизвестными: Павел Пущин, Филимонов, Бронницы
Уговорённая с Рылеевым летняя встреча могла состояться в любом условленном месте. Но менее всего в Михайловском, где Поэт жил под надзором. Помните, не успел приехать к нему Пущин, как тут же заявился соглядатай — настоятель Святогорского монастыря? Оказалось, ему донесли не только о приезде гостя, но даже сообщили его фамилию (монах объяснил неожиданное своё появление тем, что, дескать, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолукского, которого давно не видал). Возможно, Рылеев прибыл на встречу местных членов тайного общества. А созвал её, скажем, тот самый Павел Сергеевич Пущин, за которым тоже следил святогорский батюшка, — опальный генерал, бывший руководитель кишинёвской масонской ложи «Овидий». По какому-то странному стечению обстоятельств проживал он неподалёку от Михайловского — в деревне Жадрицы Новоржевского уезда Псковской губернии. Его имя — в «Алфавите декабристов», но аресту он не подвергался. Известно, что он был членом кишинёвской ячейки южной управы Союза благоденствия. Причиной его вынужденной отставки было закрытие ложи и подозрение в связях с заговорщиками.
В Одессе Пушкин посещал дом Ксении Михайловны Соколовой, дочери херсонского предводителя дворянства М. М. Кирьякова. Соколова оставила воспоминания о Пушкине. По её словам, в михайловской ссылке Поэт часто навещал П. С. Пущина в Жадрицах. Что их связывало в этот период? Только ли соседские отношения, разнообразящие скуку сельской жизни? Генерал в отличие от Пушкина располагал свободой передвижения, время от времени ездил в Петербург. Кстати, петербургской хроникой отмечен его приезд в столицу между 6 и 9 июнем 1826 г. — в эти дни завершался суд над декабристами. Если это совпадение неслучайно, оно даёт повод для такого несколько неожиданного заключения: он вполне мог быть связным между Северным отделением Союза благоденствия и тайными его членами в Псковской и Новгородской губерниях, между Рылеевым и Поэтом. Конечно, это всего лишь предположение. Выяснением подробностей их взаимоотношений отнюдь не стоит пренебрегать — нередко обнаруженный конец нити неожиданно помогает размотать запутанный клубок. Может, Павел Сергеевич Пущин и окажется той фигурой, которая единой нитью свяжет воедино несколько неясных эпизодов биографии Поэта преддекабрьского периода.
Одним из них и является загадочная поездка Поэта в Бронницы Новгородской губернии — в 354 верстах от вотчины Пушкиных. В те самые Бронницы, куда неизвестно зачем в декабре 1824 г. будто бы ездил Пушкин. Впрочем, не ясно, на основе каких фактов определил Цявловский время этой поездки — декабрь 1824 г. Более убедительно другое предположение — Пушкин по дороге из Одессы в Михайловское завернул в Бронницы Калужской губернии, в пятидесяти километрах от Москвы. А значит, это было не в декабре, а в первой половине сентября 1824 г. Пушкинистика располагает пока единственным документом о пребывании поэта в Бронницах — письмом «некоего Филимонова» (выражение Цявловского) к сестре от 15 сентября 1825 г.: …я не только знаю наизусть все сочинения его, но даже познакомился с ним самим прошлого года, когда он проезжал через Бронницы в Петербург. Он знаком с нашим Дороховым и пробыл у нас целый день и доказал, что он так же мил в обществе, как нравится по стихам своим.[56] Позднее Цявловский предположил, что «некоего» звали Николаем Ивановичем. Имя поручика Н. И. Филимонова пушкинист обнаружил в списках Драгунского полка, шефом которого являлся брат великой княгини Александры Фёдоровны — принц Вильгельм Прусский. А. А. Васильчиков в книге «Семейство Разумовских» упоминал, что принц был шефом Калужского полка. О том же пишет В. П. Старк в книге «Портреты и лица». Во время приезда Вильгельма в Россию в 1817 г. в Калужской губернии, где находился полк, в честь принца состоялся военный парад.
Не берусь утверждать, что в 1824 г. полк по-прежнему квартировал там же. Но нет доказательств, что именно поручик Николай Филимонов был автором цитированного письма. Упоминание о нашем Дорохове, с которым знаком Пушкин, ещё ни о чём не говорит. Среди приятелей Поэта по петербургскому периоду жизни (1819—1820) был Руфин Иванович Дорохов, прапорщик Учебного карабинерного полка, за «буйство» и дуэль разжалованный в 1820 г. в солдаты. О переписке между Пушкиным и Дороховым доносил в 1827 г. попечителю университета А. А. Перовскому ректор Харьковского университета И. Я. Кронеберг. С 1828 по 1833 год Дорохов числился в Нижегородском драгунском полку на кавказском фронте. За храбрость в 1829 г. был вновь произведён в прапорщики. О встрече с ним на Кавказе Пушкин упоминает в «Путешествии в Арзрум». Поэт находил в нём тьму грации и много прелести в его товариществе (по словам брата декабриста М. И. Пущина). Факт его службы в 1824 г. в Драгунском полку не доказан, а следовательно, и предположение Цявловского о посещении Пушкиным в Бронницах офицеров Н. И. Филимонова и Дорохова повисает в воздухе.
Существовал другой Филимонов — Владимир Сергеевич, поэт, переводчик, литератор. Нахожу его более подходящей фигурой для вышеупомянутого эпизода. В то время он проживал в Москве или, может быть, в своём имении в Бронницах. Филимонов был выпускником Московского университета, чиновником в коллегии иностранных дел, новгородским вице-губернатором с 1817 по 1822 год. После отставки поселился в Москве. В январе 1825 г. переехал в Петербург, где оставался до 1829 г. Здесь Владимир Сергеевич стал издавать журнал «Бабочка. Дневник новостей, относящихся до просвещения и общежития». Пушкин иронично относился к его сочинительству: Каков Филимонов в своём Инвалидном объявлении. Милый, теперь одни глупости могут ещё развлечь и рассмешить меня. Слава же Филимонову![57]Пушкина привела в восторг одна напыщенная фраза Филимонова: пока неумолимые парки прядут ещё нить жизни. Как пример литературного курьёза Поэт процитировал её два года спустя в своей заметке «Если звание любителя отечественной литературы…».
Незадачливый литератор был весьма плодовитым. Одну из своих поэм, «Дурацкий колпак», посвятил Пушкину и был увековечен Поэтом в ответном послании «Вам, музы, милые старушки, колпак связали в добрый час». Выход в свет поэмы Филимонов отпраздновал весёлой дружеской пирушкой. На ней присутствовали известные литераторы. О чём сообщал Вяземский жене в письме от 17 апреля 1829 г.: Недавно, после пьяной ночи у Филимонова с Пушкиным, Жуковским, Перовским, на которой смеялся я как во время оно…
В 1829 году Филимонов получил назначение на пост архангельского губернатора. Оттуда в июле 1831 года по личному приказу царя его в кандалах привезли в Петропавловскую крепость. Под маской балагура, весельчака, острослова скрывался тайный конспиратор, случайно избегнувший ареста в 1825 году. При обыске в его бумагах нашли письма декабриста В. И. Штейнгеля Николаю I, тетрадь с выписками из проекта конституции М. Н. Муравьёва, 65 заметок о государственном управлении, а также адресованные ему письма декабристов Г. С. Батенькова и А. Н. Муравьёва. Припомнили его приятельство с декабристом Бестужевым, сотрудничество Филимонова в «Полярной звезде»[58].
Причиной ареста архангельского губернатора явился донос студента Ивана Поллонина о его связях с тайной студенческой организацией в Московском университете. Архангельский губернатор, утверждал доносчик, просил прислать к нему на служблу кого-нибудь из её членов и обещал студентам в случае провала организовать побег за границу — из Архангельска это сделать просто. Следствие не подтвердило обвинений Поллонина. Вожаки студенческой тайной организации Сунгуров и Гуров отрицали причастность к ним Филимонова. Губернатор был оправдан, но от государственной службы отстранён. После четырёхмесячного заточения выслан в Нарву под надзор полиции. Ему было запрещено жить в обеих столицах. В 1836 году разрешили поселиться в Москве, но Петербург оставался закрытым для него до самой смерти. Вот каков он, Филимонов, автор развеселившей Пушкина строки. Возможно, с ним и познакомился Поэт в Бронницах. Пока неумолимые парки ещё пряли нить его жизни, он балагурил, веселился, витийствовал. И никто не догадывался, что за этой маской прятался бунтарь.
Погибельное счастье
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!
А. Пушкин. «Элегия». Болдино, 8 сентября 1830 г.Предчувствие всегда играло важную роль в жизни Поэта. Как уже упоминалось, полученное в последний момент озарение свыше заставило Пушкина изменить решение присоединиться к участникам восстания. Его гениальная интуиция не подвела — ехать в Петербург было бессмысленно и поздно…
Зыбка грань между предчувствием и ясновидением. Ясновидение дар от Бога. Хотя парапсихологи утверждают, что с помощью тренировок его будто бы можно развить. Но у людей интуитивных иногда бывают озарения. Близкие Пушкину люди запомнили несколько удивительных случаев таких пророческих предвидений.
Однажды в Царском Селе у Жуковского собрались друзья. В этот день наследник престола (воспитателем которого был Жуковский) прислал ему в подарок свой скульптурный портрет. Гости поочерёдно осматривали мраморный бюст, толковали о его художественных достоинствах, затем перешли к чаепитию и другим темам. Пушкин нервно шагал по залу. Снова подошёл к изваянию, впился взглядом в лицо Александра Николаевича, потом в ужасе закрыл руками лицо и хрипловатым голосом изрёк: «Какое чудное, любящее сердце! Какие благородные стремления! Вижу славное царствование, великие дела и — Боже! — какой ужасный конец! По колени в крови!» Друзья восприняли это зловещее пророчество как очередную шутку Поэта. Разве можно было предполагать, что лет через сорок оно сбудется.
Об этом и ещё одном предсказании рассказала дочери Александре Ланской-Араповой сама Наталья Николаевна. Как-то вечером она сидела в зале за шитьём. Пушкин весь день был подавлен, работа не клеилась. Ехать никуда не хотелось. Он бесцельно бродил по комнате. Вдруг остановился перед зеркалом и стал напряжённо что-то в нём разглядывать и затем изрёк странным голосом: «Я ясно вижу тебя и рядом — так близко! — стоит мужчина, военный… Но не он, не он! Этого я не знаю, никогда не встречал. Средних лет, генерал, темноволосый, черты неправильны, но недурён, стройный, в светской форме. С какой любовью он на тебя глядит!»
Когда через восемь лет Наталья Николаевна получила от Петра Петровича Ланского предложение о женитьбе, она вспомнила позабытое странное видение Пушкина.[59]
И ещё одно предчувствие Поэта. О нём вспоминал его племянник Лев Павлищев. Летом 1836 года он с матерью Ольгой Сергеевной уезжал к отцу в Варшаву. Расставание было, как никогда, тяжёлым. Пушкин, заливаясь слезами, сказал сестре: «Едва ли увидимся когда-нибудь на этом свете; а впрочем, жизнь мне надоела! Тоска, тоска!.. чувствую: недолго мне на земле шататься»[60]. Их встреча действительно оказалась последней.
Лишь наделённый столь необычайной интуицией человек может серьёзно относиться и к предсказаниям других. Не пустое это суеверие, — сказал он как-то в своё оправдание сестре Ольге. — Я держусь латинского афоризма: post hoc, ergo propter hoc![61]
Цыганка, a потом и немка предрекли ему, что он умрёт через жену. От Weiskopf — белой головы, уточнила иностранная провидица. Он знал это, с самого начала своего погибельного счастья (а внешние знаки Провидения — упавшее во время венчания в церкви обручальное кольцо, загасшая свеча — усугубляли уверенность), знал и как-то бесшабашно шёл к этому концу. Участь моего существования должна решать судьба; я не хочу в это вмешиваться, — Пушкин — А. П. Керн. Но это только внешняя видимость бесшабашности. В душе же Поэта с того момента началась драма.
6 мая 1830 года наконец-то состоялась помолвка Пушкина с H. Н. И он стал бредить о счастии. И параллельно с мечтой о нём и страхом перед ним (потому что обретение счастья для него, максималиста, означало рай — и знала рай в объятиях моих, — а потеря его равносильна грехопадению) в личности и творчестве поэта начался катарсис. Отголоски происходившего в его душе — в стихах, письмах, в автобиографической прозе, но прежде всего — в теме произведений того времени. Грех и через Страдание и Раскаяние — Очищение (пушкинское: не согрешишь — не покаешься — не причастишься); Грех и Возмездие, когда степень порока чрезмерна. Пушкин дважды в жизни перенёс этот потрясающий до основ катарсис. Первый — после обручения с Натали. О втором — пойдёт речь дальше.
Когда я увидел её в первый раз, красоту её едва начинали замечать в свете. Я полюбил её, голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ, при всей его неопределённости, на мгновение свёл меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию; вы спросите меня — зачем? клянусь вам не знаю, но какая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы; я бы не мог там вынести ни вашего, ни её присутствия. Я вам писал, надеялся, ждал ответа — он не приходил. Заблуждения моей ранней молодости представились моему воображению; они были слишком тяжки и сами по себе, а клевета их ещё усилила, — писал Пушкин покаянное письмо будущей тёще 5 апреля 1830 г.[62]. Вдумайтесь: закружилась голова… на мгновение свёл меня с ума… непроизвольная тоска гнала, — что это? Разве не голос предчувствия? Не предостережение? Не знаки Провидения, открывающего дверцу к отступлению, — не обрекающего, а предоставляющего право на свободный выбор. Он чувствовал, предвидел, знал всё наперёд и всё-таки не отступил, а выбрав пагубное счастье, обрёк себя!
Натан Эйдельман, по-моему, ближе других прикоснувшийся к личности Поэта, рекомендовал: «В сложных случаях полезно посоветоваться с Пушкиным… если за Пушкиным пойти — то есть последовать за его мыслью, поиском, — тогда обязательно откроются новые факты, материалы, образы».[63] Осенью, знаменитой плодотворной (заряженной энергетикой любви) Болдинской осенью 1830 года, он неожиданно возвращается к сюжету задуманной в молодости автобиографической повести «Выстрел». Почему за несколько месяцев до собственной свадьбы тема смерти занимает его мысли? Герой повести Сильвио, прежде чем сделать ответный выстрел, размышляет: — Что пользы мне, подумал я, лишать его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? …Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой?[64] Вот ключ к той поры душевному состоянию самого Пушкина: он полюбил так, как, ему казалось, ещё никогда не любил (совсем естественное ощущение каждой новой любви или её иллюзии), ждал свадьбы с любимой женщиной, но чёрная тень двойного предсказания о гибели через неё омрачала безоблачность счастья, рождала страх: он боится не смерти, а обретения и потери неземного счастья.
Вслед за «Выстрелом» в конце октября — «Моцарт и Сальери». Ещё через десять дней, в начале ноября, Пушкин закончил новую пьесу, «Каменный гость», а два дня спустя — перевод поэмы Джона Вильсона «Пир во время чумы».
Вьётся, вьётся чёрной змеёй из сочинения в сочинение гнетущая мысль о грехе, раскаянии и невозможности прощения. Шёл освежительный катарсис…
Прилежно в памяти храня / Измен печальные преданья… / Кляну коварные старанья / Преступной юности моей… (Неопубликованное при жизни Поэта стихотворение «Когда в объятия мои…».)
Где я? Святое чадо света! Вижу I Тебя я там, куда мой падший дух / Не досягнет уже… («Пир во время чумы».)
Мне день и ночь покоя не даёт / Мой чёрный человек. За мною всюду / Как тень он гонится… («Моцарт и Сальери»).
Донна Анна: И любите давно уж вы меня?
Дон Гуан: Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену / Мгновенной жизни, только с той поры / И понял я, что значит слово счастье («Каменный гость»).
«Каменный гость» для Пушкина был глубоко личным произведением — идея Возмездия в нём — переплетение литературной темы и собственной судьбы Поэта. Вот почему эту трагедию он так и не решился опубликовать при жизни.
Кольцо-оберег
Итак, гениальная интуиция руководила поэтом во всех его жизненных поступках, а дурные приметы, которых он остерегался, — это лишь земные знаки, символы, иероглифы посланий Провидения. Древние люди с помощью талисманов, камней, заклинаний умели защищать себя от превратностей судьбы. Мы забыли эти знания, и любое их проявление называем суеверием. Среди камней-оберегов бирюза поистине чудотворный камень. В её необычных свойствах убедилась на собственном примере. Ношу её, почти не снимая. Она необычайно красива — бездонно сине-голубая, отвечает моему зодиаку и ещё одним свойством обладает — лучше любого медицинского анализа «сигнализирует» о сбоях в работе организма: темнеет, становится почти чёрной, если нарушение в кровообращении, приобретает ядовито-зелёный оттенок, когда не срабатывает печень, желчегонные органы. Одним словом, заболевает вместе с вами.
Широко известны магические свойства бирюзы, — читаю в книге А. К. Бурцева и Т. В. Гуськовой «Драгоценные камни». — Ей свойственно умирать перед опасностью и в руках безнадёжно больного человека. Она временно теряет блеск перед непогодой. Это необыкновенно счастливый камень, главное свойство бирюзы — примирять всё враждебное, прекращать ссоры, устанавливать мир в семье, отводить гнев сильных мира сего. Она обещает достаток добрым людям. Носимая на шее, останавливает кровотечение, облегчает больных желтухой. У этого камня есть и одно роковое свойство: принося счастье людям, соблюдающим нравственные заповеди, она враг для тех, кто их нарушает. Особенно враждебна бирюза к злобным и злоречивым натурам…[65]
Пушкинское кольцо с бирюзой — не очередная байка о фатализме поэта, а прежде всего лежавшее на поверхности свидетельство… самоубийства поэта. Мнение о том, что Пушкин сознательно искал смерти, — не ново в пушкинистике. Какое-то роковое предопределение стремило Пушкина к погибели, — писал 9 февраля 1837 г. П. А. Вяземский А. Я. Булгакову, московскому почтовому директору. Немало аргументов для подобного утверждения, а вот такой простенький, но весьма весомый факт (если учесть всё выше сказанное) — упущен. Бирюза для Пушкина была особым оберегом от внезапной смерти. Помните его историю? Пушкин приезжает в Москву и видит у Павла Нащокина новое кольцо с бирюзой. Просит заказать ему такое же. Приближается время возвращения в Петербург, а перстень не готов. И что вы думаете? Пушкин решает из-за этого отложить свой отъезд. Хотя в столице ждут спешные дела. Он никогда не расставался с этим оберегом. Но в день дуэли не надел его. Сделал это нарочно? Теперь, через семь лет после женитьбы, перестал бояться смерти. Он устал от жизни — от пагубного счастья, от нерасплетаемого клубка семейных, финансовых проблем, от светских сплетен, травли общества, невозможности в столице целиком отдаться творчеству, а в деревню не пускали обстоятельства… Он устал ждать неминуемого — За мною всюду, как тень, он гонится… Чёрный человек, Командор, Рок. Великая интуиция гениев всегда подсказывала приближение Конца…. И вот, подобно Дон-Гуану, решается бросить вызов — не Дантесу, а Року, Судьбе. Словно самому испытать давно проверенное другими: ЧЕМУ БЫВАТЬ, ТОГО НЕ МИНОВАТЬ. Надежда на авось для самого Пушкина была практически равна нулю. Его спокойствие перед смертью шло от другого — от созданной им самим определённости ситуации и поступков…
Уже на смертном одре, прощаясь с самыми близкими людьми, одаривал каждого какой-нибудь личной вещью. Велел принести шкатулку (значит, знал, где лежит кольцо с бирюзой!), вынул и подарил своему секунданту Данзасу заветный оберег, чтоб оберегал верного товарища от внезапной смерти. Данзас не расставался с кольцом, но как-то раз зимой, когда садился в сани, кольцо соскользнуло с замёрзшей руки в сугроб. Долго и напрасно вместе с извозчиком искал его в снегу…
Но был ещё один перстень с бирюзой. О нём рассказала П. И. Бартеневу близкий друг поэта Вера Вяземская: Раз взял у неё (Александрины. — С. Б.) какой-то перстень с бирюзой, которая, по суеверным толкам, предостерегает от внезапной смерти, носил этот перстень и назад ей отдал… Ещё один пример «суеверия» Поэта. Но какая драма скрывалась за ним — не для Пушкина, а для родной сестры Натальи Николаевны — Александрины. Это сообщение Вяземской открыло дверцу для множества толков, догадок, расследований об отношениях поэта со свояченицей… Припомнили прежние, ещё при его жизни ходившие слухи. Повинна в них отчасти была и сестра поэта Ольга Павлищева. По секрету сообщила Анне Вульф, что братец её сильно волочится за своей невесткой Александриной. Анна тут же (12 февраля 1836 г.) настрочила письмо своей сестре Евпраксии с сенсацией: Пушкин изменяет жене с её сестрой! Женщины из его михайловской романтичной молодости всё ещё чуть-чуть были влюблены в Поэта и живо интересовались его нынешней, семейной, жизнью. Любившая позлословить Софья Карамзина в день дуэли, ещё не зная о ней, пишет брату Андрею в Париж: В воскресенье у Катрин[66] было большое собрание без танцев… Александрина по всем правилам кокетничала с Пушкиным, который серьёзно в неё влюблён, и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству…[67] Расследование Бартенева выявило из небытия и историю о пропаже нательного крестика Ази-Александрины. Она им очень дорожила и всю прислугу на ноги поставила, чтоб его отыскать. Он был случайно обнаружен верным дядькой Никитой, когда перестилал на ночь Пушкину диван. Никому не сказал тогда слуга о находке, молча отдал её Пушкину… Это уже позднее, после его смерти, проболтался. Этот крестик с цепочкой умирающий Поэт возвратил через Вяземскую Александрине. Просил ей самой в руки отдать. Что Вера Фёдоровна и сделала после его смерти. При этом прибавила, должно быть, из чисто женского вероломства: приказывал вручить без свидетелей. Позднее рассказывала Бартеневу, как вспыхнула при этом Александрина, смущённо пробормотала: Не понимаю, отчего это!
Почему Пушкин вернул крест не самой Александрине, а через посредника? В этом факте — глубина разыгравшейся в его семье драмы. И тайна… Ведь прощался же, умирая, со всеми: благословил детей, каждого в отдельности. Непрестанно повторял слова о невинности жены — словно всех убеждал: ему нечего прощать Натали. Простился с друзьями, даже Дантеса простил — когда Данзас упомянул умирающему о нём, сказал: Не мстите за меня! Я всё простил![68] Через Арендта попросил прощения у царя за себя и за своего секунданта Данзаса. И царь ответил собственноручной запиской: …прими моё прощение и совет умереть по-христиански… и прибавил, чтобы не волновался о жене и детях, — я беру их на своё попечение[69]. Но что поразило даже его друга Жуковского — в немыслимых страданиях Пушкин вспомнил о присланном ему утром приглашении на похороны сына «своего врага» Николая Ивановича Греча (ещё одна легенда советского пушкиноведения) и через врача Спасского передал ему поклон и душевное участие в его потере.
Притча о горе и человеке
Странная это была история… Странная и мистичная. Вечером 4 декабря 1836 года. Пушкин по дороге в Английский клуб проезжал по Мойке мимо дома Греча. Его внимание привлекли ярко освещённые окна.
«Должно быть, литературная братия собралась… Греч давно предлагает обсудить „Энциклопедический лексикон“, — подумал Поэт. — Загляну к ним на минутку. Попридержи-ка!» — крикнул он кучеру.
В доме праздновали именины хозяйки Варвары Даниловны. «Ах да, сегодня Варварин день», — вспомнил Пушкин. Поздравил именинницу, выпил за её здоровье шампанского. Гости, в основном родственники хозяев, радовались встрече с Поэтом. Особенно бурно выражал восторг младший сын хозяев Николенька, страстный поклонник поэзии Пушкина. Поэт тоже привечал этого солнечного молодого человека. Ценил его редкую даже для студента образованность, остроумие и особенно — артистичное дарование. Ему нравилось, как Коля декламировал его стихи. «Почитайте нам, дружок, что-нибудь из „Бориса“», — попросил Поэт не отходившего от него Колю. Один из гостей, некто В. П. Бурнашев[70], гвардейский офицер, однокашник Лермонтова, промышлявший и литературными трудами, впоследствии рассказал об этой встрече с Пушкиным. Во время чтения Николеньки Бурнашева поразила мрачная задумчивость Поэта. Она в несколько дней состарила его на несколько лет. Коля умолк, Пушкин стряхнул с себя оцепенение, чересчур восторженно похвалил чтеца за хорошую дикцию и очень верно найденную интонацию. «Из вас выйдет второй Тальма!» — воскликнул он, к неудовольствию степенной Варвары Даниловны. «У этих поэтов всегда такие вычурные идеи! — проворчала она. — Коля серьёзные науки изучает. Не сбивайте его с панталыку! Артист просто неприличная профессия для порядочного человека!»
Пушкин стал прощаться. Николай Иванович вместе с Колей проводил его до прихожей. Лакей подал ему медвежью шубу и меховые сапоги.
— Всё словно лихорадка трясёт, — говорил гость, закутываясь. — Всё как-то холодно везде, всё не могу согреться. А то вдруг в жар бросает. Нездоровится что-то в нашем медвежьем климате. Надо на юг! На юг!
— Ах, Александр Сергеевич, ежели бы мне привелось увидеть вас в цветущих долинах этого юга! — восторженно воскликнул Коленька.
Поэт странно взглянул на юношу, печально улыбнулся и сказал: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся. До свидания, Тальма en herbe!»[71]. Он спустился с крыльца. Коля, раздетый, выбежал за ним вслед и стоял на морозе (а был «Никола с гвоздём» — 20 градусов ниже нуля, как и полагается в Николин день), пока экипаж не тронулся. Воротившись в дом, вместо горячего шоколада, как раз подаваемого гостям, схватил вазочку с мороженым. А потом, подхватив сестру, закружился с ней в вальсе. На другой день слёг в горячке. Провалялся в постели до Нового года. А первого января, ещё не окрепнув, отправился с поздравительными визитами. И снова свалился, чтобы уже не встать. Он умер за три дня до дуэли Пушкина. По иронии судьбы, когда смертельно раненного Поэта везли в карете домой, по Невскому двигалась траурная процессия. Колю Греча отпевали в Петропавловской протестантской церкви — что на Невском проспекте. Собрался весь артистический Петербург: литераторы, артисты, музыканты, художники. Подвела на сей раз примета — Пушкин при виде похорон обычно восклицал: «Слава Богу! Будет удача!»
В церкви Николай Иванович Греч, не видя среди присутствовавших Пушкина, спросил: «Послано ли приглашение Александру Сергеевичу? Он так любил Колю моего…» — «Как же, утром отправили с курьером! — ответил Юханцев, сослуживец старшего сына Греча. — Но слуги сказали ему, что барин их в эти дни словно в расстройстве: то приедет, то уедет, загонял нескольких извозчиков. А останется дома, начинает свистеть без умолку, бегает по комнатам, кусает ногти…» — «Верно пишет новую поэму», — заметил Греч. Из-за болезни сына он весь январь не выезжал из дому и не принимал — и был не в курсе драматических событий в семье Пушкина. В это время какой-то человек из толпы громко сообщил: «Пушкина смертельно ранили на дуэли!»
Послышались возмущённые голоса: «Кто посмел поднять руку на поэта? Верно, не русский человек?!» — «Француз, полотёр в аристократии!» — сказал кто-то. А Греч скорбно воскликнул: Велика, ужасна моя потеря, но потеря Пушкина Россиею ни с какой частной горестью не может быть сравнена. Это несчастие нашей литературы! Мог ли произнести такие слова «враг» Пушкина? Да ещё в столь горестный час, когда человека трудно заподозрить в фальши?! И он тихо добавил: Коленька, умирая, сказал: «Передай Александру Сергеевичу, что Богу не угодно было послать меня на театральную сцену… Я ухожу не в театральную, а настоящую жизнь!»
Они оба, Поэт и Николенька Греч, почти одновременно ушли из лицедейской, земной жизни в ту, иную, настоящую, где их души встретились неожиданно скоро после странных пророческих слов Пушкина — о горе и человеке. Земли полуденной волшебные края, златой предел… мирная страна, где всё для сердца мило, где ясные, как радость, небеса… Юг навсегда остался для Пушкина раем, обителью счастья и успокоения: Приду ли вновь под сладостные тени / Душой уснуть на лоне мирной лени? Возглас Поэта: Надо на юг! На юг! — словно нетерпеливый призыв туда, где он, истерзанный, обретёт наконец мир. И возглас этот перекликается с последними словами умирающего Пушкина, как будто подбадривавшего свою отлетающую душу: «Выше! Выше!»
Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видел ничего, подобного тому, что было в нём в эту первую минуту смерти… Какая-то глубокая, удивительная мысль на нём развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание…[72]
Эта загадочная малоизвестная притча ещё один пример удивительной интуиции Поэта — предчувствие скорого конца. Своего собственного и милого юноши Николеньки Греча.
Жгучая тайна Александрины
Категоричный отказ Пушкина проститься со свояченницей таит ещё одну загадку, унесённую Поэтом в могилу. Не утверждая категорично, предлагаю свою версию объяснения этой тайны. Встреча с Александриной была бы подтверждением особости их отношений. А теперь, на пороге смерти, для него, раскаявшегося и очищенного от земных грехов немыслимыми предсмертными муками — второй катарсис! — не было этой особости. Мелочи жизни потеряли всякий смысл, осталось только самое существенное, самое важное — достойно уйти из этой жизни. Александрина уже была вне этого круга. Встреча с ней была бы не только напоминаем тайны их греха, но и новым прегрешением: проститься с ней означало бы простить ей её проступок — что обманывала свою беременную сестру, что не оказала должного сопротивления ему и его тоже вовлекла в кровосмесительный грех…
Наказание смертью фаталист Пушкин смиренно принял как возмездие свыше за своё последнее прегрешение. (Вспомним слова из написанного после помолвки письма тёще: Заблуждения моей ранней молодости были слишком тяжки и сами по себе.) Но тогда он был холост, свободен. Каким же тяжким представилось ему заблуждение женатого человека, да ещё в тот период, когда жена была на сносях! Отверг просьбу Ази проститься (вникните в смысл этого слова: простить друг другу взаимные обиды!) ещё и потому, что не считал себя, грешного, вправе — и ей, и себе — прощать, коли Небо вынесло свой приговор…
Александрина страдала целых 15 лет, пока не вышла замуж за Фризенгофа. Арапова, дочь Натальи Николаевны от брака с Ланским, вспомнила своё детское наблюдение: тётя Азя, получив предложение, долго разговаривала, запершись с женихом, а когда вышла из комнаты, лицо было заплакано, щёки горели. Нет, не 15 лет страдала Александрина, а всю свою долгую жизнь. Уже парализованная, прикованная к креслу, она продолжала думать о Пушкине. Наталия Густавовна рассказывала своему внуку, жившему с нею в Бродзянах, что её мать всегда становилась грустной и молчаливой, когда заходила речь о дуэли Пушкина. По словам дочери, Александру Николаевну никогда не видели смеющейся[73]. Она благополучно прожила с мужем 36 лет — надёжный, спокойный брак. Но всю жизнь любила лишь одного человека. Любила больше, смею утверждать, чем законная жена Натали. Потому ли, что её любовь осталась неразделённой (убеждена, Пушкин не любил, а только увлекался ею), потому ли, что начитанная, обожающая поэзию (сохранились её девичьи тетрадки с переписанными пушкинскими стихами и главами «Евгения Онегина»), музыкальная девушка (она брала уроки музыки в Петербурге и в Бродзяны привезла свои ноты из России) гораздо лучше своей красавицы сестры понимала не только гениальность, но и редкое величие души зятя. Незадолго до смерти уничтожила все свои бумаги. Взяла с дочери Натальи Ольденбург обещание, что и та не оставит никаких её писем. А их было много — Александрина поддерживала регулярную переписку с братьями, сестрой Натальей — пока та была жива, с многочисленными племянниками. Наталья Густавовна, в свою очередь, завещала воспитаннице Анне Бергер сжечь после её смерти все её личные бумаги. Об этом знаем из «Воспоминаний о Бродзянах», написанных приятельницей Натальи Ольденбург Игумновой. В начале 60-х годов она передала их в Пушкинский дом. В Бродзянском архиве не осталось никаких письменных свидетельств о жизни Александрины. Всё кануло в Лету забвения вместе со жгучей тайной её жизни. Остались лишь семейные предания…
Спустя сто с лишним лет, в 1939 году, пушкинист Николай Раевский побывал в чехословацком имении Фризенгофов Бродзянах. В то время в нём проживал с семьёй правнук Александрины граф Вельсбург. Ему показали Александринину золотую цепочку — потемневшую от времени, без креста (крест, наверное, с ней в могилу положили). Как дорогая реликвия хранилась она в простой (для отвлечения внимания воров) фанерной коробке вместе с другими фамильными драгоценностями…
Графиня Вельсбург показала Раевскому ещё одну вещь, принадлежавшую прабабушке мужа, — перстень. Она сняла с пальца старинное золотое кольцо с продолговатой бирюзой и сказала, что оно перешло к ней от герцогини, а ей досталось от матери. Кольцо Ази Гончаровой, почти наверное то самое, о котором княгиня Вера Фёдоровна Вяземская, жена друга Пушкина, когда-то рассказала издателю «Русского архива» пушкинисту Л. И. Бартеневу.[74]
Почти детективная история: кольцо с бирюзой — венская версия
У кого из Трубецких?
После телефонного звонка М. А. Разумовской я была озадачена: пушкинское кольцо у внучки Трубецкого? Но какое? И как оно попало к ним в Вену? Стала припоминать, с кем из Трубецких поддерживал Пушкин знакомства…
Князь Сергей Петрович, декабрист, один из основателей «Зелёной лампы», герой неосуществлённого произведения Пушкина «Русский Пелам» (в плане романа он причислен к «Обществу умных»). Знаменитый салон Лавалей — родителей его жены Екатерины Ивановны Трубецкой — Поэт часто посещал и до южной ссылки и в 30-е годы. Известно, что в 1819 г. Пушкин читал у них оду «Вольность», в мае 1828 г. — «Бориса Годунова». В бумагах Пушкина найден прозаический перевод на французский язык стихотворения «Клеветникам России». По почерку предположили — сделан хозяйкой дома Александрой Григорьевной Лаваль. Возможно, именно с него был выполнен и стихотворный перевод на немецкий язык. Я обнаружила его в русском отделе Hofarchiv’a Австрии среди бумаг Карла Фикельмона, австрийского посла в России. Он был приложен к его дипломатическому донесению. Все они — Пушкин, Фикельмоны, Хитрово, Лаваль были тесно связаны друг с другом, встречались не только на великосветских приёмах, но и в узком, салонном кругу. Велись беседы о литературе, политике, истории, искусстве.
Ещё один Трубецкой — Иван Дмитриевич, троюродный брат Сергея Львовича Пушкина, камергер. В его московском доме Ольга и Саша Пушкины вместе с детьми Трубецких Николаем, Юрием, Аграфеной и Александрой учились танцам, веселились на знаменитых на всю Москву рождественских ёлках. Приятельские отношения со своими четвероюродными братьями и сёстрами Пушкин поддерживал до конца жизни. Сохранился карандашный рисунок в альбоме Н. Ф. Боде[75] «Бал у Трубецких 24 ноября 1834 г.» с именами изображённых на нём лиц. Среди них и Пушкин.
В Кишинёве Поэт общался с кн. Николаем Никитичем Трубецким, другом Новикова, воспитателем будущего генерала Инзова.
Всплыло имя и князя Александра Васильевича Трубецкого — автора воспоминаний о Пушкине и Дантесе[76]. Рассказ князя с очевидностью показывает: тогда, в канун дуэли Пушкина и после его смерти, он принадлежал к стану врагов Поэта. Нет, не мог он, да и никто другой из упомянутых выше представителей ветвистой фамилии Трубецких владеть пушкинским перстнем. Загадку могла разъяснить лишь сама обладательница заветного кольца. А она, как назло, долго не звонила мне.
Версия первая: кольцо — декабристское
Внучка Трубецкого не давала о себе знать. Я уже перестала надеяться на встречу с ней. Но она всё-таки позвонила — месяца через полтора после моего разговора с Разумовской. Мы договорились о встрече в небольшом венском кафе в центре города близ Альбертиноплатц. Очень высокая, не менее метра восьмидесяти, женщина. Рядом с ней я показалась себе козявкой. Кафе оказалось одним из тех «домашних» и вместе с тем респектабельных заведений, куда люди приходят выпить кофе, почитать лежащие на столиках подшивки газет, провести деловую встречу. За чашечкой кофе Варвара Александровна повела светскую беседу, пересыпая её сведениями из своей биографии. Она рассказала, что студенткой подрабатывала на жизнь манекенщицей. Что ж, вполне подходящая — она и теперь, в свои неполные пятьдесят, была хороша: тонкий точёной огранки профиль, тёмно-русые круто вьющиеся волосы. А осанка! Породистая осанка представительницы древней крови Гедиминовичей и Рюриковичей (по женской линии через князей Друцких-Соколинских) и столь же древний гонор! Она и не пыталась скрыть его — суждения её резки, безапелляционны, хотя по-светски умело смягчала их улыбкой. Но именно её улыбка была таким диссонансом к её милому лицу — она обнажала два острых, длиннее, чем остальные зубы, клыка. «А улыбочка-то у неё вампирская, — машинально отметила я. — Любопытно, пускает ли она в ход свои клычки?»
Впрочем, я не права, обвиняя её в наследственной надменности. Дед её, профессор Московского университета, магистр, крупнейший учёный-лингвист, Николай Сергеевич Трубецкой, по воспоминаниям современников, был типично русским интеллигентом — мягким, благородным.
Российский род Трубецких ведёт начало от князей Трубчевских (по вотчине — город Трубчевск в бывшей Орловской губернии). Юрий Никитич Трубчевский с женой, урождённой Салтыковой, и своим тестем в начале XVII века в Смутные времена уехал в Польшу, перешёл в католичество и ополячил родовое имя — стал Трубецким. Его сын князь Пётр Юрьевич женился на польско-литовской княжне Елизавете Друцкой-Соколинской, был камергером польского двора и маршалом стародубским. Внук переселенца Юрий Петрович в конце XVII века вернулся обратно в Россию, принял православие, получил сан боярина, женился на княжне Голицыной. От него и пошла современная ветвь Трубецких.
После эмиграции из России Николай Сергеевич Трубецкой сначала жил в Болгарии. Вёл в Софийском университете (с октября 1920 по октябрь 1922 г.) два курса: «Сравнительная морфология индоевропейских языков» и «Высший курс санскритского языка». В 1923 г. получил приглашение в Пражский университет. Он принял его с радостью — в Праге в то время образовался островок учёной русской диаспоры — известные профессора, много недоучившихся в России студентов и прекрасная библиотека русских книг из смирдинской коллекции. В Болгарии после революции также осело немало русских учёных — 39, по сведениям Андрея Павловича Мещерского. Но они были разбросаны по всей стране. И не всем удавалось получить место на университетских кафедрах — одни работали учителями в школах, другие и вовсе не по специальности. И все, как правило, нищенствовали. Николаю Сергеевичу повезло. Фортуна вновь улыбнулась ему — последовало приглашение возглавить кафедру языкознания в Славянском институте Венского университета. Позднее стал его деканом. До своей кончины работал в Славянском институте. В его аудиториях до сих пор висят портреты русского учёного. Как и живёт память о нём. Учёными трудами Трубецкого пользуются уже несколько поколений славистов.
Дочь Трубецкого милейшая Елена Николаевна вышла замуж за студента Венского университета (папиного любимого ученика, заверила меня Варвара Александровна) — Александра Исаченко. Варенька, их дочь, пошла по стопам деда и отца — окончила Славянский институт Венского университета. Работала в библиотеке института пока не вышла замуж за выходца из Прибалтики Куннельт-Леддильна. Стала домохозяйкой. Как и полагается австрийской фрау, воспитывает детей, занимается хозяйством. По её словам, делает это с удовольствием. И призналась — представьте себе! — больше всего любит мыть окна. Мне понравилась её искренность — она говорила об отсутствии в ней снобизма.
Всё это было любопытно, но меня интересовало пушкинское кольцо.
— Неужели у вас Александринин перстень с бирюзой? Тот самый, что Раевский перед войной видел в Бродзянах на руке у графини Вельсбург? — нетерпеливо спросила я.
— Не Александринин, а пушкинский, — категорично заявила Варвара Александровна.
Она ничуточки не сомневалась в том, что он пушкинский. В этом её убедил отец, профессор А. В. Исаченко. Папу она обожала. С восторгом говорила о его эрудиции. Папа был полиглотом — владел пятьюдесятью языками! Он был известным славистом. Оставил десятки томов своих учёных трудов. Долгие годы возглавлял кафедру славистики в Братиславском университете.
— Но ведь своё кольцо с бирюзой Пушкин перед смертью подарил Данзасу, — попыталась я возразить. — А Данзас, как вы, наверное, знаете, потерял его зимой в сугробе…
— Папа доказал, что наше кольцо декабристское! Когда царь Николай распорядился снять с декабристов кандалы, они в память о своей каторжной жизни понаделали из них чугунные кольца, носили их сами и дарили своим друзьям. Получил такое кольцо в подарок и Пушкин. И он переделал его, чтобы в глаза не бросалось. В золотой обруч вставил кусочек кандального железа и оправил бирюзой!
— Но откуда у вас такие сведения? Да, у Пушкина действительно было чугунное кольцо. Как у всякого лицеиста. Он носил его на указательном пальце. Сам директор Энгельгардт надевал их на руки выпускникам. Они стали символом вечной и нерасторжимой дружбы «чугунников» — так ласково называл поэт лицеистов… О декабристском перстне в пушкинистике ничего не известно.
— И не могло быть известно! — возразила Варвара Александровна. — Надо быть дураком, чтоб афишировать свою связь с декабристами. Пушкин тоже скрывал, никому не говорил о подарке. Вот это кольцо, переделанное из декабристского перстня, и хранила у себя Александрина. После её смерти его носила её дочь Наталья Ольденбургская… Папа давно знал, что в словацком имении графов Вельсбургов[77] находятся вещи, имеющие отношение к Пушкину. Он много раз во время войны пытался установить контакт с владельцами замка, — продолжала рассказ Варвара Александровна. — Ему очень хотелось увидеть портреты, картины, книги, документы — всё, что осталось в замке от Александрины Гончаровой. Но все его попытки приехать в замок резко отклонялись. Надо вам заметить, что графы были национал-социалистами и не желали иметь никаких контактов с русскими…
Если б знала сиятельная пани…
Усадьба в Бродзянах за 25 лет социалистического хозяйствования оказалась в немыслимом запустении. Опустошали и разрушали её не время и не забвение, а те самые верноподданные крестьяне, которые ох как любили матушку-герцогиню. Таскали всё, что под руку попадётся, — документы, снимки, утварь. Вырубали вековые деревья — липы, дубы, ясени, вязы — в прекрасном в английском стиле парке вокруг замка, обламывали столетние, необыкновенно высокие кусты пахучей сирени, повредили часовенку со склепом на холме неподалёку от усадьбы — осквернили память покоящихся здесь останков Александрины, её мужа, их потомков.
Об этом варварстве рассказ очевидицы — местной жительницы пани Йозефины Самеловой, воспитанницы герцогини Ольденбургской.
Были советские войска и румынские, но во время их пребывания здесь и гвоздик не исчез. А потом всё началось. Устроили публичный аукцион, у многих людей в деревне и до сих пор хранятся альбомы, картины, предметы из замка. Многие вещи вывезли, куда — не знаю, якобы в другие замки; книги, мебель — всё исчезло… Бедняжка сиятельная пани, если бы она знала, как мы её отблагодарили! Вы знаете, какая это была женщина! Сколько сирот выходила прямо в замке, и меня среди них! И учредила дом для престарелых, там доживали старые бедные люди. Выстроила для бедноты крахмальный завод, в то время самый большой в Словакии. Каждое Рождество у её ёлки была вся деревня. Заранее записывали, чего в каждом доме не хватает: в том — сапог, в том — дров, в том — опять нужны наволочки. А сколько она калачей пекла и яиц красила для традиционного майского праздника, который устраивала для детей: прятала корзинки со всем этим в лесу и радовалась вместе с детьми, когда их находили. За всё это недавно её голову выбросили на дорогу: я нашла её, вымыла. Бедняжка сиятельная пани, кому она в гробу помешала?
А. М. Игумнова, эмигрантка из России, с 1922 года часто гостившая в замке, в своих воспоминаниях тоже рассказала о милосердии сиятельной пани, дочери Александрины Гончаровой: Наталья Густавовна делала много добра. Например, открыла в деревне кооператив, казино, где по вечерам иногда давались концерты и театральные представления, а также больницу, где лечила сама гомеопатическими лекарствами, т.к. ненавидела врачей и современную медицину. В больнице же воспитывались сироты, которым она потом находила службу[78].
В семидесятых годах энтузиасты-слависты Братиславского университета занялись восстановлением усадьбы. Ходили они и по окрестным домам и скупали награбленное селянами графское добро. В 1979 г. в бывшем Александринином имении открылся Литературный музей им. Пушкина.
Странное чувство охватывает здесь посетителя — за тридевять земель от России вдруг оказаться в атмосфере типично русской усадьбы, с такими неожиданными тут портретами Пушкина, Натали, её детей, сестёр и братьев Гончаровых, со снимками многочисленных племянников и племянниц Александрины, фотографиями Вяземского, альбомами со стихами Жуковского, с рисунками Ксавье де Местра, русскими гравюрами, личными вещами Александрины.
Этот старинный замок некогда принадлежал древнему венгерскому роду Бродзяны. Плодились, размножались, разорялись его потомки. Хирел род. К середине XIX века на эту небольшую усадьбу уже претендовало 27 наследников. Такой уйме собственников трудно было поделить её между собой. Продажа имения в 1844 году возвратившемуся из России дипломату барону Фризенгофу оказалась удачливым выходом из положения для его владельцев и весьма удачной покупкой для барона. В то время замок ещё был окружён средневековым рвом, бессмысленным в новое время. И Густаф Фризенгоф приказал его засыпать. Местечко оказалось удивительно живописным. Неподалёку от усадьбы, успокоившись от стремительного спуска с гор, неспешно текла Нитра на встречу с Дунаем. Вдали синели Карпаты, отрогами спускались к долине, рассыпались у самых Бродзян мягкими холмами. Здесь, у их подножия, начиналась (или кончалась?) венгерская пушта. Пушта, пушту, пуштуны — какие ассоциации возникают с этими словами? Раздольная степь, беспредельное пространство, тишина, палящее солнце… А за этой кажущейся близостью звучания «пушты» с «пустошью» чудится какой-то иной смысл — древний, как атавистический зов, привнесённый из глубины веков. По пути великого переселения из Индии, через Пакистан, в Европу кочевые угро-финские племена, унгры, подхватили в афганских землях и увлекли за собой народ, именующий себя пуштунами.
Я была здесь летом. Какая тишь и благодать вокруг! Какое умиротворение нисходит в душу с этих неярких, вылинявших от полуденного солнца небес! И как понятно состояние покоя и мира, наконец обретённого здесь Александриной.
И вот тут, в Бродзянском замке, уже после встречи с Варварой Александровной, изучая вновь возвращённые сюда остатки семейного архива бывших владельцев, я поняла, что меня обманывали. Ах, если бы только меня! Какую суматоху в пушкиноведение внёс профессор Исаченко своими публикациями в 1947 году! Но об этом я расскажу дальше. А пока о первой лжи — о связях графов с национал-социалистами. В годы Второй мировой войны Бродзяны были одним из центров Словацкого национального восстания. 41 житель села принимал в нём участие. В 1942 г. на башне летнего замка, построенной неподалёку от усадьбы («Вавилоне», одной из причуд Натальи Ольденбургской, над входом в который были высечены слова: «Будьте радостны в надежде и терпеливы в трудностях»), было водружено красное знамя повстанцев. По рассказам местных жителей, хозяева укрывали преследуемых полицаями партизан. Граф Георг Вельсбург, последний владелец имения, после войны, поскитавшись по Германии, осел в социалистической Венгрии, где и жил до последних дней своих. Судите сами, решился бы он поселиться в Венгрии, если бы имел хотя бы какое-нибудь отношение к нацистам? Впрочем, он вовремя запасся документиком — 23 января 1946 года от имени Йозефа Трояна, капитана штаба горнонитрянского партизанского батальона, ему было выдано удостоверение № 401 в том, что граф Георг Вельсбург, который является гражданином венгерским, национальности германской, помогал партизанам во время Словацкого национального восстания и сотрудничал с ними. Вышеупомянутый по этим причинам является политически благонадёжным.
После вторжения гитлеровцев в Чехословакию в 1939 году страна была разделена на части. Немцы создали Словацкое профашистское государство. Русский проф. Исаченко благополучно продолжал работу в годы войны в Братиславском университете. Любопытно, кому он сам служил тогда? Не был интернирован, подобно многим другим русским. И почему в шестидесятых годах ему пришлось спешно перебираться в Австрию? Ему, известному слависту с многотомными трудами, не нашлось места в Славянском институте в Вене — его приютил провинциальный Клагенфуртский университет. Но личная судьба профессора — другая тема, и не моя задача отвечать на эти вопросы.
Как Исаченко обесчестил Наталью Николаевну
Попытаюсь размотать запутанный им клубок взаимоотношений людей из близкого окружения Пушкина. Запутанный сознательно и, вероятно, из честолюбивого желания увековечить своё имя в пушкинистике сенсационными «открытиями» в Бродзянском замке. Исаченко не обладал ни терпением, ни добросовестностью истинного исследователя. Судите сами — обнаруженная им в Бродзянской усадьбе визитная карточка Дантеса и его портрет оказались той пуговицей, по которой он решил восстановить мундир. Родилась фантастическая версия: Наталья Николаевна Ланская встречалась с Дантесом у Фризенгофов! Разыгравшееся воображение заставило его схватиться за перо. Две его публикации в братиславском журнале «Свободное радиовещание» — «Родственники Пушкина в Словакии» в 1946 г. и «Пушкиниана в Словакии»[79] в 1947 г. нанесли пушкинистике, подобно взрыву бомбы, тяжёлые поражения.
Наталья Пушкина-Ланская несколько раз гостит у Фризенгофов в Бродзянах. При одном из этих посещений она даже встречается с убийцей своего мужа Дантесом ван Геккерном, и кажется (подч. мною. — С. Б.), эта встреча уменьшила напряжение между ними[80].
Ещё один слух пустил профессор Исаченко — о существовании дневника Александрины Гончаровой, в котором будто бы описана эта встреча. Сенсация быстро достигла Москвы — первыми о ней узнали Цявловские. В 1947 г. Советский Союз посетила делегация чехословацких писателей и журналистов. В подарок они привезли скаредно выделенные Исаченко архивные материалы из Бродзян (к тому времени «пушкинские» вещи и документы были перевезены им в Братиславу и хранились в сейфе факультета славистики университета). Дарение состояло из четырёх портретов: Ксавье де Местра, Геккерена-Дантеса, двух больших овальных А. Н. Гончаровой и первой жены Фризенгофа Натальи Ивановны, а также переписки между братьями Фризенгофами — Адольфом и мужем Александрины Густавом, двух альбомов с фотографиями, отдельных снимков Гончаровых-Пушкиных. Видимо, через чехословацких писателей и попала исаченская «липа» в Москву. Реакция русских пушкинистов была ошеломляющей. Красноречивое свидетельство тому — «гневные» статьи Ахматовой — «Гибель Пушкина» и «Александрина», где обе «сестрицы Гончаровы» — Натали и Азя были подвергнуты суду — справедливому, если бы в «сведениях» профессора была хоть капля истины.
Фантазии Исаченко разгорячили воображение Ахматовой: Могу сообщить многочисленным поклонникам этой дамы (Александрины. — С. Б.), что много лет спустя Александра Николаевна, не без умиления, записала в своём дневнике, что к ней в имение (в Австрии) в один день приехали её beau-frere[81] Дантес (очевидно, из Вены от Геккерна) и Наталья Николаевна из России. И вдова Пушкина долго гуляла вдвоём по парку с убийцей своего мужа (подч. мною. — С. Б.) и якобы помирилась с ним.
Предполагаю: узнав о реакции в Советском Союзе и испугавшись содеянного, Исаченко пишет вторую, выше упомянутую, статью — «Пушкиниана в Словакии». У меня имеются её копии на словацком и английском языках. Их мне подарила Варвара Александровна — поначалу она ухватилась за меня как за человека, который поможет восстановить «подмоченную» и в Советском Союзе, и в Чехословакии репутацию её отца. Во второй публикации он более осторожен: Фризенгофы никогда не прерывали контактов с Россией… Эти постоянные контакты с Россией однажды привели к неловкой ситуации. Барон ван Геккерен, приёмный отец Дантеса, убившего Пушкина, был голландским послом в Вене, куда Дантес не раз приезжал навестить его. Это совпадает с визитом Натальи Николаевны к Фризенгофам. Неизбежно, что они должны были встретиться в русском обществе в Вене (обратите внимание — уже в Вене, а не в Бродзянах! — С. Б.). Мы не знаем, что произошло во время этой встречи, но горечь между семьями была как-то сглажена, и в Бродзянском замке даже появился портрет Дантеса ван Геккерена.[82]
«Её мольбы о прощении обращены в века!»
Каким прозрением звучат эти слова Николая Раевского, автора книги «Портреты заговорили»! Мольбы обращены и к нам, наследникам пушкинского космоса. С того света просит нас Наталья Николаевна защитить её имя от клеветы и злобы людской! А ведь как просто было установить истину и не пятнать лишний раз честь этой прекрасной души женщины — лишь чуть-чуть углубиться в её биографию! И тому же проф. Исаченко, и тем более — и ещё непростительней, что даже не сделала попытки проверить! — Анне Ахматовой! И тогда с очевидностью был бы установлен факт: H. Н. впервые выехала за границу в 1851 году[83]. Она завершала 39-й год жизни — возраст почтенный для той эпохи. Не до заграничных путешествий было ей, обременённой огромной семьёй — семеро детей, нахлебница — до 1852 года — Александрина, гувернёры, гувернантки. На каникулах, по воскресеньям и праздникам семейство прибавлялось — приезжали племянники Лев Павлищев и Павел Ланской, мальчики часто привозили и своих друзей по пансиону. Открытый хлебосольный дом и по-прежнему очень скромные доходы — генеральская зарплата Ланского и почти символические доходы с Михайловского. Единственно, что себе позволяла в эти годы Наталья Николаевна, — морские купания в Ревеле. И каждый раз неохотно, по настоянию врачей, из-за состояния здоровья — своего или детей. H. Н. жаловалась на боли в сердце, судороги в ногах по ночам. Но особенно шалили нервы. Заботы о многочелядной семье, нехватка денег и тоска, тоска, на которую она часто жаловалась в письмах Ланскому. Она стала курить — как это странно, как не вяжется с обликом Мадонны. В 1851 году муж уговорил её поехать на воды за границу с двумя девочками, Машей и Натальей. Александрина сопровождала их. Только беспокойство за Машу, которая в последнее время часто болела, заставило Наталью Николаевну предпринять эту поездку.
Письма мужу помогают установить маршрут их путешествия: Берлин — Бонн — Годесберг — небольшой курортный городок под Бонном, где они принимали ванны, — Саксония — Швейцария — Остененде{2}. Никакого упоминания о Вене. Да и ехать туда было не к кому. Александрина ещё не вышла замуж за Фризенгофа, он же до 1852 года находился на дипломатической службе в Петербурге. Екатерина Николаевна, жена Дантеса, восемь лет как умерла, а он сам в это время успешно делал карьеру во Франции.
Не лирическое отступление о Дантесе
Вот вехи его карьеры.
В 1845 г. — член Генерального совета департамента Верхнего Рейна. В 1848—1849 гг. — депутат от своего округа в Генеральной ассамблее — парламенте Франции. В 1849 г. собрал 33 тысячи голосов на выборах в Учредительное собрание. Он был в числе депутатов, которые составили так называемый Комитет улицы Пуатье, и способствовал восстановлению императорской власти во Франции. После восшествия на престол Луи-Наполеона III исполнял «секретную миссию» императора, вёл дипломатические переговоры с Николаем I, с монархами Австрии, Пруссии. До 1870 г. был постоянным представителем Франции при Люксембургском дворе. Исполнял должность председателя Генерального совета Верхнего Рейна. Славился ораторскими способностями. Очень часто произносил в собрании страстные речи. Одна из них произвела такое сильное впечатление на Мериме, что он рассказал об этом в письме своему приятелю Паницци: Это очень хитрый малый. Не знаю, приготовил ли он свою речь, но произнёс он её изумительно, с жаром… В конце концов получил пожизненно столь мечтанное кресло сенатора. Чем очень гордился. Дантес сделал блестящую политическую карьеру, — писал его правнук Клод де Геккерен. — Та фатальная дуэль никогда не помешала ему в этом, и драма, которую вызвала его страсть, помогла ему быстро созреть. Способствовала ли она его определённой известности, от которой он охотно бы отказался? Не верится. Тем паче, что она заставила говорить о нём как о «человеке, который убил Пушкина».[84]
Однако удачником в полном смысле этого слова Дантес не был. Может, потому, что корысть всегда была у него на первом месте. Тщательно рассчитывая каждый шаг, часто переусердствовал в своих стараниях и, по всей видимости, не обладая политической интуицией, совершал ошибки, ставил не на тех людей. Он и в политику вошёл, чтобы легче проворачивать свои финансовые и промышленные аферы. Был членом правления нескольких банков, обществ — страховых, транспортных, газового и пр. Слишком много усилий отдавал бизнесу, от чего не столь блестящей оказалась его политическая карьера. Его роль во французской истории осталась незначительной. Очень метко охарактеризовал Дантеса писатель Марк Алданов: Это был не злодей, но беззастенчивый, смелый, честолюбивый эгоист, не перед многим останавливавшийся в поисках выгоды и удовольствий[85].
Он умер в 1895 году, окружённый уважением своих многочисленных французских и иностранных друзей, своих подчинённых в Эльзасе (он был мэром Сульца, его родного города) и пользовался искренним почтением своих ближних[86], — писал его правнук Клод де Геккерен.
В Вене в сороковые годы находился только Геккерен — посол Голландии в Австрии. Возможно, приёмный сын и навещал его после смерти жены, но после 1845 года, когда он занялся политикой, это могли быть лишь короткие визиты по праздникам и в каникулы. К тому же на руках вдовца осталось четверо малюток. Мать Дантеса умерла ещё в 1832 году. Дантесы-Геккерены при жизни Екатерины жили в Сульце отдельным домом. Вероятно, так продолжалось и после её смерти. На отца и сестёр он не мог рассчитывать — это были холодные, практичные люди. Сохранились свидетельства, что отношение Дантеса к своему «приёмному отцу» стало к этому времени довольно прохладным. Незачем было больше стараться — ведь Геккерен ещё в их бытность в Петербурге завещал ему всё своё состояние. Деньги, наследство, карьера, безумная любовь к H. Н. Пушкиной, петербургские салонные и казарменные сплетни и снова любовь — то к Натали, то к самому барону, — всё это намешано, переплетено в письмах Дантеса к Геккерену (21 письмо с мая 1835 г. по ноябрь 1836 г.), опубликованных наконец усилиями итальянской пушкинистки Серены Витале[87].
История с передачей Геккереном своего состояния Дантесу оказалась той лакмусовой бумажкой, которая ярко проявила отвратительные черты характера кавалергарда. На его фоне барон выглядит бескорыстным и щедрой души человеком. При патологической скаредности Геккерена его поведение кажется странным, но объяснимым: голландский посланник, что называется, втюрился в Дантеса, и чтобы иметь возможность жить с ним вместе под одной крышей, не нарушая приличий, решил усыновить его. Для 44-летнего, не очень привлекательной внешности стареющего барона не было иной возможности удержать возле себя двадцатитрёхлетнего красавчика, как соблазнить его наследством. …ведь в наше время трудно найти в чужестранце человека, который готов отдать своё имя, своё состояние… (Дантес — Геккерену). Итак, вам не позволяют отдать мне своё состояние, пока вам не исполнится 50 лет. Вот уж большая беда: закон прав, к нему мне расписки, и бумаги, и документальные заверения, у меня есть ваша дружба, и, надеюсь, она продлится до той поры, когда вам исполнится пятьдесят… И далее: Как, мой дорогой, найти слова для ответа на письма, которые постоянно начинаются с подарков, а оканчиваются требованиями принять новые благодеяния… знаешь ли, что ты делаешь меня богаче себя, и что ты ни говори, ты, конечно, вошёл в затруднение ради меня[88] (подч. мною. — С. Б.). Расчёт Геккерена оказался точным — корыстный «сынок» рассыпается в благодарности «папаше»: Надо, чтобы ты был рядом, чтобы я мог много раз поцеловать тебя и прижать к сердцу надолго и крепко, — тогда ты почувствовал бы, что оно бьётся для тебя столь же сильно, как сильна моя любовь. Геккерен сумел каким-то образом узаконить передачу ему своего наследства. Современники (кн. А. Трубецкой, Софья Бобринская и др.) утверждали, что Дантес после мнимого усыновления стал очень богатым.
Зимой 1843 года Жорж с Екатериной гостили у старика Геккерена в Вене. Екатерина была беременна последним ребёнком — сыном, стоившим ей жизни. Они жили отшельниками, не появлялись в обществе. Но с Фризенгофами — Густавом и его первой женой Натальей Ивановной — встречались. И были с ними в довольно дружеских отношениях. Это подтверждает письмо Екатерины Николаевны в Полотняный завод: Я веду здесь жизнь очень тихую и вздыхаю по нашей Эльзасской долине, куда рассчитываю вернуться весной. Я совсем не бываю в свете, муж и я находим это скучным, здесь у нас маленький круг приятных знакомых, и этого нам достаточно. <…> Я каждый день встречаюсь с Фризенгофами, мы очень дружны с ними. Дружба их была вполне естественной — жена Фризенгофа Наталья Ивановна приходилась Екатерине Николаевне кузиной. А истинную причину вынужденного одиночества Екатерина утаила из гордости. Геккерены боялись появляться в обществе. Они предвидели и кривотолки, и отчуждение тесно связанной с Россией австрийской аристократии. Подтверждением тому — письмо Долли Фикельмон из Вены к сестре Екатерине Тизенгаузен в Петербург: Мы не увидим г-жи Дантес, она не будет появляться в свете и особенно у меня, так как знает, какое отвращение я испытала бы при виде её мужа, Геккерен также нигде не показывается, его редко видят даже среди его приятелей. Теперь он зовётся бароном Жоржем Геккереном…[89]
Дальше я изложу свою версию о том, как портрет Дантеса попал в имение к Фризенгофам.
Продолжение защиты
Второй раз Наталья Николаевна Ланская, уже тяжело больная лёгкими, выехала за границу весной 1861 года. Лето провела на немецких курортах, осень — в Женеве, зиму в Ницце. Возможно, приезжала к сестре в её словацкое имение. Но достоверно известна лишь одна её поездка в Бродзяны летом 1862 года. Там собралась вся её большая семья — её три дочери от Ланского, приехала оставившая мужа младшая дочь Наталья Пушкина-Дубельт с двумя детьми. Вскоре туда же заявился Дубельт и дал полную волю своему необузданному характеру. Скандалил, угрожал, требовал возвращения жены. По настоянию барона Фризенгофа покинул Бродзяны. Радость встречи сестёр была омрачена. Нарушен и трудно обретённый Натальей Николаевной покой. Она тяжело переживала неудачный брак дочери. Снова стали сдавать нервы. Осенью генерал Ланской увёз жену в Ниццу, где она провела всю зиму. В мае 1863 г. вернулась в Россию и через полгода скончалась.
Даже при всей разнузданности воображения невозможно представить реальность встречи Натальи Николаевны с Дантесом. Ни в Вене, ни в Бродзянах. В этих поездках за границей она никогда не была одна — её сопровождали уже взрослые дочери от второго брака. Встречи, нарочито условленной, не было. Но судьба ещё раз — всего один-единственный раз! — вновь скрестила их пути! Это произошло в ту последнюю зиму её жизни, когда проездом в Ниццу H. Н. Ланская с детьми и мужем (ведь он приехал за ней в Бродзяны) ненадолго остановилась в Париже. Ей недавно исполнилось пятьдесят лет, но ни один опытный глаз не рискнул бы дать и сорока, — отметила в своих воспоминаниях её дочь Александра Арапова. И по-прежнему Наталья Николаевна была прекрасна. Не могу удержаться, чтобы не привести здесь поэтическое описание её красоты на балу в Ницце:
Я в ту зиму стала немного появляться в свете, — вспоминала Арапова. — <…> Тогдашний префект Savigni придумал задать большой костюмированный бал, который заинтересовал всё съехавшееся международное общество. Мать уступила моим просьбам и не только принялась спешно вышивать выбранный мне наряд, но, так как это должно было быть моим первым официальным выездом, захотела сама меня сопровождать.
Когда в назначенный час мы, одетые, собирались уезжать, все домашние невольно ахнули, глядя на мать. Во время первого года нашего пребывания за границей скончался в Москве дед Николай Афанасьевич; она по окончании траура сохранила привычку ходить в чёрном, давно отбросив всякие претензии на молодость.
Скромность её туалетов как-то стушёвывала все признаки красоты. Но в этот вечер серо-серебристое атласное платье не скрывало чудный контур её изваянных плеч, подчёркивая редкую стройность и гибкость стана. На гладко причёсанных, с кое-где пробивающейся проседью, волосах лежала плоская гирлянда из разноцветно-темноватых листьев, придававшая ей поразительное сходство с античной камеей, на алой бархотке вокруг шеи сверкал бриллиантами царский подарок, и, словно окутанная прозрачной дымкой, вся фигура выступала из-под белаго кружевного домино, небрежно накинутого на голову…
Я шла за нею по ярко освещённой анфиладе комнат и до моего тонкаго слуха долетали восторженные оценки: «Voyez donc, с’est du classique tout pur! On n’est plus belle comme cela! Parlez moi des beautés slaves. Ce n’est p’us une femme, c’est un rêve!» [90] A me, которые её хоть по виду знали, ежедневно встречая медленно гуляющей «на променаде» в неизменно чёрном одеянии, с шляпой, надвинутой от солнечных лучей, недоумевая, шептали: «Это просто откровение! За флагом молодыя красавицы! Воскресла прежняя слава! Второй не скоро отыщешь!» [91]
Можно представить, что именно в таком обличье появилась Наталья Николаевна в парижском театре, где по воле случая в тот вечер оказался и Дантес с сыном.
Он вновь увидел Наталью Пушкину, ставшую графиней Ланской, только один-единственный раз, много лет спустя в театре в Париже. Заметив её, он схватил сидевшего рядом с ним сына за руку и, указывая на ложу, где находилась эта дама, всё ещё прекрасная, невольно воскликнул: «Взгляни на эту даму, сидящую против нас, — это твоя тётя Натали»[92].
Неожиданное видение потрясло Дантеса. Этот эпизод вошёл в семейную сагу и передавался из поколения в поколение. Его правнук барон Клод де Геккерен рассказал о нём в своем эссе «Белый человек. Кто убил Пушкина?».
После этого свидетельства какой же чудовищной по своему кощунству представляется придуманная проф. Исаченко легенда о рандеву Натали с убийцей Поэта! Выдумка о встрече и даже, как утверждал незадачливый пушкинист, встречах вновь обесчестила жену Пушкина. Но более того — она логически не увязывалась с высоконравственным поведением Натальи Николаевны после смерти Пушкина. Эта встреча, если бы она состоялась, не только оскверняла память о первом муже, но была бы изменой её нынешнему супругу, Ланскому. Человеку, которого она глубоко уважала, питала нежные чувства, преданность за его доброту — к ней, к её детям от Пушкина. Читайте опубликованные Ободовской и Дементьевым её письма к Ланскому и сами убедитесь в абсурдности подобного предположения. Эти письма раскроют чудный облик «бездушной, холодной красавицы», душу которой больше её физической красоты любил Пушкин. Но и она его страстно любила. Об этом писал брату Адольфу барон Густав Фризенгоф[93]. Очень важное сообщение родственника семьи. Которому нельзя не верить. Оно заимствовано из письма Е. И. Загряжской, извещавшей сестру С. И. де Местр о смерти Пушкина. Злосчастное же увлечение Натальи Николаевны Дантесом было лишь временным затмением разума и чувств. Оно кончилось презрением к «герою». Об этом говорит сам Поэт в преддуэльном письме к Геккерену. Своё «прегрешение молодости» (а ей было 24 года, когда умер Пушкин) она искупила страданиями оставшихся 27 лет праведной жизни: нервные кризы, судороги, бессонница, посты по пятницам (день смерти Пушкина) и тоска, тоска, неизбывная тоска… И преждевременная смерть. Сбылось предсказание сивиллы Долли Фикельмон: …жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение её лба заставляет меня трепетать за её будущность! <…> эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Она носит на челе печать страдания.
А её мольбы о прощении продолжают звучать в веках!
Как же быть с единственным «аргументом»?
С единственным «аргументом» в пользу связей владельцев замка с убийцей поэта? Портретом и визитной карточкой Дантеса в Бродзянском имении? Вот уже полвека пушкинисты пытаются разгадать загадку их появления в усадьбе Александрины.
Как уже упоминалось выше, зимой 1843 года супруги Дантесы общались в Вене с Фризенгофами. А им, Густаву Фогелю фон Фризенгоф и его жене Наталье Ивановне, это общение не стоило никаких моральных угрызений совести. Пушкин мало что говорил их сердцу.
Сам Фризенгоф лично не знавал Пушкина, с Натальей Николаевной познакомился, когда она уже вдовствовала. Можно предположить, что с ними она не вела разговоров ни о Дантесе, ни о Геккерене — слишком мучительной для неё была эта тема. Наталья Ивановна большую часть жизни провела за границей. Была ли она знакома с Пушкиным — не имеет существенного значения. Знакомство могло быть совсем шапочным, во время её коротких наездов в Россию. И следовательно, не коснулось никаких струн её в общем-то доброго сердца. С Натальей Николаевной, своей кузиной, она подружилась позже, в их бытность в Петербурге в 1839—1841 годах. Жили они в одном доме, Фризенгофы этажом выше. Известно, что летом 1841 года супруги Фризенгофы гостили у Натальи Николаевны в Михайловском. Подтверждение этому — письмо Пушкиной брату Дмитрию в Полотняный завод: Фризенгофы тоже очаровательны. Муж — молодой человек, очень остроумный[94]. Вместе с Фризенгофами поселились в том же петербургском доме и приёмные родители Натальи Ивановны — де Местры.
В начале XIX века о фрейлине Екатерине Ивановне Загряжской ходили слухи, что она тайно родила ребёнка от Александра I. Во всяком случае, она так и не вышла замуж, а внебрачная дочь, приписываемая её отцу И. А. Загряжскому, была удивительно похожа на царя, особенно выпуклыми синими глазами. В Бродзянском замке сохранилось предание, что она на самом деле была дочерью Александра I. В семье Гончаровых воспитывался ещё один внебрачный ребёнок, Август Иванович Мюнтель. Глазами с поволокой он напоминал Екатерину Ивановну Загряжскую, имел сходство и с Натальей Ивановной — предполагаемой его сестрой. Держался он важно и напыщенно, манерничал, разыгрывал важного барина. Был поводом для постоянных насмешек со стороны детей Гончаровых. Любопытно, что Наталья Ивановна была записана на имя некоего таинственного помещика Иоанна Иванова, а Августу дали только его отчество и немецкую, для отвода глаз, фамилию таинственной матери, то ли гувернантки, то ли бонны. Вполне возможно, что оба отпрыска были внебрачными детьми фрейлины Загряжской от известного шалуна — русского императора.
Этим преданьем старины глубокой поделился с Николаем Раевским внук Александрины Гончаровой — Георг Вельсбург. Вероятно, она сама рассказала эту историю своей дочери. К тому времени все действующие лица её давно уже отошли в мир иной. Отпала необходимость соблюдать тайну их жизни, тщательно оберегаемую Загряжскими-Гончаровыми. Возможно, Александрине захотелось пустить пыль в глаза своему зятю, герцогу Элимару Ольденбургскому, потомку шведской королевской династии Ваза? Завеса над тайной была приподнята после смерти Натальи Ивановны в 1850 году. Её предполагаемая мать Екатерина Ивановна Загряжская умерла восемь лет до неё. Перед лицом смерти немеет любая ложь. Родные решились наконец назвать в смертном акте (сохранившемся в бродзянском архиве) истинное девичье имя умершей баронессы — Н. И. Фогель фон Фризенгоф: …урождённая Загряжская волею Божию помре октября двенадцатого дня тысяча восемьсот пятидесятого года и погребена того же года и месяца семнадцатого числа в Александра-Невского Лавре.
Как бы то ни было, Наталья Ивановна была хорошо обеспечена, молодость провела в путешествиях по Европе. А в 1836 году вышла замуж за атташе австрийского посольства в Неаполе Густава Фризенгофа…
В 1841 году[95] австрийский дипломат Фризенгоф с женой вернулись из России в Австрию. Барон продолжал службу в австрийском министерстве иностранных дел. Ничто не мешало Фризенгофам общаться с Дантесами. Красивый, умевший казаться очаровательным, Дантес разыгрывал в эту пору роль несчастного человека, для которого трагически оборвалась так блестяще начатая карьера. Наталья Ивановна Фризенгоф поверила в искренность его показных угрызений совести. Презрение к нему проживающих в Вене русских, бесспорно, вызывало её сочувствие. Можно предположить, что после смерти жены в ноябре 1843 года Дантес прискакал к «батюшке» Геккерену в Вену искать у него утешения. Он возобновил свои встречи и с Фризенгофами. Вот именно тогда, в 1844 году, австрийский художник С. Вагнер написал его портрет. В этом же году Фризенгофы приобрели имение в Бродзянах. И отправились в словацкую усадьбу устраивать своё гнёздышко. А Дантес, предвидя, что расстаются они надолго, подарил Фризенгофам свой портрет с автографом — размашистым замысловатым росчерком. Аккуратный по-немецки Густав Фризенгоф приклеил визитную карточку Дантеса в специальный альбом для визиток. После него осталось несколько таких альбомов — естественно, что у дипломата был обширный круг знакомств. И визитная карточка Дантеса вместе с многочисленными другими стала частью семейного архива. Сто лет пролежала она, никем не потревоженная, — какое дело наследникам Фризенгофа до мало что говорящего им Дантеса. До 1945 года, до того самого момента, когда, после освобождения Чехословакии советскими войсками, на Бродзяны совершил набег проф. Исаченко. Он жадно набросился на оставшийся в усадьбе архив. И извлёк на божий свет злополучную карточку Дантеса. А что из этого получилось, мы уже знаем.
Такова суть «единственного аргумента». Как видите, он и гроша ломаного не стоит. Но за ним честь женщины, Мадонны. Честь, за которую Пушкин отдал жизнь.
Что ещё рассказала Варвара Александровна
— Мой отец приехал в Бродзяны в мае 1945 года вместе с советским офицером проф. H. Н. Вильямсом-Вильмонтом. Хозяева бежали из имения сразу после вступления Советской армии в Чехословакию. Усадьба была в жалком состоянии: стёкла разбиты, в комнатах поселились голуби, повсюду валялись книги, бумаги… — Версия Варвары Александровны существенно отличается от рассказа местной жительницы Йозефины Самеловой. Но комментарии об этом позже. — В первый свой приезд отец и его спутник ничего не обнаружили. Бывшие слуги Вельсбургов утверждали, что компаньонка Натальи Ольденбургской Анна Бергер забрала с собой все ценные вещи — портреты, альбомы, миниатюры, письма… Она где-то скрывалась. Отцу удалось её разыскать. Вначале Анна Бергер всё отрицала. Папе стоило невероятных усилий внушить ей к себе доверие. Он был обаятельным человеком, умел располагать к себе людей, особенно женщин. Бергер постепенно оттаивала. Папа заверил её, что все вещи будут возвращены на родину Александрины, в Россию (подч. мною. — С. Б.). Припрятанное возвращала частями — по мере нарастания доверия к отцу. Так весь бродзянский архив оказался в руках отца. Он перевёз его к себе на кафедру и хранил в несгораемом шкафу.
— Кольцо с бирюзой тоже было среди этих вещей? — Я всё ещё не могла понять, как перстень из замка оказался у дочери Исаченко.
— Нет, кольцо мне подарила сама Анна Бергер. У неё с отцом установились дружеские отношения. Она пригласила меня погостить в Бродзянах. Я в то время болела и с удовольствием приехала туда пожить на свежем воздухе… — Уловив в моих глазах сомнение, Варвара Александровна поспешно добавила: — Она меня очень полюбила и решила сделать мне приятное.
— Но как она могла распоряжаться чужим кольцом? — возразила я.
— Дело в том, что сама герцогиня Наталья Ольденбургская перед смертью ей его подарила — за верную службу.
— Вы мне позволите увидеть кольцо?
— Нет! — резко ответила собеседница. — Это невозможно! Кольцо я храню в сейфе банка. Забирать оттуда не намерена.
— Но вы хотите, чтобы я рассказала о нём в русской прессе. Как же я это сделаю, не увидев своими глазами кольцо?!
— Я вам покажу его на фотографии. — Она взглянула на часы. — До возвращения детей из школы ещё есть время. Пойдёмте ко мне домой! — сказала она решительно и поднялась.
Я обрадовалась приглашению и вместе с тем удивилась той лёгкости, с какой мне удалось завоевать её доверие. На Западе незнакомых людей, а тем более журналистов, не приглашают в дом. К тому же Варвара Александровна, как потомок князей Трубецких, принадлежала к высшему обществу. И хотя в республиканской Австрии после 1918 года отменены все титулы, кастовые условности сохранились и по сей день. Этот жест — приглашение к себе домой с первого раза — я объяснила широтой её русской натуры.
Жила она в десяти минутах ходьбы от кафе, на Виднерхауптштрассе. Просторная квартира в старинном доме, анфилада комнат с высокими потолками. На стенах много картин, русские иконы хорошей школы письма.
— Иконы у вас от дедушки? — спросила я хозяйку.
Она улыбнулась и просто сказала:
— Нет, я их сама писала.
— Вы учились иконописи?
— Посещаю курсы иконописи при нашей русской церкви.
«Вот тебе и домохозяйка! — удивлённо отметила я. — А говорила, что занимается только домом и детьми».
— А картины тоже вашей работы?
— Некоторые муж рисовал, другие — подарки друзей-художников.
— Ваш муж — художник?
— Нет, инженер, но увлекается живописью. — Варвара Александровна достала толстую папку документов. — Это всё отцовские бумаги, — заметила она. Порывшись в них, она извлекла из конверта фотографию. — Вот, смотрите.
Чёрно-белый снимок размером 10x15 см, а на нём крохотное — не разглядеть — колечко посредине.
— Да-а… — разочарованно протянула я. — У вас не найдётся более крупного снимка?
— Нет! — отрезала она.
— А нельзя ли сделать с негатива увеличение? Я бы оплатила расходы…
— Посоветуюсь с мужем. Это он снимал.
— Может, дадите мне на несколько дней негатив? Я сама закажу…
— Муж не любит никому давать свои вещи, а негативы особенно!
Вот незадача — не знаешь, как к ней подступиться. Я сделала ещё одну робкую попытку:
— Может, возьмёте кольцо из сейфа и мы снимем его в цвете?
— Об этом и речи не может быть! Когда я брала его для этой же цели из банка, так две ночи не спала — боялась, что у меня его украдут!
Снова порывшись в папке, Варвара Александровна достала несколько машинописных страниц.
— Посмотрите — это документы, подтверждающие передачу части бродзянского архива в Советский Союз.
Читаю первый листок — письмо профессора Исаченко к тогдашнему директору Всесоюзного Пушкинского музея М. М. Калаушину от 24 декабря 1956 года:
Когда в 1947 году была послана в Советский Союз делегация чехословацких писателей, я вручил словацким членам этой делегации, точнее литературному критику Михаилу Хорвату, наиболее ценную часть архива, в том числе два больших овальных портрета А. Н. Гончаровой-Фризенгоф, всю переписку братьев Фризенгофов, в том числе и корреспонденцию, относящуюся к 1836—1839 гг., портрет Геккерена [96] , обнаруженный мною в Бродзянской усадьбе, а также несколько семейных портретов…
О дальнейшей судьбе бродзянских реликвий уже много писалось. Но от внимания исследователей ускользнул любопытный факт, на который я натолкнулась в одном из писем А. Исаченко — профессору М. П. Алексееву от 5 марта 1974 года:
В 1949 году Братиславский университет праздновал юбилей Пушкина. Была открыта небольшая выставка фотографий, снятых с оригиналов до их пересылки в Россию. Я составил сценарий, и чехословацкая киностудия в Братиславе засняла короткометражный фильм (16 мм), причём текст был составлен и прочитан мной… (Выделено мною. — С. Б.)
Отыскать бы этот фильм! Тогда бы можно с достоверностью установить, какие из вещей бродзянского архива остались у Исаченко. Пушкинистов долго занимала судьба восьми уникальных альбомов с рисунками Ксавье де Местра. О них рассказал Н. Раевский в книге «Портреты заговорили». В нынешнем Литературном музее имени Пушкина в Бродзянах хранится только один из этих альбомов. Где остальные — неизвестно.
Я просматривала так странно вручавшиеся мне документы — по одной страничке в руки. Зазвонил телефон. Хозяйка направилась к телефону вместе с папкой.
— Пока вы разговариваете, разрешите мне просмотреть остальные документы, — попросила я.
— Нет! — Она даже прижала к себе папку. — Не люблю этого!
Вернувшись, бесцеремонно заявила, что ей пора заняться обедом. Но если я проявляю интерес к остальным документам, могу прийти в другой раз.
— Может, сделаем проще, — предложила я, — вместо того, чтобы переписывать от руки бумаги, которые вы мне доверяете, я сделаю с них ксерокопии?
— Нет! Это невозможно! — отрезала она.
Уговорились о встрече в ближайший понедельник у неё дома. Вечером в воскресенье она позвонила мне и сухо, ничего не объясняя, сказала, что встретиться у неё мы не можем — лучше на том же месте, в кафе.
— А как же документы? — растерянно спросила я.
— Я возьму их с собой в кафе. До свиданья! — И она повесила трубку.
Делать нечего, в кафе так в кафе. Сама себя обременяет — ей же придётся ждать, пока я перепишу эту пачку документов.
Встретила она меня как ни в чём не бывало, улыбкой — в этот раз ещё более клыкастой. Мы снова заказали по чашечке кофе. Без обиняков объяснила, почему не смогла принять меня у себя:
— Муж запретил мне приводить в дом советскую журналистку. Он вообще не питает доверия к журналистам. Согласитесь, это его право.
И, видимо, желая загладить свою бесцеремонность, вытащила из сумочки газетную вырезку.
— Посмотрите-ка, что я для вас нашла. Это статья моего дяди Сергея Григорьевича Трубецкого. Он писатель и журналист. Живёт в Нью-Йорке. В Париже вышел двухтомник его истории о роде Трубецких.
— Я всё хочу вас спросить — вы из тех самых Трубецких, в чьём роду был декабрист?
— Нет, наши роды были в родственных отношениях, но кем мои предки доводились декабристу, не могу вам сказать. Дядя, Сергей Григорьевич, говорил, да я запамятовала. Память у меня никудышная. Вы лучше попробуйте достать дядину книгу. И сами разберитесь, как там было. А копию его статьи я вам дарю. В ней — история моего пушкинского кольца.
— Здесь что-то напутано. Это заметил ещё Николай Раевский после ознакомления со статьёй вашего отца «Родственники Пушкина в Словакии». Я даже выписала для вас цитату Раевского. Послушайте, что он пишет: В конце статьи автор упоминает о кольце, принадлежавшем Александрине Николаевне, и утверждает, что видел его собственными глазами: «Это женское золотое кольцо, обтянутое железом. Александрина его носила, и тогда в кольце была бирюза». Здесь кроется какое-то недоразумение — несомненно, принадлежавшее Александрине Николаевне кольцо, которое графиня Вельсбург показала мне 21 апреля 1938 года, железом не обтянуто, и бирюза в нём была[97].
— Разве в вашем кольце теперь нет бирюзы?
— Моё тоже с бирюзой, и она вделана в металл. Взгляните-ка ещё раз на фотографию. — Варвара Александровна вытащила её из папки. — Видите — передняя часть сделана из тёмного металла.
Фотография была прежняя — маленькое — в лупу не рассмотреть — колечко.
— Как я вам уже говорила, папа предположил, что в кольцо впаяно кандальное железо. Прочтите внимательно статью и всё поймёте. Анна Михайловна Игумнова, кстати, рассказывает о нём в своих воспоминаниях. Но она утверждает, что кольцо сделано из подковы, которую нашли, гуляя в окрестностях замка, Наталья Ольденбургская с одним из сыновей Пушкина. И герцогиня сделала из неё два кольца — себе и своему кузену на счастье. Какая нелепость! Каждый знает, что подкова приносит счастье, когда она цельная. Память, видимо, изменяет Игумновой. Ничего не поделаешь — возраст. Ведь ей уже за девяносто!
— Вы обещали мне увеличить фотографию, — напомнила я ей.
— Да, я говорила об этом с мужем. Обещал сделать. Но он очень занятой человек. Придётся подождать.
Она дала мне несколько листков из архива отца. А сама стала просматривать газетную подшивку. Доверенные мне странички представляли растянувшуюся на несколько лет переписку проф. Исаченко с пушкинистами относительно бродзянского архива. Первый документ являлся «списком предметов», найденных в усадьбе Бродзяны в 1946 году. Делегация чехословацких писателей передала его в сентябре 1947 года Союзу советских писателей вместе с некоторыми вещами из Бродзян. Оказалось, что в Россию поступила смехотворно малая часть обнаруженных Исаченко реликвий из замка. А где же всё остальное? Где восемь альбомов с бесценными рисунками Ксавье де Местра? Семейные портреты Гончаровых? Дагеротип Натальи Николаевны, виденный Николаем Раевским в 1938 году? Рисунки Жуковского, автограф его стихотворения «Мотылёк и цветы», вписанный в альбом Натальи Ивановны? Богатейшая, в десять тысяч томов, библиотека из замка? Мебель, картины? Визитная карточка Дантеса?
Впрочем, на последний вопрос могу сама ответить: визитную карточку Дантеса прикарманил Исаченко. У Варвары Александровны действительно неважная память: она позабыла, что пушкинисты не раз требовали у Исаченко эту карточку, и хвастливо показала мне её. Она хранилась в большом деревянном сундуке с бумагами отца. Но ещё забавней, что Исаченко тоже проговорился о ней своему родственнику С. Г. Трубецкому. А тот рассказал об этом в статье «История пушкинского кольца». Позднее в бродзянском музее мне показали только один из восьми альбомов с рисунками Ксавье де Местра. Остальные, вероятно, постигла участь визитной карточки Дантеса.
Почти двадцать лет советским пушкинистам не давала покоя мысль об утраченных бродзянских сокровищах. В 1956 году Исаченко сообщил М. М. Калаушину, что остальная — не переданная в Россию — часть архива из Бродзян (в том числе альбомы де Местра, в которые были вклеены также миниатюры Боджи; акварельный портрет H. Н. Пушкиной работы Гау, альбомы с рисунками семьи Ланских, два гербария Н. И. Ивановой) была изъята у него из университета в 1955 году Словацким ведомством по делам школ. Сотрудники ИРЛИ тут же отправили запрос в дирекцию Словацкого народного музея. Оказалось, часть вещей из Бродзян действительно находилась там. Но только часть.
Нападение — древний способ защиты. Исаченко умело использует его. Атакует письмами сотрудников ИРЛИ, оба пушкинских музея. С возмущением спрашивает о судьбе переданных им предметов из Бродзян. Ему вежливо отвечают, что портреты и альбомы находятся во Всесоюзном музее Пушкина, а рукописи — в рукописном отделе Института русской литературы Академии наук СССР (ИРЛИ). Но больная совесть не даёт покоя. 5 марта 1974 г. Исаченко вновь пишет из Клагенфурта (к этому времени он переехал в Австрию) академику М. П. Алексееву. В этом послании я обнаружила любопытные для нашей истории пассажи.
Пушкинские материалы я не «просто» видел, а с большими трудностями извлёк на свет божий. Последние владельцы усадьбы были матёрые национал-социалисты, и все мои попытки во время войны приехать посмотреть пушкинские вещи отклонялись довольно резко. Портреты, некогда висевшие в комнатах, были убраны (подч. мною. — С. Б.), они не хотели, чтобы на виду остались воспоминания об их русских (а то чуть ли не негритянских) родственниках.
О так называемом национал-социализме графов Вельсбургов я уже говорила выше. Что же касается спрятанных русских портретах — это очередная выдумка Исаченко. Как можно утверждать подобное, когда его даже к порогу дома не подпустили! Военные годы профессора темны и загадочны. Его дочь сказала, что будто к концу войны отец был арестован гестапо. Потом он служил переводчиком в советской армии, где и подружился с майором Вильямсом-Вильмонтом.
Поэтому, когда ещё в мае 1945 г. я привёз в Бродзяны проф. Н. Н. Вильямса-Вильмонта, — цитирую дальше исповедь Исаченко академику Алексееву, — мы с ним так-таки ничего не нашли. Все портреты, альбомы, гербарии, миниатюры, все фотографии и дагерротипы, письма, записки, визитные карточки хранились где-то у Анны Бергер, полу-служанки, полу-дам-де-компани (сохраняю орфографию профессора. — С. Б.) герцог. Ольденбургской (Натальи), дочери Александрины и Фризенгофа. Очень многое ей было «дано на хранение» (герцогиня скончалась лишь в 1938 г.!)[98], многое герцогиня просто «вручила» своей приближённой. Достался ей, между прочим, и перстень, который якобы носил сам Александр Сергеевич и который всю жизнь носила — по словам Анны — её госпожа и её мать, Александрина. Этот перстень Анна подарила моей дочери Варваре, когда та приехала отдыхать в Бродзяны после тяжёлой болезни… (Выделено мною. — С. Б.)
В этом объяснении Исаченко о перстне много неправды. Первая: трудно поверить, что фамильную святыню — пушкинский перстень — герцогиня Ольденбургская подарила своей компаньонке. Вторая: Анна Михайловна Игумнова, хорошая приятельница герцогини, от неё самой слышала историю перстня (о впаянном в него кусочке подковы, найденной на прогулке). Третья: Александринино кольцо с бирюзой Н. Раевский видел на руке графини Вельсбург в 1938 году, через год после смерти Н. Ольденбургской. Четвёртая: предположим, что Анна Бергер в самом деле получила в подарок от своей хозяйки перстень с впаянным в него кусочком железа и затем в порыве душевной щедрости переподарила его дочери Исаченко. Но не думаю, что приближённая герцогини, её неотлучная компаньонка не знала того, что было всем известно, — кольцо сделано из подковы. Напрашивается вывод: Исаченко придумал свою собственную версию происхождения перстня. Но зачем ему это понадобилось? Об этом скажу позже. А пока ещё одна цитата из письма академику Алексееву:
Анна Бергер вначале была крайне недоверчива, ничего не говорила, не показывала, не выдавала. Только после многих посещений и бесед, в которых она поняла, с кем имеет дело, после моих заверений, что вещи будут возвращены на родину и что, вероятно, вполне совпадает с намерениями её бывшей госпожи (выделено мною. — С. Б.), Анна стала помалу оттаивать и выдавать скрытые у неё где-то вещи. Все бродзянские материалы хранились в несгораемом шкафу моего Института русского языка и литературы в Братиславском университете.
Во всей этой истории правдоподобнее всего, на мой взгляд, момент «обвораживания» Анны Бергер.
— Папа был обаятельным человеком. Он умел располагать к себе людей, особенно женщин… — ещё при первой нашей встрече заявила мне Варвара Александровна.
Обольщение шло по всем правилам. За ним последовал обман. Как Исаченко распорядился бродзянским архивом и какая его часть была возвращена на родину Александрины Гончаровой, мы уже знаем.
В 1958 году жена Исаченко Елена Николаевна оставила мужа и уехала с дочерью в Вену. В 1968 году профессор тоже перебрался в Австрию с молодой женой — чешской балериной. В Клагенфурте он получил место в местном университете. После его смерти Варвара Александровна сумела отвоевать у новой жены сундук с бумагами отца. Были ли в нём ещё какие-нибудь вещи из бродзянского архива, кроме визитной карточки Дантеса и кольца с железной оковкой, мне не суждено было узнать.
Трубецкой в защиту Исаченко
Моя же переписка со скоропостижно скончавшимся Александром Васильевичем Исаченко началась по поводу пропавшего пушкинского кольца, — писал Сергей Григорьевич Трубецкой в статье «История пушкинского кольца»[99]. — Мне хочется в память покойного рассказать историю потерянного и теперь найденного кольца, присланного А. С. Пушкину из Сибири декабристами.
Получилось всё очень складно, увлекательно и весьма правдоподобно. Если бы… история эта основывалась хоть на каких-нибудь фактах. Я сама увлеклась этой версией и ненадолго поверила в неё. И даже предприняла расследование.
Но начнём по порядку. 8 июля 1830 года, в день Казанской Богоматери, выходя из церкви и направляясь к ожидавшей его свите, царь Николай как бы мимоходом бросил шефу жандармов: «Чтобы с них сняли кандалы!» Бенкендорф понял с полуслова, и через несколько часов фельдъегерь с приказом царя уже скакал в далёкую Читу. Первого августа приказ был вручён генералу Лепарскому. Осторожный комендант отложил его исполнение и отправил нарочного в Петербург за разъяснением. Ответ был получен в конце сентября. На другой день, в воскресенье, 30 сентября, генерал, в полной парадной форме, с лентой через плечо появился в остроге и торжественно объявил заключённым о высочайшей милости. По воспоминаниям Розена, пришёл унтер-офицер с ключом, отомкнул замки кандалов, они в последний раз брякнули об пол… Тогда все упали друг другу в объятья и тотчас же отправились в церковь к обедне с благодарственным молебном. Через несколько дней каждая из дам носила кольцо или браслет, сделанные из железа мужниных кандалов Николаем Бестужевым.
Многие друзья декабристов получили в подарок такие перстни и браслеты. Они, как писал Михаил Бестужев, стали символом братства и свободы. Логично предположить, что такой подарок получил и Пушкин. Но нигде, ни в переписке Поэта и его друзей, ни в мемуарной литературе о нём я не нашла подтверждения этому факту. В московском музее декабристов на выставке по случаю 160-летия декабристского восстания я внимательно рассматривала экспонированные изделия из кандального железа. Но ни один из представленных здесь перстней даже отдалённо не напоминал «исаченковский». И. С. Зильберштейн посоветовал мне обратиться в Исторический музей. Меня любезно выслушали, согласились с логичностью предположения Исаченко. Предложили самой взглянуть на хранящиеся в фондах музея декабристские кольца. Увы! — ничего похожего. В музее мне рассказали о Святославе Александровиче Малиновском, потомке лицейского товарища Пушкина, инженере по профессии, исследователе по призванию. Многие годы он изучал историю декабристских колец. Я созвонилась с ним, и мы долго разговаривали на эту тему. В сущности, Святослав Александрович повторил слова Варвары Александровны Куннельт-Леддильн: трудно найти подтверждение этой версии, Пушкин не стал бы афишировать подобный подарок — связь с декабристами сурово каралась, ему же грозила новой ссылкой и даже Сибирью. Прощённый царём Поэт стал осторожным. Малиновский допускал, что Поэт мог облечь чугунное кольцо золотом и даже вставить в него камень. Но всё это — лишь предположение. И никаких доказательств. Но давайте включим логику: если бы у Пушкина был подобный перстень, тем более видоизменённый, он мог спокойно носить его. И какое-нибудь свидетельство о существовании у Поэта столь необычного перстня должно бы остаться. И напротив — если он тайно сохранял его как память о декабристах, вряд ли бы стал его переделывать. И наконец, зачем ему было дарить такое кольцо Александрине? Да, по воспоминаниям княгини Вяземской, через неё он вернул свояченице золотое кольцо с продолговатой бирюзой. Оно хранилось у потомков Александрины. Н. Раевский видел его на руке графини Вельсбург. Но оно было золотым, без впаянного железа. Полученное же от Анны Бергер было совсем иным. А насколько правдива версия профессора о происхождении перстня, судите сами.
Тут я вспомнил сообщение, — писал Исаченко С. Г. Трубецкому, — одного друга Пушкина, писателя Жуковского (воспитателя царя Александра II). Жуковский провёл почти всё время после дуэли Пушкина до смерти у него и докладывает очень подробно про его желания, слова и страдания. По его словам, Пушкин просил непосредственно перед смертью, чтобы Жуковский передал кольцо, которое Пушкин всегда носил (!!!), незамужней свояченице Александрине Гончаровой. Пушкин снял это кольцо с пальца и поручил Жуковскому немедленно передать его А. Гончаровой.
Приведённый в статье Трубецкого отрывок из письма Исаченко лишний раз доказывает, следует ли вообще доверять сообщениям недобросовестного «пушкиниста». Как говорится, слышал звон, да о чём он… Перепутаны (или подтасованы?) хорошо известные в пушкинистике факты: на смертном одре Поэт подарил перстень с бирюзой (нащокинский) Данзасу. Для Александрины же передал через княгиню Вяземскую цепочку с крестиком. Не о кольце, а цепочке сообщал подробно докладывавший про его желания, слова и страдания Жуковский Бенкендорфу: а Данзасу велел найти какой-то ящичек и взять из него находившуюся там цепочку[100]. О перстне рассказывала Вяземская: Раз взял у неё какой-то перстень с бирюзой <…> носил этот перстень и назад ей отдал.
Месяца через полтора после нашей второй встречи в кафе госпожа Куннельт-Леддильн позвонила мне и сказала, что обещанная фотография готова и я могу получить её.
Ещё одна встреча в кафе. Рассматриваю ненамного увеличенное кольцо.
— Неужели это бирюза? — спрашиваю Варвару Александровну. Прозрачный камень, вправленный в ободок, глубоко просвечен падающим на него лучом света. — Ведь бирюза матовая и не даёт бликов.
— Вы правы, это не бирюза, а изумруд. Кольцо это носила моя мать, потеряла бирюзу, и пришлось вставить другой камень.
Объяснение правдоподобное. Тогда у меня не было ни тени сомнения в искренности Варвары Александровны. Я поблагодарила её, заплатила за фотографию. Попросила — без особой надежды — почитать «Воспоминания о Бродзянах» Игумновой. Конечно же, получила отказ.
— Без её разрешения не могу!
Но дала мне адрес В. М. Игумновой в Братиславе. На том мы и простились.
Фантастическая жизнь «при дворе»
О бывшем графском имуществе в Бродзянах ходили самые невероятные слухи. Судачили о портрете Пушкина, увезённом после войны в Австрию. Будто бы бывшая кухарка Вельсбургов ездила к своей прежней госпоже Марии-Рут, жившей с сыновьями Александром и Христианом в Вене. По словам Йозефины Самеловой, дочери этой кухарки, существовало два парных портрета супругов Пушкиных. Они, казалось, были нарисованы одним и тем же художником. И оба в овальных рамках. Бродзянское, выполненное Гау, изображение H. Н. относится к 1842 году. Возможно, Гау тогда же написал и посмертный портрет Пушкина. Можно также предположить, что Александрина перед отъездом в Австрию попросила его у сестры в память о зяте. Я решила спросить об этом Веру Михайловну Игумнову. Написала ей в Братиславу письмо.
Вскоре получила довольно пространный — на трёх страницах — ответ. Дрожащий, старческий почерк почти совершенно слепой девяностошестилетней женщины. Но очень ясная мысль, интеллигентный слог и правильный русский язык, удивительный для человека, почти семьдесят лет прожившего за границей.
Во время моего пребывания в Бродзянах я не видела нигде портрета Пушкина, — писала Игумнова, — и даже не слышала ни одного слова о нём, ни от герцогини Ольденбургской, ни от её постоянных или временных гостей. Многие из них, вероятно, не знали, кем был Пушкин и, конечно, не читали его произведений, хотя бы в переводе. Сама я большая поклонница Пушкина, и это меня огорчало. Моя связь с Бродзянами кончилась много лет тому назад, и за это время все мои тамошние знакомые в замке и в деревне постепенно умерли. Единственная особа, которая могла бы Вам сообщить всю подноготную о Бродзянах, это ближайшая помощница герцогини Анна Бергер, она провела там почти всю жизнь и осталась в замке после кончины герцогини Ольденбургской, но и её уже нет в живых. Мои «Воспоминания о Бродзянах» были написаны тоже давно, и в них Вы не найдёте ни слова о Пушкине, а только о фантастической жизни «при дворе» герцогини Ольденбургской. Факт, что Александрина и герцогиня Ольденбургская сожгли перед смертью все свои бумаги, ещё не значит, что в них было что-нибудь интересное для пушкинистов. Этого никто никогда уже не узнает.
Итак, Игумнова подтверждала, что портрета Пушкина не было в замке. Интеллигентной поклоннице Поэта можно верить. Но должны же быть какие-то основания для легенды о его существовании в замке? Неужели беспочвен и слух об австрийском графе Альбене Харрахе, богаче и страстном собирателе раритетов, будто бы ещё до войны предложившем герцогине Ольденбургской купить у неё портрет Пушкина?[101] А что, если вечно нуждавшаяся герцогиня, периодически посылавшая в Австрию Анну Бергер продавать наследственные драгоценности, приняла предложение графа Харраха? И утаила это и от Игумновой, и от поселившегося в замке лишь в 1928 году правнука Александрины графа Вельсбурга? Ведь слуги из местных жителей видели портрет в замке. Утверждали, что висел он в гостиной, и даже описали его. Об этом они рассказали славистам Братиславского университета, в конце шестидесятых годов скупавших у крестьян растащенные из замка вещи.
Забегая вперёд, скажу, что побывала я и в австрийском замке Харраха неподалёку от Вены — в Рорау. Расположенная в одном из его флигелей богатейшая картинная галерея доступна для осмотра. Европейские аристократы давно уже превратили свои художественные собрания в источник доходов — взимают плату за вход, устраивают передвижные выставки. Я внимательно осматривала расположенную в нескольких залах превосходную коллекцию графа. Смотрители на мой вопрос о русских портретах удивлённо качали головами. Тогда я решилась письменно обратиться к графу Ноштитцу, собственнику замка в Рорау. Через два дня получила ответ, написанный секретарём графа д-ром Робертом Кейсцелитцем. Он любезно извещал меня, что графу ничего не известно о портрете Пушкина, семейным же архивом распоряжается Эрнст Леонард Наррах, живущий в Бруке на Лайте. Но все старые семейные бумаги переданы им на попечение Австрийского государственного архива. Доступ туда для работы свободен. В Рорау же никаких архивных документов не сохраняется. Решилась побеспокоить и графа Эрнста, владельца огромного старинного замка «Пруг» на Бруке. Так же быстро получила от него собственноручное вежливое письмо. Он сообщил — все документы периода 1920—1945 годов погибли во время последней войны. Старая же часть семейного архива в настоящий момент едва ли доступна из-за перемещения в новое хранилище. Оказалось, родственники Харрахи серьёзно отнеслись к моему запросу. Переговорили по этому поводу друг с другом. Ноштитц ещё раз подтвердил Эрнсту Леонардо, что он никакими сведениями о интересующем меня графе Альбене не располагает. Искренне сожалеет, что ничем не может мне помочь. Удивительно загадочная история! Самое странное в ней то, что граф Альбен оказался мистической, неизвестной потомкам личностью. Может, пушкинисты перепутали его имя? Или кто-то действовал под вымышленным именем?
Оставалась последняя надежда — сыновья Вельсбургов. Решила проверить и бродзянскую версию об увозе портрета Пушкина к ним в Вену. Мой первый звонок по найденному в телефонном указателе номеру Вельсбургов оказался неудачным. Женский голос не очень учтиво ответил мне, что Мария-Рут недавно умерла и никаких вещей из Бродзян у них нет. Оказалось, что я попала на дочь старшего сына Александра. А сам он умер ещё в 1961 году. К великому сожалению, я опоздала. А ведь у приезжавшей в шестидесятых годах из Вены в Бродзяны графини — сведения от тех же бродзянских старожилов — должны быть по меньшей мере два семейных альбома с фотографиями и рисунками (а среди них, сказывали, было и акварельное изображение Пушкина), да мало ли ещё чего. Растрогавшись от встречи с барыней, её бывшие слуги могли вернуть ей многое из прикарманенного. Я решила увидеться с её сыном Христианом. Мои венские приятельницы «из света» навели о нём справки: живёт замкнуто, бедно, работает слесарем. Его мать ещё поддерживала кое-какие светские знакомства, но сам он, из-за перехода в другую социальную категорию, естественно, не вхож в общество. Никто с ним не был знаком, и никаких рекомендаций мне не могли дать. Но удалось раздобыть его телефонный номер.
Я рискнула позвонить. Случилось это вскоре после моей поездки в Братиславу к Игумновой и в Бродзяны. Сотрудники бродзянского музея рассказали мне о внезапном появлении там Георга Вельсбурга. Видимо, предчувствуя приближение смерти, приехал в последний раз взглянуть на своё бывшее имение. Местные жители узнали графа. До этого момента все считали его погибшим в Дрездене во время бомбардировки. Об этом им сообщила сама графиня. С тех пор, по её словам, она ничего о нём не слышала. А граф тем временем благополучно проживал в Венгрии со своей второй женой. В августе 1984 года, вскоре после посещения Бродзян, он умер. Обо всём этом я рассказала его сыну. Но упоминание об отце ещё более ожесточило его. Видимо, семья давно знала и о местонахождении графа Вельсбурга, и о его второй жене. Графиня Мария-Рут, наверное, из гордости придумала для любящих посудачить местных жителей историю о его гибели в Дрездене. Когда я попросила Христиана встретиться со мной, он нелюбезно ответил: «Ничего о Пушкине, Бродзянах и обо всём с ними связанном знать не желаю! На эту тему ни с кем не намерен разговаривать!»
Что ж, его можно понять. Нелегко пришлось в Австрии молодой графине, оставшейся с двумя детьми без всяких средств к существованию. Во время жесточайшей тотальной бомбардировки англо-американской авиацией Дрездена, в мгновение ока превратившей этот прекрасный город в руины, графиня потеряла мужа. В Австрии у графов имелась незначительная недвижимость. Графиня сумела продать её и какое-то время продержалась на вырученные деньги. Когда они кончились, устроилась на работу в школу. На скромную учительскую зарплату не смогла дать детям образование.
Но вернёмся к письму Игумновой. Вы будете разочарованны, — писала она мне далее, — что не могу сообщить Вам ничего ценного. (Простите за мои каракули, я уже очень плохо вижу, но всё-таки надеюсь, что Вы их сможете прочесть.) Сама я доживаю свой век в Братиславе и завалена всякими собственными проблемами. Я избегаю всяких новых знакомых, так как они меня зря утомляют. Простите меня, но я не могу Вам помочь в Вашей работе. Считаю, что моя встреча с Вами излишня и жаль тратить на это Ваше драгоценное время. Извините меня за это. Желаю Вам всяческих успехов в Вашей работе и шлю Вам привет. Ваша А. Игумнова.
Вежливый отказ. Фиаско на всех фронтах. Но я всё же решила поехать в Братиславу. В Братиславском университете на кафедре русского языка мне дали телефон Игумновой. Звоню ей из гостиницы. Благодарю за обстоятельный ответ и пытаюсь её склонить хотя бы на короткую встречу со мной. Я надеялась, что она даст мне почитать свои «Воспоминания о Бродзянах».
— У меня ничего не осталось, — ответила она. — Всё давно раздала — один экземпляр в Пушкинский дом, другой Вареньке Исаченко, третий хранится у знакомых в Москве. Держать у себя незачем, пора уже умирать.
Хватаюсь за последнюю соломинку: «В таком случае разрешите мне ознакомиться с хранящимся у Варвары Александровны экземпляром?»
Вера Михайловна с неохотой соглашается на пятиминутную встречу. Жила она на улице Фучика, 29. На высоком этаже, без лифта. Встретила меня в дверях. Разговаривали на лестничной площадке. Старая, очень старая женщина, беспомощная в своём одиночестве. С русским мужем, как мне сказали, она давно разошлась. Постеснялась пригласить меня в комнату — чтоб не видела её бедности, запустения. На подоконнике нацарапала коротенькую записку к Вареньке — по иному она не называла Варвару Александровну. Милая Варенька! У меня не осталось ни одного экземпляра «Воспоминаний». Очень прошу тебя, разреши Светлане Павловне почитать их. Шлю тебе привет. Твоя Игумнова.
Мне было очень неловко за свою настойчивость. Но другого выхода у меня не было. Нужно довести до конца историю с так называемым пушкинским кольцом. Необходимо самой прочитать, что о нём пишет Игумнова. До Петербурга далеко. Да и получить разрешение на допуск к советским архивам в те времена было очень непросто человеку с заграничным паспортом.
Версия вторая и окончательная — кольцо из подковы
Я не сразу позвонила Куннельт-Леддильн. Журналистские будни занесли меня сначала в Лихтенштейн к барону Фальц-Фейну. Затем мне пришлось поехать в Москву, снова в Лихтенштейн, а оттуда в Лозанну на выставку, посвящённую творчеству Сергея Лифаря. Много времени ушло на статьи об этих поездках. Так что Варваре Александровне я смогла позвонить только месяца через три после встречи с Игумновой. Хотела обрадовать её полученными от С. А. Малиновского сведениями о декабристских кольцах. Он уверил меня, что специалисту вроде него легко установить из какого железа сделан ободок принадлежавшего ей кольца — кандального или подковного. Тогда я всё ещё верила, что ей, как и мне, очень важно узнать истину о перстне.
— Я получила разрешение от Игумновой… — начала я.
— Игумнова уже умерла, — сухо прервала меня Куннельт-Леддильн.
— Простите, когда?
— Накануне Нового года.
— У меня к вам записка от неё. Могла бы я получить её мемуары? Всего на один день или даже просмотрю в вашем присутствии?
— Нет!
— Неужели вы не выполните предсмертную просьбу Игумновой? Ведь вы говорили, что уважаете её…
— Мне всё это надоело! До свиданья! — И она повесила трубку.
Вот наконец она и показала свои клычки. Что же это? Дурное настроение капризной особы или стремление что-то скрыть? Последнее предположение подтвердилось.
Но что именно пытались они с отцом скрыть? Почему Исаченко все эти годы оправдывался — в письмах Калаушину, академику Алексееву, в предсмертном письме своему родственнику С. Г. Трубецкому? Он оправдывался и в то же время запутывал пушкинистов. Как я уже говорила, многие бродзянские вещи исчезли. Альбом с визитными карточками был просто опустошён. Вот свидетельство проф. Кишкина: К сожалению, многие из примерно 100 листов альбома оказались пусты, наклейки с них исчезли.[102] Загадочна и история с портретом Дантеса. В 1947 году в Советский Союз был передан совсем не тот портрет, который видел Н. Раевский в замке в 1938 году. Подозреваю, что он был подменён Исаченко. Овальное изображение Жоржа Геккерена (сепия) с его собственноручным витиеватым автографом, работы С. Вагнера, превратилось в чёрно-белую литографию (выполнена О. Ф. Мюллером в Карлсруе) — её привезли в 1947 году в Москву чехословацкие писатели. Подобное литографическое изображение Дантеса находится сейчас и в бродзянском музее. Вряд ли в замке было несколько его копий. Видимо, они были приобретены после войны в какой-нибудь антикварной лавке Чехословакии. Чешские и немецкие гравюры прошлого века встречались ещё до восьмидесятых годов в букинистических магазинчиках Братиславы.
Но отчего Варвара Александровна так упорно не желала мне показывать мемуары Игумновой? В 1995 году я съездила в Петербург и прочитала хранящиеся в Пушкинском доме «Воспоминания о Бродзянах». Наконец-то нашлось объяснение странному поведению г-жи Куннельт-Леддильн:
…и тут надо опровергнуть рассказ о кольце, которое будто бы принадлежало А. С. Пушкину. Наталия Густавовна как-то гуляла с сыном Пушкина, они подобрали подкову и решили заказать себе из неё кольца «на счастье». Одно из этих колец Наталия Густавовна носила до самой своей смерти, и оно сильно стёрлось. После её смерти Анна Бергер подарила это кольцо проф. Исаченко на память. Так что ни о каком «кольце Пушкина» не может быть и речи (выделено мною. — С. Б.)[103].
Последним, завершающим аккордом в этой затянувшейся истории с «пушкинским кольцом» оказался разговор с проф. Кишкиным.
— Этот перстень с рубином? — спросил меня Кишкин.
— Почему же с рубином — с изумрудом, взамен потерянной бирюзы?!
— А-а, — протянул Кишкин, — значит, это другой. Тот, герцогинин, как сказала мне Игумнова, был с рубином.
Тут-то я всё и поняла. Если в кольце герцогини никогда не было бирюзы, то её надо было придумать. Чтобы правдоподобней выглядела легенда о «пушкинском перстне, подаренном декабристами». Потому что в Александринином, возвращённом ей Пушкиным, она была. Когда камень из бродзянского кольца был потерян, его заменили изумрудом — может, не смогли найти точно такой формы кабошон. Разве могла тогда предвидеть Елена Николаевна Исаченко, какая абсурдная идея взбредёт в голову её мужу? Теперь стало ясно, почему Варвара Александровна не показала мне само кольцо, а только его чёрно-белое изображение. Почему, даже после разрешения Игумновой, не дала ознакомиться с её мемуарами. И почему, наконец, со мной вообще не захотели больше общаться — слишком глубоко я копала! Куннельт-Леддильн изо всех сил старалась, чтобы я не догадалась об обмане.
А теперь отвечу на самый главный вопрос: зачем Исаченко придумал эту историю? Только ли погоня за славой первооткрывателя в пушкинистике двигала им? А зачем привирал Хлестаков? Выдумывал свои приключения барон Мюнхгаузен? Есть такая порода людей, которая не может без фантазий. Своими байками они разнообразят жизнь, дают писателям материал для сочинений. Как видите, небылицы Исаченко вдохновили и меня на расследование этой почти детективной истории…
Ну, а где же настоящее, Александринино, кольцо с бирюзой, которое накануне войны видел на руке графини Раевский? Оно, по-видимому, так и осталось у Марии-Рут Вельсбург. Показывая его гостю, она заметила: «Говорят, у вас в России был обычай дарить такие кольца невестам на счастье».
Но ей, Марии-Рут, оно не принесло счастья. Трудно сложилась её дальнейшая жизнь. К сожалению, я не застала её в живых, а могла бы — но слишком долго шла я по ложному следу.
Возможно, когда-нибудь заговорят живущие в Вене праправнуки Александрины Гончаровой. И мы узнаем о дальнейшей судьбе маленькой, но священной реликвии, связанной с именем Пушкина, — кольце с бирюзой.
Портреты продолжают говорить
I. Она друг Пушкина была
Теплится Теплице
На северо-западной окраине Чехословакии, у самой границы с Германией, чуть теплится некогда прекрасный Теплице. Как у немощной старухи, одни лишь воспоминания остались у него от былой славы, красоты и бурлившей в нём жизни. Задворочным существованием и преждевременной дряхлостью обязан он своей соседке — бывшей ГДР. Там, за Рудными горами, дымили гиганты немецкой социндустрии — химические заводы вокруг Карлмарксштадта[104]. Едкими газами окуривали они на многие десятки километров живописнейший уголок планеты — Дойче Еке, где сходятся границы трёх стран — Германии, Польши и Чехии. Великий разор наступил в этих пограничных землях — облысевшие горные кряжи, высохшие леса, мёртвая почва, отравленная вода. Удушливое облако нависало над Теплице и далеко окрест его. Воздух — не продохнуть: першило в горле, покалывало в лёгких, слезились глаза. Плодородная долина превратилась в унылую безжизненную местность.
Теплице славен своими горячими минеральными источниками. Он завершает цепочку знаменитых богемских курортов у подножия Рудных гор — Марианске Лазне (Мариенбад), Карловы Вары. Лет десять назад по совету врачей я привезла дочку на чудотворные карлововаровские воды. Оттуда до Теплице чуть более 50-ти километров. Воспользовалась случаем и написала письмо рекомендованному мне Англобером Яромиру Мацеку — заведующему библиотечным фондом Теплицкого музея. Не надеялась на скорый ответ. Но г-н Мацек сразу же отозвался и пригласил приехать.
В прежние времена Теплице был одним из фешенебельных европейских курортов. Здесь находился дворец князей Клари-Альдрингенов с замечательной коллекцией картин, мебели, утвари. Нынешний фасад в стиле классицизма обманчив. Коридоры, галереи, залы сохранили гулкость старинного монастыря. Он возник во второй половине XII века. В начале XV века, во время Гуситских войн, был разрушен. На развалинах романской постройки был возведён ренессансный замок. Сменялись его владельцы — Вржешовичи, Кинские, Альдрингены и, наконец, графы Клари, соединившие своё имя с Альдрингенами.
Сюда на минеральные воды приезжали коронованные особы из всех стран Европы. Бывали здесь и русские цари. Автографы Александра I и Николая I оставлены в гостевой книге князей Клари-Альдрингенов. В архиве Дечина — городка неподалёку от Теплице — мне довелось подержать в руках эту интереснейшую реликвию семьи. Сотни знаменитых имён — Гёте, Бетховен, Беранже, Гумбольдт, Черубини, Доницетти, Дюма, Шатобриан…
В 1835 году Николай I приехал в Теплице на торжества по случаю годовщины победы под Кульмом. Состоялась закладка памятника погибшим здесь русским воинам. О пребывании царя в замке напоминает его подарок хозяевам — две большие императорского фарфорового завода вазы. Известный французский художник, долгие годы работавший при русском дворе, А. Ладюрнер увековечил это событие картиной «Николай I на балу в оранжерее замка». Её и сегодня можно увидеть в замковой художественной галерее. До конца Второй мировой войны здесь сохранялся и стол, за которым после сражения под Кульмом было подписано соглашение между тремя монархами — Александром I, австрийским кайзером Францем I и прусским королём Вильгельмом III. Копия этого документа — основа договора о Священном союзе — всегда лежала на знаменитом столе-реликвии. Об этом и многих других семейных преданиях рассказывает в книге «Истории старого австрийца» последний владелец замка князь Альфонс Клари-Альдринген. Князь был превосходным рассказчиком. Его байки искрятся юмором и колоритными подробностями княжеского бытия прошлого и нынешнего веков. Для исследователей же книга любопытна сведениями о русских предках Клари-Альдрингена.
В 1841 году в замке воцарилось прелестное юное создание — Элизалекс, дочь графов Долли и Шарля Фикельмон. Она приходилась правнучкой Михаилу Кутузову и бабушкой князю Альфонсу. С ней связаны русские раритеты замка. Они-то и приковывают к Теплице внимание пушкинистов.
Ещё один брюлловский портрет?
…душой, святым огнём согретой,
она друг Пушкина была.
Ростопчина. Эпитафия Хитрово Е. М.Клари-Альдринген в детстве любовался двумя прелестными молодыми женщинами, изображёнными на фоне дымящегося Везувия. Одна из них — его прабабушка по женской линии Дарья Фёдоровна Фикельмон. Другая — высокая, тонкая, с волшебным, по выражению князя, лицом — её сестра Екатерина, предполагаемая прабабушка одного из убийц Распутина — Феликса Юсупова. Таковой считалась она по семейным преданиям обеих княжеских фамилий. Русские журналисты И. Бочаров и Ю. Глушакова обнаружили эту акварель в Венеции в доме гр. Анны Сан-Марцано — внучки Элизалекс и, следовательно, кузины князя Альфонса. Теперь акварель передана в дар Государственному музею Пушкина в Москве. Её автором оказался Александр Брюллов, художник и архитектор, брат знаменитого Карла Брюллова.
В апреле 1822 года вновь созданное в России Общество поощрения художников выделило двум братьям пенсион для обучения живописи в Италии. В Неаполе Александр, а затем и Карл познакомились с австрийским посланником Шарлем Фикельмоном и его молодой красавицей женой Долли Тизенгаузен. Так знаменитое трио — Елизавета Михайловна Хитрово, её дочери — Екатерина и юная посланница Долли вошли в жизнь и творчество художников Брюлловых. Четырёхлетний пансион давно кончился, а Брюллов всё не возвращался в Россию. Теперь он сам себя обеспечивал — от заказов не было отбоя, да и появились богатые покровители — Юлия Самойлова, Анатолий Демидов. В 1836 г. Брюллов наконец появился в Петербурге. Здесь вновь встретился с Фикельмонами. Модному художнику тут же заказали портрет двенадцатилетней Элизалекс — ныне в собрании Теплицкого замка. В экспозиции Теплицкой художественной галереи находится изображение Елизаветы Хитрово работы неизвестного русского художника.
Впервые я увидела цветную репродукцию с портрета Хитрово в венском доме бельгийского дипломата Жоржа Англобера. Он показал мне свою уникальную коллекцию гравюр и документов наполеоновской эпохи. Профессия дипломата отнюдь не мешала его исследовательской деятельности. Напротив, обширный круг знакомств помогал его собирательству. Жена его — австрийка, и он, вопреки дипломатическому статуту, до самой пенсии работал в Австрии культурным атташе. Из Вены легко совершал «набеги» в соседние страны — Италию, Чехословакию, Германию. Всегда возвращался с добычей. Этот удивительный энтузиаст организовывал для французских и бельгийских любителей истории экскурсии по местам сражений с армией Наполеона. Во время одного из посещений Кульма побывал в Теплице и приобрёл в музее замка каталог выставки «Собрание друзей Пушкина в Теплице».
На обложке каталога воспроизведена цветная репродукция с портрета Элизалекс Фикельмон, написанного Карлом Брюлловым. После Второй мировой войны картинная галерея Клари-Альдрингенов была вывезена из замка и разрознена. Часть собрания, в том числе и брюлловская работа, оказалась в Вельтруском дворце. Сюда собрали произведения искусства из многих чехословацких имений. Архивы Клари-Альдрингенов попали в другое хранилище — в Дечинское рукописное собрание. Мебель, утварь оказались в каком-то ином месте. Долгое время картины, архивы бывших дворянских усадеб практически не были доступны исследователям. В семидесятые годы началась реставрация замков. Восстановлен был прежний интерьер и Теплицкого дворца Клари-Альдрингенов. Он стал притягательным центром для пушкинистов.
Авторы каталога «Собрание друзей Пушкина в Теплице» — чешские искусствоведы Сильвия Островская и Квета Кржижова — первоначально датировали портрет Е. М. Хитрово 1835 годом.
— Да ведь это Брюллов! — воскликнула я, рассматривая репродукцию. — Типичный для него колорит — золото, пурпур, густой синий цвет! Брюлловская пышность и декоративность! И этот мягкий, наполненный воздухом фон с обязательным для его ранних портретов пейзажем!
— Да, похоже на Брюллова, — согласился со мной Англобер.
Я одолжила у него каталог и дома стала сравнивать портрет Елизаветы Михайловны с другими работами художника в «Альбоме произведений Брюллова». Вот Юлия Самойлова с приёмной дочерью Амацилией Пачини («Маскарад») — та же декоративность, яркость колорита с преобладанием пурпура! На плечах у Самойловой, как и у Хитрово, подбитая горностаем накидка — атрибут величавой красоты. И — удивительно! — внешняя похожесть моделей. Брюллов впервые увидел Самойлову в салоне Зинаиды Волконской в Риме. Она не вошла — влетела в зал. И сразу же покорила художника удивительной женственностью и грацией. Ему показалось, что она вышла из рамы его знаменитого «Полдня». Этот идеал женственности будет повторяться и повторяться в творчестве художника. В «Последнем дне Помпеи» он проглядывает по меньшей мере в пяти женских лицах. Он и в облике Иулиании Клодт, Анны Олениной, Екатерины Салтыковой, сестёр Амацилии и Джованины Пачини («Всадница»), Джульетты Титтони. И даже «Девочка в лесу» — одна из последних работ художника (собрание Титтони в Риме). «Элка» — Элизалекс Фикельмон — потому так и удалась Брюллову, что в ней, подростке, он увидел свой образец женской красоты.
Брюллов, как известно, писал далеко не всех красавиц. Пушкин не сомневался, увидев его Натали, художник тут же срисует её. А косая Мадонна Наталья Николаевна не вдохновила его. Железнов, ученик Брюллова, вспоминал, что однажды он отказался дописать портрет известной светской красавицы из-за кислого выражения её лица. Натали же всегда была меланхолична.
Элизалекс превратилась в удивительную красавицу. Она была прекраснейшей женщиной своего времени, — передавал семейное предание её внук князь Альфонс Клари-Альдринген. При этом была очень похожа на свою бабушку. Сходство это особенно явственно в двух портретах, о которых идёт речь. Только бабушкины черты у внучки смягчены — словно отшлифованы тонким резцом. Ещё сильнее проступает эта похожесть на портрете Элизалекс 1853 года работы Антона Айнсле. Молодая женщина изображена в пурпурной бабушкиной, отороченной горностаем накидке. Губы чуть-чуть приоткрыты. Будто она хочет сказать: «Смотрите, как я похожа на бабушку!» Красивые плечи тоже от бабушки. За то, что любила выставлять их напоказ, Хитрово заслужила (говорят, с лёгкой руки Пушкина) прозвище Лиза голенькая. Престарелый П. А. Вяземский, вечный поклонник красоты, увидев Элизалекс на балу в Венеции, отметил: Принцесса Клари белоплечая (…) с успехом поддерживает плечистую славу бабушки своей Хитрово.
Ю. Глушакова и И. Бочаров в своей последней книге «Итальянская пушкиниана» пытаются убедить, что теплицкий портрет не является работой Брюллова. Что представленная на нём девочка — не Элизалекс, а, возможно, её дочь Каролина Эдмея. Начнём с того, что авторы книги видели картину не в Теплице, а в Вельтрусах ещё до её реставрации. Время уничтожило на полотне брюлловское сияние красок, стёрло с него «воздух», лишило прозрачности и фон, и ткани, и кожу лица, шеи, рук. Повисшая плетью рука восстановила свою пластичность на обновлённом полотне. Брюлловская манера письма очевидна.
Её юная бабушка на предполагаемом портрете Брюллова поистине хороша. Она томно откинулась на парчовые подушки софы. Склонённая голова опирается на руку — раздумчивость, грусть. Эта поза повторяется на многих портретах художника, к примеру, Зинаиды Волконской и знаменитой трагической актрисы первой четверти XIX века Екатерины Семёновой (позднее княгини Гагариной — ныне полотно в Бахрушинском музее в Москве). Их портреты более камерны. Нет пышного декоративного фона. Но все три изображения явно написаны одной и той же рукой: одинаковый наклон головы, то же положение руки, подпирающей щёку и словно застывшей в движении. Эти говорящие брюлловские руки! Семёнова тоже облачена в платье с горностаевой опушкой.
Конечно же, все эти схожести с портретом Елизаветы Хитрово всё ещё не убедительные доказательства в пользу авторства Брюллова. К тому же и факты против меня.
Аргументы в пользу Брюллова
Как я уже отметила, портрет вначале был датирован 1835 годом. Хитрово в ту пору было уже 52 года. А на полотне изображена молодая женщина, лет 23—25, каковой Елизавета Михайловна была в 1805—1807 годах. Художник Брюллов в то время под стол пешком ходил. Он родился в один год с Пушкиным. Можно предположить, что этот портрет написал в Италии. По желанию заказчицы, как это нередко практиковалось, омолодил её. Между 1822—1826 годами Карл часто приезжал в Неаполь, где жила Хитрово с семьёй Фикельмон, — делал в Помпее зарисовки для своей будущей картины. Но сразу же должна оговориться: датировка портрета серединой двадцатых годов (на ней остановились позднее и чешские исследователи) опровергается одной деталью — на его фоне Пашков дом. Воспроизведённый с фотографической точностью, он мог писаться только с натуры. А как известно, Брюллов впервые посетил Москву в 1836 году. Он был очарован второй столицей, бесконечно бродил по городу, делал зарисовки. Тогда он был одержим идеей написать полотно о Москве 1812 года. Эта идея обсуждалась во всех московских салонах, наперебой приглашавших в гости знаменитого живописца. Наверняка Брюллов делился своим замыслом с приехавшим тогда в Москву Пушкиным. Сердце России — Москва олицетворялась художником с образом Кутузова. Визитной карточкой Москвы представлялся ему не Кремль, а именно чудесное творение русского зодчего Баженова. Тогда-то Пашков дом и появился у него в этюднике.
Хорошо, уютно было Брюллову в Москве. А Петербург страшил его. И Пушкин подначивал: Петербург душен для поэта. Но пора было ехать в северную столицу — его давно там ждали. 18 мая 1836 г. Пушкин пишет из Москвы жене: Брюллов сей час от меня едет в П. Б. скрепя сердце; боится климата и неволи. Встречали его триумфально. Водоворот столичной жизни закружил художника. Фикельмоны встретили Брюллова как старого знакомого. Как я уже говорила, он принялся за портрет их дочери Элки. Затем изобразил самого посла. Возможно, начал писать и портрет Долли. Но изображения супругов не обнаружены. Не удалось найти их следов и в Чехословакии. Впрочем, этому есть объяснение. Осенью 1837 года Долли покидает Петербург — едет за границу лечиться. Она отправилась налегке, все её вещи оставались в петербургском посольском особняке. Но в Россию она больше не вернулась. Скучая без родных, в конце декабря 1838 года просит сестру Екатерину прислать портреты матери и её самой. …доставьте мне эту радость, — пишет она. — Брюллов — архитектор, мог бы сделать его много лучше, чем маленький человек. «Маленьким человеком» она называет Карла Брюллова. Видимо, он чем-то крепко насолил ей, если через год после отъезда из Петербурга доброжелательная, сдержанная графиня с неприязнью говорит о нём. Возможно, она и была той светской красавицей, чей портрет, по словам Железнова, остался неоконченным. Родные, конечно, выполнили её просьбу и выслали ей портреты Елизаветы Михайловны и сестры Екатерины. Портреты же мужа и её собственный (неоценённая работа Карла Брюллова) Долли, вероятно, решила оставить на память сестре. До революции они могли находиться в петербургском дворце Юсуповых, наследовавших имущество Екатерины Тизенгаузен. А затем попасть в запасники какого-нибудь музея, где хранятся и поныне как изображения неизвестных.
Представим себе, что суетная Елизавета Михайловна Хитрово захотела подарить дочери свой лик той поры, когда она была в цветущем возрасте. Она просит Брюллова омолодить её на портрете. Художник всё ещё не отказался от идеи написать полотно о войне 1812 года, главной фигурой которого был бы Кутузов. Брюллову было трудно отказать в просьбе дочери полководца.
Примеры подобных дорисовок известны в творчестве Брюллова. Анатолия Демидова он начал писать в 30-е годы. Гарцующий на коне всадник остался без головы. Картину окончил через двадцать с лишним лет. В 50-х годах Брюллов возвратился в Италию, где вновь встретился со своим прежним покровителем. Его модель неузнаваемо изменилась. Стройный молодой человек превратился в обрюзгшего вальяжного князя Сан-Донато (сей титул получил благодаря браку с племянницей Наполеона Матильдой). Не было и помину от жизнерадостного, щеголеватого всадника на разгорячённом коне. Изменился и сам художник, и его стиль. Всё раздражало его в старой работе. Скрепя сердце и, возможно, используя изображения Демидова молодых лет, он оканчивает портрет (ныне в галерее Питти во Флоренции). Но работал без души — вот и получилось лицо князя скучным, холодным, совсем не брюлловским.
Хитрово, возможно, тоже предоставила Брюллову свои портреты времён молодости. Листая теплицкий каталог, я обратила внимание на репродукцию с картины «Салон Фикельмонов в Неаполе», 1827 г. На задней стене салона виден портрет женщины, напоминавшей лицом Хитрово с теплицкого изображения. Рассматриваю портрет в лупу. Та же причёска — высокий шиньон и локоны вдоль щёк, тот же наклон головы, платье с большим декольте. Может, именно этот ранний портрет послужил Брюллову моделью? Оригинал картины «Салон Фикельмонов в Неаполе» хранился в Теплице. Я вспомнила любезного сотрудника Теплицкого музея Яромира Мацека и решила позвонить ему. Поделилась с ним своим предположением. Он согласился прислать мне увеличенный снимок заинтересовавшей меня детали картины. И вот он передо мной. Размытое, схематичное изображение. Но воспринимается как этюд к «брюлловскому» портрету.
Теплицкий портрет написан в стиле романтического классицизма, присущего Брюллову в двадцатые годы. В ту пору художник ещё не освободился от канонов итальянской живописи первой четверти XIX века с характерными для неё атрибутами — пышным декором и обязательным фоном. Они придавали картине особую парадность.
Итак, представим: Брюллов начал писать Хитрово. Вспомнил о московских зарисовках Пашкова дома. Кажется, лучшего фона для портрета дочери Кутузова не придумаешь. Работа спорилась: интерьер, платье, декор — всё это легко давалось набитой руке мастера. Лицо тоже удалось — молодое, красивое. Только очень печальное. Какая тоска гложет Елизавету Михайловну? Не скорбит ли она по безвременно ушедшему из жизни герою Аустерлица, адъютанту Кутузова, Фердинанду Тизенгаузену, своему первому мужу? Любила его самоотверженно. Оставив «малых деток» на попечение матери, следовала за супругом в обозе действующей армии. Смерть его оплакивала долго, даже о самоубийстве помышляла[105]. В Теплицком музее моё внимание привлекло ещё одно изображение Хитрово — литография Шевалье с оригинала Гау, помеченная 1837 годом. И здесь те же скорбящие глаза! Не эту ли двойную панихиду отобразил Брюллов (создавший, по моей версии, портрет после 1837 года) в облике своей модели? И по горячо любимому Фердинанду, и по последней, страстной любви уже немолодой женщины к недавно погибшему Пушкину? О её любви к Поэту знал весь Петербург. Сердечным другом маменьки называет Пушкина в своём дневнике Долли. Хитрово глубоко оплакивала друга и славу России, подтвердил Пётр Вяземский. Эта печаль-тоска и свела её преждевременно в могилу — Елизавета Михайловна умерла 56 лет, 3 мая 1839 г. — через два с небольшим года после смерти Пушкина. Те же грустные, уже усталые, но всё ещё прекрасные глаза видим и на акварели П. Соколова, рисовавшего Е. М. Хитрово в 1837 г. Рисунок хранился в венецианской вилле князя Альфонса Клари-Альдрингена и после его смерти в 1978 г., согласно воле покойного, был подарен Пушкинскому музею в Москве.
В Теплицком замке мне позволили внимательно изучить небольшое (размером 59x48,5 см) полотно неизвестного художника. В 1982 г. портрет был отреставрирован чешской художницей A. Vesely и теперь завораживал изумительным сочетанием тонов — старое золото платья и золотого перелива коричневое покрывало тахты, отцвеченный горностаем пурпур накидки с розово-брусничным подбоем, воздушная прозрачность белой вуали рукавов, жемчужный набивной атлас подушек, персиковая матовость кожи, тёмно-синий, восточного колера, с золотыми крапинами занавес. Колорит выдавал зрелый талант и вкус большого мастера. После реставрации лицо на картине ощутимо помолодело. И причёска изменилась — теперь был виден высокий шиньон (раньше он сливался с потемневшим фоном) и обрамляющие лицо локоны. На обороте полотна чьей-то рукой по-немецки надписано: Gräfin Elisabeth Tiesenhausen geb. Fürstin Kutuzow v. Smolensk[106]. Автор автографа стремился подчеркнуть, что изображённая в то время была ещё не Хитрово, а графиня Тизенгаузен. Кутузов получил титул светлейшего князя Смоленского только 6 декабря 1812 года. А в 1811 году Елизавета Михайловна вышла замуж за Хитрово. Впрочем, Долли Фикельмон и её дочь Элизалекс могли и не знать этих подробностей. Сама Элиза Хитрово виновна в этой путанице. Даже письма Пушкину она подписывала рождённая княжна Кутузова-Смоленская. Дружбой Пушкина она дорожила и считала, что и поэт должен гордиться знакомством с дочерью полководца. Не будем судить её строго за эту кичливость — у каждого человека есть свои слабости. Напрашивается и другое объяснение. Долли через дочку породнилась с высшей австрийской аристократией (дедушка её зятя принц Шарль де Линь был знаменитым фельдмаршалом Австрии). Возможно, этой надписью хотела напомнить потомкам и о своём княжеском происхождении.
Рассматриваю в лупу сантиметр за сантиметром нижнюю часть картины. Всё мерещится размашистая подпись Карла Брюллова. Сотрудники музея при реставрации произвели рентгеноскопию полотна, но автографа художника не нашли. Каждая чёрточка кажется буквой. Присмотришься — всего лишь штришок. Один, второй, третий. Но замечаешь их только при ближайшем рассмотрении. А отдалишься, они превращаются в складки материи. Однако и сейчас, когда рассматриваю цветную репродукцию из каталога, мне видится в левом углу дата — 837 и буквы «юлловъ», а чуть повыше столь характерное, размашистое брюлловское «К», обычно сливающееся с начальной буквой фамилии. Я провела свою экспертизу — отдала в фотолабораторию репродукцию и попросила сделать возможно сильное увеличение той части картины, где чудилась подпись. Фотообъектив ничего не увидел, кроме всё тех же штришков. А мой глаз видит! Видит, и я ничего не могу с этим поделать! Прямо-таки наваждение! И если верить своим глазам, дата — 1837 год — вполне подходящая для моей версии.
Взглянуть на Долли глазами Брюллова!
Тогда, в феврале 1837 года, после тяжёлой болезни Брюллов рьяно взялся за работу и сумел произвести столько прекрасного, что в две недели с небольшим мастерская его обратилась в драгоценную картинную галерею, свидетельствовал другой его ученик, Мокрицкий. И утверждал: был в этой галерее и портрет дочери австрийского посланника графа Фикельмона. Ацаркина в книге о Брюллове говорит, что художник рисовал и графа Фикельмона. Пока не найдено подтверждения, писал ли он других членов семьи. Но отсутствие свидетельств ещё не является доказательством обратного. Ведь создал же он семейную галерею Олениных. Хотя из неё почти ничего не сохранилось. Илья Самойлович Зильберштейн обнаружил в Париже копию Попова с брюлловского портрета Аннеты Олениной. По этому поводу он писал: Если обратиться к лучшим из существующих исследованиям о художнике, то в них можно найти лишь указание, что по возвращению в Петербург художник исполнил в 1837—1838 годах портрет А. Н. Оленина, местонахождение которого неведомо и который известен по гравюре Уткина. Между тем О. Н. Оом, со слов своей бабушки (Анны Олениной. — С. Б.) пишет: «Брюллов был своим человеком в семье Олениных и их дочерей»[107].
Брюллов часто бывал у Е. М. Хитрово. Несомненно, посещал и салон Долли Фикельмон — до поры, пока между ними не пробежала чёрная кошка. Логично предположить, что после портретов Элизалекс и графа Фикельмона он нарисовал графиню, её сестру Екатерину и затем Елизавету Михайловну. Графиня Тизенгаузен была важной дамой — любимой фрейлиной императрицы. Не чуждый светской суеты, Брюллов мог польститься таким заказом. Но она была и хороша собой — высокая, тонкая, с волшебным лицом, как сказал о ней князь Клари-Альдринген. Её прелесть воспел Пушкин в стихотворении «Циклоп». Ю. Глушакова и И. Бочаров предположили, что «Портрет неизвестной» в венецианской вилле князя Клари-Альдрингена является изображением Екатерины работы Брюллова. Если это так, художнику, бесспорно, удалось передать её очарование. Даже репродукция с него, воспроизведённая Глушаковой и Бочаровым, выдаёт почерк Брюллова. Молодая дама запечатлена в платке поверх шляпки с пером. Она как будто только что стремительно, с мороза, влетела в студию художника — раскраснелась, запыхалась, лукаво улыбается. Если существовал портрет Долли Фикельмон, то, вероятно, был лучшим изображением прославленной красавицы. Ни один другой художник не сумел передать прелесть «посольши», которой восхищались Пушкин, П. Вяземский, А. Тургенев, Жуковский. Как любопытно было бы взглянуть на Долли глазами Брюллова!
Она была хороша, эта женщина, любившая Поэта
Экзальтированная Елизавета Михайловна, в отличие от своей младшей дочери Долли, восхищалась гениальным художником. Конечно же, она не могла избежать соблазна — заказать ему свой портрет. По всей вероятности, тот самый, теплицкий.
Мне трудно отказаться от своей версии, что он принадлежит кисти Брюллова. Но попробую поискать и других авторов. Ими могли быть те, кто писал в своё время её отца и её первого мужа графа Фердинанда Тизенгаузена. Например, Рокштуль. Его работы миниатюра неизвестной из собрания Русского музея вряд ли изображает Елизавету Михайловну, как предположили Глушакова и Бочаров. Представленная на ней женщина — в профиль, с каштановыми волосами и маленьким чуть вздёрнутым носиком — не похожа на Елизавету Михайловну. Сухой, академический стиль Рокштуля исключал его из списка авторов теплицкого портрета. Боровиковский? Существовал написанный им портрет фельдмаршала (в составленном Алексеевой каталоге работ художника значится под номером 492). После смерти Кутузова портрет оставался у его жены. Последнее упоминание о нём — в 1827 году (в связи с выставкой, организованной Обществом поощрения художников). Затем следы его теряются.
Может, Алексей Волков? Гравюру Джеймса Годби с его картины я видела в Венском собрании портретов. Почерк Волкова ничем не напоминал стиль портрета Хитрово. Существовало ещё одно изображение полководца. Оно было подарено Е. И. Кутузовой мадам де Сталь. Сохранилось письмо писательницы Екатерине Ильиничне Кутузовой от 28 сентября 1812 года. В нём она благодарит за чудесный подарок — портрет фельдмаршала, личность которого вызывала её неиссякаемое восхищение. Но неизвестно имя автора этой работы. Жорж Англобер рассказал мне о портретном собрании военноначальников наполеоновской эпохи в имении де Сталь «Шато де Коппе» под Лозанной, превращённом ныне в музей. В 1986 году мне представился случай посетить этот замок. Среди множества офицерских ликов ни одного русского. Сотрудница музея сказала мне, что во Франции, в Нормандии, существует ещё один музей де Сталь. Быть может, там находится подаренное ей изображение Кутузова? Ведь не могло же оно исчезнуть бесследно? Впрочем, искать его, что иглу в стоге сена. До Нормандии я не сумела добраться…
Окончательный приговор об авторстве Брюллова за искусствоведами. Этот портрет, брюлловский он или нет, категорически опровергает сложившееся в пушкинистике мнение о некрасивости Хитрово. Нет, не преувеличивал друг Лермонтова М. Б. Лобанов-Ростовский, когда писал о ней: Это была отставная красавица за пятьдесят, тем не менее сохранившая следы прежней красоты: сверкающие глаза, плечи и грудь, которые она охотно показывала и выставляла на любование. И смело можно сказать: она была хороша, эта женщина, беззаветно, как, пожалуй, никто, любившая Поэта.
II. Тени Теплицкого замка
Как австрийские принцессы попали в пушкиниану
Однажды Сильвия Островская в чешском букинистическом магазине купила старую книгу. Между страницами она обнаружила кем-то забытый снимок с тремя молодыми, очень похожими друг на друга красивыми женщинами. Фотография оказалась репродукцией со старой акварели — красавицы причёсаны и одеты по моде тридцатых годов прошлого века. Позднее в Петербургском музее Пушкина Островская увидела портрет Долли Фикельмон — единственное известное в ту пору её изображение. Исследовательнице показалось, что Долли похожа на одну из незнакомок с найденного снимка. А две другие женщины, стало быть, её сёстры. Какие? Ну, скажем, любимая родная сестра Екатерина и не менее любимая кузина Адель. Пушкинисты обрадовались: вот так находка — сразу три женщины из окружения Пушкина! Островская торопится сообщить об этом Николаю Раевскому — он первым популярно рассказал о Фикельмонах, а Дарью Фёдоровну — Долли — аргументированно включил в донжуанский список Поэта. Раевский показал присланную Островской фотографию Т. Г. Цявловской — в пушкинской иконографии она пользовалась утверждённым авторитетом.
Очнувшаяся после многолетней спячки пушкинистика той поры переживала новый ренессанс: ворошились пыльные архивы, извлекались на свет божий давно известные, но напрочь забытые имена и образы прекрасных дам и доблестных мужей эпохи Поэта. Об этом чудном периоде очеловечивания превращённого в монумент Пушкина сохранился презабавный анекдот. К очередному юбилею Поэта решено было — наконец-то! — представить на обозрение публики образы вдохновлявших гения прелестниц. Но кто есть кто — вот в чём вопрос! Сверху была дана установка: «Придумать!» И придумывали. Нужно было только включить воображение и проницательным взглядом суметь оживить сотни дремавших в запасниках музеев ликов прошлого века. И они оживали, начинали говорить, улыбаться, излучать магнетизм глаз и вдруг удивительно становились похожими на ту, которую надо было открыть. Поначалу осторожничали, давали новооткрытому лицу имя с вопросительным знаком в скобках. Со временем к образу привыкали, сомнение заменялось уверенностью, вопросительный знак становился излишним и исчезал с подписей. И атрибутированные незнакомки уверенно и безоговорочно начинали шествовать по бесконечному морю пушкинианы — из книги в книгу, с выставки на выставку. Так, к примеру, портрет актрисы Семёновой работы Кипренского посчитали изображением Е. М. Хитрово. Что из того, что обнаруженные в последнее время несколько достоверных портретов Елизаветы Михайловны категорично опровергают эту атрибуцию? В последней экспозиции Государственного музея Пушкина в Москве подпись под работой Кипренского оставалась прежней — очевидно, никто не решался опровергнуть ошибочное авторитетное мнение.
Девиз программы поиска: «Кто ищет, тот всегда найдёт!» — благоприятствовал судьбе обнаруженной Островской фотографии. Т. Цявловская согласилась с версией чешской исследовательницы. И снимок этот долгое время благополучно кочевал по пушкиниане как изображение Д. Ф. Фикельмон, её сестры Екатерины Тизенгаузен и их кузины Адель Тизенгаузен-Стакельберг.
В пушкинистику Адель вошла благодаря записи в дневнике Поэта (29 ноября 1833 г.): Молодая графиня Штакельберг (урожд. Тизенгаузен) умерла в родах. Траур у Хитрово и Фикельмон. Пушкин познакомился с Тизенгаузенами ещё до приезда гр. Фикельмон в Петербург у Карамзиных. Смирнова-Россет рассказывает: Что касается дам, там (у Карамзиных. — С. Б.) всякий вечер бывали три графини Тизенгаузен, племянницы Палена. Г-жа Карамзина была дружна с их матерью в Ревеле[108]. Знакомство продолжилось в посольском особняке на Английской набережной, в салонах Долли и её матери. Поэт, очевидно, питал дружескую приязнь к Адель — этой милой, очаровательной девушке с великолепными синими глазами. Быть может, даже был немножко влюблён в неё, как был влюблён, по его собственному признанию, во всех хорошеньких женщин.
В пушкинистике очень мало сведений и об Адель, и о других членах её семьи. А между тем существует всё ещё не заговоривший во всеуслышанье документ. Бесценное бытописание жизни петербургского общества, в котором протекали последние годы Пушкина. Неопубликованный дневник Дарьи Фёдоровны Фикельмон…
Тизенгаузены в дневнике Долли Фикельмон
Заглянем в тетради дневника петербургского периода — 1829—1837 годы. Сотни имён современников Пушкина, их портреты, неизвестные о них сведения. Немало страниц о Тизенгаузенах, родственниках графини Фикельмон по отцу.
1829 год. Первые записи в Петербурге.
Наконец-то прибыла семья Тизенгаузенов. Для меня это было большой радостью. Они — мои первые подруги, и с ними связаны все мои детские воспоминания. Лили[109] очень красива, с ослепительным цветом лица. Адель хороша своим одухотворённым лицом. У Натальи — тонкая талия, свежее лицо с выражением прелестной доброты. Через 15 дней состоится свадьба Лили с Захаржевским[110].
15 октября 1829. В день 25-летнего юбилея Долли граф Фикельмон устраивает семейный ужин. На нём присутствует вся её многочисленная родня: тётки по матери — Дарья Опочинина, Прасковья Толстая, Анна Хитрово, их дети, тётка по отцу Юлия Петровна Тизенгаузен[111], её сыновья и дочери — Эдуард, Фердинанд, Лили (домашнее имя Елены) с женихом Захаржевским — приглашённым в качестве нового члена семьи, Наталья, Адель. Долли счастлива, она очень привязана к своим родным. В ту пору ей особенно близка задушевная подруга, вторая сестра Лили.
Долли записывает подробности о её предстоящей свадьбе. Жалость к кузине — она выходит замуж без любви, но мужественно старается казаться счастливой.
Проблема сословных браков — столь типичного явления в светском обществе — постоянно занимает графиню. Она словно ищет оправдание своему собственному с Фикельмоном. Шестнадцатилетней девочкой также без особой любви вышла замуж за сорокатрёхлетнего дипломата. Этим неравным союзом спасала совершенно разорившуюся после смерти отчима семью. Граф Фикельмон получил в приданое её мать и сестру. Несколько лет они были на его содержании. Как уверяет Долли, мягкий, умный и сердечный Шарль сумел сделать их семейную жизнь на редкость счастливой. А это дар небес, и он даётся не каждому. Признание Долли похоже на самовнушение. Бесспорно, она уважала мужа и ценила преимущества, которые давал ей этот брак: блестящее положение в обществе, близость с императорской семьёй, свободу светского общения, обеспеченность. Но чувствительное и страстное сердце молодой женщины было на замке для радостей пылкой любви. Как истая христианка, она соблюдала верность супругу. Дневник, её исповедник, — опровергает фантазии исследователей. Как она похожа в этом отношении на Татьяну Ларину! Не случайно Дарью Фёдоровну считают одним из прототипов пушкинской героини.
Молодая графиня обладала невероятной интуицией, за что её называли сивиллой. Так, впервые увидев Наталью Николаевну Пушкину, она поразилась страдальческим выражением её чела, и оно, записала она в дневнике, заставляет меня трепетать за её будущность. Вот и теперь — радостное настроение кузины Лили перед свадьбой не обманывает её. Жених прелестной Елены был непривлекателен. Обратимся к свидетельству Смирновой-Россет: Старшая вышла замуж за петербургского коменданта, толстого человека, очень тупого и скучного. Он небогат, и когда великая княгиня Мария вышла замуж за герцога Лихтенбергского, её назначили к ней фрейлиной…[112]
Смирнова оговорилась — генерал-лейтенант Григорий Андреевич Захаржевский (1792—1845) был комендантом не Петербурга, а Зимнего дворца. Но стал им значительно позже — в пору же сватовства был полковником лейб-гвардии Конного полка, флигель-адъютантом. Некрасив, глуп, небогат, но со связями, да ещё с какими — его родная сестра Елизавета Андреевна была замужем за Бенкендорфом! Так что служебная карьера ему было обеспечена. Общество находило Захаржевского выгодной партией для немного засидевшейся в девицах Елены Павловны — Лили.
Ноябрь 1831 г. Свадьба Лили. Долли подарила сестре к свадьбе свою венчальную фату. Я хотела бы вместе с ней передать ей частицу моего собственного счастья, спокойствия и ясного существования, — записала Фикельмон в дневнике.
Долли — посажёная мать невесты. Посажёным отцом был министр двора Пётр Михайлович Волконский. Этой чести молодожёны, конечно же, обязаны Бенкендорфу. Правда, и отец невесты человек с положением — граф Павел Иванович Тизенгаузен с 1827 года был сенатором и тайным советником. Венчальный обряд совершался дважды — сначала в православной церкви, а затем в протестантской[113]. После венчания — ужин, а на другой день бал у Волконского. Долли не может сдержать слёз — я много плакала на свадьбе. Подробно описывает церемонию и умалчивает о главном — о причинах, заставляющих её беспокоиться о будущем сестры. Ни слова о самом женихе. Благородство характера никогда не позволяло ей говорить плохо о близких людях. Но на похвалы тем, кто ей нравился, она не скупилась. Например, будущему мужу своей другой сестры, Адели. Захаржевский явно не вызывал у неё симпатий.
Семейная жизнь Лили немного успокоила её. Лили ещё больше похорошела, и Захаржевский ценит её достоинства, — отметила она вскоре после свадьбы. Теперь, когда сестра реже бывает у Фикельмонов, Дарья Фёдоровна сближается с младшей кузиной, Адель. Дневник пестрит записями о ней: Адель мне очень помогает… Адель Тизенгаузен — чудесная подруга. Остроумная и милая и всегда весела. Она и Фриц Лихтенштейн[114] немного флиртуют… Адель — моя дорогая подруга, с ней я рассуждаю вслух, ничего не утаивая.
Из всей многочисленной родни графиня Фикельмон особенно была привязана к Тизенгаузенам. До двенадцати лет она жила у своей прибалтийской бабушки, двоюродные сёстры были подругами детства, и, естественно, по языку и воспитанию она была ближе к ним, чем к своим русским родственникам. Вижу семью Тизенгаузенов через день. Наталья повсюду пожинает успехи, и прежде всего, своей замечательной талией. Тизенгаузены присутствуют на раутах и интимных вечерах посланницы в её красном кабинете, участвуют в прогулках, катаниях с ледяных «швейцарских» горок — любимом развлечении петербуржцев.
13 мая 1831 г. Вчера совершили прогулку до Кронштадта. Фикельмон зафрахтовал целый корабль. Нас было немного — Тизенгаузены, Лили Захаржевская, О’Сюлливан, Ленский, Литта, Кайзерфельд[115], мама, Катерина, Фикельмон и я.
16 октября 1831 г. Тизенгаузены вернулись из деревни. Для меня всегда праздник видеть их после разлуки. Особенно Адель, которая так много значит для меня.
Долли унаследовала от матери неистребимую потребность помогать ближним. Заболела Александрина Опочинина — другая её двоюродная сестра, — и она дённо и нощно просиживала у её постели. Воспалились глаза у Адель, Долли ежедневно навещала её и составляла ей компанию в тёмной комнате. Засиделись в девицах Адель и сестра Катерина. Долли подыскивает им подходящую партию, постоянно приглашает их в свою компанию, где вертелось много блестящих молодых людей. Как ни старалась Долли, она не нашла и не могла найти женихов сёстрам среди сонма своих поклонников. Не сознавая того, мешала им, затеняла красотой, умом, очарованием.
Май 1832 г. Адель уезжает со старшей сестрой Лили в Хаапсалу на морские купания. Здесь она знакомится со своим будущим мужем. Долли радостно записывает в дневнике:
Недавно мы узнали, что моя дорогая Адель Тизенгаузен обручена. Она выходит замуж за графа Стакельберга, вдовца с семилетней дочерью. Ему 38 лет; он некрасив, но умён и образован, с цивилизованными взглядами на жизнь, отличной репутацией и большим состоянием. Она выходит замуж без любви, но убеждена, что нашла для себя подходящего человека. Нет слов выразить, как я счастлива от этой новости. Даже несмотря на то, что этот брак совсем отнимет её у меня. Она будет жить под Дерптом, где у него прекрасная усадьба и земельные угодья. Судьба довольно странно распоряжается нашей жизнью. Если бы она поехала со своими родителями и Натальей в Карлсбад в столь желанное ею путешествие, не было бы этой помолвки. Нужно было, чтобы она с Лили отправилась скучать в Хаапсалу, это мало кому известное местечко, чтобы встретиться с тем, кто был определён ей судьбой.[116]
17 ноября 1832 г.: …познакомилась со Стакельбергом, который женится на Адель. В те несколько дней, что он здесь провёл, я наблюдала за ним с большим любопытством нежного доброжелательства и живейшего интереса. 35-летний высокий, худощавый мужчина, с приятным умным лицом, прекрасными манерами, кажется настоящим джентльменом; одевается старательно, аккуратен, медлителен в движениях, сдержан в разговоре, по-немецки изъясняется подчёркнуто изысканным языком умного человека, учёнолюбивый, серьёзный и разумный, но несколько педантичный. Он мне показался утончённым, благородным, но холодным. Будет ли она счастлива с ним? Надеюсь, хочу верить в это. Может, это и хорошо для её страстного темперамента, живого и немного необузданного характера — провести жизнь возле разумного, уравновешенного и спокойного человека.
21 января 1833 г.: Адель в Дерпте, довольна своей судьбой, любит мужа и в восторге от его хорошего характера. Дай Бог ей счастья!
В конце августа 1833 г. Дарья Фёдоровна с дочерью Элизалекс проводит неделю в дерптском имении Стакельбергов. Адель ждёт ребёнка. Долли восхищается простым, но изысканным убранством их дома, наслаждается тишиной, покоем, задушевными беседами с супругами. В жизни так редко удаётся разговаривать свободно и спокойно с теми, кого любишь. Необходимость быть сдержанной в обществе, его условности или же назойливость некоторых всегда разрушают очарование близости. <…> От её счастливого, во всех отношениях счастливого, дома веет спокойствием и довольством[117].
В записях Фикельмон наступает пятимесячный перерыв. Случилось то, чего никто не ожидал. О чём сообщает Пушкин в дневнике — Адель умерла родами.
28 апреля 1834 г.: Перестала писать в столь мучительный период, который останется самым тяжёлым в моей жизни! Смерть Адель 19 ноября поразила меня в самое сердце. Не буду здесь описывать всю глубину и силу боли, которую мне причинил этот неожиданный и ужасный удар! Этот страшный миг запечатлён в моём сердце и никогда не сотрётся! Всегда буду вспоминать всё то, что пережила и продолжаю переживать при одной только мысли о потере подруги молодости, сердце которой было близнецом моего сердца! Господь пожелал забрать её незапятнанно чистой. Она вознеслась на небо, прежде чем жизнь покусилась на её душу… Зима была для меня очень и очень трудной. После нескольких первых недель [траура] я должна была вновь вернуться к своим светским обязанностям, столь мучительным, когда твоё состояние в полной дисгармонии с весельем окружающих! Но именно тогда несчастный случай помог мне избавиться от них. Я обожгла ногу и шесть недель, которые была вынуждена провести в шезлонге, мне очень помогли. Рефлектировала, размышляла, молилась и в результате сумела преодолеть внутренний протест, который не позволял мне примириться с потерей моей очень любимой Адель. Тогда я поняла: то, что мне казалось таким жестоким и ужасным, может, в сущности — Божья благодать.
Записи графини Фикельмон познакомили с ещё одной современницей Поэта.
А кто же на фотографии?
По случайности одна из женщин на обнаруженной Островской фотографии (крайняя слева) удивлённо-сдержанным глубоким взглядом в самом деле напоминает Адель с акварели А. Брюллова в экспозиции Теплицкого замка. Навсегда уезжая из России, Дарья Фёдоровна увезла с собой и портрет любимой подруги. Другая же на снимке (крайняя справа) — та, кого принимали за графиню Фикельмон, — сразу же вызывает сомнение. Нос острый, губы тонкие. У Долли же рот был пухлый, особенно нижняя губа, нос с горбинкой, отчего в профиль она выглядела особенно величественной — небрежная законодательница зал. Такова она и на рисунке Пушкина (определённом как её изображение): гордо вскинутая голова, с лёгким, мудрым прищуром глаза — прищур этот сохранился у неё до старости, особенно заметен на снимке конца 50-х годов, где она в трауре по недавно умершему мужу.
Подпись на репродукции — Е. Петер. 1832 г. — оказалась главным аргументом против атрибуции Островской. Проверено — австрийский портретист Е. Петер (1799—1873) в Россию в 1832 году не приезжал, а Дарья Фёдоровна Фикельмон в том году не ездила за границу. Для исследователя нет преград, когда разыгрывается его фантазия. Этому искушению поддался и Н. Раевский. Возможно, — писал он в книге «Портреты заговорили», — что очень модному тогда венскому миниатюристу были посланы из Петербурга какие-либо портреты Дарьи Фёдоровны, её сестры и кузины, пользуясь которыми художник и скомпоновал заочно свою изящную группу. Местонахождение оригинала неизвестно.
Но мне повезло — на антресолях Теплицкого дворца я обнаружила три миниатюры работы того же Е. Петера. Сотрудница музея показывала мне один за другим хранящиеся в запаснике экспонаты: картины, графику, альбомы, скульптуры — всё, что имело отношение с семье Фикельмон и их русским друзьям. Я увидела мраморный оригинал скульптурного портрета Елизаветы Михайловны Хитрово, датированный 1835 годом, и несколько фарфоровых отливок с него, изготовленных по заказу Дарьи Фёдоровны после смерти матери на Венском заводе в 1840 г. Бюст считается работой неизвестного скульптора, но автором, по всей вероятности, был Б. И. Орловский. В средине тридцатых годов он работал над памятником Кутузову для Казанского собора. Дочь и отец на скульптурах похожи друг на друга до такой степени, что кажется, будто у них одно лицо. Возможно, Орловский, зная об их сходстве, сначала вылепил дочь, чтобы лучше войти в образ фельдмаршала.
Рассматриваю дальше — акварель «Хитрово в гробу», фотографии пожилой Дарьи Фёдоровны, многочисленные изображения красавицы Элизалекс, литографии с портретов Шарля Фикельмона и, наконец, три миниатюрных портрета — мужчины и двух молодых женщин, будто сошедших с фотографии Островской.
— Кто это? — спрашиваю сотрудницу.
— Князь Эдмунд Клари-Альдринген и его сёстры княжны Ойфемия и Леонтина. Писал их художник Еммануэль Петер.
Вот и разгадка репродукции, вошедшей в пушкинистику как изображение Долли и её сестёр. В одном оказалась права чешская пушкинистка — молодые женщины действительно были сёстрами, при этом родными. Очевидно, миниатюры представляли этюды к их групповому портрету, а может, и наоборот, художник сначала сделал акварельный набросок, а потом с него рисовал сестёр по отдельности. В таком случае должна быть и третья миниатюра? Спрашиваю об этом хранительницу.
— Нет, не припомню. Не видела.
Спешу поделиться своим открытием с Яромиром Мацеком. Он хорошо знает музейные экспонаты, но и ему не попадалось изображение третьей сестры. Возможно, осталось в запасниках Велтрусского дворца, где долгое время находились картины из Теплицкого замка.
О сёстрах-принцессах рассказывает в своей книге князь Альфонс Клари-Альдринген. В 1832 году старшая, Матильда (1806—1896, крайняя слева на групповом портрете), и младшая, Леонтина (1811—1890, посредине), выходят замуж за польско-немецких князей братьев Радзивиллов. Три года назад кузина Радзивиллов Стефания была выдана замуж за русского подданного графа Людвига Сейн-Витгенштейна[118] и таким образом стала прапрапрабабушкой Марии Андреевны Разумовской[119]. Дядя Стефании князь Антон Радзивилл, женатый на прусской принцессе Луизе, стремился устроить этот брак, чтобы получить обратно свои владения, оставшиеся на территории России. Царь Николай соглашался вернуть их семье Радзивиллов лишь в том случае, если владельцы имений будут вступать в брак с русскими подданными.
Плодились и размножались аристократы, мельчали, беднели их владения. Чтобы сберечь богатство и могущество, заключали выгодные браки. Выданные за Радзивиллов сёстры Матильда и Леонтина ухитрились произвести на свет по восемь детей каждая. Многие из их детей, двоюродные сёстры и братья, потом переженились между собой — вероятно, чтобы не делить наследственных имений.
Средней сестре — Ойфемии — не повезло. Умная и самая красивая девушка (на снимке крайняя справа), кажется, так и осталась всю жизнь одинокой. Князь-балагур, со смаком рассказывая о Леонтине, Матильде, их мужьях, детях, ни словом не обмолвился о причинах не сложившейся жизни Ойфемии. А казалось, всё было при ней: красота, богатство, ум. Впрочем, может, именно это последнее качество и было причиной её одиночества — мужчины не жалуют умных девушек. Вероятно, расставаясь с девичеством и друг с другом, сёстры решили заказать на память свои портреты. Этим же годом датируются и другие изображения брата и сестёр Клари-Альдрингенов работы М. М. Даффингера. Они находились на венецианской вилле князя Альфонса, поэтому он смог репродуцировать их в своей книге.
Русский самовар тётушки Катерины
Сестра Дарьи Фёдоровны — графиня Екатерина Тизенгаузен вошла в жизнь трёх поколений князей Клари-Альдрингенов. Она прожила долгую жизнь — умерла в 1888 году в 85-летнем возрасте. Давно уже не было на свете Долли, умерла её дочь Элизалекс, переженились её дети. Статс-дама русского императорского двора навещала своих родных в Теплице, приезжали и они к ней в Петербург, гостили на её вилле в Крыму.
Я никогда не видел её, — вспоминал правнук Дарьи Фёдоровны князь Альфонс, — но с моего раннего детства она играла заметную роль в жизни нашей семьи. В столовой моих родителей, где бы они ни жили — в Вене, Лондоне, Штутгарте, Брюсселе, всегда стоял большой серебряный чайный сервиз с чудесным самоваром посредине. Он вызывал у нас особенный интерес — ничего подобного даже в помине не было… Нам было известно, что родители получили его в 1885 году к свадьбе от тётушки и что он прибыл из России — страны, о которой хотя мы ничего и не знали, но тем не менее не чужой нам. О ней часто говорили у нас в доме. Мой отец после свадьбы известное время был секретарём австро-венгерского посольства в Петербурге. Он вспоминал об охоте на медведей, волков, лосей — в его кабинете на полу лежала волчья шкура, на которой нам позволялось сидеть. В этих рассказах всегда всплывало имя тётушки. Будучи камер-фрейлиной трёх русских императриц, она занимала в Зимнем дворце большую квартиру. Мы знали также, что у неё чудесный дом в Крыму — крае, который в доступных нам книгах представлялся волшебным. С неутолимым любопытством слушали мы о бескрайней далёкой России. Иногда отец рассказывал нам о русских родственниках, о родоначальнике нашей русской ветви фельдмаршале Кутузове. Но только позднее, прочитав «Войну и мир», понял я, почему моя семья так гордилась этим предком! Иногда нам позволялось играть чёрными лаковыми шкатулками с изображением красочных фигур солдат и крестьян — они были также подарками тётушки… В особенно торжественных случаях мама и её золовки надевали украшения, и каждый раз, когда кто-нибудь спрашивал, откуда они, звучал неизменный ответ: «Это также подарок тётушки Екатерины»…[120]
После смерти Екатерины Тизенгаузен семья князя по завещанию должна была наследовать её большое имение под Ярославлем и концессионные права на разработку руд на Урале, в районе царских приисков. Вступить во владение ими семья не смогла из-за каких-то бюрократических формальностей.
Личность тётушки была окружена для детей жгучей тайной. Став взрослыми, они узнали её причину. Её отец (принцессы Шарлоты — жены Николая I, императрицы Александры Фёдоровны. — С. Б.) король Фридрих Вильгельм III или её брат Карл соблазнили фрейлину — но кто из двух, неизвестно. Само собой разумеется, прискорбное происшествие всячески затушёвывалось… Когда Катерина родила своего сына, великий князь (Николай I. — С. Б.) стал его крёстным отцом; ребёнок получил имя Феликс Николаевич. Фамилия у него была Эльстон, что позднее стало поводом для шутки: «Elle s’étonne d’avoir un fils sans être mariée…»[121]
У Хитрово была взрослая дочь, любимая фрейлина императрицы, — писал в неопубликованных мемуарах князь М. Б. Лобанов-Ростовский, — <…> успевшая произвести на свет сына, сохранив при этом звание девицы; ребёнок воспитывался у матери, но до сих пор не установлено, кто его отец. А отцом, по одной версии, был сам прусский король Фридрих Вильгельм III. По другой версии — его сын Вильгельм, брат императрицы Александры Фёдоровны.
В июне 1817 г. невеста Николая принцесса Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина в сопровождении брата Вильгельма прибыла в Петербург. Началась подготовка к свадьбе, которая состоялась 1 июля и была приурочена ко дню рождения великой княгини. В мае того же года из Флоренции спешно для улаживания дел (и для присутствия на свадебных торжествах) выехала в Петербург Е. М. Хитрово с двумя дочерьми — Катей и Долли. Кате было четырнадцать лет, Долли — на год моложе. Девочки ещё не выезжали в свет. Петербургское общество с распростёртыми объятиями встретило Елизавету Михайловну. А она наверняка постаралась представить своих дочерей и княжеской чете, и юному принцу. Может быть, уже тогда у Елизаветы Михайловны родилась идея выдать Екатерину за прусского принца.
Моему старшему брату Вильгельму, сопровождавшему меня, едва минуло 20 лет, и он только что перестал расти, — писала в своих мемуарах императрица. — <…> он был чрезвычайно любезным в обществе; танцевал, играл и веселился, как подобает молодому человеку[122].
18 сентября 1817 года двор — большой и малый — выехал в Москву, где собирался провести всю зиму с целью поднять дух древней столицы, истреблённой в 1812 году от пожара. Для молодой княжеской четы это было свадебным путешествием.
А длинное это путешествие, — вспоминала Александра Фёдоровна, — совершила весьма приятно, так как ехала с мужем, и мы немало ребячились; к тому же мой брат Вильгельм был ещё с нами. <…> Добрый народ встретил своего государя с безмерным восторгом[123].
Хлебосольная Москва, как всегда, отмечала пребывание царской фамилии грандиозными балами, обедами, раутами. Прусского принца знакомили с достопримечательностями древнего города. Вельможи наперебой приглашали его к себе в гости. Как я уже рассказывала, Вильгельм пожелал осмотреть великолепный загородный дворец Л. К. Разумовского — в Петровско-Разумовском. Принц понимал толк в искусстве и с удовольствием ознакомился с художественной галереей в другом, не менее роскошном подмосковном имении — князя Юсупова в Архангельском. Вот тогда-то, видимо, по просьбе князя он позировал его талантливому крепостному художнику И. Колесникову. Этот портрет принца в прусском штаб-офицерском мундире до сих пор хранится в музее-усадьбе «Архангельское» как изображение неизвестного. Недавно он был атрибутирован В. П. Старком. В собрании Эрмитажа имеется миниатюра, которая, без сомнения, также является изображением принца.
В 1823 г. Е. М. Хитрово с уже взрослыми дочками совершила вторую поездку в Россию. По дороге из Италии в Петербург остановилась в Берлине. Хотела закрепить петербургское знакомство с принцем. Елизавета Михайловна с очаровательными дочерьми была представлена прусскому королю. Он принял их весьма радушно. Проживавший в Вене принц Леопольд Сакс-Кобургский, добрый знакомый Хитрово, в одном из писем к ней пишет: Я слышал, Вы были приняты с большой радостью и как подобает Его Прусским Величеством; я легко смог представить, даже на таком большом расстоянии от вас, манеры каждой из любезных мне приятельниц в этой обстановке. Елизавета Михайловна заметила интерес вдовствующего кайзера к Екатерине. И решила попробовать сосватать старшую дочь теперь уже не принцу, а самому королю! Оставшись после смерти мужа, поверенного в делах России в Тасканы, без всяких средств, она с удивительной настойчивостью подыскивала для своих дочерей выгодные партии. К этому времени Долли уже была пристроена за графом Фикельмоном.
Свидетельство австрийского канцлера князя Меттерниха (письмо жене от 24.1.1821, в дни конгресса в Лейбахе): Мадам фон Хитрово здесь с двумя своими очаровательными дочерьми. Все наши австрийцы влюблены в этих молодых особ. Одна должна выйти замуж за одного богатого и из хорошей семьи юношу, атташе в нашем посольстве в Риме; на руку другой претендует наш полномочный министр во Флоренции, который, впрочем, очень умный и очень изысканный человек. Ему 42—43 года, в то время как девушке ещё не исполнилось и 16-ти лет[124].
Неизвестно, что же в действительности произошло во время пребывания «любезного трио» в Берлине в 1823 г. Возможно, пятидесятилетний вдовец-король в самом деле серьёзно увлекся Екатериной. Но брак с ней был бы мезальянсом, и вряд ли Фридрих Вильгельм III серьёзно стремился к нему. Пересуды об их взаимоотношениях ходили по венскому и берлинскому дворам. Отголоски их находим в письме чешской графини Сидонии Хотек баронессе Монте 1825 года: Вы, конечно, давно знаете о женитьбе прусского короля на мадемуазель Харрах <…> Клари тем более удивлены этим браком, что король казался сильно влюблённым в м-ль Екатерину Тизенгаузен, которую, говоря по правде, мать всё время старалась с ним сблизить. Госпожа Хитрово как-то на днях сказала моей тётке Клари (матери Эдмонда, будущего мужа Элизалекс. — С. Б.): «Поймите вы короля! Вы же, однако, видели, как он влюблён в мою дочь; но это был бы неподходящий брак для внучки фельдмаршала Кутузова!»
По другому и не могла ответить гордая дщерь прославленного полководца! Но заставить умолкнуть сплетников было не в её силах.
Госпожа Хитрово имеет вид серого <…> торгаша, который ездит по всем ярмаркам, чтобы продать за хорошую цену свой товар, который заключается в двух прелестных дочерях, — саркастично, но не без основания заметил князь Д. И. Долгоруков.
Брак с прусским королём не получился. Но Елизавета Михайловна не сдавалась. Следующий объект её притязаний был ниже рангом, но не менее, а может, и более значительной фигурой в европейской политической жизни — князь Меттерних. В одном из своих писем 1825 г. княгине Ливен — влиятельной особе при российском дворе, австрийский канцлер сообщает о приезде в Австрию Хитрово с дочерьми. Как только до сведения Елизаветы Михайловны долетела весть о смерти первой жены князя, она тут же примчалась в Вену. И стала «обхаживать» вдовца. В игру были пущены две козырные дамы — она сама и Екатерина. Хитрово вознамеривается женить меня — на себе или на дочери, — жалуется канцлер своей приятельнице-княгине.
Стратегический ум Елизавета Михайловна унаследовала от отца — полководца Кутузова. Победоносно вела битвы на гражданском фронте! Она умела добиваться желаемого. Нельзя слишком строго судить её за это. От второго мужа у неё ничего, кроме долгов, не осталось. В 1817 г. Николай Фёдорович был отстранён от должности во Флоренции, и семья лишилась последнего достатка — его жалованья. Елизавета Михайловна решает продать собранную мужем бесценную античную коллекцию. Это и было главной целью её поездки в Петербург в мае 1817 года. Она успешно провернула это дело и получила за свои антики большую сумму. Значительную часть собрания — 327 ваз — приобрела графиня А. Г. Лаваль. Пять лет спустя Хитрово добилась ещё одного поразительного успеха в Петербурге. Знакомый Елизаветы Михайловны, французский дипломат Шарль де Флао, так описывает результаты её пребывания с дочерьми в 1823 году в столице: Она сделала всё, что хотела. Двор принял их единственным в своём роде и необычным способом. Хитрово получила, по словам дипломата, 7 тысяч рублей пенсии плюс возмещение за прошлые годы. И ещё, как радостно сообщает в письме мужу Долли Фикельмон, 6 тысяч десятин земли в Бессарабии.
Можно ли судить человека за его бойцовские качества? За желание выжить, победить, утвердиться? Борьба, как сказал Гёте, — принцип жизни: Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идёт на бой!
Но матримониальные планы относительно Екатерины не удалось осуществить. Поскитавшись по Европе, Хитрово несолоно хлебавши вернулась с дочерью в 1826 г. в Петербург. Она привезла с собой мальчика, объявив его внебрачным сыном некой загадочной графини Форгач. Ребёнка определили в петербургский пансион Курнана. Об этом узнаем из дневника графини Фикельмон.
Запись 30 марта 1830 г.: Вчера все мы присутствовали на экзамене и при раздаче наград в пансионе Курнана. Было очень интересно. Среди учеников немало весьма изысканных юношей. Получивший почётную награду Александр Бутовский — юноша 18 лет, некрасив, без всякой осанки, но глаза у него одухотворённые и кроткие с глубоким серьёзным взглядом. Говорят не только об уме, но и гениальности. Феликс тоже получил маленькую награду за немецкий язык.
Феликсу в 1830 году было 10 лет. Его имя ещё раз встречается в дневниковой записи Долли — 2 января 1831 г.: В день Собора пресвятой Богородицы дети нашего семейства — Феликс, Гриша Толстой, Мими Опочинина, София — усыновлённая дочь тёти Нины, и другие — явились в масках поздравить Элизалекс.
После окончания пансиона Феликс продолжал обучение в Петербургском артиллерийском училище, директором которого был Сергей Павлович Сумароков, будущий тесть Эльстона. Несколько лет назад в Баденском общем архиве «Карирус» обнаружено письмо (от 10.5.1840 г.) князя Меттерниха[125] министру Бадена, барону Фридриху фон Тетенборну. Князь предлагает ему включить (с задней датой) в регистр дворянского сословия Бадена Феликса Эльстона, рождённого в Вене (!!!) и окончившего Санкт-Петербургское военное училище. Это было бы полезно для карьеры молодого человека (…) и имело бы большое значение для его будущего. Вероятно, сделано это по просьбе графа Фикельмона, возглавлявшего в это время Военный отдел Министерства иностранных дел Австрии. На выданной Эльстону грамоте о дворянстве стояла дата — 2.1.1826 года. Видимо, в том году, а, не как принято считать, в 1827 г. Хитрово вернулась в Россию.
Возможно, ходатайство Фикельмона о дворянской грамоте было связано с предполагаемым поступлением Феликса после окончания артиллерийского училища (а не Пажеского корпуса, как считалось прежде) в лейб-гвардии Конный полк. Подтверждает это предположение совпадение по годам двух фактов — обращение Меттерниха к министру Бадена в мае 1840 г. и письмо графини Фикельмон сестре от 22 октября того же года. Долли разделяет беспокойство Екатерины из-за возможного назначения Феликса в действующую армию (вероятно, на Кавказский военный фронт) и одобряет её план конфиденциального разговора с графом Орловым. По-видимому, с генералом Алексеем Фёдоровичем Орловым, бывшим командиром лейб-гвардии Конного полка, а с 1836 г. членом Государственного совета и очень влиятельным при дворе человеком. Без акта о благородном происхождении нечего было и думать о поступлении в гвардию. Без подтверждения этого вряд ли был возможным и брак Эльстона с графиней Еленой Сумароковой.
Будущее воспитанника Элизы Хитрово было обеспечено дружными усилиями и связями обеих семей. Женившись на Сумароковой, Эльстон специальным указом царя получает графский титул жены. Военная служба его, несмотря на ходатайство Екатерины, проходила на Кавказе. В 1852 году он награждается австрийским правительством орденом Белого орла. Вероятно, за участие в подавлении Венгерской революции 1848 года в рядах российского полка, посланного Николаем I на помощь Австрии. У его потомков сохранилась сделанная в Вене фотография, где он запечатлён с этим орденом.
Во время пребывания в Австрии, должно быть, произошло его знакомство с матерью — графиней Форгач. Именно после 1848 года она стала писать письма Феликсу в Россию. Встретился Эльстон в Вене и с австрийским бароном Карлом Хюгелем. Вероятно, следствием этой встречи было отчисление Хюгелем части своего имущества в пользу Эльстона. Ещё одна загадка в биографии мистического воспитанника Хитрово! О причинах этого неожиданного дарения пойдёт речь дальше. За участие в Крымской войне Эльстон был произведён во флигель-адъютанты. В 1863 году назначается наказным атаманом Кубанского казачьего войска. В том же году ему присуждается звание генерал-лейтенанта, а через два года — генерал-адъютанта. Последние два года жизни был командующим Харьковским военным округом. Он умер 57-ми лет от туберкулеза. Оставил богатое потомство — четырёх сыновей и двух дочерей. Его внук от одного из сыновей — графа Феликса Феликсовича Эльстона-Сумарокова — князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон вошёл в российскую историю причастностью к убийству Распутина. Этот третий в роду Феликс Феликсович женитьбой на внучке Александра III, княжне Ирине Александровне, породнился с царской фамилией. Потомки Эльстона по линии Юсуповых были богатейшими людьми России — крупнейшие промышленники, акционеры нескольких банков, владельцы обширных земельных угодий в семнадцати российских губерниях, нескольких дворцов в Петербурге и в Москве, в том числе подмосковного имения Архангельское.
А был ли мальчик?
Был ли, не был Феликс внебрачным сыном Екатерины, пока никто с достоверностью не смог доказать. Аргументы в пользу этой версии несущественны. Один из них — письмо графа Фикельмона бабушке жены — Екатерине Ильиничне Кутузовой (от 10 декабря 1822 г.). Но что в нём порочащего Екатерину? А вот что: тёща Фикельмона Е. М. Хитрово собиралась приехать в Верону на конгресс, но этому помешало нездоровье графини Екатерины — побудило её остаться в Неаполе и пожертвовать бывшим у неё намерением встретиться с царём Александром и представить ему дочерей, а Долли не захотела расстаться с матерью[126]. Сторонники версии о внебрачном сыне решили: беременность Екатерины и была её «болезнью». Право же, смехотворный довод! Другие «доказательства» не лучше и покоятся в основном на недоброжелательных сплетнях. Откуда, дескать, императорские благодеяния, вдруг посыпавшиеся на эту семейку? Пенсия и имения, пожалованные дочери прославленного полководца, назначение Екатерины фрейлиной (между прочим, она была определена фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра II, ещё в 1813 году, когда ей было всего 10 лет. В должность фрейлины другой императрицы, Александры Фёдоровны, вступила лишь 17 июня 1833 года, т.е. через семь лет после возвращения в Петербург)[127]. В числе прочих благодеяний — звание статс-дамы, полученное гр. Тизенгаузен в 1851 году, дружба с императрицей графини Фикельмон… И ещё — с чего это Николай I стал крёстным отцом так называемого сына графини Форгач? А потом даровал ему графский титул Сумароковых? Кстати, российские императоры, дабы не угасали старинные русские роды, часто передавали титулы фамилий, где пресекалась мужская линия, их ближайшим родственникам. А у Сергея Павловича Сумарокова не было сыновей.
Английскими и бельгийскими потомками Эльстона была предпринята попытка (весьма убедительная!) опровергнуть легенду о нём как о незаконном ребёнке прусского короля или его сына Вильгельма. Но и им не удалось окончательно сдёрнуть вуаль с тайны его происхождения. Может, разгадка содержится в письмах графини Форгач. Бытует версия о их подделке Елизаветой Михайловной Хитрово. Зинаида Алексеевна Бурке, урождённая Башкирова, правнучка Эльстона по линии его старшего сына Павла Феликсовича, категорически отвергла это предположение. Письма помечены 1848—1849 годами, когда Хитрово давно уже не было в живых. А домысел, что она изготовила их впрок, — просто смешон! Бурке была убеждена, что доскональное изучение писем, экспертиза почерка подтвердят истину о материнстве графини Форгач. Сама исследовательница не смогла получить доступ к архиву Пушкинского дома, где они хранятся. Но сумела собрать немало документов о графине Йозефине Андраши, по мужу Форгач, и о бароне Карле Хюгеле — предполагаемом отце Эльстона.
Мой интерес к нему (Эльстону. — С. Б.), — пишет Бурке, — вероятно, был вызван его хранившимся у моей матери портретом, где он изображён молодым и красивым[128].
В пользу отцовства Хюгеля Зинаида Бурке приводит и другой, вышеупомянутый, факт — о выделении бароном Феликсу определённой доли своего состояния. Должно быть, в этом посредничал граф Форгач. По воспоминаниям дедушки Зинаиды Бурке, Карл Хюгель вёл с графом какие-то долгие переговоры. После встречи с сыном в графине, наверное, заговорила совесть. Ведь Феликс в то время существовал на своё скромное офицерское жалованье. Е. М. Хитрово, жившая на назначенную ей царём пенсию, вряд ли могла оставить ему какое-нибудь наследство. Что сталось с её бессарабскими землями, неизвестно. Должно быть, продала их ещё при жизни. Екатерина Тизенгаузен тоже не могла помогать Феликсу из своего небольшого фрейлинского вознаграждения. Сама же графиня Форгач была разорена. После революции 1848 года имения многих венгров, принимавших в ней участие или сопричастных к повстанцам, были конфискованы австрийским правительством.
Доказательства Бурке логичны, её версия заслуживает дальнейших исследований. Предлагаю своё объяснение загадочной легенды о происхождении Эльстона. Предположение, что отцом Феликса был прусский принц Вильгельм, вообще считаю несостоятельным, и дальнейшее, думаю, убедит в этом[129]. Начну с «отцовства» прусского короля. Какие для него основания? Они, простите, выеденного яйца не стоят. Вот одно из них — кайзер Фридрих Вильгельм III лично рекомендовал Александру I «любезное трио» — направлявшихся в Петербург матушку и её дочерей. Он просил русского императора оказать им содействие. Елизавете Михайловне, кажется, удалось разжалобить короля своим поистине трудным материальным положением. Александр не мог отказать родственнику и правителю дружественной державы в его просьбе. Время стёрло неприязнь императора к Кутузову. И он, возможно, даже устыдился, что дочь прославленного полководца бедствует. Ко всему прочему дамы были поистине очаровательны. А Долли просто пленила его. И, как мы знаем, у них даже завязался платонический роман. Царь сказал, — пишет Долли из Петербурга мужу, — что прусский король обрисовал ему нас и отозвался с таким дружеским чувством, что ему трудно было дождаться встречи с нами. И далее: Жена великого князя Николая обращается со мной и Екатериной как с сёстрами. «Относится как к брату, как к сестре» — расхожая фраза для выражения дружеских чувств кого-то к кому-то. Но Н. Раевский и другие исследователи видят в нём намёк на связь Екатерины с отцом великой княгини Александры Фёдоровны. Какие другие доказательства? Их видели в царских щедростях, расточаемых графине Тизенгаузен до самой её смерти, — драгоценности, имения, прииски из императорских уделов… И ещё в том, что сам император Николай опекал Эльстона, удостаивал званиями, орденами, титулами. А Александр II и Александр III продолжали покровительствовать его потомкам. На самом деле всё было иначе — императрица полюбила Екатерину и одаривала её за верную службу. Графское достоинство Эльстон получил благодаря браку с Сумароковой. Орденами награждался за боевые заслуги, кстати, на Кавказском фронте, от которого гр. Тизенгаузен не удалось уберечь своего воспитанника. Княжеский сан его сыну, женившемуся на княгине Юсуповой, дарован по той же причине — дабы не угас славный род Юсуповых. Как было сказано выше, карьера Феликса не была ни головокружительной, ни особенно блестящей. Звание генерал-лейтенанта получил в 44 года — оно было итогом его честной и нелёгкой военной службы на Кавказе, заслуг в Крымской войне.
Вопрос второй — почему Хитрово усыновила сына какой-то графини Форгач? Вспомним письмо Меттерниха жене от 24.1.1821, в котором он говорит о предстоящей женитьбе некоего «нашего атташе» в Риме на Екатерине. Этим молодым человеком, как считает Зинаиде Бурке, и был барон Карл Хюгель. Он родился 25.4.1795 г. в германском городе Регенсбурге в семье дипломата. Учился на юридическом факультете Гейдельбергского университета, но не окончил его и в 1811 году поступил в австрийскую армию. В 1819 году в звании капитана служил в гусарском полку. Принадлежал к сливкам австрийского аристократического общества. Был постоянным посетителем самого модного тогда в Вене салона блистательной графини Вильгельмины, супруги венгерского графа Зиши-Феррариса. В дни Венского конгресса красавицей Вильгельминой — Моли — был серьёзно увлечён русский император Александр. У неё Карл Хюгель, по-видимому, и познакомился с её родственницей по мужу — Йозефиной Форгач. Плодом их страсти и явился Феликс. Граф Форгач не простил жене измену, и с тех пор они жили порознь. К этому времени — 1820 году — относится знакомство Хюгеля с Екатериной Тизенгаузен. Очаровательная девушка вскоре стала его невестой. Предстоящая свадьба неизвестно почему расстроилась.
Возможно, причиной было новое увлечение непостоянного барона дочерью Вильгельмины Зиши — Меланьей. Она недавно стала выезжать в свет (родилась в 1805 г.) и пользовалась огромным успехом в венском обществе. Хюгель безумно влюбился в молодую графиню и долго завоевывал её руку — не сердце. Сердце было занято другим — она любила женатого князя Меттерниха и, как выразилась Долли Фикельмон, пожертвовала ради него своей репутацией. У далеко не молодого князя в 1825 году умирает жена, и графиня Меланья Зиши совсем естественно ожидает, что он женится на ней. Умнейший и всемогущий мужчина своего времени, Меттерних, как оказалось, был отчаянным сердцеедом. Он совершает странный, по мнению света, поступок — берёт в жёны не Меланью, а другую — безродную, но молоденькую — почти ребёнка — и красивую девушку. Тем самым разбивает сердце обманутой графини Зиши. Новая страсть вытеснила Меланью из сердца князя. Но Долли Фикельмон считала, что он поступает так из гордости и желания насолить браком с безродной девицей злоречивому обществу. Бурные и скандальные романы князя шокировали венское общество. Мать Меттерниха, старая графиня, умирает с горя, проклиная сына и новоиспечённую невестку. Меланья в отчаянии даёт согласие на брак с Хюгелем. Новая жена, чтобы счастье стало ещё полнее, рожает пятидесятипятилетнему Меттерниху сына. Но Провидение жестоко, по словам Долли, покарало князя — за безумную дерзость и нарушение заповеди о смирении. Молодая жена вдруг умирает при очень загадочных обстоятельствах. Об этой странной истории расскажу дальше. Она интересна тем, что нашла отражение в «Пиковой даме» Пушкина.
Неожиданно в ноябре 1829 года уходит из жизни сын канцлера от первого брака — Виктор Меттерних — такой молодой, такой умный, с такими возможностями и блестящим будущим. Три смерти за несколько месяцев в семье Меттерниха — матери, жены, сына — жестокое подтверждение поговорки: Бог троицу любит! Графиня Фикельмон считает это суровой Божьей карой. Меттерних снова вдовец. К Меланье возвращается надежда на брак с ним. Она отказывает Хюгелю. В последний день января 1831 года графиня Зиши наконец становится третьей женой австрийского канцлера. А барон, чтобы заглушить боль, бежит прочь из Австрии — шесть лет странствует по Востоку.
Таков финал фатальной истории, разрушившей и матримониальные планы Хитрово. Усыновление незаконного сына Хюгеля было для Елизаветы Михайловны своего рода ходом ва-банк. Во-первых, в тот момент она не сомневалась в предстоящем браке дочери с Хюгелем. Во-вторых, надеялась, что такой благородный жест обяжет Хюгеля жениться на Екатерине. Ничего подобного — барона отнюдь не впечатлил сей поступок, его мысли были заняты другой. Хитрово стала упорно преследовать его. Вот свидетельство Меттерниха (его письмо графу Людвигу фон Лебцельтерну от 18.8. 1825 г.): Мадам Хитрово совершенно сумасшедшая; она таскает по всей Европе мадам Фикельмон, чтобы за неделю до её родов вернуть в Неаполь. Цель этой прогулки выставлять напоказ Екатерину и встретить её с Карлом Хюгелем, внебрачного сына которого возит с собой, не будучи его матерью. При этом она всем говорит: «Думают, что это мой мальчик, но — увы! — я не имею счастья быть его матерью!»[130] (Выделено мною. — С. Б.)
Казалось бы, к чему дальнейшие рассуждения на эту тему. Меттерних всё сказал: отец — Хюгель, Екатерина — не является матерью ребёнка. В таком случае кто же она? Самое вероятное — графиня Форгач. Возможно даже, графиня обещала выплачивать приёмной матери денежную помощь на воспитание ребёнка, своего рода алименты. При расстроенных средствах для Елизаветы Михайловны это было совсем немаловажно. Думаю, мои аргументы достаточно основательны, ибо в противном случае Хитрово совершила безрассудный поступок, взвалив на свои плечи такую обузу. При всём своём сумасбродстве, она была достаточно практичной женщиной. Ва-банк сгорел. Хитрово проиграла…
Легенды же о происхождении Эльстона от династии Гогенцоллернов сознательно поддерживались князьями Клари-Альдрингенами и Юсуповыми из аристократического тщеславия. Та эпоха была эпохой снобизма, ныне нам почти непонятного, — отметила по этому поводу Зинаида Бурке. Согласитесь, престижно иметь предками представителей прусского королевского дома! Два ранее не известных и впервые опубликованных 3. А. Бурке письма Д. Ф. Фикельмон сестре Екатерине отнюдь не убеждают в материнстве последней, как утверждают Иван Бочаров и Юлия Глушакова[131]. Судите сами.
Ты знаешь, что все мои мысли сегодня обращены к тебе, ибо ты в своём последнем письме говорила,что свадьба Феликса, по-видимому, состоится 14-го числа. Я беспокоюсь о том, что ты ещё не полностью оправилась после болезни, думаю об этом большом дне, который определит будущее Феликса, и образ мамы вновь заполняет всю мою душу! Уповаю на имя Феликс (Феликс по латыни означает счастье, фортуну) и верю, что в этот великий для него миг вместе с признательной любовью к тебе его сердце будет переполнено и любовью к маме. Пусть Бог, который очевидно покровительствовал предпринятому ею с такой смелостью поступку — усыновлению ребёнка, благословит и хранит нынешний союз! — письмо от 14 (26) января 1853 г. (Выделено мною. — С. Б.)
Это письмо, — пишет Бурке, — окончательно доказывает, что именно Е. М. Хитрово усыновила Эльстона и что только после её смерти в 1839 году её дочь Екатерина взяла на себя заботу о нём[132].
И дальше Бурке продолжает: В другом письме из Вены, датированном 7 (19) апрелем, говорится о вероятной беременности жены Феликса и о том, что если это подтвердится, то Екатерине предстоит испытать вместо её матери «чувство бабушки, а это — ещё одно счастье». Авторы «Итальянской пушкинианы» пересказали этот пассаж, но опустили слова вместо её матери. Сделали это сознательно и, следует сказать, не очень корректно для убедительности своей версии — матерью Феликса была Екатерина.
Яснее не скажешь — чувства бабушки, а не тёти, ибо формально приёмный сын Елизаветы Михайловны был братом Екатерины, а его дети — племянниками, но не внуками. Недаром эти два письма не были включены графом де Сони в его сборник переписки Фикельмонов с Е. Ф. Тизенгаузен…[133]
Екатерине Тизенгаузен вообще не везло с женихами. В двадцатых годах прошлого века носились слухи, что она собиралась также замуж за графа Огюста фон Брунсвика, что была помолвлена с сотрудником русского посольства в Вене Обресковым. В России Екатерина дважды была обручена, но каждый раз женитьба расстраивалась. В Петербурге у неё начался роман с одним из побочных внуков Екатерины II — с графом Василием Алексеевичем Бобринским, отставным поручиком лейб-гвардии Гусарского полка.
Отрывок из дневника гр. Фикельмон — запись 7 ноября 1829 г.: Эти дни тягостны для нас — Катерина в большом горе. Бобринский[134], кого она привыкла считать человеком, с которым проведёт свою жизнь, женится на другой. Катерина в этом болезненном состоянии проявила всю доброту, всё благородство своего ангельского характера; ни один стон, ни малейший упрёк не исторгло её сердце. Проливала потоки слёз и оплакивала его, будто смерть отняла его у неё. Она очень трогательна и несчастна! Таинственны и неведомы пути Провидения! Как понимать, что такое чистое, такое благородное и доброе существо — постоянная мишень для мук и страданий! И именно та, которая ни в чём не согрешила, та, чьи помыслы непорочны, как у ангела! Но Господь лучше нас знает, что есть добро. Склоним голову перед Его волей и смиримся!
Подкрепляют это рассуждение Фикельмон о сестре и слова Зинаиды Бурке:
Не могу представить, что Екатерина могла бы сделать это (присылать Феликсу сфабрикованные Е. М. Хитрово письма от имени графини Форгач. — С. Б.), чтобы обмануть детей Феликса Эльстона, та, которая вообще не таила своей любви к нему. Всё её поведение выдаёт <… > сильную в своей невинности личность, абсолютно не ведавшую о злословии, которое распространялось за её спиной.[135]
Через три года Фикельмон упоминает о новом увлечении сестры Баратынским — её увлечение, месье Баратынский уезжает. Он умён и любезен, как мне кажется, но большой оригинал и с бурными реакциями[136]. В Петербурге было четыре брата Баратынских. Приятель Пушкина поэт Евгений Баратынский. Он с 1826 г. был женат на А. Л. Энгельгардт. Флигель-адъютант, впоследствии генерал-лейтенант, сенатор, ярославский и казанский губернатор Ираклий Баратынский женился в 1835 г. на воспетой Пушкиным княжне Анне Давыдовне Абамелек. Сергей Баратынский летом 1831 г. стал мужем вдовы Дельвига Софьи Михайловны. Гвардии поручик Лев Баратынский, по рассказу Смирновой-Россет, женился где-то на юге России и с тех пор исчез из петербургского общества. Судя по всему, Екатерина увлекалась флигель-адъютантом Ираклием, единственным из братьев, служившим при дворе. Но, как видим, он предпочёл бесприданнице Екатерине богатую армянскую княжну Абамелек, чьей экзотической внешностью, умом и образованностью восхищались поэты Пушкин, Вяземский, Козлов. Женщины недолюбливали восточную красавицу. Язвительная Александра Россет с иронией рассказывала о ней: …княжна Макобитая из роду армянского, мы так называли княжну Абамелек, которая за Ираклием Баратынским и пресмыкается перед Алёнкой[137]. Гр. Фикельмон, восхищавшаяся красавицами Петербурга, не была особенно очарована её внешностью: …армянская красота, удлинённые чёрные, очень красивые глаза. Она была бы прелестна в своём ориентальском костюме, но в наших европейских костюмах никакой грации и осанки. — Запись 3 февраля 1832 г.
В апреле 1834 г. Екатерина переехала жить в Зимний дворец, как и полагалось фрейлине императрицы. Александра Фёдоровна её особенно любила и отличала. Исключительное к ней доверие императрицы порождало недоброжелательные слухи и зависть при дворе. Пётр Владимирович Долгоруков в «Памфлетах эмигранта» выливает на бедную Екатерину, как и на всю её семью, ушаты помоев. Желчный Долгоруков смертельно ненавидел царя Николая. День смерти Незабвенного 19 февраля 1855 года назвал счастливым для России днём. Долгоруков не сумел сделать карьеры и при новом царе Александре II. В мае 1859 года эмигрировал во Францию. Здесь принялся создавать себе политический багаж — злобные, не лишённые саркастического таланта памфлеты на Николая I, императрицу, придворных, Россию. Ненависть князя к царю рикошетировала на многих его приближённых. Графиня Тизенгаузен оказалась пешкой в атаке на «короля» и «королеву». К примеру, князь рассказывает о выпрошенном вдовствующей императрицей у наследника Александра II праве знакомиться с секретными дипломатическими депешами. И вроде бы невинно замечает: Их читала императрице камер-фрейлина графиня Екатерина Фёдоровна Тизенгаузен[138]. А в сущности, это намёк на шпионаж камер-фрейлины в пользу зятя — австрийского подданного. Нелепое обвинение, ибо граф Фикельмон умер в 1857 году. После революции 1848 года вышел в отставку, совершенно отошёл от государственных дел и политики, всецело посвятил себя литературной деятельности. С 1855 года Фикельмоны совместно с зятем Клари-Альдрингеном приобрели в Венеции особняк и переселились туда на постоянное жительство.
Ещё один образчик подобного злопыхательства: Придворные интриговали при Незабвенном; не интриговать им невозможно, словно рыбам нельзя жить вне воды; интриги их стихия, но при Николае они интриговали втихомолку, скрытно, боясь гнева грозного государя; а при Александре II стали интриговать открыто, гласно, явно; всякий из них получает всё, что хочет; и разве только ленивые не берут себе ныне и денег и земель. Окружающие государя не желали иметь князя Горчакова министром иностранных дел: они готовили это место другому — Ивану Матвеевичу Толстому <…> самой полной и самой безграничной бездарности, сопряжённой с невообразимой самонадеянностью и с мнением самым высоким о своей личности…[139]
Граф Иван Матвеевич Толстой на беду оказался двоюродным братом Екатерины Тизенгаузен. План царской дворни не удался. Но императрица Александра Фёдоровна, вследствие влияния на неё камер-фрейлины графини Екатерины Тизенгаузен, женщины весьма умной и весьма хитрой, всё-таки протолкнула Толстого в товарищи министра иностранных дел[140].
Бедная Екатерина! Сколько сплетен и клеветы вокруг её имени! Позволю повторить слова Долли Фикельмон о её злосчастной судьбе: Как понимать, что такое чистое, благородное, такое доброе существо — постоянная мишень для мук и страданий! И именно та, которая ни в чём не согрешила, та, чьи помыслы непорочны, как у ангела!
Матушка Екатерина II была весьма искушённой в царедворческих нравах и как опытный режиссёр сама талантливо выстраивала придворные мизансцены. А затем с высоты трона, словно из театральной ложи, оценивала плоды своего труда: Какая сложная, причудливая, фантастическая смесь здравого и безумного! И как одно легко и неощутимо для глаз переходит в другое: восторг перед властью, силой, богатством сменяется презрением к бедности, слабости и… доброте. Наивысшая форма безумства — безжалостность к творящим добро! — на склоне лет царица занялась мемуарами и взором стороннего наблюдателя давала оценки театру своей жизни…
Екатерина Тизенгаузен всю жизнь провела при дворе, и бесноватые наказывали её за природную доброту. Мало кому известно, что своим возвращением из ссылки А. И. Герцен обязан ходатайству перед Николаем I графини Тизенгаузен, — этой отзывчивой, всегда готовой помочь людям женщины.[141]
Доброта — наследственная черта в её семье. Она была удивительна в Елизавете Михайловне. Дружба у неё возвышалась до качества доблести… Она за друзей ратовала, не жалея себя, не опасаясь для себя неблагоприятных последствий… от этой битвы не за себя, а за другого, — писал П. А. Вяземский. Этот «дар небес» она передала не только дочерям, но и внучке Элизалекс, благодетельнице всех сирых и неимущих в Венеции, — слова князя Альфонса Клари-Альдрингена.
Будущим исследователям документы и портреты теплицкого замка откроют ещё немало тайн и загадок. Изучена лишь малая часть бесценного клада, каким является семейный архив Фикельмонов и их потомков. Он хранится в архиве г. Дечина, расположенного неподалёку от Теплице. Назову лишь некоторые из документов, которые мне удалось просмотреть: 1. Переписка гр. Фикельмона с Меттернихом (вероятно, черновики или копии — оригиналы хранятся в венском Hofarchiv). 2. Переписка гр. Фикельмона с Нессельроде. 3. Письма графине Фикельмон П. А. Вяземского, Жуковского, гр. Панина, Игнатьева. 4. Письма к Долли от родственников — сестры Екатерины Тизенгаузен, Опочининых, Толстых, Захаржевских, Тизенгаузенов, Радзивиллов. 5. Переписка с русскими и австрийскими друзьями — с женой Меттерниха Меланьей, Альфонсом Сюлливаном, семьями Лихтенштейн, Лобковиц, с австрийским послом в Бразилии Маршаллом и пр. 6. Дневники, записки, рисунки Долли. 7. Генеалогическое древо Тизенгаузенов. 8. Переписка дочери Фикельмонов — Элизалекс.
Многочисленная корреспонденция — на французском и немецком языках — графов Фикельмонов, письма Екатерины Тизенгаузен сестре Долли, к сожалению, не прочитаны, и прежде всего, из-за трудности расшифровки почерков. Эта работа требует специального знакомства с каллиграфией прошлого века. А письма, без сомнения, содержат неизвестные подробности о Фикельмонах, Хитрово, Екатерине, о знакомых и друзьях Пушкина, возможно, и о нём самом. И, может быть, помогут разгадать наконец тайну происхождения Феликса Эльстона.
Тайная Супруга Дантеса
Cherchez la femme!
— Наконец-то! — воскликнула я, прочитав в парижской «Русской мысли» статью Ивана Толстого «Найдены письма Дантеса»[142]. Её прислал мне мой добрый знакомый князь Никита Лобанов-Ростовский. Время от времени он подбрасывает мне подобные подарки — зарубежные публикации о Пушкине. Но этот был поистине потрясающим! Давно уже пушкинистика не испытывала подобного шока. Иван Толстой очень точно выразил впечатление от этой сенсации:
И вот произошло то, во что не верилось: письма Жоржа Дантеса нашлись, и не одно-два, а целых 25, вот они, ещё нигде по-русски не опубликованные, ещё никем толком не прочитанные, ещё таящие в себе сотни будущих работ, которые о них напишут.
Более 150 лет наследники Дантеса отрицали существование писем. Не хотели выносить сор из избы. И вот жгучая семейная тайна вырвалась за порог дома. Значение сего события огромно! Публикация новоявленных документов поможет разрешить многие загадки поведения Дантеса, понять ставившие в тупик самого царя причины усыновления его Геккереном, проникнуть в тайну женщины божественной красоты. Теперь можно попытаться ещё раз разобраться в покрытой фантастическими наслоениями истёкших лет преддуэльной драме. Этот акт доброй воли — по-другому его не назовёшь — укрепляет надежду, что в один прекрасный день на свет божий также появятся из архивных закромов таинственно исчезнувшие письма Натальи Николаевны. Очаровательная итальянка Серена Витале сумела найти ключик к сердцу и разуму престарелого барона Клода де Геккерена, убедила достать с пыльных антресолей потрёпанный чемодан с бумагами Дантеса. Щедрая — какой и должна быть душа человека, соприкасающегося с духовностью Пушкина! — она сразу же после публикации своей книги «Пуговица Пушкина» на итальянском языке предоставила русским издателям эти легендарные письма — во Франции — «Русской мысли» и в России — петербургскому журналу «Звезда». Таким образом, они стали достоянием всех нас, русских или нерусских, независимо в какой стране живущих, для кого Поэт был и есть — русским, то есть европейским писателем. Об этом Витале заявила во всеуслышанье! А я бы уточнила — всемирным, Поэтом всех землян! Великодушие Витале должно устыдить тех, кто пытался не допустить её к российским архивам, чинил ей всевозможные препятствия. Кто пытается присвоить себе Поэта и, по словам Витале, ужасно ошибается, с плохо скрытым шовинизмом утверждая: Пушкин наш! Руки прочь от Пушкина! Увы! — немало чиновников окопалось в учреждениях России, именуемых пушкинскими храмами. Именно к ним обращены её горькие слова:
Я много раз чувствовала, что надо мной издеваются, что ко мне относятся как к «фирменной бабе» — так меня однажды назвали в Ленинграде, — которую от нечего делать обуяла охота сунуть свой нос в наше, недоступное простым смертным, нерусским. И мне пришлось выходить из этой скрученности мессианства и бескультурья, приблизительности и боли, невозможности и лени. Пришлось выходить самой[143].
Я с трудом дождалась возможности прочитать эти письма Дантеса. Достать журнал «Звезда» в Болгарии невозможно. Духовный кризис, как следствие экономического, жестоко рикошетировал по библиотекам страны. Замер международный библиотечный обмен. В ответ на мою просьбу заказать из России до зарезу необходимую мне книгу сотрудники Национальной библиотеки иронично улыбались: «Заказы из России практически не выполняются». — «А всё-таки, если попробовать?» — настырничала я. «Ждать придётся долго и никаких шансов на успех!» — «Как долго?» — «Никто не может сказать — три месяца, полгода, а может, и больше… Да и книжечка в копеечку обойдётся!»
И вот из России от моей подруги приходит долгожданная бандероль с ксерокопией публикации в «Звезде». Читала медленно, всю ночь. Первое открытие — у Дантеса была тайная супруга!
Бедная моя Супруга в сильнейшем отчаянье, несчастная несколько дней назад потеряла одного ребёнка, и ей ещё грозит потеря второго; для матери это поистине ужасно, я же, при самых лучших намерениях, не смогу заменить их. Это доказано опытом всего прошлого года (письмо от 1 сентября 1835 г.). К этому тексту примечание публикаторов: Имя этой женщины, бывшей, по всей видимости, в продолжительной любовной связи с Дантесом, установить пока не удалось.
Не удалось? Может, не очень старались? Чует сердце, она, «Супруга», и есть та спасительная ниточка, которая поможет размотать клубок запутанной преддуэльной истории! Неужели причина во всё той же приблизительности, невозможности и лени, в которых упрекает русских исследователей С. Витале? Но сама-то Витале понимала, как важно открыть имя этой женщины — возможного автора анонимных писем. Она избрала правильный путь — просмотрела родословные книги, Петербургский некрополь: Изученные нами генеалогические списки не содержат сведений о малолетнем (или малолетней), скончавшейся в Петербурге во второй половине августа 1835 года. Таким образом мы могли бы исключить, что «Супруга» Дантеса принадлежала к аристократии, если бы не обстоятельство, что в генеалогических списках часто не приводятся даты кончины детей и подростков, в них ограничиваются лишь указанием: «умер (умерла) в раннем возрасте». Безрезультатно мы просмотрели и четыре тома «Петербургского некрополя» (СПб., 1912—1913). Исторический архив Петербурга, где хранятся книги записей всех петербургских церквей за весь XIX век (а в этих книгах, безусловно, должен сохраниться след захоронения несчастного «enfant»), закрыт на реставрацию на несколько лет. И это очень жаль, поскольку интуиция подсказывает нам, что не следует отклонять эту гипотезу, прекращать идти по следу этой ревнующей Дантеса женщины, как возможного автора анонимных писем; вполне может быть, что речь идёт о той женщине, о которой Пушкин говорил Соллогубу утром 4 ноября.[144]
Припомню фразу из «Воспоминаний» В. А. Соллогуба: Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами. В сочинении присланного ему всем известного диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал[145].
Меня интересовало только содержание писем Дантеса. И, к сожалению, вначале я не обратила внимания на комментарий С. Витале. Пыталась сама установить имя этой «дамы». Составила список «подозреваемых» женщин из окружения Пушкина и Дантеса. Путь поисков тоже был ясен — просмотреть родословные книги русского дворянства и «Некрополи». В болгарских библиотеках их, конечно, не оказалось. Приехать же самой в Россию — означало на несколько месяцев оставить книгу. И я снова обратилась к своей московской подруге P. Н. Гамалее. Она охотно стала помогать мне (за что ей бескрайно признательна). Но результаты ни к чему не привели — в августе 1835 г., согласно указанным источникам, ни у одной из предполагаемых женщин не умирали дети.
Графиню Нессельроде, на которую указывали многие пушкинисты как на возможного автора анонимных писем, я исключила из этого списка — некрасивая, грузная и благоверная сорокадевятилетняя Мария Дмитриевна (1786—1849) не подходила на роль любовницы Дантеса. Причастность к этому графини Нессельроде всегда была спорной и недоказанной — всего лишь одно из бесчисленного множества логичных или нелогичных, порою даже абсурдных предположений. Бесспорно, жена министра иностранных дел России была злейшим врагом Пушкина и приятельницей Дантеса. Но теперь, после установления факта существования «Супруги», подозрение с неё снимается.
Ах, как прав был Эйдельман, много раз повторяя: «Читайте Пушкина! Следуйте за Пушкиным!» И узнаете о нём в тысячу раз больше, чем из его биографий, написанных самыми изощрёнными авторами! Раз Пушкин сказал: «Автором письма была дама», значит, у него были для этого основания. В данном случае он полагался не на свою гениальную интуицию, а только на факты, которыми, по-видимому, располагал. Итак — Cherchez la femme! И мы должны найти её! Геккерен не мог сам писать анонимки — он был слишком хитёр и предусмотрителен, чтобы допустить такой промах! Вероятнее другое — подмётные письма были плодом двух спевшихся душ — очень близкой и преданной Дантесу женщины и отчаянно влюблённого в «приёмного» сына Геккерена!
Как запоздала публикация писем Дантеса! Появись она раньше, не было бы этих нескончаемых полуторастолетних ребусов об авторах пасквильного диплома! Сколько сил и времени потрачено исследователями, сколько исписано бумаги, сколько издано томов на эту тему! И как пагубно оказалось для пушкинистов графское понятие о чести Владимира Соллогуба, знавшего и не выдавшего имя истинного убийцы Пушкина: Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовёт не достоверная догадка, а Божие правосудие![146] Соллогуб умер в 1882 году. К этому времени мало современников Поэта осталось в живых, а из его явных или подозреваемых врагов всего четверо: князь Иван Сергеевич Гагарин — пережил Соллогуба всего на один месяц, князь Александр Васильевич Трубецкой и две женщины — княгиня Елена Павловна Белосельская-Белозерская и пресловутая Идалия Полетика. Один из них, по-видимому, и являлся настоящим убийцей Пушкина. Но пока они были живы, граф не мог высказать свою «достоверную догадку»…
Запоздалые письма открывают так много неизвестного. Нюансы, неожиданные ракурсы, потрясающие бесстыдством гомосексуальные признания, любовное безумие Геккерена и лицемерное подыгрывание ему Дантеса: Когда же ты говоришь, что не мог бы пережить меня, случись со мною беда, неужели ты думаешь, что мне такая мысль никогда не приходила в голову? И ещё многое, многое другое. Среди прочего — истина о чистой, платонической любви Натали и Жоржа!
Но, конечно же, самой большой сенсацией является таинственная «Супруга». О ней лишь дважды упоминает в письмах барону Дантес. Едва не забыл сказать, что разрываю отношения со своей Супругой и надеюсь, что в следующем письме сообщу тебе об окончании моего романа, — дописал он на полях четвёртого листа пространного письма к Геккерену от 26 ноября 1835 г. К сожалению, письмо с подробностями «об окончании романа» не сохранилось или же потонувший в рассеянии светской жизни молодой человек позабыл сообщить об этом «батюшке». А может быть, дипломатично предпочёл до времени умолчать, чтобы не травмировать сердца влюблённого барона. Ибо разрыв с «Супругой» был связан с другим душещипательным событием в жизни Дантеса — именно в это время он безумно влюбился в самое прелестное создание в Петербурге. Надо полагать, произошло это за несколько недель до его решения о разрыве с любовницей. А значит, в октябре, самое позднее в первой половине ноября 1835 г., то есть в начале осенне-зимнего петербургского сезона. Именно тогда вновь появилась в обществе Наталья Николаевна Пушкина. За лето сумела оправиться после родов (в мае 1835 г. она произвела на свет третьего ребёнка, Григория). И стала ещё краше, как это бывает у некоторых женщин, будто самой природой созданных для материнства. Приехавшая из Варшавы золовка Ольга Павлищева нашла её очень похорошевшей: у неё теперь прелестный цвет лица, и она немного пополнела; это единственное, чего ей недоставало[147].
За полтора года пребывания в России незначительный и бедный искатель счастья «шуан» Дантес (приехал в Петербург, словно ведомый зловещим роком, 8 сентября 1833 года — по новому григорианскому календарю, именно в Натальин день, как установила Серена Витале) превратился в модного и очень самоуверенного кавалера — с февраля 1834 г. корнета, а с января 1836 г. поручика лейб-гвардии Кавалергардского полка. Чтобы понять чрезмерную популярность Жоржа в петербургском обществе, нельзя забывать также об одном удивительном, чисто российском, аспекте — неистребимой слабости к иностранцам или же европеизированным русским. Они были в диковинку у нас, поражали доморощенных аристократов своими модными парижскими туалетами, раскованностью поведения, самоуверенностью, образованностью, а в сущности, умением обо всём судить слегка с учёным видом знатока. Вызывали респект, восторженное поклонение, желание во что бы ни стало заполучить их в свои салоны. Таким успехом пользовались, к примеру, хорошо известные в пушкиниане современники Поэта — Зинаида Волконская, Долли Фикельмон, Юлия Самойлова, Александр Тургенев, Анатолий и Павел Демидовы, Амалия Крюднер… Такой диковинкой для Петербурга оказался и бесцеремонный красавчик Дантес. Как иностранец, он был пообразованнее нас, пажей, и, как француз, — остроумен,жив, весел. <…> он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, а как избалованный ими, требовательнее, если хотите,нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе[148], — вспоминал в старости бывший кавалергард и товарищ Дантеса князь Александр Васильевич Трубецкой. Остроумнее? Возможно, именно как француз. Смелее, развязаннее? Бесспорно, как иностранец — об этом уже сказано выше, да и сам Трубецкой подтвердил. Нахальнее, наглее? Да, в силу своего беспардонного характера. Но вот образованнее? Здесь воспитанник Пажеского корпуса ошибался! Предоставляю слово его правнуку, казалось бы, совершенно незаинтересованному выставлять своего прадеда в невыгодном свете: Дантес <…> по-братски протянул обиженному поэту руку. Поэт не принял её. Разве мог он участвовать в этой мольеровской игре? Принимать у себя этого блондина со скромной культурой, для которого «Святая Русь» всего лишь только одна страна, одна взятая напрокат униформа, один варварский язык? Предоставить ему возможность ухаживать за Натали, терпеть его прогулки с ней по берегам отливающей на солнце синевой льда Невы, проявлять толерантность к нежным записочкам «своей Психеи» (впрочем, вполне сносно написанным), сопровождавшим отправляемые ей посредственные французские романы?[149] (Подч. мною. — С. Б.)
Не с неба свалилось на Дантеса и неожиданное богатство (70 тысяч рублей годового дохода, как утверждали петербургские сплетники) — он просто продал себя потерявшему от пагубной страсти разум Геккерену. И этот пресловуто скаредный и далеко ещё не старый человек вдруг решается на отчаянный поступок — усыновляет Дантеса и переписывает на него всё своё состояние. Проверенное многовековой историей человеческих страстей средство покорения объекта вожделения! Двадцатилетний красавчик без зазрения совести вступает в роль кокотки: …ведь в наше время [трудно] найти в чужестранце человека, который готов отдать своё имя, своё состояние, а взамен просит лишь дружбы: дорогой мой, надо быть вами и иметь такую благородную душу, как ваша, для того, чтобы благо других составило ваше собственное счастье; повторяю то, что уже не раз вам говорил, — мне легко будет стремление всегда вас радовать, ибо я не дожидался от вас этого последнего свидетельства, чтобы обещать вам дружбу, которая закончится только со мною…[150] Расчётливый Дантес безустально расточает свою благодарность благодетелю: Благодарю, благодарю тысячу раз, мой дорогой, и моё единственное постоянное желание — чтобы вам никогда не довелось раскаяться в своей доброте и жертвах, на которые вы себя обрекаете ради меня; я же надеюсь сделать карьеру, достаточно блестящую для того, чтобы это было лестно для вашего самолюбия, будучи убеждён, что вам это будет наилучшим вознаграждением, коего жаждет ваше сердце[151].
Геккерену стоило неимоверных трудностей добиться усыновления Дантеса при живом отце. Но ещё сложнее оказалось узаконить перевод на его имя всего имущества: Итак, вам не позволяют отдать мне своё состояние, пока вам не исполнится 50 лет. Вот уж большая беда: закон прав, к чему мне расписки, и бумаги, и документальные заверения, у меня есть ваша дружба, и, надеюсь, она продлится до той поры, когда вам исполнится пятьдесят, а это дороже, чем все бумаги в мире,[152] — лицемерно-цинично заявляет Геккерену Дантес. Как же потом сынок отблагодарил отца, узнаем из «Записок» Смирновой-Россет: Этот подлец (имеется в виду Геккерен. — С. Б.) жил и умер в совершенном одиночестве в Голландии. Он был сродни со всей аристократией, но ни одна душа не почтила погребальную процессию, даже Дантес не поехал к своему папеньке, и его похоронили как собаку[153].
И вот этот, по выражению Смирновой-Россет, банкаль, баловень судьбы, женщин, а также и мужчин вдруг удостоил своим вниманием Натали. Впрочем, можно предположить — и скорее всего именно так и было, — они оба, Дантес и Натали, обоюдно начали эту рискованную игру, именуемую кокетством. Возможно, интерес Натальи Николаевны к Дантесу пробудила её троюродная сестра и подруга Полетика. Как теперь стало известно, Идалия давно уже была влюблена в кавалергарда. Её муж полковник Александр Михайлович служил в том же Кавалергардском полку. Общительный и весёлый француз очень скоро стал mon ami в доме Полетики. Они пользовали казённую квартиру в полковых казармах, что было на руку и Дантесу и Идалии — не вызывая ни в ком подозрения, кавалергард запросто, по-соседски захаживал к своей пассии. Но скрытная, хитрая, при этом весьма умная Идалия вряд ли до конца была откровенна с Натали. Наверное, утаивала от неё своё истинное чувство к Дантесу. Вообще, как ни странно, её отношения с Жоржем остались в тайне от любопытного и всё подмечающего склочного петербургского общества — никакого намёка на это не содержится ни в одном из выявленных воспоминаний современников Пушкина. Только А. Смирнова-Россет утверждала в старости, что Жорж любил вовсе не Натали, а Идалию. Но на это свидетельство не обратили никакого внимания — слишком противоречило оно бесспорной истине о романе Дантеса с Пушкиной. Впервые о страсти Полетики поведал Клод де Геккерн д’Антес, в чьём архиве хранились письма Полетики к его прадеду.
Идалия наверняка навещала Натали после её родов. И там, на даче Мюллера, которую Пушкины в то лето снимали на Чёрной речке, они болтали о разном и, конечно же, о головокружительных успехах Дантеса в последние месяцы, когда жена Пушкина из-за беременности не выезжала. Так что в начале нового сезона балов прекрасная Натали уже с любопытством поглядывала на отчаянного сердцееда, прозванного женщинами царём Санкт-Петербурга. А он из чисто «спортивного» азарта, уверенный и в сопутствующей ему Госпоже удачи и в своей неотразимости — уже много раз доказанной, — решил испробовать действие чар на той, которую считали царицей северной Пальмиры. Так началось то, о чём спустя сто тридцать лет правнук Дантеса сказал:
«Чистый и платонический роман Натали и Жоржа»
Через год и четыре месяца он окончился драмой на Чёрной речке. О нём лишь 20 января 1836 решился наконец-то сообщить Геккерену Дантес.
Мой драгоценный друг, я, право, виноват, что не сразу ответил на два твоих добрых и забавных письма, — отношения между сыночком и отцом к этому времени стали столь тёплыми, что Жорж уже смело обращался к Геккерену на «ты», — но, видишь ли, ночью танцы, поутру манеж, а после полудня сон — вот моё бытие последние две недели и ещё по меньшей мере столько же в будущем, но самое скверное — то, что я безумно влюблён! Да, безумно, ибо не знаю, куда преклонить голову. Я не назову тебе её, ведь письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты узнаешь имя. Самое ужасное в моём положении — что она также любит меня, но видеться мы не можем, до сего времени это немыслимо, ибо муж возмутительно ревнив. Поверяю это тебе, мой дорогой, как лучшему другу, и знаю, что ты разделишь мою печаль, но, во имя Господа, никому ни слова, никаких расспросов, за кем я ухаживаю. Ты погубил бы её, сам того не желая, я же был бы безутешен; видишь ли, я сделал бы для неё что угодно, лишь бы доставить ей радость, ибо жизнь моя с некоторых пор — ежеминутная мука. Любить друг друга и не иметь другой возможности признаться в этом, как между двумя ритурнелями контрданса, — ужасно; может статься, я напрасно всё это тебе поверяю, и ты назовёшь это глупостями, но сердце моё так полно печалью, что необходимо облегчить его хоть немного. Уверен, ты простишь мне это безумство, согласен, что так оно и есть, но я не в состоянии рассуждать, хоть и следовало бы, ибо эта любовь отравляет моё существование. Однако будь спокоен, я осмотрителен и до сих пор был настолько благоразумен, что тайна эта принадлежит лишь нам с нею (она носит то же имя, что и дама, писавшая тебе в связи с моим делом о своём отчаянии, но чума и голод разорили её деревни). Теперь ты должен понять, что можно потерять рассудок из-за подобного создания, в особенности если она вас любит![154] (Все фразы подчёркнуты мною. — С. Б.)
Этот пассаж уже давно в «обиходе» пушкинистов. В 1946 г. во Франции вышла книга Анри Труайя о Пушкине с фрагментами двух писем Дантеса — вышеприведённого и от 14 февраля 1836 г. — о нём пойдёт речь дальше. Но любая цитата, оторванная от контекста, может послужить для любых выводов, стать средством защиты или орудием обвинения. Именно так и произошло, когда в 1951 году эти отрывки были переведены М. А. Цявловским на русский язык. Вместе с фальшивыми «свидетельствами» А. Исаченко (о чём подробно рассказано в главе «Почти детективная история») эти «улики» стали поводом для начала нового «процесса» над женой Поэта. К сожалению, в нём приняла участие и Анна Андреевна Ахматова, чей непререкаемый авторитет на многие годы вновь втоптал в грязь имя Натальи Николаевны.
А как же всё было на самом деле? Неужели правда, что Натали «также любила» Дантеса, что они тщательно скрывали эту тайну, до поры до времени известную только им двоим? Оба горели желанием постоянно говорить друг другу об этом поглотившем обоих вихре и урывками, между двумя ритурнелями контрданса, горячо и бессвязно нашёптывали безумные, из души рвущиеся признания? Признания в любви — этом самом прекрасном, самом достойном человека чувстве. Которое не может быть преступным только потому, что в нём смысл божественного мироздания. Что оно включает волю расширять границы своего собственного «Я» с гуманнейшей целью обеспечить своё или чьё-то другое духовное возвышение. Эта мысль принадлежит виднейшему психологу Америки Моргану Скотту Пеку. Любви как философской категории посвятил целый раздел своей нашумевшей и самой читаемой после Библии книги «Искусство быть Богом».
Именно с этих позиций попробуем разобраться в хронике чувств двух наших героев, отображённой в письмах Дантеса к Геккерену. Спустимся с трибуны безгрешных судей-моралистов. Откажемся от этих набивших оскомину понятий о «супружеской верности», о «невольнике чести». Прислушаемся к зову правнука Дантеса, выраженному словами Бодлера, — не прибавлять новых мук усопшим бедным, которых ждёт так много горьких бед.
Позабудем на время о выжженных раскалённым железом клеймах: «божественная идиотка», «пустая кокетка», «бездушный авантюрист» Дантес, «циничный дипломат» Геккерен, «садистка-сводница» Полетика. Давайте попробуем вместе с вами, Читатель, вникнуть в смысл сказанного внуком Пушкина Николаем Александровичем в письме 1939 года к своему кузену (троюродному брату) Клоду де Геккерену д’Антесу: Я к Вашему расположению, чтобы защитить честь двух наших предков. Неведомы пути Провидения. Может быть, Оно даёт нам неповторимую возможность — объединив наши усилия, положить конец трагической и тёмной истории, в течение века разделявшей наши семьи, и я имею удовольствие констатировать наше взаимное убеждение — оба наших деда были невинными жертвами.
Прежде всего я сама себе говорю: постарайся, хотя это и нелегко, быть непредвзятой, откажись от въевшегося в плоть и кровь, внушённого тебе многотомной пушкинистикой недоброжелательного отношения к Дантесу и Геккерену, от уже выраженных тобой негативных оценок этих двух личностей. Стань раскрепощённым и непредвзятым человеком, каким и должен быть житель планеты на пороге XXI века. Прислушайся к мнению своей юной дочери, живущей ритмами нового времени, без предрассудков и консерватизма твоей юности. К дочери, которая спокойно заявляет: «Гомосексуализм — не порок, а состояние человека! И никто не вправе его осуждать!» Встряхнись и бесстрастно проследи логику развития чувств Дантеса. Ибо он, как всякий другой, имеет право на взросление, на изменение отношения к себе и окружающим, на расширение границ своего «Я» — особенно интенсивное у влюблённого человека…
Отрывок из письма без даты, написанного, по всей вероятности, в октябре 1835 г.: Бедняга Платонов[155] вот уже три недели в состоянии, внушающем беспокойство, он так влюблён в княжну Б… (молодую княгиню Елену Павловну Белосельскую. — С. Б.), что заперся у себя и никого не хочет видеть, даже родных. Ни брату, ни сестре не открывает двери. Предлогом служит тяжкая болезнь: такое поведение удивляет меня в умном молодом человеке, ибо он влюблён так, как нам представляют героев в романах. Последних я вполне понимаю, ведь надобно же что-то придумывать, чем заполнить страницы, но для человека здравомыслящего это крайняя нелепость[156]. (Подч. мною. — С. Б.)
А через четыре месяца Дантес уже сам мечется в горячечном бреду: Мой драгоценный друг, никогда в жизни я столь не нуждался в твоих добрых письмах, на душе такая тоска, что они становятся для меня поистине бальзамом. Теперь мне кажется, что я люблю её больше, чем две недели назад! Право, мой дорогой, это idee fixe, она не покидает меня, она со мною во сне и наяву, это страшное мученье: я едва могу собраться с мыслями, чтобы написать тебе несколько банальных строк, а ведь в этом единственное моё утешение — мне кажется, что, когда я говорю с тобой, на душе становится легче. У меня более, чем когда-либо, причин для радости, ибо я достиг того, что могу бывать в её доме, но видеться с ней наедине, думаю, почти невозможно, и всё же совершенно необходимо, и нет человеческой силы, способной этому помешать, ибо только так я вновь обрету жизнь и спокойствие. Безусловно, безумие слишком долго бороться со злым роком, но отступить слишком рано — трусость. <…> Напрасно я рассказываю тебе все эти подробности, знаю — они тебя удручат, но с моей стороны в этом есть немного эгоизма, ведь мне-то становится легче.[157]
Прошло ещё двенадцать дней. Карнавальное безумие Петербурга сошло на нет — начался Великий предпасхальный пост, стихало и безумие Дантеса. Его страсть к Пушкиной умиротворилась:
Мой дорогой друг, вот и карнавал позади, а с ним — часть моих терзаний. Право, я, кажется, стал немного спокойней, не видясь с нею ежедневно, да и теперь уж не может кто угодно прийти, взять её за руку, обнять за талию, танцевать и беседовать с нею, как я это делаю: а они ведь лучше меня, ибо совесть у них чище. Глупо говорить об этом, но, оказывается — никогда бы не поверил, — это ревность, и я постоянно пребывал в раздражении, которое делало меня несчастным. Кроме того, в последний раз, что мы с ней виделись, у нас состоялось объяснение, и было оно ужасным, но пошло мне на пользу. В этой женщине обычно находят мало ума, не знаю, любовь ли даёт его, но невозможно вести себя с большим тактом, изяществом и умом, чем она при этом разговоре, а его тяжело было вынести, ведь речь шла не более и не менее как о том, чтобы отказать любимому и обожающему её человеку, умолявшему пренебречь ради него своим долгом: она описала мне своё положение с таким самопожертвованием, просила пощадить её с такою наивностью, что я воистину был сражён и не нашёл слов в ответ. Если бы ты знал, как она утешала меня, видя, что я задыхаюсь и в ужасном состоянии; а как сказала: «Я люблю вас, как никогда не любила, но не просите большего, чем моё сердце, ибо всё остальное мне не принадлежит, а я могу быть счастлива, только исполняя все свои обязательства, пощадите же меня и любите всегда так, как теперь, моя любовь будет вам наградой», — да, видишь ли, думаю, будь мы одни, я пал бы к её ногам и целовал их, и, уверяю тебя, с этого дня моя любовь к ней стала ещё сильнее. Только теперь она сделалась иной: теперь я её боготворю и почитаю, как боготворят и чтят тех, к кому привязано всё существование.
Прости же, мой драгоценный друг, что начинаю письмо с рассказа о ней, но ведь мы с нею — одно и говорить с тобою о ней — значит говорить и о себе, а ты во всех письмах попрекаешь, что я мало о себе рассказываю.
Как я уже написал, мне лучше, много лучше, и, слава Богу, я начинаю дышать, ибо мучение моё было непереносимо: быть весёлым, смеющимся перед светом, перед всеми, с кем встречался ежедневно, тогда как в душе была смерть, — ужасное положение, которого я не пожелал бы и злейшему врагу. Всё же потом бываешь вознаграждён — пусть даже одной той фразой, что она сказала; кажется, я написал её тебе — ты же единственный, кто равен ей в моей душе: когда я думаю не о ней, то о тебе. Однако не ревнуй, мой драгоценный, и не злоупотреби моим доверием: ты-то останешься навсегда, что же до неё — время окажет своё действие и её изменит, так что ничто не будет напоминать мне ту, кого я так любил.[158] (Всё подч. мною. — С. Б.)
Разве объяснение Натальи Николаевны с Дантесом не напоминает ответ Татьяны Лариной Онегину? Тот самый хрестоматийный ответ, ставший синонимом благородства и чистоты русской женщины XIX века? Сколько поколений восхищались высоконравственной добродетелью Татьяны и почти столько же поколений втаптывали в грязь имя Натальи Николаевны, почти точь-в-точь повторившей слова героини Пушкина! Цветаева, Ахматова и вслед за ними десятки писателей, критиков, исследователей обвиняли бедную Натали в никчёмности духа, не способного оценить величие человека, чьей женой она имела честь быть! При всём моём уважении к обеим поэтессам я вынуждена сказать, сколь пагубна и для них самих, и для русской литературы, и для россиян, чьими пророками они были, есть и будут, эта нетерпимая, максималистская умозрительность. Эти плоды рассуждений ума и не очень чуткого (а значит, и не доброго?!) сердца.
И вот всё кончилось. Увлечение Натали Дантесом. Её чистое, искреннее (пусть и обманное, но в этом — увы! — убеждаемся обычно слишком поздно!) чувство к нему оскорблено его расчётливостью и предательством. Так сразу, без перехода, после пылких объяснений ей в любви, после мастерски разыгранной сцены покончить с собой, если она не будет ему принадлежать, он делает предложение её сестре Екатерине и вскоре женится на ней. Опьянение чувств и разума завершилось драмой — гибелью Поэта и саднящей, неизлечимой раной в её душе. Она осталась одна, окружённая на многие десятилетия осуждением мира. Уже нет того, кто до гроба был её хранителем. Кто до последнего дыхания повторял слова о её невинности. Всё кончилось. Осталась её скорбь о Пушкине. О том, кто послан был ей Богом. До самой смерти страданиями, болезнями, постами искупала вину. А можно ли с уверенностью сказать, кто больше виноват в свершившемся — жена Поэта или злая воля Рока? Предсказанная, предречённая вещуньями ещё задолго до их женитьбы. Даже будучи с Ланским в браке — вполне благополучном и счастливо-тихом, — она любила своего Пушкина! До последних дней, до своего преждевременного конца. Но об этом никто не знал, может быть, догадывались только её старшие дочери. Вспомним слова из её письма к Ланскому: Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца.
Пусть вспоминает эти слова всякий грешный, кому вновь захочется занести камень над её головой! Тысячу раз не правы те, кто утверждал и продолжает утверждать вслед за А. П. Керн, что, живо воспринимая добро, Пушкин не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное глубокое чувство, им внушённое. Да, верно, очаровывало! Порой он влюблялся в этих дам, сгорал от страсти к ним, обжигал их божественным огнём льющегося с небес поэтического потока. Он был Поэтом. И жадно любил жизнь во всех её проявлениях. С одинаковым увлечением внимал голосу балаганных сказителей и наслаждался беседами с салонно просвещёнными светскими красавицами. Но идеалом Поэта оставалась его Татьяна, милая Татьяна:
Она была нетороплива, Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей… Всё тихо, просто было в ней…Стихи из детства, из той поры, когда сам Поэт, и его красавица жена, и проходимец Дантес были всего лишь волнующими тенями прошлого. Из той поры, когда всё то, что связано с Пушкиным, ещё не стало частью твоею собственной судьбы. А сам Поэт не воспринимался входящим в жизнь ребёнком как самый наирусский, самый ясный дух России. И вот теперь поражаешься вдруг открывшимся тебе сходством двух образов — Лариной и Гончаровой.
Этому идеалу Поэта — тихой красоте — посвящена замечательная и неизвестная в России — написанная и изданная в эмиграции — статья П. Б. Струве «Дух и Слово Пушкина». Одна из её глав называется «Ясная тишина». Приведу только её начало: Итак, основной тон пушкинского духа, та душевно-духовно-космическая стихия, к которой он тянулся, как творец-художник и как духовная личность, можно выразить словосочетанием: «ясная тишина». У самого Пушкина это словосочетание не встречается, но по смысловой сути принадлежит ему, есть его духовное достояние. Оно раскрывает, по мысли Струве, смысл пушкинского идеала — земную, плотскую и душевную, духовную — сверхчувственную красоту.
Но этот идеал, впервые так ясно выраженный Пушкиным, выпестовывался русским духом и есть сущность национального характера. Он проявлялся в народном творчестве и русской литературе, в церковно-богослужебных книгах, отшлифовывался писателями до Пушкина — самым значительном в XVII веке Г. К. Котошихиным, в XVIII веке — Тредьяковским, Ломоносовым, Державиным, в XIX — Жуковским. А Пушкин, как истинно русское явление, впитал его в плоть и кровь и гениально, спонтанно, ясно выразил в своём творчестве. После него только Достоевский, и то под конец жизни, сумел принять и окончательно усвоить этот двойственный смысл пушкинской чистой красоты и пришёл к Пушкину и склонился перед ним. Струве кропотливо, на сотнях примерах — от Соборного уложения царя Алексея Михайловича до произведений Пушкина — исследовал эту тенденцию в помещённом в конце статьи приложении — «Материалы к историческому толковому словарю языка Пушкина». Этот забытый труд русского философа и литературоведа необходимо воскресить в пушкиниане. И он вместе с собранным им огромным материалом для «Исторического толкового словаря как языка самого Пушкина» станет бесценным пособием прежде всего для языковедов. Поможет и тем, кто ничтоже сумняшеся отрицает религиозность Поэта, суть которой Пётр Борисович выразил так убедительно: Ясный дух Пушкина смиренно склонялся перед Неизъяснимым в мире, т. е. перед Богом, и в этом смирении ясного человеческого духа перед Неизъяснимым Божественным Бытием и Мировым Смыслом и состоит своеобразная религиозность великого «таинственного певца» Земли Русской. И, подобно десяткам другим отвергнутым прежде и теперь возвращающимся к нам русским религиозным философам, прольёт свет в наши души.
После прочтения статьи П. Б. Струве уже не возникнет вопроса, почему Пушкин предпочёл Гончарову, в которой находят очень мало ума, перед, скажем, обольстительной Александрой Россет или блестящей Долли Фикельмон. Обе они не вошли в его донжуанский список, но были его хорошими друзьями. С. В. Житомирская в послесловии к мемуарам Смирновой-Россет заметила: Сам её женский облик — смелость поведения, острый язык, «шутки злости самой чёрной» — вряд ли был для него привлекателен. Однако, узнав Александру Осиповну ближе, он не мог не оценить её живой ум, образованность, тонкий юмор, благородный нравственный облик. Он запечатлел эти черты в её стихотворном портрете — «В тревоге пёстрой и бесплодной»[159]. Дарье Фёдоровне Фикельмон и петербургскому обществу в её дневнике посвящена отдельная часть моей книги. Поэтому не буду сейчас углубляться в характер отношений Долли с Поэтом. Забегая вперёд, только скажу: не было между ними романа, о котором с лёгкой руки Нащокина толкуют в пушкинистике. Не было и не могло быть. Резонёрствующая Долли, которую иные называли даже фразёркой, была далека от идеала Пушкина. Но духовно они были очень близки. Поэт ценил её ум, отдавал должное её красоте, но как женщина она его не вдохновляла. Своё отношение к подобным ей дамам выразил в «Евгении Онегине»:
Довольно скучен высший тон; Хоть, может быть, иная дама Толкует Сея и Бентама, Но вообще их разговор Несносный, хоть невинный вздор; К тому ж они так непорочны, Так величавы, так умны, Так благочестия полны, Так осмотрительны, так точны, Так неприступны для мужчин, Что вид их уж рождает сплин.Она осталась чиста!
В конце сороковых годов Анри Труайя опубликовал книгу о Пушкине. В ней цитировал фрагменты двух из двадцати пяти писем Дантеса к Геккерену. Появление на свет свидетельств о любви Пушкиной к Дантесу стало сенсацией. Взрывная волна этой бомбы докатилась до России. Многие пушкинисты усомнились в подлинности писем. «Фальшивки. Написаны позднее для оправдания перед потомками», — говорили одни. «А ежели фальшивки, не стоит вообще придавать им значения. Натали не могла серьёзно увлечься „вертопрахом“», — заявляли другие. И в этом отношении напоминали страуса, который прячет голову в песок. Третьи же облачились в судейские мантии. И со всей строгостью непогрешимых правоведов начали очередной процесс над Натальей Николаевной. Некорректно было в отрыве от контекста переписки, всего лишь по двум отрывкам, выносить приговор — оправдательный или обвинительный. Теперь же, когда в руках пушкинистов наконец-то оказались копии этих писем (жалко, что пока не все опубликованы — 21 из существующих 25, — ведь важна любая мелочь, любая деталь!), можно возобновить процесс. Моё пожелание всем, кто примет участие в этом трудном деле:
— Запаситесь терпением! Изучите каждое слово предоставленных вам архивных документов! Взвесьте на весах Фемиды все аргументы «за» и «против». Судите не только разумом, но и сердцем! И произнесите свой справедливый приговор!
Фрагмент из письма Дантеса от 6 марта 1836 г.:
…открываясь, я знал заранее, что ты ответишь отнюдь не поощрением. Вот я и просил укрепить меня советами, в уверенности, что только это поможет мне одолеть чувство, коему я попустительствовал и которое не могло дать мне счастия. Ты был не менее суров, говоря о ней, когда написал, будто до меня она хотела принести свою честь в жертву другому, — но, видишь ли, это невозможно. Верю, что были мужчины, терявшие из-за неё голову — она для этого достаточно прелестна, но чтобы она их слушала, нет! Она же никого не любила больше меня, а в последнее время было предостаточно случаев, когда она могла бы отдать мне всё, — и что же, мой дорогой друг, — никогда ничего! никогда в жизни!
Она была много сильней меня, больше 20 раз просила она пожалеть её и детей, её будущность, и была столь прекрасна в эти минуты (а какая женщина не была бы), что, желай она, чтобы от неё отказались, она повела бы себя по-иному, ведь я уже говорил, что она столь прекрасна, что можно её принять за ангела, сошедшего с небес. В мире не нашлось бы мужчины, который не уступил бы ей в это мгновение, такое огромное уважение она внушала. Итак, она осталась чиста; перед целым светом она может не опускать головы. Нет другой женщины, которая повела бы себя так же. Конечно, есть такие, у которых на устах чаще слова о добродетели и долге, но с большей добродетелью в душе — ни единой. Я говорю об этом не с тем, чтобы ты мог оценить мою жертву, в этом я всегда буду отставать от тебя, но дабы показать, насколько неверно можно порою судить по внешнему виду. Ещё одно странное обстоятельство: пока я не получил твоего письма, никто в свете даже имени её при мне не произносил. Едва твоё письмо пришло, словно в подтверждение всем твоим предсказаниям — в тот же вечер еду я на бал при дворе, и Великий князь-Наследник шутит со мной о ней, отчего я тотчас заключил, что в свете, должно быть, прохаживались на мой счёт. Её же, убеждён, никто никогда не подозревал, и я слишком люблю её, чтобы хотеть скомпрометировать. Ну, я уже сказал, всё позади, так что, надеюсь, по приезде ты найдёшь меня выздоровевшим[160]. (Все фразы подч. мною. — С. Б. )
XVIII письмо Дантеса от 28 марта 1836 г.:
Как и обещал, я держался твёрдо, я отказался от свиданий и от встреч с нею: за эти три недели я говорил с нею 4 раза и о вещах, совершенно незначительных, а ведь, Господь свидетель, мог бы проговорить 10 часов кряду, пожелай я высказать половину того, что чувствую, видя её. Признаюсь откровенно — жертва, тебе принесённая, огромна. Чтобы так твёрдо держать слово, надобно любить так, как я тебя; я и сам бы не поверил, что мне достанет духу жить поблизости от столь любимой женщины и не бывать у неё, имея для этого все возможности. Ведь, мой драгоценный, не могу скрыть от тебя, что всё ещё безумен; однако Господь пришёл мне на помощь: вчера она потеряла свекровь, так что не меньше месяца будет вынуждена оставаться дома, тогда, может быть, невозможность видеть её позволит мне предаться этой страшной борьбе, возобновлявшейся ежечасно, стоило мне остаться одному: надо ли идти или не ходить. Так что, признаюсь, в последнее время я постоянно страшусь сидеть дома в одиночестве и часто выхожу на воздух, чтобы рассеяться. Так вот, когда бы ты мог представить, как сильно и нетерпеливо я жду твоего приезда, а отнюдь не боюсь его — я дни считаю до той поры, когда рядом будет кто-то, кого я мог бы любить, — на сердце так тяжко, и такое желание любить и не быть одиноким в целом свете, как сейчас, что 6 недель ожидания покажутся мне годами[161].
Письма Дантеса раскрывают другую, параллельно развивающуюся драму — драму Геккерена. По-прежнему весь во власти любви, всё ещё безумен, молодой красавчик эгоистично ищет утешения у того, кто сам, обуянный неистовством страсти, совершает безумства — швыряет к ногам возлюбленного всё своё состояние, даёт ему имя и титул. Можно представить, как поразило Геккерена увлечение Дантеса Пушкиной, какие всполохи ревности вызвало оно в его сердце, как он корил «сына» за измену и себя за слепую доверчивость! Он помнил, бесконечно перечитывал его фальшивые признания в вечной любви и по-юношески доверчиво верил им: Надо бы, чтоб ты был рядом, чтобы я мог много раз поцеловать тебя и прижать к сердцу надолго и крепко, — тогда ты почувствовал бы, что оно бьётся для тебя столь же сильно, как сильна моя любовь, — письмо от 26 ноября 1836 г. Крушение иллюзий стало первым актом трагедии. Во втором акте, как истый трагедийный герой, Геккерен вступает в борьбу. Он яростно предъявляет свои права на возлюбленного. В ход пущен опробованный историей человеческих страстей весь боевой арсенал — интриги, шантаж, коварство, кинжал. Посыпались угрозы возможного скандала и его пагубных последствий для карьеры Дантеса. Суровые упрёки в неблагодарности за оказанные благодеяния. Шантаж — обвиняет Натали в её готовности принести свою честь в жертву другому. И наконец, коварство — кинжал припасён для последнего акта! — одно странное обстоятельство, о котором говорит Дантес. Можно предположить, что Геккерен одновременно пишет два письма — нравоучительное «сыну» и светское кому-то из своих петербургских знакомых. В светском письме сообщает последние сплетни и среди прочих о шалостях своего подопечного — волокитстве за прелестной Натали. Делает это дипломатически тонко, как бы между прочим, рассчитывая на неуёмную жадность света к пикантным новостям. Дантес догадался об этом и «элегантно» намекнул «батюшке» на очень странное совпадение — днём он получает от Геккерена письмо, а вечером цесаревич уже подшучивает над его чувствами к Пушкиной. А ведь раньше никто в свете даже имени её при мне не произносил. Кому мог «проболтаться» Геккерен об этом? Не подруге ли императрицы и его весьма близкой приятельнице Софии Бобринской? А она ежедневно обменивается с Александрой Фёдоровной записочками[162]. Их содержание позволяет предположить — графиня поспешила поделиться с императрицей столь ошеломляющей вестью. Да и сама Бобринская в силу особых обстоятельств — о которых пойдёт речь ниже — настолько была взбудоражена сообщением, что умолчать о нём было просто невмоготу. Императрица имела чрезмерную склонность к подобного рода светским сплетням. За ежедневным чаепитием, проходившим по английскому образцу в 5 часов вечера, собиралась вся царская семья во главе с императором — это были регламентированные протоколом минуты интимной жизни царя. К чаю обычно припасался какой-нибудь пикантный десерт. В тот вечер сервировали слух о новом увлечении Дантеса.
Ну, а что Дантес? Испугался, струсил, выбросил из головы Натали? Ничего подобного! Он просто стал осторожничать — прежде всего с Геккереном, но и в свете тоже: Как и обещал, я держался твёрдо, я отказался от свиданий и от встреч с нею: за эти три недели я говорил с нею 4 раза и о вещах, совершенно незначительных, а мог бы, добавляет он тут же, проговорить с дамой своего сердца 10 часов кряду. Как опытная кокотка, он продолжает «дразнить» батюшку, чтоб не остывал накал его чувств и чтоб подороже была им оценена огромная жертва, приносимая на алтарь страсти барона: Чтобы так твёрдо держать слово, надобно любить так, как я тебя. Дантес лукавил: его «мужественный отказ» от встреч с любимой женщиной объяснялся очень просто — Наталья Николаевна была уже на восьмом месяце беременности и перестала выезжать. Траур по умершей свекрови стал лишь дополнительным поводом непоявления в свете. Но Жорж умышленно скрывал от Геккерена первое обстоятельство, дабы уберечь себя от его желчной иронии.
XIX письмо Дантеса (датировано — после 5 апреля) — ещё раз подтверждает его лицемерие: Не хочу говорить тебе о своём сердце, ибо пришлось бы сказать столько, что никогда бы не кончил. Тем не менее оно чувствует себя хорошо, и данное тобою лекарство оказалось полезным, благодарю миллион раз,я возвращаюсь к жизни и надеюсь, что деревня исцелит меня окончательно, — я несколько месяцев не увижу её.
На этом письме обрывается исповедь обвиняемого. В мае 1836 г. барон Геккерен возвратился в Петербург. Предоставляем слово свидетелям, которых удалось выявить к началу процесса, — княжне Марии Барятинской, Карамзиным, Данзасу.
Мария Барятинская — страницы из неопубликованного дневника[163]: записи конца марта 1836 г. рассказывают о частых посещениях Дантеса — между 23 и 30 мартом он четыре раза нанёс Барятинским вечерние визиты. Именно в это время пожалованная во фрейлины восемнадцатилетняя красавица появилась в высшем петербургском свете. Дантес продолжает бывать у Барятинских в апреле и в мае.
Княгиня Барятинская зорко следила за молодыми людьми, оказывавшими внимание дочери, и решительно вмешивалась в тех случаях, когда находила ухаживание нежелательным. Так было, например, с блестящим кавалергардом князем Александром Трубецким, которому княгиня очень скоро дала понять, что он не может рассчитывать на руку её дочери (непреодолимым препятствием к этому браку в глазах Барятинских было сомнительное происхождение его матери княгини Трубецкой). И хотя княжне льстило ухаживание одного из самых молодых модных людей, она с чувством удовлетворённого тщеславия записала 20 мая в дневнике: «…maman воспользовалась <…> долгожданным случаем, чтобы откровенно дать ему понять, что не желает его для меня»[164].
Новоявленный барон Дантес, конечно же, был не парой девушке из древнего и богатого рода, ведущего начало от Рюриковичей. Но, по всей вероятности, была и другая причина, заставившая мать княжны Марии откровенно пресечь матримониальные планы Дантеса, если у него и были таковые. Княгиня Мария Фёдоровна Барятинская, урождённая прусская графиня Келлер, была в числе близких приятельниц императрицы. Как ни уверял Геккерена самонадеянный Дантес о расположении к нему императорской четы (императрица была ко мне по-прежнему добра, ибо всякий раз, как приглашали из полка трёх офицеров, я оказывался в их числе; и Император всё так же оказывает мне благоволение. — Письмо от 14 июля 1835 г.), Александра Фёдоровна в сущности относилась к нему не очень доброжелательно. И опасалась его дурного влияния на своего фаворита «Бархата» — Александра Трубецкого.
Письмо императрицы С. А. Бобринской 1836 года (без даты): … нужно, чтобы когда-нибудь Бархат передал одно из ваших писем, надеюсь, что он его не испачкает, как записку кн. Барятинской, он вам рассказал об этом? Он и Геккерн на днях кружили вокруг коттеджа. Я иногда боюсь для него общества этого «новорождённого»[165].
Как видим, Мария Фёдоровна Барятинская тоже была в числе доверенных корреспонденток царицы. Это обстоятельство даёт возможность предположить, что и её Александра Фёдоровна настраивала против «новорождённого».
Но между тем Дантес продолжал свои настырные ухаживания за Барятинской. Думаю, цель его волокитства за княжной была иная. Ему необходимо было показать всем — свету, Геккерену, а может, даже и самой Наталье Николаевне, что его отношение к Пушкиной — всего лишь лёгкое светское увлечение. Естественно, что неопытная молодая фрейлина по-иному воспринимала чрезмерное к ней внимание красивого кавалергарда. Во всяком случае, летние записи княжны показывают, что оно ей было совсем небезразлично. Вот запись об оброненном ею на одном из июньских балов букете, который Дантес поднял и принёс в полк, а кавалергарды гадали, кому он был предназначен. Другая запись — 24 июня в связи с балом в одной из царских летних резиденций в Знаменском: Танцевали. Я веселилась. Вальс с Дантесом, но не мазурка… У дам петербургского общества особым знаком расположением кавалера считалось приглашение на мазурку. Только через месяц, 26 июля, она удостоилась этой чести — на балу в Ропше Дантес выбрал её на мазурку. 2 августа Дантес с двумя кавалергардами был в гостях у них в доме. Княжна отметила: Я веселилась… Вновь о нём 3 августа: за обедом Дантес с Геккереном меня очень смешили. А вечером он немного (подч. мною. — С. Б.) за мной ухаживал и сказал мне, что я была очень мила…[166]
После родов два с половиной месяца H. Н. Пушкина не выходила из дому. Свидетельство П. А. Вяземского: Сейчас разбудил меня Вельегорский. Жена его всё ещё в Дрездене. Он сегодня крестит у Пушкина. Разве для крестин покажется жена его, а то всё ещё сидит у себя наверху. Вижу и кланяюсь с ней только через окошко[167]. 31 июля Натали впервые появляется на балу в Красном Селе. И в тот же вечер княжна Барятинская грустно отметила в дневнике: Я не очень веселилась на балу… 4 августа Кавалергардский полк переехал на квартиры в Новую Деревню. Отсюда рукой подать до островов, куда на лето поближе к минеральным источникам (названным «Карлсбадом» в подражание знаменитому богемскому курорту) перебиралась вся петербургская знать. Дамы тогда увлекались ваннами. С августа здесь начинался сезон так называемых балов на минеральных водах. Пушкины в тот год снимали дачу у Ф. И. Доливо-Добровольского на Каменном острове. Жорж получил возможность часто видеться с Натали. Именно тогда по-настоящему в обществе заговорили о романе Дантеса и Натальи Николаевны. Впрочем, для близкого Пушкину кружка «страсть» Дантеса к Пушкиной не была тайной.
Отрывок из письма С. Н. Карамзиной брату Андрею от 8/20 июля 1836 г.: Я шла под руку с Дантесом, он забавлял меня своими шутками, своей весёлостью и даже смешными припадками своих чувств (как всегда, к прекрасной Натали).[168]
Из воспоминаний Данзаса, секунданта Пушкина: После одного или двух балов на минеральных водах, где были г-жа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу вдруг разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина[169].
Фрагмент из письма С. Н. Карамзиной от 19—20 сентября 1836 г., Царское Село, о вечере по случаю именин Софии Николаевны:
…так что получился настоящий бал, и очень весёлый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который всё время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает всё те же штуки, что и прежде, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой(подч. мною. — С. Б.), он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой в конце концов всё же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как всё это глупо![170]
Как свидетельствуют дальнейшие записи в дневнике княжны Барятинской, Дантес, видимо, продолжал флиртовать с ней и в августе и сентябре, но одновременно приударял и за Екатериной Гончаровой. Теперь, после опубликования его писем к Геккерену, можно с уверенностью сказать, что всё это делалось для отвода глаз — его страсть к Пушкиной не утихала.
«Суд ещё не кончен», —
сообщил в письме брату Андрею Александр Карамзин 13 (25) марта 1837 г. Он имел в виду военно-судное дело при лейб-гвардии Конном полку о дуэли между поручиком Кавалергардского Ея Величества полка бароном Геккереном и камергером двора Императорского Величества Пушкиным. Мы тоже продолжаем собственное расследование.
Ещё один документ — предпоследнее из опубликованных писем Дантеса барону Геккерену (датируемое С. Витале 17 октябрем 1836 г.):
…Вчера я случайно провёл вечер наедине с известной тебе дамой, но, когда я говорю наедине — это значит, что я был единственным мужчиной у княгини Вяземской, почти час. Можешь вообразить моё состояние, я наконец собрался с мужеством и достаточно хорошо исполнил свою роль и даже был довольно весел. В общем я хорошо продержался до 11 часов, но затем силы оставили меня и охватила такая слабость, что я едва успел выйти из гостиной, а оказавшись на улице, принялся плакать, точно глупец, отчего, правда, мне полегчало, ибо я задыхался; после же, когда я вернулся к себе, оказалось, что у меня страшная лихорадка, ночью я глаз не сомкнул и испытывал безумное нравственное страдание.
Вот почему я решился прибегнуть к твоей помощи и умолять выполнить сегодня вечером то, что ты мне обещал. Абсолютно необходимо, чтобы ты переговорил с нею, дабы мне окончательно знать, как быть.
Сегодня вечером она едет к Лерхенфельдам, так что, отказавшись от партии, ты улучишь минутку для разговора с нею.
Вот моё мнение: я полагаю, что ты должен открыто к ней обратиться и сказать, да так, чтоб не слышала сестра, что тебе совершенно необходимо с нею поговорить. Тогда спроси её, не была ли она случайно вчера у Вяземских; когда же она ответит утвердительно, ты скажешь, что так и полагал и что она может оказать тебе великую услугу; ты расскажешь о том, что со мной вчера произошло по возвращении, словно бы был свидетелем: будто мой слуга перепугался и пришёл будить тебя в два часа ночи, ты меня много расспрашивал, но так и не смог ничего добиться от меня <…>, и что ты убеждён, что у меня произошла ссора с мужем, а к ней обращаешься, чтобы предотвратить беду (мужа там не было). Это только докажет, что я не рассказал тебе о вечере, а это крайне необходимо, ведь надо, чтобы она думала, будто я таюсь от тебя и ты расспрашиваешь её лишь как отец, интересующийся делами сына; тогда было бы недурно, чтобы ты намекнул ей, будто полагаешь, что бывают и более близкие отношения, чем существующие, поскольку ты сумеешь дать ей понять, что, по крайней мере, судя по её поведению со мной, такие отношения должны быть.
Словом, самое трудное начать, и мне кажется, что такое начало весьма хорошо, ибо, как я сказал, она ни в коем случае не должна заподозрить, что этот разговор подстроен заранее, пусть она видит в нём лишь вполне естественное чувство тревоги за моё здоровье и судьбу, и ты должен настоятельно попросить хранить это в тайне от всех, особенно от меня. Всё-таки было бы осмотрительно, если бы ты не сразу стал просить её принять меня, ты мог бы сделать это в следующий раз, а ещё остерегайся употреблять выражения, которые были в том письме. Ещё раз умоляю тебя, мой дорогой, прийти на помощь, я всецело отдаю себя в твои руки, ибо, если эта история будет продолжаться, а я не буду знать, куда она меня заведёт, я сойду с ума.
Если бы ты сумел вдобавок припугнуть её и внушить, что… (Далее несколько слов написано неразборчиво — прим. публикатора Серены Витале. Все подч. мною. — С. Б.).
В этом письме есть несколько очень важных «соломинок», новых ракурсов, дающих возможность по-иному взглянуть на события, предшествовавшие первому вызову Дантеса на дуэль.
Они позволяют, прежде всего, усомниться в датировке Сереной Витале письма Дантеса. Правильнее считать, что оно написано не 17 октября, а в четверг 29 октября — баварский посланник Максимилиан Лерхенфельд принимал по четвергам. Подтверждение чему в дневнике Долли Фикельмон: Мы принимаем по понедельникам и пятницам, графиня Бобринская — по средам, Лерхенфельды — по четвергам, Юсуповы — по вторникам[171]. Серена Витале установила даты дежурств Дантеса в полку в октябре 1836 г. (с 19 по 27 октября он был свободен от них по болезни) — а письмо «с наказами» он писал на вахте. 29 октября в 12 часов дня кавалергард заступил в последнее в этом месяце дежурство и освободился пополудни 30 октября.
Следуя наставлениям Дантеса, Геккерен, видимо, действовал осторожно. И при первом объяснении с Пушкиной у Лерхенфельда использовал лишь часть из заранее приготовленного арсенала. Он рассказал ей об ужасном состоянии Жоржа минувшей ночью, когда испуганный слуга разбудил его и позвал на помощь. Но Жорж ничего не пожелал ему объяснить. И, как отец, интересующийся делами сына, он озабоченно спрашивал Натали, что же произошло на вечере у Вяземской, не поссорился ли Дантес с Пушкиным, советовал ей, как «предотвратить беду». Пушкина, попавшись на удочку, стала ему объяснять. И вот тогда по собственной инициативе он сделал попытку оттолкнуть Натали от Дантеса. Он стал предостерегать её от пропасти, в которую она летела. Грубо намекнул, что бывают и более близкие отношения. И, судя по её поведению, именно таковые и существуют между ними. Всё было так, как три месяца спустя Геккерн написал в неофициальном письме графу Нессельроде от 1 (13) марта 1837 г.: … в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были её оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере на это я надеялся. (Подч. мною. — С. Б.)
Геккерен был доволен разговором — он видел, как трепетала Пушкина. Следующую атаку предпринял через три дня — 2 ноября. В тот год этот день приходился на понедельник. По неизменной традиции по понедельникам принимали Фикельмоны[172]. По всей вероятности, у них Геккерен принялся за осуществление второй части плана — принуждал Натали согласиться на новую встречу с Дантесом. На сей раз прибегнул к угрозе. Но к какой? Ответ находим в письме Александра Карамзина брату Андрею от 13 (25) марта 1837 г. В нём Александр сообщает подробности преддуэльной истории. При этом об угрозах барона говорит как о всем известном достоверном факте: Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерен сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за неё, заклинал её спасти его сына, потом стал грозить местью; два дня спустя появились анонимные письма. <…> За этим последовала исповедь госпожи П[ушкиной] своему мужу, вызов, а затем женитьба Геккерена[173]. Таким образом, теперь становится понятен смысл последней, недорасшифрованной Витале фразы из письма Дантеса Геккерену.
Однако лисья хитрость на сей раз подвела дипломата — он совершил фатальную ошибку. Промах Гекерена можно объяснить совершенным незнанием русской души. И особенно такой, какой была религиозно-мистичная, открытая и честная душа Натальи Николаевны. Оба они — Геккерен и Дантес, изворотливые, ловкие, использующие любые средства в достижении цели, считали эту открытость и честность проявлением глупости Пушкиной.
Что подтверждает записка Дантеса Геккерену, предположительно датируемая 6 ноября:
Бог мой, я не сетую на женщину и счастлив, зная, что она спокойна, но это большая неосторожность либо безумие, чего я к тому же не понимаю, как и того, какова была её цель. (Подч. мною — С. Б.) Записку пришли завтра, чтоб знать, не случилось ли чего нового за ночь, кроме того, ты не говоришь, виделся ли с сестрой (Екатериной Гончаровой. — С. Б.) у тётки (Е. И. Загряжской. — С. Б.) и откуда ты знаешь, что она призналась в письмах.
4 ноября вечером Пушкин по городской почте отправил Дантесу вызов. Письмо «по ошибке» распечатал Геккерен и, ссылаясь на дежурства сына по полку, сам вступил в переговоры с Пушкиным. От него, к неописуемой своей досаде, и узнал то, что не сумел предвидеть в своих расчётах, — H. Н. призналась мужу в домогательствах Дантеса, в том числе и в полученных наглых письмах от обоих Геккеренов…
Пока ухаживание Дантеса было окрашено ореолом пылкого и романтичного чувства, Наталья Николаевна утаивала от Пушкина какие-то подробности этого романа, оберегала себя и мужа от страданий и вспышек его мавританской ревности. Но теперь всё изменилось — оба Геккерена переступили порог приличия и принуждали её к адюльтеру. В тот момент она напоминала птицу в силках — беспомощно билась, пытаясь выбраться, и всё больше запутывалась в тенётах. Вот тогда она воззвала к своему хранителю. Пушкин решительно начал действовать. Именно с этого момента — а это было 4 ноября, день получения анонимных писем — роковая рулетка вышла из повиновения и завертелась с бешеной, уже неподвластной игрокам скоростью. Княгиня Вяземская, пользовавшаяся интимной доверенностью Пушкина (характеристика Щёголева), — единственная из всех друзей была посвящена Поэтом и Натальей Николаевной (именно к ней приехала Пушкина после сцены в доме Полетики) во все перипетии этого фатального романа. Обо всём этом знал ещё один человек — Александрина Гончарова. Но, скрытная по натуре, она, конечно же, молчала. К тому же для неё вся эта история была сугубо семейной. Она никогда не позволяла себе выносить сор из избы. Все эти подробности, но, к сожалению, уже после смерти Пушкина, могли узнать от Вяземской Карамзины и другие друзья Поэта. Узнал и пребывавший до этого в неведении — и от супруга утаила тайну княгиня Вера! — князь Вяземский. Накануне дуэли он сказал (по незнанию, по преступному легкомыслию не желать ничего знать!), что закрывает своё лицо и отвращает его от дома Пушкиных. После смерти Пушкина заговорил и Жуковский, которому царь поручил разбирать бумаги покойного. Но накануне дуэли только Вяземская из всех друзей Поэта была посвящена в подробности преддуэльных перипетий. В её руках были весы, на чаши которых она положила две драгоценные и взаимосвязанные вещи — культивированное веками дворянское понятие о чести и жизнь человека, причём какого человека! Увы! — перетянула первая чаша! И мы можем только горько воскликнуть: «Не хватило мудрости рассудительной Вере Николаевне!» Не сумела она повязать глаза повязкой, чтобы, не отвлекаясь окрестной суетой, вслушаться в единственно верный в подобной ситуации голос — голос сердца. Он подсказал бы ей — сколь ни велика стоимость человеческого достоинства, оно — плод духовного развития человека, так сказать, продукт его собственного натурального хозяйства. При роковом стечении обстоятельств им можно пожертвовать во имя другого, бесценного божественного плода — человеческой жизни. Достоинство и честь в этом случае становятся пагубным бременем предрассудков!
Я слышу возражения христианских моралистов. Знаю их аргумент, которым можно опровергнуть мою логику, — о жертве Христа, принесённой человечеству во имя его же очеловечения! Но речь идёт не о чести Пушкина, положенной на алтарь всё ещё не восторжествовавшей до конца справедливости. Жертва Пушкина бесспорна и не подлежит обсуждению! Именно она и сделала его величайшим сыном христианской эпохи! Речь идёт всего лишь о тайне, сокрытой княгиней Вяземской! О тайне, которая, будь она вовремя раскрытой, могла бы предотвратить беду.
Но вернёмся к другим «соломинкам» в вышеприведённом письме Дантеса к Геккерену. Из его содержания следует, что оно было написано на другой день после встречи с Пушкиной у княгини Вяземской. Судя по воспоминаниям супругов Вяземских о Пушкине (в записи Бартенева), это был последний визит к ним в дом всё ещё не помолвленного с Екатериной Дантеса:
Н. Н. Пушкина бывала очень часто, и всякий раз, когда она приезжала, являлся и Геккерен, про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина ему очень нравится. Сберегая честь своего дома, княгиня-мать напрямик объявила нахалу французу, что она просит его свои ухаживания за женою Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через некоторое время он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остаётся одно — приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена. После этой встречи он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных[174].
Осенью 1836 г. княгиня Вера вернулась в Петербург в середине сентября из Норденрее. Свои приёмы в доме на Моховой открыла лишь в 20-х числах сентября. Следовательно, с этого времени там и встречались Дантес с Натали — конец сентября и весь ноябрь. Слёзы Дантеса, о которых он пишет в письме к Геккерену, — на улице принялся плакать, точно глупец — были вызваны не только мучительным разговором с Натали, но, безусловно, и обидой на княгиню, отчитавшую его, как нашкодившего мальчишку.
После этих уточнений можно попытаться вновь воссоздать ход событий, предшествующих первому вызову Дантеса на дуэль.
1. Октябрь 1836 г. — Натали получает весьма оскорбительное письмо. О его характере говорит сам Дантес в записке Геккерену: остерегайся употреблять выражения, которые были в том письме. По всей вероятности, именно его имеет в виду Геккерен в своём послании графу К. В. Нессельроду: Мне возразят, что я должен бы был повлиять на сына? Г-жа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына (читай: написанное Дантесом под диктовку Геккерена. — С. Б.), — письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на неё. Письмо отнёс я сам и вручил его в собственные руки. Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы сказать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей.
2. После получения письма H. Н. Пушкина при первой же встрече с Дантесом возмущённо отчитывает его за эти унижающие её достоинство выражения.
3. Октябрь, до 19-го числа. Дантес уговаривает влюблённую в него и готовую на любую жертву Полетику подстроить у неё в доме его свидание с Натали. Встреча, вероятно, произошла 18 октября. Это последний день пребывания Петра Ланского в Петербурге — установлено, что с 19 октября по февраль 1837 г. он находился в служебной командировке в Малороссии. Склонна верить в реальность упоминаемого в воспоминаниях А. Араповой факта — о дежурстве П. Ланского возле дома Полетики во время свидания Пушкиной с Дантесом. Не стоит пренебрегать этим сведением, ведь оно затрагивало честь и память обоих родителей Араповой — трудно поверить, что дочь могла придумать эту нелестную для её отца роль сводника. Очевидно, так оно и было — П. Ланской находился в интимной связи с Полетикой, и она вертела влюблённым в неё молодым человеком, как хотела. Это было то самое роковое и притом ироничное предначертание судьбы, которое за много лет до брака Ланского с Пушкиной впервые скрестило их жизненные пути. Дата этого объяснения у Полетики (до 20 октября) подтверждается и записью (от 22—23 октября) в дневнике княжны Барятинской: И maman узнала через Тр[убецкого], что его отвергла г-жа Пушкина. Может быть, поэтому он и хочет жениться. С досады![175]Запись княжны ещё раз свидетельствует — князь А. В. Трубецкой действительно был доверенным Дантеса и посвящался им во все подробности романа с Натали. Это сведение ещё пригодиться нам в дальнейшем, когда речь пойдёт о другой «соломинке» — отношениях Дантеса с Екатериной Гончаровой до их официальной помолвки. Подробности встречи в доме Полетики хорошо известны — не буду их повторять. Но хочу ещё раз напомнить — после состоявшегося здесь бурного объяснения с Дантесом Наталья Николаевна, дрожа от гнева и возмущения, едет к своей старшей подруге — Вере Фёдоровне Вяземской. Вся впопыхах и с негодованием (по словам Вяземской) рассказывает ей о случившемся. Словно у матери, ищет у неё защиты. Она полна раскаяния, она нуждается в исповеди перед той, которая уже предостерегала её от Геккерена. Кн. Вяземская предупреждала Пушкину относительно последствий её обращения с Геккереном. «Я люблю вас, как своих дочерей; подумайте, чем это может кончиться!» — «Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду» (запись Бартенева)[176]. Умная княгиня мгновенно оценивает ситуацию. И советует Натали рассказать обо всём Пушкину. Вечером того же дня Пушкины были званы на чай к Мари Валуевой. Об этом сообщает София Карамзина брату Андрею: …были неизбежные Пушкины и Гончаровы. Соллогуб и мои братья. Мы не смогли туда поехать, потому что у нас были гости. (…) Около полуночи приехал Соллогуб, совсем заспанный, и рассказал, что у Валуевых был настоящий вечер семи спящих, что хозяева зевали наперебой и в конце концов выпроводили своих гостей, тоже совсем сонных, чтобы лечь спать. Чаепитие у Валуевых прошло скучно. Потрясённая сценой у Полетики Натали была в подавленном состоянии. Возможно, вернувшись домой от Вяземской, она уже успела исповедаться Александрине. В таком случае и у Ази было нерадостное настроение. Только Пушкин, кажется, ещё ни о чём не знал. Наталья Николаевна всё ещё медлила с признанием. Однако почти с уверенностью можно сказать — 4 ноября она вылила своё возмущение на троюродную сестру и подругу Идалию — тихая Натали в моменты гнева становилась тигрицей (вспомним о пощёчине, которую она залепила Пушкину после бала у Фикельмонов, где он вздумал волочиться за Амалией Крюднер!). Впрочем, сама Полетика считала свой поступок чуть ли не актом благодеяния. Если верить свидетельству Александры Смирновой-Россет, Дантес был влюблён в Идалию и назначал ей свидания у Натали, которая служила им ширмою в продолжении двух лет[177]. Острая на язычок кузина могла ответить Натали: «Чего ж ты гневаешься! Я тебя просто отблагодарила! Как говорится, услуга за услугу!»
4. Дантес после этой встречи уже не контролирует свои чувства. Он пытается забыться. Возобновляет ухаживание за княжной Барятинской. Продолжает свой флирт с Екатериной Гончаровой. Старается вызвать ревность у Натали. Об этой двойной игре в его письме к Геккерену: ты должен открыто к ней обратиться и сказать, да так, чтоб не слышала сестра. Но ничто не может охладить страсти к Пушкиной. В доме у Вяземской он вновь пытается выяснить с Натали отношения. Его истерика после этого разговора. И его письмо к Геккерену утром следующего дня, в котором он излагает «отцу» конспект его поведения с Пушкиной. Только написано оно не 17 октября, как предполагают С. Витале и В. Старк (в предисловии к публикации писем в «Звезде»), а двенадцать дней спустя. Думаю, на ошибочную хронологию повлияло письмо барона Густава Фризенгофа А. Араповой: Старый Геккерен написал вашей матери письмо, чтобы убедить её оставить своего мужа и выйти за его приёмного сына. Александрина вспоминает, что ваша мать отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно. (…) Что же касается свидания, то ваша мать получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить её, и когда она прибыла туда, то застала там Геккерена вместо хозяйки дома; бросившись перед ней на колена, он заклинал её о том же, что и его приёмный отец в своём письме. (Подч. мною. — С. Б.) В своём «наказе» «отцу» Дантес несколько раз повторяет переговори с нею, улучи минутку для разговора с нею. Следовательно, предложение Геккерена было сделано устно. Неуверенность Александрины (ей в это время было 76 лет, и спустя полвека в её памяти совсем естественно затуманились подробности тех дней) говорит о том, что, помня о главном, — и отец и сын убеждали Пушкину оставить мужа, — она могла перепутать хронологию этих предложений. Поэтому больше оснований полагаться на свидетельство Александра Карамзина, рассказавшего об этом вскоре после событий. Оно позволяет с большей достоверностью установить и их последовательность: 28 октября — объяснение у Вяземской; 29 октября — приём у Лерхенфельда; 2 ноября — по всей вероятности, на вечере у Фикельмонов — неприличная настойчивость и угрозы Геккерена; 4 ноября — через два дня — появились анонимные письма.
5. Запуганная Геккереном Наталья Николаевна — и ты должен настоятельно попросить хранить это в тайне от всех — всё ещё не решается открыться Пушкину. 4 ноября, после получения анонимных писем, Пушкин требует у жены объяснения. Она наконец обо всём рассказывает ему — о встрече у Полетики, разговоре с Дантесом у Вяземской, гнусном поведении Геккерена у Лерхенфельда и, наконец, о его попытке склонить её к сожительству с Дантесом. H. Н. показывает мужу октябрьское письмо Геккерена — то самое, о котором спустя три месяца он писал графу Нессельроде, предлагая воспроизвести его на процессе в качестве доказательства невиновности сына: Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы сказать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей. Теперь наконец получаем ответ на так занимавший пушкинистов вопрос о событиях 2 ноября: Видимо, 2 ноября произошло что-то из ряда вон выходящее, так как эту же дату с особым подтекстом называет и Пушкин в своём ноябрьском письме к Геккерену. Как известно, это письмо Пушкин не отправил по назначению, его потом разорвал, и лишь сто лет спустя оно было прочитано Н. В. Измайловым и Б. В. Казанским по уцелевшим клочкам.[178] Фразы из этого реконструированного письма подтверждают логику предлагаемой мною хроники событий: моя жена опаса[ется] <…> анонимное письмо <…> что она от этого теряет голову <…> нанести решительный удар <…> было сфабриковано с <…>
Пушкин начинает действовать решительно — 5 ноября через Клементия Россета вызывает Дантеса на дуэль. Что произошло далее, известно из многочисленных исследований о дуэли.
Плевок Полетики
На Приморском бульваре в Одессе доживала свой век Идалия Полетика. Свою единственную из оставшихся в живых детей дочь выдала замуж за какого-то иностранца. В 1854 г. похоронила мужа. После этого поселилась у брата — бессарабского и новороссийского губернатора Григория Строганова. К пятидесятилетию со дня гибели Пушкина одесситы решили воздвигнуть ему памятник. Узнав об этом, Полетика рассвирепела. В присутствии внучки Г. Строганова — Елены Григорьевны Шереметевой — выпалила: как только «статуя извергу» будет готова, она не откажет себе в удовольствии плюнуть на неё.
Что же было причиной этой смертельной ненависти Полетики к Пушкину? В воссозданной пушкинистами хронологии событий после 4 ноября 1836 г. упущен один очень существенный момент. Он должен был произойти в тот же день — 4 ноября или самое позднее утром 5 ноября. Не вызывает никакого сомнения — Пушкин тотчас же потребовал объяснения у Идалии Полетики. Мы можем только догадываться, в каких выражениях высказал он возмущение её сводничеством. Но судя по дальнейшему отношению Полетики к Пушкину, Поэт не стеснялся в выборе слов. Он вообще довольно цинично относился к нарушавшим супружескую верность женщинам, даже к тем, которых сам соблазнял (к Анне Керн, например). Он мог упрекнуть Идалию в протекавшей у него на глазах связи с Дантесом. Назвать бастардом её годовалого сына Александра (рождённого 14 октября 1835 г.). Возможно, даже напомнил, что сама она незаконнорождённая, ведь португальская графиня д’Эга родила её до брака с графом Строгановым! А поведение дочери лишний раз подтверждает: яблоко на осине не растёт и недалеко от яблони падает. Должно быть, обвинял её, разыгрывавшую роль друга их дома, — в лицемерии, вероломстве, подлости. Да мало ли ещё чего мог наговорить по-африкански пылкий в ярости Пушкин.
Взбешённая его грубостью, Полетика в силу душевной мелкости решила отомстить ему. Она стала распускать слухи о связи Пушкина с Александриной. Первые, кому «по секрету» сообщила об этом Идалия, были Карамзины и приятели из их кружка. Имя Полетики ни разу не встречается в семейной переписке Карамзиных. Но это ещё не доказывает, что она не была вхожа в их дом. Вполне возможно, сама Полетика ввела в их салон Дантеса. Сама она редко посещала их вечера — ей претило прославленное любомудрие карамзинского салона, где выдавались дипломы на литературные таланты (как воспоминал один современник). Злоречивую и, как отмечают современники, неглупую красавицу и кокетку, поглощённую нарядами, болтовнёй и балами, раздражали их знаменитые чаепития — на столе кипящий самовар, Сонечка без устали разливает чай и потчует гостей приготовленными ею тартинками из ситного хлеба. Идалию коробила сама обстановка этих собраний, где ощутимая бедность бытия с лихвой покрывалась богатством царившего здесь духа. Её отношение к подобным салонам, где не было карточной игры и лишь изредка по большим праздникам танцевали, было сродни тому, которое выразила другая барышня, Екатерина Гончарова — в письме к брату Дмитрию: Наши острова ещё очень мало оживлены из-за манёвров; они кончаются четвёртого, и тогда начнутся балы на водах и танцевальные вечера, а сейчас у нас только говорильные вечера, на них можно умереть со скуки. Вчера у нас был такой у графини Лаваль, где мы едва не отдали богу душу от скуки. Сегодня мы должны были ехать к Сухозанетам, где было бы тоже самое, но, так как мы особы благоразумные, мы нашли, что не следует слишком злоупотреблять подобными удовольствиями.[179]
Вероятно, иногда Полетика запросто забегала «на минуточку» к Карамзиным — поболтать, перекинуться последними сплетнями, подразнить бедную Сонюшку какой-нибудь обновкой. Встречи с ней относились к разряду заурядных, повседневных явлений, не достойных отражения в эпистолярной хронике жизни Карамзиных. Одной из сплетен, принесённых Полетикой, и могла оказаться эта — о романе Пушкина со свояченицей. Во всяком случае, об этом вдруг заговорил Петербург.
С. Н. Карамзина брату Андрею от 12 (24) января 1837 г.: В воскресенье у Катрин было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерены, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию, к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает своё всегдашнее выражение тигра. Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, — это начинает становится чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьёзно в неё влюблён, и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству[180].
Судя по манере изложения этого факта, слух об отношениях Пушкина с Александриной дошёл до Софьи Николаевны раньше, но она не сообщала о нём брату, пока сама не «убедилась» в том. Обратим внимание ещё вот на что — наблюдательная и чрезвычайно любопытная к личной жизни других — в силу не сложившейся своей собственной — С. Н. Карамзина тем не менее ничего особенного не замечала в поведении Пушкина с Александриной до второй половины ноября 1836 г. Расстановка фигур на шахматной доске 18 (30) октября всё ещё была прежней: Как видишь, — писала Софья Николаевна Андрею, — мы вернулись к нашему городскому образу жизни, возобновились наши вечера, на которых с первого же дня заняли свои привычные места Натали Пушкина и Дантес, Екатерина Гончарова рядом с Александром (Карамзиным, братом Софии Николаевны. — С. Б.), Александрина — с Аркадием…[181] Следовательно, к началу нового петербургского сезона брат А. О. Смирновой Аркадий Россет, прапорщик лейб-гвардии Конной артиллерии, продолжал, как и прежде, ухаживать за Александриной — это было давно всем известно и ни на кого не производило впечатления. Александрина, должно быть, втайне лелеяла мечту выйти замуж за Аркадия. Но до предложения о браке, думаю, дело вообще не дошло — для него не было материальной основы, оба были бедны, без какой-либо надежды разбогатеть, без перспективы неожиданного наследства.
Отношения между Поэтом и свояченицей, если и были таковые, начались зимой 1836 г. и прекратились весной, с отъездом Пушкина в Москву, т.е. ещё до родов Натальи Николаевны[182]. Как просочилась за порог дома эта тщательно оберегаемая от посторонних интимная домашняя тайна? Не проговорилась ли об этом Дантесу после свадьбы сама Екатерина в порыве озлобления на Пушкина и на защищавшую его Александрину? Предположим, что так оно и было, и Дантес использовал «оговорку» супруги для обещанной мести Пушкину. Сам не стал пятнать себя распространением этого слуха. Для этого к услугам была верная и всегда готовая прийти на помощь доброму Жоржу — к этому времени уже возненавидевшая Пушкина Полетика. Свидетельство князя Александра Трубецкого фактически подтверждает мою догадку — сплетня исходила от Идалии: Факт этот не подлежит сомнению, Alexandrine сознавалась в этом г-же Полетике (!!!). Нелепо даже предположить, что скрытная, замкнутая Александрина могла довериться своей злоязычной кузине. «Признание» Ази Полетика приплела для большей достоверности. Мавр сделал своё дело… Обществу нужны были подтверждения, и они скоро обнаружились. Совсем естественно, что затравленный Пушкин искал в эти дни поддержки свояченицы и невольно тянулся к ней, может быть, как к единственному верному другу. Как я уже упоминала, только ей и княгине Вяземской Поэт сообщил о предстоящей дуэли. Но с Александрины он взял обещание никому не говорить о ней. И она, к сожалению, сдержала это обещание. Сплетня о Пушкине и Александрине — судя по дате письма С. Н. брату — стала распространяться именно в январе, уже после бракосочетания Екатерины и Дантеса. До ноября 1836 г. об этом вообще никто не догадывался и никаких свидетельств на этот счёт не имеется. И совсем логично напрашивается вывод — мысль эта была услужливо подсказана кем-то со стороны. После этого даже близкие друзья Поэта вдруг стали подмечать, что нормальные, по-родственному тёплые отношения между Поэтом и Александриной далеко не столь невинны, как это казалось раньше.
Этот пущенный Полетикой слух — был лишь продолжением плана о мести. О первом этапе отмщения речь пойдёт дальше. Всё изложенное и может быть ответом на так долго мучившую пушкинистов загадку — неожиданного, непонятного изменения отношений между Пушкиным и этой женщиной. От вполне родственных, дружески-ласковых, шутливых (помните, однажды схватил Идалию за ножку, едучи с ней и женой в карете!) до нескрываемо враждебных в последние месяцы жизни Поэта. В дальнейшем эта ненависть к нему усугублялась. Наталья Николаевна, конечно же, знала о состоявшемся между Пушкиным и Полетикой объяснении, да и сама она никогда не смогла простить Идалии её подлость. Но, что удивительно, Полетика не чувствовала ни малейших угрызений совести, наоборот, считала Пушкину виновной.
Письмо Полетики Екатерине Дантес: Ваших сестёр я вижу довольно часто у Строгановых, но не у меня, у Натали не хватает мужества ходить ко мне. Мы очень милы друг с другом, но она никогда не говорит о прошлом, его в наших разговорах не существует. Так что, держась весьма дружественно, мы много говорим о погоде, которая, как вы знаете, в Петербурге редко бывает хорошей [183] .
Продолжение суда — свидетельство «Бархата»
В воскресенье, 21 июня 1887 года, в Павловске на даче престарелого литератора Андрея Александровича Краевского[184] собралась небольшая компания на встречу с приехавшим в эти дни в Петербург 74-летним князем Александром Васильевичем Трубецким. Нелегко было хозяину дома заманить к себе изредка наезжавшего в столицу из Одессы генерал-майора. В том году исполнилось пятьдесят лет со дня гибели Пушкина. Уже почти не осталось в живых современников Поэта. А князь Трубецкой к тому же был непосредственным свидетелем преддуэльной драмы. Много лет он упорно отказывался говорить с посторонними на эту тему. А знал немало, но ещё больше позабыл. Многие подробности затуманились в его памяти, приобрели иной смысл, иную окраску. Не сумел разговорить его даже специально приезжавший в Одессу Пётр Иванович Бартенев. Ему, записавшему десятки воспоминаний современников Пушкина, не удалось сломить строптивость этой спаянной смертельной ненавистью к Поэту троицы — бессарабского и новороссийского губернатора Г. Строганова, его сестры Идалии Полетики и князя А. В. Трубецкого, служившего в Одессе интендантом артиллерийского склада. Сам губернатор всё-таки снизошёл до столичного гостя. Но, вторя сестре (которая отчасти им командует), отзывался о Пушкине полупрезрительно, как о каком-то рифмоплёте. Строганов припомнил, что после поединка заезжал в дом раненого Поэта, но увидел там такие разбойничьи лица и такую сволочь, что предупреждал отца своего не ездить туда. Разговор Бартенева с Идалией не состоялся. Ей было достаточно, что я печатал о Пушкине, чтобы не желать моего знакомства. Она ненавидела Пушкина. Нрава она резкого, или что французы называют acariâtre (сварливая, упрямая. — С. Б.). Муж её некогда служил в кавалергардах. Это был наглец. Во время Польского похода 1831 года он живился за счёт графа Д. Н. Шереметева и даже завладел его вещами и самою походною палаткой. Приятелем ему был кавалергард, убийца Пушкина.[185] (Подч. мною. — С. Б.)
И вот Трубецкой начал вспоминать… А присутствовавшие на встрече журналисты и литераторы остались в шоке от услышанного. Стенографическую запись рассказа князя не сразу решились опубликовать. Позднее В. И. Бильбасов издал её маленькой брошюркой — в 8-ю долю листа — и всего в 10 экземплярах. И только в 1901 году он напечатал рассказ Трубецкого в февральском номере «Русской старины».
Никого не пощадил злоречивый князь — ни красавицу Натали (набитая дура, непроходимо глупа), ни своего «друга» Дантеса, ни его — то ли дядю, то ли отца — Геккерена, ни Пушкина. Но всё же симпатии князя явно были на стороне француза: Он был отличный товарищ и образцовый офицер. И за ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодёжи, кроме одной…
Артист Художественного театра Л. М. Леонидов спустя много лет припомнил запечатлевшуюся с детства картинку: ежедневно между четырьмя и шестью часами вечера на одесском Николаевском бульваре появлялись три странных, словно материализованных из давно минувшей эпохи призрака — худощавая властная старуха, шагавшая твёрдо, с по-мужски заложенными за спиной руками, важный, высокомерный подслеповатый старик и семенивший рядом сухонький и суетливый «захудалый генерал» с лицом старого фата. Изъяснялись они только по-французски, часто спорили — останавливались, в запале что-то доказывали друг другу и вновь продолжали свой вечерний моцион. Эти три комические фигуры были известными недругами Пушкина — Идалия Полетика, граф Александр Григорьевич Строганов и князь Трубецкой. Сколько было ими переговорено за эти долгие годы! Судачили они и о пресловутом треугольнике, вернее пятиугольнике: Дантес — Пушкины — Александрина и Екатерина Гончаровы.
И вот теперь один из них, князь Александр Васильевич, вдруг решился заговорить. Трубецкой излагал обмусоленную вместе с Идалией версию дуэли: Не так давно в Одессе умерла Полетика, с которой я часто вспоминал этот эпизод, и он совершенно свеж в моей памяти. Немудрено, что нелюбовь Полетики к Пушкину передалась и ему: Надо признаться, при всём уважении к высокому таланту Пушкина, это был характер невыносимый. Он всё как будто боялся, что его мало уважают, недостаточно почёта оказывают; мы, конечно, боготворили его музу, а он считал, что мы мало перед ним преклоняемся.[186]
Вероятно, в последние годы князь рассорился с Полетикой. Во всяком случае, явно не поддерживал с ней отношения, потому ошибочно и сообщил о её смерти. А упрямая старуха пережила его на полтора года — она скончалась 28 ноября 1890 года. Фальшивое сведение о её кончине и развязало князю язык — прежде держал его за зубами в страхе перед деспотичной Идалией.
Повествование престарелого князя Александра не следует сбрасывать со счетов, как это делает большинство пушкинистов. Ошибки в изложении последовательности фактов можно объяснить и старческой забывчивостью, и беспечным и рассеянным образом жизни молодого, тогда 24-летнего кавалергарда. Но большинство изложенных им фактов уже подтверждено многими публикациями.
Аргументы П. Е. Щёголева:Несомненно, память князя Трубецкого многое исказила в былой действительности, да и трудно требовать точной передачи, точных дат от глубокого старика, рассказывающего о событиях через 50 лет после их свершения. Но ведь старик вспоминал о самом дорогом ему времени, о своей молодости, когда ему было 24 года и когда из поручиков Кавалергардского полка он был произведён в штаб-ротмистры. Можно забыть отдельные факты, эпизоды молодости, но нельзя забыть общего содержания, основного тона впечатлений молодости, нельзя забыть чувства жизни в эти годы в его характерных особенностях. <…> Мы верим князю Трубецкому в том, что Дантес действительно рассказывал ему о ходе своего флирта с Н. Н. Пушкиной и что он, Трубецкой, был свидетелем некоторых моментов этого флирта[187].
Прежде всего, в рассказе князя Трубецкого не следует пренебрегать эпизодом о встречах Дантеса с Натали на даче Пушкиных на Каменном острове летом 1836 г. Как уже отмечалось выше, Кавалергардский полк в начале августа после окончания летних манёвров расквартировался в Новой деревне. С балкона пушкинской дачи открывался чудесный вид на Елагин остров, на просторы Большой Невки с белыми парусами лодок и сады Новой деревни на противоположном берегу, — писал пушкинист М. И. Яшин. Он досконально изучил местоположение загородного дома действительного статского советника, члена Почтового совета Ф. И. Доливо-Добровольского, у которого в то лето снимали дачу Пушкины. Оба берега Большой Невки соединял Каменноостровский мост, вплотную к нему прилегал знаменитый Строгановский сад с летним особняком Г. А. Строганова, а в двух шагах от него — дом Пушкиных. Поэт часто беседовал со старым графом прямо с балкона дачи. Дантесу стоило только переехать мост, чтобы сразу же попасть к Пушкиным. Нередко кавалергард совершал верховые прогулки вместе с Натали и Екатериной Гончаровой. Об этом сохранилось воспоминание современника — В. В. Ленца, гостившего на даче графов Виельгорских: После обеда доложили, что две дамы, приехавшие верхами, желают поговорить с графами. «Знаю, — весело сказал Виельгорский, — они мне обещали заехать» — и вышел со мной на балкон. На высоком коне, который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытом землю, грациозно покачивалась несравненная красавица, жена Пушкина; с нею были её сестра и Дантес. Граф усердно приглашал их войти. «Некогда!» — был ответ. Прекрасная женщина хлестнула по лошади, и маленькая кавалькада галопом скрылась за берёзами аллеи. Это было словно какое-то идеальное видение![188]
О летних рандеву рассказывает и пушкинистка Стелла Абрамович: Поручик Геккерн получил возможность встречаться с женой поэта гораздо чаще, чем в городе. Пользуясь свободой дачных нравов, он виделся с нею не только на вечерах, но и днём, во время прогулок. Дантес бывал с визитами на даче у Пушкиных.[189]
О том же свидетельство кн. Трубецкого: В то время Новая деревня была модным местом. Мы стояли в избах, эскадронные учения производили на той же земле, где теперь дачки и садики 1-й и 2-й линии Новой деревни. Всё высшее общество располагалось на дачах поблизости, преимущественно на Чёрной речке. Там жил и Пушкин (ошибка князя — ранее Пушкины действительно снимали дачу на Чёрной речке, но в 1836 г. — на Каменном острове. — С. Б.). Дантес часто посещал Пушкиных. Он ухаживал за Наташей, как и за всеми красавицами (а она была красавица), но вовсе не особенно «приударял», как мы тогда выражались, за нею. Частые записочки, приносимые Лизой (горничной Пушкиных), ничего не значили; в наше время это было в обычае. <…> Нередко, возвращаясь из города к обеду, Пушкин и заставал у себя на даче Дантеса. Так было и в конце лета 36-го года. Дантес засиделся у Наташи; приезжает Пушкин, входит в гостиную, видит Дантеса рядом с женой и, не говоря ни слова, ни даже обычного «bonjour», выходит из комнаты; через минуту он является вновь, целует жену, говоря ей, что пора обедать, что он проголодался, здоровается с Дантесом и выходит из комнаты. «Ну, пора, Дантес, уходите, мне надо идти в столовую», — сказала Наташа. Они поцеловались, и Дантес вышел. В передней он столкнулся с Пушкиным, который пристально посмотрел на него, язвительно улыбнулся и, не сказав ни слова, кивнул головой и вошёл в ту же дверь, из которой только что вышел Дантес.[190]
Прежде чем продолжать дальше рассказ Трубецкого, внесу некоторые пояснения. Дантес и князь Александр проживали в то лето 1836 г. вместе в одной избе. Жорж, как водилось тогда между легкомысленной, беспечной молодёжью, сообщал ему о своих любовных похождениях, вернее, о своих победах над женскими сердцами. Они давно уже были друг с другом накоротке. Об их тесной дружбе свидетельствуют и отрывки из дневника императрицы Александры Фёдоровны и её писем к графине Софии Бобринской, опубликованные Эммой Герштейн. По словам Трубецкого, сам император Николай представил кавалергардам статного красавца Дантеса. При этом просил любить и жаловать новичка. Императрица же взяла Дантеса под своё покровительство, из личных средств доплачивала определённую сумму к скромному вознаграждению бедного корнета. Впрочем, из опубликованной в книге П. Е. Щёголева переписки барона Дантеса-отца с Геккереном явствует — вечно прибеднявшийся сынок был отнюдь не таким бедным. Отец обязался оплатить ему экипировку и высылать ежемесячно по 200 франков, что составит 100 луидоров или 2400 франков в год; вместе с жалованьем, при условии бережливости, этого ему должно хватить, ибо это составляет тройную сумму против того, что он получал бы, служа во Франции[191]. (Подч. мною. — С. Б.) Дантес часто, не без желания Александры Фёдоровны, оказывался среди кавалергардов, несущих дежурство во дворце при особе её величества. Из письма Дантеса к Геккерену: Всякий раз, как приглашали из полка трёх офицеров, я оказывался в их числе. Скромный по титулу и званию иностранец был в числе званых гостей на придворных балах. На одном маскараде он даже танцевал с костюмированной императрицей. И с присущей ему фамильярностью в обращении с дамами сказал царице: «Здравствуй, моя дорогуша». На балу у Фикельмонов не сводил с неё глаз. Тридцатисемилетнюю императрицу тешило внимание молодого красавчика. Эти вольности кавалергарда документированы её записочками к Бобринской. Дантес, бесспорно, был из породы мужчин с сильно развитым мужским инстинктом. В этом была главная притягательная сила его обаяния. Оно безотказно действовало на женщин. На императрицу тоже. И он начинает ловко подыгрывать ей в её слабости. Ибо от этого зависело и его жалованье, и его карьера. Императрица по-прежнему ко мне добра, — отчитывается он Геккерену. И уже в начале 1836 года он получает звание поручика в нарушение элементарной воинской табели о рангах.
Фаворит императрицы
Как оказалось, много их было, платонических и неплатонических обожателей императрицы, жадною толпой стоящих у трона… на ловле счастья и чинов. Это, прежде всего, её подопечные кавалергарды — капитан Адольф Бетанкур, поручик, а позднее штаб-ротмистр князь Александр Куракин, поручик, а с 1836 г. штаб-ротмистр Григорий Скарятин, штаб-ротмистр князь Александр Трубецкой. Они жадно ловили взгляды императрицы, оспаривали друг у друга право на руках нести своего шефа в гору после спуска на санках — чтоб я не утомлялась. Шеф Кавалергардского полка жуть как любила саночные катания. Запись в её дневнике: …сейчас же салазки, даже солнце напоследок выглянуло… играли в снежки… тирольские песни.
В 1835 году императрица из всей этой своры особенно выделяла А. Трубецкого. Её увлечение им переходило границы элементарных приличий даже для обыкновенной светской дамы, а для императрицы всея Руси её поведение было просто шокирующим. В конце октября 1836 г. она приезжает на завтрак в дом генерал-адъютанта Василия Сергеевича Трубецкого, отца «Бархата», на пироги, которыми князь славился на весь Петербург. Пироги у дяди удались. Он был так рад, видя меня у себя, угощая меня. <…> Остальная часть семьи тоже казалась довольной. Тётя играла на фортепьяно серьёзные пьесы. Бархат попросил вальс, и я сделала один тур, с кем вы думали? — совсем не с сыном, а с Père la Rose, — сообщает императрица Бобринской в письме от 26 октября. Затем она ненадолго отлучилась во дворец, «откушала» с семьёй и императором чай — этот строго установленный ритуал никогда не нарушался, переоделась в соответствующее платье и тюрбан — по моде времени. Вечером того же дня — вновь к Трубецким на танцы. Во время вальса с сыном «отца-розы» произошёл курьез — молодой кавалергард до того закружил царицу, что, к стыду своему, она потеряла подложку. Да простит читатель мне эту подробность, о которой Александра Фёдоровна не преминула упомянуть своей задушевной подруге, — поистине поразительная откровенность первой дамы России!
У этой ветви Трубецких, потомков Гедеминовичей, к началу XIX века остались только слава древнейшего рода да княжеская спесь. Кроме Александра, в семье было ещё десять детей, и почти никакого состояния. Чтобы обеспечить будущее своим отпрыскам, родители не гнушались никакими средствами, и прежде всего, беззастенчивым домогательством фаворитизма. Как видим, вся семья деятельно принимала участие в обольщении императрицы: отец угощал пирогами, мать играла на фортепьянах, сын изображал страстного влюблённого. Как не вспомнить слова Грибоедова: Упал он больно, встал здорово. Синяки, шишки — на теле, на достоинстве — все не в счёт, если они принесут Александру повышение в чинах, доходную службу его братьям, выгодные браки, составляемые с помощью монархов.
Но фортуна изменила Трубецким — молодых князей погубило врождённое легкомыслие. Дальнейшая судьба князя Александра и его младшего брата Сергея была весьма жалкой. Сергей после нескольких попыток составить себе выгодную партию был наконец обручён с Екатериной Мусиной-Пушкиной. Но вдруг совершает странный поступок — похищает жену почётного гражданина Жадимировского и бежит с ней на Кавказ. Царь, имевший зуб на всю семейку Трубецких, лично распорядился заловить негодника. Полиция на сей раз проявила расторопность и схватила беглеца в Тифлисе. Он был доставлен в Петербург, посажен в Алексеевский равелин, судим, а затем лишён чинов, ордена Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», дворянского и княжеского достоинства, отправлен рядовым в Петрозаводский гарнизонный батальон под строжайший надзор, на ответственность батальонного командира.
Карьера же Александра Васильевича рухнула в 1842 году. Вскоре после гибели Пушкина князя нелепо обвинили в причастности к государственному заговору. Слух пустил озлобленный изгнанный из России Геккерен. Талант прирождённого интригана расцвёл за границей. Нужно было спасать карьеру Дантеса — и он решил придать всей этой истории политическую окраску. Отголосок его деятельности в письме М. Г. Франш-Денери к герцогу де Блака (Берлин, 28 февраля 1837 г.): Я имел честь сообщить Вам недавно о несчастной дуэли между г. Дантесом и поэтом Пушкиным; последний находился во главе русской молодёжи и возбуждал её к революционному движению, которое ощущается повсюду, с одного конца земли до другого[192]. Как перекати-поле покатился слух по Европе, обрастая фантастическими подробностями. Во Флоренции уже определённо называли имена участников этой готовящей в России переворот кучки молодых людей. Пребывавший там дипломат граф Василий Фёдорович Орлов привёз эту новость в Россию — ересь зародилась в Кавалергардском полку! Вновь кавалергарды! В 1825 году более двадцати офицеров из этого самого аристократического полка приняли участие в декабристском восстании. Бенкендорф немедленно рапортовал царю. Царь распорядился: установить надзор! Бенкендорф — в благодарность или наказание за донесение — ввёл Орлова в свиту императрицы. Чтоб следил за кавалергардами и особенно за Трубецким. Поначалу царица-нимфоманка воспринимала подсадную утку как своего очередного обожателя. Граф Орлов повсюду следовал за ней — принимал участие в прогулках, катаньях с горок, в интимных вечеринках. Но кавалергарды рьяно оберегали пригретое местечко, соперника приняли в штыки, устроили против него дружный комплот. Это забавляло императрицу. Она восхищённо описывала эти рыцарские турниры подруге Бобринской. Комплот и был единственным заговором, обнаруженным незадачливым графом.
Политическую неблагонадёжность Трубецкого не удалось доказать. Зато обнаружились другие улики — о его связи с императрицей. Бенкендорф обязан был доложить царю. Самодержец и сам знал об этом, но теперь вынужден был реагировать: жена Цезаря должна быть выше подозрений! Император упрекнул ея величество в неосторожности, легкомыслии, подрывающем её авторитет. Царица огорчилась и обиделась. Да и как ей было не обидеться — сама-то она сквозь пальцы смотрела на шалости своего владыки и даже потворствовала им. И всегда весьма удачно заметала следы его проказ — вовремя составляла выгодные партии его фавориткам. Что дозволено Юпитеру, возбраняется даже кесарю! Императрица затаилась. А София Бобринская мужественно помогала ей в тайных встречах с её Бархатом. Царь недолюбливал графиню за сводничество. Позднее Смирнова-Россет скажет: государь не любил Бобринскую за свадьбу Дубенской (очередной фаворитки Николая, вышедшей замуж за Лагерне{3}). На беду императрицы, осенью 1837 года в Петербург приехала божественная Тальони. И безумный Саша имел неблагоразумие увлечься балериной. Совершенно очевидно, наш герой страдал эдиповым комплексом — он увлекался женщинами, годившимся ему в матери. Тальони была чуть помоложе императрицы, в ту пору ей исполнилось 33 года.
— Бархат у ножек Любаши-цыганки! — возмущалась императрица. Сменить царицу на цыганку! Подобный поступок покоробил даже самого императора. 18 января 1842 года Александра Трубецкого из ротмистров Кавалергардского Ея Императорского Величества полка увольняют по обстоятельствам полковником и с мундиром. Вот уж поистине: Храни нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь! Князь ходатайствует о разрешении уехать за границу вослед за своей плясуньей. Но в этом ему было отказано. Лишь через десять лет ему удалось получить визу на выезд. Тальони к этому времени вышла замуж за графа де Вуазена. Князь особенно не огорчился и женился на её воспитаннице графине Эде Жильбер де Вуазьен. О дальнейших перипетиях княжеской юдоли любопытствующих отсылаю к книге Семёна Ласкина «Вокруг дуэли», откуда я и почерпнула все эти подробности.
Но всё это произошло позднее, а пока Трубецкие спешат побольше урвать от царских милостей, сыплющихся на фаворита. Бархатные глаза (будем раз навсегда говорить обо всём «бархат», так удобнее) могут рассказать вам о бале… Они словно грустили из-за участи брата, но постоянно останавливались на мне и задерживались возле двери, у которой я провожала общество, чтобы перехватить мой последний взгляд, который между тем был не для него[193].
Дантес был всего лишь способным учеником — оказывается, у своих дружков-кавалергардов он успешно перенял способы обольщения молодящейся царицы. Но вот в упоминавшемся уже выше письме к С. Бобринской неожиданно прорывается недоброжелательность Александры Фёдоровны к новоявленному сыночку Геккерена: она не желает общества этого «новорождённого» для своего Бархата. И опять о том же пишет подружке 15 сентября 1836 г.: Я хочу ещё раз попросить вас предупредить Бархата остерегаться безымянного друга, бесцеремонные манеры которого он начинает перенимать.[194]
Как следует из этих записочек, не только Александр Трубецкой был поверенным в сердечных делах Дантеса, но и Дантес знал слишком много из «тайное тайных» — о связи императрицы с Трубецким. И даже потворствовал товарищу — из чувства солидарности с ним кружил вокруг коттеджа, чтоб перехватить взгляд владычицы или «случайно» столкнуться с ней. Они были крепко повязаны интимными интрижками. Опубликованные Э. Герштейн документы (дневник и письма императрицы к Бобринской) заставляют по-иному взглянуть на личность самого Трубецкого и серьёзнее отнестись к достоверности маразмического рассказа (выражение Ахматовой) князя Трубецкого об отношениях Пушкина к Дантесу. Ведь со времён П. Е. Щёголева ни одним из пушкинистов он не подвергался серьёзному пересмотру.
Дальнейшие показания Трубецкого
Когда Дантес пришёл к себе в избу, он выразил мне своё опасение, что Пушкин затевает что-то недоброе. «Он был сегодня как-то особенно странен», — Дантес рассказал, как он засиделся у Nathalie, как та гнала его несколько раз, опасаясь, что муж опять застанет их, но он всё медлил, и муж действительно застал их вдвоём.
— Только-то?
— Только, но, право, у Пушкина был какой-то неприятный взгляд, и в передней он даже не простился со мной.
Всё это Дантес рассказал переодеваясь, так как торопился на обед к своему дяде. Едва ушёл Дантес, как денщик докладывает, что пушкинская Лиза принесла ему письмо и, узнав, что барина нет дома, наказала переслать ему письмо, где бы он ни был. На конверте было написано très pressée. С тем же денщиком было отправлено тотчас же письмо к Дантесу.
Спустя час, может быть с небольшим, входит Дантес. Я его не узнал, на нём лица не было. «Что случилось?» — «Мои предсказания сбылись. Прочти». Я вынул из конверта с надписью très pressée небольшую записочку, в которой Nathalie извещает Дантеса, что она передала мужу, как Дантес просил руки её сестры Кати, что муж, с своей стороны, тоже согласен на этот брак. Записочка была составлена по-французски, но отличалась от прежних, не только vous вместо tu, но и вообще слогом вовсе не женским и не дамским billet doux (любовная записка).
— Что всё это значит?
— Ничего не понимаю! Ничьей руки я не просил.
Стали мы обсуждать, советоваться и порешили, что Дантесу следует, прежде всего, не давать démenti (опровержение) словам Наташи до разъяснения казуса.
Рассказ Трубецкого слишком подробен, посему вкратце изложу его дальнейшую суть. На следующий день всё разъяснилось. Оказалось, Пушкин, застав жену вдвоём с Дантесом, удалился, чтоб намазать сажей свои губы, и, вновь войдя в гостиную, поцеловал жену. Он хотел уличить её, и ему это удалось. Столкнувшись с Дантесом в передней, он заметил на его губах сажу и потребовал у жены объяснения. Натали, растерявшись, прибегла к спасительной лжи: поцелуй, дескать, был братским — Дантес сообщил ей о своём чувстве к Екатерине и желании посвататься к ней. Потом она горько пожалеет об этой выдумке — своими руками Натали выпустила злой дух джинна из бутылки! Пушкин решил довести свою шутку до конца и даже, возможно, чтоб наказать шалунов, тут же заставил жену под диктовку написать Дантесу вышеприведённую записку.
История с поцелуем позаимствована из расхожего анекдота того времени о неверной супруге и ревнивом муже. Совершенно невозможно представить, чтобы великий, благородный, гениальный Пушкин решился на такую банальность. Так порешило большинство пушкинистов. И этому эпизоду из рассказа Трубецкого не придавали никакого значения. Всё то же прокрустово ложе! Всё тот же сложившийся за сто шестьдесят лет стереотип какого-то иного, придуманного Поэта. А настоящий Пушкин отличался ребячливостью, любил анекдоты, остроумное слово, шутки, розыгрыши, глядел на жизнь только с весёлой стороны и с необыкновенной ловкостью мог открывать смешное (К. А. Полевой). Даже в самые тяжёлые моменты своей жизни легко переходил от грусти к весёлому — аж кишки видно (как образно сказал К. Брюллов ) — смеху. Однажды он заглянул к своему приятелю И. С. Тимирязеву. Не застал его дома. Слуга сказал, что хозяева скоро вернутся. Пушкин стал дожидаться их в зале с большим камином. Тут он увидел блюдо с орехами. И лукавая мысль озарила лицо. Он забрался в камин и, скорчившись, как обезьяна, стал щёлкать орехи. В таком состоянии застали его Тимирязевы… Он любил подобные проказы. Гнусные «мемуары» Трубецкого, кстати, не щадящие и Дантеса, не стоит принимать всерьёз, но это не значит, что нельзя извлечь из них некоторые бытовые детали, игнорируя эмоциональную окраску, — писал В. В. Кунин, составитель хроники «Последний год жизни Пушкина». Историю с поцелуем и нужно воспринимать как одну из таких комических бытовых деталей. В то время (а это было в августе 1836 г.) Пушкин ещё не придавал серьёзного значения ухаживаньям кавалергарда. Считал его, как выразился Щёголев, неопасным ничтожеством. Да и сам Трубецкой утверждал: Жорж вовсе не особенно «приударял» за ней. Так представлял своё отношение к Натали сам Дантес. Таковым оно и осталось в сознании его дружка Саши. Так же воспринимало в ту пору и общество волокитство царя Петербурга за Пушкиной.
Озорная шутка Пушкина смешала все фигуры на шахматной доске. Дантес растерялся только в первый момент. Его принято считать жизнерадостным, остроумным, обходительным, пылким и даже склонным к безрассудству человеком — любимцем общества и баловнем судьбы. Но лишь немногие знали, что всем своим успехам, сыпавшимся на него будто из рога изобилия благам он был обязан своему чрезмерному практическому чувству действительности (выражение его внука Луи Метмана). И на сей раз оно оказало ему большую услугу. Дантес был хорошим шахматистом. Пушкин неожиданно для него сделал перестановку фигур и объявил ему мат. Дантес поразмыслил и ловко обратил ситуацию в свою пользу. Он умело рассчитал несколько ходов вперёд и так повёл игру, что закончил её шахом для противника. Екатерина оказалась всего лишь пешкой в борьбе за королеву.
Дантес прекрасно понимал, что «желание» жениться на Катрин вовсе не является предложением о браке. На пути к нему много барьеров: одобрение обоих отцов — истинного и приёмного; высочайшее разрешение императрицы — по установленному обычаю оно было необходимо для придворных фрейлин (с декабря 1834-го Екатерина по ходатайству тётушки Е. И. Загряжской стала фрейлиной императорского двора); наконец, нужно ещё и согласие самой невесты. А пока суд да дело, Дантес ухаживает одновременно за двумя сёстрами — за одной притворно, за другой — искренне. И Катрин становится прекрасной ширмой для отношений Дантеса с Натали.
Теперь становится понятнее ошеломившее всё общество в ноябре 1836 г. решение Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой. Геккерен не совсем лгал, заявив Жуковскому, что этот вопрос уже давно обсуждался в их семье. Факт действительно имел место. Хотя никто не придавал ему в ту пору (кроме самой Екатерины) серьёзного значения — ни в семье Пушкиных, ни в семье Геккеренов. Для последних он был всего лишь хитрой уловкой. В ноябре голландский посланник «мужественно» взял вину на себя — дескать, не дал согласия на этот брак, потому что невеста была бесприданницей, а Дантес не посмел поступить наперекор батюшке. Жуковский был чрезвычайно удивлён столь неожиданным поворотом дел, но по своей наивности и доброте поверил в искренность Геккерена. Конспективно отметил это обстоятельство в дневнике.
Из всех показаний современников о преддуэльной истории самым правдоподобным должно быть свидетельство Александрины Гончаровой-Фризенгоф — друга и доверенного лица Пушкина, очевидца этих событий. Исследователи не отнеслись с должным вниманием к её сообщению: Пушкин отказал в своём доме Геккерену и кончил тем, что заявил: либо тот женится, либо будут драться (письмо Фризенгофа А. Араповой)[195]. А оно вносит существенную коррективу в историю с женитьбой Дантеса. Не он, движимый высоконравственным чувством, принял решение закабалить себя на всю жизнь… чтобы спасти репутацию любимой женщины. А Поэт принудил его к этому. Он, без сомнения, припомнил Дантесу его намерение жениться на Екатерине. В случае отказа пригрозил дуэлью! Дуэль означала для кавалергарда крах столь блестяще начатой карьеры, гибель или же ссылку. Геккерен не мог допустить этого — помните, в одном из писем возлюбленному Жоржу он писал, что не мог бы пережить, случись с ним беда… Теперь эта парочка была вынуждена пожинать плоды своих деяний. Геккерена не на шутку напугала реакция Пушкина. Для расчётливого интригана она оказалась неожиданной. Он лихорадочно ищет выхода из ими же состряпанной ситуации. Просит отсрочки. Привлекает посредников — Жуковского, Е. Загряжскую. Их усилия не принесли особых результатов. …Бедный отец, силясь отбиться от несчастия, которого одно ожидание сводит его с ума. <…> Не желая быть зрителем или актёром в трагедии — я предложил своё посредство. <…> Нынче поутру скажу старому Геккерену, что не могу взять на себя никакого посредства, ибо из разговоров с тобою вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит… — из письма Жуковского Пушкину[196]. Пушкин был неумолим. Оставался единственный выход — женитьба. Как чёрные торгаши, Геккерен и Дантес выставляют условия, прикрываясь фразами о достоинстве и чести, — сначала Пушкин должен забрать вызов на дуэль, только после этого будет сделано предложение Екатерине: Я не могу и не должен согласиться на то, чтобы в письме находилась фраза, относящаяся к т-lle Гончаровой: вот мои соображения, и я думаю, что г. Пушкин их поймёт. Об этом можно заключить по той форме, в которой поставлен вопрос в письме.
Жениться или драться — это же выражение употребила Александрина в 1887 году, через 50 лет после события — ещё одно подтверждение, что её воспоминаниям можно доверять. Так как честь моя запрещает мне принимать условия, то эта фраза поставила бы меня в печальную необходимость принять последнее решение. Я ещё настаивал бы на нём, чтобы показать, что такой мотив брака не может найти места в письме, так как я уже предназначил себе сделать это предложение после дуэли, если только судьба будет мне благоприятна. Необходимо, следовательно, определённо констатировать, что я сделаю предложение т-lle Екатерине не из соображений сатисфакции или улаживания дела, а только потому, что она мне нравится, что таково моё желание и что это решено единственно моей волей.[197] Пушкин в презрительном снисхождении уступает. Он добился своего — противник униженно капитулировал. С сыном уже покончено, — скажет он позже В. Соллогубу. Но свой отказ выражает изысканно-галантными словами. За этой галантностью убийственная издёвка: …прошу теперь господ свидетелей этого дела соблаговолить считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерен решил объявить о своём намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли (никто из посторонних так и не узнал, что Пушкин принудил его к этому; сберегая Дантесу убийственное унижение, не его щадил — честь жены спасал! — перед этим величием духа можно только склониться в немом восхищении! — С. Б.). У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека. (Подч. мною. — С. Б.)[198] Перед вынужденными участниками истории — секундантами В. Соллогубом и д’Аршиаком — куртуазия. Виновникам — беспощадную правду: …я заставил вашего сына играть роль столь потешную и жалкую, что моя жена, удивлённая такой пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самом спокойном и вполне заслуженном[199]. Склочному обществу — загадку: Никогда ещё с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерен-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустую молву. Да, он женится, и мадам де Севинье обрушила бы на него целый поток эпитетов, каким она удостоила некогда громкой памяти [Лемюзо]! Да, это решённый брак сегодня, какой навряд ли состоится завтра. Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, чёрной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина, — писала Софья Бобринская мужу 25 ноября 1836 г. О том же — спустя три дня С. Н. Карамзина в письме к брату Андрею: Я …танцевала …мазурку с Соллогубом, у которого в этот день темой разговора со мной была история о неистовствах Пушкина и о внезапной любви Дантеса к своей невесте. Ещё одно свидетельство, что Пушкин оставил Соллогуба в неведении относительно истинных причин этого странного сватовства. По легкомыслию молодости и он был подвержен недугу светского общества — сплетням. Но интуиция подсказывала, что он вовлечён в какую-то непонятную ему игру. И однажды, отведя в сторону жениха — Дантеса, спросил его напрямую, что он за человек. Я человек честный и надеюсь это скоро доказать, — ответствовал кавалергард. Цепкая память Соллогуба фиксировала детали событий, но тогда он не в силах был разобраться в них — прозрение пришло лишь спустя много лет. И он с горечью был вынужден признать: Мне пришлось быть и свидетелем и актёром драмы, окончившейся смертью великого Пушкина…[200]
Итак, замужество было решено, — слова из письма Г. Фризенгофа А. Араповой. — Слава Богу, кажется, всё кончено. Е. И. Загряжская В. А. Жуковскому 17 ноября 1836 г.: Жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением. К большому счастию, за четверть часа пред ними приехал из Москвы старший Гончаров и он объявил им родительское согласие, итак, все концы в воду. Сегодня жених подаёт просьбу по форме о позволении женитьбы и завтра от невесты поступит к императрице.
В тот же день Клементий Россет обедал у Пушкина. Много лет спустя Бартенев записал его рассказ: За столом подали Пушкину письмо. Прочитав его, он обратился к старшей своей свояченице Екатерине Николаевне: «Поздравляю, вы невеста: Дантес просит вашей руки». Та бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна за нею. «Каков!» — сказал Пушкин Россету про Дантеса.
Всё остальное, весь этот романтический бред: предпочёл безвозвратно себя связать с единственной целью — не компрометировать г-жу Пушкину… закабалить себя на всю жизнь… репутация любимой женщины… высоконравственное чувство… — всё это было придумано Геккеренами позже[201]. Когда единственного знавшего истину человека уже не было в живых. Натали и Александрина были не в счёт. Екатерина — тем более. Они хранили молчание. К тому же Наталья Николаевна с сестрой через полмесяца после смерти Пушкина покинули Петербург. Геккерены могли теперь лгать без зазрения совести.
Русский пасквиль — венская метаморфоза
Вена в ту эпоху была самой легкомысленной столицей. Особенно веселились венцы в период карнавалов — с декабря и до Великого предпасхального поста. Молодое, последнего урожая вино «Heuriger» подогревало кровь. Танцевали до упаду, распевали песенки милого Августина — волынщика, балагура и отчаянного выпивохи, спасшегося от чумы вином и весельем. В честь Августина самые отчаянные шутники награждались дурацкими колпаками и всевозможными смешными титулами. Веселиться так веселиться! Никто не думал обижаться — всё это было данью традиционному умению развлекаться. В последний зимний сезон в австрийской столице придумали новую забаву — отправлять друг другу шутливые дипломы на разные нелепые звания. В декабре 1836 года секундант Дантеса д’Аршиак показал Владимиру Соллогубу несколько образцов такого рода мистификаций. Среди них — печатный экземпляр на звание рогоносца, подобный полученному Пушкиным. Таким образом, гнусный шутник, причинивший ему смерть, — заключил В. Соллогуб, — не выдумал даже своей шутки, он получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал. Кто был виновником, осталось тогда ещё тайной непроницаемой[202].
В чопорной и холодной России подобная шутка воспринялась по-иному. И самим адресатом, а впоследствии и обществом. Её инициатору навеки приклеили ярлычок гнусный. Возможно, в иных обстоятельствах обожающий розыгрыши и анекдоты Пушкин отнёсся бы к такой выходке с присущим ему юмором. Надо отдать ему должное — вначале он именно так и реагировал. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу, — сказал он вручившему ему очередной экземпляр Соллогубу. — Если кто-нибудь сзади плюнет на моё платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не моё. Но после объяснения с женой, которая, трепеща и дрожа от возмущения, наконец рассказала ему о мерзостях Геккеренов, он расценил невинное с виду послание как злостный пасквиль.
Как уже сказано выше, Соллогуб знал имя его автора. Он уверенно заявил: тогда ещё тайна непроницаемая. Значит, в тот момент, когда были написаны эти слова, тайна для него уже была раскрыта. Но — увы! — он унёс её с собой в могилу. И для нас она по-прежнему остаётся непроницаемой.
В авторстве пасквиля подозревали многих. Как считают, Пушкин был убеждён, что это Геккерены. Современники Поэта судили-рядили и остановились на двух дружках — князе И. С. Гагарине и князе П. В. Долгорукове. Окончательно не оправданы они и до наших дней. Много раз подвергались экспертизе их почерки. Результаты не подтверждали обвинение, но подозрение оставалось.
А между тем в своей исповеди на даче Краевского князь Трубецкой назвал имена «героев» этой истории. По прошествии 50-ти лет он уже не видел необходимости сохранять непроницаемую тайну. Да и сама история всегда воспринималась им не более как озорство. А из озорников в живых остались только проживавший в Одессе девяностодвухлетний брат Полетики — Александр Строганов. Но с ним, как и с самой Идалией, он, вероятно, в последнее время не поддерживал отношения. Трубецкой, очевидно, не знал, что где-то доживал свой восьмой десяток и Пётр Урусов. Для него он давно был мёртв, как было мертво всё, связанное с его далёким и блестящим прошлым. Мёртвые не возмутятся, а и особой вины он за ними не признавал. В то время несколько шалунов из молодёжи — между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой cousin, — стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. В другое время он не обратил бы внимания на подобную шутку и, во всяком случае, отнёсся к ней как к шутке, быть может, заклеймил бы её эпиграммой. Но теперь он увидел в этом хороший предлог и воспользовался им по-своему. (Подч. мною. — С. Б.) Пушкинисты никогда не придавали значения этому признанию маразмического князя. А ведь он очень здраво судил о поведении Пушкина. И при этом почти повторил смысл пассажа из письма Пушкина Геккерену от 26 января 1837 г.: Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения: я получил анонимные письма. Я увидел, что пришло время, и воспользовался этим.
Надо заметить, что Трубецкой очень точно подбирает слова — в его трактовке «молодые шалуны» были не сочинителями диплома, а только его распространителями: стали рассылать анонимные письма. Это не оговорка, а скорее уклончивость. Князь дипломатически обходит вопрос об авторе отправленной Пушкину анонимки. Более того, старается убедить слушателей, что она не была специально предназначена Поэту, а вообще мужьям-рогоносцам. И Пушкин в числе многих получил такое письмо. Давайте попробуем поверить Трубецкому. Если рассказ его правдив, то полупризнание князя суживает границы поиска автора пасквиля. Названы отправители письма, автора следует искать среди очень близких этому кругу людей.
Он сам был рогоносцем
Из этих трёх самого пристального внимания заслуживает личность «кузена» — Александра Строганова. Человека, до конца своей жизни смертельно и без видимой причины ненавидевшего Пушкина. По иронии судьбы он сам был в рогоносцах. Поэтому с особым наслаждением решил напакостить Пушкину. Его женой была Наталья Викторовна Кочубей, та самая Наталья, которую считают предметом первой любви Поэта. Долли Фикельмон оставила нам описание её внешности: У Натали Строгановой пикантная физиономия; определённо не будучи красавицей, она, видимо, нравится значительно больше многих других красивых женщин. Капризное выражение лица ей очень идёт. Особенно прекрасны у неё глаза — в них её главная красота. При этом она весьма остроумна, однако в разговоре не обладает очарованием своей матери. Мадам Кочубей — милая и вместе с тем очень живая. Натали кокетничает с Лобковицем, его холодный и безразличный вид не меняется, даже когда он рядом с ней. Он действительно оригинален.[203] И ещё один штрих, добавленный графиней Фикельмон к её портрету: Император выглядел красивее, чем когда-либо. Ему очень подходит вид завоевателя, и толпа красивых женщин, следующих за ним из залы в залу и ловящих каждый его взгляд, полностью оправдывает этот его вид. Три главные фигуры из этой группы обожательниц — Натали Строганова, мадам Завадовская и княжна Урусова[204]. Запись сделана после большого бала у французского посла в Петербурге герцога Казимира Мортемара. На нём присутствовала императорская чета и весь двор.
Пассия Пушкина была (или стала?) весьма практичной женщиной. Внимания царя добивалась без зазрения совести — не только из тщеславия красивой женщины, но и возможных выгод, которые сулило благорасположение императора. В этом отношении была достойной дочерью своих родителей — В. П. Кочубея, председателя Государственного совета и Кабинета министров, и Марии Васильевны, урождённой Васильчиковой. Вся эта семейка в дальнейшем разочаровала графиню Фикельмон. Слащавое заискивание придворных перед императорской четой было убийственно и невыносимо. Графиня Кочубей — олицетворение этой низости. Её глаза, поведение, интонация голоса, изречения — всё в ней направлено в сторону, которая определяется движениями Их Величеств. Так что эта женщина, вопреки уму и домашним добродетелям, которые ей приписывают, безвозвратно потеряла моё уважение[205].
Не очень лестно отзывался о графине Строгановой историк С. М. Соловьёв, дававший уроки её детям: С умом и образованием поверхностным, огромными претензиями на то и другое, с полным отсутствием сердца, эгоизм воплощённый, неразборчивость средств, способность унижаться до самых неприличных искательств, когда считалось нужным, и в то же время гордость, властолюбие непомерное, — вот графиня Нат. Викт. Строганова. В Петербурге она занимала блистательное положение, умевшая владеть разговором, очень недурная собою, особенно вечером, с огромными связями, как дочь Кочубея, она держала блистательную министерскую гостиную[206].
В феврале 1831 г. граф Александр Строганов, бесспорно не без содействия жены и тестя, был назначен членом правления Царства Польского и управляющим внутренними делами и полицией. Строгановы оставались в Варшаве до 1834 года. Затем граф был назначен в Министерство внутренних дел товарищем министра. Зимой 1833 г. Наталья Викторовна приезжала в Петербург. Об этом записала в дневнике гр. Фикельмон (21 января 1833 г.):
Наталия Строганова, приехавшая из Варшавы проведать родителей, растеряла свою грацию, элегантные манеры и молодость; в замену этому её не покидает дурное настроение. Князь Горчаков ухаживает за ней так, как в былые времена — открыто и не таясь.
Банальная, но бесспорная истина: красота женщины, подобно цветку, расцветает от внимания. Ухаживание князя благотворно подействовало на Строганову. Уже через несколько дней наблюдательная Фикельмон с удивлением отмечает: К Натали Строгановой, изысканно одетой, в этот день вернулась её прежняя весёлость. Красивая и очаровательная, она была довольна собой, а следовательно, и другими. И ещё об успехах Строгановой в обществе (запись Фикельмон от 14 февраля): Одним из модных в этом карнавальном сезоне мужчин был Пьер Пален; обычно серьёзный и чуждающийся женщин, он был разбужен и наэлектризован видимым предпочтением со стороны Натали Строгановой и лестным вниманием всех нас, женщин, несмотря на его пятидесятилетний возраст и побелевшую голову; но у него такая благородная краcoma, он так похож на старовременных рыцарей, что испытываешь желание отдать ему предпочтение перед всеми другими.
Отсутствие любви уродует личность человека. Великосветская среда довершает её разложение. Могла бы я сказать в оправдание Строгановой. Чтобы устоять этому пагубному влиянию, необходимо обладать и умом, и душой, и духовностью. Всего этого недоставало Наталье Викторовне. И она с увлечением вела пустую и блистательную светскую жизнь. Флирты и романы были как бы необходимым условием для поддержания репутации красивой женщины. Но вместе с тем говорили и о другом — у Натальи Викторовны был не очень счастливый брак. Из дневника Фикельмон узнаем, что и граф Г. А. Строганов не отличался верностью супруге.
Новые сведения о Строгановых натолкнули на мысль — не Наталью Викторовну ли имел в виду Дантес, когда пытался намекнуть Геккерену о имени Натальи Николаевны: …она носит то же имя, что и дама, писавшая тебе в связи с моим делом о своём отчаянии, но чума и голод разорили её деревни. Серена Витале, а за ней В. Старк убеждены, что речь шла о московской тётке Дантеса — гр. Шарлотте (Елизавете Фёдоровне) Мусиной-Пушкиной[207]. А между тем запись (14 декабря 1833 г.) в дневнике Пушкина заставляет предположить другой вариант: Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. Эти четыреста тоже останутся в их карманах.[208] Неурожайный 1833 год и предшествовавшая ему холера 1831—1832 годов действительно разорили украинские деревни обоих графов. Представим, что у Кочубей-Строгановой решил одолжиться Геккерен для своего приёмного сыночка. Почему именно к ней обратился барон? Вполне возможно, что у неё была связь с Дантесом. Как со многими другими до и после него.
В 1836 г. Строганова во власти нового чувства.
Но вот, не угодно ли, приезжает графиня Строганова, ставшая с некоторых пор посетительницей нашего дома; она входит, блестящая, красивая, в каком-то дьявольском платье, с дьявольским шарфом и множеством других штук, также дьявольски сверкающих, — сообщала Софья Николаевна Карамзина брату Андрею[209]. В салон Карамзиных графиню влекла не любовь к просвещённым беседам, а к двадцатилетнему Александру Карамзину. Выпускник Дерптского университета недавно появился в Петербурге. Был определён прапорщиком в лейб-гвардии Конную артиллерию. Умный, с красивым одухотворённым лицом, блестящий собеседник, поэт, литератор стал объектом страсти женщины бальзаковского возраста — Строганова была старше Александра на 15 лет. Софья Николаевна продолжала информировать брата о развитии этого флирта.
Оснований для моего предположения предостаточно. Наталья Викторовна, как убеждает всё вышесказанное о ней, была женщиной тщеславной. Украсить свой послужной список самым модным кавалером — царём Петербурга Дантесом — было для опытной кокетки вопросом престижа. Роман с ним мог иметь место после возвращения Строгановых из Польши в конце 1834 года. Этот период как раз был началом блестящего восхождения Жоржа. Связь продолжалась, по-видимому, недолго. Но тем не менее позволяла барону обратиться к Наталье Викторовне с деликатной просьбой о деньгах. К осени 1836 г. её сердце временно оказалось свободным. В августе она вернулась в Петербург после летнего вояжа. На эту пору и приходится её увлечение Александром Карамзиным — о чём говорит София Карамзина в письме брату 31 августа… Я пока не включила Строганову в составленный мной список кандидаток в «супруги» Дантеса — не располагаю необходимыми сведениями. Не известна точная дата смерти её сына Сергея. В «Истории родов русского дворянства» указано — умер в юности в тридцатых годах.
Наталья Викторовна Кочубей вышла замуж за Строганова в двадцать лет. Вероятно, не без давления отца, весьма озабоченного, что дочка засиделась в девицах. Быв уже на 19-м году, время помышлять о замужестве, но беда, что и женихов не так легко отыскать можно. <…> Вероятно, что когда буду иметь счастье выдать дочь мою замуж, то паки поеду скитаться по белу свету, — писал В. П. Кочубей своему другу М. М. Сперанскому 22 апреля 1819 года. Кочубей сетовал на отсутствие достойных женихов — не мог же отдать свою дочь за какого-нибудь проходимца один из богатейших помещиков России, ближайший советник императора Александра I. Вскоре его выбор остановился на среднем сыне барона (а с 1826 г. — графа) Григория Александровича Строганова — Александре. Молодой человек был весьма достойной партией для любимого чада — из старого, славного и очень богатого рода «именитых людей», обласканных многими русскими царями. В благодарность за оказанную Григорием Строгановым материальную помощь во время Северной войны Пётр I даровал Строгановым баронское достоинство и приумножил их богатство новыми уральскими владениями. Только в пермских уделах у них насчитывалось 44 663 крепостных «налицо», да ещё 33 235 человек в бегах и в мире скитающихся. Но решающую роль в выборе Кочубея сыграло родство Александра с графом Павлом Александровичем Строгановым, одним из членов славного триумвирата — Комитета общественной безопасности, в который входил и сам Кочубей. К тому же племянник известного графа был весьма недурён собой — холодные голубые глаза, правильные черты, красиво очерченный рот, тёмно-русые волосы. Богатый, холёный барин, наверное, ловкий танцор и покоритель дамских сердец… но и только! — сказал о нём И. С. Зильберштейн. Илья Самойлович обнаружил в Париже в собрании А. А. Попова два акварельных портрета работы П. Ф. Соколова — А. Г. Строганова и Идалии Полетики (ныне находятся в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве). Они воспроизведены в его книге «Парижские находки. Эпоха Пушкина». На этих портретах брат и его сводная сестра похожи друг на друга — особенно голубым, пустым взором, — хотя и рождены от разных матерей — Александр от княгини Анны Сергеевны Строгановой, в девичестве Трубецкой, Полетика от португальской графини д’Эга.
Александр Григорьевич не был неучем — он получил образование в корпусе инженеров путей сообщения. По окончании учёбы поступил в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. Прошёл Отечественную войну, сражался под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, участвовал во взятии Парижа. Одним словом — овеянный романтической славой герой. Вполне возможно, Наталья Кочубей вначале была увлечена им.
Женщинам он действительно нравился. Внешний лоск заслонял его духовное убожество. Даже такой проницательный человек, как Долли Фикельмон, не сумела его понять. Они познакомились на одном из маскарадов в феврале 1830 г. Он явно ожидал кого-то и решил, что я и есть эта особа. С этого момента он предавался удовольствию разговаривать с маской, думая, что наконец-то открыл её. Это продолжалось весь вечер, и он вообще так и не догадался, с кем имел дело. Через несколько дней ещё одна запись о нём: С тех пор, как начались маскарады, не могу его видеть без смеха. Разговор с ним меня забавляет. Не знаю, понял ли он, что это была я, но по крайней мере не прикидывается, что понял. А через полтора месяца Долли уже преисполнена к нему дружескими чувствами: Александр Строганов также один из моих любимцев. Мы с ним познакомились на маскараде, и, хотя он не хочет признаться, что узнал меня, с тех пор находит меня достойной его внимания.
Весной 1832 г. вместе с Нессельроде Строганов приехал по делам в Петербург из Варшавы. Фикельмон встречалась с ним в обществе, приглашала к себе в салон. Всегда испытываю удовольствие при встрече с ним. Он поистине изысканный мужчина. Вернулся из Варшавы, но ненадолго. Вновь возвращается туда, так как скоро был назначен начальником отдела внутренних дел. Это настоящее счастье для бедной Польши. — Запись 13 апреля 1832 г. Через месяц с небольшим (21 мая) Фикельмон зафиксировала отъезд Нессельроде и Строганова: Я очень огорчена этим.
В оценке светской дамы граф представляется весьма симпатичной личностью. Очень метко подметил И. С. Зильберштейн: покоритель дамских сердец. Видимо, и Долли не устояла перед его «изысканностью». Я склонна больше верить мнению другого человека, видевшего графа без светской маски, — историка Сергея Михайловича Соловьёва. Его приводит И. С. Зильберштсйн в своём очерке «Муж пушкинской Татьяны»[210]: Люди, хорошо знавшие Строганова, единодушно называют его человеком недалёким и бесталанным. С тяжёлым сердцем вспоминал о нём историк С. М. Соловьёв, который в течение двух лет был воспитателем одного из его сыновей: «Александр Григорьевич Строганов <…> служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I могли достигать высших ступеней служебной лестницы. <…> Имея ум чрезвычайно поверхностный, Александр мечтал, что обладает способностями государственного человека, и не знал границ своей умственной дерзости; с важностью выкладывал какую-нибудь нелепую мысль и старался ею озадачить, упорно поддерживая и обстраивая другими подобными же нелепостями. При этом ни малейшего благородства, деликатности».[211]
Для Герцена Строганов был олицетворением российского беззакония, самоуправства, крепостничества в его самом безобразном проявлении. Девять материалов посвятил он «сатрапу» на страницах «Колокола»! Ещё одна цитата из очерка И. С. Зильберштейна:
В другой заметке Герцен блестяще описал беседу Строганова с депутацией поселенцев, пришедших жаловаться на страшные притеснения земской полиции: «Все их справедливые рассказы о противозаконных действиях полиции Строганов выслушал, не проронив ни слова; все просьбы их о защите не вызывали ни единого слова, граф молчал. <…> [Поселенцы] вышли из себя, и один из них воскликнул:
— Что же, ваше сиятельство! Скажите нам, что делать? Они, пожалуй, и вешать нас начнут! Что же нам тогда делать, наконец?
— Висеть! — отвечал Строганов и проследовал во внутренние апартаменты».[212]
С. М. Соловьёв полагал, что губернаторство, неограниченная власть губернского главы, раболепство русских местных чиновников развратили его. А ведь это — страшное искушение и для порядочного человека, словно в оправдание Строганова замечает историк. Да, горькая правда — власть всегда рождала на Руси самодуров. Особенно при недостатке ума и душевности. А Строганов определённо был неумён. Однажды министр финансов Е. Ф. Канкрин открыто заявил ему об этом.
Вот таким человеком оказался муж женщины, воспетой Поэтом в юности. Чьи черты находят в Татьяне Лариной. К которой до конца жизни Пушкин был полон застенчивой робкой нежности — она одно из его «отношений, и притом рабское» (слова С. Н. Карамзиной). В защиту Долли Фикельмон хочу добавить следующее. Со временем, чаще общаясь со Строгановым, она должна была разочароваться в нём. Во всяком случае, после возвращения в 1834 г. А. Г. Строганова в Петербург — о нём более ни слова в дневнике графини Фикельмон.
Говорят, Н. В. Строганова защищала Пушкина после его смерти с большим жаром. Но вот вопрос — искренне ли была она? Может, прикидывалась? Сомнение порождает её возможная связь с Дантесом… Но о Строганове даже этого не скажешь — его ненависть к Поэту была неприкрытой и лютой. Вряд ли её можно объяснить одной лишь солидарностью с оскорблённой сестрой Полетикой. Скорее всего для неё у генерал-адъютанта были личные мотивы. Его нельзя назвать и близким другом Дантеса. Слишком высоко стоял он на иерархической лестнице. Своей карьере он был обязан отцу, жене, тестю и братьям Валентину — фавориту императрицы — и Сергею, после смерти Валентина в 1833 г. сменившего его в этой роли. Всем, только не своим личным заслугам!
Граф Сергей Григорьевич в отличие от Александра был умнейшим и просвещённейшим человеком своего времени. С 1835 по 1847 г. он занимал пост попечителя московского учебного округа. И эти годы стали блестящей эпохой для Московского университета. Он был председателем Московского общества истории и древностей российских. Под его руководством издана уникальная книга в нескольких томах — «Древности Российского государства». Сам он был автором замечательного труда «Дмитриевский собор во Владимире-на-Клязьме». В 1859 г. основал археологическую комиссию, до конца жизни оставаясь её председателем. Предпринял раскопки на черноморском побережье. Собрал богатейшую коллекцию русских монет… В 1839 г. А. Г. Строганов стал министром внутренних дел, в 1849 г. — членом Государственного совета. Был даже в 1854 г. военным губернатором Петербурга. Но продержался на этом посту лишь один год. А затем Николай I отвратил от него лицо и отослал его подальше от глаз своих — генерал-губернатором новороссийским и бессарабским.
И вновь задаю вопрос: что же сделало Строганова ярым врагом Пушкина? Не он ли переписывал пасквиль и с помощью дружков, по утверждению Александра Трубецкого, рассылал его экземпляры определённым адресатам? Не чувство ли вины за содеянное злодеяние усугубило его ненависть к рифмоплёту, как презрительно называл он Поэта? Злорадное любопытство заставило его приехать в дом к умирающему Пушкину. Весь город, дамы, дипломаты, авторы, знакомые и незнакомые наполняют комнаты, справляются об умирающем. Сени наполнены не смеющими взойти далее[213]. Он увидал там столпотворение народа, скорбные лица, услышал рокот возмущения иностранцем, осмелившимся поднять руку на любимого Поэта. Но всё это в кривом от злобы зеркале его души отразилось совсем иной картиной — скоплением сволочи, разбойничьими лицами. Полученная в Польше полицейская муштровка заставила его немедленно доложить Бенкендорфу о назревающем бунте. А батюшке своему, как известно, дежурившему в это время у шефа тайной полиции, посоветовал не ездить туда — на квартиру Поэта. Бенкендорф моментально распорядился окружить жандармами дом скорби.
Вина угнетала совесть Строганова — не могла не угнетать. Даже самые отъявленные негодяи не застрахованы от её бремени. Но в этой чёрной душе не могло поселиться раскаяние — бремя рождало в ней ещё большее озлобление. Необходимо вот ещё что отметить — ни один из предполагаемых авторов анонимного письма — ни Пётр Долгоруков, ни Иван Гагарин — не питали к Пушкину ненависти. И этот факт говорит сам за себя. В «Памфлетах эмигранта» князь Пётр Владимирович называет его знаменитым Пушкиным, нашим знаменитым поэтом. В сентябрьском номере «Современника» за 1863 г. он выступил с опровержением: Это клевета и только: клевета и на Гагарина, и на меня, Гагарин не мог признаться в том, чего никогда не бывало, и он никогда не говорил подобной вещи, потому что Гагарин человек честный и благородный и лгать не будет. Мы с ним соединены с самого детства узами теснейшей дружбы, неоднократно беседовали о катастрофе, положившей столь преждевременный конец поприщу нашего великого поэта, и всегда сожалели, что не могли узнать имён лиц, писавших подметные письма (подч. мною. — С. Б.).
Князь Иван Гагарин в 1843 г. покинул Россию, принял католичество и поступил в новициат ордена иезуитов, в Ахсоланскую обитель. А затем стал священником общества Иисусова. Человеку, посвятившему себя искреннему и добровольному служению Богу, думаю, следует верить. В его заявлении, опубликованном «Русским архивом» в 1865 г., есть такие слова: В этом тёмном деле, мне кажется, прямых доказательств быть не может. Остаётся только честному человеку дать своё честное слово. Поэтому я торжественно утверждаю и объявляю, что я этих писем не писал. <…> С Пушкиным я был в хороших отношениях; я высоко ценил его гениальный талант и никакой причины вражды к нему не имел.[214]
Давайте представим, следуя логике характера А. Г. Строганова, как бы он отреагировал на подобное обвинение. Думаю, что, как и князь Трубецкой, не стал отпираться и ответил бы в том же духе: это была всего лишь невинная шутка!
Если убрать из диплома зловещий умысел, какой преследовали его инициаторы, он в самом деле выглядел шуткой. Ведь А. Г. Строганов сам был рогоносцем. Это ни для кого не было тайной. Взявшись за исполнение идеи, он добровольно включал и себя в число «кавалеров первой степени, командоров и кавалеров светлейшего ордена рогоносцев». И следовательно, ему нельзя отказать в великолепном чувстве юмора.
А Пушкин, по его мнению, им не обладал. И в заключение Строганов мог добавить: не наша вина, а его беда, что, ослеплённый ревностью, он не понял розыгрыша. Где здесь бесчестие, смываемое только кровью? Он был шельмой, кинжальщиком. Вот уж поистине, за что боролся, на то и напоролся! А про себя, возможно бы, добавил: «Собаке — собачья смерть!» Всё это вполне соответствовало натуре гоголевского губернатора.
Приговор «тройки»
И всё-таки я не утверждаю, что Строганов был инспиратором пасквиля. Исполнителем — да! Но по чьей идее?
Подошло время вспомнить о женщине, бывшей в связи с Дантесом. Пока не будем выяснять её имя. И вослед Дантесу называем её просто «Супругой». В ноябре 1835 года Жорж порывает с ней. До приезда Геккерена в мае 1836 г., вероятно, перебивается случайными связями. Папаша утешает, успокаивает сыночка. И он начинает подыскивать себе в салонах Петербурга кандидатку на роль невесты. В августе вновь возобновляет волокитство за Натали. Но одновременно ведёт атаку и на других фронтах — княжна Барятинская, Екатерина Гончарова. Хотя мы и приняли версию, что этих двух использовал в качестве ширмы. Не будем исключать и вероятность, что с «Супругой» в силу французского нрава сохранил дружеские отношения. И вполне вероятно, исповедовался ей в своей несчастной любви к Пушкиной. Это тоже было в его стиле — не щадить чувства своих возлюбленных. Во всяком случае так поступал с беззаветно любящим его Геккереном. А теперь попробуем представить предноябрьское поведение Дантеса. Вновь охваченный страстью, усугублённой отказом Натальи Николаевны, он уже не просит, а настойчиво требует от Геккерена выступить в роли сводни. При этом диктует ему способы воздействия на Натали. Точно так же, видимо, поступал и со своей бывшей любовницей. Он умел, подобно кобре, гипнотизировать свои жертвы. И они становились безропотными исполнителями его желаний. Когда избалованному дитяти не дают любимую игрушку, он падает на пол, кричит и дрыгает ножками. Жорж тоже бился в истерике после злополучного свидания с Натали в доме Полетики. Беззаветно преданная «Супруга» возмущённо негодует — как можно отказать прекрасному, бесценному Жоржу, которому свойственно всё, что только может быть доброго и благородного на свете! (Слова Полетики из письма Е. Гончаровой.)
Есть такая редкая порода женщин, и она, вероятно, заслуживает самого искреннего восхищения — увы! — нам, просто смертным, трудно их понять. В этой связи мне вспомнился анекдот из жизни академика Ландау. Великий физик и математик был, что называется, юбочником. Его не менее великая Супруга (она поистине достойна написания с большой буквы!) поощряла эту маленькую слабость Любимого. Как-то раз снаряжала она Льва Давыдовича в очередной амурный поход — пригладила, прихорошила, поправила искривлённый галстук и отправила с богом, пожелав при этом удачи. Через полчаса взлохмаченный, растрёпанный, с вновь съехавшим набок галстуком, разъярённый муж врывается домой, крича и изрыгая проклятия. «Что случилось, дорогой?» — встревожено бросилась к нему Супруга. «Подумай только, родная, он спустил меня с лестницы!» — «Кто он?» — «Он, её муж! Звоню, держу цветочки наготове. А вместо неё он открывает дверь, хватает меня за шиворот, толкает с лестницы и вслед букетиком по голове»! — «Ах, какой негодяй! Да как он посмел, мерзавец, в тебя букетом! Вот я ему покажу!» И Супруга нежно стала утешать всхлипывающего от обиды Ландау.
Шутки шуточками, но, надо полагать, «Супруга» Дантеса отреагировала точно так же на возмущённый рассказ Дантеса о поведении Натали в доме Полетики. Мы воспроизвели хронику событий вплоть до возмутительного, с угрозами, разговора Геккерена с Пушкиной 2 ноября. Но не располагаем сведениями о том, что произошло дальше, в тот промежуток в полтора дня между объяснением у Лерхенфельдов и получением Пушкиным анонимных писем. Трепещущая от волнения Наталья Николаевна уехала сразу же домой. Геккерен, вероятно, последовал её примеру — его ожидал, сгорая от нетерпения, Дантес. Геккерен ко всему прочему должен был, если представится возможность, просить Пушкину согласиться на новую встречу с сходящим с ума сыном. Верная «Супруга», должно быть, дежурила возле ненаглядного, успокаивая, как могла. Возвращается Геккерен с неутешительной вестью. Ваша мать отвечала на это решительным отказом (свидетельство Александрины из письма барона Фризенгофа Араповой). Дантес сыплет проклятиями. «Супруга» возмущённо требует проучить «кривляку». Тройка начинает обсуждать варианты мести. Выручает, как всегда в подобных случаях, женщина. Что и говорить, слабый пол по природе более находчив по этой части. «Супруга» вспоминает о полученных посланником венских дипломах. «Эврика!» — воскликнул хитрая лисица Геккерен и отдал должное женской изобретательности. Итак, решено: диплом о рогоносцах приспособить к случаю. Это взбесит Пушкина. Он устроит жене сцену. Обиженная обвинением Натали бросится искать утешения у Дантеса. Несправедливость мужа, возможно, заставит её наконец решиться на то, от чего до сих пор её удерживало благородство Пушкина. Естественно, дипломату и кавалергарду не к лицу марать себя такими не достойными их положения штучками. Стали обдумывать, кому можно поручить исполнение. «Супруга» вновь пришла на помощь — молодые офицеры, вертящиеся вокруг Геккеренов, с радостью примут участие в этой забаве. Только не надо посвящать их в подробности. Преподнести им это как невинную шутку — потешиться над мужьями-рогоносцами в подражание венским весельчакам. А чтобы их ввести в заблуждение, было намечено несколько петербургских носителей этого звания. Пусть напишут и им, а мы отошлём только Пушкину. Так порешила тройка.
На другой день, 3 ноября, Геккерен, должно быть, устроил завтрак. Пригласил Петра Урусова, Константина Опочинина, Александра Строганова, Петра Долгорукова, князя Трубецкого. Ещё один человек должен был присутствовать в этой компании — С. С. Уваров. Пресловутый министр народного образования — большой негодяй и шарлатан (выражение Пушкина) — был известен своим развратом. После смерти Пушкина его имя упоминалось в числе авторов пасквиля. 20 мая 1899 г. известный беллетрист, журналист и издатель А. С. Суворин записал в своём дневнике разговор о Пушкине с П. А. Ефремовым, литературоведом и библиографом: Убийцы Пушкина — Бенкендорф, княгиня Белосельская и Уваров. Ефремов выставил их портреты рядом на одной из прежних пушкинских выставок[215].
Это была эпоха культа эроса. Его главная жрица — великая Екатерина. Легкомысленные нравы XVIII века ещё долго господствовали и XIX веке. Повальное увлечение гомосексуализмом в 30-х годах было всё той же данью бессмертному богу. В то время в высшем обществе было развито бугрство, — признался в старости князь Трубецкой. Дом Геккерена превратился в гомосексуальный центр Петербурга. Здесь встречались служители культа извращённой любви, подбирались партнёры. Посланник исполнял роль магистра этой братии, эдакого зловещего Бафомета. Он ловко использовал свои сексуальные связи и для карьеры Дантеса, и для получения политической информации. В конечном счёте зачислением в Кавалергардский полк Дантес был обязан попечительству генерал-адъютанта И. О. Сухозанета, «героя» Польской компании 1831 г. «Геройство» было заслужено потерей ноги в сражении под Варшавой. Это прискорбное обстоятельство принесло безногому генералу пост «директора Пажеского и всех сухопутных корпусов и Дворянского полка и члена военно-учебного комитета» и отнюдь не охладило его гомосексуального пыла. Воспитание молодёжи доверено скоту, подлецу и мерзавцу (выражение А. О. Смирновой-Россет). Общество роптало. Отголосок этого у Пушкина в дневнике: Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости — 1. Выбор Сухозанета, человека запятнанного, вошедшего в люди через Яшвиля, педераста и отъявленного игрока, товарища Мартынова и Никитина. Государь видел в нём только изувеченного воина и назначил ему важнейший пост в государстве, как спокойное местечко в доме инвалидов… Пушкину вторил А. И. Тургенев: Вечер с Жуковским, Смирновыми… Под конец ужасы Сухозанетские, рассказанные Шевичевой, возмутили всю мою душу (запись в дневнике 24 ноября 1834 г.). Сухозанет лично занялся «подготовкой» геккереновского «сыночка» к офицерским экзаменам. Генерал Сухозанет сказал мне сегодня, дорогой барон, что он рассчитывает подвергнуть вас экзамену сейчас же после Крещения и что он надеется обделать всё в одно утро. <…> Генерал уверил меня, что он уже велел узнать у г. Геккерена, где вас найти, чтобы уведомить вас о великом дне, когда он будет фиксирован; вы хорошо сделаете, если повидаете его и попросите у него указаний. Он обещал мне не быть злым, как вы говорите; но не полагайтесь слишком на это, не забывайте повторить то, что вы выучили. Желаю вам удачи. Ваш Адлерберг[216], — писал Дантесу один из могущественных людей империи — директор канцелярии Военного министерства, генерал-майор граф В. Ф. Адлерберг. Просто диву даёшься рвению, с которым пеклись о делах какого-то незначительного француза высшие российские сановники! Вот уж поистине — миром правит Сатана!
Стараниями обоих — Адлерберга и Сухозанета — Дантес был освобождён от экзаменов по трём предметам — русской словесности, уставу и военному судопроизводству — и зачислен 14 февраля 1834 г. корнетом в Ея Императорского Высочества Кавалергардский полк.
Но вернёмся к завтраку у Геккерена. Прижимистый посланник раскошелился — не пожалел для столь важного случая заморских вин. Шутили, балагурили, рассказывали анекдоты. Геккерен вдруг «вспомнил» о привезённых им из-за границы венских дипломах. Притащил целую пачку. Читал и забавлял ими молодёжь. Вот, дескать, как веселятся в цивилизованной Австрии. А чем мы хуже, сказал кто-то из подвыпивших офицеров. Скорее всего эта идея «пришла в голову» заранее обработанному Строганову. Сказано — сделано. Тут же приступили к исполнению.
Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх…
Кто переписывал дипломы — сами ли участники сходки или полуграмотный лакей Геккеренов (эксперты отмечали: написано кривым лакейским почерком), — в данном случае это не столь важно. Строганов взял на себя рассылку подмётных писем по другим рогоносцам и, конечно же, не отправил их. Остальным достались Пушкин и предварительно намеченные тройкой его друзья из карамзинского кружка. Геккерен принёс дипломатический список адресов. Письма были отнесены в ближайшую к дому посланника лавку — только что введённая в Петербурге почтовая служба использовала магазинчики мелких торговцев для сбора писем. Вечером их оттуда забирали служащие почты. А утром развозили по адресам. Таким образом, 4 ноября до полудня экземпляры пасквиля уже были получены Поэтом и его друзьями — Вяземским, Карамзиными, братьями Россет, Хитрово, Михаилом Виельгорским, А. И. Васильчиковой — тёткой Соллогуба, у которой он жил, — «семь или восемь» адресатов, по подсчётам самого Пушкина.
Вполне вероятно, что всё именно так и было. Хотя вышеописанное всего лишь сконструированный мною вариант возможного эпизода с анонимными письмами. В нём есть одна неувязка — почему далеко немолодой, солидного возраста (в ту пору ему без малого — сорок один год) генерал-майор и товарищ министра внутренних дел А. Г. Строганов затесался в эту компанию молодых легкомысленных офицеров? Почему он, а не кто иной был избран доверенным лицом зловещей тройки? Во-первых, потому что он был сводным братом Идалии Полетики, близкой приятельницы Дантеса, а через него приятелем и Геккерена. А во-вторых… Но об этом дальше. Пока могу лишь сказать, что это «во-вторых» непосредственно связано с моей версией «тайной Супруги» Дантеса.
Тайная Супруга Дантеса. Версия I
В понедельник 27 августа 1834 г. кавалергарды Григорий Скарятин и Михаил Петрово-Солово у себя на квартире в Новой деревне устроили вечеринку с танцами.
В избранном кругу отмечали бракосочетание сестры Михаила — Наталии — с Ланским. Веселились, танцевали до упаду — Екатерина Тизенгаузен в самом деле упала в обморок. На этом прекрасном, перворазрядном парти присутствовала Долли Фикельмон с матерью, сестрой Екатериной и кузинами Лили Захаржевской, Натальей Тизенгаузен, Мими Опочининой. Среди других дам были подруга Долли Текла Шувалова и Идалия Полетика. Кавалеры — отобранные кавалергарды, дипломаты Литта и Лихман — из австрийского и Брей — из баварского посольств. Почти наверняка среди отобранных кавалергардов были Дантес с Трубецким. К Дантесу Фикельмон не проявляла никакого интереса — ему, в отличие от Геккерена, ни единой строчки в дневнике. Впервые имя Дантеса встречается в рассказе Долли о гибели Пушкина.
Другая участница вечеринки — Полетика упоминается ещё раз в ноябрьской записи 1831 года. На балу у князя Кочубея она обратила на себя внимание Долли. (Это доказывает, что Полетика, вопреки установившемуся мнению, вращалась в высшем свете! В 1829 г. она вышла замуж за тамбовского помещика А. М. Полетику, по словам А. О. Смирновой, человека очень хорошего рода, да ещё с прекрасным состоянием. Есть сведения, что первые годы молодожёны провели в тамбовском имении и в начале 1831 г. вернулись в Петербург.) По необъяснимой прихоти судьбы из всех дам на балу только двух — Натали и Идалию — выделила «сивилла» Фикельмон. Что это — интуиция или всего лишь интерес к новым особам, недавно появившимся в светском обществе? Но в её дневнике они оказались рядом. Отдав дань восхищения поэтичной красоте Пушкиной, Долли сразу же, без перехода, словно зная наперёд, что эти два имени навечно соединены, приводит описание внешности Идалии: Мадам Полетика — красивая и одновременно некрасивая женщина. Ни одной привлекательной черты в этом лице, ничем не примечательная талия. И всё-таки её можно назвать красивой. — Запись 5 ноября 1831 г.
Женщина просто красивая. Безличная или, точнее, невзрачная, как сказала о ней В. Вяземская (в записи П. И. Бартенева). Тем не менее самоуверенность, весьма злой язык, кокетство обеспечивали ей всюду постоянный несомненный успех (воспоминание князя А. В. Мещерского). Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, весёлостью и живостью характера, — писала о ней Арапова, вероятно, со слов матери. Впрочем, во имя объективности должна привести совсем противоположное мнение о её внешности: Эта молодая особа была очаровательна, умна, хорошо воспитана; у неё были большие синие глаза, нежные и пикантные (А. Смирнова-Россет).
В моём списке Идалия Полетика — первая кандидатка в «Супруги» Дантеса. Впервые о её роле догадался Бартенев: Есть повод думать, — замечает Бартенев, — что Пушкин, зная свойства г-жи Полетики, оскорблял её и что она, из чувства мести, была сочинительницей анонимных писем, из-за которых произошёл роковой поединок[217]. Высказанное сто лет назад предположение — всего лишь логическое заключение Бартенева. Никаких доказательств тогда у него не было. Теперь пушкинистика располагает письмами Полетики из архива Дантесов — очень милы и могут прекрасно трактоваться как письма женщины любящей и по-прежнему любимой — комментарий барона Клода Дантеса.
Аргументы в пользу версии «Полетика»
1. Свидетельство Александры Осиповны Смирновой-Россет: Дантес никогда не был влюблён в Натали; он находил её глупой и скучной. Он был влюблён в Идалию и назначал ей свидания у Натали, которая служила им ширмой в течение двух лет. Её дружбу с Натали и эту внезапную нежность никто не понимал, так как прежде она жестоко потешалась над нею.[218] Это сообщение правдоподобно лишь по отношению к Дантесу и Полетике. Александра Осиповна находилась в Петербурге до весны 1835 г. В апреле 1835 г. её муж получил назначение в русское посольство в Берлине, затем был переведён в Париж. Смирновы вернулись в Россию через два с половиной года, уже после смерти Пушкина. О дальнейшем — увлечении кавалергарда Пушкиной, преддуэльных событиях — Александра Осиповна не могла свидетельствовать. О дружбе Натальи Николаевны и Идалии она говорит и в своих мемуарах. При этом отмечает — они занимались в основном болтовнёй и туалетами. Болтали о своих светских успехах, о кавалерах. Дантес приезжал к Пушкиным — вначале ради Полетики. Пушкину уже тогда казалось — из-за Натальи Николаевны. Вот почему в письме к Геккерену от 21 ноября 1836 г. Пушкин писал о двухлетнем постоянстве Дантеса.
2. Отрывок из письма[219] Полетики Дантесу — февраль 1837 г.
Бедный мой друг. Ваше тюремное заключение заставляет кровоточить моё сердце. Не знаю, что бы я дала за возможность прийти и немного поболтать с вами. Мне кажется, что всё то, что произошло, — это сон, но дурной сон, если не сказать кошмар, в результате которого я лишена возможности Вас видеть. <…> Все эти дни была подготовка парада, который происходит в данный момент. <…> Что касается меня, то я там не была, потому что мне нездоровится, и Вы будете смеяться, когда я Вам скажу, что я больна от страха. <…> Прощайте, мой прекрасный и добрый узник. Меня не покидает надежда увидеть Вас перед Вашим отъездом. Ваша всем сердцем. Для этого письма возможен единственный комментарий — слишком много страсти для дружеского послания.
3. Записка Полетики арестованному Дантесу:
Вы по-прежнему обладаете способностью заставлять меня плакать, но на этот раз слёзы благотворные, ибо Ваш подарок на память меня как нельзя больше растрогал, и я не сниму его больше с руки; однако таким образом я рискую поддержать в Вас мысль, что после Вашего отъезда я позабуду о Вашем существовании, но это доказывает, что Вы плохо меня знаете, ибо если я кого люблю, то люблю крепко и навсегда.
Итак, спасибо за Ваш добрый и красивый подарок на память — он проникает мне в душу.
Мой муж почивает на лаврах. Парад прошёл великолепно; он имел полный успех. На параде присутствовала императрица и множество дам.
До свидания, я пишу «до свидания», так как не могу поверить, что не увижу Вас снова. Так что надеюсь — «до свидания».
Прощайте. Не смею поцеловать Вас, разве что Ваша жена возьмёт это на себя. Передайте ей тысячу нежных слов. Сердечно Ваша.
Коварство и любовь. Уж так повелось, что эти два понятия почти всегда рядом. Зловещая красавица, злоязычная, злодейка — какими только эпитетами не награждали Полетику! И это всё верно, как верно и то, что она умела преданно и беззаветно любить. Что была несчастлива в браке с божьей коровкой, как называли её мужа. Что сердце всякой женщины нуждается в любви и ласке. Чёрное и белое, добро и зло — неотъемлемые свойства человеческого существа. И как говорят душеведы — всё зависит, какой своей стороной повёрнут к тебе человек.
4. Из письма Екатерины Гончаровой-Дантес мужу — 19 марта 1837 г.:
…Идалия приходила вчера на минуту с мужем, она в отчаянии, что не простилась с тобой, говорит, что в этом виноват Бетанкур. В то время, как она собиралась идти к нам, он ей сказал, что будет поздно, что ты, по всей вероятности, уехал. Она не могла утешиться и плакала, как безумная.
5. Из семейного архива барона Клода Геккерена д’Антеса. Полетика — Екатерине Дантес, 3 октября 1837 г.: Ваше письмо доставило мне большую радость. Вы счастливы, мой друг, и за это слава Богу. Я-то, которая хорошо знаю Вашего доброго Жоржа и умею его ценить, никогда ни на минуту в нём не сомневалась, ибо всё, что только может быть доброго и благородного, свойственно ему. <…> Скажите от меня вашему мужу все самые ласковые слова, какие придут Вам в голову, и даже поцелуйте его, — если у него ещё осталось ко мне немножко нежных чувств.
6. Идалия — Екатерине, 8 октября 1841 г.: Передайте тысячи добрых слов барону и поцелуйте за меня Вашего мужа. На этом расстоянии Вы не можете ревновать, не правда ли, мой друг?
Только этих эпистолярных документов достаточно, чтобы заключить: Идалия Полетика и была тайной «Супругой» Дантеса, с которой он порвал в ноябре 1835 г., воспылав страстью к прекрасной Пушкиной. Но для категоричного вывода необходимо подтвердить самый главный, указанный Дантесом, факт: в августе 1835 г. у этой женщины умер ребёнок.
У Полетики было две дочери — Елизавета и Юлия (названная в честь бабушки — Юлии Павловны Строгановой — графини д’Эга — ещё одно указание на то, что она была матерью Идалии) — и сын Александр. С детьми ей не везло — младшая дочь Юлия и сын умерли в младенчестве. Дети часто болели. В начале лета — балы, празднества, прогулки, затем весьма серьёзная болезнь моей дочери, которую я чуть было не потеряла, — письмо Екатерине Дантес от 3 октября 1837 г. Речь шла о старшей дочери Елизавете, той самой, которая вышла замуж за какого-то иностранца. Дальнейшие следы её теряются. Александр родился 14 октября 1835 года. Если допустить, что Полетика была вопросной «Супругой», то этот ребёнок мог быть от Дантеса. Он умер 20 марта 1838 г. Я имела несчастье потерять ещё (подч. мною. — С. Б.) одного ребёнка (Александра. — С. Б.) трёх лет в прошлом году, и этот удар меня сразил, — сообщала Идалия Е. Дантес 18 июля 1839 г. Согласно данным Л. Черейского, Юлия умерла 19.1.1833 года в возрасте двух с половиной лет.
Я не знаю, каким источником пользовался Черейский. В сборнике кавалергардов (том III) помещена биография ротмистра Александра Михайловича Полетики, но в ней нет данных о его детях, за исключением указания — в 1845 году имел дочь 12 лет. В замечательном труде Черейского «Пушкин и его окружение» — настольной книге каждого пушкиниста, — к сожалению, немало разночтений с другими биографическими справочниками, особенно в отношении дат жизни современников Пушкина. Виной тому ошибки в самих первоисточниках — российских родословных книгах. Просматривая их, я часто сталкивалась с расхождениями в сведениях даже о представителях знатных русских родов. Возьмём, к примеру, графиню Н. В. Строганову. Её даты жизни у В. Вересаева — 1801—1855. В указателе к книге П. Щёголева — 1800—1854; у Черейского — 10.Х.1800—24.VIII.1854. П. Губер в «Донжуанском списке Пушкина» приводит другой день её смерти — 22.1.1855. Кому же верить? Если даже к отпрыскам таких именитых фамилий допускалась подобная небрежность, то что говорить о не столь знатном роде Полетики. Давайте предположим, что именно подобный казус произошёл и в случае с маленькой Юлией. Скажем, небрежный переписчик прошлого века ошибочно прочитал в каком-нибудь рукописном послужном формуляре дату смерти дочери А. М. Полетики и вместо 1835 года написал 1833 год — цифру «5» очень легко спутать с цифрой «3». Уточнить теперь невозможно — всё кануло в лету забвения. Известно, что свой богатейший архив А. Г. Строганов незадолго до смерти вывез на восьми телегах и приказал потопить в море. А в нём, бесспорно, были и личные документы Полетики — письма к ней родственников, друзей, Дантеса, крещальные свидетельства её самой и детей, документы покойного мужа. Как бы всё это пригодилось нам сейчас! Помогло бы утвердить или отвергнуть Полетику в роли «Супруги» Дантеса. И разрешить загадку анонимных писем. А может быть, поставить последнюю точку над i в преддуэльной истории. Но ещё не всё потеряно — остаётся надежда на церковные книги, в которых записывались крещенье, свадьбы, отпевание усопших. Они хранятся в Историческом архиве Петербурга. Итальянская исследовательница Витале не смогла получить к ним доступ — архив на несколько лет закрыт на реставрацию. И я вынуждена продолжать логическую аргументацию в пользу своей версии.
7. Допустим, что моя догадка верна. В таком случае позволю построить следующий силлогизм.
Посылка первая — Полетика была «Супругой» Дантеса.
Посылка вторая — она беззаветно предана своему возлюбленному, даже после того, как он увлёкся другой (если я кого люблю, то люблю крепко и навсегда).
Вывод: Полетика должна принять участие в отмщении Пушкину — составлении анонимных писем.
Выше я предположила, что именно ей пришла в голову эта идея. Но дабы никто не заподозрил «тройку» в причастности к пасквилю, необходимо было принять меры предосторожности. Припомню в этой связи догадку П. Е. Щёголева: Мы уже говорили о том, что обвинения Геккерена в сводничестве вряд ли имеют под собой почву. Но были добровольцы, принявшие на себя эту гнусную обязанность. К таковым молва упорно причисляет Идалию Григорьевну Полетику.[220] Щёголев ошибался в отношении Геккерена. Оставаясь главным режиссёром, проваренная в интригах старая дипломатическая лисица (выражение А. Ахматовой) умело спрятала концы в воду — на должность помощника режиссёра избрали сводного брата Полетики — Александра Строганова. Брат и сестра были в очень дружеских отношениях. Они сохранили их до конца жизни — у него, а не у других своих братьев — Сергея, Николая и Алексея, она поселилась после смерти мужа. Строганов знал о любви Полетики к Дантесу и, вероятно, лелеял надежду с помощью анонимки скандализировать Пушкину и вернуть Жоржа страдающей сестре. Вот вам и вторая причина, заставившая Строганова принять участие в заговоре против Поэта. Каждый из заговорщиков преследовал свои цели!
Итак, мой вывод, Идалия — генератор идеи пасквиля. Но переписывал его (или руководил перепиской), отсылал братец А. Строганов. Далее следуют непредвиденные «тройкой» события — первый вызов на дуэль, женитьба Дантеса, вторая дуэль. Смертельно раненный Пушкин. Уведомление об этом императора. Его неожиданная благосклонность к Пушкину. Его наказ Жуковскому утром 28 января: Тебе же поручаю, если он умрёт, запечатать его бумаги: ты после их сам рассмотришь (Жуковский в письме С. Л. Пушкину). А в них должны быть экземпляры пасквиля. Сколько из отправленных по разным адресам было передано Поэту, банда Геккерена тогда ещё не знала. Панический страх А. Г. Строганова — его могут распознать по почерку. На воре шапка горит! Хотя, как видим, за минувшие 160 лет никому в голову не пришла подобная мысль.
Заговор Тайной полиции
Вечером в доме голландского посланника у постели раненого Дантеса собрались заговорщики. Присутствовали и старшие Строгановы — Григорий Александрович и Юлия Павловна, а также супруги Нессельроде. Опытный дипломат Геккерен лучше других понимал, чем всё это может кончиться и для любимого сыночка, и для него самого, и, возможно, для Александра Строганова. Ситуация вынуждает Александра признаться родителям в своём участии в пасквиле. Их беспокойство, непонятная активность. Мать дежурит в доме умирающего Поэта, следит, чтоб не выкрали бумаги — ведь в них улики против сына. Сын приезжает туда, чтобы самому оценить ситуацию. Докладывает шефу жандармов о назревающем бунте, требует прислать жандармов. Отец неотлучно при Бенкендорфе. Ждёт очередных донесений из дома смертной тревоги.
Студенты — Павел Вяземский и его друг П. П. Ш. — решили увидеть портрет Пушкина работы Кипренского. Почтенная дама — а это была Строганова — выпорхнула в другую комнату и с ужасом объявила, что шайка студентов ворвалась в квартиру для оскорбления вдовы[221]. О том же рассказывала Бартеневу В. Вяземская: «Придите, чтобы помочь мне заставить уважать жилище вдовы». Эти слова графиня Юлия Строганова повторила неоднократно и даже написала о том мужу в записке[222]. Животный страх доводил её до истерики. Ей, как и её сыну, повсюду мерещились бандиты, которые собираются выкрасть какие-то бумаги покойного. В ужасе она плохо соображала. Об этом потом иронично скажет Жуковский: высокопоставленное (доверенное) лицо не подумало, что, конечно, не в его роли (!!!). Дело в том, что в то же утро она увидела в шляпе Жуковского три пакета и немедленно сообщила Бенкендорфу об их похищении Жуковским. Жандармский генерал Дубельт потребовал от него отчёта.
Жуковский — Бенкендорфу: …на меня уже был сделан самый нелепый донос. Было сказано, что три пакета были вынесены мною из горницы Пушкина. При малейшем рассмотрении обстоятельств такое обвинение должно было бы оказаться невероятным. <…> Итак, похищение могло произойти только в промежуток между 6 часами 27-го числа и 10 часами 28-го числа. С этой же поры, то есть с той минуты, как на меня возложено было сбережение бумаг, всякая утрата их сделалась невозможною. Или мне самому надлежало сделаться похитителем, вопреки повелению моего государя и моей совести. (…) Итак, какие бумаги и где лежали, узнать было и не можно и некогда. Но я услышал от генерала Дубельта, что ваше сиятельство получили известие о похищении трёх пакетов от лица высокопоставленного (неточно переведено с французского как лица доверенного. — С. Б.). Я тотчас догадался, в чём дело. Это высокопоставленное (доверенное. — С. Б.) лицо могло подсмотреть за мною только в гостиной, а не передней, в которую вела запечатанная дверь из кабинета Пушкина, где стоял гроб его и где мне трудно было действовать без свидетелей. В гостиной же точно в шляпе моей можно было подметить не три пакета, а пять; жаль только, что неизвестное мне высокопоставленное (доверенное. — С. Б.) лицо не подумало, что, конечно, не в его роли, то хотя для себя узнать какие-нибудь подробности, а поспешило так жадно убедиться в похищении и обрадовалось случаю выставить перед правительством свою зоркую наблюдательность насчёт моей чести и своей совести. Эти пять пакетов были просто оригинальные письма Пушкина, писанные им к его жене, которые она сама вызвалась дать мне прочитать, я их привёл в порядок, сшил в тетради и возвратил ей[223].
Жуковский тактично не назвал Бенкендорфу имени «высокопоставленного» лица. Будучи человеком высокой нравственности, он тяжело переживал это оскорбление и с болью рассказывал о нём своим близким друзьям. Это подтверждает запись в дневнике А. И. Тургенева от 17 февраля 1837 г.: Вечер у Бравуры с Жук. и к Гагар., оттуда к Валуевой, там. Велгур. Жук. о шпионах, о гр. Юлии Строг., о 3—5 пакетах, вынесенных из кабинета П. Жук-м. Подозрения. Графиня Нессельроде…[224]
Если деликатный, осторожный Жуковский назвал Ю. Строганову шпионкой, можно не сомневаться — так оно и было. Друзья Поэта были убеждены — она приставлена Бенкендорфом. Никто не догадывался, что графиня прежде всего преследовала свои интересы — не допустить изъятия документов кем-нибудь из приятелей Пушкина. Строганова знала — Жуковский был его ближайшим другом. Она сумела поколебать доверие к нему Бенкендорфа, а через него и царя. Супруги Нессельроде, друзья и благодетели Геккеренов помогали в этом Строгановым. Страдавшего подозрительностью шефа жандармов легко было поймать на эту удочку. К Жуковскому немедленно был приставлен для разбора документов Дубельт.
Письмо Бенкендорфа — Жуковскому: Наконец, приемлю честь сообщить вашему превосходительству, что предложение рассматривать бумаги Пушкина в сём кабинете было сделано мною до получения второго письма вашего, и единственно в том предположении, дабы, с одной стороны, отклонить наималейшее беспокойство от госпожи Пушкиной, с другой же, дать некоторую благовидность, что бумаги рассматриваются в таком месте, где и нечаянная утрата (подч. мною. — С. Б.) оных не может быть предполагаема. Но как по другим занятиям вашим вы изволили находить эту меру для вас затруднительною, то для большего доказательства моей совершенной к вам доверенности я приказал генерал-майору Дубельту, чтобы все бумаги Пушкина рассмотрены были в покоях вашего превосходительства[225].
Следовательно, около недели архив Пушкина находился в кабинете шефа Третьей канцелярии — при особом старании достаточный срок, чтобы изъять анонимные письма, а может, ещё кое-что интересовавшее полицию.
Отрывок из чернового письма Жуковского императору Николаю Павловичу: …С глубочайшей (радость) благодарностью принял я такое повеление, в коем выразилась и милостивая личная ваша доверенность ко мне, и ваша отеческая заботливость о памяти Пушкина, коему хотели вы благотворить и за гробом. Впоследствии (это переменилось. Теперь разбирает со мной) это распоряжение переменилось. (Чиновник жандармской полиции помогает) генералу Дубельту поручено помогать мне. (По-настоящему в этом деле я лишний).[226]
Чудовищный спрут душил Поэта всю жизнь. Он безуспешно пытался вырваться из его смертельных объятий. Началось удушье. Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни. Анонимные письма самого гнусного характера обрушились на Пушкина, — пишет мужу задушевная подруга императрицы С. Бобринская 25 ноября 1836 г. А чудовище наслаждается и ждёт момента, когда оно сможет поглотить обречённого. Ему предоставляется возможность спасти его. Но зачем? Это противно его намерениям. И жандармы будто бы «по ошибке» направляются для предотвращения поединка совсем в другую сторону — в Екатерингоф. И вот оно свершилось — Поэт смертельно ранен! Но щупальца не выпускают жертву — дом умирающего оцеплен полицией. Пикеты были выставлены и на соседних улицах — боялись толпы и беспорядков! Мёртвая хватка не разжалась и после её гибели. Накануне отпевания в доме Пушкина собрались самые близкие — друзья и родственники — отдать последнюю почесть умершему. И тут целый корпус жандармов бесстыдно ворвался в маленькую гостиную. А само отпевание, дабы избежать манифестации при выражении чувств …которые подавить было бы невозможно, а поощрять их не хотели[227], по распоряжению шефа жандармов было проведено не в Исаакиевском соборе — о чём заранее было оповещено, а в придворной церкви на Конюшенной. Тайно, в полночь, без факелов, в сопровождении жандармского конвоя переносят туда тело покойного. И ограждают церковь двойным нарядом полиции — дабы не допустить посторонних. Об этом — в конспективных записях Жуковского о дуэльных событиях: Его смерть. Слухи. Студенты. Мещане. Купцы, речи. Граф Строганов. Нельзя же остановить многие посещения. Фрак. Вынос и жандармы. Перемена церкви удвоенное дежурство толки народ на площади оскорблен[ие].[228]
Самый преданный из друзей Пушкина Жуковский не выдерживает. Он решается вступить в схватку со спрутом. Хотя прекрасно понимает, сколь безнадёжно сопротивление злу. Но молчать он не мог — высказать истину во имя Истины было для него единственной возможностью дальнейшего достойного существования, нравственным долгом, повелением чести. И своего рода покаянием — за себя, за друзей Пушкина, за весь народ. С гневом, болью, возмущением бросает он в лицо главного палача обвинение в его гибели. Называет злодеяния, которые погубили Поэта: слежку, перлюстрацию писем, бесконечные выговоры — то за неиспрошенную отлучку из Петербурга, то за недозволенное чтение друзьям своих произведений, запрещение выезда за границу, отказ доступа к архивам, если переселится с семьёй в деревню. Но вся чудовищность этого преступления так и не открылась до конца Жуковскому. Ему остались неведомы действия полиции после смерти Пушкина: заметание следов преступления — сокрытие пасквиля, фиктивные поиски его составителей вопреки распоряжению императора. Жуковский поверил в версию, что Пушкин уничтожил анонимные письма. Хотя здравый разум говорит — не мог Поэт лишиться такого важного свидетельства о причастности к ним Геккеренов. Но факт бесспорен — они не обнаружены в бумагах Пушкина и не значатся в составленной Жуковским описи.
Напомню, что Василий Андреевич разделил все документы на три категории: переписка, деловые бумаги, сочинения. Из черновика его письма к царю узнаем, что он не читал ни одного из писем, а предоставил это исключительно генералу Дубельту. Всё это — следствие заговора Бенкендорфа — Строгановых. Они боялись, что пасквиль попадёт в руки Жуковского. А он покажет его императору. Ведь в нём — намёк на самого царя. И это самое страшное. Царь обязательно потребует расследования. И тогда… Нет, об этом страшно даже подумать. Вот почему графиня Строганова немедленно донесла о взятых Жуковским трёх пачках каких-то бумаг! Это доказывает — полиции Строгановы не боялись: там были свои люди. Самый главный жандарм страны Бенкендорф был на их стороне. Можно не сомневаться — он одобрял действия заговорщиков. Ведь они помогли спруту поглотить надоевшего ему беспокойного Поэта. Много лет спустя Александр II в личном разговоре со своим тёзкой Александром Александровичем Пушкиным признался: Двор не мог предотвратить гибель поэтов (речь шла о Пушкине и Лермонтове. — С. Б.), ибо они были слишком сильными противниками самодержавия и неограниченной монархии, что отражалось на деятельности трёх защитников государя — Бенкендорфа, Мордвинова и Дубельта — и не вызвало у них необходимости сохранить жизнь поэтам.[229] Всё остальное, что может быть сказано о Бенкендорфе, тускнеет перед этим изречённым самим императором обвинением главному палачу Пушкина.
Но кто изъял пасквиль в те несколько дней, когда бумаги Пушкина находились в кабинете самого Бенкендорфа? Этот некто должен быть доверенным и при этом высокопоставленным лицом из самой полиции. Этим человеком, бесспорно, был Дубельт. Именно он беззастенчиво изучал всю переписку Пушкина — Жуковский деликатно отказался от чтения чужих писем. Много лет спустя князь П. Долгоруков, которого обвинили в авторстве диплома, писал: Начальнику III отделения, по официальному положению его, лучше других известны общественные тайны. Л. В. Дубельт никогда не обвинял ни Гагарина, ни меня по делу Пушкина. Когда в 1843 г. я был арестован и сослан в Вятку, в предложенных мне вопросных пунктах не было ни единого намёка на подмётные письма.[230]
Поразительно — Бенкендорф хотел утаить пасквиль даже от самого царя. Николай I узнал о его содержании от кого-то другого. Это произошло не позже 2 февраля. Он сразу же осведомил императрицу. И на другой день Александра Фёдоровна вызвала к себе фаворита Трубецкого. 4 февраля она пишет С. Бобринской: Итак, длинный разговор с Бархатом о Жорже. Я бы хотела, чтобы они уехали, отец и сын. — Я знаю теперь всё анонимное письмо, подлое и вместе с тем отчасти верное (подч. мною. — С. Б.). Я бы очень хотела иметь с вами по поводу всего этого длительный разговор[231].
Это очень важное свидетельство. Друг императрицы князь Трубецкой сообщает ей подробности преддуэльных событий, в том числе и о дипломе. Этот факт выдаёт с головой заговорщиков — если Геккерены и сам князь непричастны к его составлению, откуда Бархату знать подробности этого дела? Почему после разговора с ним императрица уже абсолютно уверена в причастности к нему отца и сына? Все адресаты, получившие подмётное письмо, или уничтожили его, или передали Пушкину. Известно, что друзья Пушкина до самой его смерти хранили в тайне содержание пасквиля. Невозможно кого-нибудь из них заподозрить в том, что они показали его Трубецкому — известному повесе и фавориту императрицы. Интересно и другое — загадочная фраза царицы об анонимном письме: отчасти верное. Что имела она в виду? Бесконечные измены царя и намёк на его отношения — но не с Натали Пушкиной, ибо их не было, а с женою непременного секретаря ордена рогоносцев — Любовью Борх? Надо заметить, императрица тоже относилась к той редкой породе женщин, которые не только закрывают глаза на любовные интрижки мужа, но и потворствуют им. Но иногда в ней говорила обида.
Слухи о пасквиле стали распространяться сразу же после смерти Поэта. 30 января вюртембергский посол в Петербурге князь Гогенлое-Кирхберг в своей дипломатической депеше уже писал: Причиной этой дуэли была ревность г. Пушкина, возбуждённая анонимными письмами, которые с некоторых пор приходили на имя писателя… Князь Гогенлое был женат на русской — графине Екатерине Ивановне Голубцовой, на должности посла в России находился с 1825 г. За эти годы он создал большие связи в петербургском обществе, был в приятельских отношениях с Вяземским, Жуковским, А. И. Тургеневым. Общался с Пушкиным в светском обществе, у Фикельмонов (Долли относилась к Гогенлое очень дружески, в её дневнике несколько записей о встречах с ним, о его свадьбе). Парадоксальный факт: иностранный посланник знал о гибели Поэта больше, чем русский царь. В тот же день, 30 января, Геккерен писал барону Верстолку: Знаю только, что император, сообщая эту роковую весть императрице, выразил уверенность, что барон Геккерен был не в состоянии поступить иначе.[232] Это сообщение могло означать только одно — царь ещё не знал содержания пасквиля. Но уже 3 февраля Николай в письме к брату Михаилу называет Геккерена гнусной канальей, а в послании своему родственнику — мужу сестры Анны Павловны, наследнику нидерландского престола принцу Вильгельму Оранскому — требует отозвать его из Петербурга.
Гнев всесильного монарха вполне оправдан. Во-первых, царь последним узнал о содержании пасквиля. Во-вторых, в нём был наглый намёк на него самого. И это больше всего взбесило императора. Диплом для Николая Павловича, по очень образному выражению Щёголева, был подобен куску красной материи для быка. Такое оскорбление Николай не мог простить Геккерену. «Найти составителей!» — распорядился самодержец.
Подумать только! Бенкендорф, всесильный повелитель голубых мундиров, не сумел (точнее, не захотел) найти пасквильщика и задал непосильную задачу биографам Поэта. И вот уже многие десятки лет пушкинисты пытаются решить её. Если даже допустить, что шеф жандармов не знал их имён, то ведь у него повсюду были уши. Он и сам обладал врождённым нюхом сыщика. Ещё в 1821 г., будучи начальником штаба гвардейского корпуса, подал Александру I записку о тайных обществах, но Александр на неё не отреагировал. Это ещё одна из загадок в биографии императора. В последние годы его царствования по всей России была создана огромная агентурная сеть, граф Витте, Бошняк усердно доносили императору о назревающем заговоре. Он принимал к сведению их доносы и медлил с действиями… Словно не хотел брать на душу новый грех. Медлил и готовился к уходу.
Умница Пушкин нашёл ответ и на эту загадку. 17 марта 1834 г. после беседы с графом и графиней Фикельмон записал в дневнике:
…покойный государь окружён был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14 декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины. [233]
Расхлёбывать им же заваренную кашу Александр оставил своему крутому братцу. Знал, что ему, а не неуравновешенному Константину это под силу, и за несколько лет до смерти изменил в пользу Николая завещание. И об этом тоже успел подумать Пушкин: Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать[234].
Началом головокружительной карьеры Бенкендорфа — от скромного генерал-адъютанта до второго человека в империи — стала записка, найденная после смерти Александра I в его бумагах. Она была представлена новому императору. Николай I решил испытать генерала в роли члена верховного суда над декабристами. Бенкендорф успешно повёл дело и сразу же после его окончания был назначен начальником новосозданного Третьего отделения собственной его величества канцелярии.
Шефу жандармов, конечно же, был известен составитель пасквиля. И ему незачем было вести расследование по этому делу. Но царь настаивал. И он был вынужден создать видимость следствия. В этом был убеждён и Щёголев: III отделение в своё время разыскивало переписчиков пасквиля, но оно занималось розысками по понуждению, неохотно, без всякого рвения[235]. Полиция шла по заведомо ложному следу — для отвода глаз Бенкендорф пишет «Записку для памяти»: Некто Тибо, друг Россети, служащий в Главном штабе, не он ли написал гадости о Пушкине. В Главном штабе такого лица не оказалось. Царь настаивал на версии «Геккерен-Дантес». Бенкендорфа эта версия вполне устраивала — она отвлекала внимание от причастных к делу соотечественников, взятых им под своё покровительство. Коли царю угодно подозревать Геккеренов — пусть так и будет. И затребовал образец русского почерка Дантеса. Какая нелепость предположить, что Дантес собственноручно надписывал по-русски адреса на конвертах! В конечном счёте Геккерен остался и для правительства, и для военно-судной комиссии единственным козлом отпущения (и поделом, скажем мы!). Своим чутким носом Бенкендорф уловил — карта нидерландского посланника бита. А тут появилось ещё весьма пагубное для Геккерена обстоятельство — царь узнал от принца Вильгельма Оранского об интригах посланника, чуть было не поссоривших родственников. (Я… был потрясён и огорчён содержанием депеши Геккерена… но теперь ты совершенно успокоил мою душу, и я тебя благодарю от глубины сердца, — писал Николаю Вильгельм и уверил кузена: Геккерен получит полную отставку тем способом, который ты сочтёшь за лучший.[236]) Свояки, как видим, выяснили между собой отношения. А Геккерен был выслан из России и три года оставался фактически не у дел. Самодержец всея Руси отказал ему в последней аудиенции. Так позорно закончилась карьера голландского посланника в Петербурге.
Бенкендорф ненавидел Пушкина и был на стороне барона Геккерена, утверждал Данзас. Находясь под следствием, он имел возможность убедиться в этом. Шеф жандармов не содействовал расследованию. Об этом ещё раз сказал Щёголев: III отделение, под давлением, очевидно, царя, сделало попытку выяснить тех, кто писал анонимные пасквили, но попытка была слишком поверхностной и непременной задачи выяснения не ставила. И я вынуждена повторить: укрытие анонимных писем, а главное, имён их исполнителей (что дало им возможность избежать наказания) — это, пожалуй, самый зловещий и завершающий аккорд в заговоре жандармов против Пушкина.
Попутная реабилитация Нессельроде
Если внимательно изучить всю литературу о дуэли, обнаруживается ещё один парадоксальный факт — граф Нессельроде вначале не подозревал о причастности Геккерена к составлению пасквиля. Нидерландский посланник сразу же после поединка стал разрабатывать стратегию обороны. В арсенале его средств наиважнейшее место занимали письма — официальным лицам и влиятельным знакомым за границей и в Петербурге. Одно из них — записка Дантесу в арест от 1 февраля 1837 года. Он заранее обсудил с Жоржем план действий и теперь, якобы по его просьбе, «пытался» вспомнить печать на конверте, говорил, что, кажется, на ней была изображена пушка. Фраза-уловка для постороннего читателя, а возможно, желание бросить тень на кого-нибудь из друзей Пушкина. Скажем, Вяземского, в гербе которого действительно присутствовала пушка: …граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. Это послание тоже будет предъявлено как оправдательный документ. С иезуитской хитростью Геккерен пытается опровергнуть одну из улик в их причастности к пасквилю — форма и качество бумаги диплома. Министра иностранных дел продолжали ловко одурачивать и фальшивыми доказательствами невиновности отца и сына, и красивыми байками о благородстве Дантеса (вспомним письмо Геккерена к Нессельроде от 1 марта 1837 г., в котором он вновь повторял свои вымыслы).
В первые дни после дуэли Нессельроде всё ещё выгораживал своего друга. Красноречивое тому свидетельство их переписка. 28 января посланник направляет вице-канцлеру четыре документа, относящиеся до того несчастного происшествия, которое благоволили лично повергнуть на благоусмотрение его императорского величества. Как видим, Нессельроде уведомляет его обо всех своих действиях. Но что самое преступное — сообщает послу иностранного государства о своём докладе императору с изложением преддуэльных событий! Можно не сомневаться, его текст был согласован с Геккереном. Через два дня барон пересылает Нессельроде пятый, пока не выяснено, какой документ. Ясно только одно — 28 января посланник не имел его на руках и за два дня постарался его раздобыть. Предполагают, что это было ноябрьское письмо Дантеса Пушкину с требованием письменного объяснения причин отказа от дуэли. В таком случае нужно отдать должное прозорливости и практичности кавалергарда — о которой говорил его внук Луи Метман, — она не раз выручала Дантеса. Выручила и на сей раз — письмо пригодилось, оно было представлено как оправдательный документ на расположение верного защитника.
Но я думаю, что пятым документом оказался востребованный императором экземпляр пасквиля. Страх — плохой советчик. В паническом страхе за Дантеса Геккерен вновь совершает ошибку, на сей раз роковую. Если я на верном пути, этот поступок барона можно расценить как ход ва-банк. Попытаемся представить логику его рассуждений в эти два дня — между 28 и 30 января. Вице-канцлер, столько лет выказывавший своё благорасположение к Геккерену, оставался для него единственным человеком, способным повлиять на «решение» императора. И тем самым спасти сына. Нессельроде вкрадчиво объяснил посланнику, что его императорскому величеству угодно ознакомиться с анонимным письмом, дабы составить обо всём верное суждение. Это была своего рода просьба-приказ и, возможно, намёк на дальнейшее содействие Геккерену, если барон окажет ему эту услугу. Нессельроде знал, что у Геккерена хорошие отношения со многими из известных к тому времени адресатов этих писем. Власти не заблуждались, что на официальные запросы приятели Пушкина ответят отказом. Стремление Геккерена выяснить истину (при условии, что он непричастен к диплому) казалось совсем естественным — ведь речь шла о спасении сына. Так мог рассуждать Нессельроде — он всё ещё не догадывался о роли барона. Но вполне возможно, что этот хитроумный план — таким образом испытать посланника — родился в голове императора. Само собой разумеется, в его тонкости он не посвятил своего министра. Геккерен же моментально разгадал намерения Николая. Но у него не было выхода. Из двух зол он решил выбрать меньшее. Он был уверен, что практически невозможно доказать его причастность к составлению диплома — никто из банды молодчиков не решится выдать его, ибо при этом пострадает прежде всего сам. Теперь, когда нужно было спасать шкуру дорогого сыночка, репутация А. Строганова уже не имела для него никакого значения. Ах, как просчитался Геккерен! В столь критический момент явно плохо соображал.
Итак, он решается раздобыть диплом (это было нетрудно — ведь ему были известны имена всех адресатов!) и вскоре узнает, что один экземпляр остался у Михаила Виельгорского. С ним он был в весьма приятельских отношениях. Именно прежде всего к нему, а потом и к Жуковскому бросился Геккерен в ноябре 1836 г. с просьбой о посредничестве в примирении с Пушкиным. Михаил Виельгорский был талантливым музыкантом. Вместе с братом виолончелистом Матвеем нередко играл в доме посланника. Мягкий по натуре Виельгорский не в силах был отказать Геккерену — он отдаёт ему, возможно не без умысла, хранящийся у него пасквиль. Кстати, этим можно объяснить ещё один факт, ускользнувший от внимания пушкинистов: откуда взялось у Геккерена анонимное письмо, которое он, не таясь, описывает в записке Дантесу.
Получив от Виельгорского экземпляр диплома, посланник тут же пересылает его Нессельроде. Вот, граф, документ, которого не хватало в числе тех, что я уже имел честь вам вручить, — пишет он Нессельроде. — Окажите милость, соблаговолите умолить государя императора уполномочить вас прислать мне в нескольких строках оправдание моего собственного поведения в этом грустном деле; оно мне необходимо для того, чтобы я мог себя чувствовать вправе оставаться при императорском дворе, я был бы в отчаянии, если бы должен был его покинуть…[237]
Как я уже упоминала, в тот же день, 30 января, Геккерен направляет первое донесение о дуэли своему министру иностранных дел барону Верстолку. Без зазрения совести сообщает ему об отвратительных анонимных письмах, о первом вызове на дуэль сына, который тот принял без всяких объяснений. В этом потоке лжи вдруг прорывается нечто человеческое: Однако в дело вмешались общие друзья. Видимо, жест Виельгорского — передача диплома — так растрогал Геккерена, что он причислил его к своим друзьям. Посланник напряжённо ожидает известия от Нессельроде. В конце второго дня силы изменяют ему. Реакция царя на поведение посланника категорична — гнусная каналья! Геккерен словно на расстоянии прочитал приговор царя. И обречённо принялся составлять вторую депешу барону Верстолку. Он подготавливает его к неминуемому — своему удалению из Петербурга:
Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем предполагали. Но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу, который понимал, что в таких роковых событиях мой сын по справедливости не заслуживал ни малейшего упрёка. <…> Чувства, о которых я теперь говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс промежуточный между настоящей аристократией и высшими должностными лицами, с одной стороны, и народной массой, совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может, — с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, национальных коммерсантов высшего полёта и т. д. <…>
Всё-таки, ваше превосходительство, признайте, что я ничего не скрываю, даже, может быть, сам склонен преувеличивать значение происходящего. Как бы то ни было, считаю своим суровым долгом поставить вас в известность об истинном положении вещей в ту минуту, как я могу опасаться, что уже буду не в состоянии служить моему монарху здесь так, как моя честь и мои чувства к родине мне повелевают и как, смею надеяться, я имел счастие служить до сих пор.
Его величество решит, должен ли я быть отозван, или могу поменяться местами с одним из моих коллег. [238]
Нервы сдали, Геккерен, как истеричная баба, уже не владеет собой — что, впрочем, характерно для людей с подобными ему наклонностями. А на другой день пришёл ответ от Нессельроде. Николай в отличие от Геккерена умел держать себя в руках — он сохранял достойное владыки спокойствие. Нессельроде ввела в заблуждение сдержанность императора, и он дружески успокаивает барона. Геккерен вновь рассыпается в благодарности за благорасположение, которому многочисленные доказательства вы мне давали в течение многих лет. Однако с горечью вынужден ему заявить: Но слишком поздно, моя просьба отправлена. Вчера я просил короля соизволить на моё отозвание, и сегодня дубликат этой просьбы отправляется почтой. Я чувствую, что я должен был сделать то, что сделал, и совершенно не жалею об этом[239].
Геккерен обречённо признаёт свою роковую ошибку. Царь обхитрил его. Пасквиль, конечно же, не был представлен в военно-судную комиссию — Николай был не дурак, чтоб оглашать порочащий его достоинство документ. Видимо, уже после смерти императора экземпляр Виельгорского был передан в секретный отдел Тайной канцелярии полиции, где уже хранилась другая копия, изъятая Бенкендорфом из бумаг Поэта.
Нессельроде ещё некоторое время продолжает покровительствовать Геккеренам — только два из пяти документов (письма Пушкина — секунданту Дантеса д’Аршиаку от 17 ноября 1836 г. и нидерландскому посланнику от 26 января 1937 г.) он передаёт 9 февраля презусу военно-судной комиссии полковнику Бреверну. Но вот что интересно — предусмотрительный барон и осторожный Нессельроде не предвидели реакции, которую произведёт в суде оскорбительное письмо Пушкина барону Геккерену. Первой заметила это проницательная Анна Ахматова: Щёголев не прав, когда пишет, что в январском письме не осталось и следа утверждения авторства Геккерна. Фраза «…только под этим условием я… не обесчестил вас в глазах нашего и вашего дворов, как имел право и намерение» находится и в ноябрьском черновике в несколько иной форме, но относится прямо к возможности разоблачения Геккерна как автора анонимных писем.
Если бы Пушкин перестал думать, что Геккерен автор диплома, эта фраза не фигурировала бы в январском письме [240] .
Царь, убедившись в сводничестве посланника, бесспорно, отчитал — в свойственной ему грубоватой манере — Нессельроде за оплошность. Это было жестоким ударом по самолюбию высокомерного министра. Он никогда не смог простить Геккерену, что тот водил его за нос. Уже во второй половине февраля он изменил своё отношение к посланнику. Это подтверждает и письмо Геккерена вице-канцлеру от 1 марта 1837 г.: После события, роковой исход которого я оплакиваю более, чем кто бы то ни было, я не предполагал, что должен буду обратиться к вам с письмом, подобным настоящему (подч. мною. — С. Б.). Но раз я вижу, что вынужден сделать это, у меня мужества хватит. Честь моя, и как частного человека, и как члена общества, оскорблена, и я не замедлю дать вам некоторые объяснения[241]. Объяснения Геккерена не подействовали на Нессельроде. Он навсегда отвернул своё лицо от коварного сводника. С глубоким презрением отзывался граф о Геккерене в 1840 г. в письме барону А. К. Мейендорфу: Геккерен на всё способен: это человек без чести и совести; он вообще не имеет права на уважение и не терпим в нашем обществе[242]. Пушкинисты не придали должного значения этой реплике Нессельроде. А ведь она — серьёзный аргумент в пользу непричастности министра иностранных дел к составлению пасквиля.
Вопрос аудитора Маслова
В ходе следствия всплыл факт получения Пушкиным анонимных писем. Материалы дела были представлены для проверки аудитору Маслову. Исчезнувший из употребления термин «аудитор» ныне, в эпоху возрождения частной собственности, вернулся в русскоязычный обиход в несколько ином значении — бизнес-эксперт. Типично чиновничья крыса Маслов рьяно принялся за работу. Дотошно изучил все предоставленные ему комиссией документы. Усердный чинуша был озадачен: почему не допрошена супруга покойного Пушкина? Чуждый деликатных тонкостей аудитор тщательно сформулировал свои вопросы к H. Н. Пушкиной, от которых, по его мнению, зависел правильный исход дела.
Из рапорта аудитора Маслова[243]от 14 февраля 1837 г.: 1-е. Не известно ли ей, какие именно без имянныя письма получил покойный Муж ея, которые вынудили его написать 26 числа Минувшего Генваря к Нидерландскому Посланнику Барону Геккерену оскорбительное письмо, послужившее, как по делу видно, причиною к вызову подсудимым Геккереном его, Пушкина, на дуэль.
2-е. Какие подсудимый Геккерен, как он сам сознаётся, писал к Ней, Пушкиной, письма или Записки, кои покойный Муж ея в письме к Барону Геккерену от 26 Генваря называет дурачеством; где все сии бумаги ныне находятся, равно и то письмо, полученное Пушкиным от неизвестного ещё в ноябре месяце, в котором виновником распри между подсудимым Геккереном и Пушкиным позван Нидерландский Посланник Барон Геккерен и в следствие чего Пушкин ещё прежде сего вызывал Подсудимого Геккерена на дуэль… [244]
Как явствует, особой грамотностью аудитор 13 класса Маслов не отличался. Его вопросы, как и следовало ожидать, остались без ответа. Или из-за проявленной членами военно-судной комиссии деликатности к Пушкиной. А возможно, по распоряжению свыше — не копать глубоко. Но как бы то ни было, в рапорте аудитора содержится очень важное сведение, словно бы ускользнувшее от внимания исследователей (объяснение сему странному обстоятельству может быть только одно: последующие поколения пушкинистов доверились добросовестности П. Щёголева и не потрудились вновь изучить материалы следственной комиссии). Имею в виду указание Маслова на письмо от «неизвестного лица», в котором виновником распри между подсудимым Геккереном и Пушкиным позван Нидерландский Посланник Барон Геккерен. Выходит, Долли Фикельмон и многие другие современники Пушкина, были правы, говоря о нескольких, при этом различных по содержанию и иными почерками написанных, анонимных письмах. Видимо, это послание с какими-то намёками на связь Дантеса с Натали имела в виду графиня Фикельмон в своей известной дневниковой записи от 29 января 1837 г.: Семейное счастье начало уже нарушаться, когда чья-то гнусная рука направила мужу анонимные письма, оскорбительные и ужасные, в которых ему сообщались все дурные слухи и имена его жены и Дантеса были соединены с самой едкой, самой жестокой иронией.
Итак, был пасквиль — забавная шутка. Пушкин вначале даже не собирался на неё реагировать. Ещё раз повторю: Впрочем, понимаете, — сказал он В. Соллогубу, — что безыменным письмам я обижаться не могу. Но было ещё одно письмо. И в совокупности оба эти послания уже можно определить как оскорбительные и ужасные письма. Второе (назовём его пока анонимным) было получено Пушкиным позже — по-видимому, до середины ноября, когда уже полным ходом шли переговоры о женитьбе Дантеса на Екатерине Гончаровой. Расправившись с наглым кавалергардом, Пушкин принялся за главного виновника. Теперь более понятен смысл изречения. Я прочитаю вам моё письмо к старику Геккерну, — сказал Пушкин Соллогубу. — С сыном уже покончено… Вы мне теперь старичка подавайте[245].
Человек, отправивший Поэту письмо, без сомнения, был из близкого к Геккеренам кружка. Только от них он мог узнать о вызове. Причастные к переговорам друзья Пушкина — Жуковский, Виельгорский, Загряжская, Клементий Россет, В. Соллогуб, безусловно, хранили в секрете и получение диплома, и все последовавшие за ним действия Поэта. Так же поступил и Вяземский. …и мы с женой дали друг другу слово сохранить всё это в тайне, — писал он после смерти Пушкина великому князю Михаилу. Жуковский крепко-накрепко запретил Карамзиным разглашать тайну. Он даже отчитал Пушкина за то, что тот рассказал Екатерине Андреевне и Софье Николаевне о ходе переговоров с Геккеренами. Дискретность ближайших к Поэту людей можно считать бесспорным фактом.
Но было ли это второе письмо анонимным? Интуиция подсказывает мне — доброжелатель назвал себя и заклинал Поэта не открывать его имя. Пушкин поступил благородно — он унёс эту тайну в могилу. Вспомним о каком-то написанном по-русски листке бумаги, вынутом по просьбе Пушкина домашним врачом Спасским из указанной шкатулки и сожжённом у него на глазах. Поэт уже знал от д-ра Шольца, а потом и Арендт ему подтвердил, что его рана смертельна. И решил уничтожить какой-то очень важный и, должно быть, кого-то компрометирующий документ. Я склонна думать, что это и было то самое письмо от доброжелателя. И несомненно, подписанное. В противном случае зачем его сжигать?
Слух о нескольких анонимных письмах распространился моментально после смерти Поэта. Гадали разное. Вяземский был убеждён в существовании какой-то тайны и в своих посланиях друзьям постоянно повторял: она неясна для нас самих, очевидцев. Эта загадка мучила его, он пытался найти объяснение. Плод этих размышлений — фраза в письме к Денису Давыдову: Адские козни опутывали их (Пушкиных. — С. Б.) и остаются ещё под мраком. Время, может быть, раскроет их. А через несколько дней он уже уверенно заявляет великому князю Михаилу: …как только были получены эти анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чём было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот счёт не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд Божий, а не людской[246], — Письмо от 14 февраля 1837 г. из Петербурга в Рим. Подчёркнутая мною фраза весьма туманно выражает то, что через неожиданный случай Вяземский знал уже наверняка: инициатором пасквиля был Геккерен. То же самое, но уже более категорично повторил в своей «Записной книжке»: Тайна безыменных писем, этого пролога трагической катастрофы, ещё недостаточно разъяснена. Есть подозрения, почти неопровержимые, но нет положительных юридических улик… В письме же к Михаилу Романову он ёрничает, ловчит — более определённо не имеет права говорить официальному лицу, каковым был брат Николая. Прибегая к этой уловке, Вяземский был убеждён: великий князь поймёт его и известит об этом Николая. А это было его главной целью — довести ошеломившее его известие до сведения царя. Но не только до него одного — он писал своё послание и для потомства. Вяземский не предполагал, что царь узнал обо всём раньше его. Неожиданным же случаем, убедившим Пушкина в авторстве Геккерена, надо полагать, и явилось письмо «неизвестного» доброжелателя.
Штрихи к портрету Петра Долгорукова
Но как же звали этого человека? А звали его князем Петром Владимировичем Долгоруковым! Пора сплести все разрозненные ниточки в одну нить. Кто из окружения Поэта был близок Геккеренам и вместе с тем довольно хорошо знал Пушкина? Из золотой молодёжи вокруг нидерландского посланника и Дантеса вертелись кавалергарды Александр Трубецкой, штаб-ротмистр Адольф Бетанкур, штаб-ротмистр Александр Куракин, ещё два штаб-ротмистра, Михаил Петрово-Солово и Георгий Скарятин; штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка Павел Урусов (между прочим, женатый на дочери врага поэта — С. Уварова), корнет л.-гв. Конного полка Константин Опочинин. Вхожи к баронам были также князья Иван Гагарин и Пётр Долгоруков. Пушкин водил знакомство с каждым из названных. Особую приязнь питал к Опочинину. Это очень достойный молодой человек. Благодарю вас за это знакомство, — писал Поэт Е. М. Хитрово 13 мая 1832 г. о её племяннике — сыне Д. М. Опочининой-Кутузовой. Дружески относился и к И. Гагарину — из дневника А. И. Тургенева узнаем, что Пушкин часто встречался с ним в компании поэтов и литераторов, вёл с молодым князем дружеские беседы. Сам Гагарин впоследствии говорил о своих приятельских отношениях с Пушкиным. Можно предположить, что ещё одному человеку из этой компании симпатизировал Поэт — Петру Долгорукову. Он приметил любознательного мальчика ещё в Москве в домах своих друзей Римских-Корсаковых. Встречался с ним в петербургских салонах. У них была тема для разговора — интерес обоих к истории и генеалогии. Долгоруков был накоротке с ближайшими друзьями Пушкина — Вяземским, Виельгорскими, Валуевыми, Россетами, князем Горчаковым.
Князь Пётр Владимирович родился под несчастливой звездой. День его появления на свет стал днём смерти матери. Вскоре умер и отец. Одиннадцатимесячный малыш остался на руках бабушки Анастасии Семёновны Долгоруковой (урождённой Лаптевой — 1755—1827). Похоронив в 1815 г. мужа, Анастасия Семёновна поселилась у дочери Марии Петровны Римской-Корсаковой. После кропотливого изучения родословной Римских-Корсаковых мне удалось выяснить, что муж Марии Петровны — Николай Петрович, вице-адмирал, флигель-адъютант Николая I, был троюродным братом камергера Александра Яковлевича — супруга знаменитой на всю Москву Марии Ивановны Римской-Корсаковой.
Никакими особыми талантами не отличалась эта барыня, кроме одного — она была хлопотуньей по призванию. Мать Марья, как она сама себя величала, пеклась обо всех на свете — и, конечно же, прежде всего — неуёмно, дотошно — о потрохе своём — дочерях и сыновьях. О многочисленной родне — десятке кровных. О приживалках и приживальщиках, именуемых ею моя инвалидная команда. О друзьях, знакомых и даже незнакомых — любого приютит, накормит, обогреет, снабдит рекомендательными письмами и даже деньгами. Марья Ивановна владела двумя с половиной тысячами крепостных душ в Рязанской, Тамбовской и Пензенской губерниях — доходы изрядные, да денег вечно не хватало — уж очень размашисто жила она. По старинке, как при матушке Екатерине, вельможно: огромный особняк на Страстной площади с флигелями, садом, хозяйственными постройками, конюшнями, многочисленной челядью.
Но к чему такие подробности о ней? Отвечу словами Петра Андреевича Вяземского: Мария Ивановна Римская-Корсакова должна иметь почётное место в преданиях хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила, что называется, открытым домом, давала часто обеды, вечера, балы, маскарады, разные увеселения, зимой санные катания за городом, импровизированные завтраки… Красавицы дочери её, и особенно одна из них, намёками воспетая Пушкиным в Онегине, были душою и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова[247]. А её колоритный быт стал символом московской жизни первой четверти XIX века. Так получилось, что о ней мы знаем больше, чем о других вельможах той эпохи — всех этих Архаровых, Апраксиных, Офросимовых, Кологривовых. Время случайно пощадило её обширную переписку с детьми, и эти письма — кардиограмма чувств, мыслей, пульса щедрой, неуёмной в любви и страдании натуры — послужили для бытописаний Льва Толстого, М. О. Гершензона. Но ещё раньше сама Марья Ивановна с её душевностью, барской прямотой, живой, напевной и пословичной русской речью привлекала внимание многих наших знакомцев — Вяземского, Грибоедова, Пушкина. С неё и ей подобных московских бар списал своих персонажей Грибоедов в «Горе от ума». В образе Катерины Петровны Томской изображена она Пушкиным в его набросках к «Роману на Кавказских водах». Её красавица дочь Александрина послужила прототипом Маши — девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и чёрными огненными глазами. Поэт заплатил безумству дань Александрине и посвятил ей строфу в «Евгении Онегине»: Но та, которую не смею / Тревожить лирою моей, / Как величавая луна, / Средь жён и дев блестит одна. / С какою гордостью небесной / Земли касается она!…
С представителями этого ветвистого рода Пушкин был знаком с детских лет. Отец Сергей Львович и дядя Василий Львович оспаривали друг у друга поэтическую славу на званых вечерах всех этих Корсаковых, Дондуков-Корсаковых и Римских-Корсаковых. Сын Николай другого Александра Яковлевича Корсакова — отставного гвардии прапорщика — был лицейским другом Пушкина. Они были главными составителями лицейских журналов. Николенька Корсаков, певец и композитор, сочинял музыку на стихи Пушкина и пел их под аккомпанемент гитары. Романсы на стихи юного Поэта распространялись через лицеистов по Петербургу и уже тогда распевались во многих петербургских гостиных. Дружил Пушкин и с сыном Марии Ивановны — Григорием. Вместе с князем Вяземским кутили они во второй половине двадцатых годов в Английском клубе, в загородных ресторанах Москвы. Без этого известного на всю Москву триумвирата не обходилось ни одно собрание, ни один бал. Знакомые и незнакомые зазывали нас и в Немецкую слободу, и в Замоскворечье, — ностальгически вспоминал о той беззаботной поре юности Пётр Вяземский.
Родственники Римские-Корсаковы — десяток кровных фамилий — поддерживали самые близкие отношения — семейственность всё ещё была неотъемлемой частью быта старой Москвы. Вся эта атмосфера — шумная, весёлая, с обильными застольями, за которыми собирались поэты, литераторы, музыканты, велись остроумные беседы, споры, декламации, звучала сочная русская речь, — с детства окружала живого, любознательного Петра Долгорукова. Бабушки, тётушки, кузены, кузины заботливо пеклись о бедной сиротке — косолапом увальне Петруше. Баловали, холили, закармливали пирогами, блинами с икоркою да кулебяками, студнями да заливной осетриной — всей этой обильной старорусской снедью. Это потом пагубно отразилось и на характере Петра Владимировича — капризном, резком, вспыльчивом, и на его фигуре — в старости он превратился в малоподвижного тучного князя Гиппопотама, как называл его Герцен. Образование князь получил блестящее, но хаотическое. Он прекрасно знал иностранные языки, но, что особенно важно, — превосходно владел живым русским словом с неподражаемыми образчиками старомосковской речи, подслушанными у бабушек, тётушек, нянюшек. Много читал, увлекался историей, генеалогией и в двадцать три года написал «Историю России от воцарения Романовых до кончины Александра I». За ней последовал «Российский родословник», «Сведения о роде князей Долгоруковых».
Родственники вывозили молодого барича и за границу — о встрече с ним в Италии упоминает в дневнике графиня Фикельмон. В 1827 г. умерла бабушка Анастасия Семёновна, и Петрушу отдали на обучение в Пажеский корпус, куда был определён ещё с годовалого возраста. Ему была уготовлена наследственная карьера военного, подобно деду Петру Петровичу — генералу от инфантерии, отцу Владимиру Петровичу — шефу Кавалергардского полка. В апреле 1831 г. князь Пётр вышел из корпуса в чине камер-пажа. Но уже в августе этого года за какую-то провинность был разжалован из камер-пажей в пажи. Выпускники Пажеского корпуса обычно пополняли ряды офицеров элитных полков императорской гвардии. Долгорукова же за дурное поведение разжаловали и выдали аттестат о неспособности к службе в армии. Это было первым жестоким ударом для потомка Рюриковичей — в то время военная карьера считалась единственным достойным аристократа занятием. До совершеннолетия он находился под опекой тётушки Марии Петровны Римской-Корсаковой и, по-видимому, проживал в её петербургском доме. Он рано пристрастился к светской жизни, посещал аристократические салоны. В 1831 г. он стал бывать в особняке австрийского посланника Фикельмона.
Я уже не раз говорила о странном пророческом даре Долли Фикельмон. 21 мая 1831 г. в салоне своей матери она впервые увидела приехавших из Москвы молодожёнов Пушкиных. В тот же день в дневнике появляется запись об этой встрече: о волшебной красоте Мадонны, о безобразии Пушкина, ещё более поразительном на её фоне, о блестящем уме Поэта, заставляющем забывать о его некрасивости. И вдруг по ассоциации тут же вспоминает о другом человеке, таком же некрасивом, но привлекающем умом: Вчера мы снова виделись с юным князем Долгоруким (Долли часто ошибалась в написании русских имён. — С. Б.), с которым познакомились в Италии восемь лет назад. Он тоже идеал безобразия, но остроумен, душевен и сердечен. Он питает к нам привязанность и преданность. Сейчас мы устраиваем наши вечера в узком кругу — у мамы или у меня, и они мне очень нравятся. Можно предположить, что князь Долгоруков и был одним из тех немногих, кто допускался на эти интимные вечера. Графиня Фикельмон вновь связала два имени, будто зная наперёд печальную роль, отведённую князю Петру в биографии Поэта. И, вероятно, здесь, у графини Фикельмон, злой рок свёл Петра Долгорукова с другим завсегдатаем её салона — Геккереном. Голландский посланник ввёл его в свой круг молодёжи и сумел быстро развратить фактически беспризорного юношу. Впрочем, не берусь утверждать, что всё произошло именно так. Возможно, дурные наклонности проявились у князя ещё в Пажеском корпусе и были тем самым «проступком», за который он был разжалован из армии. Легко предположить, что у лишённого с младенческих лет родительской нежности и заботы Долгорукова в отношении к Геккерену преобладали сыновние чувства. Неизрасходованный заряд любви переносился на людей добрых и привечающих его. По этой самой причине он зачастил в гостеприимный дом австрийской посланницы. Проницательная графиня Фикельмон увидела в молодом князе то, что было скрыто от других, — он душевен и сердечен… питает к нам привязанность и преданность. Но с чёрствыми и холодными людьми князь был колючим, злоязычным и грубым.
Обращаю внимание на этот факт, ибо он объясняет многое в дальнейшем поведении князя Долгорукова. В сентябре 1833 г. Геккерен привёз в Петербург молодого красавчика Дантеса — объект своей новой страсти. Пётр Долгоруков был пренебрежен. Самолюбивый юноша болезненно переживал этот разрыв. Зарубцевавшаяся после первого удара судьбы — отставки из армии — рана вновь стала кровоточить. Ещё не было ожесточённости — она родилась позже. Душевная боль усугублялась закомплексованностью — он жестоко страдал из-за своей внешности — некрасив лицом, невысок, хромоног. Несправедливость природы воспринималась ещё горше оттого, что он прекрасно сознавал своё умственное превосходство над окружающими его молодыми повесами. Уродство навсегда отбило у него интерес к женщинам — он прекрасно понимал, что не может рассчитывать на успех у прекрасного пола. В 1848 г. тридцатидвухлетний князь всё-таки сделал попытку жениться на О. В. Давыдовой. От этого брака родился сын. Но семейной идиллии, как и следовало ожидать, не получилось — бесконечные скандалы, избиение жены. Он словно вымещал на ней все удары, без устали наносимые ему жизнью и справа и слева.
А тогда, осенью 1833 г., Геккерен развязал себе руки и уступил князя другому любителю мальчиков С. С. Уварову, министру просвещения. Уваров решил пристроить Долгорукова на службу. В начале следующего года он был зачислен без жалованья в канцелярию Министерства народного просвещения. В 1835 или 1836 году Пётр Владимирович встретился в Петербурге с другом детства князем Иваном Гагариным и нанял с ним общую квартиру. Внешне всё оставалось как прежде — князь продолжал посещать вечеринки в доме нидерландского посланника. Но обида на Геккерена осталась, затаилась в душе князя до поры до времени. Маленький ёжик учился обороняться — он всё чаще стал выпускать свои колючие иголки.
Так Провидение сплело воедино всех персонажей драмы, разыгравшейся осенью 1836 г. в Петербурге.
Перенесёмся вновь в дом нидерландского посланника: 3 ноября 1836 г., завтрак, подвыпившие офицеры, шуточки по поводу венских дипломов и кем-то сделанное предложение — разыграть подобным же образом и петербургских рогоносцев. Идея шумно и весело одобрена. Всё получилось вроде бы само собой — непринуждённо и естественно. И никто из присутствовавших, за исключением одного, не заметил, как ловко направляли эту игру главный режиссёр Геккерен и два его помощника — Дантес и Александр Строганов. Этот единственный, умный и проницательный князь Пётр Владимирович Долгоруков, моментально разгадал коварный умысел Геккерена. Но ничем не выдал себя. И вместе со всеми участвовал в забаве. Бесспорно только одно — князь Пётр уклонился от переписки и рассылки пасквиля. Александр Трубецкой не назвал его в числе причастных к этому делу шалунов. Будь это так, престарелый болтун не пощадил бы его — Петра Владимировича давно уже не было на свете, да и репутация у него в России была незавидной.
Роковых последствий сего поступка не предвидел ни сам Геккерен, ни его тайный недоброжелатель Долгоруков. Пожалуй, можно поверить утверждению князя Мещерского: на каком-то балу проказник Петруша показывал над головой Пушкина растопыренные в виде рогов пальцы. Ну и что из того — всего лишь неразумная выходка двадцатилетнего мальчишки! Реакция Пушкина на пасквиль и его вызов Дантеса на дуэль — словно снежный ком на голову Геккерена. Он мечется в растерянности, ищет содействия, советуется со своим бывшим дружком и участником сборища Долгоруковым. Только теперь князь Пётр осознаёт, как далеко зашла игра. И он решается открыть Пушкину имя зачинщика этой истории. Немаловажную роль сыграла здесь и жажда отмщения — Долгорукову представился наконец случай отплатить Геккерену за нанесённую ему некогда обиду. Но почему бы не допустить, что в нём заговорили человеческие чувства. На чашах весов был Пушкин — знаменитый Поэт и симпатичный ему человек. Умный, начитанный и сам будущий писатель Долгоруков не мог не понимать величия его таланта. А на другой чаше — отвергнувший его чужеземец Геккерен. Молодой князь уже давно его раскусил — злая, мелкая душонка, лицемер, интриган, карьерист. Ёжик впервые выпустил свои иглы. Князь написал Пушкину разоблачающее Геккерена письмо…
Прошло много лет. В 1863 г. появилась в печати книжка Аммосова «Последние дни жизни А. С. Пушкина». В ней Долгоруков вместе с Иваном Гагариным впервые публично обвинялся в составлении подмётных писем. Князь Гагарин в то время пребывал в Сирии. Долгоруков из Лондона уведомляет его о клевете: Невозможно молчать перед лицом такой подлости… С Герценом и Огарёвым у меня добрые отношения… Герцен и Огарёв по-настоящему добрые малые; правда, в политике они ищут вчерашний день, но они благородные и честные люди. Всякое воскресенье мы обедаем вместе: поочерёдно — то я у них, то они у меня. Оба были возмущены гнусностью Аммосова[248].
За годы общения с Долгоруковым в эмиграции издатели «Колокола» имели возможность хорошо узнать его характер — желчный, сварливый, вспыльчивый. Но всё это прощали ему за блестящий ум, эрудицию, талант публициста, непримиримость к подлости. За границей Долгоруков издал книгу «Правда о России», в 1860 г. стал редактором журнала «Будущность», в котором помещал свои памфлеты на российских держиморд. В 1862 г. после прекращения «Будущности» появился его новый журнал, «Правдивый», сначала на русском, а затем на французском языках. И наконец приступил к изданию «Листка». Его издания — подголоски «Колоколу». В них звенели призывы к конституционному правлению в России, к учреждению двухпалатного парламента, обличения произвола и безнравственности правящего класса. Сотрудничая с Герценом и Огарёвым, расходился с ними во взглядах на будущее России — не революционное свержение монархии, а ограничение самодержавия конституцией. Восхищает его прозорливость — в политике они ищут вчерашний день. В этом он был близок Пушкину — ещё до восстания декабристов Поэт отрицал целесообразность отмены царской власти. Приведу ещё один отрывок из другого письма князя Петра Ивану Гагарину. В нём Пётр Владимирович всё тот же — саркастичный, проницательный, но и прозорливо-мудрый: Мы с тобою помним поколение, последовавшее хронологически прямо за исполинами 14 декабря, но вовсе на них непохожее; мы помним юность нашего жалкого поколения, запуганного, дрожащего и пресмыкающегося, для которого аничковские балы составляли цель жизни. Поколение это теперь управляет кормилом дел — и смотри, что за страшная ерунда. Зато следующие поколения постоянно улучшаются, и, невзирая на то, что Россия теперь в грязи, а через несколько лет будет, вероятно, в крови, я нимало не унываю, и всё-таки гляжу вперёд я без боязни[249].
О них — жалких, запуганных, из кожи лезущих, чтоб попасть на придворные балы, но тоже — и о себе, и о своём друге. Такая самокритичность требует высокой степени духовности и мужества. Одни крепко вцепились в кормило власти, другие, подобно Долгорукову и Гагарину, покинули родину, чтоб не утонуть в грязи. Эмиграция испокон веков была на Руси уделом противников режима. А императорский Аничков дворец — символом тщеславия и пресмыкательства. Свою зловещую роль он сыграл и в жизни Поэта. Судите сами — можно ли человека, повторившего слова Пушкина гляжу вперёд я без боязни, заподозрить в столь гнусном поступке — авторстве пасквиля?!
А между тем вслед за жужжанием клеветы появилось подтверждение добросовестного свидетеля, барона Ф. Бюлера, бывшего директора московского главного архива Министерства иностранных дел. Время перетасовало в его памяти факты — что вполне объяснимо отдалённостью события: В 1840-х годах, в одну из литературно-музыкальных суббот у князя В. Ф. Одоевского, мне случилось засидеться до того, что я остался в его кабинете сам четверт с графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским и Львом Сергеевичем Пушкиным, известным в своё время под названием Лёвушки. Он только что прибыл с Кавказа, в общеармейском кавалерийском мундире с майорскими эполетами. Чертами лица и кудрявыми (хотя и русыми) волосами он несколько напоминал своего брата, но ростом был меньше его. Подали ужин, и тут-то Лёвушка в первый раз узнал из подробного, в высшей степени занимательного рассказа графа Виельгорского все коварные подстрекания, которые довели брата его до дуэли. Передавать в печати слышанное тогда мною и теперь ещё неудобно. Скажу только, что известный впоследствии писатель-генеалог князь П. В. Долгоруков был тут поименован в числе авторов возбудительных подмётных писем[250].
Для меня изюминка этого рассказа в том, что Михаилу Виельгорскому было известно имя автора подмётного письма. Но я уверена — речь шла не о пасквиле, а втором, так называемом письме от неизвестного.
В картине преддуэльных событий в неожиданном ракурсе предстала фигура Виельгорского. Давнишний приятель показал себя настоящим другом в трудные для Пушкина дни. Сердечно и деликатно помогал ему советами, улаживал конфликт с Геккеренами. Не принимал участия в злоязычии света. Его поведение выгодно отличается и от Вяземского — он закрывает своё лицо и отвращает его от дома Пушкиных. И от его супруги — доверенной Поэта — он сам сказал ей о втором вызове, а она довольно легкомысленно отнеслась к его словам и за светской суетой не нашла времени предотвратить дуэль. И даже от добрейшего Жуковского — посредничая в переговорах, он больше пёкся о своей чести и совести: …я в это дело замешан невольно и не хочу, чтобы оно оставило мне какое-нибудь нарекание. В письме Пушкину заявил: «Совесть есть человек» — великие слова! Но, к сожалению, ими Жуковский прикрыл свой эгоизм. Никто из них не сумел понять терзаний Поэта в мучительные последние месяцы его жизни. На этом фоне отчуждения ближайших друзей Пушкина особенно растрогало благородство и преданность Виельгорского. Единственно с ним он остался до конца откровенным. И надо полагать, открыл ему имя таинственного доброжелателя. Это не просто моё предположение. К этому логическому заключению приходишь, собрав воедино все разрозненные и скудные сведения о роли Виельгорского в преддуэльных событиях. Из мемуаров той эпохи вырисовывается благородный образ этого прекрасного человека. Он помогал не только Пушкину. А. О. Смирнова рассказывала, как он несколько раз выручал Гоголя, с которым тоже был в коротких отношениях: ходатайствовал перед председателем Цензурного комитета Дондуковым-Корсаковым о послаблении цензуры к произведениям Гоголя, добился у императора разрешения на постановку «Ревизора» и выхлопотал у царя для бедствующего писателя субсидию в 4000 рублей. Удивительный человек был этот милый граф. Его библиотека была наполнена разных книг и разных документов, он прочитал всю эту литературу в 20 000 томов, был масон петербургской ложи с другом своим Сергеем Степановичем Ланским. Дружба Виельгорского с Поэтом до сих пор остаётся малоизученной. Но не моя задача углубляться в подробности их отношений.
В 1842 г. на вечере у Одоевского граф М. Ю. Виельгорский почёл своим долгом обстоятельно рассказать обо всём возвратившемуся в Петербург брату Поэта Лёвушке. По прошествии времени подробности этого разговора стёрлись из памяти барона Ф. Бюлера. Бесспорно одно — Михаил Юрьевич упомянул имя князя в связи со вторым письмом. Но добропорядочный барон невольно попал и под влияние смертельно ненавидевшего Долгорукова князя Одоевского и поддался впечатлениям от наделавшей много шума книги А. Н. Аммосова «Последние дни жизни А. С. Пушкина». И сам того не желая, сместил акценты в трактовке рассказа графа. Хотя известные нам факты противоречат его добросовестному свидетельству: друзья Пушкина — Вяземский, князь Горчаков, сам Виельгорский, и даже родной брат Поэта продолжали весьма дружески относиться к подозреваемому пасквильщику.
Версия II — княгиня Б.
Из воспоминаний К. К. Данзаса (опубликованы в 1863 г. Аммосовым): Партизаны враждующих сторон разделились весьма странным образом, например: одна часть офицеров Кавалергардского полка, товарищей Дантеса, была за него, другая за Пушкина; князь Б. был за Пушкина, а княгиня, жена его, против Пушкина, за Дантеса, вероятно по случаю родства своего с графом Бенкендорфом. Замечательно, что почти все те из светских дам, которые были на стороне Геккерена и Дантеса, не отличались блистательною репутациею и не могли служить примером нравственности; в числе их Данзас не вмешивает, однако же, княгиню Б.[251]
Рассказ Петра Александровича Ефремова (записан в 1899 Сувориным): Уваров послал анонимное письмо к Пушкину о рогоносцах. Конст. Петр. Долгоруков и князь Гагарин утверждали, что они не принимали в этом участия. Николай I велел предупредить дуэль. Геккерен был у Бенкендорфа. «Что делать мне теперь?» — сказал он княгине Белосельской. «А вы пошлите жандармов в другую сторону». Убийцы Пушкина — Бенкендорф, княгиня Белосельская и Уваров. Ефремов и выставил их портреты рядом на одной из прежних пушкинских выставок. Гаевский залепил их[252].
Из письма П. А. Вяземского жене — март 1840 г.: Прежде заезжал я на часок к княгине Зенаиде, которая принимает у младших Белосельских, к коим, между прочим, я езжу. Но с молодою княгинею с нынешней зимы начал опять кланяться.
Расшифрую упоминаемые в этом отрывке имена. «Зенаида» — княгиня Зинаида Александровна Волконская, урождённая Белосельская-Белозерская, приятельница Пушкина. «Младшие Белосельские» — её сёстры Екатерина и Елизавета. Первая — замужем за генералом-адъютантом И. О. Сухозанетом. Вторая за военным министром князем А. И. Чернышёвым. И наконец, «молодая княгиня», с которой после смерти Пушкина не кланялся Вяземский, — Елена Павловна, по мужу Белосельская-Белозерская, урождённая Бибикова. Та самая роковая женщина, которую называли Данзас и Ефремов. Она была падчерицей Бенкендорфа — но это ещё не повод для её ненависти к Поэту. Как убедимся дальше, причин для вражды к Пушкину у княгини было предостаточно. Немалое значение для выскочки Елены Бибиковой имела и разделяющая их иерархическая пропасть. Белосельские-Белозерские были крепко связаны с российской олигархией — Чернышёвым, Сухозанетом, Бенкендорфом.
Без сомнения, влияние родственников тоже сыграло свою роль. Дядя Белосельской по отцу полковник И. П. Бибиков был начальником жандармской службы в Москве. Бенкендорф возложил на него слежку за интимными связями издателя «Московского вестника» Погодина и его соратников — князя Вяземского, Пушкина: Вы меня бесконечно обяжете, если найдёте средство получить и представить нам в копиях поэтические отрывки, которые сей последний собирается передать Погодину для публикации в его журнале[253]. Усердный сыщик строчил свояку донесения о встречах Поэта с литераторами, о произведениях Пушкина в «Московском вестнике», даже о его гонорарах за стихи и, что самое комичное, — выражал своё «авторитетное» мнение о литературных достоинствах публикаций. Пушкин был притчей во языцех в семье Бенкендорфа. Семейная неприязнь к Поэту не могла не повлиять на отношение к нему будущей княгини Белосельской.
Повторю ещё одно сведение о Белосельской — в письме Дантеса к Геккерену: Бедняга Платонов вот уже три недели в состоянии, внушающем беспокойство, он так влюблён в княжну Б., что заперся у себя и никого не хочет видеть, даже родных…[254]
Княжна Б. — княгиня Елена Павловна Белосельская-Белозерская. Согласно древнему обычаю, она не имела права именоваться княгиней, пока была жива носительница этого титула — её свекровь Анна Григорьевна (урождённая Козицкая, 1767—1846). Деликатность к ней Дантеса — не называет её полным именем из осторожности (письма, особенно иностранцев, перлюстрировались) — говорит о дружественном к ней отношении. В противном случае зачем щадить постороннего ему человека. Эта дискретность означает и другое — Геккерену хорошо известно имя этой женщины и он без труда поймёт, кого Жорж имеет в виду. Подтверждение близости Дантеса к Белосельским находим и в переписке Карамзиных. Александр пишет брату о рауте у Белосельских 5 ноября 1836 г. Приглашение к ним получил через некоего Ковалинского, но не поехал — меня вовсе не устраивало, чтобы именно он представил меня в их доме. Через две недели он был введён туда Дантесом. Александр одевается, чтобы идти на раут к княгине Белосельской, пообедав вдвоём с Дантесом у этого последнего (из письма Е. А. Карамзиной от 20 ноября 1836 г.).
Из воспоминаний Смирновой-Россет:
Это отвратительное создание, Елена Белосельская, была окружена поклонниками; эта женщина кокетничала с Григорием Волконским и Сутцо, и неизвестно, чья дочь её вторая малютка — Григория или Сутцо. Я думаю, что Сутцо, потому что это прелестное дитя похоже на него как две капли воды. Платонов, часто бывавший в свете, был, как кузен, хорошо принят у неё; он любезен, у него очень доброе и не слишком некрасивое лицо — но я нахожу его ужасным с его мохнатыми ноздрями. <…> И вот по глупости он сделал ей формальное предложение; тогда эта рожа ответила ему с разгневанным видом: «Как бастард осмеливается домогаться моей любви!»[255] А так как Платонов очень чувствителен к этому пункту, это ранило его в самое сердце. Между тем эта злючка уже устроила и совершила брак своей очаровательной сестры Мари с Григорием. Ей всё нипочем, она в день свадьбы будет спать с Григорием и продолжит это потом, живя одновременно с Сутцо, это сука, потому что она не любит любовью своих любовников, она, как Като[256], любит только похоть и грязную болтовню. Так вот, Платонов сказал мне один раз в Питере: «Какой гнусный город этот Петербург, в нём не найдёшь истинных друзей, которым можно доверить страдания своего сердца». Я ему сказала: «Но доверьте мне ваши горести». <…> «Как вы добры и милосердны», — сказал он мне. Тогда он мне рассказал всю историю и сказал: «Я смертельно страдаю от страсти, я её обожаю и ненавижу, не могу управлять этими двумя чувствами»[257].
Даже при скидке на злоязычие Александры Осиповны вырисовывается не очень привлекательный образ княгини Белосельской. Её рассказ перекликается с отзывом Данзаса: …почти все те из светских дам, которые были на стороне Геккерена и Дантеса, не отличались блистательною репутациею и не могли служить примером нравственности; в числе их Данзас не вмешивает, однако же, княгиню Б.
Аммосов, опубликовавший воспоминания Данзаса в 1863 г., был вынужден сделать эту оговорку. Е. П. Белосельская, похоронив к этому времени обоих мужей — князя Эспера Александровича (умер в 1846 г.) и князя Василия Викторовича Кочубея (1812—1850), благополучно здравствовала. Она умерла в 1888 г.
Прежде всего эти два свидетельства современников Пушкина позволили мне включить Белосельскую в мой список кандидаток в «Супруги» Дантеса. Она отвечала необходимым условиям: 1) ненавидела Пушкина; 2) славилась своими любовными похождениями; 3) была в хороших отношениях с Дантесом; 4) и наконец, она была красива. Дантес же, как мы знаем, волочился за всеми красивыми женщинами.
Смирнова-Россет, несмотря на неприязнь к Белосельской, беспристрастно описала её внешность: Свет занялся свадьбой Елены Бибиковой, которая была маленького роста; у неё были чёрные глаза, а зубы как жемчуг; она дебютировала на folle journée, и её мать мне её препоручила. На устах явилась первая улыбка пренебрежения и насмешки. Свадьбу объявили с Эспером, князем древнего рода Белосельских-Белозерских, чему свидетельствует фамильный герб — рыбки. <…> Княгиня презирала бедного Эспера, о котором в[еликий] к[нязь] Михаил Павлович говорил, что у него голова, как вытертая енотовая шуба. Когда Эспер умер, после многих кокетств эта барыня выбрала в мужья красивого и милого Василия Кочубея, который не раз раскаивался в своём выборе. Она была взыскательна, капризна, поселилась в его доме, который перестроила и отделала очень роскошно; в гостиной повесила портрет Василия во весь рост, окружила цветами и зеленью…[258]
Привлекательность Белосельской отмечена и императрицей: У Аннет Бенкендорф, белой как алебастр, нет, мне кажется, столько обаяния, сколько у маленькой Белосельской, которая своими прекрасными глазами и очаровательной меланхолией больше привлекает мужчин, чем её сестра. (Из письма С. А. Бобринской 1836 г., без даты.)
И ещё одна «улика» — приблизительно в это время у Белосельской умирает ребёнок. По сведениям «Истории родов русского дворянства»[259] от брака с князем Эспером у неё было четверо детей: два сына, Николай и Константин, и две дочери, Елизавета и Ольга. Николай умер в младенчестве в 1836 г. В современном петербургском издании «Дворянские роды Российской империи»[260] приведена другая дата его смерти — 1846 г. Ещё один пример генеалогических ошибок. Именно это расхождение породило сомнение и надежду — а что, если ребёнок умер не в 1836 г., в 1835 г.? Тогда появляется шанс считать и Белосельскую кандидаткой в «Супруги» Дантеса! Но до тех пор, пока не будет достоверно установлен день отпевания маленького Николая (по недоступным сейчас петербургским церковным книгам), мои рассуждения — всего лишь одна из гипотез.
Оставляю этот шанс будущим исследователям. Я же дорисую образ этой женщины, используя многочисленные записи о ней в ещё не опубликованном на русском языке дневнике Долли Фикельмон.
1830 год, 20 января. Министр двора, начальник Главного штаба, генерал-адъютант Пётр Михайлович Волконский даёт бал в департаменте уделов[261]. Блестящий, непринуждённый, оживлённый, с придворной пышностью. Прекрасно освещённые залы, благоухание цветов из дворцовой оранжереи, роскошные туалеты дам. Веселящаяся императрица. Резвящийся, как ученик во время каникул, приехавший из Пруссии её младший брат принц Альберт. Император нерасположен и озабочен. Великая княгиня Елена Павловна тоже не в настроении — опасается выкидыша, но этикет не позволяет ей пренебречь балом. Великий князь Михаил держится с ней подчёркнуто заботливо и нежно. На этом параде суеты графиня Фикельмон как бы сторонняя наблюдательница. Знакомые все лица. Вот Александра Сенявина — в этот вечер она печальна и уныла. Вот её сестра, Елизавета Мейендорф[262], великолепная собеседница. Ещё один наш знакомец — барон Геккерен. Мне больно, когда сейчас вспоминаю, что в первые дни после моего приезда сюда я записала весьма нелестные впечатления о Геккерене. Мне хочется верить, что они абсолютно ошибочны; я очень привыкла к его компании и нахожу его остроумным и занимательным. Не могу не признать, что он злобен, по крайней мере в суждениях, но хотела бы надеяться, что общество фактически недооценивает его характер. Очень важное свидетельство — оно развенчивает сказку о любви высшего света к Геккерену. Не было её и накануне дуэли Пушкина с Дантесом, вопреки утверждениям современников. В высшем свете была группа, защищавшая Геккерена не столько из симпатий к нему, сколько из неприязни к Поэту. Были сплетни, раздуваемые этой кликой. Жужжание толпы переменчиво, как ветер. Многие из недругов Пушкина отвернулись от Геккерена. «Смерть — примиритель», — заметил А. И. Тургенев, наблюдая в церкви во время отпевания усопшего за растерянными лицами явных врагов Поэта — Блудова и Уварова. Осталось несколько, до конца жизни ненавидевших Пушкина, — в их числе была и княгиня Белосельская…
Она тоже в придворной толпе на том блестящем балу во дворце уделов. Восемнадцатилетняя Бибикова здесь, среди фешенеблей, благодаря положению отчима Бенкендорфа. Эли Бибикова уделяет большое внимание молоденькой Мятлевой. У неё приятное лицо, стройная, кокетка, остроумная и, как говорят, очень богата. Елена неспроста печётся о Вареньке Мятлевой. Она обхаживает богатую девушку ради своего кузена Ильи Бибикова. Целый год Илья увивался за Мятлевой, дважды сватался к ней и получал отказы. Наконец, через год, усилия семейки увенчались успехом — милая, живая, но, главное, очень состоятельная Варенька дала согласие на брак с Бибиковым.
Елена облегчённо вдохнула и стала выбирать подходящую партию для себя. 14 февраля 1830 г. Пётр Волконский устраивает маскарад. Всё та же избранная публика — императрица, придворные сановники, их жёны, дочери. Елена среди них. Она участвует в кадрили на тему «Завоевание Мексики Эрнаном Кортесом». Императрица изображает дочь Монтесумы, вождя ацтеков, захваченного в плен Кортесом. Станислав Потоцкий — самого Монтесуму. Наталья Строганова, княгиня Юсупова, баронесса Мария Фридерикс представляют мексиканок в красном. Княжна Урусова, Лиза Баранова, София Моден, Екатерина Васильчикова — мексиканок в синем. Россет и Елена Бибикова — мексиканок в розовом. Кадриль собрала всех известных нам светских знакомых Пушкина. Среди них и Елизавета Черткова, Анатолий Демидов, граф и графиня Завадовские, Григорий Волконский, Василий Кутузов, Адам Ленский, Николай Смирнов, князь Гагарин, Владимир Соллогуб, Станислав Коссаковский, князь Юсупов, юная Булгакова и сама Долли Фикельмон.
В начале октября 1831 года Елена Бибикова выходит замуж. Это событие отражено в дневнике Фикельмон: Неделю назад мы были на свадьбе Белосельского с Еленой Бибиковой. Перед множеством зрителей утром в Казанском соборе состоялась церемония. Она была очаровательно свежа, юная, грациозная. Она слишком мала ростом и чересчур миниатюрна, чтобы можно было назвать её красивой, но очаровательна, а это значительно больше. Он также маленький, не особенно красивый, но добродушный и безумно влюблён. Его семья радостна и счастлива принять в свой дом эту столь милую и грациозную маленькую женщину (запись 16 октября 1831 г.). Через несколько дней графиня Лаваль, кузина Эспера Белосельского по матери, даёт в честь молодожёнов бал: …прекрасный, блестящий, оживлённый. <…> Елена Белосельская, причёсанная на китайский манер, с нитью из огромных бриллиантов на лбу, была свежа как роза. Всему её облику присуща некая примечательная простосердечность и чистота. Графиня Фикельмон ошибалась — она явно попала под влияние мнимого простодушия маленькой притворщицы. Смирнова-Россет оказалась более проницательной: На устах явилась первая улыбка пренебрежения и насмешки. Но дорого обошлось это притворство новоиспечённой княгине. Нервное напряжение последних месяцев, разыгрывание перед женихом, его семьёй, перед светом роли влюблённой и счастливой невесты, страх выдать себя, совершить ошибочный шаг и, пожалуй, самое главное, — отвращение к мужу разразилось кризисом: Довольно печальное событие в обществе — история с красивой Еленой Белосельской, на чьей свадьбе мы присутствовали и где она сияла свежестью, красотой и счастьем. Через 15 дней после свадьбы она заболела, у неё развилась какая-то затяжная лихорадка, и вот уже дрожат за её жизнь. Надеюсь, Господь вернёт её матери, которая души в ней не чает и боготворит её, как идола! (Запись в дневнике Фикельмон от 6 декабря 1831 г.) Спас её придворный врач Арендт. К концу декабря княгиня встала на ноги.
И сразу же взялась за перестройку дома на Невском проспекте у Аничкова моста. Дворец был сравнительно новым — построен князем А. М. Белосельским-Белозерским в 1800 году. Фасадом выходил на Фонтанку, украшен портиками из колонн и пилястров, фигурами атлантов. Интерьер был стилизован под рококо. Княгиня распорядилась отремонтировать большую часть помещений. Только огромный зал и высокая просторная галерея сохранили первоначальный облик. Везде позолота, картины, антиквариат, роскошная мебель. Всё дышало старинным величием, какого, пожалуй, нигде больше не было в Петербурге. Старый князь, отец Эспера, был мудрым и образованным человеком с утончённым вкусом. Почти всё своё состояние вкладывал в произведения искусства. Вдова и сын особым вкусом не отличались, но из уважения к князю сохранили всё в неприкосновенности.
В начале февраля следующего года маленькая хозяйка огромного дворца устраивает свой первый приём. Бал был почтен присутствием их императорских величеств. Графиня Фикельмон впервые в этом чудесном особняке. Он напоминает ей дворцы Италии, где всё наполнено атмосферой старины и традиция не допускает никаких новшеств. Я люблю ощущать в домах богатых аристократов дух их предков, умевших жить роскошно, на широкую ногу… — Затем добавляет: — В этом отношении я могу считать себя сверхаристократкой! И ещё одна подробность — в ней отзвук бесед с Пушкиным о российских аристократах. Фикельмон иронично отмечает возмущение великого князя Михаила увиденным в столовой Белосельских родовым гербом. Брата императора уязвила кичливость потомков древнего рода своей знатностью. Он нашёл это смешным и не на шутку рассердился. <…> Эта фамилия существует ещё со времён Рюрика и сохранила свой титул Владык Синего озера, поэтому их род намного древнее Романовых.
Белосельская продолжает блистать на балах. В живых картинках у графини Лаваль молодая княгиня изображала двух святых — Цецилию и Кристину. Трогательно хороша. Она дышит молодостью, наивностью, чистотой, невинностью, в её больших чёрных глазах столько благочестия, что ей чудесно удалось перевоплощение в святых мучениц. Княгиня прекрасно справлялась с этим амплуа. Семейная жизнь была мучительна — ей, ещё не вкусившей радостей девичества, нелегко было играть роль счастливой супруги. В душе она считала себя мученицей. Эта маска невинной страдалицы была ей очень к лицу. Жертва, принесённая Молоху, — многие ли могут осудить её за это? Сказочное богатство Белосельских, в том числе принадлежавший им Крестовый остров с прекрасным дворцом и великолепным парком, оправдывало её «подвижничество».
Поэтическое описание графиней Фикельмон внешности молодой княгини напомнило мне образ из стихотворения Пушкина «К***». Написанное в октябре 1832 г., оно не публиковалось при его жизни. Исследователи предполагают, что стихи посвящены Надежде Львовне Соллогуб. Но эпитеты деве — младое, чистое, небесное созданье — почти повторяют Доллины слова о Белосельской: дышит молодостью, наивностью, чистотой.
Я вспомнила рассказ князя В. П. Горчакова о некой светской красавице, хозяйке аристократического салона, которая попросила Пушкина написать ей в альбом посвящение, не имея никаких особых прав на его преданность. Это не было просто просьбою простодушного сердца, а чем-то вроде требования по праву. Пушкин отказывался — дескать, не мастер альбомных экспромтов.
— Э, полноте, т-r Пушкин, — заметила баловень. — К чему это, что за умничанье, что вам стоит? <…> Пушкин вспыхнул, но согласился. На следующий день, когда у этой дамы был приём, принесли от Поэта альбом. Красавица прочитала стихи, и её глаза вспыхнули самодовольством.
Нет, нет, не должен я, не смею, не могу Волнениям любви безумно предаваться; Спокойствие моё я строго берегу И сердцу не даю пылать и забываться; Нет, полно мне любить; но почему ж порой Не погружуся я в минутное мечтанье, Когда нечаянно пройдёт передо мной Младое, чистое, небесное созданье, Пройдёт и скроется?.. Ужель не можно мне, Любуясь девою в печальном сладострастье, Глазами следовать за нею в тишине, Благословлять её на радость и на счастье И сердцем ей желать все блага жизни сей, Весёлый мир души, беспечные досуги, Всё — даже счастие того, кто избран ей, Кто милой деве даст название супруги.Бесспорно, стихотворение посвящено другой женщине — возможно, Надежде Соллогуб, фрейлине великой княгини Елены Павловны, но вероятнее всего Урусовой, чья помолвка с Александровым была объявлена в середине сентябре 1832 г. О чём говорят последние две строки стихотворения и дата его создания — 5 октября — тогда весь Петербург был занят предстоящей свадьбой фрейлины императрицы. Соллогуб же вышла замуж лишь в 1836 г. В чистой поэзии поток поэтического вдохновения захлёстывает все земные мысли — и для Поэта уже никакого значения не имел очевидный факт связи Урусовой с императором. Он воспевал девичью чистоту голубоглазой белокожей красавицы — блудницы с небесным взором ангела. Всё остальное — проза жизни. Примеров тому немало в его творчестве. Вспомним его стихи к Анне Керн «Я помню чудное мгновенье…». Гения чистой красоты Пушкин за глаза называл вавилонской блудницей.
Но вернёмся к Белосельской. Она требовала от Поэта воспевания, она язвительно назвала его отнекивание умничаньем. Это задело Пушкина, и он решил вернуть ей обиду. Предназначенное для другой стихотворение переадресовал «прекрасной Елене». И такое с ним не раз случалось. Но чтобы избавить себя от угрызений совести и унизить досадницу, проставил вместо соответствующего числа дату 1 апреля, испокон веков означающую розыгрыш.
Прелестному пушкинскому мадригалу «К***» вполне подходит отзыв Горчакова о стихотворении в альбоме капризницы: Знаю только то, что в этом послании каждый стих Пушкина до того был лучезарным, что, казалось, брильянты сыпались по золоту, и каждый привет так ярок и ценен, как дивное ожерелье, написанное самою Харитою в угоду красавице. Но через час-другой один из гостей вновь прочитал стихотворение и, поняв, в чём дело, невольно вскрикнул: «Боже, что это?» Хозяйка выхватила у него альбом и вдруг вся вспыхнула, на лице проступили пятна, глаза сверкнули, и альбом полетел в другую комнату.
Описание князя Горчакова избалованной аристократки напоминает всё то, что мы знаем о Белосельской: взыскательная, капризная, самодовольная, язвительная, высокомерная, тщеславная, расчётливая. Существенным аргументом для моего предположения является неизвестный в пушкинистике факт пребывания кн. Горчакова в Петербурге в январе-феврале 1833 года. До сих пор считалось, что Пушкин в последний раз виделся с князем в 1825 г. в псковском имении дяди Горчакова — Пещурова. И, таким образом, его рассказ о курьёзном посвящении неизвестной даме относили к петербургскому периоду жизни Поэта до 1820 г. Зимой 1833 г. Александр Михайлович приехал в отпуск из Вены, где служил советником в русском посольстве. Долли Фикельмон сразу же обратила внимание на новое лицо в петербургском обществе. Я уже приводила её дневниковые записи того периода о романе Горчакова с Натальей Строгановой. Многие красавицы обратили тогда внимание на перспективного жениха. Среди модных мужчин, которых отличают элегантные светские дамы, отдавая им предпочтение, — Лобанов, Горчаков и Мейендорф. Молодёжь в этом сезоне уступила им пальму первенства. (Запись в дневнике Фикельмон от 14 февраля 1833 г.) 2 февраля дипломат присутствует на большом балу у княгини Белосельской. Я развлекалась, несмотря на вывихнутую ногу; была в хорошем настроении и впервые в этот вечер разговорилась с князем Горчаковым, который, несмотря на свою некрасивость, очень приятный и оригинальный собеседник, — отметила Долли.
Итак, мою версию подтверждают два факта: пребывание Горчакова в Петербурге и его присутствие на балу у Белосельской, где он мог стать свидетелем описанной выше сцены. Вместо новых брильянтов, которые сыпались по золоту и должны были усилить блеск фамильных драгоценностей в туалете княгини, она была осмеяна перед сливками высшего света. Разве могла высокомерная аристократка простить Пушкину такое оскорбление? И смертельно не возненавидеть его на всю жизнь? Живой, бойкой на язык княгине изменило чувства юмора — она не смогла достойно выйти из положения: вспыхнула, на лице проступили пятна, глаза сверкнули, и альбом полетел в другую комнату. Сказалось дурное настроение, в котором она, по свидетельству Фикельмон, пребывала в последнее время. В ноябре 1832 г. Белосельская родила первого ребёнка. Послеродовая горячка чуть не стоила ей жизни. После болезни стала нервной, подурнела, счастливое выражение исчезло с лица. Сострадательная Фикельмон сочувствует «малютке». Запись 26 января 1833 г.: Маленькая Белосельская много потеряла от своей красоты; бедная женщина, она выглядит не очень счастливой, нельзя без сожаления вспоминать ту радость, которую доставил её семье этот богатый и блестящий брак! И вновь о ней через два дня: Не могу надивиться перемене в этой красивой Елене Белосельской. Её прекрасные глаза совсем потухли, и какой-то острой болью пронизаны все её черты. Она, вероятно, чувствует себя очень несчастной, хотя, казалось бы, её сердце должно быть переполнено неведомой ей доселе радостью материнства. Её вид заставляет меня сочувствовать всем женщинам, которые имеют мужьями сегодняшних молодых людей. У всех мужчин до тридцатипятилетнего возраста наблюдается полное отсутствие сердечности, навыков и такая сухость и холодность, что надо считать большой заслугой их бедных жён, если они всё-таки продолжают их искренне любить. Учтивость, рыцарская галантность, любезность, хорошие манеры присущи только более пожилым мужчинам, а когда все эти экземпляры вымрут, что станется с молодыми людьми?
Сведения из дневника Долли помогают нам лучше понять женщину из стана врагов Пушкина. Фикельмон теперь, кажется, поняла, что в блестящий брак Елена Бибикова вступила по расчёту. Не будем строго судить её за это — она лишь следовала старой, как мир, традиции. В отличие от Долли не нашла в семейной жизни счастливого благополучия. Жизнь с нелюбимым человеком тяжёлым крестом придавила её душу. Родила озлобление, вымещаемое на муже, на окружающих. Не помогало и утешение, которое она искала на стороне.
О Белосельской ещё несколько записей в дневнике Фикельмон за 1833—1834 гг. Большую часть 1835 года австрийская посланница вместе с мужем провела за границей. В 1836—1837 гг., к сожалению, почти не вела дневник. Сведения о роли Белосельской в преддуэльной истории почти отсутствуют. Сохранилось лишь два упоминания о ней — в письме С. Н. Карамзиной брату от 9 января 1837 г. и в письме князя П. Вяземского графине Э. К. Мусиной-Пушкиной. Оба они заслуживают быть процитированными. В них штрихи к облику зловещей княгини, которые не нуждаются в комментариях. Она — враг Пушкина, и этим всё сказано. Более преступно легкомыслие его ближайших друзей. Ведь описываемые ими события происходили за несколько дней до гибели Поэта. Они звучат страшным диссонансом к трагическому состоянию его души.
София Николаевна, как обычно, рассказывает брату о своих светских развлечениях: Для нас с Александром эта неделя была отменена тремя балами, один из которых был дан Мятлевыми[263] в честь княгини Лондондерн (которая продолжает ослеплять Петербург блеском своих брильянтов). Танцевальный зал так великолепен по размерам и высоте, что более двухсот человек кажутся рассеянными там и сям, в нём легко дышалось, можно было свободно двигаться, нас угощали мороженым и рязановскими конфетами, мы наслаждались ярким освещением, — и всё же ultra-fashionables[264] вроде княгини Белосельской и князя Александра Трубецкого покинули его ещё до мазурки — явное доказательство того, что находят бал недостаточно хорошего тону. Мне же там было весело, и, протанцевав добрых пять часов, я ужинала с большим аппетитом.
Вяземский о том же — о безумном карнавале светской жизни зимой 1837 г.: 20 января. Бал у госпожи Сенявиной. Элегантность, изящество, изысканность, великолепная мебель, торжество хорошего вкуса, щегольство, аромат кокетства, электризующего, кружащего, раздражающего чувства, все сливки общества, весь цвет его <…> — всё это придавало балу характер феерический. Поэтому возбуждение было всеобщим. Самые малококетливые женщины поддались всеобщему настроению. <…> То была словно эпидемия, словно лихорадка, взрыв сладострастных чувств. Княгиня Элен Б. танцевала с Кочубеем, и роман их должен был продвинуться ещё на несколько глав вперёд…[265]
Было, было в чём каяться Петру Андреевичу, когда во время панихиды по усопшему он лежал простёртым ниц в Конюшенной церкви. Равнодушие и беспечность друзей — преступление более тяжкое, чем интриги врагов. Вот уже сто шестьдесят лет выясняют причины гибели Пушкина. Ищут авторов пасквиля, ссылаются на материальные трудности, на травлю света, слежку жандармов, семейную драму, невозможность целиком отдаться творчеству в этих условиях. Но забывают главных виновников его трагедии. Их имена давно известны — это отвернувшиеся от Поэта ближайшие его друзья.
Версия III — графиня София Б.
Мадам Н. и графиня София Б. шлют тебе свои лучшие пожелания. Обе они горячо интересуются нами, — писал Геккерен арестованному Дантесу.
По крайней мере три представительницы петербургского общества могли отвечать этому полузашифрованному Геккереном имени графини — София Бобринская, София Борх и София Бенкендорф. Все трое годятся на роль приятельницы Дантеса, но лишь одна могла быть его тайной «Супругой». Но какая? Софию Александровну Бенкендорф — младшую из трёх дочерей шефа жандармов — я вынуждена сразу же исключить из списка подозреваемых по весьма простой причине — не сумела найти о ней никаких сведений. Её имя обнаружила в «прорисях» Чернецова к его картине «Парад на Марсовом поле». Среди персонажей полотна она изображена вместе со своими родными сёстрами — фрейлиной императрицы Анной (белая как алебастр Аннет — так назвала её императрица в цитированном выше письме Бобринской), Марией и сводной сестрой Еленой Белосельской. Но по виду — подросток лет 13—14, а значит, в 1836 г. ей было не более 19-ти. Отсутствие информации, конечно же, не аргумент для устранения её из возможных кандидаток в любовницы Дантеса. Нужно продолжать поиски в архивах. Я пока лишена этой возможности. Уступаю это право другим.
О Софии Борх известно больше. П. Щёголев провёл тщательное расследование и опубликовал обнаруженные о ней сведения в книге «Дуэль и смерть Пушкина». Софья Ивановна — дочь графа И. С. Лаваля. Её сёстры — Екатерина, Зинаида и Александра — давно были замужем. Первая за декабристом Сергеем Трубецким — она последовала за ним в ссылку в Сибирь. Вторая стала женой бывшего австрийского посланника в Петербурге Людвига Лебцельтерна. Самая младшая, Александра, в 1829 г. была выдана за графа Станислава Корвина-Коссаковского, церемониймейстера, сенатора, а с 1832 г. посланника при мадридском дворе. Софья засиделась в девицах. И когда камергер двора Александр Борх сделал ей предложение, оно было принято без раздумий. Не любовь к некрасивой двадцатичетырёхлетней девушке толкнула его на этот брак, а очевидный расчёт, о чём он не таясь трубил повсюду. Камергер и тайный советник Иван Степанович Лаваль — француз, благополучно обустроившийся в России, был начальником Борха по Министерству внешних сношений. Женитьба на дочери богатого и влиятельного при дворе графа сулила ему блестящие перспективы. Его надежды оправдались, и уже через год, в апреле 1834-го, Александр получил должность церемониймейстера. А позднее — пост директора императорских театров. Беда, коль пироги начнёт тачать сапожник…{4} Подвизавшийся ранее на дипломатическом поприще Александр Михайлович, возможно, разбирался в политике, но театр, литература оставались для него терра инкогнито{5}. Князь Долгоруков рассказывает об одном из его курьёзов: вовсе незнакомый с литературой, а ещё менее с русской, он перепутал столь интимного при дворе автора «Князя Серебряного» Алексея Толстого с каким-то бездарным писакой, сочинившим пустейшую пьесу того же названия. И желая угодить их императорским величествам, распорядился выделить на её постановку 8000 рублей серебром, тогда как для пьес хороших, изящных, отказывают в издержках под предлогом скудности казны[266].
Брак Борха с графиней Лаваль устраивал обе стороны. София Лаваль помолвлена за Борха, и старик Лаваль не стоит на ногах от радости, а зыблется. Вчера во дворце у всенощной, с вербою и свечкой в руке, il avait l’air d’un feu follet[267] (из письма П. Вяземского А. И. Тургеневу).
София Ивановна была женщиной доброй и сострадательной. Занималась благотворительностью. А с 1834 г. стала членом совета Патриотического дамского общества. Она оказалась верною супругой и добродетельной матерью. Наш желчный знакомец князь Пётр Долгоруков очень доброжелателен к ней. В одной из своих статей в журнале «Правдивый» он упомянул о графине Борх: Она — одна из самых выдающихся русских женщин, одарённая высоким умом, проницательным в высшей мере и в то же время обаятельным, превосходным сердцем и благородным характером. Она дала доказательство своих качеств в своём поведении по отношению к своей сестре, жене князя Сергея Трубецкого, сосланного в Сибирь Николаем. Графиня Борх в течение всей ссылки была добрым ангелом своей сестры и её семьи[268].
Только одного этого отзыва достаточно, чтобы снять с неё обвинение в причастности к интригам Геккерена. Бесспорно, она водила знакомство с посланником и его приёмным сыном. Борх была доброй приятельницей Долли Фикельмон. А Геккерен, как уже говорилось, входил в её компанию. Конечно же, салон Фикельмон — не единственное место, где София Ивановна могла встречаться с голландским посланником и Дантесом. Известно, что Геккерен посещал также роскошный особняк на Английской набережной[269], принадлежавший её матери — графине Лаваль.
Имя новорождённых аристократов Лавалей часто встречается в рассказах бытописателей пушкинской эпохи. История возвышения этого рода — прекрасная иллюстрация для грустных размышлений Поэта о российской знати. Позвольте представить вам эту семью — она заслуживает небольшого отступления от канвы повествования.
Александра Григорьевна Лаваль была дочерью Козицкого и одной из наследниц богатейшего купца Мясникова. Сын разорившегося во время французской революции виноторговца Жан Лаваль приехал в Россию на ловлю счастья и чинов. Устроился учителем в Морской корпус (французик из Бордо дипломов об образовании не имел, зато совсем прилично изъяснялся на родном, хотя и южного диалекта, наречии!). Жизнерадостный, симпатичный Жан быстро пошёл в российскую гору — и вскоре уже занимал пост в Министерстве иностранных дел. Павел I пожаловал его в камергеры. Пришла пора жениться, и Жан наметил себе невесту — не очень молодую — 27-ми лет, зато очень богатую Александру Григорьевну. Всё бы хорошо, да матушка воспротивилась — жених был недостаточно знатным для выскочек Козицких. Воинственная купеческая дочка смело ринулась в бой за своё счастье. Она припала к стопам императора, слёзно умоляя благословить её брак с французом. Строптивый Павел сурово допросил матушку.
«Да как же, батюшка, — ответствовала старшая Козицкая, — перво-наперво, Лаваль не нашей веры, второе — никто не ведает, откуда он родом, к тому же и чин-то у него больно невелик!» — «Эка беда! — воскликнул император. — Во-первых, он — христианин, во-вторых — Я его знаю! Ну, а в-третьих, для Козицких — чин у него достаточный! А посему — обвенчать!»
Так француз Жан стал русским Иваном Степановичем и вольготно зажил на Руси. Приобрёл в Петербурге некогда принадлежавший Меньшикову{6} участок земли, на котором ещё в 90-х годах XVIII века архитектор Воронихин построил особняк для Остермана. Модный в то время архитектор Тома де Томон перестроил его на французский манер. Лаваль бесстыдно объявил себя потомком герцогов Монморанси и приказал поместить на фронтоне здания их фамильный герб. За деньги чего только не купишь — даже бессмертие, как недавно выразился один российский нувориш! Лаваль тому пример — имя его вместе с дворцом (достопримечательностью города) вписано в петербургские анналы. Каким-то образом герцоги дознались о проделках новоявленного «родственника», и Ивану Степановичу, как рассказывает маркиз де Кюстин, позднее пришлось убрать герб с фронтона. Как бы то ни было, дворец получился на диво. Петербург восхищённо ахнул. А Лаваль стал закатывать в нём пиры, да так, что дивились миры. Столы ломились от яств — гигантские осетры, варенная в сливках телятина, начинённые орехами индейки, шампанское — рекой, благоухание заморских фруктов посередь зимы. Мясниковские капиталы позволили ему щедро отвалить изрядную сумму проживавшему в скудности в России потомку Бурбонов Людовику — будущему королю Франции Луи XVIII. За что тот пожаловал Лавалю графский титул.
Новоявленная графиня Лаваль принялась играть роль хозяйки модного литературно-художественного салона. Пушкин читал здесь своего «Бориса Годунова». Бывали у Лавалей Жуковский, Грибоедов, импровизировал Мицкевич. Александра Григорьевна даже пробовала своё перо в литературе — ей принадлежал, как твердит молва, прозаический перевод на французский язык стихотворения Пушкина «Клеветникам России».
Пятерых детей произвели на свет супруги Лаваль: сына и четырёх дочерей. Корнет конной гвардии Владимир в 21 год неведомо отчего покончил жизнь самоубийством в пензенском имении родителей. О дочерях я уже говорила. Одна из них — героиня нашего рассказа София Борх.
Не беру на себя роль её адвоката. Просто попытаюсь с помощью сведений из неопубликованного дневника австрийской посланницы смягчить категоричный приговор П. Щёголева: По всем данным, графиню С. И. Борх должно считать в лагере врагов Пушкина[270].
Графиня Фикельмон подружилась ещё в Австрии с сестрой Софии Ивановны — Зинаидой Лебцельтерн, доброй и сердечной. Её супруг Людовик Лебцельтерн десять лет (в 1816—1826 гг.) был посланником Австрии в Петербурге. Человек, по словам П. В. Долгорукова, умный, весьма ловкий, хитрейший. Князь Пётр не ошибся в своей оценке. Долли Фикельмон в дневнике подтвердила мнение Долгорукова:
Лебцельтерн, наряду с умом, бесподобной утончённостью, суетностью, исключительным добродушием в поведении и очаровательной весёлостью в беседе, наверное, обладает ещё тысячами других качеств. Он всегда относился к нам дружески, особенно ко мне. Так что в этом отношении я обязана платить ему только признательностью. Но при всём этом, несмотря на то что его компания может быть очень приятной, я чувствую, как моё сердце тихонько закрывается при его приближении. Вероятно, это происходит оттого, что у него, без сомнения, характер интригана, типичный для южанина и столь чуждый моей натуре, и это отдаляет меня от него [271] .
Он, в сущности, — сводный брат российского канцлера Нессельроде, настоящим отцом которого был австрийский дипломат барон Лебцельтерн. Своей карьере Лебцельтерн-старший был обязан деду, крещёному еврею, лейб-медику императора Карла VI. Вероятно, имя Нессельроде — Карл — было дано ему в честь прадеда. Происхождение Нессельроде объясняет многое в его деятельности на посту министра иностранных дел России. Он не только боготворил своего кумира Меттерниха, но фактически был его слугой и верноподданным. Немудрено, что его братец довольно долго оставался посланником в Петербурге. А затем в 1829 г. был определён на место Фикельмона при неаполитанском дворе. Граф же Фикельмон переводился послом в Россию. Пока Фикельмон и Лебцельтерн готовились в Вене к новым должностям, их жёны кружились в светском вихре. Зинаида знакомила Долли с венскими аристократами. Балы следовали один за другим, иногда по несколько в день, концерты, увеселительные прогулки в колясках — по живописным окрестностям, на пароходах по Дунаю, посещение загородных ресторанчиков. Общительная Фикельмон за полгода пребывания в австрийской столице приобрела кучу друзей. Познакомилась она здесь и с гостившим у дочери графом Лавалем. Иван Степанович был человеком с причудами — то замкнутый и холодный, то любезный, так и сыплет остротами, грациозно-очаровательными каламбурами. Но таким он бывает раз в десять дней, — иронично заметила графиня Фикельмон.
В ночь на 30 июня 1829 г. Фикельмоны приезжают в Петербург. Для них уже был арендован дом Ланского на Чёрной речке. В даче напротив поселились мать Долли Е. М. Хитрово и её тётушки. Долли наносит первые визиты — к престарелой, живущей вместе с племянницей гр. Кочубей, Н. Загряжской, к жене бывшего министра финансов г-же Гурьевой, княгине Долгорукой-старшей, Александре Сергеевне Салтыковой — жене штаб-ротмистра лб.-гв. Конного полка, графам Лавалям. Супруга Ивана Степановича разочаровала Фикельмон: Графиня Лаваль столь посредственна, что мне становится больно, как только подумаю, что она мать моей доброй Зинаиды! Я вновь с большим удовольствием встретилась здесь с ней. Она выдаёт замуж свою младшую сестру за Коссаковского.
Теперь графиня Фикельмон в числе обязательных званых гостей на скучных вечерах у Лавалей. Их претенциозный дом шокировал её эстетическое чувство: большой круглый зал с расписным, наподобие итальянских, потолком был наполнен античными статуями, произведениями искусства, среди них — купленные у Е. М. Хитрово драгоценные этрусские вазы. В зале хозяйка проводила свои литературные вечера, а танцы обычно устраивались в маленькой гостиной, где не продохнуть от тесноты и духоты. Танцевали в узком плохо освещённом помещении. Всё вокруг очень напоминает корчму, — записала Долли в дневнике 28 ноября 1829 г. Бедная Долли — какая тяжкая обязанность светская жизнь! Посещать неинтересных людей, улыбаться, произносить пустые фразы! Старый, примечательно уродливый, полуслепой граф Лаваль был ей более симпатичен, чем его посредственная жена. Он был остроумным, выкидывал иногда презабавные фортели. На организованном императрицей комическом маскараде появился в обличье Грации и был уморительно смешон.
В мае 1832 г. Зинаида Лебцельтерн приехала пароходом из Неаполя в Петербург — свидеться с родными. Долли с радостью встретила дорогую, любимую подругу. Она принесла мне частицу неаполитанской атмосферы, неаполитанской жизни; её приезд возвратил меня к моим тамошним знакомым. Зинаида слишком умна и обладает слишком большой душой, чтобы не любить и не восхищаться Италией. Всё лето они вместе. Фикельмон через Зинаиду сближается с Софией Лаваль. Сёстры были очень дружны. В конце августа Лебцельтерн возвращается в Неаполь. Долли и София провожают её до Кронштадта. Между ними завязывается дружба. Долли становится поверенной в её сердечных делах — как раз в это время начинается жениховство Борха. Вот подробности этой озадачившей общество женитьбы: Александр Борх, с которым я недавно познакомилась, довольно молодой человек, с одухотворённой физиономией, но не внушает мне ни малейшей симпатии! Я очень сожалею, потому что брак его с Софией Лаваль, видимо, решён. Она любит его, его семья стремится к этому браку, но я нахожу, что он чересчур много заставляет себя упрашивать, отчего я не могу с доверием относиться к тому, что София вверяет ему своё счастье. Она столь изысканна, столь душевна, что заслуживает брака по любви, а не ради сословных интересов. Женщины слишком храбры! В сто раз лучше подавить в своём сердце нежное чувство, чем привязать к себе цепью мужчину, который не может испытывать ничего иного, кроме отягчения быть любимым, при этом сам не любя![272]
Как ни заманчиво богатство и все выгоды предстоящего брака, Борх всё ещё не решался закабалить себя на всю жизнь женитьбой на нелюбимой женщине. В январе 1833 г. пошёл на попятную. София была в отчаянии, а вместе с ней и её родители. К оскорблённой гордости примешивалась боль за страдания любимого чада. Родные Борха не одобрили его поступок. Граф Лаваль пустил в ход всевозможные уловки, чтоб переубедить жениха. И преуспел. В конце марта было оповещено о помолвке.
Сватовство Борха к Софии Лаваль, так решительно расстроенное два месяца назад, снова возобновилось — брак решён и оповещён. Желаю большого счастья этой доброй и чудесной Софии. Она сейчас пьяна от радости, потому что любит его с 14-ти лет; но я весьма невысокого мнения о мужчине, который после того, как публично заявлял, что не любит её и не позволит другим принудить его к этому браку, теперь женится на ней, ибо рассудил, что это будет полезно для его карьеры и принесёт ему богатство! Бедные женщины! Сколь они безрассудны! (Запись в дневнике Фикельмон от 26 марта 1833 г.)
Через две недели графиня Александра Коссаковская устраивает бал в честь помолвки сестры. Я поехала туда, заранее настроенная скучать весь вечер. Но некоторые нашли этот бал весёлым. (Запись Фикельмон 11 апреля 1833 г.) Наконец состоялось бракосочетание. Странным на этой свадьбе казалось отсутствие необходимых сосредоточенности и взволнованности во время церемонии венчания. Вместе с другими я присутствовала и в католической церкви. Счастье Софии в этот день было похоже на сумасшествие, и в столь торжественный момент она, наверное, ничего другого, кроме радости, не ощущала. То улыбалась, то смеялась, когда произносилось брачное благословение. Если счастье в состоянии лишить человека рассудка, то с ней это легко случилось. Она вышла замуж 30 апреля. После этого я виделась с ней у них в доме. Борх произвёл на меня лучшее впечатление. Хотя он ни от кого и не скрывал, что женится на Софии, так сказать, из снисхождения, то по крайней мере хорошо с ней держится, — записала Долли 18 мая.
Это последняя запись о Софии Борх в дневнике Фикельмон. Затем её имя лишь вскользь упоминалось в связи с теми или иными светскими событиями. Долли по-прежнему продолжала бывать у Лавалей, где теперь жили и молодые. Этот скучный дом стал для неё ещё менее привлекательным с воцарением в нём несимпатичного ей Александра Борха. Для наблюдательного хроникёра теперь и вовсе не было здесь ничего достойного внимания. Есть какая-то странная закономерность в отношении графини к светским дамам — они перестают её интересовать после замужества. Улеглись предшествовавшие ему страсти, интриги, любовные терзания, измены, ревность. Наступил happy end. Счастливый и банальный конец. Занавес опускается, водевиль на сцене театра жизни окончен. Любопытство к нему угасло.
Возможно, что сострадательная представительница совета Патриотического дамского общества проявила сочувствие к раненому и отданному под суд Дантесу, горячо интересовалась им и даже передала находившемуся под арестом Жоржу привет. Допустим, что так оно и было. Но разве справедливо на основании одного этого факта причислять её к числу врагов Пушкина? И делать следующий, уже более глубокий вывод: она и была одной из тех дам, на которых ссылается Геккерен в письме к Нессельроде, — высокопоставленных и бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днём давал отчёт во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь. Одна из них определена — графиня Нессельроде. Гадают о другой — «графине Софии Б». Интуиция и факты, которыми мы располагаем, позволяют с большей достоверностью назвать второй «поверенной» Геккерена графиню Софию Бобринскую. А Софию Борх окончательно вычеркнуть из списка кандидаток в «Супруги». Всё, что мы знаем о ней, делает это предположение абсурдным.
Хочу напомнить роль Бобринской в слухах об увлечении Дантеса Пушкиной. Геккерен, по-видимому, ей первой сообщил о проказах своего подопечного — волокитстве за Натали. Ревнивый «батюшка» повёл тонкую игру. Ему надо было умерить пыл Дантеса к жене Поэта. Лучше Бобринской никто не мог помочь ему в этом. Это не голословное утверждение — таково же мнение о ней самой императрицы: Вы незаменимы, моя красавица, при выполнении самых трудных и щекотливых поручений. Априори могла существовать и другая причина доверительности Геккерена Бобринской — предположим, что до ноября 1835 г. она была возлюбленной Дантеса. Отвергнутая им графиня имела основания и для обиды и для мести. Геккерен рассудил — Бобринская немедленно поделится с царственной подругой сногсшибательной новостью. Александра Фёдоровна тут же передаст её императору. Николай, зная африканскую вспыльчивость Пушкина, не допустит скандала и отечески пожурит кавалергарда. Прицел был точным. Уже вечером того дня, когда было получено письмо от Геккерена, цесаревич в разговоре с Дантесом подтрунивает над его чувствами к Пушкиной. Дантес в ответном послании Геккерену «удивляется» — откуда наследник узнал об этом, ведь, пока я не получил твоего письма, никто в свете даже имени её при мне не произносил. Дантес лукавит — в обществе ещё никто не обратил серьёзного внимания на его ухаживание за Пушкиной. Она всегда была окружена поклонниками, и Жорж был всего лишь одним из многих. Хитрый сынок разгадал план батюшки и решил усыпить его бдительность — я отказался от свиданий и от встреч с нею.
В переписке императрицы с Бобринской содержится намёк на отношения графини с Дантесом. Как вы поживаете на ваших Островах? Кто вас навещает, кто верен вашим предвечерним собраниям? Я вспоминаю бедного Дантеса, как он бродил перед вашим домом (из письма Бобринской от 21 июля 1838 г.). Сказано мало, но вместе с тем и много. Александра Фёдоровна щадит чувства Бобринской и, чтобы не обидеть намёком, объясняет причину этого неожиданного воспоминания: читала «Онегина» Пушкина, описание дуэли напомнило ту печальную историю. Одно место меня поразило своей справедливостью, напомнив о Бархате: В красавиц он уж не влюблялся/ И волочился как-нибудь; / Откажут — мигом утешался, / Изменят — рад был отдохнуть./ Он их искал без упоенья/ И оставлял без сожаленья (подчёркнуто императрицей). Она оправдывается своим «Бархатом», но не его, а именно Дантеса напомнил ей этот пушкинский пассаж. Представим, что красавчик кавалергард не только бродил перед домом графини. Но заходил и внутрь, посещал её предвечерние собрания.
О том, что навещал, что сумел стать «mon ami» в доме Бобринских, свидетельствует сам Дантес. Отрывок из его первого письма Геккерену:
Вы помните, конечно, какая ужасная была погода, когда мы расстались. Так вот! Она стала ещё хуже; непогода разыгралась, стоило нам выйти в открытый залив; так что хороши же мы были; во-первых, Брей, который поначалу так важничал на большом судне, теперь не знал, какому святому молиться, и тотчас принялся возвращать в точности не только обед, съеденный на борту, но всё предыдущее за прошлую неделю <…>; граф Лубинский был вполне приличен в отношении опорожнения, но жалок умом, ибо не вполне отчётливо соображал; Барант неподвижно лежал навзничь, без шинели, посреди палубы, но держал парус от Кронштадта до Петербурга <…>; нет нужды называть вам героя экспедиции, вы уже догадываетесь! Да, Бобринский был великолепен, спокойный, импозантный в опасности, ибо опасность была, по его утверждению, чрезвычайная[273]. (Подч. мною. — С. Б.)
Итак, граф Бобринский в мае 1835 г. был уже в такой степени близок с Геккереном и Дантесом, что в дружеской компании провожал до Кронштадта уезжавшего за границу голландского посланника. Что происходило за кулисами этих почти панибратских отношений с супругом графини Бобринской, мы можем только предполагать.
Пофантазируем далее. Смелый и развязанный… очень красивый… избалованный постоянным успехом в дамском обществе (эпитеты Трубецкого) француз не пропускал вечера графини, открыто выражал ей своё восхищение, оказывал знаки внимания, отпускал комплименты. Графиня поддавалась его обаянию. И вот, улучив подходящий момент, Дантес проявил большую требовательность и сумел добиться успеха. Бушующая вокруг эпидемия сладострастия могла захватить и Бобринскую. Его пьянящий дурман не мог не щекотать нервов красивой и ещё сравнительно молодой графини — ровесницы императрицы. Дурной пример заразителен. Коли сама царица безустально меняла своих любовников, почему бы графине не вкусить этого не столь уж запретного сладостного плода? В обществе она слыла благоверной, очаровательной и умной женщиной. Именно благодаря своему уму вела себя осторожно и не давала повода для сплетен. Письма императрицы — единственное свидетельство её возможного романа с Дантесом. Связь могла начаться ещё в 1834 году, продолжалась до ноября 1835 г. А потом ветреный кавалергард увлёкся другой — молодой, первой красавицей Петербурга — Пушкиной. И оставил без сожаленья свою верную «Супругу».
Ещё одна ниточка к моему предположению — 19—20 марта 1837 г. Александра Фёдоровна в очень деликатных выражениях сообщает графине о завершении суда над Дантесом и о приговоре — высылке за границу. «Это всё-таки лучшее, что могло с ним случиться». Несколько деликатная интонация <…> позволяет догадываться, что отъезд Дантеса был для Бобринской огорчителен, — писала Эмма Герштейн.
Эмма Герштейн и Семён Ласкин подозревают Бобринскую в причастности к интригам против Пушкина. Но вспомним её ноябрьское письмо мужу: Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни. Анонимные письма самого гнусного характера обрушились на Пушкина. Всё остальное — месть, которую можно лишь сравнить со сценой, когда каменщик замуровывает стену. Посмотрим, не откроется ли сзади какая-нибудь дверь, которая даст выход из этого положения. Посмотрим, допустят ли небеса столько жертв ради одного отмщённого![274] Могла ли кривить душой Бобринская в послании к супругу? Оно не предназначалось для чужих глаз, а посему ему можно верить. В нём сочувствие к Поэту, мудрая прозорливость в роковом исходе грустной драмы и осуждение анонимных писем. Думаю, и этого достаточно для оправдательного приговора Бобринской. Есть в нём и ещё один оставшийся без внимания факт — София Александровна одна из немногих посторонних знала о гнусном характере анонимных писем. Об этом, бесспорно, её осведомила императрица. Таким образом, можно больше не сомневаться в сути встречи Пушкина с императором, засвидетельствованной в камер-фурьерском журнале 23 ноября 1836 г., — разговор шёл об анонимных письмах. Царь потребовал объяснения причин для вызова на дуэль. Поэт пересказал ему содержание пасквилей, при этом именно так и назвал их — гнусными (но не показал их царю, пощадил его самолюбие), а также двух своих неотправленных писем — Геккерену и Бенкендорфу. После этого отпала необходимость отправлять их — ведь Бенкендорф присутствовал на этой аудиенции. И должно быть, император обязал его переговорить с голландским посланником.
Предположение о любовной связи Дантеса с графиней Бобринской остаётся априорным — из-за отсутствия других свидетельств. Её «интерес» к арестованному Дантесу можно объяснить и совсем иными причинами — кавалергард вместе с товарищами, Трубецким, Скарятиным и другими, постоянно вертелся около императрицы. Её прежнее расположение к красавчику угасло, но любопытство к нему осталось. Чтобы удовлетворить его, впрочем и своё собственное, Бобринская лезла из кожи: …ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю, — писала она в том же письме мужу от 25 ноября 1836 г. Во время суда над участниками дуэли императрица и графиня продолжали информировать друг друга о Дантесе. Бобринская продолжала визиты к Геккерену, чтобы выведывать у него новости. И, как благовоспитанный человек передавала приветы арестованному. В данном случае это могло быть всего лишь элементарной вежливостью. Даже при условии, что именно Бобринская была одной из двух высокопоставленных дам — поверенных Геккерена, этого факта совсем недостаточно для вынесенного приговора: графиня была врагом Пушкина! Необходимы и другие, более существенные доказательства!
Помимо уже рассмотренных «улик» из дневника и писем императрицы Александры Фёдоровны, в биографии Бобринской я обнаружила ещё одну зацепку для моей версии о тайной «Супруге». По одним сведениям (Черейский, П. Долгоруков, Бартенев и др.), у неё было три сына — Александр, Владимир и Лев. По сведениям же Смирновой, у неё родилось четверо детей, все мальчики. Куда исчез один мальчик — неизвестно. И был ли он вообще? А если всё-таки был — не умер ли он в августе 1835-го? Ведь память у Смирновой была уникальной, и, будучи любимой фрейлиной императрицы, она постоянно общалась и с Бобринской.
Графиня в молодости была отчаянной сердцеедкой. Смирнова-Россет рассказывает презабавный эпизод: влюблённые в графиню Софию Жуковский и Василий Перовский устроили между собой соревнование — на кого чаще взглянет красавица. Во время обедов в Павловском дворце они усаживались за стол визави Софии Самойловой, катали из хлебных мякишей шарики и с их помощью отсчитывали число брошенных обворожительной графиней взглядов на каждого из них. Когда Самойлова отдала своё сердце и руку внуку Екатерины II Алексею Бобринскому, Перовский в отчаянии прострелил себе указательный палец. Графиню Самойлову выдали замуж за его 8 тысяч мужиков, а у меня их нет! — мрачно резюмировал отвергнутый жених. Но Смирнова утверждала, что не богатство Бобринского, а чувства к нему определили этот выбор. Она была очень счастлива с Бобринским. Он никогда ничему не учился, зато характер у него был самый благородный и души высокой. После свадьбы они поселились в его деревне Михайловское, в Тульской губернии. Тут она ему читала или заставляла его читать исторические книги; одним словом, она его образовывала. У них родились там четверо детей, всё мальчиков. Все они учились сперва дома, с английским наставником, потом поступили в Петербургский университет, а отец и мать поселились на Галерной, в собственном доме, который отделали со вкусом и умеренной роскошью. Этот дом сделался rendez-vous тесного, но самого избранного кружка. Перовский бывал ежедневно, граф Ферзен и некоторые члены дипломатического корпуса; особенно часто бывал неизбежный ветрогон Лагрене, и свадьба Вареньки Дубенской[275] там устроилась. Приезду графини Бобринской императрица очень обрадовалась: на безрыбье и рак рыба, на безлюдье Фома — дворянин, а в отсутствии Varette и Софи она сблизилась с княгиней Трубецкой, которая сравниться не могла с этими дамами. Государь же не любил Бобринскую за свадьбу Дубенской…[276]
Пушкин часто посещал салон Бобринской, обедал у них, бывал с женой на их балах. Однажды произошёл довольно курьёзный случай — он получил приглашение приехать на раут к Бобринским с женой и её сестрой. Об этом — шутливая записка Пушкина от 6 января 1835 г. к графу Алексею Алексеевичу. В ней он просит разъяснить, чтобы вывести нас из затруднения и водворить мир в моём доме, какая из сестёр удостоилась этой чести, ибо по сему поводу поднялось страшное волненье среди моего бабья. Тон записки предполагает весьма короткие отношения между ними. Они были старыми знакомыми ещё по Москве, в компании с Вяземским и Михаилом Виельгорским обедали в московском Английском клубе, вели задушевные беседы. Им было о чём поговорить. Отставной ротмистр, церемониймейстер граф Бобринский был одним из немногих русских промышленников-аристократов — сахарозаводчиком. Он ратовал за строительство в России железных и шоссейных дорог, за расширение угольного и торфяного производства, введение агрономии в сельское хозяйство, развитие садоводства, был сторонником женского образования. Нельзя было найти и придумать собеседника, более его приятного, вежливого, более уважающего того, с кем он вёл беседу. Дом его привлекал и собирал в себе избранное общество. Приглашал ли он гостей на свои обеды или вечера, он умел подбирать, т. е. сортировать гостей своих не столько по чинам, сколько по внутреннему их сходству и сочувствию. <…> У него была помощница, его достойная. Графиня София Александровна Бобринская, урождённая графиня Самойлова, была женщиной редкой любезности, спокойной, но неотразимой очаровательности. <…> Она была кроткой, миловидной, пленительной наружности. <…> Ясный, свежий, совершенно женственный ум её был развит и освещён необыкновенною образованностью…[277]
Бобринские вернулись из деревни в Петербург осенью 1831 года. Это подтверждает запись в дневнике гр. Фикельмон от 1 октября 1831 г.: Вчера я нанесла визит Софии Бобринской, которая вернулась из деревни, где провела несколько лет подряд. Здесь она пользуется репутацией любезной и остроумной женщины. Я совсем не нахожу её красивой. Она показалась мне любезной, беседу ведёт легко, но с лёгкой ноткой претенциозности.
Графиня Бобринская не понравилась Фикельмон. Описывая порой самые незначительные подробности светской жизни, Долли не оставила о Бобринской более ни одной существенной записи. Она обошла вниманием эту умную, образованную и весьма привлекательную женщину, при этом игравшую заметную роль в петербургском обществе. Об этом можно только сожалеть — мнение наблюдательной Фикельмон очень бы пригодилось для довершения образа Бобринской. Причину этого пренебрежения объясняет одна фраза из дневника Долли по поводу другой Бобринской — Марии (в замужестве Гагариной), золовки Софии Александровны: Она умна и образована, но чересчур претенциозна, чтобы быть приятной в салоне. Имя Софии Бобринской упоминается ещё дважды в дневнике Фикельмон — в связи с великосветскими днями приёмов (графиня Бобринская принимала по средам) и в числе посетительниц танцевального вечера 19 августа 1834 г. на петербургских Минводах. Любопытно другое — до конца 1834 г. гр. Бобринская ещё не была близка с императрицей. Во всяком случае, она не присутствовала ни на одном неофициальном семейном обеде или ужине императорской семьи, на которые часто приглашалась Фикельмон. Зато почти всегда здесь бывала другая Бобринская — графиня Анна Владимировна (1769—1846, урождённая баронесса Унгерн-Штернберг). Жена побочного сына Екатерины II от Потёмкина приходилась свекровью Софье Александровне Бобринской и тётушкой Долли Фикельмон по отцовской линии. Была очаровательной, весёлой, доброй, очень моложавой, словно созданной покорять сердца. Старшая Бобринская и её четверо детей находились в дружеских отношениях с Пушкиным. О каждом из них находим записи в дневнике Долли.
Не мне судить, сколь занимательно было это путешествие в пушкинскую эпоху. Мы узнали немного больше о трёх женщинах, чьи имена, титулы и судьбы могли иметь отношение к загадочной «гр. Софии Б.». Все три были знакомы с Пушкиным. Все три годятся на роль приятельницы Дантеса. Но лишь одна могла быть его тайной «Супругой». Была или нет? — вопрос по-прежнему остаётся без ответа. И окончательный приговор ещё нельзя произнести.
Версия, которая навела на «царский след»
Все возможные кандидатки в «Супруги» Дантеса упоминаются по тому или иному поводу в письмах Жоржа к Геккерену — они названы полными именами или обозначены одной буквой. И только о Полетике — самой серьёзной претендентке на эту роль — ни слова. Странным кажется такое небрежение Дантеса к их общей близкой приятельнице. Но, может, именно это является веским аргументом в её пользу: Дантес, вынужденный оберегать имя Полетики на случай перлюстрации писем, называет её «Супругой», Геккерену же понятно, кого он имеет в виду.
Для меня Идалия Полетика — вне конкуренции. Но для категоричного заключения мне не хватило фактов. Используя метод «доказательства от противного», продолжаю проверять «алиби» других потенциальных обвиняемых в деле «Тайная „Супруга“ Дантеса». В мой список включена ещё одна представительница светского общества — свояченица Софии Борх Любовь Викентьевна Голынская. Я неслучайно оставила её на последнем месте — дальнейшее объяснит причину этого.
Отрывок из письма Дантеса Геккерену (апрель 1836 г.): Ты помнишь, что Жан-вер[278] просил руку сестры красавицы графини Борх и ему по справедливости отказали. Что же, соперник его победил и вскоре получит её в жёны[279].
Графиня Борх — это и есть Л. В. Голынская. В 1832 г. она вышла замуж за графа Иосифа Борха, того самого непременного секретаря ордена рогоносцев, чьим именем подписан пасквиль. Само это обстоятельство — существенный довод против моей версии: вряд ли Геккерены при всём их коварстве таким образом отплатили бывшей возлюбленной кавалергарда. И ещё один антиаргумент — в письме Дантес называет её полным именем. Утаивать его у него, вероятно, не было оснований.
Как видим, моя версия о Любови Борх хромает с самого начала. Логические рассуждения опровергают её. Но жизнь полна парадоксов, человеческое поведение — увы! — не подчиняется законам логики. На суде как на суде! Я напала на след, посмотрим, куда он приведёт! Главным ориентиром послужило указание Данзаса. Позволю ещё раз повторить его: Замечательно, что почти все те из светских дам, которые были на стороне Геккерена и Дантеса, не отличались блистательною репутацией и не могли служить примером нравственности. Дополнением к этому явилась реплика самого Пушкина по адресу Борхов. Позднее Данзас пересказал её одесскому знакомому Пушкина, начальнику 1-го отделения канцелярии М. С. Воронцова, Никанору Михайловичу Лонгинову. А тот в свою очередь поделился услышанным со своим племянником, библиографом Михаилом Николаевичем Лонгиновым: По дороге им попались едущие в карете четвернёй граф И. М. Борх с женой, р. Голынской. Увидя их, Пушкин сказал Данзасу: «Voila deux ménages exemplaires» («Вот две образцовые семьи») — и, заметя, что Данзас не вдруг понял это, он прибавил: «Ведь жена живёт с кучером, а муж — с форейтором»[280].
Этот эпизод впервые огласил П. Щёголев в книге «Дуэль и смерть Пушкина». Затем использовался и другими исследователями. Свидетельство Данзаса приняли на веру как очевидный, неопровержимый факт и ни разу не подвергли критическому анализу. Он дошёл до нас в тройном пересказе — Данзаса и обоих Лонгиновых. Сохраняя суть, окрашивался новыми нюансами, согласно разумению рассказчика. Данзас, в то время полковник 5-го резервного саперного батальона, служил вне Петербурга, в столице бывал наездами и не мог знать всех светских пересудов. Посему Пушкину пришлось, как признался сам Данзас, растолковать ему смысл своего замечания. Нельзя поручиться, что взволнованный больше самого Поэта предстоящей дуэлью Данзас правильно воспринял и со временем точно воспроизвёл произнесённую Пушкиным фразу.
Её не следует воспринимать буквально. Это был типичный для Пушкина каламбур, вероятно, понятный каждому светскому человеку, но не Данзасу. Притчи, анекдоты, мистификации, эпиграммы были в то время в большой моде. Имел он счастливый талант / Без принужденья в разговоре / Коснуться до всего слегка, / С учёным видом знатока / Хранить молчанье в важном споре, / И возбуждать улыбки дам / Огнём нежданных эпиграмм. Это об Онегине. Это можно сказать и о Дантесе. Остроумие считалось обязательным атрибутом денди. Неслучайно Д. Ф. Фикельмон, характеризуя светских знакомых, всегда отмечала живой ум, находчивость и лёгкость в разговоре как наипервейшее достоинство человека. Пушкин же был известным мистификатором, мастером анекдотов, эпиграмм и каламбуров.
Добрый и порядочный Данзас, лицейский медведь, с юных лет не питал пристрастия ни к науке, ни к литературе, но был отличным воякой, храбрецом и человеком большого хладнокровия. Впрочем, многие считали его остряком и любителем каламбуров. Но ироничную реплику Пушкина он явно не понял. Спишем это на счёт его эмоционального состояния перед дуэлью и неосведомлённостью по части петербургских сплетен. Что же хотел сказать своей фразой Пушкин о Борхах? Начну с её неточного перевода Щёголевым. Слово «ménages» имеет двойное значение: семья, супруги. Таким образом, возможен другой смысл этого изречения: Вот два примерных супруга …Ведь жена живёт с кучером, а муж — с форейтором.
Итак, вернёмся к описанной выше сцене: Пушкин и Данзас спешат в санях к месту дуэли на Чёрную речку. Навстречу летит запряжённая цугом карета Борхов. На облучке восседает кучер, а на верховой передней лошади — форейтор. Даже в драматические минуты юмор не покидает Пушкина. «Вот два примерных супруга!» — говорит Поэт. Данзас недоумевает. Пушкин заливается смехом и экспромтом выдаёт каламбур о кучере и форейторе. Данзас не уловил тайный смысл сказанного. Пушкин не стал пояснять.
Чтобы понять суть пушкинской аллегории, необходимо познакомиться с Борхами.
Упоминание о графине Борх и её сестре Голынской в вышеприведённом отрывке из письма Дантеса говорит о том, что оба — батюшка и сынок — живо интересовались их семейными делами и, следовательно, водили с ними весьма близкое знакомство.
Ещё одно подтверждение их близости — письма Андрея Карамзина матери Е. А. Карамзиной. Летом 1837 г. на водах в Баден-Бадене — излюбленном немецком курорте русской аристократии — сошлись все наши знакомцы: Андрей Карамзин, Дантес с женой, Геккерен, А. О. Смирнова-Россет, Валерьян Платонов, Радзивиллы, Киселёвы, Любовь и Иосиф Борх. Беззаботное курортное времяпрепровождение. Утренние прогулки, беседы у источников, совместные обеды и ужины в пансионах, балы, танцы, флирты… 25 июня русская колония по традиции отмечала день рождения русского императора.
Отрывок из письма Андрея Карамзина (июнь 1837 г.):
За обедом я сидел между Полуэктовой и графиней Борх, с которой тут же познакомился. Nous avions un sujet tout trouve [281] , Ernest Штакельберг. Скажите ему, что она сперва очень покраснела, но потом обошлось, и так как нам обоим беспрестанно подливали, то к концу обеда мы стали очень откровенны. Она очень хороша.
Заметьте — графиня Борх покраснела при упоминании имени её поклонника Штакельберга. Человека, который не разучился краснеть, трудно назвать безнравственным. Начался флирт между милой графиней и Карамзиным. Андрей Николаевич сопровождал Любовь Борх на прогулках, был её кавалером в танцах.
Отрывок из другого письма А. Карамзина — Е. А. Карамзиной: В последнее воскресенье ездил я верхом с графиней Борх… на высокую гору. Мы все были веселы и довольны, одна бедная и милая графиня беспокоилась от того, что муж, ехавший за нами в коляске, не мог следовать по дурной дороге и был принуждён воротиться… Кислая фигура de ce vilain avorton de mari (отвратительного недоноска. — С. Б.) наводила уныние на всё общество.
Обращаю внимание ещё на одну деталь — графиня Борх озабочена тем, что муж вынужден из-за плохой дороги отказаться от прогулки. Значит, отношения супругов вполне нормальны и даже дружественны. В верховой прогулке участвовал и Дантес. И потом за весёлым обедом в трактире, подстрекаемый шампанским, он довёл нас до судорог от смеха.
От души ли веселился Дантес или разыгрывал перед русским обществом роль неунывающего и весёлого молодца, которого мало трогает всё недавно случившееся с ним в Петербурге? Как будто напрочь забыт «несправедливый» приговор царя — изгнание из России, разжалование в солдаты, лишение российского дворянского звания и офицерского жалованья. Одним словом, крах возводимой более трёх лет карьеры. Скорее всего это была показная беззаботность. Положение обоих Геккеренов было не столь радужным. Дантес с российским приданым — супругой, остался без всяких средств к существованию. И мог рассчитывать только на деньги скаредного Геккерена, да и сам Геккерен в это время был не у дел — после отбытия из Петербурга не получил нового дипломатического назначения. Геккерены прекрасно знали страсть русских к переписке и не сомневались, что курортные увеселения будут красочно описаны в их письмах на родину. И изо всех сил изображали своё благополучие. Старший не отходил от рулетки, пополняя выигранными суммами свой оскудевший капитал. Младший лихо отплясывал на балах.
Странно было мне смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые, — сообщал матери А. Карамзин. Как видим, расчёт Геккеренов достиг цели.
То, что ты рассказываешь нам о Дантесе (как он дирижировал мазуркой и котильоном), заставило нас содрогнуться и всех в один голос сказать: «Бедный, бедный Пушкин! Не глупо ли было жертвовать своей прекрасной жизнью! И для чего!» — отрывок из письма С. Н. Карамзиной брату (от 22 июля 1837 г.).
Случайно ли встретились Борхи с Геккеренами в Баден-Бадене или обо всём было заранее договорено — можно только гадать. Щёголеву удалось обнаружить формулярный список И. Борха. В нём была пометка о предоставлении ему в июне 1837 г. отпуска для поездки на минеральные воды. Но ещё более странно другое обстоятельство — в июне 1837 г. в Баден-Бадене собралось большинство друзей и приятелей Пушкина. Будто клином сошёлся свет на этом курорте! Мне кажется, что появление здесь и Геккеренов оказалось не просто совпадением. От кого-то (возможно, от Иосифа Борха) они узнали о составе здешнего русского общества. И специально приехали сюда, чтоб реабилитировать себя перед своими петербургскими знакомыми. Письмо А. Н. Карамзина от 8 июля (26 июня) 1837 г. подтверждает моё предположение:
Вечером на гулянии видел я Дантеса с женою: они оба пристально на меня глядели, но не кланялись, я подошёл к ним первый, и тогда Дантес à la lettre (буквально. — С. Б.) бросился ко мне и протянул мне руку. <…> Обменявшись несколькими обыкновенными фразами, я отошёл и пристал к другим: русское чувство боролось у меня с жалостью и каким-то внутренним голосом, говорящим в пользу Дантеса. Я заметил, что Дантес ждёт меня, и в самом деле он скоро опять пристал ко мне и, схватив меня за руку, потащил в пустые аллеи. Не прошло двух минут, что он уже рассказывал мне со всеми подробностями свою несчастную историю и с жаром оправдывался в моих обвинениях, которые я дерзко ему высказывал. Он мне показывал копию с страшного пушкинского письма, протокол ответов в военном суде и клялся в совершенной невинности. Всего более и всего сильнее отвергал он малейшее отношение к Наталье Николаевне после обручения с сестрою её и настаивал на том, что второй вызов a été comme une tuile qui lui est tombée sur la tête (Подч. мною. — С. Б.)[282]
Она очень хороша, — сказал Андрей Карамзин об этой миниатюрной женщине — Любови Борх. Дантес называл её красавицей. А он знал толк в женской красоте. О её красоте писала и Долли Фикельмон.
Позавчера мы в свою очередь дали в честь Их величеств бал. Он получился довольно удачным. Убранство было красивым и элегантным. Фикельмон умеет придавать таким торжествам изысканную простоту; она в сто раз предпочтительней тех грандиозных, типичных для подобных случаев убранств, которые придают дому непривычный вид. Император и императрица — оба были очень веселы и красивы. Император и великий князь Михаил танцевали до половины четвёртого утра, что случилось с ними впервые на балах нынешнего сезона. <…> На балу у нас присутствовала и одна миниатюрная особа, которая весьма в моде в нынешнем сезоне. Мадам де Борх только что вышла замуж. У неё красивые, очень синие глаза; небольшого роста, мила, с очень маленькими красивыми ножками, ничего особенного в фигуре, имеет самодовольный вид, не слишком умна, но весьма приятная. Движется и танцует довольно неуклюже. (Запись 14 февраля 1832 г.)
Ах, эта досадная Долли — ничто не ускользало от её проницательного взгляда! Кроме очень точного портрета небезынтересной нам дамы эта запись Фикельмон содержит три любопытных факта: 1. Любовь Борх вышла замуж в начале 1832 г., а не 13 июля 1830 г., как указал Щёголев; 2. Бал давался в честь императорских величеств, присутствовали сливки общества и среди них вдруг оказалась «не очень знатная» Любовь Борх — ведь её муж даже не имел графского достоинства Российской империи[283]; 3. В зимний сезон 1832 года двадцатилетняя прелестница была в большой моде. В переводе со светского языка это прежде всего означало, что на неё обратили внимание при дворе. В этом скорее всего и была причина приглашения Л. Борх на фешенебельный бал к Фикельмонам. Возможно, её присутствием объяснялось весёлое настроение императора. И даже совсем необычайное обстоятельство — император танцевал до утра. Очень скоро (в апреле 1832 г.) скромный актуариус коллегии иностранных дел был пожалован в камер-юнкеры и одновременно повышен в служебной должности — произведён в протоколисты.
Обе красавицы — малютка Любовь Голынская-Борх и её троюродная племянница[284], которую она называла кузиной — высокая, стройная Наталия Гончарова-Пушкина — одновременно появились на небосклоне петербургского света. И обе были замечены двором. Двор пожелал, чтобы они обе украшали балы в Аничковом дворце. Для этого их мужьям было присвоено низшее придворное звание — Борху раньше — весной 1832 г., Пушкину — в конце 1833 г. Только Борху больше повезло — во-первых, он был моложе Пушкина — в момент получения камер-юнкерства ему было 25 лет; во-вторых, он хотя и не дослужился до камергера, но зато шагал вверх по служебной лестнице — в апреле 1835 г. был произведён в титулярные советники и назначен вторым переводчиком 2-го департамента внутренних сношений.
Долли часто встречается с графиней Борх в обществе и записывает в дневнике свои впечатления о ней. Так, на балу у Лавалей Любовь Викентьевна участвовала в представлении театральных картинок — она была весьма красива в белом одеянии, с распущенными волосами, изображая спящую в грациозной позе фигуру. Её тонкие черты — красивы. (Запись 22 марта 1832 г.)
Павел Елисеевич Щёголев в своё время очень сокрушался, что с Борхом по царственной линии ничего не выходит. Оказывается — выходит, ещё как выходит! Император по части любовных похождений был человеком раскрепощённым — он открыто выказывал предпочтение своей очередной пассии. Имена фавориток Николая ни для кого не были тайной. Смирнова пишет о Вареньке Нелидовой — фрейлине императрицы, о графине Елизавете Бутурлиной. Фикельмон — о Софии Урусовой, о пятнадцатилетней Ольге Булгаковой, впервые появившейся на балу и сразу же замеченной императором, о Зинаиде Юсуповой — жене гофмейстера князя Б. Н. Юсупова. Я с большой симпатией отношусь к своей героине Долли Фикельмон и не хочу приписывать ей роль сводни. Но, тем не менее, все модные красавицы — фаворитки Николая — обычно приглашались на балы к австрийскому посланнику. Графиня Борх вновь присутствует на большом приёме Фикельмонов — успешном и блестящем в начале осеннего сезона 1832 г. Натали Пушкина тоже была среди приглашённых. Пальму первенства Долли отдаёт всё-таки Пушкиной: Вчера самой красивой всё же была Пушкина, которую мы зовём «Поэтичной», как из-за её супруга, так и за её небесную и несравненную красоту. У неё лицо, перед которым можно часами стоять, как перед самым совершенным творением Создателя! Затем следует новый портрет графини Борх: Г-жа Борх — красивая маленькая картина фламандской школы. Но под этой белой и свежей оболочкой нет ничего примечательного. (Запись 22 ноября 1832 г.)
Увлечение императора красивой, но пустой графиней, по-видимому, было не очень серьёзным.
Я искала сведения о близости Л. Борх с Дантесом, а напала на царский след. Теперь можно раскрыть аллегорию пушкинского каламбура. Но для этого придётся сделать ещё одно отступление.
1835 год. Гоголь по совету Пушкина начинает работу над «Мёртвыми душами». Делится с Поэтом планами будущего произведения: Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь. Не повесть, не сатиру, а именно роман о России задумал Гоголь и с воодушевлением принялся за работу. Ещё не выстроена композиция, не осмыслена до конца фабула, не придуманы персонажи, коллизии. Ясна была только идея произведения — Россия. Вдохновенно рождается её философско-поэтический образ — устремлённые в будущее, летящие по воздуху как натянутая струна медногрудые кони. Пушкин часто забегает проведать Гоголя, послушать новые главы. Они так любили барина. Бывало, снег, дождь, слякоть, а они в своей шинельке бегут сюда. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи, — вспоминал слуга Гоголя Яким. В один из таких вечеров Гоголь прочитал Пушкину только что написанную песнь о России. Ею он завершит первый том «Мёртвых душ».
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади. Остановился поражённый Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! <…> Русь, куда ж несёшься ты, дай ответ? Не даёт ответа. Чудным звоном заливается колокольчик.
Этот аллегорический образ России взволновал Пушкина. Он восхищённо повторял: «Эх, тройка! Птица-тройка, кто тебя выдумал? знать у бойкого народа ты могла родиться…»
Вернёмся вновь к эпизоду с Борхами. Не гоголевская ли «птица-тройка» вдохновила Пушкина на каламбур? Он увидел летящую навстречу упряжку — и молнией сверкнуло озарение: «Да ведь это сама Русь спешит мне навстречу! Вот кучер — её главный возничий, император. А вот и форейтор — верхом на передней лошади, он направляет движение всего цуга — ближайший к императору сановник». Кто он? Его имя следует искать среди интимных дружков Иосифа Борха. Среди людей подобной же репутации. Первое имя, которое приходит на ум, — Сергей Семёнович Уваров, министр народного просвещения, президент Академии наук, председатель Главного управления цензуры. Ну чем не форейтор? Не направляющий движение России к просвещению, прогрессу? Сей аллегорией Пушкин сказал Данзасу то, что было известно всему петербургскому обществу: Любовь Борх была любовницей императора, а Иосиф Борх — сожителем Уварова.
А следовательно, полученный Пушкиным пасквиль оскорблял не только Поэта. Он содержал грязный намёк на отношения царя с женою Иосифа Борха. Теперь понятнее, за что разгневанный император обозвал Геккерена гнусной канальей! Почему от голландского посланника отвернулся граф Нессельроде и назвал его человеком без чести и совести, нетерпимым в российском обществе. И почему так пеклась о бумагах Пушкина графиня Юлия Строганова — ведь там был пасквиль, к которому причастны её дети — Полетика и пасынок Александр. Всё вроде бы становится на свои места и получает логическое объяснение.
Трудно представить, чтобы эта приятная во всех отношениях дама, Любовь Борх — милая, застенчивая, заботливая и при этом прелестная с кучей поклонников — так низко пала и сожительствовала со своим кучером. Пушкин имел в виду другого кучера — самого императора. Скорее всего не она была тайной «Супругой» Дантеса. Но могла быть мимолётной возлюбленной или просто женщиной, за которой он походя волочился. Как, впрочем, и каждая из названных мной кандидаток — княгиня Елена Белосельская, графиня София Бобринская, Полетика. Но у этих трёх последних больше шансов быть той самой таинственной дамой, с которой Дантес находился в продолжительной связи.
Российская Мата Хари
«Ужель та самая Татьяна?»
Красота — венец Божьего творения. По могуществу она равноценна только Любви. И то и другое от Всевышнего. Потому мы, земляне, никогда не устанем преклоняться перед этими вершинами проявленного Бога…
Всё самое прекрасное, на что способна природа, было вложено в эту женщину: красота, ум, дарования. Не банальная — изощрённая, с небесной искрой красота: очаровательное — любуешься, но не налюбуешься — лицо, высокая, статная фигура, а голос, — может, в нём и было её всепобеждающее обаяние, — зовущий, влекущий, увлекающий. Она не просто, как все светские барышни, играла на фортепьянах и пела модные романсы — музыка была её стихией. Её литературный талант — изящный, отнюдь не дамский стиль, ясная, логическая мысль, восхитительная ирония — проявился, к сожалению, только в письмах. Она хорошо знала и понимала литературу и искусство, поэзию ценила как музыку. Всё было в ней в избытке. Как и бьющая ключом жизненность. А ведь только этой пылкости воображения (выражение Пушкина) достаточно, чтобы осветить красотой человеческий облик. Разностороннее образование и утончённое воспитание добавили этой женщине неотразимое сияние отшлифованного алмаза. Неудивительно, что величайшие люди эпохи — поэты, музыканты, политические деятели — приносили к её стопам дань своего восхищения. Она встречалась и переписывалась с Шатобрианом, Питтом, Веллингтоном, Лафатером, Бенжамином Констаном[285]. Она общалась с выдающимися женщинами XIX века — мадам де Сталь[286], баронессой Барбарой-Юлией Крюднер — автором популярных в своё время сентиментальных романов, мистиком, оказавшим большое влияние на Александра I. Её воспевали многие поэты. Её любил Мицкевич. Она зажгла в нём пожар чувств, бушующих в его знаменитых «Крымских сонетах».
Все чувства, как в огне; все мысли, как во мгле: То гнев проводит вдруг мне складки на челе, То тихая печаль задумчиво приманит, То сожаление слезою вдруг туманит…Но пора назвать её имя — графиня Каролина Собаньская. Эта женщина стала музой Пушкина — на десятилетие, нет! — на всю его недолгую жизнь! Ей Поэт посвятил одно из лучших своих лирических стихотворений «Что в имени тебе моём?». Его автограф обнаружен в наше время в альбоме Собаньской, волей судеб попавшем в рукописное собрание Всеукраинского исторического музея в Киеве. Привожу его по альбомной записи с небольшими разночтениями с общеизвестным вариантом[287]:
Что в имени тебе моём? Оно умрёт, как шум печальной Волны, плеснувший в берег дальной, Как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке Оставит мёртвый след, подобной Узору надписи надгробной На непонятном языке. Что в нём? Забытое давно В волненьях новых и мятежных, Твоей душе не даст оно Воспоминаний чистых, нежных. Но… в день печали, в тишине Произнеси его, тоскуя; Скажи: есть память обо мне, Есть в мире сердце, где живу я. 5 янв. 1830. СПб.Письма и автографы знаменитых людей эпохи видел в своё время в доме Собаньской польский писатель Иосиф-Игнатий Крашевский. А ведь человека судят по его друзьям. Друзья Собаньской были людьми исключительными…
В середине мая 1820 года по пути к месту ссылки в Кишинёв Пушкин остановился в Киеве у своих друзей Раевских. Неожиданное появление Поэта в столице юго-западного края вызвало удивление местного общества. На расспросы Пушкин отвечал шутливо: «Язык довёл меня до Киева, а может быть, и до Прута доведёт». Вдогонку за ним из Петербурга спешил наказ киевскому губернатору И. Я. Бухарину — присматривать за ссыльным.
— Дружочек, облегчите мне эту задачу, — добродушно сказал Иван Яковлевич своему поднадзорному, — почаще захаживайте к нам в дом.
Поэт лучезарно — ах, как он это умел! — сверкнул глазами, озорно улыбнулся и галантно расшаркался:
— С превеликим удовольствием, ваша милость!
И зачастил, челноком засновал между двумя домами. Резиденция губернатора находилась в одном саду с особняком Раевских. Об этом миге жизни Поэта замечательно сказала Белла Ахмадулина: он рыщет вдоль аллей, как вольный франт. У Раевских — дом вверх дном: смех, шутки, визг молодых красавиц дочерей. Потом, когда Пушкин писал «Онегина», воспоминания об этих беззаботных днях юности потекли поэтическими строками: Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс… — не имеет значения, что написано о другом, о бале в одном из московских домов. Но это подтверждает — ни одно жизненное впечатление не пропадало для Поэта даром. Всё западало, всё хранилось в обширной кладовой его эмоциональной памяти и неожиданно всплывало, находило подходящий момент для выражения… С сыновьями Раевского Поэт серьёзничал, вёл опасные разговоры. У Бухарина вновь озорничал. За короткое время очаровал всех его домочадцев. Жена Елизавета Фёдоровна от него в восторге. Удивлялась, как такой шалунишка в бунтовщики попал. Бухарина была из рода Полторацких — Анне Петровне Керн приходилась двоюродной тёткой. Потом Анне уши прожужжала про Пушкина. И задолго до тригорского романа посеяла в обворожительной кузине любопытство к Поэту. Любопытство аукнулось через пять лет романтической встречей Керн с Пушкиным в имении её тётушки Прасковьи Александровны Вульф-Осиповой…
Пушкин дурачился с детьми Бухариных — пятилетним Николенькой и прелестной семилетней Верочкой. В 1830 г. на московском балу у князя С. М. Голицына он вновь встретил её, только что выпорхнувшую из Смольного института благородных девиц. Очаровательная семнадцатилетняя девушка была в белом платье, украшенном цветами «не забывай меня» — именно так назвала незабудки В. И. Бухарина-Анненкова в своих воспоминаниях «Правда, и только правда». Они будут танцевать и вспоминать, как Пушкин носил её на руках, как она на французский манер назвала сибирскую реку Енисей «Женисеа». Поэт говорил мне прелестные вещи о моём отце, о моей матери, обо мне самой, о моих маленьких голубых цветах, совет которых казался ему бесполезным, так как, увидев меня, забыть меня уже никогда невозможно…
У Раевских и Бухариных Поэт встретился с знакомыми по Петербургу братьями Матвеем и Сергеем Муравьёвыми-Апостолами. Первый служил в Полтавском пехотном полку, второй — в Черниговском. Оба часто наезжали в Киев. Иногда Матвей прихватывал с собой однополчанина подпоручика Михаила Бестужева-Рюмина. У Бухарина Пушкин познакомился с генерал-майором С. Г. Волконским. Их встречи продолжились позднее в Одессе. Волконский присматривался к Поэту — ему было поручено привлечь Пушкина в члены Южного общества. По вечерам в доме губернатора собиралась городская и губернская — из ближайших усадеб — знать, среди них было много поляков и прекрасных панн. Тут был, однако, цвет столицы, / И знать и моды образцы… Здесь впервые встретил Поэт будущую «Лилию долины» Бальзака — красивую, как ангел, Эвелину Ржевускую-Ганскую, дочь предводителя киевского дворянства, тайного советника, а с 1821 г. сенатора графа Адама Ржевуского. В 1819 г. она вышла замуж за Венцеслава Ганского, предводителя дворянства на Волыни. Муж был старше её на 22 года. Но он был богат — владел 3035 крепостными душами и 21 тысячей гектаров земли. Муж оказался не просто мешком с деньгами. Он интересовался литературой, музыкой, обожал Россини — как-то раз Бальзак взял у маэстро автограф для его страстного почитателя господина Ганского. Каролина Собаньская приходилась Эвелине родной сестрой.
Просто удивительно, сколько знакомств завёл Пушкин всего лишь за два дня пребывания в малороссийской столице! Он был совершенно очарован киевским радушием. После Киева молдавский стольный град показался убогим захолустным местечком. Ему не сиделось в Кишинёве. Через восемь месяцев он отпросился у добрейшего Инзова поехать «на контракты» — знаменитые киевские ярмарки. Пушкин приехал сюда в конце января или начале февраля 1821 года. На сей раз кутил здесь две недели. На балу у Бухарина впервые увидел блистательную Каролину — высокую, статную, с божественным лицом, огненными взором, золотым потоком волос. Её огненный взор будет часто будоражить Пушкина и Мицкевича. Эпитет этот обычно применяют к чёрным глазам, и я была убеждена, что моя героиня принадлежала к тому природно редкому типу красоты — темноокая блондинка. Но вот в одном из посвящённых ей сонетов Мицкевича читаю:
Где, синих глаз твоих озарены огнём, Небесные цветы взошли в былые лета, Потом цветы я рвал для твоего букета, Но горькая полынь уже таилась в нём…Я помню её ещё в тридцатых годах в Киеве, в доме отца моего, — помню, как теперь, пунцовую бархатную току с страусовыми перьями, необыкновенно красиво шедшую к её высокому росту, пышным плечам и огненным глазам, — вспоминал много лет спустя писатель Б. М. Маркевич. Память изменила мемуаристу — Собаньская бывала в Киеве до начала двадцатых годов, затем жила в Одессе — Петербурге — Варшаве. Воспоминание Маркевича относится к тому времени, когда с ней познакомился Пушкин. Такой он увидел её впервые и был ослеплён, как, по словам Вигеля, ослеплялись её привлекательностью все мужчины. Но постойте — кого напоминает нам этот портрет Собаньской? Не правда ли, мы уже где-то встречали эту даму в пунцовой бархатной токе со страусовыми перьями? Ужель та самая Татьяна? И неотвязчивый лорнет / Он обращает поминутно / На ту, чей вид напомнил смутно / Ему забытые черты. / «Скажи мне, князь, не знаешь ты, / Кто там в малиновом берете / С послом испанским говорит?» Это о ней, о ней вспоминал он потом, когда писал 8-ю главу «Онегина»:
К ней дамы подвигались ближе; Старушки улыбались ей; Мужчины кланялися ниже, Ловили взор её очей; Девицы проходили тише Пред ней по зале: и всех выше И нос и плечи подымал Вошедший с нею генерал.8-я глава «Евгения Онегина», завершённая Пушкиным в 1830 г., навеяна образом Собаньской. О встрече Поэта с ней в Петербурге в 1828 г. речь пойдёт дальше. А пока напомню, что ещё в Одессе Пушкин за глаза называл Собаньскую Татьяной. Подтверждение тому — письмо Александра Раевского, написанное вслед уехавшему в Михайловское Пушкину (от 21 августа 1824 г. из Александрии — имения Потоцких): Теперь я буду говорить о Татьяне. Она приняла живое участие в Вашей беде; она поручала мне сказать Вам это, и я пишу с её ведома. Её кроткая и добрая душа (подч. мною. — С. Б.) видит во всём совершившемся только несправедливость, жертвою которой Вы оказались; она высказала мне это с чувствительностью и грацией, свойственной характеру Татьяны. Её очаровательная дочка тоже вспоминает вас и часто говорит со мною о сумасшедшем Пушкине и трости с головой собаки, которую вы ей подарили…[288] Письмо написано в имении матери Воронцовой — Александрии, что в трёх верстах от Белой Церкви. Значит, решили исследователи, Татьяна — это Воронцова. Но я сразу же возражу. Перед отъездом из Одессы Пушкин виделся с Воронцовой, они простились, и она подарила ему на память сердоликовый перстень. Раевский знал об их встрече, и, следовательно, бессмысленно писать Поэту, как графиня восприняла его «беду», к тому же причинённую её мужем. А вот и другая неувязка — старшей дочке Воронцовой Александре (1821—1830) было в это время три года. Как-то трудно представить, чтоб трёхлетняя малютка называла Поэта сумасшедшим Пушкиным. У Собаньской же была дочь лет десяти — двенадцати. Такое выражение более подходит девочке её возраста. Родовое имение Ржевуских «Погребище», как и принадлежавшая Эвелине Ганской «Верховня»[289], были неподалёку от Александрии. Вполне возможно, что Собаньская проводила лето в усадьбе у батюшки или у сестры Эвелины. А Раевский по-соседски навещал и Собаньскую и ещё одну свою пассию, «Аталу» Ганскую.
О кроткой и доброй душе Собаньской вспоминали многие современники. В период репрессий после поражения польского восстания в 1831 г. Собаньская навещала раненых поляков в госпиталях, многим помогла избежать ссылки в Сибирь, через Витта получала доступ в тюрьмы и организовала побег заключённого польского поэта Нарцыза Олизара. Позднее он вспоминал, как она его убеждала бежать: …её слова были проникнуты такой добротой <…> желание помочь делало её столь красноречивой. А вот ещё одно свидетельство: Она была милой и доброй, и о ней можно было сказать: всё ей простится, ибо она многих любила[290]. Собаньская стала прототипом Графини в драме Мицкевича «Барские конфедераты». Тема «Мицкевич — Собаньская» так же мало изучена, темна и запутанна, как и тема «Пушкин — Собаньская». «Раскрытия» советских пушкинистов, к сожалению, повлияли на объективность исследований взаимоотношений польского поэта с Каролиной. Творчество Мицкевича — единственно верный источник, из которого можно черпать сведения о Собаньской. Графиня в «Барских конфедератах», бесспорно, — литературный портрет Каролины. Суть её характера в словах героя романа Адольфа: Я чувствую всё то зло, которое тебе причинили, и сострадаю. У тебя доброе и чувствительное сердце…
Но вернёмся к пушкинской Татьяне. В июле 1824 г. Каролины Собаньской не было в Одессе. Летом она обычно уезжала из жаркого приморского города. Пушкин не смог с ней проститься. О высылке Поэта ей, вероятно, сообщил Раевский. Демонический друг Пушкина искал способы примирения с ним — весь тон его письма, отрывок из которого приведён выше, заискивающе-ласкательный. Он знает, как обрадует Поэта весточка от женщины, ставшей причиной первого раздора между ними…
О легкомысленных нравах той эпохи замечательно выразился писатель Василий Розанов: Та александровская эпоха была вообще какою-то безмужнею, безженною, а скорее универсально-любовническою. <…> Я сказал что-то в этом роде С. П. Дягилеву. <…> Он мне ответил <…>: «Это было время, когда никто не мог назвать с уверенностью своего отца и мать. Измены были до такой степени всеобщи, обыкновенны, что не „изменять“ казалось чудом и тем, чего „нет и даже не должно быть“». Опустив невольно глаза, я вздохнул: «Но ведь это, однако, и произвело всю роскошь эпохи».
Прелестным нюансом этой роскошной эпохи был байронизм. Он придавал пасторальным любовным играм особое очарование. Новое поветрие в науке страсти нежной не обошло и Пушкина. Он подражал Байрону не только в творчестве — долгие годы Чайльд Гарольд был образцом его поведения в обществе. Мода перекочевывала со страниц романов в жизнь. Все эти мифологические пастухи и пастушки, барашки и овечки теперь награждались прозвищами романтических героев Байрона, Шатобриана, Бенжамена Констана, Мюссе. Эвелину Ганскую звали Аталой, как и героиню Шатобриана, её мужа Ганского — Ларой, по имени героя поэмы Байрона, самого Александра Раевского — Мельмотом — демоническим обольстителем, губителем женских душ из нашумевшего модного романа Чарлза Роберта Мэтьюрина «Мельмот-скиталец». Позднее под влиянием Эвелины Ганской Бальзак написал его остроироническое «продолжение» — «Прощённый Мельмот».
Казалось бы, то, что мы знаем о Каролине Собаньской, исключает даже мысль о её сходстве с Татьяной. К ней больше подходит имя героини «Адольфа» Б. Констана — Элленора. Именно так назвал её Поэт в своём январском письме 1830 г. Но всё дело в том, что знаем-то мы о Собаньской очень мало. А дошедшие о ней скудные сведения создают искривлённый образ бездушной и хитрой красавицы-польки, роковой женщины, опасной обольстительницы, которая кокетством завлекала в свои сети жертвы. Шпионила — для Витта, Бенкендорфа, для жандармской российской службы…
Давайте на мгновение вернёмся к «Онегину». Не нужно доказывать, что главный герой — это сам Поэт, а Онегин-герой — это тень мыслей, чувств, любви, ненависти, страданий, мировоззрения Поэта — об этом уже много говорено. А коли так, откуда этот жизненный опыт у автора романа? Откуда эта неожиданная мечта после встречи Онегина с княгиней Татьяной в Петербурге (я смею утверждать, после встречи Пушкина с Собаньской) о счастье с ней, но не в пышных петербургских салонах, а в тиши сельского дома? Неженатого повесу Пушкина, ещё недавно тосковавшего в Михайловском уединении, вдруг потянуло в деревню, где сельский дом — и у окна сидит она… и всё она! Не отголоски ли это каких-то разговоров с любимой женщиной, её ностальгических воспоминаний о юности в родовом имении «Погребище» на Волынской Вишневетчине, когда она была тиха, проста и полна чистых мечтаний о встрече с родственной душой? Тема двух сродных душ, встретившихся в беспредельной вечности и разминувшихся, была очень важной в отношениях Пушкина с Собаньской. Позднее он напомнит об этом в своём письме к ней… Но бесспорно — в Лариной не следует искать буквального сходства с какой-то одной реальной личностью. Она — собирательный образ, в котором Поэт отобразил идеальные черты близких или любимых им женщин…
С Пушкиным часто бывало — он немел, краснел, бледнел, начинал задыхаться при виде поразительной красоты. Подобное случилось с ним и при первой встрече с Собаньской. Он был представлен ей.
Божественна! Он смотрит (злой, опасный). Собаньская (Ржевуской рождена, но рано вышла замуж, муж — Собаньский, бесхитростен, ничем не знаменит, тих, неказист и надобен для виду. Его собой затмить и заменить со временем случится графу Витту. Об этом после…) Белла Ахмадулина. Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине.Поэт растерянно переминался, смущённо молчал. С ней речь хотел он завести и — и не мог… И в этот первый раз не произвёл на неё никакого впечатления. Это своё тогдашнее состояние он позднее опишет в романе: И вместе несколько минут они сидят. Слова нейдут из уст Онегина. Угрюмый, неловкий, он едва-едва ей отвечает.
Генерала, горделиво сопровождавшего сиятельную пани, звали Иваном Осиповичем Виттом. Он был её гражданским мужем.
Юную графиню Каролину Ржевускую выдали замуж за пятидесятилетнего (на тридцать три года старше!) богатого подольского помещика Иеронима Собаньского. Он был владельцем одного из самых больших торговых домов в Одессе. Но уже в 1816 году Каролина покинула мужа. Добилась отдельного вида на жительство. О её дальнейших отношениях с мужем почти ничего неизвестно. Как потом оказалось, Собаньский был членом Патриотического польского общества. Вместе с графом Ходкевичем устанавливал связь с Южным обществом для совместного участия в восстании. Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьёв-Апостол от лица общества обещали полякам независимость и возвращение некоторых завоёванных территорий, а поляки — поддержку повстанцам и обязательство «отнять у цесаревича (польского наместника вел. кн. Константина. — С. Б.) средства возвратиться в Россию». После разгрома декабристского восстания Собаньский и граф Тарновский были арестованы и посажены в крепость за связь с декабристами. Но за отсутствием улик освобождены и отданы под надзор. Спустя много лет польский писатель Адам Ржонревский встретился в Париже с почти девяностолетней К. Собаньской. Она сохранила доброе здоровье и хорошую память. Он записал её воспоминания о Мицкевиче. Рассказывая о поездке с поэтом в Крым, мадам Лакруа (фамилия её последнего мужа) назвала в числе мужчин из сопровождавшей её «свиты» и своего бывшего мужа. Запомним этот вроде бы малозначительный факт — он ещё нам пригодится в дальнейшем. Оставив мужа, Собаньская, по всей вероятности, жила в волынском родовом имении или у отца в Киеве. Года через три после разъезда с Собаньским познакомилась с начальником военных поселений Новороссийского края графом Виттом.
Этот маленький, юркий, сухощавый и черномазый полугрек-полуполяк имел славу отчаянного Дон-Жуана. Мужчины ломали головы, пытаясь разгадать секрет его бешеного успеха у женщин. А прекрасные дамы теряли головы от его сладких речей и огненного пыла. Он не блистал образованностью, зато был страстным любовником. Не берусь утверждать, потеряла ли на какой-то момент свою очаровательную головку и моя героиня. Чужая душа — потёмки. Но в 1821 году она уже открыто жила с ним в Одессе. Страсть ли, богатство, высокое положение графа, а возможно, что-то иное заставили Собаньскую пренебречь мнением света и стать содержанкой Витта. Жениться на ней он не мог — у него была семья. Но проводил, по словам Вигеля, у Каролины дни и ночи. Граф знал цену доставшемуся ему бриллианту, вделал его в дорогую оправу — окружил её неслыханной роскошью. Изысканные туалеты, драгоценности, кареты, слуги. Прекрасно обставленный дом. Она устраивала балы и вечера, выезжала сама. Две или три порядочные женщины ездили к ней и принимали у себя, не включая в то число графиню Воронцову, которая приглашала её на свои вечера и балы единственно для того, чтобы не допустить явной ссоры между мужем и Виттом; Ольга же Потоцкая-Нарышкина, хотя по матери и родная сестра Витту, не хотела иметь с ней знакомства, все прочие также чуждались её. В этом унизительном положении какую твёрдость умела она показывать и как высоко подыматься даже над преследующими её женщинами! — вспоминал позднее служивший в то время в Одессе Ф. Ф. Вигель. С гордо поднятой головой входила она в гостиные, не обращая внимания на несущееся вслед злобное шипение светских кумушек, усаживалась на видное место, как королева на трон. Зато мужчины осаждали её салон — один из самых модных в Одессе. Восхищались её красотой, умными беседами, чарующим глубоким, грудным голосом и прекрасной игрой на фортепьяно. Снова слово Вигелю: Пален и Потоцкий часто бывали то на утренних, то на вечерних её беседах и весёлостию ума оживляли на них разговор; <…> Ланжерона строгая жена не пускала к ней. Вообще из мужского общества собирала она у себя всё отборное, прибавляя к нему много забавного, потешного. <…> Из Вознесенска, из военных поселений приезжали к ней на поклонение жёны генералов и полковников, мужья же их были перед нею на коленях[291].
Поэт стал бредить городом, где жила ошеломившая его Каролина. Из Киева по пути в Кишинёв завернул в Одессу — ещё разочек увидеть свою королеву. Новая встреча обуяла одержимостью — во чтобы то ни стало перебраться поближе к Каролине. Видимо, уже тогда вёл об этом какие-то переговоры с тамошним начальством. Пушкин окрылён обещанием и опрометчиво сообщает Дельвигу о своём намерении в письме от 23 марта 1821 г.: Недавно приехал в Кишинёв и скоро оставляю благословенную Бессарабию — есть страны благословеннее. Праздный мир — не самое лучшее состояние души. Даже и Скарментадо[292] кажется неправ — самого лучшего состояния нет на свете, но разнообразие спасительно для души. Надежды на перевод не оправдались. Через два месяца он вновь выклянчил у Инзова отлучку и закусив удила помчался к своей волшебнице. С тех пор улизывал туда при первой возможности. С начала 1823 года буквально стал осаждать своего начальника просьбами о переводе его на службу в Одессу. Умный старик снова отпустил его на месяц.
— Пусть поживёт немножко, побалуется, присмотрится к новому губернатору графу Воронцову. Ох, несдобровать ему с ним. Авось, одумается и вернётся, — рассуждал по-отечески заботившийся о нём опекун.
Но Пушкин не одумался. Прошли все дозволенные сроки, а он не возвращался в Кишинёв. Стал забрасывать письмами петербургских друзей, просил помочь. Наконец Александр Иванович Тургенев выхлопотал ему назначение в канцелярию начальника Бессарабской области и Новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. В начале июля Пушкин навсегда покинул Молдавию. В Петербург полетело его благодарное письмо А. И. Тургеневу: Тебе я обязан переменою своей судьбы.
«Король с народом, народ с королём!»
Имя Собаньской беспощадной рукой советских пушкинистов на многие годы было вычеркнуто из биографии Пушкина[293]. Причина тому до абсурдности банальна: женщина, причастная к «политическому сыску», не достойна быть возлюбленной светлого гения. А ведь Поэт не только горячо и страстно любил её. Ей написана его «Песнь песней» — единственное дошедшее до нас любовное письмо. Она стала прототипом его литературных образов — Марии в поэме «Полтава», Марины Мнишек в «Борисе Годунове». Её черты проскальзывают в облике светской Татьяны Лариной. И как узнаем позже, ей посвящены десятки его поэтических и прозаических произведений. И среди них — печальное, как прощальный лебединый клик, стихотворение «Я вас любил». К ней, бесспорно, обращены стихи «Когда твои младые лета».
Когда твои младые лета Позорит шумная молва, И ты по приговору света На честь утратила права, — Один, среди толпы холодной, Твои страданья я делю И за тебя мольбой бесплодной Кумир бесчувственный молю.Пушкин один из немногих знал истину о Собаньской. Об этом говорят строки из его письма к ней: …ваше собственное существование, такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно быть. Чтобы и нам понять, каким оно могло быть и каким стало по немилостивой воле Провидения, необходимо совершить экскурс в историю Польши XVIII—XIX веков. Ибо к Собаньской можно отнести её же слова о Марине Мнишек: Она до невероятия полька. И этим всё сказано! Судьба Польши стала плоть от плоти судьбой графини Каролины Ржевуской-Собаньской…
После первого раздела Польши в 1773 году, когда половина её территории была оттяпана с востока, запада и юга Россией, Пруссией и Австрией, история, по выражению С. М. Соловьёва, предоставила Королевству Польскому 15 лет отдыха. Россия воевала с Турцией, в промежутке — со Швецией. И до поры до времени закрывала глаза на агрессивные попытки ляхов лягнуть льва российского. Польша по-своему объясняла это поведение — могучий некогда лев стал слаб и немощен, обескровлен многолетней войной, интригами европейских дворов — Австрии, Франции, Англии, Швеции, неверным союзником Пруссией. Момент казался подходящим для освобождения от ненавистного Надзирателя. Донесения польских дипломатов, сведения от проживавших за границей поляков были тревожны — иностранные государства задумали новый раздел Польши. Нельзя было далее медлить. Польша воспрянула.
Пасхальные каникулы не помешали руководителям заговора спешно созвать сейм. 3 мая 1791 года он провозгласил новую конституцию. Это был замечательный по содержанию, но трудно приложимый для польской ситуации того времени документ. Он предоставлял её гражданам немыслимые для того времени свободу и права. Среди прочего — участие вместе с шляхтой в сейме, в полицейской и финансовой комиссиях и асессорских судах, возможность удостаиваться духовными званиями, шляхетским достоинством — за особые заслуги на военном и экономическом поприще. Отменялись введённые ранее конфедерации, liberum veto[294] и выборность короля и вводилось наследственное правление. Специально было оговорено — после смерти царствующего короля престол переходит кюрфюрсту саксонскому и его наследникам. При этом законодательная власть принадлежит сенаторской и посольской палатам. Исполнительная же — королю и его совету из 6 министров. Его автор сеймовый маршал Малаховский кичливо заявлял, что польская конституция превосходит два известных республиканских устройства — английское и американское.
Как бы там ни было, но польская конституция на долгие годы стала знаменем борьбы Польши за независимость.
Екатерина расценила сей самовольный, не согласованный с нею, акт как самый настоящий переворот. Установление в Польше республиканского правления многие годы оставалось предметом особой гордости императрицы — выборный король, учреждение конфедераций и участие их представителей в сейме. Этот окромсанный со всех сторон островок некогда могучего королевства стал для русской царицы своего рода плацдармом для её либеральных экспериментов. Сама Россия и мечтать не могла о подобных вольностях! Екатерина-женщина была страшно возмущена ликвидацией установленных Россией порядков и особенно введением наследственного правления и перехода престола к саксонским кюрфюрстам. Но Екатерина-императрица виду не подавала, что самовольство поляков встревожило её.
Мы как прежде, так и теперь останемся спокойными зрителями до тех пор, пока сами поляки не потребуют от нас помощи для восстановления прежних законов республики, — отвечала Екатерина на донесения своего посла Булгакова о событиях в Польше. Мудрая императрица не спешила вводить войска в Польшу. Прежде всего необходимо было окончить войну и заключить мир с Турцией.
А пока Польша ликовала. В костёле св. Яна сенаторы и депутаты сейма присягнули новой конституции. Там же был отслужен благодарственный молебен. Варшава оглашалась салютным громом пушек. Народ ликовал. Польский король, ставленник Екатерины и её бывший любовник, Станислав Понятовский произнёс в сейме торжественную речь. Заливаясь слезами, закончил её словами: «За всё претерпенное мною в продолжение царствования я награждён этим восторгом и единодушием моего народа». Раздались крики: «Да здравствует король! Да здравствует возлюбленный Станислав-Август! Король с народом, народ с королём!»
Во время обсуждения конституции в сейме царила страшная неразбериха. Не обошлось и без курьёзов. Пан Сухоржевский решительно воспротивился новому уложению. Он пробовал протестовать, но ему не давали слова. Тогда он ползком пробрался к трону между ног депутатов и слёзно вымолил у короля разрешение высказаться. Его речь перешла в крик — он обвинял собравшихся в заговоре против свободы, требовал восстановления либерум вето, отмены положения о престолонаследии. Гул голосов перекрыл крик Сухоржевского. Право на liberum veto было похоронено. Тогда познаньский депутат пан Мелжинский в знак протеста бросился на пол и загородил своим телом выход из зала. Устремившиеся в костёл депутаты перешагивали через него, пинали его, топтали. Возле ратуши пан Малаховский, желая продемонстрировать народу дарованные новой конституцией льготы, громогласно изъявил желание немедленно записаться в разряд мещан. Толпа пришла в восторг от его слов, выпрягла лошадей из кареты Малаховского и повезла на себе новоявленного мещанина. На другой день граф Сапега и несколько литовских депутатов заявились в сейм перепоясанные, на манер якобинцев, кожаной лакированной портупеей. На бляхе ремня были выбиты слова: «Король с народом, народ с королём!» Через два-три дня подобные бляхи нацепили на себя почти все жители Варшавы. Вечером на прогулке в Саксонском саду талии нескольких знатных дам были обтянуты голубыми кушаками с написанным на них чёрными буквами тем же девизом. Все варшавянки моментально бросились к шорникам и ювелирным мастерам заказывать себе такие же пояса…
Главным камнем преткновения между Россией и Польшей был вопрос об уравнении в правах католиков с диссидентами (иноверцами — православными и протестантами). Екатерина настаивала также на их участии в сейме и министерствах.
Этот старый спор двух славянских государств решался почти полтораста лет. В 1653 году посол московского царя Алексея Михайловича князь Борис Александрович Репнин потребовал от польского правительства, чтобы впредь православным русским людям Малороссии не чинили неволи в вере и чтоб оставили им прежние вольности. Король не принял эти условия. Отказ обошёлся ему воссоединением Украины с Россией, 13-летней изнурительной войной и потерей новых (по Андрусовскому перемирию 1667 г.) территорий — части Украины к востоку от Днепра, Смоленска, Чернигова.
В 1764 г. новый посол российской императрицы Екатерины, тоже князь Репнин, предъявил Польше те же требования, что и его пращур князь Борис Александрович. И также получил отказ. На сей раз он обошёлся Польше ещё дороже — привёл к первому разделу страны в 1773 году, затем к второму в 1792 г. и, наконец, к кровавой развязке 1794 г. и её окончательному разделу в 1795 г.
В этом тяжеловесном польско-российском деле активное участие принимали представители знатного рода Ржевуских. Они соединяли свои судьбы с самыми известными польскими магнатами — Мнишеками, князьями Радзивиллами, Любомирскими. По материнской линии Рдултовских Каролина Собаньская приходилась правнучкой королеве Франции Марии Лещинской, дочери польского короля Станислава Лещинского и жены Людовика XV. Сын великого коронного гетмана Польши Станислава Матеуша — гетман Вацлав Ржевуский, прапрадед Каролины Собаньской, сражался против москалей в последней войне XVII века. Его сын Вацлав тоже был великим коронным гетманом и краковским каштеляном при короле Станиславе Понятовском. В польской истории он известен как автор нескольких трагедий на исторические темы («Золкиевский», «Владислав под Варной»), множества комедий и как ярый противник уравнения диссидентов в правах с католиками. Очень умело осуществляемый Екатериной в Польше принцип «Разделяй и властвуй» разъединял даже представителей одной фамилии на два враждебных лагеря — приверженцев и противников протектората России. Деньгами, земельными наделами, чинами, наградами, браками с русскими аристократками императрица вербовала себе сторонников среди знатнейших польских семей — Браницких, Черторыйских, Ржевуских, Потоцких.
Касательно польских дел, в скором времени пошлются приказания, кои изготовляются, для начатия соглашения; выгоды им обещаны будут; если сим привяжем поляков и они нам будут верными, то сие будет первый пример в истории постоянства их, — уведомляла императрица Потёмкина. — Кто из них (исключительно пьяного Радзивилла и гетмана Огинского, которого неблагодарность я уже испытала) войдти хочет в мою службу, то не отрекусь его принять; наипаче же гетмана графа Браницкого, жену которого я от сердца люблю и знаю, что она меня любит и памятует, что она русская; храбрость же его известна; также воеводу Потоцкого охотно приму, потому что он честный человек и в нынешнее время поступает сходственно совершенно с нашим желанием[295].
В то время как один из Ржевуских (по прозвищу «Красивый») был польским послом в Петербурге и всячески заискивал милостей императрицы, его родственник Вацлав Ржевуский с сыном Северином — старостой Долинским, стал зачинщиком смуты среди делегатов сейма. Вместе с епископом краковским Солтыком они протестовали против предоставления равных прав конфедератам-диссидентам. Граф Северин осуждал нерешительность короля и лелеял мысль стать диктатором Польши. В 1788 г. даже хлопотал о содействии тому берлинского двора. Князь Репнин арестовал обоих Ржевуских и отправил под конвоем в Вильну. Посол приказал содержать их с довольством и не оскорблять их ничем.
Екатерина сумела укротить молодого графа Ржевуского должностью гетмана польного коронного. Граф Северин стал верным приверженцем императрицы и спустя двадцать пять лет возглавил партию недовольных майским переворотом и новой конституцией. Осенью 1791 г. Ржевуский с генералом артиллерии коронной Феликсом-Станиславом Потоцким отправился в Молдавию к Потёмкину хлопотать о русской помощи. Потёмкина не застали в живых. Тогда поехали в Петербург с челобитной к самой императрице. Екатерина только и ждала, чтоб поляки сами попросили о помощи. Это развязало ей руки. Она приступила к действию. 9 марта 1792 г. русский посол в Польше Я. И. Булгаков получил приказ оказывать всяческую помощь сторонникам российской политики. Ликование Польши сменилось тревогой. Поборники конституции стали призывать к поголовному вооружению народа, обещали крестьянам освобождение от крепостничества. Деньгами для ведения войны одолжились у Голландии. В Пруссии вербовали офицеров для обучения войска польского. Надеялись также на поддержку крестьян Белоруссии и пограничных русских областей.
Россия ввела в Польшу стотысячную армию. В небольшом украинском городке Тарговице была образована конфедерация для восстановления старого порядка. Она избрала своим генеральным маршалом Феликса Потоцкого, а графов Браницкого и Северина Ржевуского советниками. Поляки сумели собрать едва 45-тысячное войско. Его возглавили Фаддей Костюшко и граф Михаил Виельгорский. Другой граф, Юрий Виельгорский, воевал на стороне России. После двух проигранных сражений Станислав Понятовский, как провинившийся ребёнок, стал просить у императрицы прощения. В качестве компенсации за свои прегрешения поляки подносили Екатерине польскую корону для её внука великого князя Константина. Екатерина гордо отвергла дар и посоветовала королю восстановить в стране конфедерации. Российский вице-канцлер Остерман через посла Булгакова разъяснил причины отказа: это предложение противу образу мыслей императрицы и бросает тень на её бескорыстие, Россия имеет единственную цель — восстановление прежнего закона о республике и выборности короля. Военный конфликт не следует рассматривать как войну двух государств, ибо Россия в искреннем и совершенном союзе с настоящей республикой против её внутренних врагов. После бурных споров в сейме король подписал акт о введении конфедерации. Её ярые противники маршал сеймовый Малаховский, маршал литовский Игнатий Потоцкий, краковский епископ Солтык и коронный референдарий Коллонтай сложили свои полномочия и уехали за границу. Польша была завоевана и сдалась на милость победителей.
Екатерина считала, что теперь имеет полное право распоряжаться её судьбой. Она обдумывала предложение Пруссии о новом разделе Польши. Для вящего оправдания сего акта была придумана юридическая мотивировка — не раздел польского государства, а соединение раздробленной России во имя защиты интересов православного населения страны. В ноябре 1792 г. прусский посол в Петербурге представил императрице карту Польши, на которой была отмечена претендуемая Пруссией территория. Екатерина собственноручно прочертила линию новой западной российской границы. Она шла от восточной окраины Курляндии, мимо Пинска, через Волынь к австрийской Галиции. Императрица в последнее время усердно изучала древнюю русскую историю. Огорчалась, что не может вернуть все некогда русские княжества. Судьба Польши была решена.
Укрощённый граф Северин Ржевуский был обманут в своих чаяниях. Вначале отказывался верить, что раздел Польши осуществлён по воле её величества. Своё возмущение «коварством» императрицы высказал в личном к ней письме. Попрекал царицу щекотливым положением, в котором он оказался вместе с графом Потоцким, — ведь, возглавив оппозицию, они гарантировали восстановление в Польше старых порядков. «Я беру Украину взамен моих убытков и потери людей!» — цинично ответствовала Екатерина. В знак протеста граф Ржевуский оставил гетмановскую булаву и поселился в Вене.
После нового раздела в 1795 г. Россия получила более двух тысяч квадратных миль польской земли. Отодвинула границы до Немана и Буга, присоединила Курляндию. Воеводства Краковское и Сандомирское отошли к Австрии. Вся остальная территория отдавалась Пруссии вместе с Варшавою. Государство Польша на сто двадцать три года исчезло с карты Европы[296]. Король лишился своего народа, народ лишился своего короля…
Листопад — месяц печальный
Стоял листопад — польский ноябрь. Ветер срывал с деревьев последние листья. Наступала зима — самая печальная зима в польской истории. Станислав Понятовский навсегда покинул Варшаву. Ему недолго осталось пребывать на этом свете — всего на два года пережил ту, для которой всегда был всего лишь игрушкой. Она сделала его своим любовником, а когда надоел, посадила мелкопоместного графа на польский престол. Императрица умела награждать своих возлюбленных. Чем головокружительней взлёт, тем больнее падение. Понятовский, как и граф Северин Ржевуский, поверил в либерализм императрицы и жестоко поплатился за это сломанной жизнью — собственной и дорогого отечества. Рухнули надежды. Польские магнаты покидали свою блистательную столицу, одни уезжали за границу, другие отсиживались в своих имениях.
Свои милости императрица перенесла на племянника графа Северина — Адама-Лаврентия Ржевуского, отца Каролины Собаньской. Он получил должность воеводы витебского, в 1809 г. стал киевским губернским предводителем дворянства. И забыл, что когда-то его занимали иные «Мысли о реформах Рады республиканской», изданные в Варшаве в 1790 г. Но забыл ли в самом деле? Думаю — нет! Это удивительное свойство поляков — не забывать о Родине, о шляхетских вольностях, где бы и кем бы они ни были!
Своих детей граф Адам прекрасно образовал и воспитал, но самое главное — привил им неизбывное чувство патриотизма. Старшая дочь графа Адама — Каролина, провела детство в доме дядюшки Вацлава Ржевуского в Вене. Сын Северина, Вацлав, был женат на Розалии Любомирской — дочери великого маршала коронного князя Любомирского. Розалия имела в Вене блестящий салон, который, по словам Вигеля, слыл первым в Европе по уму, любезности и просвещению его посетителей. Здесь юная Каролина впитала всю изысканность светских манер.
Ржевуские, как мы убедились, оставили и продолжали оставлять свой след в польских анналах. Красавица же Эвелина Ганская вписала своё имя в мировую историю. Однажды случилось то, что спустя 150 лет заставило Андре Моруа сказать: Дамы этого рода питали пристрастие к людям выдающимся! Скучающая бальзаковского возраста аристократка решила вступить в переписку с великим французским писателем. Зимой 1832 г. Бальзак получил из Одессы письмо за подписью «Чужестранка». Корреспондентка расточала автору похвалы за последнее его произведение «Сцены из частной жизни», но позволила его упрекнуть в недостаточной утончённости чувств в «Шагреневой коже». Бальзак не мог ей ответить — незнакомка не указала своего адреса. Потом от неё пришло второе, третье письмо. Наконец, через посредницу — гувернантку дочери Ганской швейцарку Анриетту Борель — завязалась переписка. Начался восемнадцатилетний роман в письмах. Впрочем, он был не только эпистолярным. В декабре 1833 г. они впервые встретились в Швейцарии в маленьком городке Невшатель. Как водилось у российских богачей, Ганская приехала туда в сопровождении целой свиты — мужа, дочери Анны, её воспитательницы, двух старушек-приживалок и десятка слуг. Расточительный и вместе с тем расчётливый Бальзак был ошеломлён этой сказочной восточной роскошью. Записочкой уведомил Ганскую о своём прибытии и отправился на прогулку. На скамейке у берега озера он увидел прекрасную даму в тёмно-фиолетовом (любимом его цвете) бархатном платье — с книгой в руках. Она уронила платок. Писатель наклонился, чтобы поднять его, и увидел в руках незнакомки свой роман. Так произошла их первая встреча. Бальзака поразило её лицо — почти мистической поэзии, сияющей на её челе, противоречило сладострастное выражение рта. Роман поддерживался редкими встречами — в Женеве, Вене, Дрездене, Верховне. В промежутках Бальзак заводил другие, неплатонические адюльтеры — он называл их маленькими весенними шалостями.
После смерти мужа в ноябре 1841 года Ева не сразу решилась на брак с вульгарным буржуа и богемой, как называла Бальзака её венская тётушка Розалия. Она вообще была настроена против французов. Из её памяти не стёрлась жестокость якобинской диктатуры. На гильотине погибла её мать — княгиня Любомирская, жена генерала французской службы. А сама Розалия провела несколько ужасных недель в тюрьме и чудом спаслась от смерти. Эвелина всё откладывала и откладывала брак с нетерпеливым возлюбленным. Были трудности и со вступлением в наследство мужа. А Оноре настаивал, убеждал, забрасывал письмами свою волчишку: Вы маяк, вы счастливая звезда… Вы дарите утехи любви и честь… Пресытиться вами невозможно. В начале 1847 г. Ганская родила Бальзаку сына Виктора-Оноре. Прошло ещё три года, прежде чем полярная звезда стала женой Бальзака. 14 марта 1850 г. в бердичевском костёле Св. Варвары состоялось бракосочетание Эвелины и Оноре — счастливая развязка великой и прекрасной драмы сердца.
Пятидесятилетняя молодая принесла ему богатство — сберегаемое в ротшильдовском банке волчишкино сокровище, остатки своей ангельской, но всё ещё величавой красоты, знатность — графиня Ганская была правнучкой французской королевы, сестрой Адама Ржевуского — флигель-адъютанта русского императора, племянницей первой статс-дамы императрицы. («Что теперь скажут завистники!» — ликовал радостью просто смертного этот великий человек.) Он же давал Эвелине своё имя прославленного творца «Человеческой комедии» и навеки вписал её в свою биографию. До свадьбы Ганская умело разыгрывала роль госпожи Скромницы, уверяла Бальзака, что не желает ни его славы, ни его известности. Теперь ей поневоле «пришлось» разделить с ним и славу и почести. Но в придачу к имени Прометей принёс ей своё изношенное гипертрофическое сердце, одышку, физическую немощь. Через пять месяцев молодожёна не стало. Скорбь Эвелины была искренней, горячей и недолгой — это слова ироничного биографа Бальзака Андре Моруа. Молодой литератор Шанфлери помогал вдове разбирать бумаги покойного. И вскоре произошло то, что неминуемо должно было произойти с всё ещё привлекательной и пылкой полькой. Об этом позднее рассказал сам Шанфлери. Чтобы дорисовать образ Аталы, приведу его рассказ с комментарием Моруа:
«У меня разболелась голова, и в разговоре я несколько раз прижимал руку ко лбу.
— Что с вами? — спросила она.
— Не знаю… Невралгия.
— Я вылечу вас, сейчас всё пройдёт.
И, встав позади меня, она положила мне на лоб обе ладони. В подобных положениях возникают некие магнетические флюиды, и тогда уж люди на этом не останавливаются.
Так началась эта связь. Шанфлери был на двадцать лет моложе прекрасной сарматки, которая 13 мая 1851 года писала ему: Каждый вечер хожу в кафе-шантаны и очень веселюсь!.. Позавчера смеялась до упаду. Никогда ещё так не хохотала. Ах, до чего ж приятно, что я никого не знаю, что мне ни с кем не надо считаться, что я совершенно независима и свободна, как в горах, и вместе с тем сознавать, что я в Париже… Очевидно, парижская жизнь пришлась ей по вкусу, раз она больше не возвращалась на родину».
Даря свою любовь Шанфлери, мадам де Бальзак щедро позолачивала её республиканскими луидорами. Вскоре к любовнику перекочевала и печать, которой Бальзак запечатывал свои письма. Взамен требовала, чтобы он анонимно закончил два незавершённых романа Бальзака — «Депутат от Арси» и «Мелкие буржуа». Заместитель покойного на ещё неостывшем супружеском ложе почёл сие предложение оскорбительным для памяти писателя и наотрез отказался. Как ни одаривала она возлюбленного, удержать его долго не смогла. Чувственный пыл стареющей женщины, властность и бешеные сцены ревности отпугнули его. По этому поводу Моруа остроумно заметил: Шанфлери чудилось, что любовницей у него состоит сама Екатерина Великая. Он бежал, не приведя в порядок неоконченные рукописи покойного. Не сбылась мечта вдовы вписаться и в жизнь Шанфлери и увековечить себя в истории литературы в роли Музы двух французских писателей.
Но энергичная пани не сдавалась — другой писатель, Шарль Рабу, оказался более сговорчивым и дописал «Человеческую комедию». Эвелине пригодилось унаследованное от деда литературное дарование — она рассказала Рабу сочинённое ею окончание «Депутата от Арси». При этом беззастенчиво утверждала, что таков был замысел писателя. Согласитесь, что не каждому это под силу! Все Ржевуские были склонны к мистике. Отец её был видным масоном, занимал должность великого мастера петербургской Великой ложи Астрея. Каролина Собаньская увлекалась учением иллюминатов, пиетистов (по этому поводу и вела переписку с бар. Ю. Крюднер). Эвелина верила, что сам Бальзак с того света диктует ей продолжение сюжета. В своей записной книжке отметила: Я больше жила с персонажами «Человеческой комедии», чем с людьми реального мира. Она так хорошо знала привычки, нравы, поступки, знакомства всех членов многочисленной нетленной семьи, созданной фантазией писателя, что даже не сочиняла, а просто, как она утверждала, продолжала общаться с ними.
Мадам де Бальзак жила долго — умерла в 1882 г. В её жизни были новые радости, новые авантюры. После неудачи с Шанфлери сменила амплуа — стала Музой искусств. На её пути встретился известный французский художник Жан Жигу. В этом обременённом годами и славой уроженце Безансона, сыне кузнеца, с роскошными галльскими усами она нашла то, чего ей не хватало ни в Ганском, ни в Бальзаке — грубоватую мужественность и под стать внешности талант. Он писал «огромные махины» — полотна на исторические и мелодраматические сюжеты в дерзкой, смелой и условной манере. Дочь Эвелины Анна заказала ему свой портрет. Однажды привела к нему в мастерскую мать. А она влюбилась в галла. Похоже, одной из девяти Муз Эвелина служила охотнее всего — она была истинная жрица и Эраты нежный друг.
После смерти Бальзака вдова уплатила все его огромные долги, приобрела для себя замок Борегар в Вильнёв-Сен-Жорж, где и жила со своим новым возлюбленным до самой смерти. Но были в её жизни и горести — разорилась дочь, промотав всё переписанное на неё состояние матери; зять Георг Мнишек — милейший, кроткий человек, получил удар, лишился рассудка и через шесть лет скончался, оставив свою беспечную, как птичка, очаровательную жену Анну почти нищей, остаток жизни она провела в монастыре; для уплаты долгов имение Верховню пришлось продать брату Эвелины Адаму Ржевускому.
У Адама-Лаврентия Ржевуского была ещё одна дочь — свирепая Алина, которая в детстве кулаком разбивала нос своей сестре Еве. Она вышла замуж за Монюшко. Часто наезжала в Париж, познакомилась по поручению сестры Эвелины с Бальзаком. О ней он очень недоброжелательно отозвался в письме к Ганской:
Она пришла в ярость при мысли, что этот, как она выразилась, дворец (где решительно всё, вплоть до самого обыкновенного гвоздя, говорит о том, что это жилище обставлено для обожаемой женщины) будет принадлежать её сестре, которую она колотила в детстве. «Ну что такое Верховня в сравнении с этим очаровательным особняком? — заявила она. — Я нигде не видела ничего подобного. Верховня, господин Бальзак, — это образец безвкусицы, ибо мой дорогой зять как раз и грешил отсутствием вкуса».
Знаешь, дорогая, я не мог удержаться и захохотал при этих словах, полных посмертной ярости, ибо сразу всё понял по злобному тону этого замечания. Разве мог человек, который Еву предпочёл Алине, проявить в чём-нибудь хороший вкус?
С Алиной связан ещё один трагикомичный эпизод. После смерти Ганского Эвелина кокетливо советовала Бальзаку не ждать её, а жениться на молоденькой. Огорчённый таким пожеланием Бальзак показал это письмо Алине. И она, не долго думая, тут же предложила ему в жёны свою красивую дочь Полину. Бальзак был потрясён и поспешил выразить Еве своё преувеличенное возмущение: Как смеет она толкать в объятия пятидесятилетнего мужчины юную девушку! Эвелина не удивилась — с сестрой они были врагами с детства.
Самая младшая сестра Ганской — Полина в 1827 г. вышла замуж за коммерсанта И. С. Ризнича — директора городского театра и Одесского коммерческого банка. Он был вдовцом — его жена, одесская возлюбленная Пушкина Амалия Ризнич, недавно умерла в Италии от чахотки. Полина, вероятно, была не столь хороша, как её сёстры, — малютка с большим ртом и польскими ухватками, — иронично заметил в письме Пушкину поэт В. И. Туманский. Она, вероятно, не заслужит ни твоих, ни моих стихов по смерти. Туманский посвятил Амалии Ризнич сонет «Ты на земле была любви подруга». А чудный взор, то нежный, то унылый, этой экзотической красавицы вдохновил Пушкина на несколько любовных песен, среди которых: «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Под небом голубым»…
Младший брат Эвелины — Лев, до девятнадцатилетнего возраста жил в России. Потом уехал в свои имения, оставшиеся в перешедшей к Австрии Галиции. Поступил на службу при австрийском дворе, где ему был пожалован чин камергера. Как и брат Генрик, имел литературный талант, стал известным публицистом.
Другой брат, Адам (1801—1888) окончил иезуитский колледж во Львове. Продолжал своё образование в Венской академии. Но затем перешёл на русскую службу. В ноябре 1821 г. был зачислен корнетом в 1-й Украинский уланский полк. В Одессе в доме сестры Каролины познакомился с Пушкиным — об этом знаем из мемуаров Михаила Бутурлина. Очень молодым женился на очень богатой вдове Жеребцова, бывшей фаворитке Александра I и весьма влиятельной при дворе особе. Невеста годилась ему в матери — на 22 года старше жениха. Отчим оказался моложе и её дочери, к тому времени уже бывшей замужем за князем Орловым. Карьера молодожёна стремительно пошла вверх. В 1826 г. он был произведён в поручики. А затем Николай I назначил его своим флигель-адъютантом, позднее пожаловал чин генерал-лейтенанта. Бальзак, женившись на Ганской, очень гордился родством со своим высокопоставленным шурином. Но сам Адам Адамович не жаловал сочинителя Бальзака, как он презрительно называл его. Его возмущала связь с ним его высокородной сестры. Во время четырёхмесячного пребывания в 1843 г. в Петербурге писатель даже не был представлен своему будущему родственнику. Приезд Бальзака в столицу подготавливался по всем правилам дипломатической игры. Российский посол в Париже П. Д. Киселёв убеждал Николая принять его со всеми почестями. На Бальзака возлагались большие надежды. Только что вышло во Франции скандальное сочинение маркиза де Кюстина, в котором он очернил Россию и его императорское величество. Книгу тут же стали переводить на иностранные языки. Позор — на весь мир! От Бальзака ждали реабилитации. Так как этот писатель всегда в крайности, а сейчас нуждается ещё больше, чем обычно, то весьма возможно, что целью его поездки является какая-нибудь литературная спекуляция… В таком случае, может быть, стоило бы пойти навстречу денежным затруднениям господина де Бальзака, чтобы прибегнуть к перу этого писателя, который ещё пользуется здесь, да и во всей Европе, популярностью, и предложить ему написать опровержение клеветнической книги де Кюстина, — советовал Киселёв[297].
Пребывание Бальзака в российской столице всколыхнуло общество. Двор находился в это время в Петергофе. Оттуда графиня Разумовская писала Ганской, что была бы счастлива познакомиться с человеком, который лучше всех понял и обрисовал женское сердце. О том же умоляли Эвелину и другие дамы. Графиня Нессельроде писала своему сыну: Бальзак осуждает Кюстина, это в порядке вещей, но не надо верить в его искренность. Бенкендорф пригласил писателя на парад в Красное Село. Там он увидел императора и восхитился его красотой — во всей Европе не сыщешь мужчину, который мог бы сравниться с ним. Но этим лестным отзывом о царе в частном письме дело и кончилось. Графиня Нессельроде оказалась права. Бальзак не оправдал возлагаемых на него надежд — он ничего не написал о России. Граф Адам Ржевуский ещё больше возненавидел вульгарного буржуа.
Генерал Адам ведёт себя безобразно до такой степени, что лучше уж об этом не говорить. О моя несравненная, обожаемая моя мамочка, вы всегда относились к нему замечательно, просто безукоризненно, столько раз нежно прощали ему, когда он серьёзно был виноват перед вами, забывали его оскорбления, и он ещё имеет дерзость преследовать вас своими пошлыми и грубыми шуточками! — писала матери Анна. Но графиня Ганская знала, что делает. Брюзжание тётушки Розалии, ярость братца — Боже! какие это мелочи в сравнении с великой целью — бессмертие через гения!
В этой семье, большой и блещущей талантами, в числе которых талант к авантюризму — генетический или национальный — занимает далеко не последнее место, самой выдающейся личностью был старший брат Эвелины Генрик (1791—1866). Он, как и Адам, закончил иезуитский колледж и превосходно владел латинским и французским. Но зато не очень-то силён был в родном наречии. Позднее, когда стал писателем, ему пришлось постигать азы польского литературного языка. Граф Генрик был большим оригиналом и выделялся среди золотой одесской молодёжи саркастическим, с диогеновой закваской, умом, начитанностью и своими неподражаемыми рассказами о польско-шляхетской старине. В отличие от младшего брата Адама он знал толк в литературе. Вместе с нежно любившими его сёстрами Каролиной и Эвелиной восхищался Бальзаком. И именно ему доверительно сообщала Ганская о своём романе с великим французом (в письме от 10 декабря 1833 г.):
Бальзак очень похож на вас, мой дорогой Генрик; он так же весел, смешлив и любезен, как вы; даже внешне он чем-то походит на вас, а оба вы напоминаете Наполеона [298] .
В 1831 г. Генрик приехал в Рим. Здесь, в палаццо княгини Зинаиды Волконской, он вновь встретился с Адамом Мицкевичем. Поэт бросился к нему, расцеловал, как родного брата. Ведь он в самом деле был ему братом, потому что Адам любил его сестру Каролину. Генрик всколыхнул видение — море… бьющиеся о борт волны… птицей скользит корабль, за ним — белый пенистый след, а ещё дальше — Одесса… впереди морской простор, Крым… ах, этот волшебный Крым!.. Буря… Шторм! Шторм! Корабль трещит. Он бешеным рывком / Метнулся, прянул вверх, сквозь пенный шквал прорвался, / Расшиб валы, нырнул, на крутизну взобрался, / За крылья ловит вихрь, таранит тучи лбом. / Я криком радостным приветствую движенье. / Косматым парусом взвилось воображенье. / О счастье! Дух летит вослед мечте моей… Ночь… низкое, близкое небо… а звёзды — никогда ещё не видел Адам таких огромных звёзд — ведь он впервые увидел море… Палуба… Он и Она — вдвоём… И поток мелодией струящихся слов: Вытянув руки, я к палубе ниц припадаю; кажется, грудь моя сил кораблю придаёт; любо! легко мне! что значит быть птицей — я знаю. И бесконечные разговоры под пьянящей, безумящей луной. Кончена беседа. Спи! Спокойной ночи! Ангелом небесным сон твой да хранится! После слёз пролитых отдохнут пусть очи, пусть покоем сладким сердце осветится! Спи! Спокойной ночи! Каждого мгновенья, что мы были вместе, — след да отразится! В этом сне приятном! В дымке сновиденья образ мой пусть лучшим для тебя приснится!
Генрик сопровождал сестру в этом путешествии. Адам любил Каролину. Адам полюбил и его, её брата. Любил всё и всех — море, Крым, небо, звёзды. Даже своего начальника Витта, этого скользкого, противного, с маслеными греческими глазами, следившего за его каждым вздохом, каждым словом. Это было давно и недавно — это было в 1825 году. Потом — размолвка. Её причины Собаньская объяснила биографу Мицкевича Аэру интригами графини Авдотьи Петровны Гурьевой, жены одесского градоначальника Александра Дмитриевича. Свежий, откормленный, упитанный телец, туго начинённый словами, а не мыслями, — узнаёте почерк Ф. Ф. Вигеля? Да, это он — язвительный хроникёр эпохи нарисовал нам образ тупого, жадного и златолюбивого сыночка министра финансов александровской эпохи, вора и разбойника (по словам А. О. Смирновой) Д. А. Гурьева. За отсутствием в Одессе в июле 1824 г. Воронцова Гурьев исполнял формальности по высылке Пушкина из Одессы. Всё в нём было тупо и тяжело; это просто был желудок, облечённый в человека. Он всегда разливал вокруг себя скуку, — не правда ли, Вигель не был лишён сатирического дарования? Графиня Авдотья была, что называется, красивой женщиной, но очень злой, надменной и легкомысленной. Ко всему прочему была эксцентричной и рубила правду-матку в глаза собеседнику. Как и муж, как и её достопочтенный батюшка, любила мзду. Она воспылала страстью к Мицкевичу. Известное время он был даже увлечён ею. Но очень быстро разочаровался. Корыстолюбие возлюбленной, вероятно, было тому причиной. В цикле стихотворений этого периода обращает внимание стихотворение «Сватовство». В нём уже остывший от страсти Мицкевич издевается над расчётливостью одесской матроны и её зятя — дипломата Н. Д. Гурьева, карьериста, жесткого человека:
Покамест пел я дочке дифирамбы, Мать слушала, а дядюшка читал. Но я шепнул: «Вот пожениться нам бы», — Весь дом я, оказалось, взволновал. Мать говорит о душах, об именьях, А дядя — о доходах и чинах…У Гурьевой было четыре дочери. Видимо, старшей, восьмилетней Мими, прелестной маленькой графине Гурьевой (о которой упоминал в письме к Д. М. Шварцу в Одессу Пушкин), пел дифирамбы Мицкевич и в шутку пожелал жениться на ней.
Все эти подробности о Гурьевой — во имя справедливости к Собаньской. Как жестоко, нарочито и необоснованно подгоняли исследователи под однажды скроенный шаблон зловещей и коварной императорской шпионки все негативные образы в творчестве Пушкина и Мицкевича. Одесские же сонеты Мицкевича полны любви и страдания к прекрасной Каролине.
О, если б ты жила хоть день с душой моею… День целый? Нет, тебе дать мук таких не смею. Хотя бы только час… Счастливое созданье, Узнала б ты тогда, как тяжело страданье.А вот ещё один сонет — полный любви, реабилитирующий образ коварной и расчётливой кокетки:
Подруга милая! Вздыхаю сотни раз! Воспоминание отравой горькой стало. О сердце чистое, как горько ты страдало, — Ужель страдаешь вновь за тот счастливый час! О верь, не ты виной, но то, что блеском глаз, Улыбкой алых губ ты молча мне сказала. Ни добродетель нас, ни воля не спасала, Нет, слишком пылкими Всевышний создал нас.Как не воскликнуть: не верьте домыслам недобросовестных исследователей! Просто внимательно читайте произведения поэтов — они вам расскажут во сто крат больше любого литературоведа! Не ты виной, но то, что блеском глаз, / Улыбкой алых губ ты молча мне сказала — в этих строках скрытая, но понятная обоим причина вынужденной разлуки Каролины и Адама. Перед ней бессильны и добродетель, и их воля. Она значительно глубже и серьёзнее, чем козни мадам Гурьевой или грубость, неотёсанность и плохое воспитане поэта, будто бы оттолкнувшие Собаньскую от Мицкевича. В незавершённом сонете «Ястреб» Мицкевич метафорически говорит о грозящих обоим бедах. Привожу отрывок из него в прозаическом переводе: Вспомни мои, вспомни свои собственные поступки. И ты на море жизни видела страшилища, и меня унёс вихрь, буря обессилила крылья. К чему эти милые слова, эти напрасные надежды? Сама в опасности — другим расставляешь сети…[299] Он ей пишет письма, несколько писем. Потом потребует их обратно. Но она не вернёт. В прощальном послании писал: Мы расстанемся! Когда же мы встретимся снова? Ты не будешь искать меня, а я не должен искать тебя. Даже спустя несколько десятилетий Каролина не решилась сказать истину биографу Мицкевича Аэру — Жонжевскому. Её прозрел страстный почитатель Мицкевича В. С. Соловьёв: …правда и благо жизни не могут зависеть от случайностей личного счастья. Этот первый и глубочайший жизненный разрыв есть, конечно, и самый мучительный, и много прекрасных и благородных душ его не выносят. И Мицкевич чуть не кончил, как гётевский Вертер. Когда он одолел слепую страсть, глубоко испытанная душевная сила подняла его, ещё юношу, чтобы смотреть на жизнь с этой первой, смертельною борьбою достигнутой, высоты. И далее Соловьёв добавил: Когда дух Мицкевича впервые поднялся над руинами мечтательного личного счастья, он беззаветно отдался другим, более широким мечтам о счастье национальном. Польский Вертер, Густав, был спасён от самоубийства своим превращением в Конрада Валленрода[300]. Герой поэмы «Дзяды» Густав — это сам погибающий от любви Мицкевич. В поэме поэт выразил свои чувства, как это сделали Гёте в Вертере и Пушкин в Онегине. Меня могут упрекнуть в подтасовке фактов — ведь поэма «Дзяды» издана в 1823 году, за два года до встречи с Собаньской. Но дело в том, что тогда Мицкевич опубликовал только пролог, вторую и четвёртую части поэмы. Первая была в набросках. Третья же — наиболее совершенная по форме и идее — написана значительно позже — в 1831 году. Кстати, вскоре после новой встречи с Собаньской летом 1831 г. в Дрездене. Она приехала туда из Варшавы с особым поручением — установить связь с эмигрантами-повстанцами… Отзвук чувств после этой новой встречи с Собаньской — в письме Мицкевича брату Францишку (24 ноября 1832 г.): …у меня было так много неприятностей и личных огорчений, что я заболел, но теперь здоров[301]. Собаньская была сильным наркотиком для поэтов. После встречи с ней Мицкевич вдруг снова вернулся к своему юношескому произведению и одним взмахом создал третью часть. А ведь столько лет в бесконечных скитаниях по городам и весям России и Европы таскал эту незавершённую поэму в своём немудрёном багаже. Время от времени вынимал рукопись из чемодана, вписывал какие-то строфы-озарения и снова откладывал — отвлекали другие темы, иные, более актуальные сюжеты. Как, например, «Конрад Валленрод» — поэма о борьбе литовского народа против крестоносцев. Иносказание было слишком очевидным: крестоносцы — российское самодержавие! Соловьёв был прав — Мицкевич отказывается от мечты о счастье, любовь к родине побеждает любовь к женщине. Но не будем, подобно Соловьёву, слишком идеализировать поэта. После Каролины Мицкевич увлекался и другими женщинами — Зинаида Волконская, Евдокия Бакунина. На последней он даже собирался жениться. Счастье же с Собаньской было невозможно прежде всего из-за неё самой. Она без слов, без объяснений — глазами, улыбкой алых губ дала ему понять, что не имеет права уйти от Витта. Не из-за любви и верности к нему — ни любви, ни верности не было. И даже богатство графа не могло её удержать (ведь Собаньский тоже был богачом!). Не уходила из чувства долга не к Витту, а к родине.
Всё остальное — фантазии. Вроде этой — о Гурьевой. Будто бы градоначальница способствовала разрыву с Мицкевичем — бросила на г-жу Д. Д. (под этими литерами обозначено большинство посвящённых им Собаньской сонетов) страшнейшие подозрения, делая из неё истую куртизанку… всеми всевозможными способами стремилась скомпрометировать свою соперницу, либо указывая на мужчин, хвалившихся своими успехами над ней, либо употребляя анонимные письма[302].
Они расстались. Витт ускорил развязку (он всегда стремился избавиться от соперников) — Мицкевич был переведён в Москву. Последний, прощальный сонет Каролине — «Так сердце своё у меня отняла ты…». И на память в её альбом стихи — Каролине, не Собаньской, не Виттовой, а ничьей — Ржевуской:
Два разных жребия нам вынуты судьбою, как в море две ладьи, мы встретились с тобою. Твоя, блестя кормой, под всеми парусами уверенно плывёт, гонимая ветрами. Моя ж — избитая, по воле злых ветров, без вёсел и руля, кружит среди валов. И я — когда судьба пророчит ей невзгоду и червь ей точит грудь — компас кидаю в воду. Расстаться мы должны! Увидимся ль опять? Искать не станешь ты, я не могу искать!Но вернёмся в Рим, к встрече Мицкевича с Генриком Ржевуским. У Зинаиды Волконской гостил в ту пору и друг Пушкина Сергей Александрович Соболевский. Генрик развлекал общество забавными байками из шляхетского быта. Мицкевич пришёл в неописуемый восторг. И стал приставать к Ржевускому, чтоб записывал свои рассказы вот таким же живым разговорным языком без всяких писательских прикрас. Эта встреча определила дальнейшую судьбу Генрика. Он взялся за перо. С Адамом виделись каждый день. Поэт читал только что написанные Ржевуским страницы, восторгался, хвалил. Собирал проживавших в Риме поляков слушать первые главы. Вскоре появились «Воспоминания старого шляхтича». Книга, по словам современника, произвела фурор в польской литературе. Успех окрылил Ржевуского. Он уединился в своём волынском имении Славута и целиком отдался литературному творчеству. Писал он легко, один за другим появлялись его исторические романы. Особой популярностью пользовались «Краковский замок», воскресивший страницы далёкой истории Польши, и «Листопад» — о закатных годах царствования Станислава-Августа. Листопад — печальный осенний месяц стал символом последних шляхетских вольностей, величия и падения независимой Польши.
Я могла ещё многое рассказать о семье Ржевуских. В последний раз уже в нашем веке ещё одна представительница этого рода ярко заявила о себе — дочь генерал-лейтенанта Адама от его второй жены — княгини Екатерины Радзивилл. Авантюризмом она превзошла даже своих тётушек Каролину и Эвелину. Её жизнь была полна самых фантастических приключений, которые могли бы стать прекрасным продолжением «Человеческой комедии» Бальзака. Она вошла в семью правнука прусского короля Фридриха-Вильгельма III — майора князя Вильгельма Радзивилла. Великолепный берлинский дворец, построенный бабкой мужа Луизой Прусской — женой князя Антона Радзивилла, оказался тесным для кипучей натуры пани Ржевуской. Оставив мужу четырёх детей, отправилась по свету в поисках приключений — Англия, Южная Африка, Соединённые Штаты. И повсюду её имя сопровождали громкие скандалы. Врождённый талант к авантюризму достиг апогея в Америке — здесь она сочинила и издала от имени своей в бозе почившей тётушки Эвелины 11 писем к брату Адаму. Сенсация потрясла мир — поразительные подробности из жизни Бальзака взахлёб читала вслед за Америкой вся Европа. Как видим, женщины из рода Ржевуских, помимо наследственной красоты, обладали и врождённым писательским даром. Эвелина дописывала произведения Бальзака, она сочинила автобиографическую новеллу, которую её возлюбленный обработал и назвал романом «Модеста Миньон». Екатерина создавала их жизнеописания, одно за другим выходили её эссе — «Вдова Оноре де Бальзака», «Женитьба Бальзака, предстающая в новом свете», «Правда о супружестве Бальзака», «Особняк Бальзака». А Каролина… О её литературных талантах поговорим позже. Властвовать, блистать, покорять, ошеломлять — таков был их удел. Не будем судить их строго. Отдадим им должное и согласимся, что не так уж плохо украшать буйной фантазией заурядную скучную жизнь…
Осенний вихрь листопада разметал на все четыре стороны отпрысков этой одной из знатнейших польских фамилий. События польской истории стали закваской для нелёгкой, романтичной и печальной судьбы моей героини Каролины Собаньской.
Фантасмагории прекрасной фанариотки
В 80-х годах XVIII века знаменитая французская портретистка Виже-Лебрен в одном из парижских салонов встретила мадам де Витт. Красота молодой дамы поразила художницу, и она тут же принялась за её портрет.
Трудно представить себе что-нибудь более прекрасное, чем это юное создание, — вспоминала на склоне лет Виже-Лебрен[303].
Судьба красавицы настолько фантастична, что самые изощрённые коллизии, изобретённые Жорж Санд для своих героинь, и в подмётки ей не годятся.
По одной версии, польский посланник при Оттоманской Порте Деболи увидел в константинопольском трактире молоденькую служанку поразительной красоты. Он выторговал тринадцатилетнюю девочку Софию Клавона у её матери и увёз с собой в Польшу. Сохранилось предание, что родители Софии были фанариотами — потомками знатных византийских семей, уцелевших при завоевании турками Константинополя. Они осели в предместье столицы Фанаре на берегу Золотого Рога — отсюда и их название. Фанариоты славились энергией, образованностью и изворотливостью. Благодаря этим качествам оттоманские правители принимали их на службу — драгоманами (переводчиками), наместниками дунайских княжеств. По пути на родину посланник остановился в Каменец-Подольской крепости. Её комендантом был майор Иосиф Витт. Юная гречанка пронзила Витта. Он тут же предложил ей стать его женой. Прекрасная фанариотка, несмотря на молодость, была смекалиста — жизнь с посланником сулила ей роль наложницы, а комендант предлагал руку и сердце и положение в обществе. Они тайно обвенчались, и Витт увёз свою красавицу во Францию.
По другой версии, этим посланником был Боскамп Лясопольский. Только встретил красавицу он не в трактире, а выкрал из гарема турецкого султана. И было ей не тринадцать, а семнадцать лет. Боскамп подкупил мать девушки, и она помогала ему увезти дочь. Приверженник этой версии украинский исследователь Виктор Святелик ссылается на записки Боскампа. Они послужили польскому автору Е. Лоску для биографии Софии. Боскамп вскоре бросил девицу. Вот тогда она и вышла замуж за майора польской армии Иосифа Витта. Не он, а его отец был комендантом Каменец-Подольской крепости. И вот этот важный генерал, приятель самого польского короля воспротивился браку сына с мадам Константинопольской, которую продавали на базаре. Юная фанариотка обладала прекрасной фантазией. Неужели всё дело в таком пустяке, как её недостаточно благородное происхождение? Ведь его легко можно устранить! Рождается чудесная легенда о Локсандре Скарлатос — дочери главного поставщика жён для гарема турецкого султана. София «выдаёт» её замуж за князя Маврокодато Скарлатосп де Челиче. А сама, таким образом, становится потомком этого славного и знатного рода! Не верите? — поезжайте в Турцию и проверьте на месте! Перед таким аргументом устоять трудно. Генералу пришлось благословить брак сына с высокородной греческой княжной.
В 1781 г. гречанка родила майору сына — будущего генерала Ивана Осиповича Витта. Молодые супруги после заграничного вояжа вернулись в Польшу. Легенда продолжается… Имение Витта находилось поблизости от лагерей русских войск фельдмаршала Потёмкина. Красота Софии покорила старого вояку. Он предложил Витту уступить ему жену взамен генеральского чина и графского титула Российской империи. София перебралась в ставку главнокомандующего. В 1787 г. Екатерина II прибыла в Крым осматривать завоёванные её фаворитом новые владения. Отвергнутый царицей любовник, дабы насолить своей владычице, с гордостью показал ей свой самый дорогой трофей — прелестную новоиспечённую графиню. Мудрая императрица и бровью не повела и пожаловала своему Григорию за верную и доблестную службу звание светлейшего князя. Его место в постели императрицы уже давно было занято другими любовниками. В это время французская художница Виже-Лебрен жила в России и писала портреты екатерининских вельмож. Приехала она и в лагерь Потёмкина. Здесь вновь встретилась с восхитившей её в Париже прелестницей. Вельможная щедрость князя Тавриды потрясла француженку: Ему всё было нипочем, лишь бы удовлетворить желанию, капризу обожаемой им женщины. <…> Он расточал перед нею самые изысканные любезности. Так, однажды, желая ей подарить кашемировую шаль безумно высокой цены, он дал праздник, на котором было до двухсот дам, а после обеда устроил лотерею, но так, что каждой досталось по шали, а лучшая из шалей выпала на долю самой прекрасной из дам[304].
И другие современники рассказывали о совершаемых ради обворожительной красавицы безрассудствах престарелого Потёмкина. Александр Михайлович Тургенев вспоминал, что во время осады Очакова войско умирало от холода, голода и житья в землянках, а князь Таврический в это время давал балы, пиры, жёг фейерверки… куртизанил с… бывшею прачкою в Константинополе, потом польской службы генерала Витта женою, потом купленною у Витта в жёны себе графом Потоцким и, наконец, видевшую у ног своих обожателями министров и королей. <…> будучи уже в преклонных летах, графиня Софья Потоцкая была предметом внимания даже Александра Павловича[305].
Потёмкин подарил своей возлюбленной в только что завоёванном Крыму большое греческое селение Массандру. Оно простиралось от хребта Яйлы до самого моря, занимая площадь свыше 800 десятин. Строевые леса покрывали горную часть этого огромного имения. Долина была засажена выписанными из Франции знаменитыми сортами лоз, а на обрыве над морем был разбит прекрасный парк с редчайшими породами тропических растений. Софья возмечтала основать здесь новый город Потоцких. После её смерти в 1822 г. крымские владения Потоцких были поделены между её детьми. Массандра отошла к старшей дочери Софье Станиславовне Киселёвой. Ольга Нарышкина получила Мисхор, а также прелестную дачу в долине Салгира неподалёку от Симферополя. Ивану Осиповичу, сыну от Витта, досталась часть Орианды. Но при жизни графини в массандровском имении поочерёдно отдыхали все члены её многочисленной семьи. Здесь, в Массандре, встречалась с Пушкиным Каролина Собаньская. Пройдёт семь лет, и он напишет ей взволнованное письмо. Сохранился его черновик — трепещущие строки от бури чувств, пробуждённых крымскими воспоминаниями:
Одна лишь мысль о том, что я смогу когда-нибудь иметь клочок земли в (неразбр) М (неразбр., но вероятнее всего, в Массандре) только и манит меня и воодушевляет меня среди мрачных сожалений. Туда я смогу совершать паломничества, чтобы бродить вокруг вашего дома [вас встречать] [упиваться], вас встречать, мельком вас видеть…
В 1791 г. посередь пиршеств и разгулов светлейшего князя прямо на бивуаке неожиданно сразила смерть. Графиня София вернулась к своему законному мужу Витту. Чтобы не залежался дорогой товар, граф Витт поторопился выгодно сбыть его с рук. Покупателем на сей раз оказался наш знакомец генерал артиллерии коронной Станислав-Феликс Потоцкий, тот самый, кто осенью 1791 г. отправился с графом Ржевуским к Потёмкину хлопотать о русской помощи. Фельдмаршала они в живых не застали, но зато увидели его обворожительную гречанку. Пылкий пан моментально влюбился, но интересы родины для сердца ляха превыше всего. Дела погнали его в Петербург с прошением к императрице. Затем началось восстание Костюшки. Раздел Польши. Мечты о польском престоле, который он надеялся получить в награду за преданность России, рухнули. В знак протеста против «предательства» Екатерины Потоцкий вослед другим польским магнатам уехал за границу. После смерти императрицы вернулся в Россию и был награждён чином генерал-аншефа русской армии. Он возобновил прерванные событиями переговоры с Иосифом Виттом о покупке его прелестной жены. После долгого торга выкупил её за два миллиона польских злотых. Его законная жена, известная польская художница Жозефина-Амалия Мнишек-Потоцкая, не соглашалась на развод. В начале 1798 года измученная неверностью супруга Жозефина-Амалия отдала Богу душу. А уже в апреле София Витт стала третьей женой нетерпеливого возлюбленного. В 1801 году она родила Потоцкому красавицу дочь Софию — «платоническую любовь» Пушкина. Через год появилась на свет другая дочь, Ольга, будущая Нарышкина.
Вигель, большой знаток альковных историй аристократов, называл жену графа Станислава-Феликса Потоцкого новой Федрой. Зрелая матрона воспылала к своему красавцу пасынку Юрию Потоцкому такой страстью, пред которой померкла бы проверенная временем слава её древнегреческой предшественницы. Престарелый граф, истый католик, смиренно принял этот новый удар судьбы как наказание за свои прежние грехи. В отличие от еврипидовского героя Тесея, сокрушённый всё ещё не старый граф не покарал сына-соперника, а уединился в одном из своих многочисленных имений, впал в мистицизм, стал последователем иллюминатов и вскоре скончался в 53-летнем возрасте. С этого момента началась сумасшедшая жизнь в Тульчине. Мачеха в объятиях пасынка была царицей в толпе шулеров и сорви-голов, стекающихся сюда чуть ли не из целой Европы, свидетельствовал современник. Мачеха в конце концов надоела красавчику Юрию. Он бросил её и уехал в Париж, но предварительно выторговал у неё роскошное обеспечение. Это было первое в жизни поражение прекрасной фанариотки. Страсть к карточной игре и беспутная жизнь подорвали здоровье молодого графа. Он умер в Париже. Мачеха не последовала примеру Федры и не покончила с собой от неразделённой любви. Она обратила свою душу к Богу и до конца жизни вымаливала у него прощение за грехи молодости. Посвятила себя воспитанию детей, занималась благотворительностью. Из сонма многочисленных своих любовников хранила светлую память только о Потёмкине и жалела его, как родного брата.
Фантасмагории прекрасной фанариотки не исчерпывались её бесконечными победами над сильным полом. Вигель не случайно сравнивал семью Потоцких с известной своим коварством и злодеяниями итальянской фамилией Борджиа. Вигель многое знал. Известна была ему и закулисная жизнь пани Софии. Неотразимость её заключалась не только в удивительной красоте. У неё был живой ум, острый язычок. Но было и то, что она умело прикрывала, — хитрость, ловкость, расчётливость. Одним словом — достойная представительница своего племени, чьи качества признавали даже коварные восточные сатрапы. Потёмкин очень быстро оценил достоинства новой возлюбленной и умело использовал её в своих целях. А цели у него были грандиозные — завоевание Константинополя, восстановление прежнего византийского государства с русским царём на престоле — внуком Екатерины Константином. Следующим этапом было присоединение к России всех древнерусских земель. Могучую великую империю собирался положить к ногам своей владычицы Екатерины светлейший князь. София исполняла его тайные политические поручения[306], кружила головы всем подряд — грекам, туркам, полякам — и выуживала у них необходимые для её повелителя сведения. Впрочем, «повелитель» — это так, для красного словца. Он был повелителем России, но не маленькой красавицы гречанки. Он был её рабом, а она его властительницей. Внезапная смерть помешала Потёмкину осуществить его великий проект. Сын графини Софии Иван Осипович Витт пошёл по стопам матери — был магистром политического сыска. Удивляться тут нечему — он был потомком фанариотов.
Таинственная К**
Среди множества загадок, оставленных нам Пушкиным, — имя вдохновительницы поэмы «Бахчисарайский фонтан». В «Отрывке из письма к Д.», написанном в декабре 1824 г. для альманаха Дельвига «Северные цветы», Поэт зашифровал её имя литерой «К». Вот пассаж из него — головоломка для исследователей:
В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюблённого хана. К** поэтически описала мне его, называя la fontaine des larmes. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. NN почти насильно повёл меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище, но не тем в то время сердце полно было: лихорадка меня мучила.
Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я об нём не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался.
В этом ребусе необходимо отгадать имена нескольких человек, причастных к путешествию в Бахчисарай. Прежде всего — неизвестное лицо, от которого Поэт услыхал историю о странном памятнике. Затем некая дама, обозначенная буквой К**, поэтически описавшая фонтан слёз. Господин NN, водивший Пушкина по дворцу. И, наконец, «М.», рассказавший о памятнике ханской любовнице. Итак, Пушкин обязан своей поэмой четырём различным персонажам.
Начнём с конца. «М.» — лицо, давно выявленное. Это дипломат и писатель, член Российской академии, Иван Матвеевич Муравьёв-Апостол. Он посетил Крым в том же 1820 году, месяцем позже. В своей книге «Путешествие по Тавриде» (издана в 1823 г.) упоминает о знаменитом храме Девы, воздвигнутом Гиреем в память о Марии. Господин NN — один из братьев Раевских (по-видимому, Николай), с которыми Пушкин путешествовал по Крыму. История о странном памятнике рассказана Пушкину ещё в Петербурге. Кем? Исследователи[307] решили, что это была женщина. При этом считали: в Крыму она бывала до того, как поведала Поэту романтичную легенду Бахчисарая. Таких «неоспоримых» претенденток на роль вдохновительницы поэмы оказалось несколько: Мария Аркадьевна Голицына, Мария Раевская-Волконская или одна из её сестёр — Екатерина, Елена, Софья; Наталья Строганова-Кочубей, дочь прекрасной фанариотки — Софья Киселёва-Потоцкая. «Подозревали» также компаньонку барышень Раевских — молодую пленницу-татарку из Балаквы{7}, и даже Екатерину Андреевну Карамзину. Но осталась ещё одна неизвестная (это уже четвёртое лицо, причастное к истории создания поэмы) — таинственная К**, поэтически описавшая фонтан слёз. Её отождествляли с незнакомкой, воспетой в элегии «Нереида». Стихотворение было напечатано без ведома автора в альманахе «Полярная звезда» за 1824 г. За сие самовольство — публикацию «глубоко личного» стихотворения Поэт — даже чуть было не поссорился с издателем А. А. Бестужевым. Посуди сам: мне случилось когда-то быть влюблённу без памяти, — писал ему Пушкин. — Я обыкновенно в таком случае пишу элегии, как другой мажет <…> свою кровать. Но приятельское ли дело вывешивать напоказ мокрые мои простыни? Бог тебя простит! но ты острамил меня в нынешней «Звезде» — напечатав три последние стиха моей элегии; чёрт дёрнул меня написать ещё некстати о «Бахчисарайском фонтане» какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же мою элегическую красавицу. Вообрази моё отчаяние, когда увидел их напечатанными. Журнал может попасть ей в руки. Что она подумает, видя, с какой охотою беседую об ней с одним из петербургских моих приятелей. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным — что проклятая элегия доставлена тебе чёрт знает кем — и что никто не виноват. Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики[308]. (Подч. мною. — С. Б.)
Речь идёт о письме к Бестужеву от 8 февраля 1824 г., попавшем в руки Булгарина. В нём Поэт вновь упоминает о даме, которой он обязан сюжетом поэмы: Радуюсь, что мой «Фонтан» шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины.
Но почему так трепетно, с какой-то рыцарской, несвойственной ему в ту пору, галантностью оберегал Пушкин от любопытных взоров её имя?
Прочитаем «Элегию»:
Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду, На утренней заре я видел нереиду. Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть: Над ясной влагою полубогиня грудь Младую, белую, как лебедь, воздымала И пену из власов струёю выжимала.Вот, оказывается, в чём дело — сокрытый меж дерев Пушкин подсматривал (словно пубертатный мальчишка!) за купающейся Нереидой! Не женщины честь, а свою собственную оберегал Поэт! Такой дерзкий для дамы и постыдный для самого Пушкина поступок предан гласности! Да ещё чуть ли не с указанием имени дамы — та, что рассказала легенду! Ведь ближайшие друзья знали, кто она. Да, конечно же, было чем возмущаться! Глубоко личный момент стал достоянием публики!
Из перечисленных выше кандидаток на роль рассказчицы сразу же должна исключить Софию Киселёву, на которую указывал Л. П. Гроссман. Киселёва — мимолетное юношеское увлечением Поэта — конечно же, знала бахчисарайскую легенду (ведь неподалеку от Бахчисарая находились крымские имения Потоцких). Но сомневаюсь, что именно она пересказала её Пушкину. Трудно представить, что он до такой степени лицемерил, — в одно и то же время выговаривал Бестужеву за напечатанную без его ведома «Нереиду» и тут же — в не очень почтенных выражениях о графине — просил Вяземского ради неё упомянуть о памятнике ханской любовнице и присовокупить выписку «посноснее» из «Путешествия по Тавриде» И. М. Муравьёва-Апостола (письмо от 4 ноября 1823 г.): …ещё просьба: припиши к «Бахчисараю» предисловие или послесловие, если не ради меня, то ради твоей похотливой Минервы, Софьи Киселёвой. Что Вяземский и сделал. Сопроводил предисловие отрывком из записок Муравьёва-Апостола, где упоминается об этой легенде: Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем.
Итак, долг к рассказчице выполнен — её родовое тщеславие польщено. Но ею была не София Киселёва, а её мать, графиня София Потоцкая, наша прекрасная фанариотка. Этот весьма логический вывод принадлежит уже упомянутому В. Святелику. Это она продолжала украшать бесконечными легендами историю своего рода…
Биограф Потоцких Е. Лоек рассказал ещё одну ею сочинённую байку. Во время штурма Потёмкиным крепости Хотин его прекрасная возлюбленная узнает, что в гареме хотинского паши находится её родная сестра Елена. Как уже говорилось, фельдмаршал потворствовал всем прихотям своей возлюбленной. Штурм приостановлен. И София едет в крепость повидать сестру. Там она, к своему великому разочарованию, узнаёт, что первой женой паши была красавица грузинка, а её сестра — лишь вторенькая. Такого унижения высокородная София не могла стерпеть. На помощь приходит его величество случай. Любимая жена никак не могла родить своему повелителю сына-наследника. Недавно она вновь разрешилась от бремени дочкой. Но дабы не разгневать могучего супруга, ему сообщили о рождении сына. А тем временем подыскивали мальчика, чтобы подменить нежеланное чадо. София решила вывести обманщицу на чистую воду. Она невинно поздравила пашу с новорождённой дочерью. В гневе обманутый паша приказал бросить грузинку в реку. Место первой жены по праву занимает Елена. Никакой сестры у Софии, урождённой княжны Маврокордито, не было. И вся эта история родилась в головке прекрасной фантазёрки и для возвеличивания своего рода (родная сестра — первая жена паши!), и для ореола своей неотразимой красоте — ведь сам всемогущий Потёмкин ради неё приостанавливает осаду Хотина! Со временем Потоцкая изменила место и действия героев — Хотин становится Бахчисараем, паша превращается в крымского хана Гирея. Его любимая жена грузинка перевоплощается в графиню Марию из рода Потоцких!
Зачем потребовалась эта перестановка? В 1810 г. предприимчивая авантюристка расширила свои крымские владения покупкой имения князя Голицына. Она мечтала создать маленькое царство со столицей Софиополем. И решила сделать рекламу своему городу-курорту — этим современным спутником бизнеса В. Святелик объясняет странную прихоть графини. Ну, это уж чересчур! Всё гораздо проще — графиней двигала всё та же неистребимая страсть превращать свою жизнь в сплошную легенду. Хлестаков в юбке, обсыпанной бриллиантами, — вот кем была она! Пушкина всегда привлекали яркие, незаурядные, колоритные личности. Колорита в прекрасной фанариотке — хоть отбавляй!
Но вернёмся к личности неизвестной К**. По мнению некоторых исследователей, она звалась Екатериной Николаевной Орловой. Старшая дочь генерала H. Н. Раевского, а с 1821 г. жена генерала М. Ф. Орлова — командира 16-й пехотной дивизии, стоявшей в Кишинёве. Вместе с ней и её сёстрами, братьями и отцом Пушкин в 1820 г. путешествовал по Кавказу и Крыму, жил три недели со всей семьёй в Гурзуфе. Красивая, властная, женщина необыкновенная (писал Пушкин брату), она заслужила в Кишинёве прозвище «Марфа-посадница». Какие-то её черты отражены Поэтом в Марине Мнишек: Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова. Не говори, однако, это никому (Пушкин Вяземскому в 1825 г.). Но напомню, что в образе Марины Мнишек находят сходство и с Собаньской. Ещё один пример тому, что в каждой пушкинской героине проглядывают лики нескольких реальных личностей. Однако другие видят в незнакомке К** Марию Раевскую-Волконскую. Непонятно также, почему старая (написанная, по мнению пушкинистов, в 1820 г. в Каменке) элегия вдруг неожиданно, в 1823 г., пошла гулять по рукам и кем-то была послана в альманах к Бестужеву? И ещё: в написанном в 1824 г. «Отрывке» о путешествии в Бахчисарай только ли одна из сестёр Раевских скрыта Поэтом под литерой К**? А что, если по своей привычке создавать собирательный образ Пушкин имел в виду ещё какую-то другую неизвестную нам женщину? Ведь «Отрывок из письма к Д.» — нельзя отнести к эпистолярному жанру, точнее, это незавершённое эссе или путевой очерк. И следовательно, не надо искать в нём буквального сходства с одной из знакомых Поэта.
Попробуем разгадать незнакомку с помощью подсказки Анны Ахматовой о «тайнописи» Пушкина: Не знаю, довольно ли сказано в науке о величайшем поэте XIX века (во всяком случае) про эту его особенность и так ли легко довести эту мысль до рядового читателя, воспитанного на ходячих фразах о ясности, прозрачности и простоте Пушкина[309]. Ахматова интуицией гениально одарённого человека сумела многое прочитать в тайнописи другого гения. В том числе и о утаённой любви — Собаньской. Имя Каролины встречается почти в каждой из 13 ахматовских статей о Пушкине. Она поняла — Пушкин не мог выйти из затворённого круга своей страсти к этой женщине. Тема Клеопатры, демона, падшего ангела — Собаньской стала для Поэта навязчивой мыслью, преследовала его неотвязно — в стихах, прозе, в маленьких трагедиях, в набросках будущих произведений. Ахматова везде — за что бы ни взялась у Пушкина — находит её черты.
Поэт, желая уберечь имя женщины (по-настоящему глубоко и до конца жизни любимой), сознательно запутал всех — брата, друзей, литературных критиков, будущих исследователей.
Три письма Пушкина, написанные в период завершения «Бахчисарайского фонтана», кое-что проясняют в этой истории.
Черновик письма Неизвестной (июнь — июль 1823 г.):
Не из дерзости пишу я вам, но я имел слабость признаться вам в смешной страсти и хочу объясниться откровенно. Не притворяйтесь, это было бы недостойно вас — кокетство было бы жестокостью, легкомысленной и, главное, совершенно бесполезной, — вашему гневу я также поверил бы не более — чем могу я вас оскорбить; я вас люблю с таким порывом нежности, с такой скромностью — даже ваша гордость не может быть задета.
Будь у меня какие-либо надежды, я не стал бы ждать кануна вашего отъезда, чтобы открыть свои чувства. Припишите моё признание лишь восторженному состоянию, с которым я не мог более совладать, которое дошло до изнеможения. Я не прошу ни о чём, я сам не знаю, чего хочу, — тем не менее я вас…
Письмо незавершено. Оно выпало из поля зрения исследователей, и посему не установлено место отправления — Кишинёв или Одесса. Содержание другого письма Пушкина — к Льву Сергеевичу (от 25 августа 1823 г.) — позволяет предположить, что любовное объяснение написано в Одессе накануне кратковременной отлучки в Кишинёв. Окончательно перебравшись в Одессу, Пушкин меланхолически описывает брату своё теперешнее настроение — здесь всполохи бурных переживаний последнего времени, одиночество (нигде не бываю, кроме в театре), досада на Туманского (он поспешил сообщить кому-то в Петербург имя нового увлечения Пушкина, связав его с будто бы посвящёнными ей пассажами из «Бахчисарайского фонтана»). Создаётся впечатление, что желание уберечь эту женщину от сплетен и было единственным поводом письма к брату.
Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чём дело: здоровье моё давно требовало морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу — я оставил Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-Богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе. <…> Приехал в Кишинёв на несколько дней, провёл их неизъяснимо элегически — и, выехав оттуда навсегда, — о Кишинёве я вздохнул. Теперь я опять в Одессе и всё ещё не могу привыкнуть к европейскому образу жизни — впрочем, я нигде не бываю, кроме в театре. Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врёт — например, он пишет в Петербург письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно своё сердце и portefeuille-любовь и пр. — фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочёл ему отрывки из «Бахчисарайского фонтана» (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы её напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблён, и что роль Петрарки мне не по нутру (подч. мною. — С. Б.). Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!..
И наконец, черновик третьего письма, к Александру Раевскому (от 15—20 октября из Одессы) проясняет суть двух предыдущих посланий:
Отвечаю на вашу приписку, так как она более всего занимает ваше тщеславие. Г-жа Собаньская ещё не вернулась в Одессу, следовательно, я ещё не мог пустить в ход ваше письмо; во-вторых, так как моя страсть в значительной мере ослабела, а тем временем я успел влюбится в другую, я раздумал. И, подобно Ларе Ганскому, сидя у себя на диване, я решил более не вмешиваться в это дело. Т.е. я не стану показывать вашего послания г-же Собаньской, как сначала собирался это сделать (скрыв от неё только то, что придавало вам интерес мельмотовского героя), — и вот как я намереваюсь поступить: из вашего письма я прочту лишь выдержки с надлежащими пропусками; со своей стороны я приготовил обстоятельный, прекрасный ответ на него, где побиваю вас в такой же мере, в какой вы побили меня в своём письме; я начинаю с того, что говорю: «Вы меня не проведёте, милейший Иов Ловелас; я вижу ваше тщеславие и ваше слабое место под напускным цинизмом» и т.д.; остальное в том же роде. Не кажется ли вам, что это произведёт впечатление? Но так как вы — мой неизменный учитель в делах нравственных, то я прошу у вас разрешения на всё это, и в особенности — ваших советов; но торопитесь, потому что скоро приедут. Я получил известие о вас; мне передавали, что Атала Ганская сделала из вас фата и человека скучного, — ваше последнее письмо совсем не скучно. Хотел бы, чтобы моё хоть на минуту развлекло вас в ваших горестях…[310]
Эти три письма — словно строки из того романа — нерассказанного, незаписанного — о трёх месяцах жизни Пушкина летом — осенью 1823 года. Писались разным адресатам, с интервалами в полтора-два месяца, но все три проникнуты одной мыслью, одним чувством. И в них даже через 175 лет ещё слышится учащённое биение пульса Поэта — могучей страстью очарованного. Что было летом 1823 г., мы не знаем. Биографы молчат об этой странице его жизни. Но стихи Поэта рассказывают о ней лучше всяких сочинителей. Читайте его «южный цикл» — одесский, частично и михайловский, — он наполнен этой страстью, волнует нежный ум, кричит, стонет, грустит. Кто-то из одесских знакомых Пушкина потом вспоминал о бале, устроенном Виттом на корабле. Гостей развозили по домам в шлюпках. Ночь, звёзды, луна, завораживающие фосфорические искры в струях воды, взметаемых вёслами… И Пушкин в одной лодке с Собаньской… Не об этом ли мимолётное воспоминание в «Евгении Онегине»: Быть может, в мысли нам приходит / Средь поэтического сна / Иная, старая весна ! И в трепет сердце нам приводит / Мечтой о дальней стороне, / О чудной ночи, о луне… Возможно, была и поездка на корабле в Крым, подобная той, которую Витт устроил в 1825 г. для Мицкевича.
Морей красавец окрыленный! Тебя зову — плыви, плыви, И сохраняй залог бесценный Мольбам, надеждам и любви. Ты, ветер, утренним дыханьем Счастливый парус напрягай, Волны внезапным колыханьем Её груди не утомляй.Они посетили Массандру. Помните покрытый лесом хребет Яйлы, засаженная французскими сортами лоз (эти «дамские пальчики» моего детства!) долина, а над морем на утёсе прекрасный парк с тропическими растениями? Впечатления от этого сказочного владения Потоцких — в стихотворении 1824 г. «Виноград»:
Не стану я жалеть о розах, Увядших с лёгкою весной; Мне мил и виноград на лозах, В кистях созревший под горой, Краса моей долины злачной, Отрада осени златой, Продолговатый и прозрачный, Как персты девы молодой.Вновь и вновь вспоминал Поэт в ночной тиши Михайловского об этом «приюте любви»:
Вот время: по горе теперь идёт она К брегам, потопленным шумящими волнами; Там, под заветными скалами, Теперь она сидит печальна и одна… Одна… никто пред ней не плачет, не тоскует; Никто её колен в забвенье не целует; Одна… ничьим устам она не придаёт Ни плеч, ни влажных уст, не персей белоснежных… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Никто её любви небесной не достоин. Не правда ль: ты одна… ты плачешь… я спокоен… («Ненастный день потух» — 1824 г.)Пушкин летом 1823 года завершал «Бахчисарайский фонтан». Без сомнения, читал Собаньской отрывки из него. И она предложила ещё раз посетить ханский дворец. От Массандры до Бахчисарая — вёрст пятьдесят, за один день можно обернуться. И вот тогда-то при виде сочащихся из ржавой трубы капель она поэтически воскликнула: «La fontaine des larmes!» — «Фонтан слёз!».
Уже после выхода в свет поэмы — Пушкина в Михайловском вновь захлестнули воспоминания о полуденном крае — рождается целый цикл «морских» стихотворений: «К морю», «Виноград», «О дева-роза, я в оковах», «Ночной зефир струит эфир», «Ненастный день потух», «Фонтану Бахчисарайского дворца». Последнее стихотворение невидимыми узами поэтических грез связано с «Виноградом». В нём уже другая, отличная от поэмы тема — новой любви, не имеющей отношения к Марии — И я твой мрамор вопрошал: / Хвалу стране прочёл я дольной; / Но о Марии ты молчал:
Фонтан любви, фонтан живой! Принёс я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой И поэтические слёзы. . . . . . . . . . . . . . . . Светило бледное гарема! И здесь ужель забвенно ты? Или Мария и Зарема Одни счастливые мечты?О какой стране дольной напомнил Поэту журчащий фонтан Бахчисарая? Не о Польше ли? И не олицетворяет ли метафора о двух розах — те возникающие ещё в поэме «Бахчисарайский фонтан» летучие тени Марии и Заремы? Образы двух женщин, в которых воображение Поэта искало души неясный идеал? Человеку вообще свойственно создавать в мечтах идеальный образ из достоинств разных, встреченных на жизненном пути людей. Для поэта же это не только личная, но и творческая потребность. Это раздвоение или слияние, в сущности отражает земные ипостаси человека — тело и душу, их вечное противоборство, их вечную несовместимость, но и постоянное стремление к гармонии. Мария и Зарема, Татьяна и Клеопатра, Анна и Лаура — эти литературные персонажи соответствуют облику двух реальных женщин в жизни Поэта — Натали и Каролины.
Тогда, в двадцатые годы, Натали ещё не вошла в судьбу Поэта. Но в ней уже существует образ нежный, неотразимый, неизбежный Каролины. В неё он был очень долго и глупо влюблён. Был… прошедшее время. Так казалось ему в михайловском уединении. Он не сознавал, не хотел осознавать, что по-прежнему влюблён. Расстояние искажает облик, наше представление о близких нам людях. Каролина представлялась Пушкину одновременно и Марией и Заремой, ангелом и демоном. Наверное, это было не так уж далеко от истины. Эти две сущности живут почти в каждом человеке. В воспоминаниях о близости с Собаньской вставала нежная, любящая, верная Мария. Но сменялась картинка. И Пушкин видел перед собой страстную, негодующую от ревности и… покинутую Зарему.
С этой «покинутой» связана ещё одна загадка — почему в сборнике стихотворений 1826 года дата создания всего михайловского «южного» цикла была изменена на 1820 год? Всё то же желание уберечь от любопытства посторонних вдохновительницу этих стихов? Или…. гордое стремление Поэта утаить от неё самой свои чувства, вылившиеся в мадригале «О дева-роза»: …я в оковах, и не стыжусь твоих оков… Восьмистишие в стиле восточных рубаи: дева-роза, поэт-соловей, что в неволе сладостной живёт / И нежно песни ей поёт / Во мраке ночи сладострастной.
Итак, летом 1823 г. Дон-Жуан впервые полюбил по-настоящему. Не в силах совладать с восторженным состоянием, которое довело его до изнеможения, он объяснился в смешной страсти даме перед её отъездом из Одессы. Чувство захлестнуло, ошеломило его, но оно безнадёжно — он в этом уверен и потому отложил признание на последний день. Безнадёжность, безответность породили нежность, смирение, робость. Пройдёт пять лет, Поэт вновь встретится в Петербурге с Собаньской, и почти те же слова вновь зазвучат, и опять для неё:
Я вас любил: любовь ещё, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим.Вечный соперник в любовных авантюрах Раевский тогда, в 1823-м, вновь встал у Поэта на пути. Пушкин услужливо сообщает ему в письме, что Собаньская ещё не вернулась в Одессу (из своих украинских поместий), но скоро приедут. Однако пусть Раевский не беспокоится — его страсть в значительной мере ослабела, и за время разлуки с Собаньской он успел влюбится в другую. Здесь не столько притворство, сколько плохо прикрытая боль от сознания своего поражения в их поединке за неё. Он мужественно пытается обратить всё в шутку — угрожает своему учителю в делах нравственных пустить в ход его же средства. Но за шутливой угрозой — раненое самолюбие, болезненная реакция на унижение, которое сознательно нанёс ему «Мельмот». Предполагают, что Раевский пересказал Собаньской сплетню о том, что Пушкина перед высылкой из Петербурга высекли в полиции. Отголосок предательства Раевского в стихотворении 1824 г. «Коварность»: Но если ты затейливо язвил / Пугливое его воображенье / И гордую забаву находил / В его тоске, рыданьях, униженье; / Но если сам презренной клеветы / Ты про него невидимым был эхом…
Пушкин и в самом деле устраняется. И в знак примирения пишет Раевскому стихотворение «Приятелю». Оно также, как и «южный цикл», опубликовано в сборнике сочинений 1826 года и тоже помечено старой датой — 1821 годом. Поэт миролюбиво обращается к своему сопернику широкоплечему: Дай руку мне: ты не ревнив, / Я слишком ветрен и ленив, / Твоя красавица не дура; / Она прелестная Лаура, / Да я в Петрарки не гожусь. Последний стих повторяет мысль Пушкина из письма брату от 25 августа 1823 г.: роль Петрарки мне не по нутру. Следовательно, обращение к Приятелю написано после 22 октября 1823 г. Сопоставив содержание обоих писем — Льву Пушкину и Раевскому, почти с уверенностью можно сказать: женщину, в которую очень долго и глупо был влюблён Поэт, звали Каролиной Собаньской. Именно её укора стыдился Пушкин. К ней, а не к предполагаемой рассказчице легенды относились его слова в письме к Бестужеву: …одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики.
Но тогда, в 1823 г., чтобы освободиться от наваждения, он ищет забвения в других женщинах — Амалия Ризнич, затем Елизавета Ксаверьевна Воронцова… Смею утверждать также, что Каролина Собаньская и была той самой утаённой любовью Поэта, что он обозначил двумя латинскими буквами — NN — в составленном им донжуанском списке в альбоме Екатерины Ушаковой.
Как я ошибся, как наказан!
Собаньская в конце октября 1823 года наконец вернулась в Одессу. Пушкина как подменили. Холоден, надменен, беседы чужд, один и молчалив. Одним словом — байроновский герой. Очень сдержан и даже дерзок с Каролиной. А она? Гордая пани — достойный партнёр Поэту! Окружена поклонников толпой, уверена в любви его несчастной, притворяется, не замечает его терзаний. Зачем для всех казаться хочешь милой, и всех дарит надеждою пустой твой чудный взор, то нежный, то унылый? Собаньская — опытная кокетка, продолжает игру. Ни слова мне, ни взгляда — друг жестокий! Он хочет уйти, старается обратить на себя её взор — с боязнью и мольбой твои глаза не следуют за мной. Он пробует волочиться за другими женщинами — спокойна ты; весёлый твой укор меня мертвит, любви не выражая. Как ни пытался он заблудить себя и счастливого соперника, ревность продолжает его мучить. Однажды в сумерках он застаёт Раевского с ней наедине — одна, полуодета, зачем должна его ты принимать? Пушкин всё ещё верит, что он любим, — наедине со мною ты так нежна! Лобзания твои так пламенны! Слова твоей любви так искренно полны твоей душою!
Считают, что это стихотворение, «Простишь ли мне ревнивые мечты», обращено к Амалии Ризнич, чувственному увлечению Поэта осенью 1823 г. Но в нём есть ключик, который позволяет проникнуть в тайну этого поэтического послания и сменить его адресатку, — упоминание о вечном сопернике. Эти слова он не раз обращал к Раевскому. Скажи ещё: соперник вечный мой, / Наедине застав меня с тобой, / Зачем приветствует лукаво?.. Что ж он тебе? / Скажи, какое право / Имеет он бледнеть и ревновать?
Блестящий адъютант Воронцова был для Пушкина демоном-искусителем — он каждый раз вставал ему поперёк дороги, как только Поэт серьёзно влюблялся в какую-нибудь женщину. Так было с Собаньской. Так будет с Воронцовой. Не просто соревнование, а мефистофельское желание разрушить восторженно-наивную веру Поэта в высокое упоение любовью. И только единожды он не помешал Пушкину — остался равнодушным к прелестям экзотичной красавицы Ризнич.
На близкие отношения Поэта с Собаньской намекал в письме жене Вяземский: Собаньская умна, но слишком величава. Спроси у Пушкина, всегда ли она такова или только со мною и для первого приёма[311].
Есть ещё одно подтверждение интимной связи Пушкина с Собаньской — в «Прометее» Андре Моруа. В распоряжении писателя был архив Ганской. В нём, должно быть, сохранились письма Каролины к сестре. Каролина и Эвелина были очень дружны и исповедовались друг другу в своих победах над великими мужами эпохи. У старшей сестры Евы, Каролины Собаньской, — писал Моруа, — тоже были любовники, но иметь возлюбленным Пушкина, принадлежавшего к подлинному и старинному русскому дворянству, казалось более приличным, чем сохранять связь с Бальзаком, буржуа и богемой — самое мерзкое сочетание в глазах Ржевуских[312].
Стихотворение «Простишь ли мне ревнивые мечты» — последний вопль истерзанной души Пушкина: Не знаешь ты, как сильно я люблю, / Не знаешь ты, как тяжко я страдаю. Затем он покинул возлюбленную. Мадригал «Всё кончено: меж нами связи нет» завершает, не завершая, отношения Поэта с Собаньской:
Всё кончено: меж нами связи нет. В последний раз обняв твои колени, Произносил я горестные пени. Всё кончено: я слышу твой ответ. Обманывать тебя не стану вновь, Тебя тоской преследовать не буду, Прошедшее, быть может, позабуду — Не для меня сотворена любовь. Ты молода: душа твоя прекрасна, И многими любима будешь ты.В XXII строфе 8-й главы «Онегина» Евгений в письме к Татьяне почти повторяет этот прощальный разговор с Собаньской:
Когда б вы знали, как ужасно Томиться жаждою любви, Пылать — и разумом всечасно Смирять волнение в крови; Желать обнять у вас колени И, зарыдав, у ваших ног Излить мольбы, признанья, пени. Всё, всё, что выразить я мог…Надо полагать, письмо Онегина Татьяне и его сцена объяснения с ней написаны по горячим следам — трудного и мучительного разговора с Каролиной после четырёхлетней разлуки. В строках поэмы слишком много параллелей с одесскими чувствами Поэта и с содержанием двух сохранившихся в черновиках писем к Собаньской (датируемых концом января — началом февраля 1830 г.)…
Тогда в Одессе Собаньская расценила уход как легкомыслие Поэта. Она была неприятно поражена. Потом при встрече с ним в Петербурге в 1828 г. упрекнула его в этом. А он ответил ей в 1830 г. 8-й главой «Евгения Онегина». Повторил, разъяснил сказанные ей летом 1824 г. защитные, прощальные слова — Не для меня сотворена любовь:
Случайно вас когда-то встретя, В вас искру нежности заметя, Я ей поверить не посмел: Привычке милой не дал ходу; Свою постылую свободу Я потерять не захотел. . . . . . . . . . . . . . Я думал: вольность и покой Замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан!Всё было правдой и неправдой. Пушкин сбежал от Собаньской не оттого, что не любил. А оттого, что очень сильно любил. И не верил в ответное чувство. Вернёмся к началу их романа. Подмеченная ответная искра нежности в Каролине взметнулась пламенем в душе Поэта. Судорожное и мучительное любовное опьянение заставило его объясниться с ней, а затем на другой день написать то первое июньское письмо 1823 г. Собаньская взволнована, растрогана. Но она боится признаться себе в этом — столько раз обманывалась! Жизнь в свете сделала её недоверчивой. Не хочет поверить в искренность ветреного Дон-Жуана, каким слыл Поэт. Обращает объяснение в шутку… Гордая пани смеётся в ответ, упрекает его в самонадеянности…
Я прекрасно знаю, что вы подумаете, если когда-нибудь это прочтёте, — как он неловок — он стыдится прошлого — вот и всё. Он заслуживает, чтобы я снова посмеялась над ним. Он полон самомнения… — эти строки из написанного через семь лет письма Пушкина к Собаньской объясняют то, что произошло в Одессе летом 1823 года, — она посмеялась над ним!… Недоверие, сомнение, отрицание искушённой в любовной игре божественной Каролины. И отчаянье Поэта… И игра в байронизм — притворным хладом вооружать и речь и взор, вести спокойный разговор, глядеть на своего идола весёлым взглядом. Но даже когда Каролина уступила чувству и они сблизились, Поэт, терзаясь и ревнуя, продолжал (возможно, не без советов своего демона — Раевского) разыгрывать роль Дон-Жуана.
Отношения были мучительны. Они всегда мучительны, когда перекрещиваются пути двух гордых, независимых людей — Мужчины и Женщины. Как ваше сердце своенравно! — восклицал ироничный и сдержанно-холодный Мужчина. — Я умолял тебя недавно обманывать мою любовь, участьем, нежностью притворной одушевлять свой дивный взгляд, — нашёптывал Ей этот же Мужчина в любовном опьянении. Насмешка, гордость, светское «Вы» — забыты, отброшены. Безумный, сладострастный полёт двух душ, вырвавшихся из земных тенёт. Негой влажной наполнился твой томный взор, — вспоминал Он потом. Она во власти Его порыва — сама серьёзность, задумчивая ласковая нежность. Склонив ко мне томительные взоры, и руку на главу мне тихо наложив, шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив? Другую, как меня, скажи, любить не будешь? Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь? А Мужчина? Поражён, ушам своим не верит — стеснённое молчание хранил. И вдруг молния сомнения возвращает обоих на землю — играть моей душой покорной, в неё вливать и огонь и яд? Разрушен сладкий бред. Но память запечатала в сердечной глубине — и то, что дозволяешь нежно, и то, что запрещаешь мне…
Ещё одно объяснение непременно должно было состояться у Пушкина с Собаньской перед окончательным разрывом. Вспомним стихотворение «Всё кончено: меж нами связи нет». Вероятно, тогда Женщина упрекнула его в неверности, непостоянстве, легкомыслии. Он принимает её обвинения. Это оборонительный щит для гордости. Этой проклятой гордости — разрушительнице счастья… Единственный принцип человеческого существования Любовь — всегда поединок. В нём нет победителей. Есть только побеждённые. На поле брани остаются трофеи — разрушенные жизни… Отголосок этого разговора находим в письме Онегина к Татьяне. Исследователей удивляло такое странное, анти-Татьянино качество: Какому злобному веселью, / Быть может, повод подаю! Оно действительно не подходит сути пушкинской Татьяны — всё тихо, просто было в ней. Но удивительно вяжется с образом своенравной пани. Я уже говорила об автобиографичности 8-й главы «Онегина» — эта ремарка, несомненно относится к Собаньской. Как известно, в конце 1829 г. Поэт начинает писать 8-ую главу «Евгения Онегина» и заканчивает болдинской осенью 1830 г. Неожиданный приезд в Петербург Собаньской переворачивает не только жизнь Пушкина. Но даже план романа — Пушкин отбрасывает намеченное описание путешествия Онегина в 7-й главе и принимается подыскивать жениха своей героине. А путешествие оставляет для 8-й главы. Но оно так и осталось незавершённым и ныне публикуется в приложениях к роману. Поэт вновь меняет план — сюжетом 8-й главы становится встреча Онегина с Татьяной, то бишь Пушкина с Собаньской. Поэту необходимо выразить свои незаглохнувшие чувства к Каролине…
И было ещё нечто, что заставило Пушкина поспешить с окончанием «Евгения Онегина». Он давно, ещё в Михайловском, составил стратегический план завоевания своей Собаньской. Об этом — его стихотворение 1825 г. «Желание славы» — горькое, мучительное, выдающее с головой болезненную закомплексованность гения. Пушкин всю жизнь страдал из-за своего физического несовершенства — маленького роста, щуплой фигуры и, как он считал, безобразного лица (Вяземский часто подтрунивал над этой слабостью Поэта. Я уверен, что Пушкин очень сердит за свой малый рост, — писал он в письме жене по поводу сватовства Поэта к Наталье Гончаровой). У него оставалось лишь одно средство покорить любимую женщину — слава.
Я новым для меня желанием томим: Желаю славы я, чтоб именем моим Твой слух был поражён всечасно, чтоб ты мною Окружена была, чтоб громкою молвою Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне, Чтоб, гласу верному внимая в тишине, Ты помнила мои последние моленья В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.В творчестве Пушкина находим и другой аспект славы — как след не напрасно прожитой, не растворившейся в вечности человеческой жизни.
Без неприметного следа Мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, Но я бы, кажется, желал Печальный жребий свой прославить, Чтоб обо мне, как верный друг, Напомнил хоть единый звук.Он любит славу, и слава не кажется ему суетной даже перед безмолвием вечности — это сказал Дмитрий Мережковский[313] — огромное явление в русской философско-литературной сокровищнице, безжалостно выброшенное из неё и всё ещё далеко не полностью возвращённое…
Вновь перенесёмся в Одессу. Амалия Ризнич на некоторое время отвлекла мысли Пушкина от Собаньской. Отвлекла, приглушила чувства, но не смогла их вырвать из его сердца… Приходя в себя от угарной страсти к Амалии, Поэт по ночам писал элегии Каролине. Одна из них — «Придёт ужасный час…».
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный, В обитель скорбную сойду я за тобой И сяду близ тебя, печальный и немой, У милых ног твоих — себе их на колена Сложу — и буду ждать печально… но чего?Он знал, что связан с ней навечно и даже смерть не разделит их. С темой элегии перекликается содержание другого стихотворения, «Прозерпина». В основе его — мифологический сюжет о богине ада Прозерпине. Равнодушна и ревнива исходит она из Аида вслед за своим Плутоном. Робкий юноша увидел прекрасную царицу преисподней и пал ниц к её ногам. Прозерпине смертный мил. Обняв его, она увозит на своей колеснице к себе в Аид. Там бессмертье, там забвенье, там утехам нет конца. Прозерпина в упоенье, без порфиры и венца, повинуется желаньям, предаёт его лобзаньям (похожие строки — в стихотворении «Простишь ли мне ревнивые мечты: одна, полуодета… ты так нежна! Лобзания твои так пламенны!»)…
Прошедшее, быть может, позабуду… Нет, не забыл прошедшего Поэт. Потом, в Михайловском, вскоре после приезда из Одессы, в начале сентября 1824 г. он напишет маленькую поэму «Разговор книгопродавца с поэтом» и расскажет в ней об этой любви. В 1825 г. напечатает её вместо предисловия к первой главе «Евгения Онегина». Перечитайте этот диалог Поэта со своим вторым «Я» — воображаемым Книгопродавцем, и вы многое узнаете о не названной, но не утаённой в его творчестве любви. Но самое главное — поймёте, кем была Каролина Собаньская в жизни Пушкина.
Поэт
Мне стыдно идолов моих. К чему, несчастный, я стремился? Пред кем унизил гордый ум? Кого восторгом чистых дум Боготворить не устыдился? . . . . . . . . . . . . .Книгопродавец
. . . . . . но исключений Для милых дам ужели нет? Ужели ни одна не стоит Ни вдохновенья, ни страстей И ваших песен не присвоит Всесильной красоте своей? . . . . . . . . . . . . .Поэт
Там сердце их поймёт одно, И то с печальным содроганьем: Судьбою так уж решено. Ах, мысль о той душе завялой Могла бы юность оживить И сны поэзии бывалой Толпою снова возмутить! Она одна бы разумела Стихи неясные мои; Одна бы в сердце пламенела Лампадой чистою любви. Увы, напрасные желанья! Она отвергла заклинанья, Мольбы, тоску души моей: Земных восторгов излиянья, Как божеству, не нужны ей.Моя версия о Каролине Собаньской заставляет по-новому взглянуть на поэзию Пушкина двадцатых годов. Не два, не три, а десятки стихотворений породила могучая страсть к этой женщине. К ней почти бесспорно можно отнести полные любовного бреда стихи 1823 г.: «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Придёт ужасный час…», «Как наше сердце своенравно!», «Прозерпина» и те, что я уже цитировала. Смело можно сказать — её образ преследовал Поэта до конца его жизни. Ангел, Демон, Прозерпина, Клеопатра — это все её, Каролинины, имена. В зрелые годы, когда успокоенная мысль искала прозаическую форму выражения, черты Собаньской воплощались в набросках будущих произведений. Графиня Леонора Д. в «Арапе Петра Великого» — здесь вновь повторена уже не раз высказанная мысль: Счастье моё не могло продолжаться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Лиза в «Романе в письмах» — так и чудится в исповеди молодой девушки рассказ Каролины о годах, проведённых у тётушки в Вене: Но в её доме я всё же была воспитанница, а ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как моё самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения… Теперь я живу дома, я хозяйка, и ты не поверишь, какое это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутствие роскоши. Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, озеро, кругом сосновые леса, всё это осенью и зимой немного печально, но зато весной и летом должно казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я ещё ни с кем не виделась. Уединение мне нравится на самом деле… Чем не Татьяна? И если этот рассказ в самом деле услышал Пушкин от Собаньской, стоит ли после этого удивляться данному ей прозвищу — Татьяна? Но вот другие её ипостаси: Клеопатра — в «Египетских ночах», но ещё раньше в стихотворении 1824 г. «Клеопатра»: Царица голосом и взором / Свой пышный оживляла пир, / Все, Клеопатру славя хором, / В ней признавали свой кумир… Вольская в незавершённой повести «Гости съезжались на дачу…». Впрочем, в образе Вольской находят сходство и с другой пассией Пушкина — медной Венерой, красавицей Аграфеной Закревской. В ней Пушкин пытался (или опять демонстрировал?) найти забвение от своей страсти к Собаньской летом 1828 года. Список произведений, где проглядывают сердцу милые черты, можно продолжать и дальше. Но стоит ли? Главное сказано: он Клеопатрою, казалося, дышал всю жизнь. Не противоречу ли я сама себе? Татьяна — милый идеал, и жестокая весталка любви, по человеческим меркам — развратная Клеопатра. Что общего между ними? Их роднит — Любовь, отношение к Любви — как к тайне, как к самому большому чуду, как к смерти и воле Провидения, как единственному смыслу человеческого существования. Обе они, как ни парадоксально это звучит, были жрицами любви. Каждая по-своему. Но об этом будет отдельный разговор…
Я вас заставлю сблизиться!
В 1872 г. издатель польского журнала «Tygodnik Peterburski» Осип Антонович Пржецлавский под псевдонимом Ципринус опубликовал в «Русском архиве» «Калейдоскоп воспоминаний». В них — эпизод встречи Пушкина с Мицкевичем в Петербурге в 1828 г.
В 1828 году приехала в Петербург известная своим умом и красотою Каролина Собаньская, урождённая Ржевуская. <…> Она дружна была с Мицкевичем; они совершили поездку в Крым, следствием которой были чудные «Крымские сонеты». Мы часто бывали у г-жи Собаньской. Она раз сказала Мицкевичу: «Это непростительно, что вы и Пушкин, оба первые поэты своих народов, не сошлись до сих пор между собою. Я вас заставлю сблизиться. Приходите ко мне завтра пить чай». Кроме нас двоих и Пушкина был приглашён Малевский[314] и родственник хозяйки, Константин Рдултовский. Мы явились в назначенный час и застали уже Пушкина, который, кажется, неравнодушен был к нашей хозяйке, женщине действительно очаровательной…
Пржецлавский ошибается — Пушкин и Мицкевич к этому времени уже успели сблизиться. Об их прежних встречах сохранилось немало свидетельств. Они познакомились в октябре 1826 г. в Москве в доме Зинаиды Волконской на Тверской. Красивая, одарённая хозяйка дома собирала у себя весь цвет Москвы — писателей, поэтов, учёных, артистов, художников. У неё в салоне устраивались чтения, ставились целые оперы. Княгиня обладала глубоким звучным контральто и даже исполняла мужские партии, например, Танкреда в опере Россини. В тот вечер, когда Пушкин впервые появился у Волконской, она приветствовала его романсом на его стихи «Погасло дневное светило». И сразу же покорила Поэта. Он ответил ей лирическим посланием:
Ты любишь игры Аполлона. Царица муз и красоты, Рукою нежной держишь ты Волшебный скипетр вдохновений, И над задумчивым челом, Двойным увенчанным венком, И вьётся и пылает гений…Мицкевич был усерднейшим посетителем её вечеров, а она, по словам Вяземского, записала его в число любимейших и почтеннейших гостей своих. Художник Г. Мясоедов запечатлел импровизацию Мицкевича в салоне Волконской. На его полотне изображены также Пушкин, Вяземский, Хомяков, Веневитинов, Чаадаев, Погодин. Возможно, там, в пылу живых бесед литераторы и порешили издавать свой журнал. Родилось и название — «Московский вестник». Рождение его положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме бывшем Хомякова <…>: Пушкин, Мицкевич, Баратынский, два брата Веневитиновых, два брата Хомяковых, два брата Киреевских, Шевырёв, Титов, Мальцев, Рожалин, Раич, Рихтер, Оболенский, Соболевский…[315]
Знакомство Пушкина с Мицкевичем продолжилось и в петербургских салонах. Мы часто встречаемся… В разговоре он очень остроумен и порывист; читал много и хорошо… — писал Мицкевич А. Е. Одынцу в марте 1827 г. из Москвы. 30 апреля 1828 г. у Пушкина, в номерах петербургской гостиницы Демута, собрались Жуковский, Крылов, Плетнёв, Хомяков, Н. Муханов и Вяземский. Мицкевич импровизировал на французском языке ритмичной прозой и, по словам Вяземского, поразил нас не складом фраз своих, но силой, богатством и поэзией своих мыслей… Жуковский и Пушкин, глубоко потрясённые этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге. В ту ночь Мицкевич долго и с жаром говорил о любви, которая некогда должна связать народы между собою. Позднее эти воспоминания легли в стихи 1834 года — «Он между нами жил»:
…Нередко Мы жадно слушали поэта… Он говорил о временах грядущих, Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся.Портрет импровизатора в «Египетских ночах», без сомнения, навеян образом Мицкевича. Ещё первая, услышанная в Москве осенью 1826 года, импровизация Мицкевича поразила Пушкина. Он бросился ему на шею, обнимал, целовал как брата, восклицал: «Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним?!»
Заблуждение Пржецлавского объясняется очень просто — Пушкин при виде Собаньской моментально терял разум. Лишался своей естественности, начинал играть старую — всё ещё не забытую! — роль байроновского героя. Первые приветствия Пушкин принял с довольно сухой, почти надменной, вежливостью. Тогда была мода на байронизм, который так много повлиял на Пушкина и внутренне, и наружно. Он держал себя как Лара или, по крайней мере, как Онегин. Мицкевич по своему обычаю был прост и натурален; он никогда не позировал и не рисовался. Напряжение первых минут постепенно исчезло. За чаем завязался общий разговор. Собаньская взяла бразды беседы в свои руки. И очень скоро между поэтами начался диалог о литературе и искусстве. «Вы читали Газлита?» — спросил Пушкина Мицкевич. «Нет». — «А Шлигеля?» — «Нет». — «А Сизмонди?» — И снова: «Нет».
Мицкевич был человек редкой, энциклопедической учёности и громадной начитанности, — отметил автор воспоминаний. О Пушкине, по мнению Пржецлавского, можно было сказать его же словами: Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Дружеский тон собеседника обезоружил Пушкина. Он сбросил надменную маску — нам-то ясно, что не от Мицкевича оборонялся маской, а прикрывал ею свою робость перед обожаемой женщиной. И стал простым и сердечным. А разговор потёк легко и непринуждённо. Эта удивительная пушкинская черта — он не умел сердиться на справедливые укоры. Пушкин не обиделся на Мицкевича, хотя он и посрамил его перед Собаньской. Поразительное величие духа! За это мы и любим Пушкина. Не христианское смирение, а Христова мудрость, выраженная в одном из апокрифных Евангелий: «Если ты меня ударил по щеке и сумеешь объяснить, что ударил справедливо, ударь меня ещё раз по другой щеке».
Через день Пушкин приехал к Мицкевичу и с полной откровенностью, которая делает ему большую честь, сказал: «Вы не могли не заметить при нашем свидании третьего дня моего неведения в деле теории искусства. Но не удивляйтесь этому. Чувствую, что мне надо доканчивать моё воспитание, — но не знаю, с чего начать, за что взяться. Дайте мне совет». Мицкевич растрогался благородным простодушием Поэта. И также откровенно ответил:
— Я не столько удивился в вас недостатку образования, сколько вашему гению! Только истинный гений мог создать такие великие творения. Следуйте Гёте и Байрону. Талант в сочетании с их необычайной учёностью и сделал их великими. Без этого они бы остались на уровне хлебопашца Бёрнса.
Пушкинисты скептически относятся к воспоминаниям Пржецлавского и предпочитают игнорировать их. Как долгое время игнорировали мемуары и дневники Смирновой. Но разница между обоими мемуаристами огромная. Д. Мережковский с горечью сетовал, что русское общество не поняло и не оценило книги Смирновой, которая во всякой другой литературе составила бы эпоху. Сам Мережковский считал Смирнову единственным современником Пушкина, сумевшим передать всю истинную мудрость его мыслей, его стройного миросозерцания, его чарующих разговоров о философии, религии, мировой поэзии, о судьбах России, о прошлом и будущем человечества. Он назвал записи Смирновой о Поэте[316] живыми заветами величайшего из русских людей будущему просвещению и категорично заявил: Александра Осиповна сумела передать истинность пушкинского духа. Но — увы! — никто, кроме Мережковского, не занялся серьёзным исследованием её воспоминаний о Поэте. Нечто большее — для Мережковского они стали отправной точкой для глубокого философского анализа личности и творчества Пушкина. Пушкинисты же по-прежнему пользуются современным изданием необработанных хаотических записей Смирновой и воспринимают их лишь как источник фактов о пушкинской эпохе, причём, по мнению многих, иногда очень сомнительных.
Другое дело — Пржецлавский. Маленький человек, ко всему прочему обременённый наихудшей формой польского шовинизма, подходил к большому со своими мерками посредственности. Он добросовестно фиксировал события, не в силах понять ни Пушкина, ни самого Мицкевича. Можно не сомневаться в достоверности разговора между двумя поэтами о недостаточной эрудиции Пушкина. Поэт сам всю жизнь сетовал на своё поверхностное лицейское образование. О том же говорил М. П. Погодин: Как случилось, что Пушкин, балованный мальчик, воспитанный на французских стихах, написал «Руслана и Людмилу» в первый год после выхода из лицея, где ничему не учился…[317] Мицкевича поразила гениальность, с какой Пушкин проникал в сердцевину человеческого духа, — и великих и малых, и царей и просто смертных, пророков и станционных смотрителей, в современность и далёкие эпохи. Только истинный гений мог создать такие великие творения! Мицкевич понял в Пушкине то, что замечательно выразил Мережковский: Пушкина влекли две крайности человеческой сущности — могущество, величие героев, их граничащий иногда с жестокостью абсолютизм как повеление свыше (Моисей, Магомет, Пётр I, Наполеон) и свобода, наивность, чистота простых, первобытных людей (цыгане, русские былинные богатыри, Тазит); с одинаковой лёгкостью постигал Поэт героизм одних и черты христианского милосердия других, ибо и то и другое основано на едином стремлении человека от своей человеческой к иной — высшей природе…
Но продолжим рассказ Пржецлавского. Мицкевич назвал Пушкину несколько авторов хороших теоретических сочинений и посоветовал выучить английский язык:
— Это сделать нетрудно, английский очищен от грамматических сложностей. Недель через пять вы будете свободно читать прозу, а потом возьмитесь за поэзию. Начните с Мильтона, Попа, затем — Мур, Байрон и наконец Шекспир. Последний открывает поэтической душе необъятный кругозор.
Опять неточность — Пушкин познакомился с Шекспиром ещё в Михайловском. Работая над трагедией «Борис Годунов», он принялся и за английский язык, и за чтение произведений английского драматурга. В письме H. Н. Раевскому в июле 1825 г. писал: …но до чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик! <…> Читайте Шекспира! Он никогда не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его говорить с полнейшей непринуждённостью, как в жизни…
Воспоминания Пржецлавского писались почти полвека спустя после рассказываемых событий, совсем естественно, что память мемуариста не могла удержать всех подробностей. Но фактам можно доверять. Пржецлавский, к примеру, утверждает, что Мицкевич обещал переводить Пушкина на польский. А Пушкин — Мицкевича на русский. И действительно, уже в марте 1828 г. Пушкин сделал перевод отрывка из поэмы «Конрад Валенрод», в октябре 1833 г. — баллады «Будрыс и его сыновья» и вольный пересказ стихотворения «Дозор», озаглавив его «Воеводой». Эта баллада Мицкевича ничем особенно не примечательна — ни блеском мысли, ни поэтическими достоинствами. Её довольно простенький сюжет — о молодой пани, чья любовь куплена старым воеводой, — привлёк, по всей вероятности, внимание Пушкина сходством с судьбой Собаньской. Прекрасная Каролина и поэзией связала сердца двух великих поэтов эпохи. Вот строки из неё в передаче Пушкина:
Говорит он: «Всё пропало, Чем лишь только я, бывало, Наслаждался, что любил; Белой груди воздыханье, Нежной ручки пожиманье, Воевода всё купил».Описанная Пржецлавским встреча важна как свидетельство постороннего человека об очевидном увлечении Пушкина Собаньской. Что произошло дальше? Биографы молчат. Архив Собаньской остался в Париже. Вероятно, он хранится невостребованным среди литературного наследия французского поэта и драматурга Жюля Лакруа[318] — последнего мужа Собаньской. И представьте — вдруг в нём окажутся письма к ней Пушкина. А также и Мицкевича. Ещё в 1828 г. Мицкевич через свою одесскую приятельницу И. Залескую потребовал у Собаньской вернуть его любовные послания. Но Каролина гордо ответила соотечественнице, что у неё никогда не было писем поэта. Она, вероятно, приобщила их к своей знаменитой коллекции автографов и писем выдающихся людей… Единственным источником, из которого мы можем узнать о дальнейших отношениях Пушкина и Собаньской, остаётся творчество Поэта. Драмы, трагедии, письма, проза, стихи.
19 мая в будоражуще бессонную белую ночь 1828 года написано «Воспоминание». В бездействии ночном живей горят во мне / Змеи сердечной угрызенья; / Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, / Теснится тяжких дум избыток; / Воспоминание безмолвно предо мной / Свой длинный развивает свиток; / И с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклинаю, / И горько жалуюсь, и горько слёзы лью, / Но строк печальных не смываю.
Что-то томит, грызёт душу, теснит грудь Пушкина. Он ненавидит себя, прекрасно понимает, что катится в пропасть, и — не видит выхода. Если сказать, что Пушкин был в отчаянье, — значит, почти ничего не сказать. Пушкин был на грани безумия. Это поняла и самая пристальная пушкинистка Анна Ахматова: …поэт в 1828 году погибал в чьих-то сетях, ревновал, метался, бился. И вновь своей великой интуицией нашла подтверждение тому в фантастической повести «Уединённый домик на Васильевском», то ли пушкинской, то ли титовской. Она первой догадалась, что в устной новелле, рассказанной Пушкиным в 1828 году в салоне Карамзиных, отражены реальные события его жизни. И принялась за исследование «Пушкин в 1828 году». Ахматова разгадала всех персонажей: Павел — сам Пушкин, Вера — Аннета Оленина, графиня И. — гремучая смесь из Закревской и Собаньской. Только демонического героя не смогла вычислить — я пока не вижу Варфоломея. Ахматова не успела завершить свою статью. Если бы могла продолжить над ней работу, непременно бы поняла, что не следует этот рассказ Пушкина отождествлять только с 1828 годом. Он — плод семилетних терзаний Поэта. И конечно же, графиня И. — это Собаньская и только Собаньская. Экзотический зимний сад — оранжерея в её одесском доме. Варфоломей — всё тот же Раевский. Его тень вызвана ревностью к другому, совсем реальному лицу — Мицкевичу. Нынешний соперник был поистине прекрасен — высокий, с чёрными выразительными глазами, пышными тёмными волосами, постоянное выражение задумчивости, добрая улыбка в тихие минуты. Но когда на него снисходило вдохновение, он моментально преображался — глаза сверкали, яркий румянец становился ещё ярче, умная, точная, сверкающая мыслью речь освещала его лицо пламенем неземного гения. Они как бы слились в один образ — Мефистофель-Александр и поэт демонического таланта, способный часами, без устали, исторгать из себя поэтический поток. События и место действия в «Уединённом домике» смещены. А почему бы и нет? Ведь то, что было в Одессе, вновь повторилось в Петербурге. А Собаньская осталась всё той же демоницей, ведьмой-искусительницей, губительницей душ. Думаю, Пушкин рассказал эту историю не для того, чтобы покрасоваться перед прекрасными дамами. Вернее всего, это был вопль сходящего с ума человека. Невозможно заподозрить его и в подражании первому русскому фантасту Гоголю. «Уединённый домик» сочинён за три года до знакомства Пушкина с Гоголем и за восемь лет до появления повести «Нос». Я уверена — опытный психиатр, проанализировав сюжет «Уединённого домика», отнёс бы состояние его автора к разряду клинических случаев.
Собаньская переоценила свои возможности. Не соединила — разделила двух поэтов. Настоящей дружбы между ними не было. Первые восторги Пушкина, неисчерпанный к нему интерес на некоторое время породили между ними приятельство. Истинное или кажущееся высокомерие Мицкевича, мавританская ревность Пушкина — отчуждили их. В постскриптум их отношений можно записать строки из уже упомянутого стихотворения 1834 г. «Он между нами жил»: … он вдохновен был свыше и свысока взирал на жизнь. Польские события усугубили образованную Собаньской трещину. Наш мирный гость стал нам врагом — и ядом / Стихи свои, в угоду черни буйной, / Он напояет. Издали до нас / Доходит голос злобного поэта, / Знакомый голос!.. Боже! освяти / В нём сердце правдою твоей и миром…
Две души в беспредельной вечности
В стихах — самом искреннем, импульсивном роднике чувств — приходится вылавливать золотые песчинки о Собаньской. Не слишком ли я злоупотребляю поэтическими цитатами? Хочу вслед за Ахматовой повторить: Вообще мой лозунг: «Побольше стихов — поменьше III отделения». Ахматова поясняет свою замечательную мысль: Потому что из стихов может возникнуть нужная нам проза, которая вернёт нам стихи обновлёнными и как бы увиденными в ряде волшебных зеркал — во всей многоплановости пушкинского слова и с сохранением его человеческой интонации, а из III отделения, как известно, ничего не может возникнуть.
Ненадолго отступлю от своего правила — обращусь к эпистолярному наследию Пушкина. В нём сохранилось четыре письма — четыре вешки в череде событий 1828 года. Увы! — вопреки мысли Ахматовой, три из них порождены III отделением.
В конце февраля — начале марта Пушкин через Бенкендорфа передал царю для высочайшего одобрения шестую главу «Евгения Онегина» и стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец…») вместе с прошением назначить его в действующую армию на Кавказ. 5 марта шеф жандармов прислал Поэту ответ: царь одобрил к печати присланные произведения. О назначении в армию — молчок. Пушкин смиренно благодарит царя — опять через Милостивого Государя Александра Христофоровича: Снисходительное одобрение государя императора есть лестнейшая для меня награда, и почитаю за счастие обязанность следовать высочайшему его соизволению. Прошло почти два месяца. 18 апреля шеф жандармов вызывает Пушкина к себе. Но до Бенкендорфа его не допустили и не позволили дожидаться. Пушкин униженно извиняется за несостоявшийся визит и вновь докучает, дабы узнать решительно своё назначение. И в отчаянье добавляет: Судьба моя в Ваших руках! Через два дня милостивый государь удосужил Пушкина отказом в его просьбе.
И вот третья вешка — ответ шефу жандармов Бенкендорфу, написан 21 апреля 1828 г. Привожу из него отрывок:
Искренне сожалею, что желания мои не могли быть исполнены, с благоговением приемлю решение государя императора и приношу сердечную благодарность Вашему превосходительству за снисходительное Ваше обо мне ходатайство. Как же страдал Пушкин, коли с такой покорностью проглатывает издевательства жандарма. И находит в себе силы докучать новой просьбой: Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся…[319]
Итак, Пушкин решил бежать от надменной из Петербурга. Куда? — всё равно — на Кавказ под турецкие пули, в Италию, в Париж, в Китай!
Куда б ни вздумали, готов за вами я Повсюду следовать, надменной убегая: К подножию ль стены далёкого Китая, В кипящий ли Париж, туда ли, наконец, Где Тасса не поёт уже ночной гребец, Где древних городов под пеплом дремлют мощи, Где кипарисные благоухают рощи, Повсюду я готов. Поедем… но, друзья, Скажите: в странствиях умрёт ли страсть моя? Забуду ль гордую, мучительную деву, Или к её ногам, к её младому гневу, Как дань привычную, любовь я принесу.Стихотворение написано Пушкиным 23 декабря 1829 г. В связи с отказом в его новой просьбе сопровождать научную экспедицию барона Шиллинга в Сибирь и Китай[320]. Но причиной этой неуёмной жажды сбежать из Петербурга была всё та же Собаньская.
Четвёртая вешка — черновик записки к неизвестной, условно датируемый концом 1828 г. — 4 мартом 1829 г.: Конечно, сударыня, тот час, который для вас удобен, всегда будет удобен и для меня. Итак, до завтра, и пусть 7-я глава Онегина заслужит…
Кто эта неизвестная, к услугам которой в любой час готов Пушкин? Да простит меня читатель за настырность — это всё та же Каролина Собаньская. Я всё о ней да о ней. И вроде бы других увлечений не было у Пушкина, а если были, то как бы бледнеют перед страстью к этой женщине. И стихи все ей да ей. И сюжет как будто выпадает из темы моей книги. Но я почла своим священным долгом (не испугавшись этого высокопарного выражения) восстановить справедливость — вернуть в биографию Поэта его самую большую, нет! — единственную любовь. Это всё сказки человеческие про многократную любовь. Не буду убеждать в этом молодых людей. Бесполезно. Чтобы поверить в сию истину, надо созреть. И с высоты пройденного пути оглянуться назад и увидеть на своей жизненной тропе — все увлечения, ошибочно принимавшиеся за любовь, влюблённости и ту единственную, неповторимую, несравнимую, Богом посланную Любовь. И, благословляя этот дар свыше, воскликнуть: «Блажен, кто осчастливлен им!» Но вот что примечательно, — с годами все мимолётности бледнеют, стираются, а память о главном расширяется, всевластно вкореняется в ум, сердце, в клеточки тела…
Что таится за ссылкой на уже почти законченную в ту пору 7-ю главу «Евгения Онегина»? Что в ней такого?
Что значит выражение: и пусть она заслужит? Что? А вот что — Весна!
Гонимы вешними лучами, С окрестных гор уже снега Сбежали мутными лучами На потоплённые луга. Улыбкой ясною природа Сквозь сон встречает утро года…Стихи, опять стихи… Но ведь в них весь Пушкин — Поэт и Человек. И он расскажет нам во сто крат больше, чем маразмитические воспоминания его полудрузей-полуврагов.
Как грустно мне твоё явленье, Весна, весна! пора любви! Какое томное волненье В моей душе, в моей крови! С каким тяжёлым умиленьем Я наслаждаюсь дуновеньем В лицо мне веющей весны…Это же иносказание — отражение весеннего настроения, вызванного приездом в Петербург Каролины. Она пробудила воспоминания о былом. Боже мой! Не надо лупы — всё это на поверхности:
Быть может, в мысли нам приходит Средь поэтического сна Иная старая весна И в трепет сердце нам приводит Мечтой о дальней стороне, О чудной ночи, о луне…Эта лунная ночь в Крыму, в Массандре… И они двое в тени скалы… А он у милых ног рыдает…
Пропущу элегические строфы о Ленском. Они для перехода к самому важному моменту — к тоскующей без Онегина Татьяне. И в одиночестве жестоком / Сильнее страсть её горит. / И об Онегине далёком / Ей сердце громче говорит.
…В поле чистом, Луны при свете серебристом В свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна. Шла, шла. И вдруг перед собою С холма господский видит дом, Селенье, рощу под холмом И сад над светлою рекою.Ключница Анисья отперла барский дом, и Татьяна увидела жилище Онегина. Не беда, что у Пушкина не было своего дома, что жил он в Одессе в «клубной» гостинице Рено неподалёку от взморья, и с балкона его комнаты открывался вид не на светлую реку, а на залив с белыми парусами кораблей на рейде. Не пейзаж, не география здесь важны, а то, что однажды Она тоже посетила его обитель. С любопытством оглядывала обстановку — …и стол с померкшею лампадой, / И груда книг, и под окном / Кровать, покрытая ковром, / И вид в окно сквозь сумрак лунный, / И этот бледный полусвет, / И лорда Байрона портрет, / И столбик с куклою чугунной / Под шляпой с пасмурным челом, / С руками сжатыми крестом. Заметьте — это почти копия с пушкинской комнаты. И бронзовая фигурка Наполеона, и лик Байрона, и вечная кипа книг возле — застланной восточным, заляпанным чернилами ковром — кровати, на которой он, поджав ноги, обычно писал по утрам свои стихи… Она рассматривала его книги — …певца Гяура и Жуана / Да с ним ещё два-три романа, / В которых отразился век / И современный человек / Изображён довольно верно… Читала фразы с отметкой резкою ногтей, пометки на полях — то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. Это не праздное любопытство — она пыталась разгадать эти иероглифы души любимого человека. И начинает понемногу / Моя Татьяна понимать / Того, по ком она вздыхать / Осуждена судьбою властной… А далее — прямо-таки строки из автобиографии: Чудак печальный и опасный, / Созданье ада иль небес, / Сей ангел, сей надменный бес, / Что ж он? Ужели подражанье, / Ничтожный призрак, иль ещё / Москвич в Гарольдовом плаще, / Чужих причуд истолкованье, / Слов модных полный лексикон? / Уж не пародия ли он? / Ужель загадку разрешила? / Ужели слово найдено? Это не Татьяна-Каролина вопрошает — это сам Поэт самокритично с себя шкурку сдирает: «Да кто же я в самом деле? Демон или ангел? Иль пустой подражатель Байрона? А ведь ежели со стороны взглянуть — шут, комическая пародия!» Вот и слово найдено! Да разве можно такого любить — чудака, печального и опасного? Эх, Пушкин! Не садись не в свои сани! Беги!
И он бежал. Но, как всегда перед побегом, бросил к её ногам послание — на сей раз волшебную исповедь души, за которую его освистали критики. Особенно старался Булгарин. Новая глава — совершенное падение Пушкина, — писал он в «Северной пчеле» в 1830 году. И пенял Поэту: по возвращении из армии (а Пушкин недавно вернулся с Кавказа) надобно писать не романтические финтифлюшки, а воспевающие победы русской армии оды! Ах, как это современно! Почти в духе критиков соцреализма! Видать, всегда нужны Булгарины и Гречи — при любом правительстве, при любом строе!
Среди финтифлюшек 7-й главы была одна, которая многое должна напомнить сердцу Каролины:
Простите, мирные долины, И вы, знакомых гор вершины, И вы, знакомые леса; Прости, небесная краса, Прости, весёлая природа; Меняю милый, тихий свет На шум блистательных сует… Прости ж и ты, моя свобода! Куда, зачем стремлюся я? Что мне сулит судьба моя? . . . . . . . . . . . . . Она, как с давними друзьями, С своими рощами, лугами Ещё беседовать спешит.Неслучайно Пушкин сразу же принялся за свой «Роман в письмах». К чему бы это? Не окончен «Онегин». Начаты светские повести «Гости съезжались на дачу», «Роман на Кавказских водах». А тут ещё «Полтава»… Да вот к чему — он судорожно стремится выговориться, как можно больше сказать ей — о ней самой, о себе, о незримых нервущихся нитях, связавших их души и тела. Первое письмо Лизы уж больно напоминает это романтическое прощание Татьяны-Каролины с тихой, милой жизнью. А в любой из названных повестей проглядывают черты Собаньской. Теперь попытаюсь ответить и на вопрос — почему такая могучая страсть к этой женщине? Она была той единственной, которая вызвала в Поэте потрясение, вулканический взрыв, состояние на грани жизни и смерти. У натур сверхчувствительных (а Пушкин, бесспорно, принадлежал к ним) любовь настолько заполоняет всё существо, что каждый миг становится невыносимой болью, лихорадящим всевластным стремлением утолять, насыщать вызванные любимым существом эмоции. Так любила Татьяна: Другой!.. Нет, никому на свете / Не отдала бы сердце я! / То в вышнем суждено совете… / То воля неба: я твоя; / Вся жизнь моя была залогом / Свиданья верного с тобой; / Я знаю, ты мне послан Богом, I До гроба ты хранитель мой… Так стремилась любить Клеопатра: Зачем печаль её гнетёт? / Чего ещё недостаёт / Египта древнего царице? <…> Вотще! В ней сердце глухо страждет, / Она утех безвестных жаждет — / Утомлена, пресыщена, / Больна бесчувствием она…
Клеопатра больна бесчувствием не оттого, что любить не может, а оттого, что некого полюбить. Гибнет без любви Татьяна. Гибнет Клеопатра. Погибает Пушкин. Вместе со своими героинями задыхается от пошлости получувств, полуправды, полулжи, от духа корысти, прагматичности, умеренной добродетельности толпы, черни. Потому что Поэту дан высший божественный дар — безмерность во всём! У него в крови, в клеточках тела это знание от Бога — отрекаясь от Любви, от естественных законов природы, человек должен ожесточиться, очерстветь и, наконец, окаменеть в мертвящем упоенье света. В этом смысле Поэт и его идеал — в едином образе «Татьяна-Клеопатра» — являются жрецами любви.
Любовь двух стихий обречена. Чем неодолимее их взаимная тяга, тем невозможнее её удовлетворить. Она переходит в иную ипостась — борьбу. Борьбу титанов. И кончается гибелью обоих или одного из них. Жертвоприношением. Таков божественный закон Космоса. Вот объяснение темы «Клеопатра» — истинная любовь ценой смерти. Но человек, истинно влюблённый, не усомнится ни на одну минуту, — скажет позднее Пушкин в повести «Мы проводили время на даче…». Разве жизнь уж такое сокровище, что её ценою жаль и счастия купить? <…> Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями! И что в ней, когда наслаждения её истощены? Повесть начата в 1834 году, стихотворение «Клеопатра» написано в Михайловском в октябре 1824 года, через три — три с половиной месяца после разлуки с Собаньской. «Египетские ночи» — в 1835 году. Двенадцать лет мысль «любовь-смерть» владела Поэтом.
Пушкин в Каролине нашёл всё, что могло наполнить его жизнь, — красоту, ум, сродную ему духовность, избыток жизненности, страстность и пылкость воображения, что совсем немаловажно — в земном плане — для буйной африканской натуры Пушкина и без чего совершенно невозможно существование его великой души Пророка. А ещё — понимание (помните в «Разговоре книгопродавца…» строку — Там сердце их поймёт одно). Этой одной-единственной его понимающей и была Она. Но и Он, только Он один, среди толпы холодной её страданья разделял — толпа забрасывала её, как некогда Магдалину, каменьями. А он, подобно Тому великому Человеку протягивал ей руку и утешал — Тебе один остался друг. Одним словом — родство душ в самом высоком, космическом понимании.
Он бежал и вновь возвращался. Хотел уехать за границу — не пустили. Засевший в сердце клин выбивал новыми увлечениями — Оленина, Закревская. Я к новым идолам несу мои мольбы… Фантазии больной души: Аннета — чистое созданье — возродит его. В ней была его надежда на спасение, очищение, прощение (Ахматова). Он поспешил сделать Олениной предложение. Ему отказали. Позднее родилась ещё одна сказка об его неудачном сватовстве: предложение не было принято из-за политической неблагонадёжности Поэта. Напротив — сама Оленина подтверждает: петербургское общество заискивало перед ним из-за милостей, оказываемых ему в то время императором. Он отвергнут, потому что был беден, некрасив и, по словам Олениной, заносчив и несносен. И совсем не нравился маленькой капризнице! А я воскликну: какое счастье для Поэта, что ему дали от ворот поворот! Впрочем, очень скоро он сам разочаровался в Аннете. В черновиках 8-й главы «Евгения Онегина» (декабрь 1829 г.) осталась строфа с весьма нелестным образом этой жеманницы, любившей так горделиво выставлять свою маленькую ножку:
Тут Лиза Лосина была Уж так жеманна, так мила!.. Так неопрятна, так писклива, Что поневоле каждый гость Предполагал в ней ум и злость.А в другом варианте этого стиха досталось и родителям:
Уж так жеманна, так мала! Так бестолкова, так писклива, Что вся была в отца и мать…Закревская стала отдушиной мутной, застоявшейся, постоянно возбуждаемой Собаньской страсти. Ничего другого она не могла ему дать. Она водила его по опустошённым кругам своей обугленной души, — жестко, но справедливо сказала Ахматова. Баратынский назвал Аграфену Магдалиной. Пушкин — беззаконной кометой. Не очаровала она и Долли Фикельмон. О ней только раз упоминает посланница в дневнике. Запись 9 сентября 1829 г.:
Познакомилась с мадам Закревской, женой министра внутренних дел. Она не пользуется доброй репутацией в обществе — говорят, что ей не хватает того, что называется хорошим тоном. У неё довольно красивое личико, но с выражением, которое редко можешь встретить в салонах или, точнее, которое желали бы там видеть.
Влюблялся, разочаровывался. Потому что другие Любови — эрзацы чувств и разума потуги. Задумал жениться. Вообще брак представлялся выходом из тупика. Посватался к Олениной — слава Богу! — отказали. Летом 1829 года на Кавказ под чеченские пули. Но и там, на холмах Грузии, о ней: Мне грустно и легко; печаль моя светла; / Печаль моя полна тобою, / Тобой, одной тобой… И снова, скуля, как побитый щенок, — к ней. Вот так два года и мечется, будто в зоне заключения, меж двух неприступных стен — надменной Каролиной Адамовной и неумолимым Милостивым Государем Александром Христофоровичем. Спасительная мечта о Китае. Отказ. 5 января 1830 г. он опять у Собаньской. Пишет ей в альбом посвящение — «Что в имени тебе моём?». Ответа нет. 7 января 1830 г., как затравленный волк, к Бенкендорфу. Клянчит — в какой уже раз! — отпустить за границу. А тот просто рассвирепел. И даже не соблаговолил на сей раз, впрочем как и в первый, доложить царю о ходатайстве. За свою недолгую жизнь Поэт дважды впадал в подобное состояние — затяжной 1828—1830 годов и краткий — из-за окончательного нервного сбоя — преддуэльный период. Затяжной — закончился женитьбой на Гончаровой — ошибочный спасительный выход! Краткий — сознательно форсированный — уходом.
Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена?..А он упрям, отстать не хочет, / Ещё надеется, хлопочет… Выхлопотал, вымолил у Собаньской свидание — в воскресенье вечером 2 февраля. Он ждёт, сгорая нетерпением: В тоске любовных помышлений И день и ночь проводит он. Но утром в воскресенье — записка от неё — до жути светская, крещенским холодом обдающая:
Прошлый раз я забыла, что отложила удовольствие видеть вас на воскресенье. Я забыла, что надо было начать свой день с мессы и продолжать его визитами и деловыми поездками. Я очень жалею об этом, так как это задержит до завтра удовольствие видеть и слышать вас. Надеюсь, что вы не забудете о вечере в понедельник и не очень сердитесь за мою надоедливость в выражении большого восхищения, которое я к вам питаю.
К. С. Воскресенье утром.Словно ушат холодной воды эта записка! Конец терпению. Прорвалась сдерживаемая до сих пор плотина чувств.
И слабою рукой / Он пишет страстное посланье. / Хоть толку мало вообще I Он в письмах видел не вотще; / Но, знать, сердечное страданье / Уже пришло ему невмочь. / Вот вам письмо его точь-в-точь….
Вы смеётесь над моим нетерпением, — писал Пушкин, — вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания; итак, я увижу вас только завтра — пусть так. Между тем я могу думать только о вас.
Хотя видеть и слышать вас составляет для меня счастье, я предпочитаю не говорить, а писать вам. В вас есть ирония, лукавство, которые раздражают и повергают в отчаяние. Ощущения становятся мучительными, а искренние слова в вашем присутствии превращаются в пустые шутки. Вы — демон, то есть тот, кто сомневается и отрицает, как говорится в Писании.
В последний раз вы говорили о прошлом жестоко. Вы сказали мне то, чему я старался не верить — в течение целых 7 лет. Зачем?
Счастье так мало создано для меня, что я не признавал его, когда оно было передо мною. Не говорите же мне больше о нём, ради Христа… (Подч. мною. — С. Б.)
Пушкин повторил слова Онегина из письма к Татьяне:
Я думал: вольность и покой Замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан!И снова оттуда же — слова о счастье:
Нет, поминутно видеть вас, Повсюду следовать за вами, Улыбку уст, движенье глаз Ловить влюблёнными глазами, Внимать вам долго, понимать Душой всё ваше совершенство, Пред вами в муках замирать, Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!Эта перекличка с поэмой почти в каждой строке письма:
В угрызениях совести, если бы я мог испытать их, — в угрызениях совести было бы какое-то наслаждение — а подобного рода сожаления вызывают в душе лишь яростные и богохульные мысли.
Дорогая Элленора, позвольте мне назвать вас этим именем, напоминающим мне и жгучие чтения моих юных лет, и нежный призрак, прельщающий меня тогда, и ваше собственное существование, такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно было быть. — Дорогая Элленора, вы знаете, я испытал на себе всё ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал всё, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и всё, что есть в нём самого ошеломляющего. От всего этого у меня осталась лишь слабость выздоравливающего, одна привязанность, очень нежная, очень искренняя, — и немного робости, которую я не могу побороть…
Некоторые отрывки я уже цитировала раньше. Но решила не выпускать их — в контексте всего письма они приобретают иное звучание. Пушкин заблуждался, называя своё состояние слабостью выздоравливающего. Заглохнувшая любовь, как недолеченная болезнь, вспыхивает вновь и вновь, как только появляется её возбудитель. Нам неизвестно, отправил ли Пушкин Собаньской этот свой всполох страсти. Он просто писал, как пишут дневник, по свойственной эмоциональным людям привычке излагать на бумаге свои чувства. Ещё не знал, решится ли открыть их адресатке:
Я прекрасно знаю, что вы подумаете, если когда-нибудь это прочтёте, — как он неловок — он стыдится прошлого — вот и всё. Он заслуживает, чтобы я снова посмеялась над ним. Он полон самомнения, как его повелитель — сатана. Не правда ли? (Об этом же в «Онегине» — Созданье ада иль небес, / Сей ангел, сей надменный бес…)
Однако, взявшись за перо, я хотел о чём-то просить вас — уж не помню о чём — ах да — о дружбе. Эта просьба очень банальная, очень… Это как если бы нищий попросил хлеба — но дело в том, что мне необходима ваша близость…
Как прекрасно понимал всё Пушкин — всё в себе, всё в ней! Он видел себя со стороны — нищий, просящий о подаянии. Не о любви, о дружбе! О простом человеческом общении! Можно воскликнуть: «Как скрутила его в бараний рог эта женщина! Как низко пал он!» Но на самом деле — падение ли это или взлёт души? Тот самый высший миг в жизни человека, когда земная гордыня, земное представление об унижении и обо всех условностях теряют свой извечный банальный смысл?! И ещё — о безвременье Любви. Каролине в 1830 году было 37—38 лет, по тем временам почти старая женщина. Она, как всякая красивая женщина, скрывала свой возраст. Как истинная полька, умела выглядеть намного моложе. Но для Пушкина её годы не имели никакого значения.
А вы между тем по-прежнему прекрасны, так же, как и в день переправы (виттовский бал на корабле и возвращение на берег в лодках!) или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение я чувствую до сих пор — прохладное, влажное. Оно обратило меня в католика…
С кем ещё из женщин было у Пушкина такое — когда каждый пустяк становился значимым, полным тайны и магии, говорил на понятном только им двоим очень древнем, ритуальном языке любви?! С кем испытывал это судорожное, мучительное, ошеломляющее любовное опьянение?
И вдруг совершенно неожиданный мистический поворот, и письмо обрывается. А затем — только вечность и две души в беспредельном Всемире:
Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина. Ваша душа некоторое время ещё продержится среди стольких опавших прелестей — а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя душа, её боязливая рабыня, не встретит её в беспредельной вечности.
Но что такое душа? У неё нет ни взора, ни мелодии — мелодия быть может…
Опровергая Пушкина, спешу сказать — Собаньская до конца осталась прекрасной. Прима Вера превратилась в пышную золотую осень. И ещё долго поражала всех своей неувядающей красотой. Она сумела ещё трижды выйти замуж — за получившего наконец развод Витта, затем за его адъютанта Чирковича, а после его смерти уже почти шестидесятилетняя пани в 1851 г. обвенчалась с Жюлем Лакруа (1809—1887) — романистом, поэтом, переводчиком, драматургом. Он был на семнадцать лет моложе её (Собаньская родилась не в 1794 г., как принято считать, а на два года раньше). Подобно другим, он воспевал очаровательную пани в стихах. Четырнадцать сонетов его стихотворного сборника 1872 г. «Позорный год» были посвящены ей — восьмидесятилетней, но всё ещё привлекательной Каролине. Моя спутница мужественна, и я остаюсь рядом с ней, — читаем в одном из сонетов. Но, пожалуй, строки из другого сонета Лакруа, «Франция и Польша. Моей жене», могут послужить самым веским аргументом для оправдательного приговора Собаньской: Франция и Польша, о сёстры, о вы, её две отчизны! Не отчаивайтесь, обагрённые кровью и истерзанные! Поистине ангел ещё молится за вас.
Как мудра чеховская сентенция: «После сорока лет человек сам отвечает за своё лицо!» Красота увядает, но облик может осветиться приобретённым в житейских испытаниях опытом — мудростью, доброй толерантностью к людям, смирением перед превратностями судьбы и духовной красотой, если она дана свыше. И наоборот, когда человек ничему не научился за четыре десятка жизни, озлобленность, душевная дисгармония искажают его черты. Собаньская относилась к той категории женщин, чьё очарование с годами не убывает, а напротив — наливается магической, влекущей силой. Жюль Лакруа вскоре после выхода в свет книги стихов ослеп. Каролина, как добрая самаритянка, до самой смерти (она умерла в 1885 г. в девяностотрёхлетнем возрасте) ухаживала за слепцом. Он пережил её на два года. Суровым приговором — катящейся вниз лавиной её прелестей — Пушкин совсем не думал оскорбить (или отрезвить?) красавицу. Он искал форму для выражения гётевской мысли о быстротечности жизни. Надеялся, что заставит прелестную дьяволицу проникнуться этой мыслью. А она, подобно Фаусту, воскликнет: «Остановись, прекрасное мгновенье!» Но не сумел. Роль Мефистофеля ему явно не удавалась. Было и нечто другое, что изменило Собаньскую и заставляло её сдержанно-холодно отвергать пылкие порывы Пушкина. Об этом он рассказал в стихотворении «В часы забав иль праздной скуки…»:
И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты И силой кроткой и любовной Смиряешь буйные мечты. Твоим огнём душа палима Отвергла мрак земных сует, И внемлет арфе серафима В священном ужасе поэт.Собаньская стала рьяной последовательницей пиитистов, исповедующих отказ от земных радостей, очищение, духовное возвышение, смирение. Под влиянием её нравоучительных проповедей Пушкин пытался отвергнуть мрак земных сует. Но, как видим, сама мысль об отречении от всего того, к чему стремился буйными мечтами, приводила его в священный ужас. Он не был готов к этому. Он был ещё очень молод… Мысли о счастье грызли его. И он продолжал писать ей безумные письма…
В тот же день, 2 февраля, родилось ещё одно пылкое послание. Сохранился его черновик.
Сегодня 9-я годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни.
Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что моё существование неразрывно связано с вашим; я рождён, чтобы любить вас и следовать за вами — всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство; вдали от вас меня лишь грызёт мысль о счастье, которым я не сумел насытиться. Рано или поздно, неминуемо, мне придётся всё бросить и пасть к вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и воодушевляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в М[ассандре]. Туда я смогу совершать паломничества, бродить вокруг вашего дома, встречать вас (упиваться), вас мельком видеть…
У настоящей любви нет будущего — у неё только сиюминутность настоящего, а затем — прошлое и мучительно-сладостное воспоминание о нём. Создатели прекрасных легенд о любви знают это и разрешают этот парадокс смертью своих героев… С прекрасной Натали у Пушкина вообще не было прошлого. Ни тайны, ни магии, ни ритуалов. Ничего. Он просто не успел полюбить её. Она стала соломинкой, за которую ухватился утопающий Поэт. В ней он искал чистоты, надежды, спасения. Так же, как в Олениной. Он всегда обманчиво верил в спасительное всемогущество чистой Девы. Мысль о предстоящей женитьбе действительно породила в душе его тот катарсис, о котором я говорила во 2-й главе книги. Но в брак кинулся — как в пропасть! Был отчаянный страх перед бездной. Московская цыганка Таня Демьянова вспоминала приезд к ней Пушкина накануне свадьбы. «Спой мне, Таня, что-нибудь на счастье!» — попросил Поэт. «Ах, матушка, ах, государыня, что так в поле пыльно?» — затянула грудным голосом певунья. Как вдруг услышала громкое рыдание Пушкина. Обхватил голову руками, плачет, как ребёнок, и приговаривает: «Твоя песня мне всё нутро перевернула, не радость, а большую потерю она мне предвещает!..»
Пушкин женится на Гончаровой, — между нами сказать, — на бездушной красавице, и мне сдаётся, что он бы с удовольствием заключил отступной контракт, — писал С. Д. Киселёв к H. С. Алексееву 26 декабря 1830 г.[321]. Я. И. Сабуров очень метко назвал сей поступок Пушкина ставкой игрока: Здесь не опомнятся от женитьбы Пушкина; склонится ли он под супружеское ярмо, которое не что иное, как pool purl[322]. Осведомлённый о сердечных делах Пушкина Вяземский удивлялся: любит одну, женится на другой! А вот как сам Пушкин сказал о предстоящей женитьбе в письме к Плетнёву от 31 августа 1830 г.: Милый мой, расскажу тебе всё, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего возраста хуже 30-ти лет игрока. <…> Между тем я хладею, думая о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. <…> словом, если я не несчастлив, по крайней мере не счастлив… Чёрт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. За неделю до свадьбы вновь о том же в письме приятелю юности Н. И. Кривцову: В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчёты[323]. Так трезво, буднично, с предварительными домашними расчётами вступил Поэт в супружество с этой беленькой, чистенькой девочкой с лукавыми глазками гризетки (слова Туманского). Притирание было нелёгким. После первой брачной ночи на целые сутки исчез из дому, забыв в кругу приятелей о молодой жене. Нелады с родителями Гончаровой, особенно с матушкой, рикошетировали ссорами с Натали. Реальность быстро отрезвила Пушкина — мечты о неземном счастье растаяли. Всякая радость стала неожиданностью. Но он успокоился, притерпелся, привык. Позднее зрело, умудрённо скажет: На свете счастья нет, но есть покой и воля! Он поистине обрёл покой в первые супружеские годы. И даже полюбил тихое, доброе создание Натали. Не как Собаньскую — безумно, страстно, судорожно, а как-то по-родственному, земно и спокойно. «Я вас люблю любовью брата…» Я думаю, в любви Пушкина к жене было очень много именно этого братского чувства.
Натали на некоторое время спасла Пушкина от Собаньской. Неудовлетворённая духовность толкала Поэта к другим женщинам. Завязывались новые романы — их немало было у семейного Пушкина. Но вот в апреле 1834 года в дневнике Пушкина появляются загадочные записи о некой «S.» и «К. S.». В комментариях к дневнику безответственно указывается, что таинственная «S» — А. О. Смирнова. Хотя, упоминая о ней, Пушкин обычно не зашифровывал её имя. К примеру, в том же апреле записал: Разговоры несносны. Слышишь везде одно и то же. Одна Смирнова по-прежнему мила и холодна к окружающей суете. И вдруг его залихорадило — 7, 8, 10 апреля он ищет средь шумных балов и раутов своё инкогнито. Ищет, тоскует. И даже успевает объясниться.
Запись 7 апреля: Вчера у гр. Фикельмон. S. не была. Впрочем, весь город.
8 апреля 1834 г.: Вчера rout у кн. Одоевского. Изъяснение с S. К.
10 апреля. Вчера вечер у Уварова — живые картинки. Долго сидели в темноте. S. не было — скука смертная.
Совершенно новая, утаённая от биографов страничка жизни Поэта! Обратите внимание — Пушкин надеялся встретить свою S. К. у Фикельмон. Значит, это была дама высшего аристократического общества. В салоне Долли вертелось много поляков — корнет Кавалергардского полка Роман Сангушко, сенатор на русской службе Марцелин Любомирский, графы Любинские — сын и отец Томаш (министр юстиции Царства Польского), князь Любецкий — министр финансов Польши, князья Радзивилл и особенно отличаемые графиней Фикельмон — помощник статс-секретаря по департаменту Царства Польского Адам Ленский и князь Ефстафий Сапега. Все они были из приятельского круга Собаньской. Князя Любомирского, семью Сапеги (за одного из сыновей князя Сапеги вышла замуж её дочь) и графа Потоцкого она назовёт в письме к Бенкендорфу в числе людей, составляющих её постоянное варшавское общество. Вполне возможно, что в начале апреля Собаньская вдруг объявилась в Петербурге. Незнакомка в записи Пушкина обозначена её инициалами — К. S. Или правильнее С. S. — именно так подписала она свою записку к Поэту. У Каролины были веские основания для приезда в столицу — она пыталась вернуть благосклонность императора и, вероятно, добивалась у него аудиенции. Подробнее об этом расскажу в следующей главе. В Петербурге польские друзья ввели Собаньскую в салон Долли Фикельмон. Пушкин встретился с ней — и вновь завертелась любовная карусель. Чем кончилось изъяснение с Каролиной — неизвестно. Да и чем оно могло кончиться, когда оба уже нашли успокоение в семейной жизни. К тому же у Собаньской были в это время заботы и поважней. Посмотрим, нет ли у самого Пушкина следов этой апрельской встречи. Вот, пожалуйста, — неожиданное раздумье о дремоте своего бытия:
Я возмужал среди печальных бурь, И дней моих поток, так долго мутный, Теперь утих дремотою минутной И отразил небесную лазурь. Надолго ли?.. а кажется, прошли Дни мрачных бурь, дни горьких искушений.А вот ещё одно, незавершённое — не ей, но и о ней тоже:
Я думал сердце позабыло Способность лёгкую страдать. Я говорил: тому, что было, Уж не бывать! уж не бывать! Прошли восторги и печали И легковерные мечты…В общем-то не густо. У семейного Пушкина всё меньше стихов, всё больше прозы. Поищем среди прозаических произведений. Вот где её след — в начатых в 1834 г. повестях «Мы проводили вечер на даче…» и «Египетские ночи». Горестные раздумья о судьбе Собаньской (она-таки добилась своего — вышла наконец замуж за Витта!) эхом откликнулись в образе Клеопатры. Тема стихотворения 1824 г. стала сюжетом этих двух произведений.
Молодой человек, стоявший у камина (это, конечно же, сам Пушкин, вот и его привычка — с скрещёнными руками опираться на стенку камина или косяк двери), <…> в первый раз вмешался в разговор.
— Для меня, — сказал он, — женщина самая удивительная — Клеопатра.
— Клеопатра? — сказали гости. — Да, конечно… однако почему ж?
— Есть черта в её жизни, которая так врезалась в моё воображение, что я не могу взглянуть почти ни на одну женщину, чтоб тотчас не подумать о Клеопатре.
— Что ж это за черта? — спросила хозяйка. — Расскажите.
— Не могу, мудрено рассказать.
— А что? разве неблагопристойно?
— Да, как почти всё, что живо рисует ужасные нравы древности.
— Ах! расскажите, расскажите.
— Ах, нет, не рассказывайте, — прервала Вольская, вдова по разводу, опустив чопорно огненные свои глаза…
Вот она, Собаньская! — вдова по разводу с огненными глазами и её новой ханжеской привычкой чопорно опускать их. Герой, Алексей Иваныч, поломавшись, наконец изрёк неблагопристойную суть:
— Дело в том, что Клеопатра торговала своею красотою и что многие купили её ночи ценою своей жизни…
— Какой ужас! — сказали дамы. — Что же вы тут нашли удивительного?
— Как что? Кажется мне, Клеопатра была не пошлая кокетка и ценила себя не дешёво. Я предлагал ** сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил…
В этой неоконченной повести Пушкин, во-первых, выражает смысл своего любовного кредо — о чём я говорила выше. Во-вторых, подводит итог печального опыта любви. Для этого он надевает маску героя Алексея Ивановича и заводит разговор о Клеопатре. Ему необходимо высказать всё, что у него на душе, — отравленная холодным отчаяньем любовь к Каролине, осознанная тщетность, точнее, крах высоких идеалов, разочарование в жизни и женщинах.
Эти итоги поистине безрадостны.
Горькая истина о девальвации слов и любви: — Неужто между нынешними женщинами не найдётся ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того, что твердят ей поминутно: что любовь её была бы дороже им жизни.
Вытекающая из этого минимальность требований к счастью: — А что касается до взаимной любви… то я её не требую: если я люблю, какое тебе дело?
Но несгибаемый максимализм в понятии смысла жизни: — Разве жизнь уж такое сокровище, что её ценою жаль и счастия купить? <…> И я стану трусить, когда дело идёт о моём блаженстве? Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями! И что в ней, когда наслаждения истощены?
А когда они истощены, когда великий художник, во имя какой-бы то ни было цели — корысти, пользы, блага земного и небесного, во имя каких-бы то ни было идеалов, чуждых искусству, — философских, нравственных или религиозных, отрекается от бескорыстного и свободного созерцания, то тем самым он творит мерзость во святом месте, приобщается духу черни. Так замечательно выразил это состояние души Поэта Д. Мережковский. В этой фразе — смысл форсированного ухода Пушкина из жизни. Нет ничего страшнее для таких, как он, людей — приобщение к духу черни!
В этом смысле новая встреча с Собаньской стала для Пушкина ещё одним катарсисом с обратным знаком. Смерть как очищение от бессмысленности безотрадного бытия, от мерзости во святом месте — храме души Поэта! Последняя в их жизни встреча. В 1836 году Каролина рассталась с Виттом и переселилась в Одессу. Две души — Александра и Каролины — затерялись в беспредельной вечности.
Служила, но кому?
В тридцатых годах нашего столетия среди документов секретного архива III отделения было обнаружено письмо Собаньской на французском языке. Оно было адресовано шефу жандармов Бенкендорфу. На письме — пометка: 4 декабря 1832 г. граф ей отвечал. Так появилось в литературоведении дело Собаньской. Татьяна Зенгер-Цявловская занялась его расследованием. Об агентурной деятельности польской аристократки писал ещё Вигель в своих «Записках». Но сообщению известного зоила раньше не придавали особого значения. Теперь его сведения подтверждались найденным посланием.
Тёмная лошадка Вигель, как известно, к женщинам не питал склонности. Однако же в своих «Записках» старался быть объективным хроникёром. Его первое впечатление от Собаньской — ослеплён её привлекательностью. Вопреки своему ослеплению зорко подмечал каждый поступок прекрасной Каролины и, не стесняясь в выражениях, злословил по её адресу. Пришло время и он прозрел. Слепящий свет истины вернул ему зрение: … но когда несколько лет спустя узнал я, что Витт употреблял её и серьёзным образом, что она служила секретарём сему в речах столь умному, но безграмотному человеку и писала тайные его доносы, что потом из барышей поступила она в число жандармских агентов, то почувствовал необоримое от неё отвращение. О недоказанных преступлениях (подч. мною. — С. Б.), в которых её подозревали, не буду и говорить. Сколько мерзостей скрывалось под щеголеватыми её формами[324].
Моё ироничное отношение к Вигелю совсем не случайно. Начну с факта чрезмерной осведомлённости автора «Записок». Каким образом ему стали известны сокровеннейшие тайны петербургского двора? В России умели глубоко конспирировать своих агентов. (Самый свежий пример тому — агентурная деятельность «революционера» Сталина почти девяносто лет оставалась под покровом жгучей тайны и у российской сыскной службы, и у советского КГБ.) А вот и подтверждение тому самого И. Д. Витта — его процитировал Н. К. Шильдер, автор монументальных трудов об Александре II и Николае I: …Его величество позволил поручить мне употреблять агентов, которые никому не были известны, кроме меня, обо всём же, относящемся по сей части, никому, как самому императорскому величеству, доносить не позволено[325].
Но вот вопрос: не выдал ли себя с головой сам Вигель оброненными словами о недоказанных преступлениях Собаньской? Известно, что в Петербурге Вигель служил директором Департамента иностранных вероисповеданий при Министерстве внутренних дел, позже стал товарищем министра. И этот факт говорит о многом. Почти можно не сомневаться — он был причастен к агентурной службе. Причём того же направления сыска — лишь в этом случае ему могли быть известны имена и подробности деятельности агентов. Мою догадку подтвердила случайно попавшаяся на глаза запись в дневнике Н. А. Муханова: Он имеет гадкую репутацию, вкусы азиатские, слыл всегда шпионом. Как тут не воскликнуть: «А судьи кто?»
Граф Блудов, его начальник, как-то сказал о Вигеле: Он добр только тогда, когда зол. Весьма парадоксальное высказывание. Если судить по запискам Вигеля, он пребывал в благодушном настроении, когда злобно судил своих современников. Весьма оригинальный вид мазохизма! С нравственной точки зрения поступок его омерзителен: он не только выдал своих коллег и тем самым как бы отмежевался от причастности к сыску, но и позволил с напыщенным негодованием высказать своё к ним отвращение. Бессмысленно искать причину его озлобленности против Собаньской. Вероятно, её и не было. Он очернил её в силу стервозности своего характера. До чуткого уха чиновника Министерства внутренних дел каким-то образом дошло известие о письме Собаньской Бенкендорфу. Совершенно очевидно, что самого письма он не читал, ибо не стал распространяться о её недоказанных преступлениях. Будьте уверены, если бы они были ему известны, не пожалел бы ни бумаги, ни желчи, чтобы рассказать о них. Но ему было достаточно одного этого факта, чтобы распустить о ней злобные сплетни в свете. Пушкин, сам преследуемый светской клеветой, пытался защищать Собаньскую: Но свет… / Жестоких осуждений / Не изменяет он своих… И дальше: Достойны равного презренья / Его тщеславная любовь / И лицемерные гоненья… (стихотворение «Когда твои младые лета…»).
Но информация Вигеля осталась: Витт употреблял Собаньскую для своих тайных доносов. Осталось и её письмо к Бенкендорфу. Этим и исчерпываются сведения о причастности её к шпионажу. Не правда ли, не густо для вынесения приговора прекрасной Каролине?
Но как сам Витт стал опытным мастером политического шпионажа и провокаций? Его блистательная в начале карьера была куплена «заслугами» предков перед императорским двором. В 1790 году его отец Иосиф Витт оставил пост коменданта Каменец-Подольской крепости и перешёл на русскую службу. Этому предшествовало другое событие — Витт уступил фельдмаршалу Потёмкину свою жену — прекрасную фанариотку. И сей жертвой ублажил обоих — отвергнутого любовника Екатерины и саму императрицу. Теперь её совесть была спокойна — фаворит утешился с другой. Она сама провела смотрины новой возлюбленной своего Гриши и одобрила его выбор. Потёмкин не остался в долгу — Витт получил пост коменданта Херсона, а позднее графский титул. В 1792 г. его десятилетний сын Ян уже был зачислен в армию в чине корнета. После смерти Потёмкина мать Яна Витта была продана Потоцкому. Сделка была оформлена только через три года — за 2 миллиона польских злотых София Витт стала на некоторое время единоличной собственностью графа. Потоцкий в придачу к красавице гречанке получил и её сына. Но быстренько сбыл с рук — в тот же год пятнадцатилетнего юношу определил на службу в Конную гвардию. Через два года Витт был произведён в подпоручики, ещё через год — в поручики, через полгода стал штаб-ротмистром. А было ему осьмнадцать лет! В начале января 1800 г. Витта переводят в Кавалергардский полк. В том же году — первый орден Св. Иоанна Иерусалимского. Что вам головокружительная карьера Дантеса, о которой так много трубили и продолжают трубить! Бывает и пофантастичней! Служебный галоп Витта продолжался — через год уже видим его ротмистром. В двадцать лет — полковник и командир эскадрона… С измальства — под шеломами взлелеян, с конца копья вскормлен — армия стала единственной его школой! Стоит ли удивляться, что на всю жизнь остался безграмотным. Новая честь — перевод в Лейб-Кирасирский Ея Величества полк. И наконец, — первое испытание всех этих по заслугам или не по заслугам экспромтом приобретённых чинов — Аустерлиц, 1805 год. Вот где юный герой проявил доблесть — он был ранен в ногу и приказал своему полку отступить в самый решительный момент битвы. А попросту бежал с поля сражения. Граф Ланжерон в своих воспоминаниях утверждал — ранение было мнимым, поступок «храбреца» привёл в негодование командующих — князя Багратиона и графа Витгенштейна. В сентябре 1807 г. Витт во гневе швырнул им в лицо прошение об отставке. И постарался распространить слух о своём намерении вызвать обоих на дуэль. Император поверил в серьёзность угрозы и издал рескрипт — во избежание поединка учредить за Виттом надзор. Первый мат в жизни удачливого Ивана Осиповича. И почти наверняка — шах. Выбора не было. Позор можно было смыть только кровью. Дуэль означала опасность для жизни. Потерянная же честь — неминуемый крах карьеры. Лесенка, по которой Витт так стремительно карабкался вверх, рухнула. Единственный выход — бежать за границу. Он сумел без паспорта добраться до Вены. В 1809 году вместе с горсткой бывших российских подданных поступил волонтёром во французскую армию. Он, российский офицер, сражался против русской армии при Асперне, Ваграме, Голабрюнне и Знаиме. Но странно даже не это. Ведь Витт был космополитом по натуре. И как сказал Мицкевич, он сам толком не знал, к какой национальности принадлежит и какую религию исповедует. Удивительно то, что в 1812 году русский император простил ему измену и возложил на него формирование четырёх казачьих полков в Киевской и Подольской губерниях — из крестьян, мещан и безземельной шляхты (так называемой чиншевой, арендовавшей землю у крупных помещиков). Оказалось, что измены-то никакой и не было. С 1809 г. Витт был завербован в тайные агенты и исполнял поручения особенной важности, которые лично возлагал на него Александр. Об этом сам Витт хвастается в письме к Дибичу в начале 1826 г. Следующая ступенька в карьере Витта — бригадный командир новосозданных казачьих регулярных полков. В октябре 1812 г. произведён в генерал-майоры. С этими полками он прошёл всю Отечественную войну, сражался в Европе и закончил поход в Париже. Он несколько раз удостаивался высочайшего благоволения и украсил грудь несколькими орденами. После окончания войны командовал Украинской казачьей дивизией, а когда она была упразднена в 1816 г. — 3-й Украинской уланской дивизией. Через год сформировал Бугскую уланскую дивизию — основу южных военных поселений. Надо отдать ему должное — администратором он был расторопным. В 1818 г. Александр I произвёл смотр новосозданному аракчеевско-виттовскому детищу и остался весьма доволен. Всё, что я видел сегодня, превзошло мои ожидания, — объявил он Витту. Генерал был окончательно «прощён» и в благодарность за труды получил звание генерал-лейтенанта.
В этот новый триумфальный период своей жизни Витт встретил Каролину Собаньскую. В «Сборнике биографий кавалергардов» я видела его портрет. Он совсем недурён — большой лоб, курчавые волосы, баки, щёточка усов и взгляд с прищуром — взгляд победителя, очень уверенного в себе человека, охотника до женщин. Да, он определённо должен был им нравиться. Говорят, был весёлым, добродушным, с тонким умом. Сыпал прибаутками, пословицами. Каролине подходил этот преуспевающий генерал с украшенной орденами грудью. Белокурая стройная красавица в свою очередь прекрасно вписывалась в антураж бонвивана. Витт был женат на Йозефе Валевской, урождённой княгине Любомирской, дочери князя Каспара. Он хотел развестись с ней и жениться на Собаньской. Но жена не давала развода. Гордая прекрасная Каролина согласилась на роль наложницы. Она с достоинством переносила двусмысленность своего положения. Вспомним слова всё того же злоязычного Вигеля: В унизительном положении (любовницы Витта) какую твёрдость она умела показывать и как подниматься над преследующими её женщинами! <…> Много в этом случае помогали ей необыкновенная смелость (ныне её назвал бы я наглостью) и высокое светское образование. Стремлюсь не быть пристрастной к своей героине. Моё желание представить её таковой, какой она была на самом деле, — доброй, расточительной, щедрой, умной, расчётливой и ловкой, ангелом и грешницей. Одним словом — прекрасной Женщиной со всеми её достоинствами и пороками, которую любили два великих поэта. И вновь задаю вопрос: неужели только материальные блага, высокое положение Витта заставило её пойти на связь с ним? Неужели божественно красивая женщина, при этом гордая, аристократичная и не совсем, как утверждают, бедная (муж до развода в 1825 г., да и после давал ей с дочерью изрядное обеспечение) не могла составить более подходящую партию? Может быть, прав был проницательный Николай I, утверждая, что она использовала Витта, водила его за нос? Примем — пока априори — моё предположение: Собаньская пошла на это сожительство для того, чтобы помогать национальному патриотическому движению Польши. История освободительной борьбы поляков и участие в ней рода Ржевуских разве не иллюстрируют этот неизбывный — удивительный и восхитительный — патриотизм как свойство национального характера? Припоминаю встречу с одним польским эмигрантом в Лорет-де-Маре — курортном местечке под Барселоной. В ресторане пансионата наши столики оказались рядом. Я с первого дня обратила внимание на этого человека — типично славянская внешность, мягкий, грустный взгляд, трогательно-нежное отношение к двум маленьким сыновьям. Он выгодно выделялся среди развязношумного общества немецких бюргеров. Вскоре мы познакомились. Со слезами на глазах рассказывал мне о своей многострадальной, отчаянно борющейся за свободу Польше. О своём участии в диссидентском движении. Последовавшей высылке за пределы страны. Скромной должности врача в государственной больнице маленького городка в Западной Германии. А ведь в Кракове был ведущим специалистом. Его коробило пренебрежительное отношение немцев к инородцам. Он говорил о своих ночных кошмарах, рождаемых болезненной тоской о родине, о снах — а в них всё та же Матка Ойтчизна — Польша. Был бы я птицей, взмахнул б я крылами и полетел в свой родной Краков! Неужели не доведётся его больше увидеть?! Неужто так всю жизнь и прозябать в чужбине! Я успокаивала, говорила о возможных переменах. Он не верил. Была весна 1985 года. Не сомневаюсь, мой ностальгический пан давно уже вернулся на родину…
Мимолётное впечатление врезалось мне в память. И вот сейчас пригодилось как пример пословичного патриотизма поляков. Каролина была достойной внучкой Вацлава Собаньского — до невероятия полькой (об этом знал Пушкин и списал с Собаньской свою Марину Мнишек), до невероятия патриоткой. Можно почти с уверенностью сказать — она принесла себя в жертву Родине. И, забывая о себе, / Всё в жертву родине приносит. / Против тиранов лютых твёрд, / Он будет и в цепях свободен, / В час казни правотою горд / И вечно в чувствах благороден…[326] Не потому ли с таким достоинством и Собаньская переносила свой позор? Когда у человека высокая цель, что значит для него жужжание светской молвы? А сведения Вигеля, а её письмо к Бенкендорфу? Что мог знать о ней Вигель, которого высокородная пани не допускала до тайников своей души? Письмо же к шефу полиции не столько обвиняет, сколько оправдывает её. Нужно только внимательно прочитать его. Но о письме поговорим, когда дойдёт до него черёд.
Собаньская была прекрасно осведомлена об агентурной деятельности Витта. Он доносил о настроениях польских патриотов ещё с 1809 года. Удержать его от этого она не могла. Но повлиять на него, вразумлять, смягчать его доносы — с этим она прекрасно справлялась. К сожалению, почти не сохранилось достоверных сведений о том, как осуществляла свою миссию российская Мата Хари. Вряд ли удастся отыскать и какие-нибудь подтверждающие документы. Единственным источником остаётся творчество Мицкевича. В драме «Барские конфедераты» отражено немало автобиографичных моментов одесско-крымского периода жизни поэта. Даже со скидкой на художественное переосмысление писателем жизненных впечатлений трудно отказаться от мысли, что Собаньская и генерал Витт были прототипами героев Мицкевича — графини и русского генерала. Столь очевидно сходство. Здесь мы находим весьма правдоподобный рассказ, как графиня, то бишь Собаньская, была привлечена Генералом — Виттом — к сыску. Агент Бошняк так много насолил поэту по время крымского путешествия, что потом, спустя много лет, Мицкевич рассказывал о нём в своих парижских лекциях и даже назвал его имя.
Этот Бошняк, литератор, натуралист, многократно осуждённый за всякие провинности и преступления, потом выпущенный на свободу и получивший в секретном порядке чин коллежского асессора и генерала, всюду сопровождал графа Витта под видом натуралиста. Он хорошо говорил чуть ли не на всех языках, сумел втереться в разные тайные общества, и он сообщал Витту секретные сведения о заговоре[327].
Костромской дворянин неожиданно получил по наследству имение близ Елисаветграда в южных военных поселениях. Здесь находилась штаб-квартира Витта. Так судьба неожиданно свела этих двух людей. Видимо, Витт заметил какую-то червоточинку в характере Бошняка. Коли сумел так быстро завербовать того, кто некогда слыл вольнодумцем, был своим человеком в обществе просвещённейших людей, соучеником и даже приятелям Карамзина и Вяземского.
И в драме Мицкевича Бошняк присутствует в роли Доктора — учёного-натуралиста. Этот самый Доктор посоветовал Генералу привлечь графиню к политическому шпионажу.
Я хотел лишь сказать, что родственники графини… весьма многочисленные… Поэтому вполне возможно… вероятно, что кто-нибудь из них продолжает поддерживать какие-либо отношения… И так как графиня с большой приязнью относится к вашей светлости, то было бы неслыханно полезным для службы её императорскому величеству, а также для вашей безопасности, господин генерал, чтобы графиня сделала попытку получить какие-либо сведения с помощью… если бы захотела, например, употребить меня… следовать моим советам.
В драме Генерал с иронией парировал: Сеньор Доктор! Ты не завистливый человек и хочешь, чтобы все занимались твоим ремеслом. В жизни же Витт серьёзно призадумался над советом Бошняка и понемногу стал приобщать Собаньскую к своей деятельности. Невдомёк тогда было генералу, что его интересы как нельзя лучше сходятся с намерениями Собаньской. Для этого она и сошлась с Виттом!
Не буду распространяться о том, как Витт исполнял добровольно принятую роль — его слежка за декабристами и Пушкиным известна и документирована. Он сам назвался груздем и полез в кузов. Выполнял, правда не очень добросовестно и не совсем бескорыстно, возложенные на него обязанности, как это делали, делают и будут продолжать делать тысячи особого рода чиновников во всех странах мира. Всё зависит от позиции — одних называют шпионами, других разведчиками, третьих патриотами, выполняющими свой долг отечеству. Во имя объективности следует отметить — здесь я сошлюсь на воспоминания декабриста С. Г. Волконского, — зная о связях Мицкевича с декабристами, Витт не выдал его. А это означает, что он с помощью Собаньской спасал своих — ни один причастный к движению поляк не пострадал от репрессий. Вспомним также и о Иерониме Собаньском, первом муже Каролины. Как я уже говорила, он был членом Польского патриотического общества, принимал участие в переговорах с декабристами. Неслучайно в компании Мицкевича и Ежовского сопровождал Собаньскую в крымском путешествии. Витту, без всякого сомнения, было известно об его участии в заговоре. Но и о нём — молчок. Собаньский и граф Тарновской отделались месячным заключением в крепости, затем выпущены под надзор. Хотя у Каролины было достаточно оснований отомстить мужу, которого глубоко презирала. Предала бы его, если бы была коварной российской шпионкой. О причине размолвки с Собаньским она рассказывала Мицкевичу и Пушкину. У обоих находим подтверждение этому. Помните пушкинские слова: …и ваше собственное существование, такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно быть? Мицкевич в «Барских конфедератах» заставил свою героиню — графиню — высказаться за Собаньскую: А почему моя семья толкнула меня, девочку, на брак с дурно воспитанным человеком, невеждой, пьяницей, чтоб не сказать хуже? Умный Витт (это признавал даже желчный Вигель) в письме императору Александру (от 13 августа 1825 г.) весьма наивно объяснял причину неожиданного скопища в Одессе поляков — они собрались со всех польских губерний в ожидании ответов, которые должны были получиться, о дальнейшей судьбе двух виленских профессоров — Мицкевича и Ежовского[328]. Это вынудило меня следить за ними с особенной строгостью, но здесь поведение их оказалось вполне безупречным. Так и чудится, что мысль эта продиктована Собаньской. Ведь, по словам Вигеля, она писала не шибко грамотному Витту его донесения. Это утверждал и историограф Н. Г. Чулков, обнаруживший в архиве Литературного музея в Москве написанные рукой Собаньской агентурные доносы Витта на декабристов. Но как увидим дальше, эти обработанные Каролиной послания были просто-напросто отписками, видимостью усердия и старания. Что же касается Вигеля, вновь возникает вопрос — откуда такая осведомлённость? И о доносах, и о переписке их Собаньской? Кстати, Вигеля можно уличить в очевидной лжи. При всей моей антипатии к генералу должна отметить — он пополнял недостатки образования разнообразным чтением. Современники утверждали, будто он хорошо разбирался в литературе, любил пространно и красноречиво поговорить о ней. Знал французский, немецкий, польский, русский языки и читал произведения в оригинале. Это он снабжал Собаньскую книжными новинками. М. Ф. де Рибас вспоминал, что Собаньская рассказывала его матери, как она вместе с Пушкиным читала «Адольфа» Констана. Но ещё раньше вспомнил об этом Пушкин: Дорогая Элленора, позвольте мне называть вас этим именем, напоминающим мне и жгучие чтения моих юных лет, и нежный призрак, прельщавший меня тогда…
Выходит, что Собаньская была двойным агентом. Я не сильна в детективном жанре, но, по моему разумению, двойных агентов не бывает. Те, которых так называют, служат одному хозяину. Но прикидываются, что работают на другого. Запутывают, ловчат, обманывают ложными или пустыми показаниями. Вот образчик такого рода донесения. Его писал Витт, диктовала или редактировала Собаньская. Письмо работодателю — императору Александру: Стараясь открыть причину недовольства там, где оно могло открыться (именно это и поручил император Витту — выяснять настроения польского населения), мои агенты, по счастливой случайности, напали на след гораздо более важного и серьёзного дела, могущего иметь самые печальные последствия, так как тут речь идёт, государь, о спокойствии Вашего императорского величества. В письме, посланном мною генералу Дибичу в Варшаву, я коснулся слегка одного дела, по поводу которого он желал иметь от меня некоторые сведения, но в это время я сам был ещё по пути к открытию истины, теперь же имею все сведения, знаю также цель, которую желают постигнуть, и потому осмеливаюсь просить Ваше величество аудиенции, так как дело касается вещей, которые не могут быть переданы письменно и которые возможно сообщить лишь Вашему императорскому величеству — Вы будете, государь, на пути к разъяснению многих событий.
Витт ловчил — во-первых, он хорошо был осведомлён о деятельности Польского патриотического общества. Неслучайно великий князь Константин, польский наместник, не только не доверял ему, но считал, что за ним самим надобно иметь весьма большое и крепкое наблюдение. Во-вторых, ещё в июне 1825 года Витт уже получил от Бошняка достаточно информации о заговоре декабристов. Примечательно, что Мицкевич (видимо, от Собаньской) знал подоплёку этой сложной игры Витта. Об этом он сказал в своей парижской лекции: …граф не спешил предупредить правительство. С одной стороны, он хорошо знал генерала Аракчеева, в ту пору облечённого императором всей полнотой власти. С другой стороны, хотел выяснить, каковы планы заговорщиков и средства, которыми они располагали. Но донос Шервуда заставил Витта послать рапорт в Петербург[329]. Родственник Витта, Ксаверий Браницкий, даже утверждал, что генерал вначале подумывал примкнуть к заговору. Будто бы он наивно полагал, что речь шла всего лишь о свержении великого визиря Руси всесильного Аракчеева.
В рапорте Александру Витт умышленно называет заговор всего лишь следом. Он стремился переключить внимание императора на гораздо более важное и серьёзное дело, могущее иметь самые печальные последствия, грозящее спокойствию страны и государя. Чтобы — и это совершенно очевидно — замотать польский след. Эту двусмысленную роль Витт играл до конца своей агентурной деятельности. И для него, и для Собаньской она кончилась после устранения Витта с должности варшавского военного губернатора. Великий князь Константин раскрытие Виттом заговора 1825 года назвал грязнейшей интригой. Ему было ясно, что генерал декабристами прикрыл польских заговорщиков. Об этом он писал в письме Дибичу 14 декабря. Константин был убеждён, что и декабристов-то Витт выдал не из преданности русскому царю, а чтоб показать своё усердие, выслужиться перед ним. Он — лгун и негодяй в полном смысле этого слова, каналья, подобно которой свет не видывал, без веры, без правил, без чести. Он то, что французы называют un gibier de potence{8}. Русские о таких говорят: по нём виселица плачет. От этой печки — сомнительной агентурной деятельности Витта — и начнём танцевать, расследуя дело Собаньской о шпионаже.
Прекрасная клиентка Рылеева
Эта странная история записана декабристом Николаем Бестужевым в сибирской ссылке.
Однажды — ещё в Петербурге, до декабрьских событий, — он сочинил повесть о влюблённом человеке. В ней было всё, что требовал романический жанр того времени, — страдания, томление страсти, отчаяние неразделённой любви. По заведённому обычаю Рылеев и братья Бестужевы — Николай и Александр — читали друг другу свои новые произведения, обсуждали их, если было нужно — дорабатывали. В тот раз первым слушателем только что законченной повести был Рылеев. Когда Бестужев дошёл до описания всех ужасов бессонницы, самозабвения и покушения на самоубийство своего героя, Кондратий вдруг вскричал дрожащим голосом:
— Довольно, довольно! — Слёзы катились у него градом.
Николай удивлённо спросил:
— Что с тобой сделалось?
Рылеев порывисто вскочил, нервно походил по комнате. И стал рассказывать…
Исповедь Рылеева
В конце 1823 года в Петербурге появилась госпожа К. Говорили, что она приехала хлопотать по уголовному делу мужа. Рылеев, отставной артиллерии подпоручик, служил на выборной должности дворянского заседателя в Петербургской палате уголовного суда. В 1823 г. был принят в члены Северного общества декабристов, в начале 1824 г. был избран в Верховную думу. И фактически стал руководителем общества. Примерно в это время представители Патриотического польского союза через князя Ходкевича вступили в переговоры с Южной управой о совместной подготовке восстания. Пытались установить связь и с руководством северного отделения. Эти уточнения очень существенны для объяснения дальнейших событий.
Судя по всему, госпожа К. была весьма знатной дамой — многие важные люди помогали ей в её деле, уговаривали Рылеева заняться им. Видимым основанием для этого выбора была пресловутая честность, неумолимость Рылеева к взяточникам и крючкотворам. Он распутывал самые сложные процессы, прославился как неподкупный защитник униженных и обездоленных — крестьян, мещан и вообще неимущего люда. Госпожа К. не относилась к этой категории. Поэтому Рылеев долго не соглашался взять на себя это весьма запутанное дело.
Оно тянулось уже несколько лет, обросло бюрократической перепиской провинциальных судебных ведомств, большинство документов было на польском языке. Рылеев хотя и понимал по-польски (язык он выучил в 1815—1816 гг. в Виленской губернии, где стояла его батарея), но не владел им в совершенстве. Словом, у него было достаточно причин для отказа. Просители продолжали настаивать, уговаривали с помощью друзей Рылеева встретиться с истицей. А для застенчивого, неловкого в общении с женщинами Кондратия Фёдоровича это было тяжким испытанием. В конце концов он согласился. Друзья привели его к госпоже К.
Я увидел женщину во всём блеске молодости и красоты, ловкую, умную, со всеми очарованиями слёз и пламенного красноречия, вдыхаемого её несчастным положением. Моё замешательство увеличилось ещё более неожиданностью моих впечатлений, видя в первый раз в жизни столько привлекательного в этой необыкновенной женщине. Однако же после первого посещения я не унёс с собою никакого постороннего чувствования, кроме желания ей помочь, если это можно [330] .
Встречи продолжались. Прекрасная клиентка сердечностью, непринуждённостью сумела расположить к себе Рылеева. Он перестал дичиться. Исчезла застенчивость. Он стал держаться с ней так, как с другими — просто и дружелюбно. В ней он подметил какую-то заманчивую томность, милую рассеянность, особое к себе внимание, стремление угождать, во всём следовать его советам. О делах почти не говорили. Она рассказывала о своей жизни, о негодяе-муже. Её откровенность совсем растопила его. Она была очень начитанна. Они увлечённо беседовали о литературе. Стоило ему упомянуть о какой-нибудь неизвестной ей книге, как она тут же появлялась у неё на столе. Она просила его стать её литературным наставником. Всё, что он предлагал, нравилось ей. Они обсуждали прочитанное, иногда она не соглашалась с ним, но выражала своё мнение деликатно, тонко, с бдительной щекотливостью щадила его самолюбие. Иногда очень ловко переводила разговор на политику. Восхищалась его справедливостью, благородством мыслей. Свои комплименты расточала ему не напрямую, а через друзей. А они мило подтрунивали над Рылеевым, говорили ему, что он совершенно покорил очаровательную пани.
Я стал находить удовольствие в её обществе <…>, я предавался вполне и без опасения тем впечатлениям, которые эта женщина на меня производила, и, наконец, к стыду моему, я должен тебе сказать, я стал к ней неравнодушен… Вот моя повесть, вот что лежит у меня на совести.
Чистый, неискушённый в любовных делах Рылеев страдал невообразимо. Уже пять лет, как он был женат на дочери острогожского помещика, у него была маленькая дочка Настенька. Рылеев был счастлив в семейной жизни. Милая, добрая Наталья Михайловна с кротким смирением переносила постоянные отлучки мужа по делам, вечное столпотворение в доме — то петербургские товарищи по тайному обществу, то из провинции — застольничали, курили трубки, спорили до утра, оставались на ночлег. Наталья Михайловна не уходила, молча слушала их разговоры. Кондратий поощрял интерес жены к его делу. Исподволь готовил и к самому худшему. Жили они небогато, на старинный лад — полумещанское-полукрестьянское убранство небольшой квартиры с белоснежными кисейными занавесочками на окнах, с бальзамином и геранью на подоконниках, домоткаными половиками на натёртом мастикой полу, образами в углу и горящей лампадкой. Для полного уюта — канарейка в клетке. По воскресеньям Рылеевы устраивали «русские завтраки». Камчатая скатерть на столе, деревянные ложки, солонки с петушиными гребешками, расписные блюда. Еда простая, исконно русская, — каша, кислая капуста, кулебяка, ржаной хлеб, квас, водка. Всё как в старину, во времена древней новгородской вольности. Рылеев любил об этом разглагольствовать — о вреде чужестранного влияния, ибо оно потемняет священное чувство любви к отечеству. И не римский Брут, а Вадим Новгородский должен служить русским образцом гражданской доблести!
И вдруг в эту счастливую, освящённую высокой целью жизнь вторглось негаданное, нежданное чувство — любовь.
— Может быть, с её стороны одно только желание быть любезною, желание, свойственное всем женщинам, особенно полькам. Может быть, и ты слишком строг к себе и обманываешься в своих чувствованиях, и желание пользоваться обществом приятной женщины принимаешь за другое? — пытался образумить Рылеева Бестужев.
— Нет, как я ни неопытен, но умею различать и то и другое. Я вижу, каким огнём горят её глаза, когда разговор наш касается чувствований; мне нельзя не видеть, нельзя скрыть от самого себя того предпочитания, которое она, зная мою застенчивость, самыми ловкими оборотами и так искусно умеет дать мне перед другими. Если она одна только со мною, она задумчива, рассеянна, разговор наш прерывается, я теряюсь, берусь за шляпу, хочу уйти, и один взгляд её приковывает меня к стулу. Одним словом, она даёт мне знать о состоянии своего сердца и, конечно, давно знает, что происходит в моём.
— Всё это мне слишком странно именно потому, что случилось с тобою, — продолжал парировать Бестужев. — Ты ни хорош, ни ловок, ни любезен с женщинами. Твоего поэтического дарования недостаточно для женщины, чтобы влюбиться. Узнав тебя короче, верно, что можно полюбить и любить очень; но такая быстрая победа над светской женщиной с первого раза невероятна. Для этого надобны блестящие, очаровательные качества. Стихи, добродетель, правдивость, прямодушие любят, но не влюбляются в них, и если это с её стороны кокетство, которым она старается закупить своего судью, то…
— Нет, она не кокетка, — прервал он с чувством, — нет ничего естественнее слов её, движений, действий. Всё в ней так просто и так мило!..
— И тем опаснее!
Бестужев исчерпал все аргументы. Остался последний. Он озорно улыбнулся и с грубоватой мужской откровенностью посоветовал другу то, что советуют в таких случаях мужчины. Про себя решил: «Дай-ка я его испытаю!»
— Почему бы тебе не воспользоваться таким случаем, какого многие или, лучше сказать, никто не поставил бы в зазор совести.
— Боже меня от этого сохрани! Оставя то, что я обожаю свою жену и не понимаю, как другое чувство могло закрасться в моё сердце; оставя все нравственные приличия семейного человека, я не сделаю этого, как честный человек, потому что не хочу воспользоваться её слабостью и вовлечь её в преступление. Сверх того, не сделаю как судья. Ежели дело её справедливо, на совесть мою ляжет, что я, пользуясь её несчастным положением, взял такую преступную взятку; ежели несправедливо — мне или надобно будет решить его против совести, или, решив его прямодушно, обмануть её надежды.
Бестужев упрекнул друга в непоследовательности. Суть его отповеди была примерна такова: «Ты действуешь по правилу: чтоб и волки сыты, и овцы целы. Желаешь оставаться верным своим правилам, зачем же продолжаешь с ней встречи? Хочешь быть верным жене, но беспрестанно подвергаешь себя искушению. В таком состоянии — до пропасти всего один шаг — и все твои понятия чести и совести рухнут!» Затем шутливо добавил: «Видно, ты затем и не велишь приезжать сюда жене своей, чтобы продолжить время твоего заблуждения!»
Рылеев смиренно ответил, что хотя приговор друга жесток, но он имеет полное право так думать. Не для свободы своих дурачеств удерживает он жену в деревне, а чтоб не сделать её свидетельницей своих страданий и борьбы с совестью.
— Теперь ты понимаешь, — почему повесть твоя стрелой вошла в моё сердце, вот почему я открылся перед тобою.
Разговор с другом не остудил его горячую голову. Он, поэт гражданской лирики, вдруг запел соловьём. Всего шесть любовных посланий — во всём его творческом наследии, и все шесть посвящены очаровавшей, околдовавшей его польке! Эта неожиданная страсть подняла его на такие высоты поэзии, что, задержись он на них, сбылось бы предсказание Пушкина: Рылеев будет министром на Парнасе!..
Я не хочу любви твоей, Я не могу её присвоить; Я отвечать не в силах ей, Моя душа твоей не стоит…А дальше — отзвуки их бесед. Красавица пыталась внушить ему христианские добродетели. Он возражал ей:
Прощаешь ты врагам своим — Я не знаком с сим чувством нежным И оскорбителям моим Плачу отмщеньем неизбежным. Лишь временно кажусь я слаб, Движеньями души владею; Не христианин и не раб, Прощать обид я не умею…Зароненное в душу поэта любимой женщиной зерно христианского всепрощения проросло не сразу. Потом в тюрьме, когда было столько времени для раздумий, когда не было никаких сомнений в ожидавшей его участи, он вспоминал свою лживую мучительницу, их задушевные беседы, её слова о необходимости прощать врагам обиды. Он до конца жизни был уверен в её вероломстве, но сумел простить. На пороге в другой мир Рылеев стал христианином. На кленовых листьях выколол иголкой стихотворение и сумел передать его князю Е. П. Оболенскому в соседний каземат.
Ты прав: Христос — спаситель наш один, — И мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, Кто твёрдо шествует к Христовой чаше…Какое неожиданное взросление человеческого духа! Этот приобретённый — в отмеренные судьбой мгновения жизни — дар завещал в последнем письме к жене. У него было всего лишь одно предсмертное желание: Настеньку благословляю… Старайся перелить в неё твои христианские чувства, и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни…
Стихотворение «К N. N.» — исповедь самому себе в часы бессонницы. Без всякого сомнения, оно не попало к той, кому адресовано. Не мог же он объяснить ей единственную — не нравственным долгом перед семьей рождённую — причину отказа от её любви: Любовь никак нейдёт на ум: / Увы! моя отчизна страждет, — / Душа в волненьи тяжких дум / Теперь одной свободы жаждет.
Днём он брал себя в руки — будни были полны забот. Редакторская работа в «Полярной звезде», встречи с соратниками, заседания Думы, судейские обязанности. А по ночам вновь кошмары, борьба со страстью, слёзы бессилия. Он лишился сна, стал говорить вслух с самим собой. И вновь хватался за перо — чувства звенели незнакомой ему музыкой любви.
Покинь меня, мой милый друг! Твой взор, твой голос мне опасен: Я испытал любви недуг, И знаю я, как он ужасен… Но что, безумный, я сказал? К чему укоры и упрёки? Уж я твой узник, друг жестокий, Твой взор меня очаровал! Я увлечён своей судьбою, Я сам к погибели бегу: Боюся встретиться с тобою, А не встречаться не могу.Рылеев продолжал ездить в дом К. Казалось, все сговорились потворствовать его страсти. Когда он несколько дней не появлялся у неё, приезжал кто-нибудь из друзей и почти насильно увозил его к ней. То, чего он так боялся, свершилось. Прекрасная госпожа К. сумела соблазнить поэта. Он удивлён — куда исчезли страдания, грусть, тревоги? Он полон счастья. Любовь окрылила, возродила, душа поёт — рождается «Элегия».
Исполнились мои желанья, Сбылись давнишние мечты: Мои жестокие страданья, Мою любовь узнала ты! Себя напрасно я тревожил, За страсть вполне я награждён; Я вновь для счастья сердцем ожил, Исчезла грусть, как смутный сон. Так, окроплён росой отрадной, В тот час, когда горит восток, Вновь воскресает ночью хладной Полузавялый василёк.Следующее стихотворение «К N. N.»[331] близко по настроению, мыслям, чувствам к предыдущему. Оно раскрывает и тайну их сближения.
Когда душа изнемогала В борьбе с болезнью роковой, Ты посетить, мой друг, желала Уединённый угол мой. Твой голос нежный, взор волшебный Хотел страдальца оживить, Хотела ты покой целебный В взволнованную душу влить. Сие отрадное участье, Сие вниманье, милый друг, Мне снова возвратили счастье И исцелили мой недуг…Я думаю, вы уже догадались, кто была эта женщина. Конечно же, это наша Мата Хари — Каролина Собаньская. Нарисованный Бестужевым портрет соответствует её облику, всему тому, что мы знаем о ней, — красивая, ловкая, вкрадчивая и сердечная, умная и начитанная, с горящим, огненным взглядом. И ещё — то, о чём писал А. Раевский, что видел в ней Пушкин: всё в ней так просто и так мило! Полька, приехала в Петербург по тяжбе мужа. Ей необходимо распутать это обременённое неизвестными нам уголовными мотивами дело, чтобы наконец получить развод. Она действительно развелась вскоре — в 1825 году. Но семейные хлопоты — всего лишь предлог и для появления в столице, и для знакомства с Рылеевым. Цель у неё была иная, столь же высокая, как у Рылеева, — Патриотическое общество Польши поручило ей установить связь с петербургскими заговорщиками. Как видим, чтобы добиться этого, она даже пошла на связь с Рылеевым. Ей поэт посвятил ещё одно стихотворение — «В альбом T. С. К». Содержание его позволяет считать первым в этом лирическом цикле. Здесь ещё нет ни болезненных укоров совести, ни мук раздирающей душу страсти. Вместо интимного «ты» последующих стихотворных посланий присутствует вежливое «вы».
Своей любезностью опасной, Волшебной сладостью речей Вы край далёкий, край прекрасный Душе напомнили моей. Я вспомнил мрачные дубравы, Я вспомнил добрых земляков, Гостеприимные их нравы И радость шумную пиров. Я вспомнил пламенную младость, Я вспомнил первую любовь. Опять воскресла в сердце радость, Певец для счастья ожил вновь…Но вот незадача — исследователь творчества поэта Владимир Брониславович Муравьёв расшифровывает инициалы незнакомки как Теофилия Станиславовна. К Рылееву поступило тяжебное дело некоей Теофилии Станиславовны К. (фамилия не известна), — отмечает Муравьёв в комментариях к сборнику избранных произведений Рылеева. То же повторяет в своей книге о Рылееве «Звезда надежды». В общем-то, какая-то неувязка. Муравьёв называет имя и отчество этой женщины[332], не указывая фамилии. А это и выдаёт его с головой — он произвольно расшифровал инициалы в стихотворении Рылеева. Просто невозможно представить, чтобы престарелый М. И. Муравьёв, на которого ссылается автор, помнил эту даму не по фамилии, а по имени-отчеству. В тридцатых годах прошлого века в светском обществе обычно употребляли обращение к дамам по титулу и фамилии. Доказательством — дневник Долли Фикельмон. В некоторых, особенно польских, документах Текла-Каролина Собаньская фигурирует под своим первым именем — Текла. У её отца, как у всякого католика, тоже было несколько имён — Адам-Станислав-Лаврентий. Значит, на русский манер Собаньская могла величаться Теклой Станиславовной. Возможно, в конспиративных целях, она именно так и представилась Рылееву. Таким образом, инициалы стихотворения можно расшифровать как Текла Собаньская или Текла-Станислава-Каролина. Я убеждена — госпожа К. в рассказе Николая Бестужева и есть Собаньская.
Чем же закончилась история с прекрасной клиенткой Рылеева? К сожалению, члены тайного общества навели о ней справки, узнали о её связи с Виттом, давно им известном агенте полиции. И, не разобравшись в сути дела, обвинили её в шпионаже в пользу российского правительства. Предупредили Рылеева. Он поверил. Негодование пылкого Кондратия Михайловича было ужасным. Он хотел немедленно ехать к ней, высказать ей своё презрение. Александр и Николай Бестужевы остановили его. Успокаивали, убеждали не делать этого, ибо тем самым он сразу выдаст себя. Рассудив здраво, он согласился с друзьями. Стал играть роль ни о чём не подозревающего человека. Вероломство любимой женщины придало ему силы. С тех пор он держался с ней свободней и спокойнее. И продолжал, по словам Бестужева, хладнокровно наблюдать за этой женщиной.
Но по мере того, как он делался свободнее и показывал ей более внимания, она всё более и более устремлялась к своей цели. Томность её чувствований заменилась выражением пламенной любви к отечеству; все её разговоры клонились к одному предмету: к несчастиям России, к деспотизму правительства, к злоупотреблениям доверенных лиц, к надеждам свободы народов и т.п. Рылеев мог бы обмануться сими поступками: его открытое сердце и жаркая душа только и испытывали сии ощущения. Но он был предостережён, и уже никакие очарования, никакие обольщения не выманили бы из груди тайны, сокровища, которые он ставил дороже всего на свете, и обманщица в свою очередь осталась обманутою…
В марте 1824 г. Рылеев оставил службу в Уголовной палате и перешёл на должность начальника канцелярии в Российско-американской компании в Петербурге. Следовательно, уже больше не мог заниматься тяжбой госпожи К. Так печально завершилась миссия Собаньской. Возможно, пылкая полька на самом деле была немного увлечена Рылеевым. Но он-то очевидно попал в сети обворожительной Каролины. И стал ещё одним поэтом, воспевавшим её очарование. Она была достойна того.
Не мытьём, так катаньем!
Никто из друзей, из тех немногих польских соратников, кто знал о истинной роли Собаньской, не мог защитить её — она была глубоко законспирированной. Слишком много было предательств, несдержанности, неосторожной болтливости, в конечном счёте приведших к преждевременному раскрытию заговора. Никто тогда не мог предвидеть исхода готовившегося восстания. В случае его поражения поляки намеревались продолжать борьбу за освобождение Польши. Что они и сделали после неудачной попытки декабристов. Собаньская была необходима Польше для дальнейших битв. Среди этих немногих, знавших правду о Собаньской, был князь Антоний Яблоновский, видный деятель Патриотического общества. По сведениям С. С. Ланды, возлюбленный Собаньской, Витт действительно ревновал Собаньскую к князю Яблоновскому. Но были ли отношения Каролины с князем больше, чем деловыми, нам пока неизвестно. В начале 1826 г. генерал арестовал Яблоновского и лично его допрашивал. За «отсутствием» улик вскоре отпустил его. Может, просто хотел припугнуть соперника.
Эта ниточка — связь с князем Яблоновским — вытянула весьма прелюбопытную историю. Кое-какие подробности почерпнула из «Всеподданнейшего доклада комиссии для изысканий о злоумышленных обществах», представленного Николаю I[333]. В 1823 г. Южная директория начала переговоры с Польским патриотическим союзом о совместной деятельности. Поляки через Крыжановского изложили свои требования — отделение Польши от России, восстановление её территорий в прежних границах[334]. Южное общество выставило свои условия — польские повстанцы должны заручиться поддержкой Литовского корпуса и начать восстание в Польше одновременно с Россией; всеми средствами препятствовать возвращению цесаревича Константина в Россию; после победы установить в Польше республиканское правление. Связь осуществлять через особо доверенных комиссаров. От Южного общества таковыми были избраны Сергей Муравьёв и Михаил Бестужев-Рюмин, от Польского патриотического союза — Гродецкий и Чаркосский, заменённый позднее князем Яблоновским. В последнее время сам Пестель с князем Сергеем Волконским вёл переговоры с поляками. Представители Северного и Южного обществ собрались наконец в Петербурге для переговоров о соединении. Председательствовал директор Северной управы князь Трубецкой. Пестель спокойно, властно излагал позицию южан. Избрание одного верховного правителя и директора обеих управ. Совершенное и беспрекословное повиновение оному. Принятие общей конституции и программы незамедлительных действий: низвержение царя, создание временного правительства. Под конец самый щекотливый вопрос — об истреблении всех членов императорской семьи. Великих князей с жёнами и детьми тоже. О кровопролитии Пестель говорил очень хладнокровно. Его речь ужаснула присутствующих. Трубецкой пытался возразить: «Но ведь это же злодейство! Какой ужас произведёт сие действие в народе! Какое вызовет отвращение к убийцам! Да и готова ли Россия к подобным переменам?!»
Пестель возражал: революционные перемены уже начались в Европе, повсюду брожение умов — от Португалии, Англии до России, Турции. Спорили долго, о конституции Никиты Муравьёва, о конституции Пестеля — «Русская правда». Маленький, плотный человек удивительно напоминал другого диктатора, недавно в бозе почившего на острове Св. Елены. Ему не хватало только треуголки и серой шинели! Во всём остальном поразительное сходство — такой же жёсткий, властный, неумолимый. Он вынул из портфеля расчерченную Бестужевым-Рюминым карту Российской империи. На ней были обозначены новые административные области будущей Российской республики со столицей в Нижнем Новгороде. Польша находилась за рубежом. Рылеев побледнел и закричал:
— Никому не позволю играть судьбой моей родины!
Поддержали и другие: «Кромсать Россию! К чёрту вашу республику! Предатели! Враги отечества. Долой Пестеля! Второго Бонапарта!»
Кюхельбекер вскочил и разорвал карту. Трубецкой пытался водворить порядок. Как можно спокойнее возразил:
— Отторжение исконно русских территорий, на которые претендует Польша, многим придётся не по душе…
— Слово уже дано полякам, на то была воля Южного общества, — отрезал Пестель.
На этом самом жарком моменте спора и оставим наших заговорщиков. Замыслу декабристов о цареубийстве не суждено было сбыться. Но идея эта, как, впрочем, и многие другие декабристские планы, заимствована и осуществлена другим российским Наполеоном — Лениным.
Поляки очень быстро проведали об этом бурном совещании в Петербурге. Встревожились: главная цель — освобождение Польши из-под власти России, воссоздание независимого государства — под угрозой. Именно эта цель заставила их пойти на сближение с русскими заговорщиками. Поляки решили действовать самостоятельно. В обход нелицеприятного Пестеля. Князь Яблоновский потребовал от Пестеля сообщить имена главных руководителей Северного общества. Специально выделяю эту фразу. Этому факту, отражённому в «Всеподданнейшем докладе комиссии…», до сих пор не придавали особого значения. Я в нём вижу ключик, отмыкающий историю с прекрасной клиенткой Рылеева. Яблоновский обещал Пестелю взамен назвать имена польских руководителей. Поляки, более ловкие и изворотливые, рассчитывали сами найти общий язык с северянами. Пестель ответил уклончиво. Он не имел права выдавать своих. Поляки нашли спасительный вариант — женщина! Вот кто поможет им! Неслучайно о ней сложена русская поговорка: «Не мытьём, так катаньем, а своё возьмёт». Собаньская с её неотразимыми чарами была избрана на роль катальщицы. Смысл этой присказки совсем позабыт — давно уже не катают бабы выстиранное бельё.
Как я говорила, Рылеев к этому времени стал фактическим руководителем Северного общества. Он был и главным противником отделения Польши от России. Каролина не смогла обкатать неподкупного Кондратия. Но то, что не удалось женщине, сумел сделать поэт.
7 ноября 1824 г. освобождённый из виленской тюрьмы Мицкевич вместе с товарищами по обществу филоматов Франтишком Малевским и Юзефом Ежовским прибыл в Петербург. Здесь должна была решиться их дальнейшая судьба. Провидение очень странным образом пришло им на помощь — в этот день в столице произошло одно из самых опустошительных наводнений. То самое, которое вошло в сюжет «Медного всадника». Наводнение причинило огромную разруху. Властям было не до литовских изгнанников. Предоставленные самим себе, они спешили завязывать знакомства. Уже очень скоро Мицкевич близко сошёлся с Александром Бестужевым и Рылеевым. К репрессированным филоматам декабристы отнеслись с полным доверием. Мицкевич особенно подружился с Рылеевым. Кондратий Фёдорович — натура страстная, быстро воспламеняющаяся. Польский поэт покорил его талантом, божественным даром импровизации, честной вольнолюбивой душой, зажигательными речами о свободе Польши, об объединении всех славян. И внушал, внушал ему мысль об освобождении Польши. Кто знает, будь восстание успешным, возможно, Польша и получила бы независимость из рук новых диктаторов. Впрочем, и Рылеев обворожил Мицкевича светлым духом. Но дружба с ним Мицкевича, по крайней мере вначале, была не столь бескорыстной, как считают биографы обоих поэтов. Мицкевич, бесспорно, искренно восхищался героями Северного и Южного обществ. Позднее в Париже он расскажет о них слушателям коллежа де Франс: Тайные общества состояли из самых благородных, самых деятельных, восторженных и чистых представителей русской молодёжи. Никто из них не преследовал личных интересов, никто не был движим личной ненавистью… Заговорщики действовали в открытую. Их безупречная честность всегда будет вызывать восхищение. Пятьсот человек, а может быть и больше, принимали активное участие в заговоре. Это были люди всех чинов и рангов. В течение десяти лет они общались друг с другом в стране, находившейся под надзором сильного и подозрительного правительства, и, однако, никто не выдал заговорщиков. Больше того, в Петербурге офицеры и чиновники собирались в квартирах, окна которых выходили на улицу, и никому не удалось установить цели их собраний[335].
Новый, 1825 год три поляка встречали с Рылеевым и Александром Бестужевым. Подняли бокалы и провозгласили тост за грядущее счастье и свободу.
Власти уже приняли решение — отправить Мицкевича, Малевского и Ежовского в Одессу. А Витту — попечителю Одесского ришельевского лицея — предписывалось: определить их туда профессорами. Близорук же был Александр I — давать крамольникам кафедру для просвещения молодых умов! Хитрая лиса Витт оказался сообразительней императора — в октябре того же 1825 года добился их удаления из Одессы. Недолго литовские изгнанники наставляли слушателей лицея. Бестужев и Рылеев снабдили друзей рекомендательными письмами к своим одесским соратникам. Одним из них был их приятель, сотрудник «Полярной звезды» и товарищ по борьбе (по крайней мере, так считали Бестужев и Рылеев) поэт Василий Иванович Туманский.
Рекомендую тебе Мицкевича, Малевского и Ежовского. Первого ты знаешь по имени, а я ручаюсь за его душу и талант. Друг его Малевский — тоже прекрасный малый. Познакомь их и наставь; да приласкай их, бедных… Будь здоров и осторожен (подч. мною. — С. Б.) и люби нас. Рылеев то же говорит и чувствует, что я. Твой Александр.
Вот такое доверие и любовь сумели завоевать поляки в сердцах северных заговорщиков за неполных три месяца знакомства. Рылеев не удержался и приписал к письму Бестужева: Милый Туманский. Полюби Мицкевича и друзей его Малевского и Ежовского: добрые и славные ребята. Впрочем, и писать лишнее: по чувству и образу мыслей они друзья, а Мицкевич к тому же и поэт — любимец нации своей.
Через несколько лет Мицкевич посвятит им, чистым рыцарям свободы, стихотворение «Русским друзьям»:
И голос мой вы все узнаете тогда: В оковах ползал я у ног тирана, Но сердце, полное печали и стыда, Как чистый голубь, вам вверял я без обмана.В нём он помянул светлую память своего собрата, дважды повешенного Кондратия.
…Светлый дух Рылеева погас. Царь петлю затянул вкруг шеи благородной, Что, братских полон чувств, я обнимал не раз Проклятье палачам твоим, пророк народный!Долго ли Витт позволит себя дурачить этой бабе?
В 1828 г. началась русско-турецкая война. Генерал Витт был назначен командиром резервных войск в армию Дибича. В апреле следующего года произведён в генералы от кавалерии. В сентябре того же года за отличное во всех отношениях состояние резервных войск пожалован вензелями его величества на эполеты. Каролина после мобилизации Витта приехала в Петербург. В ноябре 1830 г. началось польское восстание. 3-й резервный кавалерийский полк, которым командовал Витт, был переброшен в Польшу. За военные подвиги в сражениях против мятежников генерал получил орден Белого Орла и Св. Георгия 2-й степени. В августе 1831 г. назначен варшавским военным комендантом. Собаньская тут же перебралась к нему в Варшаву. По этому поводу царь Николай выразил Дибичу своё неудовольствие: Женщина сия из самых умных, ловких, но и интригами своими опасная, в особенности же там, где ныне, при всех связях родства. Император требовал от Паскевича, чтобы она уехала из Варшавы, если откажется — выслать! Витт тем временем женился на Собаньской. Известие об этом разгневало Николая. Паскевич пытался протолкнуть генерала в вице-председатели новоизбранного временного правительства. Царь отказал. Назначить Витта вице-председателем никак не могу, ибо, женившись на Собаньской, он поставил себя в самое невыгодное положение, и я долго его оставить в Варшаве с нею не могу. Она самая большая и ловкая интриганка и полька, которая под личиной любезности и ловкости всякого уловит в свои сети, а Витта будет за нос водить, в смысле видов своей родни. И выйдет противное порядку и цели, которую иметь мы должны, т.е. справедливость и уничтожение происков и протекции.
Паскевич пытался успокоить императора — об их браке никто не знает, и они остаются теперь в прежнем положении, то есть что они тайно обвенчаны. Наместник Польши убеждал — деятельность пресловутой польки полезна: …преданность её законному правительству не подлежит сомнению; она дала в сём отношении много залогов…
Напротив того, родственные связи госпожи Собаньской с поляками по сие время были весьма полезны. Наблюдения её, известия, которые она доставляет графу Витту, и даже самый пример целого польского семейства, совершенно законному правительству преданного, имеет здесь видное влияние [336] .
Последние строки из письма Паскевича императору, без сомнения, были внушены ему самим Виттом или Собаньской. То же самое она повторила в своём письме Бенкендорфу: …взгляды, всегда исповедовавшиеся моей семьёй, опасность, которой подверглась моя мать во время восстания в Киевской губернии, поведение моих братьев…
Собаньская вела себя неосторожно. Как я уже говорила, в эти трудные для Польши дни она помогала своим соотечественникам со всем жаром пламенной души (выражение Пушкина). Её акты милосердия снискали любовь и признание поляков. Польский эмигрант Будзыньский, возвращённый в Россию с её помощью, вспоминал о ней с благодарностью:
Грешила слабою женской натурой, но чувства польки никогда в ней не угасали. После взятия Варшавы, когда генерал Витт был назначен губернатором столицы, она спасла многих несчастных польских офицеров от Сибири и рудников… навещала госпитали, где раненые польские офицеры ожидали своей участи, и многим если не помогла освободиться, то усладила неволю и помогла в беде [337] .
О том же два других современника Т. Бобровский и А. Ивановский{9}:
…через Витта она добилась прощения и свободного возвращения многих особ, что вызвало к ней всеобщую любовь… Она была милой и доброй, и о ней можно сказать: всё ей простится, ибо она многих любила [338] .
Но не только милосердием занималась Собаньская в эти дни. Она взяла на себя опасную роль агитатора. Убеждала приунывших соотечественников не складывать оружия, продолжать борьбу. С этой целью приехала в Дрезден — один из центров польской эмиграции за границей. Русский посланник Шредер доносил самому Николаю I об общении Собаньской с укрывшимися здесь руководителями повстанцев. Письмо Шредера не сохранилось. Возможно, оно осталось в архивах русского губернаторского ведомства в Польше после революции 1917 г. Ибо Николай переслал его Паскевичу в Варшаву:
Посылаю тебе оригиналом записку, мною полученную из Дрездена от нашего посланника, самого почтенного, надёжного и в особенности осторожного человека; ты увидишь, что моё мнение насчёт Собаньской подтверждается.
Долго ли граф Витт даст себя дурачить этой бабе, которая ищет одних только своих польских выгод под личиной преданности, и столь же верна г. Витту как любовница, как России, быв её подданная? (Подч. мною. — С. Б.) Весьма хорошо бы было открыть глаза графу Витту на её счёт, а ей велеть возвратиться в своё поместье на Подолию[339].
Надо отдать должное проницательности Николая. И коли сам царь усомнился наконец в преданности Собаньской России, можно не сомневаться — так оно и было. Николай был не из тех, кто опрометчиво бросает слова на ветер! Его сомнения подтверждались и донесением сыщиков III отделения.
Записка управляющего III отделением А. Н. Мордвинова шефу жандармов Бенкендорфу (Петербург, 19 октября 1832 г.):
…Но частные известия из Варшавы поистине отвратительны. Поляки и польки совсем завладели управлением. Образовалось что-то вроде женского общества под председательством г-жи Собаньской, продолжающей иметь большую силу над графом Виттом. Благодаря этому главные места предоставляются полякам, и именно тем, которые наиболее участвовали в мятеже. Остальных не призывают к делу, и они жалуются, что оставлены в покое. Новости эти не с ветру, а верны вполне. Очень печально, а кто виноват? Один человек. Смените его кем-нибудь другим, кто смыслит в делах управления и умеет держать себя самостоятельно, и всё пойдёт гораздо лучше, и нам нечего будет так тревожиться насчёт Польши… [340]
Паскевич не посмел ослушаться царя. Собаньской было предложено покинуть Варшаву. Она уехала в имение своей сестры Алины Монюшко в Минской губернии. Впервые в жизни фортуна отвернулась от Каролины. Щекотливое положение ссыльной было ударом по самолюбию. Но это было не самым важным — удалённая от Витта, она больше не могла ни влиять на судьбу репрессированных поляков, ни исполнять обязанности агентки Патриотического союза, ни воскрешать боевой дух польских патриотов. У неё оставалась последняя надежда — попытаться оправдаться перед Бенкендорфом и царём. Из усадьбы сестры она пишет длинное письмо шефу жандармов. Слава Богу, что сохранился этот единственный аутентичный документ! Он реставрирует её образ. Снимает чуждые наслоения с её изображения. И она предстаёт перед нами такой, какой была на самом деле, — прекрасная женщина с тонким дипломатическим умом, замечательно владеющая литературным стилем и приёмами риторики, саркастичная, мужественная, беззаветно преданная отчизне, исполненная презрения к поработителям. Это совсем иная Собаньская, мало похожая на ту, известную нам из поверхностных, полных недоброжелательства, зависти и порицания суждений современников. Увы! — таков земной удел ярких личностей! О ней судили-рядили, искажали и субъективно толковали факты её биографии, выливали на неё ушаты помоев. В результате родился образ ловкой, коварной, алчной к деньгам, продажной женщины-вамп, предательницы, за барыши служившей жандармской агенткой.
Мой генерал!
Его сиятельство наместник только что прислал мне распоряжение, полученное им от его величества относительно моего отъезда из Варшавы; я повинуюсь ему безропотно, как я бы это сделала по отношению к воле самого провидения.
Так начинается послание Собаньской к Бенкендорфу. Давайте попытаемся вместе внимательно прочитать его. Вникнем в тайный смысл слов, продиктованных её сердцем и умом. Облачённая в словеса мысль — для неё всего лишь оружие защиты. Защита предполагает борьбу. Не столько за себя, сколько за идею, которой она себя посвятила.
Да будет мне всё же дозволено, генерал, раскрыть вам сердце по этому поводу и сказать вам, до какой степени я преисполнена страданий, не столько даже от распоряжения, которое его величеству угодно было в отношении меня вынести, сколько от ужасной мысли, что мои правила, мой характер и моя любовь к моему повелителю были так жестоко судимы, так недостойно искажены.
Слова любви к царю — всего лишь вынужденный приём защиты — ловкий, элегантный, как в показном соревновании на рапирах с защитными колпачками. И колет, и не больно, и удивительно красивое, грациозное зрелище. Поединок продолжается. Умный и опытный противник принимает удары и, защищаясь, отступает.
Взываю к вам, генерал, к вам, с которым я говорила так откровенно, которому я писала так искренно до ужасов (!!!), волновавших страну, и во время них. Благоволите окинуть взором прошлое: это уже даст возможность меня оправдать. Смею сказать, что никогда женщине не приходилось проявлять больше преданности, больше рвения, больше деятельности в служении своему монарху, чем проявленные мною часто с риском погубить себя, ибо вы не можете не знать, генерал, что письмо, которое я писала вам из Одессы, было перехвачено повстанцами Подолии и вселило в сердца всех, ознакомившихся с ним, ненависть и месть против меня.
Попытаемся воспринять сказанное как необходимую издержку деятельности Собаньской — двойного агента. Жестокая судьба — свой среди чужих, чужой среди своих! Какого мужества, жуткого напряжения нервов, душевных сил требует от человека эта двойная игра! Как в хождении по канату, необходимо рассчитывать каждый шаг, каждое движение мускула, но и мысли тоже! Но посмотрим дальше, какие логические приёмы использует Собаньская в свою защиту. Сомнительная преданность России её семьи (вспомним — дядя Северин и его сын Вацлав эмигрировали в Вену, брат Лев последовал за ним, старший Генрик был верным другом Мицкевича, а значит — единомышленником, соратником, русофобом; только один брат Адам, женившись на русской, обрусел и верой и правдой служил царю; отец тоже находился на русской службе, но исполнял её в силу необходимости, все его интересы были сосредоточены на деятельности масонской ложи Астрея). Опасность, которой подверглась её мать во время киевского восстания, — ну и что из этого, скажем мы? Да, отец был предводителем киевского дворянства. Но и многие польские магнаты служили русскому царю — среди них такие до мозга костей патриоты, как Адам Ленский, князь Любомирский, князь Сапега, Роман Сангушко. Но вот ещё один, совсем сомнительный аргумент для доказательства её «лояльности» — 13-летние узы с человеком, самые дорогие интересы которого сосредоточены вокруг интересов его государя. Сколько здесь иронии и к подлецу Витту (ведь она использовала в своих целях, заставляла служить польской идее), и к себе тоже — сожительствуя с генералом, она в самом деле обвязала себя тяжкими узами, принесла свою жизнь в жертву интересам Польши. Об этом же — о презрении к подлому шпиону Генералу — говорил в «Барских конфедератах» Мицкевич (написанных, между прочим, в 1836 г., после развода Собаньской с Виттом). Умная — даже царь признавал это, одарённая, она не могла не понимать ничтожество характера своего вынужденного сожителя. Довольно близкий Витту человек, Брадке, так охарактеризовал Витта: Ни в чём не отказывать и никогда не сдерживать обещанного, обо всём умствовать и ничего не обследовать, всегда влюбляться и всякий раз ненадолго, всем говорить любезности и тотчас забывать о сказанном, таковы были главнейшие черты его ничтожного характера[341]. Собаньская фальшивила, когда признавалась Бенкендорфу: Вы знаете, что я порвала все связи и что дорожу в мире лишь Виттом. Мои привязанности, моё благополучие, моё существование — всё в нём, всё зависит от него. Эти слова продиктованы рассудком. Витт для неё всегда был лишь средством к достижению цели. Всё её существование было озарено, как ни высокопарно это звучит, служением родине. Когда у неё была отнята эта возможность, на сердце осталась лишь горечь: Вам известно, генерал, что у меня в мире больше нет ни имени, ни существования; жизнь моя смята, она кончена, если говорить о свете.
Следующий аргумент её преданности — совсем двусмысленный: …глубокое презрение, испытываемое мною к стране, к которой я имею несчастье принадлежать. Но принадлежала-то она к России, быв её подданная, как выразился Николай. Значит, самодержавную Россию, а не Польшу глубоко презирала Собаньская! И всё это вместе, по её мысли, должно было поставить её выше подозрений, жертвой которых она теперь оказалась.
Покончив с перечислением своих «заслуг» в прошлом, Собаньская переходит к настоящему моменту. Здесь её саркастическому пафосу может позавидовать самый талантливый публицист. Это даже не необыкновенная смелость, здесь та самая наглость, в которой её уличал Вигель. Она издевается над блестящей победой тирана, она угрожает ему.
Когда я приехала в Варшаву в прошлом году, только что был решён большой вопрос. Война была блестяще закончена, и якобинцы были приведены к молчанию, к бездействию. Это был перелом, счастливо начатый, но он не был завершён, он был только отсрочен (я говорю о Европе).
Само собой, — Европа приплетена сюда для дураков! А дальше ещё хуже — в прекрасной пани заговорила патриотка. Она шпарила, уже не стесняясь в выражениях.
Полька по имени, я, естественно, была объектом, на который здесь возлагались надежды тех, кто, преступные в намерениях и презренные по характеру, хотели спасти себя ценой отречения от своих взглядов и предательства тех, кто их разделял.
Это она николаевских приспешников называет презренными преступниками. Тех самых остальных, которых не призывают к делу, а они жалуются, как сетовал Бенкендорфу Мордвинов. Но, высказавшись, она сразу же опомнилась и вновь с макиавеллиевской ловкостью пытается весьма замысловатой фразой смягчить свой удар рапирой без колпачка.
Я увидела в этом обстоятельстве нить, что могла вывести из лабиринта, из которого ещё не было найдено выхода. Я поговорила об этом с Виттом, который предложил мне не пренебрегать этой возможностью и использовать её, чтобы следовать по извилистым и тёмным тропинкам, образованным злым духом.
О чём это она? О каком лабиринте без выхода и о какой нити? Что за извилистые и тёмные тропинки, образованные злым духом? Это же такая прозрачная метафора: злой дух — русское самодержавие, загнавшее в лабиринт Польшу. А они с Виттом сумели получить нить Ариадны и с её помощью выведут свою страну из ловушки. Известно, что Бенкендорф был ограниченным человеком, но неужели до такой степени тупым, что осмотрительная и тактичная Собаньская позволяет говорить ему в глаза такие страшные истины? Но опять заслоняется щитом — Виттом.
Все интересы моей жизни связаны, следовательно, только с Виттом, а его интересами всегда является слава его страны (какой — Польши или России?), и его государя. Это соображение, властвовавшее надо мной, заставило меня быть полезной ему (обратите внимание, как точно она выбирает слово — ему, т.е. не России!); не значило ли это быть полезной моему государю, которого моё сердце чтит как властителя и любит, как отца, следящего за всеми нашими судьбами.
В последней фразе — вновь ирония: Собаньская любит и чтит царя так, как того заслуживает властелин Польши, бдительно следящий за каждым шагом поляков! Витт в это время собирался с депутацией от Царства Польского в Петербург для изъявления благодарности государю за дарование Уставной грамоты. Составить делегацию было не так-то просто. Только благодаря дипломатии Собаньской удалось включить в неё представителей знатнейших польских фамилий и высшего духовенства. Паскевич, также не блестевший умом, был чрезвычайно доволен усилиями Витта и Собаньской и почёл своим долгом указать на это императору: Я никогда сего бы не ожидал, чтобы лучшие фамилии на сие согласились. Демагоги <…> выдумали, что мы будто бы депутатов подкупили, словом, сии компрометированы, и революционисты им не простят. Итак, сии фамилии теперь поневоле будут нам преданы. Граф Витт умел сие сделать; он, государь, Вам верой и правдой служит. Николай остался весьма доволен известием о депутации. Поспешил отблагодарить обоих — Паскевича и Витта: Весть о назначении депутации мне весьма приятна и делает честь удальству ген. Витта… Г. Витту скажи спасибо[342]. Собаньская прекрасно справилась с этой сложной миссией, надеялась тем самым усыпить бдительность царя. Но самые большие надежды возлагала на фанариотскую хитрость Витта — объяснит, выкрутится, заставит сменить царский гнев на милость, постарается доказать пользу её пребывания в Варшаве, убедит отменить решение о высылке.
Витт вам расскажет о всех сделанных нами открытиях. В это время решена была моя поездка в Дрезден, и Витт дал мне указания, какие сведения я должна была привезти оттуда. Всё это происходило между мною и им — мог ли он запятнать моё имя, запятнать привязанность, которую он ко мне испытывал, до того, чтобы сообщить г-ну Шредеру о поручении, которое он мне доверил. Он счёл, однако, нужным добавить в рекомендательном письме, которое он мне к нему дал, что он отвечает за мои убеждения. Я понимаю, что г-н Шредер, не уловив смысла этой фразы, был введён в заблуждение тем, что видел, и, хотя я должна сказать, что есть преувеличение в том, что он утверждает, я должна ему, однако, отдать справедливость, что, не зная о наших отношениях с Виттом, он должен был выполнять, как он это и сделал, долг, предписываемый ему должностью.
Не знаю, как вы, я восхищена дипломатическими способностями Собаньской. Обвиняя Шредера в чрезмерной подозрительности и даже тонко намекая на недостаток ума — не уловил смысла этой фразы, она тут же сдабривает свою колкость сиропом — он должен был это делать, он выполнял свой долг. Надёжный и осторожный Шредер не стал бы возводить пустые обвинения на Собаньскую. Шпион по предписываемым обязанностям, он был прекрасно осведомлён и о Витте, и о его отношениях с Собаньской, и даже о её сыскной деятельности. Но он первым понял, что деятельность эта была мнимой. У него была своя хорошо налаженная агентурная сеть. Его люди, те самые преступные в намерениях и презренные по характеру поляки, доносили ему о характере миссии Собаньской, о тех разговорах, которые она вела с руководителями повстанцев. Одним словом, поездка в Дрезден стала очевидным провалом её многолетней агентурной деятельности в пользу Патриотического польского союза. Собаньская не сдаётся. Не зная сущности всех разоблачающих её фактов в донесениях Шредера, но прекрасно понимая никчёмность собственной информации, она пытается оправдаться отвращением, которое вызывали в ней брызжущие слюной бешеные собаки. То есть те самые важные для российского сыска деятели польского освободительного движения. Спасая их, она нарочно использует словечко из лексикона российских жандармов.
Г-н Шредер жаловался в своих депешах наместнику, что ему не удалось проникнуть в то, что от него хотели здесь узнать. Я могла, может быть, преодолеть это затруднение, и я попыталась это сделать. Предполагая, что я по своему положению и по своим связям выше подозрений, я думала, что могу действовать так, как я это понимала. Я увидела, таким образом, поляков; я принимала даже некоторых из них, внушавших мне отвращение при моём характере. Мне всё же не удалось приблизить тех, общение с которыми производило на меня впечатление брызжущих слюной бешеных собак. Я никогда не сумела побороть этого отвращения и, сознаюсь, пренебрегала, может быть, важными открытиями, чтобы не подвергать себя встречам с существами, которые вызывали во мне омерзение. Витт прочитал его сиятельству наместнику письма, которые я ему писала; он посылал копии с них в своих донесениях; они помогали ему делать важные разоблачения.
Какие же это разоблачения, которые с её «помощью» делал Витт? Она сама их перечисляет: заговоры, которые замышлялись; тайные связи, поддерживавшиеся с польскими агентами в России; макиавеллиевская система, которую они хотели внедрить. И я увидела, сколь связи, которые были пущены в ход, могли оказаться мрачными. Обратите внимание — все глаголы и причастия употреблены в прошедшем времени! Она сообщала о том, что уже не имело никакого значения после разгрома восстания. Она даже называет имена причастных к этому польских повстанцев — Сапега, Александр Потоцкий, князь Любомирский, некий, подданный короля прусского, Красинский, князь Чарторыйский. Это ещё одна издёвка — имена руководителей движения прекрасно были известны российским жандармам. Неслучайно все они эмигрировали. Неслучайно русский царь благоволил простить им столь большие преступления, в случае если они возвратятся в империю. Шредер даже уполномочил её соблазнять преступников отпущением им грехов от имени царя и призывать их поверить великодушию его величества государя. Как истая католичка, Собаньская, бесспорно, делала это с удовольствием. И даже преуспела: Наименее расположенные к раскаянию кончили тем, что признали свои заблуждения и милосердие царя. Понимая, что Бенкендорф не может быть удовлетворён бесплодностью её «раскрытий», она добавляет в своё оправдание:
Все эти данные были, однако, неопределёнными, так как признания были неполными; лишь врасплох удавалось мне узнавать то, что мне хотелось. Пытаясь захватить и углубить сведения, я поддавалась также потребности помочь им узнать и полюбить страну, которую я возлюбила, монарха, которого я чтила.
В заключение она выражает надежду, что честность и справедливость Бенкендорфа побудит его повергнуть содержание письма к стопам его величества. В глубине души она не верит в успех попытки. Николай в отличие от брата Александра был неумолим. Он никогда не отменял своих решений. Сказал — как отрезал. Собаньская хорошо знала это качество монарха. Не надеялась и разжалобить его. Но не удержалась, а может, нарочно представилась слабой, беззащитной, оскорблённой несправедливостью, отчаявшейся женщиной: Я ничего не прошу, мне нечего желать, так как, повторяю ещё раз, всё для меня на этой земле кончено. Вроде бы плачется, но продолжает колоть: Но да будет мне по крайней мере дозволено просить не быть неправильно судимой там, где моё сердце выполняет дорогой и священный долг. Конечно же, это — священный долг к Польше! И ещё об одном просит Собаньская Бенкендорфа, как человека чести, человека слишком справедливого, слишком религиозного (когда было нужно, она умела льстить), — не отказать в ответе. Но как выражена эта просьба! — не просит, приказывает генералу тоном повелительницы, высокородной, гордой пани, за спиной которой десятки графских поколений, в отличии от выскочки — графа по выслуге — Бенкендорфа: Будет ли он хорошим или плохим, благоволите, генерал, мне его без промедления сообщить.
Царь не внял объяснениям Собаньской. Более того, не в пример тугодуму Бенкендорфу, он прекрасно понял подтекст письма. Не обольстился и увёртками Витта — в апреле 1832 г. генерал был назначен инспектором южных поселений кавалерии. Но до окончания уголовного суда над мятежниками (а он был его председателем) ему дозволялось остаться в Варшаве. В ноябре того же года Витт испросил разрешение приехать в Петербург. По наущению Собаньской вновь предпринял очередную атаку на императора. Видимо, она была безуспешной. В столице граф заболел — сказались волнения последних месяцев, открылась болезнь горла. В мае 1833 г. получил отпуск для лечения за границей. В сентябре со всеми почестями был окончательно освобождён от должности с объявлением высочайшей полной признательности за деятельность по званию варшавского губернатора и за двукратное начальствование действующей армией в отсутствие главнокомандующего. Моральную признательность умастили материальной — 100 тысяч рублей ассигнациями. Он уехал к месту нового назначения — в херсонское военное поселение. Разоблачённая Мата Хари последовала за ним. Она всё ещё надеялась вернуть Витту, а через него и себе монаршую милость. Оставшись не у дел, деятельная пани затосковала. Бурное существование было её стихией. Стихией же Витта были интриги. Этот удивительный симбиоз просуществовал без малого двадцать лет. Весна 1834 г. вспыхнула в Собаньской новым протуберанцем энергии — она поехала в Петербург. Это была её последняя попытка реабилитировать себя. Состоялась ли её встреча с императором, мы можем только гадать. Но даже если царь и снизошёл до разговора с ней, он оказался безрезультатным. Из Петербурга Собаньская уехала за границу. Об этом узнаем из дневника П. Д. Дурново. Запись 25 августа 1835 г., Дрезден: Г-жи Собаньская и Толстая провели у нас вечер[343].
Царь давно уже понял ничтожность Витта, но снисходительно его терпел. Пользуясь его услугами, не уставал подтрунивать над ним. В августе 1836 г. приехал на смотр херсонских военных поселений. Ах, как старался, как готовился к этому событию генерал! Загодя благоустраивал поселенский город Елизаветград, переделывал офицерские квартиры в дворцы, из Парижа выписал драпировщика, ресторатора Дюссо из Одессы, мебель заказал лучшему одесскому краснодеревщику Коклену, закупил амуницию для солдат в Петербурге. Государь остался чрезвычайно доволен усилиями Витта. Во что обошлась эта пышность, императора всея Руси не интересовало. Важно было пустить пыль в глаза сопровождавшим его иностранным послам: вот как, мол, живут мои поселенцы! Витт приказал соорудить для императрицы коляску с увенчанным короной балдахином из красного бархата, с золотыми кистями, бахромой, шнурами, гирляндами из живых цветов. В коляску запрягли пару волов с позолоченными рогами. На облучок усадили кучера в малороссийском костюме. Сам Витт верхом сопровождал императрицу. Государь с балкона наблюдал это зрелище и хохотал до упаду. Вечером — фейерверки и бал. Хозяйками бала были две графини — сестра Витта Потоцкая-Нарышкина и Е. К. Воронцова. Окончательно впавшая в немилость Собаньская не посмела туда явиться. Устроили показные манёвры. Войска разделили на два лагеря. Одним командовал Николай, другим Витт. Не смея одержать победу над войсками императора, генерал неожиданно отдал приказ к отступлению. «Что бы это значило, ведь Витт находится в лучшей позиции?» — спросил царь у стоявшего рядом с ним генерала Ермолова. «Вероятно, Ваше величество, граф Витт принял это сражение за настоящее», — ответил известный своим остроумием Ермолов. «Только один Витт способен на такое — настоящую услугу вместе с какой-нибудь глупостью!» — воскликнул Николай.
Триумфальный для Витта смотр дорого обошёлся поселянам — часть хлеба осталась неубранной на полях, склады с продовольственными запасами опустошены, многие крестьяне лишились скота, загнанного на строительных работах, озимые посеяли впопыхах, кое-как. На следующий год хлеба не хватило, пришлось его прикупать. Только через три года удалось привести хозяйство в порядок. Императорский смотр оказался крахом и для супружеской жизни Собаньской. То ли она его бросила — дальше жить с ним не имело смысла. То ли он оставил её. На этот счёт свидетельства разноречивы. Мицкевич в «Барских конфедератах» даёт своё объяснение. Действие у него перенесено в XVIII век, посему император заменён императрицей — Екатериной. Государыня не раз осуждала меня за мою связь с графиней. Но эта перестановка фигур не меняет сути — Николай действительно корил Витта связью с Собаньской. Генерал в конечном счёте внял советам императора. Он расстался с Собаньской. Её приютила в своём крымском имении кн. А. С. Голицына. Княгиня была последовательницей пиетистов. Собаньская тоже. Пиетисты исповедовали отказ от земных радостей. Аскетизм и Каролина — понятия несовместимые. Новый образ жизни явно не подходил её страстной натуре. Вскоре она вышла замуж за адъютанта Витта капитана лейб-гвардии драгунского полка С. X. Чирковича, то ли сербского, то ли хорватского дворянина, в прошлом австрийского офицера. Её объяснение своего поступка сёстрам по обществу — баронессе Ю. Беркгейм (дочери баронессы Ю. Крюднер) и княгине Голицыной — прямо-таки настоящее дипломатичное послание: Я убеждена, что Бог в бесконечном милосердии к каждому из своих чад хотел для меня этого союза. <…> Он был необходим, чтобы обеспечить мою старость хлебом насущным, необходим также, чтобы защитить меня против людей и самой себя, необходим также, чтобы заставить меня потерять привычку к счастью и ласке, всё более и более расслаблявшую мою природную изнеженность. Моё пребывание подле вас обеих было последней главой моего полного счастья. <…> Вас он (Бог) выбрал, чтобы меня спасти, защитить, любить, помогать мне, такой бедной, слабой, одинокой! <…> Мой муж добродетельный человек, честный во всём значении этого слова; но серьёзность его характера и строгость его правил отражаются во всём, что составляет мою жизнь; мой муж, впрочем, сопровождал меня в мои безумные и светские годы, и он требует во всех моих привычках перемены, которая обеспечит мне его уважение. Я должна работать, чтобы добиться этого уважения, и это накладывает на меня тысячу обязанностей, которым противится моя дурная природа, хотя мой рассудок их всегда одобряет. Серьёзность моего мужа беспокоит моих в отношении моего счастья, но это такой достойный человек, настолько проникнутый идеей долга, что я уверена, моё счастье будет зависеть только от меня, моего рассудка, моего послушания воле, которая всегда будет стремиться к тому, что для меня хорошо. Письмо написано во вкусе набожных приятельниц Собаньской. Артистичная Каролина умела входить в любую роль. Как показывает его содержание, она прекрасно справилась и с амплуа ханжи. Невозможно представить, чтобы Собаньская позволила кому-нибудь надеть хомут на свою прелестную шейку! Многословное объяснение имело только одну цель — разжалобить старух в своей новой, совсем нелёгкой, с тысячей обязанностей, полной смирения, самоотречения и долга жизни. Дабы не осуждали, поняли и посочувствовали. Можно лишь восхититься её ловкостью и умом!
А Витт? Молодящийся Дон-Жуан последовал примеру Собаньской. Он также недолго оставался на свободе. Его новой избранницей стала вдова кавалергарда Н. И. Петрищева — Надежда Фёдоровна, урождённая графиня Апраксина. Жить ему осталось совсем мало. Последние годы страдал сильной глухотой, вернулась болезнь горла. Он скончался в июне 1840 г. Собаньская пережила его на 45 лет.
Вместо эпилога: «Мир вам, тревоги прошлых лет!»
Пора проститься с нашими героями. Откровенно говоря, я это делаю с сожалением. Не только потому, что сама оказалась в плену у прекрасной Каролины. Но главное — как ни старалась — не сумела окончательно снять с неё запорошенный временем и недоступностью многих источников покров тайны. Надо продолжать поиски. Уже есть первые успехи — В. М. Фридкин обнаружил в архиве парижской библиотеки «Арсенал» записную книжку Собаньской. Необходимо тщательнее исследовать фонд Жюля Лакруа, архив Бальзака. Многое можно найти в Польше. В архиве Ржевуских, князей Сапеги, Мицкевича, Монюшко, в документах польского освободительного движения. То, что не под силу одному человеку, можно добиться совместными усилиями исследователей Польши, России, Украины, Франции. Этого требует не только память Собаньской. Это необходимо сделать ради Пушкина. Воскресить его самую большую, а по моему убеждению, единственную любовь, очистить её от грязи, неправды, клеветы, забвения…
Пушкин, Мицкевич и, как мы убедились, Рылеев до конца своей жизни пытались понять встретившееся на их пути явление — Каролину Собаньскую. Вероятно, пытался сделать это и её последний супруг — поэт Жюль Лакруа. Пушкин и Мицкевич, как бы ни стремились опровергать это современные исследователи, сумели узнать о ней главное — она была шпионкой по убеждению, по неизбывному чувству любви к родине, пылкости натуры и страстного желания видеть свою страну свободной. Только за это ей можно многое простить — её земные слабости, её бесчисленных любовников, её сожительство с Виттом, постыдное, если ради благ, комфорта, положения, но равное — не жертве, а подвигу, если во имя идеи. Что бы ни болтали о ней, ей нелегко было с Виттом. Не любила его, презирала и, подобно, Николаю, но только в душе — и никогда в обществе, ведь этим унижала себя! — надсмехалась над ним. Она знала ничуть не хуже великого князя Константина, что он был человеком, который не только чего другого, но недостоин даже, чтоб быть терпиму в службе. Константин сказал это в том же, ранее упомянутом, письме к Дибичу. Выходит, отстранённый от престола (а не отрёкшийся, как по официальной версии, хотя и сохранился подтверждающий это документ) великий князь был прозорливее своего сверхпрозорливого брата Николая. Но его лишили трона, потому что, подобно отцу, был вспыльчив, груб, не по-царски прямодушен и, как он выразился в акте отречения, не чувствовал в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы быть возведену на то достоинство, к которому по рождению имел право. Более сдержанный и рассудительный Николай и терпел Витта, и награждал, и, как мы узнали, очень поздно догадался о его сущности — каналья, интриган, карьерист и предатель российских интересов.
Но довольно о Витте. Он присутствовал в моём рассказе как тень Собаньской. Тень сошла в преисподнюю. Там ей и место. А Каролина продолжает жить в творчестве четырёх поэтов.
В беловой рукописи романа Пушкина «Арап Петра Великого» зачёркнуты пассажи, навеянные образом Собаньской, — слишком очевидно было с ней сходство.
Графиню почитают <…> женщиной умной и холодною, имеющей любовников от нечего делать. Это мнение несправедливо. Она проста, имеет пылкие чувства, и любовь — главное дело её жизни. В обществе она рассеянна и ленива; это придаёт какую-то заманчивость её словам. Её странные вопросы, загадочные ответы вольно принимать за эпиграмматические выходки или глупости; мы, т.е. близкие её приятели, из дружбы прославили её оригинальность и остроту. Впрочем, она женщина самая добрая и милая…
Выкинутый отрывок мало что изменил — Собаньская властно присутствует в 1-й и 2-й главах романа в образе возлюбленной Ибрагима, графини.
Любовь не приходила ему на ум, — а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал её встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостью неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчётов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи: без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность…
Это у Пушкина. А вот почти то же самое у Рылеева в пересказе Н. Бестужева:
В последовавших за сим свиданиях слёзы прекрасной моей клиентки мало-помалу осушились, на место их заступила заманчивая томность, милая рассеянность, которая прерывалась одним только вниманием ко мне. <…> Если она одна только со мною, она задумчива, рассеянна, разговор наш прерывается… Одним словом, она даёт мне знать о состоянии своего сердца и, конечно, давно знает, что происходит в моём…
Не правда ли странное, местами почти буквальное совпадение в описании пушкинской графини и госпожи К. у Бестужева—Рылеева? Нельзя объяснить это сходство только очевидной неповторимостью черт Собаньской. Объяснение этому может быть только одно — к Пушкину каким-то образом попала из Сибири рукопись Николая Бестужева. Вполне возможно, что её привёз его брат Александр Бестужев-Марлинский. Во время войны с Турцией сосланный на поселение в Якутск А. Бестужев подал в 1829 году на имя царя прошение о переводе его рядовым в действующую армию. Николай распорядился: «Определить рядовым в действующие полки кавказского корпуса с тем, чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только, какое именно отличие им сделано». По дороге из Якутска в Петербург он не мог миновать лежавшей на сибирском тракте Читы. Здесь в остроге вместе с другими декабристами находились два его брата, Николай и Михаил… Возможно, ему даже дозволили увидеться с братьями. Копию рукописи ему могли передать декабристские жёны. Впрочем, мало ли какими путями оказались «Воспоминания о Рылееве» в России. Родственники ссыльных нередко отправляли им в Сибирь специальные обозы с продовольствием…
Известно, что при жизни Пушкина было напечатано два отрывка из романа «Арап Петра Великого» — из IV и III глав. Приведённая мною цитата — из I главы. В госпоже К. Бестужева Поэт сразу же узнал свою Каролину. Впечатления от прочитанного и разворошённые приездом в Петербург Собаньской чувства вылились в образ графини в его весьма и весьма автобиографичном «Арапе». Ещё один зачёркнутый в оригинале отрывок:
Целый день он думал о графине Д., следовал сердцем за нею, казалось, был свидетелем каждого её движения, каждой её мысли <…> он мысленно собирался к ней, входил в её комнату, садился подле неё, разговаривал с нею — и мечтание постепенно становилось так сильно, так ощутительно, что он совершенно забывался.
У Бестужева: Я начал находить удовольствие в её обществе, дикость моя постепенно исчезла, я, не замечая за собой, предавался вполне и без опасения тем впечатлениям, которые на меня эта женщина производила. <…> Ты не поверишь, какие мучительные часы провожу я иногда; не знаешь, до какой степени мучает меня бессонница, как часто говорю я вслух с самим собой, вскакиваю с постели, как безумный, плачу и страдаю.
Не буду дальше продолжать параллели. Они важны прежде всего как аргумент, что Собаньская и была той самой госпожой К., которая приезжала в Петербург к Рылееву. И что её черты отразил Пушкин в «Арапе». Отыскивая в нём её след, я заметила и поразившее меня сходство писем — Пушкина к Собаньской и Ибрагима к графине. Они проникнуты одинаковыми мучительными воспоминаниями о днях восторга и блаженства. Но самое удивительное — пушкинская графиня носила то же имя, которым Поэт называет Собаньскую, — Леонора.
Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.
Счастие моё не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. <…> Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты наконец устыдилась бы своей страсти… что было б тогда со мною? Hem! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты…
Так запоздало через своего «Арапа» объяснил Пушкин Собаньской мотивы бегства от неё в Одессе, а затем в Петербурге. Здесь уместно привести слова, выписанные Пушкиным из сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского: Радость плотская ограничивается наслаждением: по мере, как затихает весёлый гудок, затихает и весёлость. Но радость духовная есть радость вечная; она не умаляется в бедах, не кончается при смерти, но переходит по ту сторону гроба[344]. Человеку свойственно обращать внимание на те изречения, которые сродни его собственным мыслям. Даже для ближайших друзей Поэта его духовный мир остался терра инкогнито. Эта цитата объясняет суть донжуанства Пушкина — бесконечный поиск вечной духовной радости. В ней же и ответ на его неистребимую страсть к Собаньской — женщине, заполонившей прежде всего его душу и дух. Подарившую ему счастье, которым он не сумел насытиться. С которой он познал всё, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении и самого ошеломляющего…
Прочитала ли она когда-нибудь опубликованный после смерти Пушкина роман? Наверное, да. Собаньская до конца сороковых годов жила в России и по-прежнему живо интересовалась литературой. Что думала она о своём достойном ей по гордости возлюбленном, много раз убегавшем от неё и прежде времени — прежде ужасной этой минуты — ушедшем из жизни? Он уходил, чтобы не испытать позор отвергнутого… В беспредельной вечности звучат его обращённые к ней слова:
Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни… Прости, Леонора, — отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, твоём верном Ибрагиме.
Прошла жизнь, с нею страсти, страдания, измены и ревность. Но Любовь осталась. Она не кончилась со смертью. Она перешла по ту сторону гроба. Успокоенная, очищенная, освобождённая от земной суеты.
Какие б чувства ни таились Тогда во мне — теперь их нет; Они прошли иль изменились… Мир вам, тревоги прошлых лет!Примечания
1
«Вена, Вена, лишь ты одна…»
(обратно)2
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. СПб, 1880. T. III. С. 452.
(обратно)3
На самом деле первая часть записок была написана Екатериной значительно позже — или в 1871 году, или даже в 90-х годах. Она же утверждала, что вела их с момента своего прибытия в Россию — с 1844 г., но была вынуждена их уничтожить из страха перед шпионившей за ней императрицей Елизаветой.
(обратно)4
Записки императрицы Екатерины Второй. Репринт с издания 1907 г. М., Орбита, 1989. С. 328—329.
(обратно)5
Записки императрицы Екатерины Второй. С. 308—309.
(обратно)6
Старое название Таллинна, до 1917 года.
(обратно)7
Письма Александра Тургенева к Булгаковым. М.; Л., 1939. Письмо А. Я. Булгакову от 20.3.1837.
(обратно)8
Неопубликованный дневник Фикельмон. Запись 2 апреля 1832 г.
(обратно)9
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., Наука, 1978—79. Т. 10. С 233.
(обратно)10
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 25.
(обратно)11
Там же. С. 83—87.
(обратно)12
Там же. С. 85.
(обратно)13
Там же. С. 85—86.
(обратно)14
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 85, 406.
(обратно)15
Там же. С. 339—340.
(обратно)16
Теребенина P. Е. Записи о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях в дневнике П. Д. Дурново // Пушкин. Исследования и материалы. T. VIII, С. 250.
(обратно)17
Сафонович В. И. Воспоминания // Русский архив, 1903, № 4, с. 492—494. Сафонович был чиновником Министерства финансов и внутренних дел. В своих воспоминаниях рассказал о встречах с Пушкиным в салоне Загряжской. Шевалье д’Еон де Бомон — агент Людовика XV, появился в Петербурге под видом племянницы французского купца. Он выполнял секретное поручение своего короля — собрать сведения о дворе Елизаветы Петровны и установить тайную переписку императрицы с Людовиком.
(обратно)18
Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. M., Советская Россия, 1979. С. 31—32.
(обратно)19
Вигель Ф. Ф. Записки. М., Русский вестник, 1864—1865. Ч. 3. С. 87—88.
(обратно)20
Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 3. С. 88.
(обратно)21
Местр Жозеф де. Письмо V. СПб, 30 (18 июля) 1810 г. — В кн.: Семейство Разумовских, СПб, 1880. T. III. С. 283.
(обратно)22
Пущин И. И. Записки о Пушкине. С. 47—50.
(обратно)23
И. И. Пущин. Записки о Пушкине. С. 40.
(обратно)24
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. T. I. С. 81.
(обратно)25
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Т. 8. С. 46.
(обратно)26
Сын первой жены Бонапарта — Жозефины и республиканского генерала Александра Богарне, закончившего жизнь на плахе Робеспьера. С 1805 года Эжен Богарне — вице-король Италии.
(обратно)27
Цит. из кн.: Овчинникова С. Т. Пушкин в Москве. М., Советская Россия, 1984. С. 200—201.
(обратно)28
Русский архив. 1875. T. III. С. 447.
(обратно)29
Графиня Разумовская — Мария Григорьевна, жена Льва Кирилловича.
(обратно)30
Тамбов стал местом эвакуации московских помещиков во время нашествия Наполеона на Москву в 1812 г.
(обратно)31
Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. М., Книга, 1987.
(обратно)32
Русский архив. 1875. Т. III. С. 449.
(обратно)33
Качуча — испанский танец с кастаньетами.
(обратно)34
Танцевальные утра для самого избранного общества.
(обратно)35
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. M., Наука, 1989. С. 186.
(обратно)36
Там же. С. 191.
(обратно)37
Фикельмон Долли. Неопубликованный дневник. Машинописная копия на франц. языке, из собрания Теплицкого музея. Ч II. С. 97. Запись от 5 мая 1835 г. Именно в это время М. Г. при возвращении из Парижа остановилась в Вене у деверя Андрея Разумовского. Долли Фикельмон в то время находилась там же.
(обратно)38
Razumovsky М. Marina Zvetajewa. 1892—1941. Mythos und Wahrheit (Age d’Homme Karolinger, 1981).
(обратно)39
Overseas publications Interchange Ltd & Queen Anne’s Garden.
(обратно)40
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. T. II. С. 174.
(обратно)41
Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников.
(обратно)42
Вопросы литературы. 1970. № 1. С. 190.
(обратно)43
Можно предполагать, что члены этого общества исповедовали тайное (отличное от христианской доктрины) учение катаров — последователей истинного учения Иисуса. Таковыми были и первые «катакомбные» римские христиане. Символом «истинного знания» является Священная чаша Грааля (от «Sanque real» — «истинная кровь»). Это учение имело в Европе немало последователей. Ими были рыцари короля Артура, болгарские богомилы, Данте, Леонардо да Винчи, Шекспир, Рабле, Нострадамус, Моцарт, Гёте, многие масонские ордена. Средневековая инквизиция католической церкви была направлена главным образом против «ереси», распространяемой посвящёнными в это тайное знание.
(обратно)44
Франк С. Л. Этюды о Пушкине. YMKA-PRESS, 1987. С. 11.
(обратно)45
Мемуары декабристов. Северное общество. Изд-во Московского университета, 1981. С. 62.
(обратно)46
Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование: В 2-х т. 1903. Т. I. С. 14—15.
(обратно)47
Михова И. Фантастични игри. София, Любомъдрие, 1996. С. 5.
(обратно)48
Холл М. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, Наука, 1992.
(обратно)49
По другим сведениям, выехал раньше, накануне восстания.
(обратно)50
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 32.
(обратно)51
Так утверждает Саркисянц в книге «Одесский год Пушкина», с. 168.
(обратно)52
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 64.
(обратно)53
Бестужев А. А. Воспоминания о Рылееве. «Меч и лира». Литературное наследие декабристов. М., Детская литература, 1976. С. 207.
(обратно)54
Эйдельман Н. Пушкин и декабристы. М., Художественная литература, 1979. С. 274.
(обратно)55
Переписка А. С. Пушкина. М., Художественная литература, 1982. T. I. С. 455.
(обратно)56
Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М , 1951. T. I. С. 638.
(обратно)57
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 96. Письмо Вяземскому от 28 января 1825 г. из Тригорского.
(обратно)58
Об их дружбе и неожиданной размолвке рассказывает его приятель Ксенофонт Полевой (в посвящённой брату книге — «Николай Полевой»). Об этом же запись в дневнике Бестужева от 11 июля 1824 г.: «Вечером у Филимонова».
(обратно)59
Арапова А. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. Москва, 1994.
(обратно)60
Павлищев Л. Из семейной хроники. Таинственные приметы в жизни А. С. Пушкина. Симферополь, Таврия, 1994. С. 42.
(обратно)61
После того — значит, по причине того (лат). Там же. С. 20.
(обратно)62
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 217, 633 — 634.
(обратно)63
Эйдельман Н. Твой восемнадцатый век. M., Мысль, 1991. С. 10.
(обратно)64
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 63—64.
(обратно)65
Бурцев А. К., Гуськова Т. В. Драгоценные камни. М., Примат, 1992. С. 114—115.
(обратно)66
Катрин Мещерская, урождённая Карамзина, сестра Софии Карамзиной.
(обратно)67
Друзья Пушкина. М., Правда, 1984. T. I. С. 553.
(обратно)68
Письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину. В кн.: Последний год жизни. Переписка. Воспоминания. Дневники. M., Правда, 1988. С. 541.
(обратно)69
Последний год жизни Пушкина. С. 465.
(обратно)70
Бурнашев В. П. Воспоминания // Русский архив, 1872. Ч. I. С. 1787—1803.
(обратно)71
En herbe (фр.) — неузревший, ещё зелёный.
(обратно)72
Письмо В. А. Жуковского — С. Л. Пушкину, от 15 февраля 1837 г. В кн.: Таинственные приметы в жизни А. С. Пушкина. Симферополь, Таврия, 1994. С. 46.
(обратно)73
Кишкин Л. С. Чехословацкие находки. М., Советская Россия, 1995. С. 90.
(обратно)74
Раевский Н. Портреты заговорили. Алма-Ата, Жазушы, 1989. С. 30.
(обратно)75
Наталья Фёдоровна Боде, урождённая Колычева (1790—1860), жена камергера Льва Кирилловича Боде, московская и петербургская знакомая Пушкина.
(обратно)76
Рассказ князя А. В. Трубецкого об отношениях Пушкина к Дантесу. В кн.: Дуэль и смерть Пушкина. М.; Л., Госиздат, 1928. С. 418—434.
(обратно)77
Брак дочери Александрины Гончаровой — Натальи Фризенгоф — с герцогом Элимаром Ольденбургским считался морганатическим, их дети не имели права на герцогский титул и получили фамилию графов фон Вельсбургов — по названию одного из имений ольденбургского дома.
(обратно)78
Игумнова А. Неопубликованные «Воспоминания о Бродзянах». Рукописный отдел ИРЛИ, фонд 409, № 32, с. 2.
(обратно)79
Isacenko А. V. Puskiniana na Slovensku // Slovcnske’Pohl’ady, 1947, № 1.
(обратно)80
Цитата из первой статьи, «Родственники Пушкина в Словакии» (1946 г.), заимствована из книги «Портреты заговорили», с. 54.
(обратно)81
Зять (фр.).
(обратно)82
Цитирую по английскому переводу статьи Исаченко «Puskiniana in Slovakia», опубликованной в журнале «THE SLAVONIK REVIEW», 1947, с. 171.
(обратно)83
На одном из листов хранящегося в Бродзянском музее альбома-гербария имеется пометка: «Вена, 1844. Густав, Григорий, Мария Пушкина, Натали». Вызывает недоумение, как среди членов семьи Фризенгофов оказалась двенадцатилетняя Мария Пушкина. Известно, что до середины июля 1944 года Наталья Николаевна не уезжала из Петербурга. Намечавшаяся весной этого года её поездка с детьми в Ревель была отложена из-за того, что она вывихнула ногу. 16 июля она венчалась с Ланским. Они могли бы отправиться в свадебное путешествие в Австрию к своим друзьям Фризенгофам. Но никаких свидетельств этому не обнаружено. Наиболее вероятное объяснение записи — H. Н. отправила старшую дочь Марию с гувернанткой или попутчиками, а может с де Местрами, в гости к Фризенгофам.
(обратно)84
Геккерен д’Антес Клод де. Белый человек. Кто убил Пушкина? Historia, 1964. С. 710.
(обратно)85
Алданов М. Сочинения. T. 1. С. 337.
(обратно)86
Геккерен д’Антес Клод де. Белый человек. Кто убил Пушкина? С. 710.
(обратно)87
Звезда, 1995, № 9.
(обратно)88
Там же, с. 175, 178, 181.
(обратно)89
Comte F. de Sonis. Lettres du Comte et de la Comtesse De Ficquelmont à la Comtesse Tiesenhausen, le 25 Novembre 1843. Paris. Vienne, 1911, p. 35.
(обратно)90
«Поглядите, самая настоящая классическая голова! Таких прекрасных женщин уже не бывает! Вот она, славянская красота! Это не женщина, а мечта!» (фр.)
(обратно)91
Арапова А. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. М., 1994. С. 93—94.
(обратно)92
Геккерен д’Антес Клод де. Белый человек. Кто убил Пушкина? С. 710.
(обратно)93
Письмо от 7 марта 1837 года. Рукописный отдел ИРЛИ, фонд 409, № 32, документ 5.
(обратно)94
Цитата из статьи М. Яшина «Семья Пушкина в Михайловском». «Нева», 1967, № 7, с. 179.
(обратно)95
В литературе указываются различные годы возвращения Фризенгофов из Петербурга: 1844-й, 1843-й. Обнаруженные в архиве Араповой письма (начиная с 1841 г.) H. Н. Пушкиной к Н. И. Фризенгоф в Вену и хранящаяся в ИРЛИ переписка Густава Фризенгофа с братом Адольфом позволяют указать другую дату — 1841 г.
(обратно)96
Имеется в виду портрет Дантеса.
(обратно)97
Раевский Н. В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой. С. 393.
(обратно)98
В действительности герцогиня Ольденбургская скончалась 9 января 1937 года (сведения Николая Раевского).
(обратно)99
Опубликована в газете «Новое русское слово» («Russian Daily») 7 мая 1978 г.
(обратно)100
В. А. Жуковский. Письмо к А. X. Бенкендорфу от 25 февраля (8 марта) 1837 года. Последний год жизни Пушкина. М., Правда, 1988. С. 553.
(обратно)101
После Первой мировой войны и аграрных реформ в Чехословацкой республике герцогиня Ольденбургская оказалась фактически разорённой. Она продала оставшийся в Австрии наследованный от мужа замок Ерлаа, но вложенные в один из венских банков деньги были обесценены инфляцией. Н. Раевский предположил, что в этом замке могла быть остальная часть семейного архива герцога Элимара Ольденбургского. Я списалась с нынешним владельцем Эрлаа д-ром Оскаром Вейс-Тесбахом. Он ответил мне, что «в замке Эрлаа никаких предметов от прежних владельцев — семьи Ольденбург — не осталось. Мой свёкор приобрёл в 1920 г. замок полностью освобождённым. В период 1945—1947 гг. в нём располагались оккупационные власти, после чего его пришлось полностью обновлять».
(обратно)102
Кишкин Л. С. Чехословацкие находки. M., Советская Россия, 1985. С. 127.
(обратно)103
Игумнова А. М. Воспоминания о Бродзянах. С. 4.
(обратно)104
Хемница.
(обратно)105
«Лизанька, решаюсь наконец тебя пожурить, — вразумляет её отец, Михаил Кутузов, в письме от 27 мая 1807 года. — Ты мне рассказываешь о разговоре с маленькой Катенькой, ты ей объявляешь о дальнейшем путешествии, которое намереваешься предпринять и которое мы все предпримем, но желать смерти не смеем, тем более, когда имеем существа, привязывающие нас к жизни…»
(обратно)106
Графиня Елизавета Тизенгаузен, урождённая Кутузова-Смоленская.
(обратно)107
Огонёк, 1966, № 4.
(обратно)108
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., Наука, 1989. С. 340.
(обратно)109
Семейное имя Елены Павловны Тизенгаузен (1804—1890).
(обратно)110
Неопубликованный дневник Дарьи Фёдоровны Фикельмон. Запись от 1 октября 1829 г.
(обратно)111
Урождённая фон дер Пален (1782—1862). Жена графа Павла Ивановича Тизенгаузена (1774—1864), сенатора, тайного советника. Их дети: Елена, Адель, Наталья, Фердинанд и Эдуард — двоюродные братья и сёстры гр. Фикельмон.
(обратно)112
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 340.
(обратно)113
Прибалтийские немцы Тизенгаузены были протестантами.
(обратно)114
Фридрих Лихтенштейн в известное время был сотрудником австрийского посольства. Он вёл дневник, в котором описывает свою петербургскую светскую жизнь. О нём будет рассказано в главе «Пушкинский след в Лихтенштейне».
(обратно)115
Альфонс О’Сюлливан де Грасси — секретарь в нидерландском посольстве в Петербурге (1828—1831). Дарья Фёдоровна подружилась с ним и переписывалась до конца жизни; Литта, Кайзерфельд — сотрудники австрийского посольства; Адам Ленский — поляк, помощник статс-секретаря Государственного совета по департаменту дел Царства Польского, — позднее — член Государственного совета.
(обратно)116
Запись 15 сентября 1832 г.
(обратно)117
Запись 24 августа 1833 г.
(обратно)118
О ней пойдёт речь в главе «Пушкинский Петербург» — по дневниковым записям Д. Ф. Фикельмон.
(обратно)119
О ней и Разумовских см. в 1-й главе книги.
(обратно)120
Clary-Aldringen Alfons. Geschichten eines alten Osterreichers. Berlin, Wien, Ullstein, 1977. S. 37—38.
(обратно)121
«Она удивлена, что имеет сына, не будучи замужем…» (фр). Отсюда будто произошла и его фамилия (по двум первым французским словам изречения). Clary-Aldringen Alfons. Geschichten eines alten Osterreichers. C. 39.
(обратно)122
Воспоминания императрицы Александры Фёдоровны. С 1817 по 1820 год. «Русская старина» в книге: Жизнь императоров и их фаворитов. М., Новости, 1992. С. 551, 557.
(обратно)123
Жизнь императоров и их фаворитов. С. 560—561.
(обратно)124
Опубликовано в книге Жака Феррана на основе архивных изысканий Зинаиды Бурке-Башкировой. См.: Jacques Ferrand. Les Princes Ioussoupoff and les comtes Soumarokoff-Elston. Avant-Propos du prince Michel F. Romanoff. Paris, 1991, p. 94.
(обратно)125
Ферран Ж. Указ. соч. С. 96.
(обратно)126
Раевский Н. Портреты заговорили. С. 91. Автор ссылается на документы ИРЛИ, фонд 358, он. 1, № 146.
(обратно)127
Об этом запись в дневнике Долли Фикельмон от 18.05.1833 г.
(обратно)128
Ферран Ж. Указ. соч. С. 99.
(обратно)129
В дневнике гр. Фикельмон имеется несколько записей о пребывании в Петербурге прусских принцев Вильгельма и Карла. Князь Клари-Альдринген называет последнего в числе возможных отцов Феликса. Между тем Долли не выказывает никакого особого волнения от встречи с обоими. Совсем будничная констатация после долгой разлуки: «В Петергофе вновь встретилась с Карлом Прусским, который очень изменился за те семь лет, что мы не виделись» — запись 6 июля 1830 г. И так же лаконично через два года о другом: «Принц Вильгельм Прусский очень изменился в лице; осталась лишь прежняя осанка. Он будет присутствовать на манёврах гвардии, а затем вернётся в Пруссию» — запись 13 июля 1832 г. Затем вскользь о завтраке с ним в «Коттедже» императрицы: «Исчез его самодовольный вид, а кроме того, он, видимо, хорошо и нежно относится к своей сестре» — запись 27 июля 1832 г.
(обратно)130
Ферран Ж. Указ. соч. С. 94.
(обратно)131
Бочаров И., Глушакова Ю. Итальянская пушкиниана. М., Современник, 1991. С. 399—400.
(обратно)132
Ферран Ж. Указ. соч. С. 94.
(обратно)133
Бочаров И., Глушакова Ю. Итальянская пушкиниана. С. 400.
(обратно)134
В. А. Бобринский, дальний родственник Долли и Екатерины по матери — урождённой баронессе А. В. Унгерн-Штернберг, женился в начале 1830 года на Софье Прокофьевне Соковниной (1812—1868). Д. Ф. Фикельмон называла его мать — графиню А. В. Бобринскую — тётушкой, каковой она и приходилась ей через прибалтийских баронов Тизенгаузенов.
(обратно)135
Ферран Ж. Указ. соч. С. 99.
(обратно)136
Запись от 9 сентября 1833 г.
(обратно)137
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 336.
(обратно)138
Долгоруков П. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. М., Новости, 1992. С. 207.
(обратно)139
Долгоруков П. Петербургские очерки. С. 168—169.
(обратно)140
Там же.
(обратно)141
Из воспоминаний писателя В. А. Соллогуба.
(обратно)142
Русская мысль, № 4090, 31 августа — 6 сентября 1995 г., Париж.
(обратно)143
Цитирую по публикации в «Русской мысли», № 4090.
(обратно)144
Письма Жоржа Дантеса к барону Геккерену // Звезда, 1995, № 9, с. 197. В дальнейшем ссылка на публикацию будет помечаться: Звезда, № 9.
(обратно)145
Соллогуб В. А. Из «Воспоминаний». А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., Художественная литература, 1985. Т. 2. С. 340.
(обратно)146
Соллогуб В. А. Из «Воспоминаний». Т. 2. С. 347.
(обратно)147
Мир Пушкина. Том II. Дневники и письма сестры Пушкина. 1831—1837. СПб., Пушкинский фонд, 1994. С. 105.
(обратно)148
«Рассказ князя А. В. Трубецкого об отношениях Пушкина к Дантесу». Цитирую по книге: Щёголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., Книга, 1987. С. 352.
(обратно)149
Геккерен д’Антес Клод де. Белый человек. Кто убил Пушкина? Historia, 1964, № 216.
(обратно)150
Звезда, № 9. 1995. С. 175.
(обратно)151
Звезда. Там же. С. 174.
(обратно)152
Звезда, № 9. С. 178.
(обратно)153
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 63.
(обратно)154
Звезда, № 9. С. 186.
(обратно)155
Валерьян Платонович Платонов — внебрачный сын последнего фаворита Екатерины II князя П. А. Зубова (1764—1822) «от какой-то польской графини» (выражение Смирновой). О Зубове она не раз упоминает в мемуарах. Об этой связи Смирнова пишет: «Он жил с какой-то графиней и прижил с ней несколько детей, которых воспитал и дал каждому миллион ассигнациями». «Дневник. Воспоминания». M., Наука, 1989. С. 201.
(обратно)156
Звезда, № 9. С. 180—181.
(обратно)157
Звезда, № 9. С. 187.
(обратно)158
Звезда, № 9. С. 188.
(обратно)159
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 591—592.
(обратно)160
Звезда, № 9. С. 189.
(обратно)161
Звезда, № 9. С. 190.
(обратно)162
Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина // Новый мир, № 2, 1962, с. 212—226. Герштейн частично опубликовала дневники императрицы и её переписку с С. Бобринской.
(обратно)163
Один фрагмент из него был опубликован И. Л. Анронниковым в «Новом мире», 1956, № 1; другой M. И. Яшиным в «Звезде», 1963, № 8. Сейчас «Дневник» хранится в ЦГАЛИ, в сокращённом виде был переведён и подготовлен к печати М. Г. Акушиной-Зенгер, но не издан. С разрешения дочери последней Е. А. Муравьёвой был впервые введён в обращение С. Л. Абрамович.
(обратно)164
Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году (предыстория последней дуэли). Л., Наука, 1989. С. 55.
(обратно)165
Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина // Новый мир, 1962, № 2. С. 213.
(обратно)166
Записи M. Барятинской заимствованы из указанной выше книги С. Л. Абрамович. С. 56—57.
(обратно)167
Пушкин в письмах П. А. Вяземского жене (1830—1838). Литературное наследство. Т. 16—18. С. 809.
(обратно)168
Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., Изд-во АН СССР, 1960. С. 70.
(обратно)169
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 366.
(обратно)170
Пушкин в письмах Карамзиных. С. 109.
(обратно)171
Дневник Фикельмон. Запись от 15 июня 1833 года.
(обратно)172
Понедельники и пятницы неизменно оставались приёмными днями у Фикельмонов до конца их пребывания в Петербурге. По вторникам и четвергам Долли принимала у себя близких друзей. Об этом Долли часто повторяет в своём дневнике. О чём свидетельствует В. Соллогуб: 16 ноября 1836 г., в понедельник, состоялся большой раут у австрийского посланника — дамы были в трауре по случаю смерти императора Австрии Карла X. О том же писала и Е. Н. Карамзина в письме сыну.
(обратно)173
Пушкин в письмах Карамзиных. С. 190.
(обратно)174
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 180.
(обратно)175
Цитирую по книге: Абрамович С. Предыстория последней дуэли Пушкина. СПб., Petropolis, 1994. С. 52.
(обратно)176
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 180.
(обратно)177
Впервые опубликовал это сообщение Смирновой-Россет Б. Казанский в журнале «Звезда», № 1 за 1928 г. Неизвестно, по каким причинам этот факт больше не использовался в пушкинистике. Семён Ласкин процитировал его вновь в своей книге «Вокруг дуэли». С. 82.
(обратно)178
Абрамович С. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 62.
(обратно)179
Цитирую по книге: Последний год жизни Пушкина. M., Правда, 1988. С. 215. Письмо от 14 июля 1836 г.
(обратно)180
Пушкин в письмах Карамзиных. С. 165.
(обратно)181
Пушкин в письмах Карамзиных. С. 120.
(обратно)182
Об этом подробнее рассказано во второй части моей книги.
(обратно)183
Письмо И. Полетики Е. Гончаровой от 18(30) июля 1839 г. Цитирую по книге: Ласкин С. Вокруг дуэли. 1993. С. 59.
(обратно)184
Андрей Александрович Краевский (1810—1889) — журналист, литератор, издатель. Знакомый Пушкина, сотрудник «Московского вестника». Впоследствии издатель «Отечественных записок», «СПб. ведомостей» и «Голоса».
(обратно)185
Бартенев П. И. О Пушкине. М., Сов. Россия, 1992. С. 331—332.
(обратно)186
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 421.
(обратно)187
Там же. С. 357.
(обратно)188
В. В. Ленц был музыкальным критиком, автором мемуаров «Приключения лифляндца в Петербурге». Цитирую по книге: Вересаев В. Пушкин в жизни. М., Московский рабочий, 1984. С. 456.
(обратно)189
Абрамович С. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 42.
(обратно)190
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 352—353.
(обратно)191
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 280—281.
(обратно)192
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 294—295.
(обратно)193
Ласкин С. Вокруг дуэли. С. 154.
(обратно)194
Ласкин С. Вокруг дуэли. С. 156.
(обратно)195
Последний год жизни Пушкина. С. 352.
(обратно)196
Последний год жизни Пушкина. Письмо В. А. Жуковского Пушкину от 10 ноября 1836 г. С. 357.
(обратно)197
Последний год жизни Пушкина. Записка Дантеса Геккерену, найденная в архиве Геккерена. С. 360.
(обратно)198
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 469, 691.
(обратно)199
Там же. С. 470, 691. Письмо Геккерену (17—21 ноября 1836 г. — восстановленный текст неотправленного письма).
(обратно)200
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Том II. С. 358.
(обратно)201
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 271. Из письма Геккерена гр. Нессельроде от 1 (13) марта 1837 г.
(обратно)202
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. T. II. С. 345—346.
(обратно)203
Запись в дневнике Фикельмон от 25 ноября 1829 г. Князь Франц Лобковиц — сотрудник Австрийского посольства в Петербурге.
(обратно)204
Там же. Запись 24 января 1830 г.
(обратно)205
Там же. Запись 28 сентября 1831 г.
(обратно)206
В. Вересаев. Спутники Пушкина. T. II. С. 205.
(обратно)207
Звезда, № 9. 1995. С. 186, 187, 193.
(обратно)208
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 26.
(обратно)209
Пушкин в письмах Карамзиных. С. 97.
(обратно)210
Некоторые современники Пушкина (его друг П. А. Плетнев, лицейский товарищ А. А. Мей) утверждали, что Наталья Кочубей была прототипом Татьяны Лариной. Другие же называли А. Закревскую, Долли Фикельмон. Анна Ахматова посвятила 8-й главе «Евгения Онегина» целое исследование, в котором убедительно доказывает, что некоторые черты Лариной навеяны Каролиной Собаньской. Об этом подробнее см. в главе моей книги — «Российская Мата Хари».
(обратно)211
Зильберштейн И. С. Парижские находки. Эпоха Пушкина. М., Изобразительное искусство. 1993. С. 89.
(обратно)212
Там же. С. 90.
(обратно)213
А. И. Тургенев. Письмо А. И. Нефедьевой от 29.1.1937 — из Петербурга в Москву. В кн.: Последний год жизни Пушкина. С. 501.
(обратно)214
Обе цитаты из книги: Щёголев П. Е. Дуэль. С. 401 и 402.
(обратно)215
Суворин П{10}. Дневник. М., Новости, 1992. С. 245.
(обратно)216
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 35.
(обратно)217
Вересаев В. Спутники Пушкина. Т. 2. С. 539.
(обратно)218
Звезда, 1995. № 9.
(обратно)219
Все последующие письма Полетики цитирую по книге: Ласкин С. Вокруг Пушкина.
(обратно)220
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 69.
(обратно)221
Вяземский П. П. Александр Сергеевич Пушкин. В кн.: Пушкин в воспоминаниях современников. С. 199.
(обратно)222
Там же. С. 183.
(обратно)223
Жуковский — Бенкендорфу, 25 февраля (8 марта) 1837 г. В кн.: Последний год жизни Пушкина. С. 552—553.
(обратно)224
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 253.
(обратно)225
Там же. С. 199.
(обратно)226
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 199—200.
(обратно)227
Эти слова, как ни странно, принадлежат Геккерену — из его письма барону Верстолку от 14 февраля 1837 г.
(обратно)228
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 518.
(обратно)229
Мацкевич Н. И. Из неизданных воспоминаний о Пушкине его племянника // Временник Пушкинской комиссии. 1974. С. 32. Племянник Пушкина Анатолий Львович Пушкин, сын брата Поэта Льва Сергеевича, записал воспоминания своего старшего брата А. А. Пушкина поверх печатного текста «Истории Пугачёвского бунта» (6-й том. Полн. собр. соч. А. С. Пушкина под ред. Г. Н. Геннади, СПб., 1874). А. Н. Мордвинов (1792—1869) — управляющий III отделением.
(обратно)230
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 401.
(обратно)231
Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина // Новый мир, № 2, 1962. С. 214—215.
(обратно)232
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 274.
(обратно)233
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 31.
(обратно)234
Там же. Т. 8. С. 31.
(обратно)235
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 408, 260.
(обратно)236
Эйдельман // О гибели Пушкина // Новый мир, 1972, № 3. С. 207 и 209.
(обратно)237
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 269.
(обратно)238
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 275.
(обратно)239
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 270.
(обратно)240
Ахматова А. Сочинения. М., Художественная литература, 1987. Т. II. С. 101.
(обратно)241
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 270.
(обратно)242
Письмо от 28 декабря 1840 г. Опубликовано в книге: Lettres et papiers du Chancelier Comte de Nesselrode, t. VIII, Lahure, Paris, 1911, p. 104.
(обратно)243
Аудитор Маслов предлагал военно-судной комиссии потребовать от H. Н. Пушкиной объяснения по трём пунктам: об анонимных письмах, о записках к ней Дантеса и «о поведении господ Геккеренов в отношении обращения их» с ней.
(обратно)244
Дуэль Пушкина с Дантесем-Геккереном. Подлинное военно-судное дело. 1837 г. СПб., 1900. С. 77—78.
(обратно)245
Из воспоминаний В. А. Соллогуба. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 345.
(обратно)246
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 223.
(обратно)247
Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. T. VII. С. 170.
(обратно)248
Последний год жизни Пушкина. С. 314.
(обратно)249
Последний год жизни Пушкина. С. 315.
(обратно)250
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 424—425.
(обратно)251
Пушкин в воспоминаниях современников. T. II. С. 369.
(обратно)252
Суворин А. Дневник. С. 244—245.
(обратно)253
Цитирую по кн.: Эйдельман Н. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826—1837. М., Художественная литература, 1987. С. 74.
(обратно)254
Звезда. № 9. С. 181.
(обратно)255
Валерьян Платонович Платонов — внебрачный сын князя П. А. Зубова и какой-то польской графини, по утверждению Смирновой-Россет. В другом месте книги она вновь рассказывает об этой истории: «Этот наивный господин вздумал любить её чистой юношеской первой любовью».
(обратно)256
Имеется в виду императрица Екатерина II.
(обратно)257
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания С. 392.
(обратно)258
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 194.
(обратно)259
История родов русского дворянства. Репринт с издания — СПб., 1886, том I (включает «Рюриков род, природных и происшедших от них дворян»).
(обратно)260
Дворянские роды Российской империи. В 10-ти т. Составитель Гребельский. СПб., 1993, т. I («Княжеские роды»).
(обратно)261
Департамент уделов ведал делами и имуществом великих князей.
(обратно)262
Светские знакомые Пушкина — сестры Александра и Елизавета — дочери барона Вильгельма д’Оггера, нидерландского посла в Петербурге.
(обратно)263
И. П. Мятлев — камергер, статский советник, деверь Белосельской.
(обратно)264
Ультрафешенебли (фр.) — особо-светские люди.
(обратно)265
Ласкин С. Вокруг дуэли. С. 251.
(обратно)266
Долгоруков П. Петербургские очерки. С. 309.
(обратно)267
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 375. Перевод франц. фразы: «Он имел вид буйного помешанного».
(обратно)268
Долгоруков П. Петербургские очерки. С. 375.
(обратно)269
Сейчас в этом здании находится Центральный государственный исторический архив.
(обратно)270
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 376.
(обратно)271
Запись 4 марта 1829 г.
(обратно)272
Запись 22 ноября 1832 г.
(обратно)273
Звезда. № 9. С. 173.
(обратно)274
Последний год жизни Пушкина. С. 372. Письмо от 25 ноября 1836 г.
(обратно)275
Лагрене — секретарь французского посольства в Петербурге (1828—1834). Варвара Дубенская — фрейлина двора, которой увлекался Николай I.
(обратно)276
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 196.
(обратно)277
Абрамович С. Пушкин в 1833 году. М., Слово, 1994. С. 526—527.
(обратно)278
Ироническое прозвище барона Геверса, шарже д’афера голландского посольства. По-французски оно произносилось Жевер, что звучало одинаково с Jean-vert — зелёный Жан, Иванушка-дурачок. (Примеч. В. Старка.)
(обратно)279
Речь идёт о сестре Любови Борх — Ольге Голынской, вышедшей 1 октября 1836 г. замуж за французского литератора Лёве-Веймара.
(обратно)280
Щёголев П. Е. Дуэль. С. 378.
(обратно)281
У нас нашёлся повод, Эрнст Штакельберг (фр.).
(обратно)282
Был словно черепицей, упавшей ему на голову (фр ).
(обратно)283
Отец Иосифа Борха — Михаил Борх был возведён с потомством в графское достоинство грамотой австрийского императора Иосифа II. В России же их графство было утверждено Николаем только в 1839 г.
(обратно)284
Мать Л. Борх — Любовь Ивановна Голынская, урождённая Гончарова, была внучкой основателя фамилии Гончаровых Афанасия Абрамовича и, следовательно, двоюродной сестрой дедушки Натальи Николаевны Афанасия Николаевича. Отец H. Н. — Николай Афанасьевич — приходился двоюродным племянником Голынской и троюродным братом Любови Борх.
(обратно)285
Виконт Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848) — французский писатель и поэт (роман «Гений христианства», поэма в прозе «Мученики», повести — «Атала», «Рене», мемуары «Замогильные записки» и др.). Уильям Питт Младший (1759—1806) — премьер-министр Великобритании, лидер т.н. новых тори. Один из главных организаторов европейской коалиции против революционной, а затем наполеоновской Франции. Герцог Артур Уэлсли Веллингтон (1769—1852) — английский фельдмаршал. В войне против наполеоновской Франции командовал союзными войсками на Пиренейском п-ве и англо-голландской армией под Ватерлоо. Позднее премьер-министр кабинета тори (1828—1830), а в 1834—1835 гг. — министр иностранных дел. Иоганн Каспар Лафатер (1741—1801) — швейцарский писатель. Автор романа «Понтий Пилат, или Маленькая библия», драмы «Абрахам и Исаак», трактата по физиогномике «Физиогномические фрагменты», лирических стихотворений. Бенжамин Анри Констан де Ребек (1767—1830) — французский писатель и публицист, автор романа «Адольф», которым зачитывалась в первой четверти XIX века вся Европа (о нём пойдёт речь в связи с письмом Пушкина Собаньской), а также ряда политических сочинений и автобиографической книги.
(обратно)286
Анна Луиза Жермена де Сталь (1772—1817) — французская писательница, автор романов «Дельфина» и «Корина, или Италия», «О Германии» и др.
(обратно)287
Разница в окончаниях двух строф: в пушкинском автографе — «волны, плеснувшей в берег дальной» и «оставит мёртвый след, подобный узору надписи надгробной», в академическом издании — «берег дальний» и «след, подобный». Таким образом, несколько меняется смысл: эпитет «дальной» относится не к «берегу», а к «волне», равно как эпитет «подобной» согласуется не со «следом», а с «надписью».
(обратно)288
Переписка А. С. Пушкина. В двух томах. M., Художественная литература, 1982. T. I. С. 128.
(обратно)289
Имение Ганских «Верховня» находилось на Киевщине в 60 км от Бердичева. «Погребище» Ржевуских приблизительно на том же расстоянии от Бердичева, но уже в Винницкой области, которая раньше относилась к Волынщине. В её состав входили также нынешние Волынская, Ровенская, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области, а также часть Люблинского воеводства — теперь в составе Польши. Александрия, «Верховня» и «Погребище» были расположены неподалёку друг от друга. После смерти отца Собаньской Адама-Лаврентия Ржевуского имение «Погребище» отошло к Собаньской. Это подтверждает письмо Николая I, отправленное в 1832 г. Паскевичу в связи с «делом» Собаньской.
(обратно)290
Ланда С. С. Мицкевич накануне восстания декабристов. М., изд. АН СССР, 1959. С. 141.
(обратно)291
Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. 4. II. С. 299—302.
(обратно)292
Скарментадо — герой повести Вольтера «История путешествий Скарментадо».
(обратно)293
Имя Собаньской известно в пушкинистике ещё в дореволюционных работах русских учёных — у Н. О. Лернера, Д. Ф. Философова, в двадцатых-тридцатых годах нашего века о ней писали A. M. Де-Рибас, Б. Л. Модзалевский, В. М. Базилевич. В 1935 г. вышла в свет книга «Рукою Пушкина». Несобранные и неопубликованные тексты, под редакцией и с комментариями М. А. Павловского, Л. Б. Модзалевского и Т. Г. Зенгер. В ней было опубликовано обнаруженное в секретном архиве III отделения письмо К. Собаньской шефу жандармов Бенкендорфу. После этой публикации имя Собаньской стало исчезать из работ пушкинистов. Анна Ахматова в своих статьях, посвящённых Пушкину, возродила Собаньскую из небытия. В последние два десятилетия Собаньская вновь появилась в исследованиях М. П. Алексеева, Ю. Г. Оксмана. В 1958 и 1961 гг. в Кишинёве были проведены две конференции на тему — «Пушкин на юге». Труды этой конференции опубликованы в двух сборниках, но Собаньская не упоминается ни в одной из множества статей, посвящённых творчеству Поэта южного периода.
(обратно)294
Liberum veto — установленное с XVI века польским сеймом право свободного протеста, в силу которого голос одного возражающего члена сейма мог отменить постановление, принятое большинством голосов.
(обратно)295
Соловьёв С. М. История падения Польши. Сочинения. Книга 16. M., Мысль, 1995. С. 517—518. Жена графа Потоцкого, о которой пишет Екатерина, была племянницей Потёмкина, урождённой Энгельгардт.
(обратно)296
Исключая семилетний период, когда в 1807 г. Наполеон создал из части польских земель Варшавское княжество, просуществовавшее до Венского конгресса 1814—1815 гг. На нём вновь был произведён передел Польши: из бывшего Варшавского княжества было образовано Королевство Польское, вошедшее в состав России. Познанский край отошёл к Пруссии вместе с Силезией и Поморьем. Юго-западные области переданы Австрии.
(обратно)297
Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. М., Прогресс, 1968. С. 487.
(обратно)298
Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. С. 263.
(обратно)299
Из книги: Погодин А. Л. А. Мицкевич. Его жизнь и творчество. T. I и II. М., Изд. В. Л. Саблина, 1912.
(обратно)300
Соловьёв В. С. Литературная критика. М., Современник, 1990. С. 206—208.
(обратно)301
Мицкевич А. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т. 5. С. 465.
(обратно)302
Аэр (Адам Ржонржевский или правильнее Жонжевский). Мицкевич в Одессе и творчество его того периода. (На польском языке.) Варшава, 1898. С. 20, 31, 33.
(обратно)303
Vigee-Lebrun L. Е. Souvenirs. Paris, 1835, t. II, р. 285.
(обратно)304
Vigee-Lebrun L. Е. Указ. соч. С. 192—193.
(обратно)305
Записки Александра Михайловича Тургенева // Русская старина, 1886. № 11. С. 259—260.
(обратно)306
Эта фраза была в первоначальном варианте биографии Витта, написанной H. Н. Чулковым для «Сборника кавалергардов» (СПб., 1904, т. II, с. 448—458). Её ввел в обращение Н. Эйдельман. См.: Эйдельман Н. Пушкин и декабристы. С. 384.
(обратно)307
Установлением личности рассказчицы занимались — А. И. Незеленов, M. О. Гершензон, П. Е. Щёголев, Ю. Н. Тынянов, П. К. Губер, Д. С. Дарский, Л. П. Гроссман.
(обратно)308
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 75—76.
(обратно)309
Ахматова А. Сочинения. С. 165.
(обратно)310
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. Цитированные письма помещены под номерами № 50, 52, 54, с. 52, 53, 55—56, перевод с французского: с. 595, 596.
(обратно)311
Пушкин в письмах П. А. Вяземского к жене (1830—1838). Литературное наследство, т. 16—18. Письмо от 7 апреля 1830 г., с. 804.
(обратно)312
Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. С. 467.
(обратно)313
Мережковский Д. Вечные спутники. Пушкин. СПб., 1906. С. 24.
(обратно)314
Малевский Франтишек Иероним — воспитанник Виленского университета, товарищ Мицкевича, сотрудник M. M. Сперанского при составлении им свода законов в начале 1830-х годов, вместе с Н. Малиновским издавал петербургскую польскую газету «Tygodnik Peterburski» (в 1830—1835 гг.). В его дневнике имеются записи о встречах с Пушкиным в Москве и Петербурге. Среди них и рассказ о посещении 6 марта 1828 г. вместе с Пушкиным и Шимановскими мастерской польского художника В. Ваньковича, который показал гостям парные портреты Мицкевича и Пушкина.
(обратно)315
Погодин М. П. Из воспоминаний о Пушкине. В записи Бартенева. Из кн.: Бартенев П. И. О Пушкине. М., Советская Россия, 1992. С. 396.
(обратно)316
Мережковский имел в виду «Записки А. О. Смирновой», впервые опубликованные в 1893—94 гг. в журнале «Северный вестник». Они были обработаны и подготовлены к печати дочерью Смирновой Ольгой Николаевной Смирновой. В 1895 г. вышли отдельной книгой в С.-Петербурге. Между литературоведами разгорелась ожесточённая полемика о подлинности текста мемуаров. Большинство считало их подделкой. Сама же О. Н. Смирнова объясняла, что она просто систематизировала записи матери, хаотично записанные в 67 тетрадках, иногда даже на клочках бумаги или на счетах. Их оригиналы она показывала в Париже первому публикатору «Записок» — издательнице журнала «Северный вестник» Л. Я. Гуревич. К сожалению, большая часть архива Смирновой уничтожена. Из 67 тетрадок уцелело только 63. Наследниками сожжено многое из её обширной переписки. В 1929 г. вышел новый вариант «Записок», подготовленный к печати Л. В. Крестовой. Она включила в книгу только те записи, которые не вызывали сомнения в авторстве Смирновой. Крестова категорично доказывала фальсификацию первого, дореволюционного издания и призвала исследователей никогда белее им не пользоваться. С. В. Житомирская, публикатор последнего издания мемуаров Смирновой (Москва, издательство «Наука», 1989 г.) сделала робкую попытку защитить подлинность текста «Записок А. О. Смирновой», изданных в 1895 г. с предисловием П. И. Бартенева. Но тем не менее не включила их в свою публикацию. Ольга Николаевна Смирнова всю жизнь вела дневник и записывала рассказы матери. Что подтверждает одно из писем А. О. Смирновой: «Моя дочь записывает всё, что слышит и что я ей говорю, когда у меня были визиты, а её не было. И я кое-что записываю. Она ужасно интересуется всем этим. Я поддерживаю в ней этот интерес». Можно только сожалеть, что менторский приговор Л. В. Крестовой не обжалован до сих пор, и современный читатель лишён возможности ознакомиться с этой титанической работой дочери Смирновой, сумевшей систематизировать, стройно изложить воспоминания матери — бесценный документ эпохи.
(обратно)317
Литературное наследство. М., 1989, т. 97, кн. 2, с. 28.
(обратно)318
Как на кофейную гущу глядела — нашёлся человек, кого заинтересовал архив Жюля Лакруа. Когда моя рукопись уже была завершена, мне прислали из Москвы книгу В. М. Фридкина «Чемодан Дантеса», в которой помещена глава «Записки Каролины Собаньской». В парижской библиотеке «Арсенал» автор нашёл не только фонд писателя, но и обнаружил дневник Собаньской. «Большая часть записей — письма, которые Собаньская писала или получала в двадцатые — сороковые годы и которые она на память переносила в этот альбом», — писал Фридкин. Увы! — среди них нет писем ни Пушкина, ни Мицкевича. Известно, что Собаньская всю жизнь собирала автографы знаменитых людей. 93 из них обнаружены в её альбоме, хранящемся ныне в рукописном собрании Всеукраинского исторического музея в Киеве. Как видим, её архив оказался разрозненным. Возможно, когда-нибудь «всплывут» и другие раритеты Собаньской — из архивов Украины, Польши или Франции. Вопрос о письме Пушкина и Мицкевича по-прежнему остаётся открытым.
(обратно)319
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 189, 190.
(обратно)320
Мысль об этой поездке родилась после увлекательных бесед с китаеведом Никитой Яковлевичем Бичуриным — отцом Иакинфом в монашестве. Он должен был сопровождать эту экспедицию. Пушкин восхищался собранной Бичуриным замечательной коллекцией китайских раритетов.
(обратно)321
Переписка А. С. Пушкина. Т. 2, № 500, с. 204.
(обратно)322
Письмо Я. И. Сабурова — А. И. Сабурову от 3 марта 1831 г. СПб. Цитирую по 58 тому «Литературного наследства», с. 102; Я. И. Сабуров — офицер, писатель, знакомый Пушкина ещё с лицейских времён; Pool purl — ставка игрока (англ.).
(обратно)323
Переписка. Т. 2, № 522, с. 223.
(обратно)324
Вигель Ф. Ф. Записки. T. VII. С. 185—186.
(обратно)325
Шильдер Н. К. Император Николай I. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. T. 1. С. 526. Шильдер цитирует записку Витта «О поручениях, в которых был употреблён императором Александром I».
(обратно)326
Рылеев К. Ф. Волынский. М., Детская литература, 1980. С. 108.
(обратно)327
Мицкевич А. Собрание сочинений: В 5-ти т. М., Гослитиздат, 1948—1954. Т. 4. С. 387.
(обратно)328
Правительство, опасаясь их влияния на умонастроения польского населения южных губерний России, приняло решение о переводе зачисленных в штат Одесского лицея Мицкевича и Ежовского на местожительство во внутрь страны. 20 октября 1825 г. на совещании правления лицея рассматривалось письмо Витта, извещавшего о согласии московского военного генерал-губернатора предоставить им жительство в Москве.
(обратно)329
Мицкевич А. Собрание сочинений. T. IV. С. 388.
(обратно)330
Меч и лира. Литературное наследие декабристов. M., «Детская литература». 1976. Воспоминания о Рылееве Н. Бестужева, с. 188—220. Все дальнейшие цитаты — оттуда же.
(обратно)331
Любопытно, что, составляя в 1828 г. список своих возлюбленных для альбома Ушаковой, Пушкин обозначил Собаньскую под теми же литерами N. N. Пушкин мог читать стихи Рылеева в «Полярной звезде» и, наверное, знал, может даже от самой Собаньской, что эти стихи посвящены ей. Возможно, у Рылеева позаимствовал эти литеры.
(обратно)332
В. Муравьёв в комментариях к сборнику «К. Рылеев. Избранное» ссылается на М. И. Муравьёва, подтвердившего, что эта дама была шпионкой Аракчеева. В книге М. К. Азадовского «Страницы истории декабризма» упоминается о записи беседы издателя журнала «Русская старина» М. И. Семевского с декабристом M. И. Муравьёвым. Но в самих бумагах Семевского такой записи не обнаружено. Однако в биографии Н. Бестужева Семевский воспроизвёл эпизод с госпожей К. почти целиком, указав, что М. И. Муравьёв подтвердил рассказ Бестужева: «Полька К. действительно была послана к Рылееву Аракчеевым». О настоящем имени этой польки не упоминается. Собаньская не могла быть «шпионкой Аракчеева» хотя бы потому, что Витт ненавидел временщика, стремился превзойти его в своём усердии перед императором, свои донесения направлял лично царю Александру. Предположим, что М. И. Муравьёв и назвал истинное имя «аракчеевской шпионки». Но, учитывая, что беседа с ним состоялась в 1857 г., через тридцать с лишним лет после описываемого события, он мог позабыть подробности и польское имя Текла легко могло трансформироваться в его памяти в Теофилию.
(обратно)333
Декабристы и тайные общества в России. М., изд. В. М. Саблина, 1906.
(обратно)334
Польше должны быть возвращены ещё не «обрусевшие» территории — Белостокская область, Гродненская губерния, часть Виленской, Минской и Подольской губерний.
(обратно)335
Яструн М. Мицкевич. М., Молодая гвардия, 1963. С. 128.
(обратно)336
Цитирую по книге: Рукою Пушкина, Academia, 1935. С. 189.
(обратно)337
Budzynski М. Wspomnienia z mego zycia. Poznan, 1880, t. II, s. 54.
(обратно)338
Heleniusz E u… {L. Bodrowski, D. Iwanowski}. Wspomnienia polskich czasow. Warszawa, 1892, s. 156—154.
(обратно)339
Подолия — историческая область, ранее на территории Винницкой и Хмельницкой областей, была частью Волынщины. Слова царя о поместье на Подолии — ещё один аргумент в пользу моего предположения, что в 1824 г. Александр Рылеев мог навещать Собаньскую в унаследованном ею подольском имении «Погребище».
(обратно)340
Русский архив. 1886. № 11. С. 410—411.
(обратно)341
Сборник биографий кавалергардов. Биография графа Ивана Осиповича Витта. Составлена Н. Чулковым. Спб., 1904. T. II. С. 458.
(обратно)342
Обе цитаты из «Сборника биографий кавалергардов», с. 454.
(обратно)343
Теребенева Р. Е. Записи о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях в дневнике П. Д. Дурново. Пушкин. Исследования и материалы. М.—Л. T. VIII. С. 260.
(обратно)344
Свою рецензию на «Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского» (Современник, 1836, кн. I) Пушкин сопроводил несколькими поразившими его мудростью мыслями архиепископа. См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 228.
(обратно)Комментарии
1
Вацуро.
(обратно)2
Остенде?
(обратно)3
Лагрене.
(обратно)4
Скорее наоборот. :)
(обратно)5
Терра инкогнита (Terra Incognita).
(обратно)6
Меншикову.
(обратно)7
Балаклавы?
(обратно)8
Висельник (фр.).
(обратно)9
L. Bodrowski, D. Iwanowski. Значит, Л. Бодровский и Д. Ивановский.
(обратно)10
Суворин А. С.
(обратно)


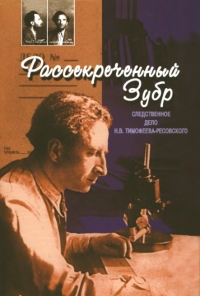
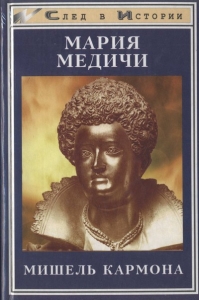



Комментарии к книге «Она друг Пушкина была. Часть 1», Светлана Мрочковская-Балашова
Всего 0 комментариев