Виталий Николаевич Дмитриевский Шаляпин
Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той. Сперва младенец… У. Шекспир. Как вам это понравитсяЯ рассказываю как будто всё о пустяках, о мелочах, о маленьких людях; но эти мелочи имели для меня огромное значение. Я на них воспитывался. Мы ведь все воспитываемся мелочами. То, чему нас учат Шекспиры, Толстые, гении мира, даже на разум наш непрочно ложится, а мелочи жизни, как пыль в бархат, проникают в сердце, порою отравляя его, а порою облагораживая. И хочется рассказать о маленьких хороших людях. Большие-то о себе сами расскажут.
Ф. И. Шаляпин. Страницы из моей жизниПролог ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
Если я в жизни был чем-нибудь, так только актером и певцом. Моему призванию я был предан безраздельно. У меня не было никакого другого побочного пристрастия, никакого заостренного вкуса к чему-либо, кроме сцены.
Ф. И. ШаляпинФедор Иванович Шаляпин — фигура в той же мере реальная, сколь и легендарная, воссозданная в исследовательской и художественной литературе, в богатом мемуарном, эпистолярном, кинематографическом, «звуковом» наследии, наконец — в устных рассказах, передаваемых из поколения в поколение. В совокупности всё это разнообразие фактов, впечатлений помогает понять, в каком богатом общественном, культурном и житейском окружении жил и творил великий артист. Среди «истолкователей» насыщенной событиями жизни великого артиста, ее интерпретаторов мы встречаем литераторов, артистов, музыкантов, критиков, художников, просто искренних почитателей и поклонников его таланта.
Время необратимо, сценические и вокальные шедевры Федора Ивановича Шаляпина сохранились для нас в несовершенных кинематографических копиях, звукозаписях, в свидетельствах очевидцев. Точность исторической и повседневной житейской детали, интерпретация факта, трактовка документа, наконец просто толкование обросшей часто невероятными подробностями «молвы» об Артисте, для понимания личности Шаляпина чрезвычайно важны. И тут мало читательской проницательности и осведомленности, какой бы широкой она ни казалась. Здесь крайне существенна непредвзятая оценка подчас сложных и противоречивых событий жизни Шаляпина, готовность и желание в море домыслов, досужих сплетен, а часто и преднамеренных наветов найти истину, понять логику мыслей, чувств, переживаний Артиста, попытаться осмыслить бытовые, биографические, художественные факты его жизни в реальном историческом и культурном контексте времени…
Когда-то актерское кочевье по России стало для Шаляпина его «университетом». В бродячих театральных труппах житейский опыт и сценическое мастерство передавались «из уст в уста», перетекали от одного поколения к другому — зримо, наглядно, в репетициях и спектаклях, наскоро собранных предприимчивыми антрепренерами, в неустроенном быте постоялых дворов. И, конечно же, в рассказах, «случаях», воспоминаниях, невероятных поучительных историях побед и поражений, увлечений и разочарований, коварства и любви, истины и лжи, преданности и вероломства, за которыми коротали время в долгих переездах и затянувшихся межсезоньях удачливые и невезучие вдохновенные и ревностные служители Талии и Мельпомены.
Школа жизни Федора Шаляпина неотделима от школы театра. Искренняя непосредственность, природный дар лицедея стремительно обогащались яркими впечатлениями, преобразовывались в высокий артистизм неповторимой творческой индивидуальности. Федор легко вбирал в себя чувственный и жизненный опыт собеседника, кем бы тот ни был — случайным попутчиком, собратом по счастью или несчастью, чиновником в конторе, церковным певчим, поваром, гувернанткой или выдающимся ученым, музыкантом, художником, актером, писателем, великим князем или особой царской фамилии. Певец открыт всем. А имена тех, кого Шаляпин называл своими наставниками или учителями, могли бы составить обширный список.
Создатель Русской частной оперы, энергичный промышленник и увлеченный искусством меценат Савва Иванович Мамонтов восхищенно рассказывал своему другу Константину Сергеевичу Станиславскому, одному из основателей Московского Художественного театра, как молодой Шаляпин жадно вбирал новые сведения о жизни и об искусстве. «При этом, — вспоминал Станиславский, — по своей актерской привычке он показал, как Федор Иванович жрет знания, сделал из обеих рук и пальцев подобие челюсти, которая жует пищу». Как раз в «мамонтовский» период творчества, готовя роль Бориса Годунова, Шаляпин, по свидетельству певицы В. И. Страховой-Эрманс, слушал лекции выдающегося русского историка, профессора Московского университета Василия Осиповича Ключевского, «не только ушами, но как бы ловил их ртом… казалось, что Шаляпин тут же претворяет мысли Ключевского, облекая их в художественную форму для сцены».
И в юные годы актерских скитаний, и в пору своей фантастической славы Шаляпин всегда — душа компании, Человек Театра, неистощимый на выдумку. Имея в запасе множество занятных историй, жанровых зарисовок, Шаляпин сразу окружал себя благодарными слушателями и зрителями. «Он ни на минуту не умолкал: остроты, вызывающие неизменные взрывы дружного смеха, юмористические рассказы в лицах из собственных наблюдений и забавные анекдоты — все это сыпалось как из рога изобилия. Незаурядное, безобидное остроумие, тонкая наблюдательность, огромная память и способность из каждого пустяка создать экспромтом нечто художественное, а главное, удивительное чувство меры и такта — все это вызывало невольный восторг слушателей… Рассказывая, он моментально превращался в каждое из действующих лиц», — вспоминал писатель Степан Скиталец. До последних дней певца восторженным слушателем оставался его друг, замкнутый и не любивший шумных сборищ Сергей Васильевич Рахманинов. Для него Федор Иванович специально запасался интересными «случаями из жизни».
Великим художником и реформатором отечественного и мирового искусства Федор Иванович Шаляпин стал не только благодаря своему трудолюбию, творческой целеустремленности, стечению обстоятельств, но еще и потому, что его природный дар был чутко услышан, замечен, заботливо взлелеян, понят и взращен окружавшими его талантливыми людьми, остро ощутившими бунтарский освободительный дух времени в самом широком смысле. Творец великих сценических шедевров, Шаляпин сам становился персонажем литературных и музыкальных произведений, живописных полотен, зарисовок, скульптурных изваяний… Современники увидели в нем портрет времени, обобщенный символ эпохи, воплощение творческих и мировоззренческих исканий целых поколений.
Соответствовал ли Шаляпин как реальная фигура представлениям о нем, нередко односторонним, восторженным, подчас демонстративно категоричным, а порой и искусственно навязанным публике? Однозначно ответить на этот вопрос трудно. Художник, щедро одаренная природой личность, великий работник в искусстве! В Шаляпине боролось, уживалось, конфликтовало множество противоречивых идей, рожденных полетом вдохновения, ищущей мысли, остротой пережитых чувств. В их борениях рождался гений созидания, в них прямо и косвенно проявилось и то живое влияние, которое оказывали на Шаляпина современники и породившая их эпоха. Художник, творец и в то же время человек — неотразимо обаятельный, страстный, открытый людям, окрыленный светлой увлеченностью жизнью, театром, любимой женщиной, природой, детьми, друзьями, товарищами по искусству.
…Существуют две могилы Шаляпина: одна в Париже, на кладбище Батиньоль, где артист покоился с 1938 до 1984 года, другая в Москве, на Новодевичьем кладбище. Здесь перезахоронен прах певца. Белый мраморный памятник работы скульптора А. Елецкого не предназначался для надгробия и попал в некрополь по воле случая, впрочем, весьма закономерного, если вспомнить непростую судьбу Федора Ивановича Шаляпина.
Так случилось, что и при жизни, и после смерти великого артиста его биографию многократно переписывали — в зависимости от «злобы дня». Идея перезахоронения праха Шаляпина на родине возникла под знаком «восстановления исторической справедливости», и ее реализация была по-своему смелым поступком. Эмиграция из Советской России — тяжкий грех и одновременно «трагедия художника, не принявшего революцию». Событию предшествовала долгая борьба с «консерваторами», которую самоотверженно возглавил писатель Юлиан Семенов, и только его личное приятельство с влиятельными в ту пору фигурами — например, с председателем Комитета государственной безопасности СССР Ю. В. Андроповым — решило дело. Тем не менее высшие власти дистанцировались от церемонии. Хоронили прах великого артиста на Новодевичьем кладбище «полуофициально», провести «мероприятие» доверили Большому театру и Союзу композиторов.
К 1990-м годам идеологическая конъюнктура в стране резко изменилась… Все то, чем попрекали Федора Ивановича долгие годы — эмиграция, «крамольная» книга «Маска и душа», — в новой политической ситуации создавало ему ореол жертвы большевизма, хотя еще при коммунистическом режиме — в 1991 году до развала СССР — Совет министров РСФСР успел отменить «как необоснованное» постановление Совнаркома от 1927 года о лишении певца звания народного артиста.
…В 1938 году мир скорбел о кончине великого артиста. Гроб с его телом еще стоял под образами в квартире на улице д’Эйло, когда 14 апреля в московских «Известиях» появилась заметка. В ней, в частности, говорилось:
«Громадный талант Шаляпина иссяк уже давно.
Ушел он из жизни, не оставив после себя ничего, не передав никому методов своей работы, большого опыта. Литературное наследство Шаляпина не представляет ничего интересного для искусства. Это хронологическое изложение различных эпизодов, поражающее своим идейным убожеством».
…Часто в концертах Шаляпин исполнял арию Дона Базилио о клевете. Что такое ложь, демагогия, оскорбительные намеки и домыслы, певец знал не понаслышке. Феноменальную популярность, славу, обаяние, доверие Федора Ивановича Шаляпина использовали друзья и враги, журналисты и критики, политики и обыватели, радикалы и либералы, «левые» и «правые»…
В книге предпринимается еще одна попытка освободить наши представления о Федоре Ивановиче Шаляпине от досужих домыслов, предвзятых представлений и приблизиться к истине в понимании трудной и великой жизни и судьбы Артиста.
Часть первая ВРЕМЯ ЖИТЬ!
Театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым… Магический кристалл, через который я Россию видел, был театр. Все, что я буду вспоминать и рассказывать, будет так или иначе связано с моей театральной жизнью. О людях и явлениях жизни я собираюсь судить не как политик или социолог, а как актер, с актерской точки зрения. Как актеру, мне прежде всего интересны человеческие типы — их душа, их грим, их жизнь.
Ф. И. ШаляпинГлава 1 НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В атмосфере бурного экономического развития конца XIX — начала XX века отечественная культура перестает быть привилегией аристократических слоев и богатых предпринимателей. Культура и искусство в разных формах и проявлениях энергично входят в городские предместья, становятся непременной принадлежностью повседневного быта. Совершенно особую художественную и просветительскую роль в жизни горожан начинает занимать театр, сценический язык оказывается доступен самым широким массам «простого люда», в том числе и неграмотным крестьянам, нахлынувшим в столицы и промышленные центры России.
Публика в зале определяет репертуар, исполнительский стиль, «лицо театра». Лучшие места теперь занимают не только дворяне-аристократы, но и среднее чиновничество, купечество, буржуазия, предприниматели, адвокаты, юристы, врачи, студенчество, учителя, гимназисты, торговцы, мастеровые, «обслуга»… Зрители ждут от театра показа близкого им быта, подчас бурно выражают свое отношение к событиям и героям. И именно на новую публику надеется А. Н. Островский, с ней он связывает будущее театра. «Все, что сильно в Великороссии умом, характером, все, что сбросило лапти и зипун, все это стремится в Москву: искусство должно уметь управиться с этой силой, холодно рассудочной, полудикой по своим хищническим и чувственным инстинктам, но вместе с тем наивной и детски увлекающейся… Русская нация еще складывается, в нее вступают свежие силы; зачем же нам успокаиваться на пошлостях, тешащих буржуазное безвкусие?»
В написанной в том же 1891 году записке «О причинах упадка драматического театра в Москве» А. Н. Островский полемически жестко выразил свое отношение к зрителям: «Для буржуазной публики нужен театр роскошный с очень дорогими местами, артисты посредственные и репертуар — переводный. Для публики понимающей и чувствующей нужен театр с местами очень дешевыми и с отличной труппой, туда буржуазия не пойдет».
Новый зритель хочет видеть на сцене жизнь, которую знает, театр с готовностью идет ему навстречу. И в самой творческой среде в эту пору растет стремление разрушить видовые и жанровые границы, театр вовлекает в сценическое пространство музыкантов, художников, композиторов. Промышленник и предприниматель Савва Иванович Мамонтов организует домашний театр, художники выступают в нем декораторами, актерами, певцами. Впоследствии В. М. Васнецов, К. А. Коровин, М. А. Врубель, В. А. Серов, И. И. Левитан станут соавторами замечательных спектаклей нового музыкального театра — Московской частной оперы С. И. Мамонтова.
«В чем особенная сила театра? — размышляет один из создателей открывшегося в Москве в 1898 году Художественно-общедоступного театра Вл. И. Немирович-Данченко, вспоминая эти годы. — Почему к нему тянутся и девушка из глухой провинции, как Нина Заречная в „Чайке“, и гимназист, и купеческий сын, и отпрыск княжеского рода князь Сумбатов… И лучшие писатели, перед которыми раскрыты настежь двери, предпочитают отдавать свои лучшие чувства театру и актерам?.. Музыка жизни, дух легкого свободного общения, непрерывная близость к блеску огней, к красивой речи: возбуждается все мое лучшее; идеальное отображение всех человеческих взаимоотношений, всегда трепетных, всё они переживают вместе: и радость, и слезы, и негодование.
Царство мечты. Власть над толпами».
В обществе рубежа XIX–XX веков рождался новый тип российского человека. Он ценит свободу, независимость, суверенитет личности. Осознание этих духовных посылов становится актуальным и важным для мировоззрения художника. В «картине мира» «частного человека» складывается романтический образ героя времени, преобразователя жизни, носителя передовых демократических идей. «Русские художники, — заметил искусствовед Н. Я. Берковский, — более других в Европе были правозащитниками того, что слабо еще, стоит нетвердо на сегодняшний день, и тех, кто слаб. Сама человечность была слаба в человеческом обществе… Русский и театральный реализм подобен реализму литературному — Пушкина, Л. Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Он писал картину всех господствующих сил в жизни, а в глубине картины реяли духовные сущности, которые могли бы пересоздать этот жизненный режим. В одной картине совмещались и силы, создающие жизнь, какова она на сегодня, и силы, призванные пересоздать ее, без романтического порыва одного от другого, что и составляло огромное преимущество русских художников-реалистов, была ли это литература, был ли это театр».
В искусстве XX столетия исключительно возросла роль «визуальности», усилился интерес публики к живописи, к зрелищным искусствам, к театру, к стремительно развивающемуся кинематографу. «В самом деле, — писал художник И. Е. Репин, — заметно, что наши современники все больше проявляют склонность воспринимать разного рода идеи глазами, через посредство изобразительного искусства, и вместо прежнего интереса к книгам в наши дни намечается возрастающий интерес к картинам».
Театр стал мощным притягательным центром, он властно вовлек в свою орбиту могучие таланты. На сценических подмостках публике открывался новый мир идей, создавался зримый образ современника, открывались пути его духовного совершенствования. На театр надеялись, верили в его возможность воспитать человека, существующего в гармонии внутреннего и внешнего мира, носителем идеи братского единения и всеобщей справедливости. Театр помогал «частному человеку» обрести опору в жизненных бурях, укрепиться в собственном самосознании, предназначении. В артистах публика видела «властителей дум», пророков, наставников, учителей, правдоискателей. Доступность, распространенность, живая действенность сценического искусства привлекали к нему публику разных сословий и вовлекали в его орбиту выдающихся художников современности. «Театр в наши дни, — утверждал искусствовед И. Э. Грабарь, — единственная область, где художник может еще мечтать о большом празднике для глаз, в котором есть где развернуться воображению». «Никто в театре не хочет слушать, а все хотят видеть», — заметил художник Л. Бакст. «Краски могут быть праздником для глаз, как музыка — праздник уха, души, — полагал живописец и декоратор К. А. Коровин. — Вот эту задачу я поставил себе в декоративной живописи театра, балета и оперы… Какая богатая палитра — театр!»
И деятели искусства, и сама публика в диалоге, в общении находили внутреннюю энергию созидания, стремились приблизиться к высоким идеалам. «Наконец-то, — удовлетворенно замечал режиссер К. С. Станиславский, — люди начинают понимать, что теперь, при упадке религии, искусство и театр должны возвыситься до Храма, так как религия и чистое искусство и очищают душу человечества».
Так сложилось, что в массовом сознании начала 1900-х годов «картина мира» формировалась исторично, в тесной сопряженности прошлого и настоящего с представлениями о будущем, связанными между собой глубинной культурно-исторической преемственностью, взаимовлиянием литературно-художественных видов и жанров. В театре эта сопряженность воплощалась с предельной очевидностью: наследие классиков оживало в восприятии публики в осязаемых конкретных образах, в богатой зрелищности режиссерских, актерских, музыкально-сценографических прочтений. В живом восприятии театральной аудитории поэзия, проза, драма «актуализировались» в обновленном, отвечающем «настроению момента» визуальном сценическом варианте, психологически насыщенном и одухотворенном фантазией и талантом исполнителей. Сценические персонажи, созданные великими корифеями театра, «властителями дум» — Ермоловой, Ленским, Федотовой, династией Садовских, Варламовым, Давыдовым, Савиной, Комиссаржевской, Шаляпиным, Собиновым, Ершовым, вступали в непосредственное общение с аудиторией, чутко реагировали на атмосферу зала, на его оценки. Произведения писателей, поэтов, драматургов выступали в театре как преобразованная их сценическим талантом одухотворенная действительность.
Публике открывался новый круг идей, создавался зримый образ героя времени, обнаруживались пути духовного самосовершенствования. «Для нас пьесы и театры до сих пор то же самое, что, например, для западного европейца парламентские события и политические речи», — подчеркивалось в одной из статей журнала «Театр и искусство». Здесь же сообщалось, что в «интеллигентских кругах» немногие читают журналы, покупают книги, но все читают газеты и посещают театр: «Газеты и театр — самые могущественные факторы идейных влияний: обсуждается все, выходящее из театра, как нечто конкретное, жизненное, как случай из настоящей жизни». Самой публикой, а не только журналистами и критикой, театр тем самым осмыслялся как инструмент мощного воздействия на общественное сознание: «Театр не пустая игра, его действительное призвание служить бессмертным идеалам красоты и правды… Театр единственное место, где русский чувствует себя гражданином, где он сливается с подобными себе и упражняется в образовании общественного мнения… Положение в государстве театра служит четким показателем степени культурности страны, ее прогрессивного роста или ее распада».
Конечно, в этих страстных заклинаниях нередко больше романтических надежд, чем оценок реального состояния сцены: театров самого разного качества и масштаба — столичных, государственных, частных, провинциальных, любительских, «народных», «дачных» и прочих — было немало, и в своем множестве они образовывали весьма пеструю и неоднородную художественную панораму. Но сами эти восторженные декларации показательны: они свидетельствовали об общественном понимании роли сценического искусства, которое сложилось в России на рубеже XIX–XX веков. И именно в таких творчески благоприятных условиях юный Федор Шаляпин робко, но целеустремленно переступает сценическую рампу театра и навсегда входит в художественный мир.
Глава 2 ЗАГЛЯНУВ В ПРОШЛОЕ
В вестибюле казанской гостиницы «Франция» на черной доске мелом поименованы постояльцы. В конце августа 1912 года в списке гостей появилась фамилия — Шаляпин. Знаменитый бас приехал на родину — не гастролировать, а «приватно». «Шаляпин решил дополнить свои мемуары более обширными воспоминаниями о своих детских и юношеских годах, и с этой целью он посетит все места, связанные с его детством, — сообщала газета „Казань“. — Кроме того, Ф. И. Шаляпин специально везет из Петербурга фотографа, который будет производить снимки. Этими снимками будут иллюстрированы мемуары».
Федора Ивановича в поездках обычно сопровождал слуга-китаец с длинной косой. Имя ему было присвоено русское — Василий. Фотограф же отыскался на месте — Г. Г. Сотников, работавший под началом казанского доктора-аптекаря Эмилия Грахе: он, кстати, приходился родней Марии Валентиновне Петцольд, второй жене Шаляпина; она тоже родом из Казани. (Запутанные семейные связи расследует в своей обстоятельной книге «Шаляпин в Казани» С. В. Гольцман.)
Г. Сотников сделал около пятидесяти снимков, стремясь запечатлеть Казань времен детства великого артиста. За минувшие 40 лет город мало изменился. На одной из фотографий — облезлый дом с осыпавшейся штукатуркой. Рядом с высоким элегантным Федором Ивановичем седобородый портной П. И. Глузман. Когда-то он спасал маленького Федю от жестоких побоев. При встрече Глузман, разумеется, не узнал Шаляпина — так об этом рассказывает со слов Ф. И. Шаляпина его дочь Ирина Федоровна:
— Здравствуйте, господин! Что вам угодно? Что пошить?
— А где же сапожник?
— Помер года три назад.
— А помните его ученика Федьку?
— Федька? Был, был такой.
— А не знаете, куда он девался?
— Таки пропал. Правда, говорят, что знаменитый Шаляпин и есть тот самый Федька, только мне не верится…
Много воспоминаний было связано у Шаляпина с Суконной слободой. Узнав дом, в котором жил когда-то с родителями, он захотел его приобрести. Это оказалось невозможным: дом недавно был продан новому хозяину. (Впрочем, что стал бы делать Шаляпин с этим домом, представить трудно: скорее всего, желание стать «казанским домовладельцем» было лишь настроением момента…)
В Шестом начальном училище Шаляпин фотографировался с учениками. На фото — несколько десятков наголо стриженных мальчишек. Узнав о приезде артиста, пришел в училище старый звонарь Лукич, с ним Федор пел в Духосошественской церкви. Вместе со своим учителем Н. В. Башмаковым и Лукичом Федор Иванович на три голоса спел «Да исправится молитва моя» и «Покаяние отверзи ми двери»…
Несколько дней спустя после приезда артиста в Казань в той же гостинице «Франция» остановился приятель Федора Ивановича литератор Степан Гаврилович Скиталец (Петров). Шаляпин собирался куда-то идти:
— Вот, завернул в Казань взглянуть на родной город, хожу здесь, отыскиваю те места, где когда-то жил… Пойдем вместе прогуляемся…
Приятели вошли во двор древнего живописного монастыря. Кладбище… Полутемная церковь, служба, молящиеся прихожане…
— Зайдем в общежитие, — сказал Шаляпин. — Там есть комната, в которой я жил.
В мрачноватом здании с длинным полутемным коридором пахло щами и помоями. Из засаленных дверей торчала рваная обивка. В конце коридора Шаляпин остановился:
— Вот! В этой комнате!
Мимо них проходил чернобородый молодой монах.
— Можно нам войти сюда? — спросил Шаляпин. — Нам только посмотреть…
— Можно, можно, — отвечал монах, оглядывая незнакомых гостей.
«Мы вошли в ужасную, полутемную, сырую комнату, в которой, по-видимому, теперь никто не жил, — вспоминал С. Г. Скиталец. — Стекла единственного окна, кажется, никогда не мылись. Голая койка, некрашеный грязный стол и какая-то рухлядь на полу.
Шаляпин опять долго стоял молча, о чем-то думая. Казалось, он ожидал, как и у сапожной мастерской, встретить то хорошее, что — он помнил — было здесь когда-то!
Или вспомнил он юного монастырского служку с пылкой головой, обуреваемой несбыточными мечтами, которому было хорошо здесь?.. И отчего было хорошо?.. Не от пламенной ли юной фантазии, не замечавшей окружающего убожества и уносившейся в сказочное царство?
Отчего же теперь тут так голо, неприглядно и холодно, словно навсегда ушло отсюда то, что как будто оставил здесь юный мечтатель?
Я не мешал Шаляпину думать и молчал все время, пока мы возвращались к нему в гостиницу.
Войдя, он, не снимая пальто и шляпы, сел на стул, стоящий посреди комнаты, и, облокотившись на трость, незаметно для самого себя запел тем тихим, за душу хватающим фальцетом, каким умел петь только Шаляпин»:
Куда, куда вы удалились. Весны моей златые дни?..…Что же побудило знаменитого певца, разрываемого на части заграничными контрактами, выступлениями в Москве и Петербурге, устремиться в Казань? «Великий артист», «несравненный художник», «царь басов» — одна из самых популярных фигур 1900–1910-х годов. Портреты Шаляпина выставлены в витринах магазинов, фотоателье, тиражируются в открытках. Между реальной жизнью певца и его репутацией, создаваемой молвой, сплетнями и пересудами, — «дистанция огромного размера». Нелепые слухи не раз вынуждали артиста публично опровергать сенсации и сплетни, объяснять свои поступки, уточнять факты биографии. И надеясь если не покончить с нелепыми домыслами, то по крайней мере внести долю истины в представления публики о себе, Шаляпин собирается писать мемуары. С этой мыслью он и наведался в Казань. Певец хотел освежить в памяти атмосферу и события детства и отрочества, встретиться с людьми, некогда знавшими его, сфотографироваться с ними и потом воссоздать свою жизнь такой, какой она виделась ему самому, или уж во всяком случае такой, какой он хотел представить ее читающей публике.
Иван Алексеевич Бунин писал о Шаляпине:
«…любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, „из какой грязи попал в князи“. Раз показал мне карточку своего отца:
— Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!
На карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усомнился: точно ли драл?»
Фотокарточка, о которой упоминает Бунин, сделана в Вятке за несколько лет до смерти Ивана Яковлевича Шаляпина. Ее можно видеть в московском Доме-музее Ф. И. Шаляпина на Новинском бульваре. На обратной стороне фотографии дочь певца Ирина Федоровна написала: «Шуба была подарена отцу Федором Ивановичем». Умер Иван Яковлевич в 1901 году шестидесяти трех лет от роду, неподалеку от Вятки, в маленькой больнице, находившейся в восьми верстах от деревни Сырцово (ее еще называли Шаляпинки). Отсюда он был родом, до восемнадцати лет крестьянствовал, потом подался в город, служил дворником, водовозом, к двадцати годам выучился грамоте, пошел в писари.
Женившись на Евдокии Прозоровой, девушке из соседней деревни Лагуновской, Иван Яковлевич обосновался в Казани, поселился на Рыбнорядской улице, в доме Лисицына. В метрической книге казанской Богоявленской церкви записано: «1-го февраля 1873 года у крестьянина Вятской губернии Ивана Яковлева Шаляпкина (курсив наш. — В. Д.) и его законной жены Евдокии Михайловой родился сын Федор». На другой день, 2 февраля, младенца крестили «крестьянин Владимирской губернии Николай Алексеев Тонков и казанского мещанина Родиона Петрова Шишкова дочь девица Людмила Родионова». Ошибка в метрической книге сделана то ли по небрежности, то ли потому, что крестный отец был мало знаком с семьей крестника.
Дочь певца Ирина Федоровна Шаляпина (Бакшеева) в 1953 году встречалась с престарелой хозяйкой дома на Рыбнорядской. Та поведала собеседнице: матери Федора пришлось побегать по соседям, уговаривая их окрестить ребенка. Федора крестили на следующий день после рождения. Видимо, отец и мать потому так торопились с крестинами, что старший брат Федора Василий умер во младенчестве. Кроме того, день крестин пришелся на Сретение, и соседи, вероятно, не хотели отвлекаться от гулянья ради малознакомых людей.
Шаляпины переехали в Казань незадолго до рождения Федора. Крестная мать Людмила Родионовна Харитонова (Шишкова) в преклонные годы жила в московском доме артиста на Новинском бульваре. Она и рассказала Ирине Федоровне, как мать-портниха велела ей, тринадцатилетней девочке, крестить младенца: «Когда положили мне на руки ребенка, я, боясь его уронить, заплакала на всю церковь, закричал и младенец. Так до конца крестин мы с ним и голосили…»
В семье соседа сапожника Николая Алексеевича Тонкова в эту пору также случилось прибавление семейства. В той же Богоявленской церкви Тонков окрестил и свою дочь Александру. (Потому, наверное, и дал согласие стать крестным отцом Феди — заодно.) Впоследствии Шаляпины и Тонковы дружили домами. Когда Федор подрос, его отдали в ученье к Николаю Алексеевичу. Став знаменитым, Шаляпин забыл о своем крестном, но в 1904 году неожиданно получил от него письмо:
«Любезный сын Федор Иванович!
Большой промежуток времени прошел с тех пор, как я Вас видел в последний раз, и в это время я успел настолько состариться, что чуть хожу и плохо вижу, а потому не могу работать по своему ремеслу сапожника.
И до моего слуха дошло, что Вы в настоящее время стоите настолько высоко, что я в Вашу бытность в Казани два раза пытался видеть Вас, но меня как дряхлого старика приняли за нищего в моих лохмотьях, а потому попросили убираться подальше восвояси. Вот как, сынок!
Услышал я также и о том, что Вы много делаете добра… а потому и решился написать Вам, пожалейте меня и мою старуху, пришлите нам сколько-нибудь денег, чем премного обяжете и заставите вечно молить о Вас пред Всемогущим Богом.
Живу я в том же доме Лисицына, ныне Богаутдиновой, на Рыбнорядской улице, где Вы родились и воспитывались…
Остаюсь Ваш крестный отец
Николай Алексеев Тонков».С этого времени Шаляпин считал своим долгом помогать семье Николая Алексеевича.
Впрочем, и искренних поклонников, и сомнительных «земляков», желающих «небескорыстно обняться», обнаруживалось предостаточно. От слишком бурных оваций, завершавшихся ликованиями и качаниями, приходилось уходить закулисными лабиринтами и хозяйственными гостиничными коридорами. Казанский журналист описывал свой приход в гостиницу, где остановился Шаляпин: «Чуть ли не на каждой ступеньке либо „родственница“, либо „близкий знакомый“. Какие-то старушки в ярко-пунцовых наколках, старички в потертых сюртуках, „без пяти минут Шаляпины“ из местных певцов, театралки и поклонницы талантов, молодые люди неопределенной масти, отставные „рецензенты“ с испитыми физиономиями и нежно-фиолетовыми носами. Всё это сборище разных возрастов и полов и „родов оружия“ явилось поклониться „всемирно известному“ Шаляпину, напомнить ему о своем существовании, а то и просто посмотреть, каков „из себя“ этот Шаляпин…»
Глава 3 КАЗАНСКОЕ ДЕТСТВО
Вскоре после рождения Федора — а оно выпало на 1 (13) февраля 1873 года — отец пошел служить писарем в Казанскую уездную земскую управу. Заработки Ивана Яковлевича начались с 15 рублей и постепенно увеличились до 35. Получал он и ежегодные денежные награждения, но они не сильно облегчали благополучие семьи. Тому виной был тяжелый, неуживчивый характер Ивана Яковлевича.
«Отец мой был странный человек… Трезвый он был молчалив, говорил только самое необходимое и всегда очень тихо, почти шепотом… Я не помню, чтобы он в трезвом состоянии сказал грубое слово. Если его что-либо раздражало, то скрежетал зубами и уходил, но все свои раздражения он скрывал лишь до поры, пока не напивался пьян, а для этого ему стоило выпить только две-три рюмки. И тогда я видел перед собой другого человека… Пьяный, отец приставал положительно к каждому встречному… Бывало, какой-нибудь прилично одетый господин, предупредительно наклонив голову, слушает отца с любезной улыбкой, со вниманием спрашивает:
— Что вам угодно?
А отец вдруг говорит ему:
— Желаю знать, отчего у вас такие свинячьи глаза?»
Об отце певец вспоминал сдержанно и противоречиво. В его памяти Иван Яковлевич оставался «странным человеком». Высокого роста, со впалой грудью и подстриженной бородой, он был не похож на крестьянина.
«Волосы у него были мягкие и хорошо причесаны — такой красивой прически я ни у кого больше не видел. Приятно мне было гладить его волосы в минуты наших ласковых отношений. Носил он рубашку, сшитую матерью, мягкую, с отложным воротником и с ленточкой вместо галстука, а после, когда явились рубашки „фантазия“, — ленточку заменил шнурок. Поверх рубашки — „пинжак“, на ногах смазные сапоги, а вместо носков — портянки».
С. В. Гольцман сомневался в объективной оценке Ивана Яковлевича Шаляпина: исследователи слишком доверились мемуарам певца.
«Стоит ли подчеркивать пьяный и разгульный характер отца Ф. И.? Насколько это соответствует действительности? Ведь, как показывают архивные данные, И. Я. Шаляпин трижды поступал в Уездную управу и трижды увольнялся. Однажды избавившись от горького пьяницы, второй раз его бы не приняли в управу, не так ли? Даже в наше время никакой профсоюз не помог бы. А в прежние времена тем более. И еще. Как вяжется, например, такой факт: пьяница, пропойца, пришедший в Вятку пешком в солдатской шинели, вдруг становится волостным судьей в ряду учредителей общества трезвости?»
Может быть, правы И. А. Бунин и С. В. Гольцман? Может быть, Шаляпин в своих воспоминаниях, записанных Горьким, страстным социальным обличителем «свинцовых мерзостей жизни», под влиянием «соавтора» несколько «сгустил краски» своего трудного семейного быта? Или Федор Иванович, эгоистически сбросивший с себя бремя бытовых забот, сам хотел как-то оправдать свой побег из семьи?
…Обитали Шаляпины в эту пору в Суконной слободе, в доме Лисицына на Рыбнорядской улице. Примечательное совпадение: подростком Горький тоже в 1880-х годах жил на этой улице в полуразрушенном доме со странным названием «Марусевка», неподалеку — пекарня булочника Семенова, Алексей служил у него подручным. Вполне возможно, что Федор и Алексей встречались на уличных перекрестках, но тогда их интересы и заботы были разными: в 1881 году Горькому шел четырнадцатый год, Шаляпину исполнилось восемь.
Детские воспоминания Шаляпина чередуются эпизодами мальчишеских игр, деревенских праздников, жестоких уличных драк, семейных раздоров. Жили бедно, мать прирабатывала поденщиной, занималась чем придется. Федор любил мать. Как-то отец, поскандалив, ударил жену, Федор бросился на защиту. «Жалел я ее. Это был для меня единственный человек, которому я во всем верил и мог рассказывать все, чем в ту пору жила душа моя».
Не сохранилось ни одной фотографии матери артиста Евдокии Михайловны (1844–1891). В «Страницах из моей жизни» Шаляпин дает ее словесный портрет: «А внешне мать была женщиной, каких тысячи у нас на Руси: небольшого роста, с мягким лицом, сероглазая, с русыми волосами, всегда гладко причесанными, — и такая скромная, малозаметная… Есть у нас на Руси какие-то особенные женщины: они всю жизнь неутомимо борются с нуждою, без надежды на победу, без жалоб, с мужеством великомучениц перенося удары судьбы».
Лучшие воспоминания о детстве связаны у певца с деревней Ометово, где Шаляпины снимали домик у мельника Тихона Карповича Григорьева и его жены Марии Кирилловны. В эту пору у Евдокии Михайловны было трое ребятишек мал мала меньше. Старшему, Федору, — пять лет. Запомнились длинные вечера: мать с соседками пряли при свете лучины, рассказывали друг другу страшные истории. За работой женщины часто пели. «Певал я часто с матушкой моей, она была очень милой домашней песельницей. Голос был простой, деревенский, но приятный. И мы часто голосили с ней разные русские песни, подлаживая голоса». Песни, которые Федор слышал в детстве, войдут впоследствии в его концертный репертуар. Предваряя исполнение песни «Эх ты, Ванька», Шаляпин сообщал публике: «Записано со слов моей матушки».
В Ометове Федор слышал хороводные, обрядовые песни «зеленых святок» — на Семик, когда девушки в сарафанах и алых лентах, юноши в ярких рубахах кружились в хороводах. «Поступь, наряды, праздничные лица людей — все рисовало какую-то другую жизнь, красивую и важную, без драк, ссор и пьянства».
Как-то отец повредил ногу. Он не мог много ходить, и пришлось вернуться на Рыбнорядскую улицу, ближе к земской управе. Федора с младшим братом и сестрой запирали в комнате, отец шел на службу, мать — на заработки. После деревенских просторов жизнь в Казани показалась Федору шумной и тоскливой.
Из дома на Рыбнорядской улице, где некогда родился Федор, семья перебралась в Собачий переулок и, наконец, в Татарскую слободу. Здесь жизнь стала разнообразнее и красочнее. Внизу, в подвале, звенели кузнечные молотки, рядом во дворе каретники обивали экипажи свежевыкрашенной кожей и цветным сафьяном, мастера прилаживали колеса, чинили хомуты и конскую упряжь. И сквозь этот шум, звон, гвалт вдруг прорывалась песня, которую запевал, выйдя во двор, молодой кузнец. «Когда кузнец запевал песню, мать моя, сидя за работой у окна, подтягивала ему, и мне страшно нравилось, что два голоса поют так складно. Я старался примкнуть к ним и тоже осторожно подпевал, боясь спутать песню, но кузнец поощрял меня…»
Как-то зимой, до устали накатавшись на деревянном коньке, Федор забежал погреться в церковь и там впервые услышал хор. Среди певчих на клиросе были и мальчишки-ровесники с нотами в руках…
Позднее Шаляпины перебрались в Суконную слободу, Федор вновь услышал церковное пение во дворе. Оказалось — выше этажом проводит спевку регент Иван Осипович Щербинин. Федор попросился в хор, довольно легко освоил азы нотной грамоты и вскоре стал петь в Духосошественской церкви. Федор делал несомненные успехи, и Щербинин назначил ему первое в жизни жалованье — полтора рубля в месяц.
Регент брал его с собой в разные церкви, на молебны, свадьбы, похороны, а спустя некоторое время определил в архиерейский хор Спасского монастыря, однако отец не считал пение стоящим занятием и потому отдал сына в учение к сапожнику Николаю Алексеевичу Тонкову. Подростку нравилось у крестного. В мастерской на полках в стеклянном шкафу аккуратно разложены сапожные колодки, свежепахнущая кожа. Жена Тонкова, тихая и добрая женщина, угощала Федора орехами и мятными пряниками. «Голос у нее был ласковый, мягкий и странно сливался для меня с запахами пряников; она говорит, а я смотрю в рот ей, и кажется, что она не словами говорит, а душистыми пряниками…»
В ту пору в Казани свирепствовала скарлатина. В 1882 году болезнь унесла брата Николая и младшую сестру Евдокию. Федор недуги одолел.
Попытки Ивана Яковлевича увлечь сына полезным, с его точки зрения, ремеслом успеха не имели. Как сказочный колобок, Федор убегал от своих добрых и недобрых наставников. В конце концов Иван Яковлевич определил Федора в Шестое начальное училище. Здесь его учителем стал Николай Васильевич Башмаков (1851–1915), любитель-скрипач и знаток хорового пения.
Федор с восторгом слушал музыкальные импровизации Николая Васильевича, он даже убедил родителя купить на толкучке за два рубля скрипку и с жаром приступил к освоению инструмента, однако скоро был остановлен отцом:
— Ну, Скважина, если это будет долго, так я тебя скрипкой по башке!
Первые театральные впечатления Федор пережил в рождественском балагане, на Николаевской площади. На Масленицу, Пасху и Святки пыльная площадь оживала, строились балаганы, качели, карусели, лотки с воздушными шарами и глиняными свистульками. Надрывались шарманки, горланил Петрушка…
Федору было лет восемь, когда он увидел балаганного деда Якова Мамонова. Его «выходы» ярко запечатлелись в душе подростка. Одетый в домотканый армяк и лапти, Яков веселыми прибаутками зазывал публику в балаган, импровизируя красочные сценки из быта мастеровых, солдатского и городского люда. «Эх вы, сестрички, собирайте тряпички, и вы, пустые головы, пожалуйте сюда! Эй, золовушка, пустая головушка, иди к нам, гостинца дам! Прочь, назем, губернатора везем!» — кричал он, держа в руках истрепанную куклу.
Гимнаст, акробат, владелец балагана с солидным названием «Театр спиритизма и магии», Яков Иванович Мамонов (1851–1907) умело вел свое семейное «художественное дело». Обитатели поволжских городов любили его веселые и озорные экспромты, красочные представления. Федор часами неотрывно наблюдал необычное зрелище. «Может быть, именно этому человеку, отдавшему себя на забаву толпы, я обязан рано проснувшимся во мне интересом к театру, „к представлению“, так не похожему на действительность… Под влиянием Яшки в меня настойчиво вселилась мысль: хорошо вдруг на некоторое время не быть самим собою! (курсив Ф. И. Шаляпина. — В. Д.) — вспоминал певец уже много лет спустя. — И вот в школе, когда учитель спрашивает, а я не знаю, — я делаю идиотскую рожу… Дома является у меня желание стащить у матери юбку, напялить ее на себя, устроить из этого как будто костюм клоуна, сделать бумажный колпак и немного разрисовать рожу свою жженой пробкой и сажей. Либретто всегда бывало мною заимствовано из разных виденных мною представлений — от Яшки, и казалось мне, что это уже все, что может быть достигнуто человеческим гением. Ничего другого уже существовать не может. Я играл Яшку и чувствовал на минуту, что я — не я. И это было сладко. Яшкино искусство мне казалось пределом».
Выступления Якова Мамонова случалось видеть и Горькому — колоритная фигура запомнилась надолго: «Его „эзопова речь“ всегда скрывала в себе бытовую сатиру и юмор». Но очень скоро новые яркие впечатления затмили Яшкин балаган…
«Я считаю знаменательным и для русской жизни весьма типичным, что к пению меня поощряли простые мастеровые русские люди и что первое мое приобщение к песне произошло в русской церкви, в церковном хоре, — писал Ф. И. Шаляпин в книге „Маска и душа“. — Между этими двумя фактами есть глубокая внутренняя связь. Ведь вот, русские люди поют песню с самого рождения. От колыбели до пеленок. Поют всегда. По крайней мере, так это было в дни моего отрочества. Народ, который страдал в темных глубинах жизни, пел страдальческие и до отчаяния веселые песни… Пели в поле, пели на сеновалах, на речках, у ручьев, в лесах и за лучиной. Одержим был песней русский народ, и великая бродила в нем песенная хмель… Так вот, к песне поощрял меня и молодой кузнец, живший рядом с нами в Татарском дворе. Поощрял к песне и каретный мастер — сосед, в бричках и колясках которого, так сладко пахнущих кожей и скипидаром, я не раз проводил летние ночи, засыпая с песней. Поощрял меня к песне и другой сосед — скорняк, вознаграждая меня пятаком за усердную мою возню с его ласковыми и мягкими шкурками».
В атмосфере русского быта лежат истоки художнической судьбы Шаляпина — любви к природе, к народной песне, к простым людям, в живой причастности своей к нелегким их судьбам.
Глава 4 ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА
Казань конца XIX века — один из самых театральных городов на Волге. Тон задавали студенты университета — публика требовательная, не терпевшая фальши, ремесленничества на сцене. Актриса О. В. Арди-Светлова вспоминала: студенты в Казанском театре — это «и судьи, и исполнительная власть». «Театры были потребностью жизни, — писал друг Шаляпина художник К. А. Коровин. — Федор Иванович Шаляпин… провел свою юность в Казани, в Суконной слободе, и сохранил в себе сердце с великой любовью к искусству. Не потому ли, что у нас в каждом городе был театр? Не будь его — не было бы Шаляпина. И остался бы он типом Суконной слободы».
В Казанском театре многие годы держал антрепризу Петр Михайлович Медведев (1837–1906) — потомственный актер, двоюродный брат известной актрисы Малого театра Надежды Михайловны Медведевой, человек высокой культуры, отличавшийся от большинства провинциальных антрепренеров художественным вкусом, серьезным отношением к сценическому искусству. Известный столичный критик А. Р. Кугель назвал П. М. Медведева «собирателем русского актера»: в его провинциальных антрепризах начинали впоследствии прославленные мастера столичной сцены — В. Н. Давыдов, М. Г. Савина, П. А. Стрепетова…
Как-то один из приятелей Федора предложил ему пойти в театр на дневной спектакль. Изумленно разглядывал подросток огромный зал, стоя в последнем ряду галерки. Как рассказывает С. В. Гольцман, внешне театр не представлял интереса, но внутренняя отделка позволяла ему свободно конкурировать с лучшими российскими провинциальными театрами той поры — варшавским и одесским. Пятиярусный зал с прекрасной акустикой вмещал более тысячи зрителей. Поражала красота главного театрального занавеса художника М. И. Бочарова. В спокойных, мягких тонах изображался пролог поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» — «У лукоморья дуб зеленый…». Русалка, Баба-яга со ступой, Кощей над златом и великий русский поэт под сенью раскидистого дуба рядом с рассказчиком-котом, а слева, на втором плане, — «тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных и с ними дядька их морской».
…Шумела публика, пахло газом: театр освещался газовыми светильниками. Но вот вышел к пульту дирижер, грянул оркестр и началась «Русская свадьба в исходе XVI века» П. П. Сухонина, зрелище, насыщенное музыкой, танцами, пением и обрядовыми сценами. Спектакль закончился, публика долго вызывала артистов. Наконец опустили занавес, а Федор, зачарованный увиденным, не мог найти в себе силы покинуть зал. Театр открыл Федору удивительную возможность преображения, приобщения к жизни других людей. Домой идти не хотелось. Побродив по городу, Федор вернулся и купил билет на вечерний спектакль. Чудесный и необычный мир открылся перед подростком!
«Русская свадьба» ставилась в Казани в 1883 году силами Первого Товарищества русских актеров во главе с артистами М. И. Писаревым (1844–1905) и В. Н. Андреевым-Бурлаком (1843–1888). В труппе служил и будущий писатель В. А. Гиляровский (1853–1935), выступавший под псевдонимом В. Сологуб. Вечером того же памятного Федору дня на сцене состоялся бенефис М. И. Писарева в роли Русакова в пьесе А. Н. Островского «Не в свои сани не садись», а после его окончания «любимец публики» В. Н. Андреев-Бурлак читал отрывки из гоголевских «Записок сумасшедшего» и рассказы собственного сочинения.
Теперь Шаляпин не пропускал выступлений Андреева-Бурлака, он запомнил с голоса некоторые его устные рассказы и впоследствии даже читал их с эстрады. Жизнь актера скоропостижно оборвалась в Казани, куда он приехал на свои традиционные гастроли в 1888 году. Весь город вышел проводить любимого артиста. Шаляпин участвовал в отпевании Владимира Николаевича в Воскресенской церкви, оттуда траурная процессия двинулась к университету, к городскому театру и Панаевскому саду (здесь часто выступал артист), а затем на Арское кладбище.
Вспоминая о театре в Казани, Шаляпин называет «Медею» — драму А. С. Суворина и Н. Е. Буренина, популярную в те годы переделку трагедии Еврипида, восторженно говорит об исполнителях главных ролей Н. В. Пальчиковой и М. К. Стрельском. Правда, исследователи уточняют: первоначально Федор видел в роли Медеи другую актрису, А. Я. Романовскую, любимицу поволжской студенческой молодежи, прозванную почитателями ее таланта «саратовской богородицей». «Я смотрел на сцену, где светила взятая с неба луна, страдала Медея, убегая с детьми, метался красавец Язон… Театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым. Возвращаясь домой по пустынным улицам, видя, точно сквозь сон, как редкие фонари подмигивают друг другу, я останавливался на тротуарах, вспоминал великолепные речи авторов и декламировал, подражая мимике и жестам каждого».
Мастером сцены, в совершенстве владевшим пластикой, жестом, движением, интонацией считал Шаляпин Ивана Платоновича Киселевского (1839–1898). «Этот знаменитый актер гремел в конце прошлого века в ролях „благородных отцов“ — вообще джентльменов. Я видел его на сцене в Казани, когда был еще мальчиком». Киселевский славился элегантностью, аристократическими манерами, с успехом играл Скалозуба, Кречинского, великолепно исполнял характерные роли. Режиссер П. И. Мельников считал, что от Киселевского Шаляпин «схватил благородную читку». Незадолго до смерти актера в 1897 году Шаляпин встретился с ним в Нижнем Новгороде — случайно оказались в одной гостинице — и с благодарностью рассказал ему о своих отроческих впечатлениях.
…Театр поразил Федора в самую душу! «Занавес опускался, а я все стоял, очарованный сном наяву, сном, которого никогда не видел, но всегда ждал его, жду и по сей день. Люди кричали, толкали меня, уходили и снова возвращались, а я стоял. И когда спектакль кончился, стали гасить огонь, мне стало грустно. Не верилось, что жизнь прекратилась».
Новым удивительным откровением стали для Федора оперные спектакли. Артисты не только красочно воссоздавали богатую невероятными приключениями жизнь своих героев: объяснялись в любви, страдали, жаждали отмщения, торжествовали победу, трагически погибали, но еще и пели под музыку большого оркестра! Федору стало «тесно» на галерке, его душа рвалась из зала на сцену, он хотел сам стать участником захватывающего волшебного действа. И это, казалось бы, невыполнимое желание вдруг стало возможным: для массовых сцен театру срочно понадобились статисты. Высокого нескладного парня с горящими глазами обрядили в темный костюм, вымазали лицо жженой пробкой и даже обещали за работу пятак. По команде ведущего спектакль актера массовка выбегала на сцену, кричала «ура!» в честь Васко да Гамы, и едва ли не искреннее и восторженнее других радовался прибытию португальского мореплавателя Федор Шаляпин. Это была опера Дж. Мейербера «Африканка».
Тогда же Федор впервые услышал «Фауста» Ш. Гуно. Звезды оперной труппы — бас С. К. Ильяшевич (1854–1899) — Мефистофель и тенор Ю. Ф. Закржевский (1852–1915) — Фауст поражали публику артистизмом, одухотворенностью, «горячностью и нервностью в пении, уменьем быть разнообразным в каждой роли, мастерством в создании типов». Закржевский — превосходный Элеазар в опере Ф. Галеви «Жидовка», Рауль в «Гугенотах» Дж. Мейербера. Федор совершенно пленен певцом, стоя за кулисами в ожидании массовых сцен, он, не отрываясь, следил за каждым движением артиста.
Когда в 1912 году Шаляпин приедет в Казань собирать материалы для автобиографии, он увидится с Закржевским, к тому времени сильно постаревшим и почти забытым. На нищенскую жизнь свою он зарабатывал случайными уроками. «Я имел грустную честь помочь ему немножко и видел на его глазах слезы обиды и благодарности, слезы гнева и бессилия. Это была тяжелая встреча. Пропал голос, и нет человека, он всеми забыт, заброшен…» Встреча потрясла Шаляпина. С той поры риск потерять голос преследовал и пугал его. В памяти возникал забытый публикой кумир — Закржевский.
Несмотря на свои театральные увлечения, Федор в 1885 году с похвальным листом окончил училище, и отец определил его писцом в ссудную кассу. Видимо, это было непросто и предполагался серьезный срок, в течение которого работа не оплачивалась. С. В. Гольцман обнаружил в архиве Казанской управы следующий документ, написанный аккуратным детским почерком:
«Его Высокоблагородию г. Председателю Казанской Уездной Земской Управы крестьянского сына Федора Ивановича Шаляпина
Прошение
Имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие принять меня в канцелярию Управы без вознаграждения за труды.
Июня дня 1886 г.
Крестьянский сын Федор Шаляпин».На службу Федор приходил с отцом, хорошо зарекомендовал себя, но только спустя полгода в земском журнале появилась запись: «…определить для постоянных занятий в канцелярии в помощь двум писцам, сил которых недостаточно, мальчика Шаляпина, занимавшегося уже в управе бесплатно с 20 июня, определив ему жалованье по десять рублей в месяц».
Но большой радости это вознаграждение Федору не доставило. Он ждал новых театральных впечатлений, и спектакли приехавшей в Самару опереточной труппы настолько захватили его, что отец отправил сына подальше от «искушений» в город Арск — учиться столярному и переплетному ремеслу. Однажды Федор решил пешком уйти домой, но его догнали и жестоко наказали. Только из-за болезни матери отец разрешил Федору вернуться в Казань. Его снова посадили за стол земской управы, однако о театре Федор не забывал — душа его стремилась на сцену!
…В 1887 году в Панаевском саду шли непритязательные спектакли для казанской детворы. Старый актер Владимиров (настоящее имя Я. Г. Чистяков) подобрал для Федора роль жандарма Роже во французской мелодраме «Бродяги». В зеленом мундире с красными эполетами, клеенчатых ботфортах, лосинах и треуголке Федор вышел к публике, внезапно оцепенел и молча стоял до тех пор, пока не дали занавес. Разъяренный антрепренер пинками выгнал незадачливого дебютанта из сада…
— Отец и то все говорит, что ты ничего не делаешь, — сетовала мать. — Я тебя, конечно, прикрываю, а ведь правда, что бездельник ты!
И действительно, ни сапожника, ни токаря из Федора не вышло. А все театр виноват!
В 1888 году отца уволили со службы: ухудшилось зрение, он стал часто делать ошибки в документах, ссорился с начальством, пил. Федор становится кормильцем семьи, но конторское дело отвращало его, и летом он поступает статистом в труппу В. Б. Серебрякова с жалованьем 15 рублей в месяц. Это была первая «штатная» должность Федора в театре. Тогда же ему удалось спеть первое соло — маленькую партию Зарецкого в «Евгении Онегине», сбор от спектакля шел, однако, в пользу нуждающихся студентов Казанского университета.
Успеть и в управу, и в театр сложно. Федор часто манкировал службой, ссылаясь на головную боль; окончилось это печально: из управы его уволили. Не удержался он и в судебной палате. Как-то взяв работу на дом, он по дороге засмотрелся на книжки в лавке букиниста и с ужасом заметил, что потерял сверток с документами. Федор с позором изгнан со службы. Другой работы не предвиделось. Тогда-то в семье и возникла мысль уехать из Казани куда-нибудь на юг, где жизнь, как казалось, теплее и благополучнее. Так Шаляпины оказались на верхней палубе парохода товаро-пассажирской линии А. А. Зевеке и поплыли вниз по матушке-Волге — в Астрахань…
В этом неторопливом путешествии, длившемся несколько летних теплых дней, Федор увидел Волгу во всей ее удивительной природной красоте и величии. Он даже не спал по ночам, боясь пропустить то, «что необходимо видеть».
Астрахань встретила Шаляпиных нуждой и голодом. Поселились в грязной тесной хибарке. Мать поначалу пекла пироги на продажу, потом мыла посуду на пароходах — тогда дома появлялись кухонные объедки; ими можно было как-то прокормить мужа, Федора и маленького Василия — младший брат родился в 1884 году. Иногда Федору удавалось спеть в церкви, и тогда он приносил домой рубль-полтора — в 16 лет у него стал «прорезываться» баритон. А в саду, в антрепризе Черкасова, ставили «Кармен» и другие оперы. Федор пел в них бесплатно. Когда отец узнал о столь «невыгодных» условиях, он в гневе разорвал ноты.
— Ты, Скважина, зачем вытащил нас сюда, чтобы с голоду умирать? — кричал он. — Тебе, дьяволу, кроме театров, ничего не надо — я знаю! Будь прокляты они, театры…
Быть может, память артиста сохранила этот эпизод, чтобы легче было объяснить себе и читателям окончательный разрыв с семьей. Позднее в книге «Маска и душа» Шаляпин откровенно признался: «Материальные лишения не мешали мне быть весьма счастливым. В сильной груди рокотал молодой бас, на свете были песни, и предо мною, как далекая мечта, соблазнительно расстилался в небе млечный путь театра».
Глава 5 АКТЕРСКОЕ БРАТСТВО
Федор решил махнуть в Нижний Новгород: там же ярмарка, масса зрелищ и можно подзаработать рассказчиком на садовой эстраде! Федор нанимается крючником на идущий вверх по Волге буксир с караваном барж, катает арбузы, таскает пятипудовые мешки с мукой. Грузчики посмеивались: «Привыкай кости ломать!»
Этот эпизод шаляпинской биографии впоследствии даст журналистам основание для легенды о «бурлацком прошлом» певца.
…Пароход причалил в Казани. Встреча с друзьями, веселое застолье в трактире заслонили мечту о Нижнем Новгороде. Отплытие парохода Федор проспал, так и остался на палубе его нехитрый багаж: любимая книга — стихи П. Ж. Беранже в переводе В. С. Курочкина, ноты — «трио» «Христос воскресе», сочинение юного Шаляпина… Пришлось снова встать за ненавистную конторку в Духовной консистории — платили по восемь копеек за страницу, на еду хватало. Так прошло полтора месяца, а вечером спешил Федор в Панаевский сад: там и увидел его молодой режиссер Николай Николаевич Боголюбов (1870–1951):
«Этот несуразный на первый взгляд парень с его мешковатой, как у молодого жеребенка, фигурой был по-настоящему влюблен в театр или, вернее сказать, рожден для театра. Исполнял ли Федя роль безмолвного палача в сердцещипательной мелодраме, или сурового опричника в свите Иоанна Грозного, или старого лакея с баками, который передавал посмертное письмо самоубийцы женщине, изменившей ему, — во всем через этого безмолвного „статиста“ звучало великое искусство театра»…
Наступил 1890 год. В феврале Шаляпину исполнилось 17 лет. Вечерами в Панаевском саду играла опереточная труппа. Знакомый хорист посоветовал Федору:
— Семенов-Самарский набирает хор для Уфы: просись!
Мелодии «Нищего студента» и «Корневильских колоколов» Федор знает наизусть и, набравшись храбрости, идет пробоваться в хор.
— Сколько вам лет? — спросил Самарский.
— Девятнадцать. (Молодой человек прибавил себе два года.)
— А какой голос?
— Первый бас.
— Знаете, я не могу платить вам жалованье, которое получает хорист с репертуаром.
— Мне не надо… Я без жалованья… Мне нужно столько, чтоб как-нибудь прожить, не очень голодая…
Самарский ухмыльнулся и положил хористу скромное вознаграждение —20 рублей в месяц. Это сколько же страниц нужно было бы переписать каллиграфическим почерком, скрючившись над столом в Духовной консистории!
Семен Яковлевич Семенов-Самарский (1840–1911) — любимец публики. Вальяжный и обаятельный артист, прогуливающийся по волжской набережной, всегда окружен восторженными поклонницами. «Это был интересный мужчина с черными нафабренными усами, — вспоминал Шаляпин. — Ходил он в цилиндре, с тросточкой, в цветных перчатках. У него были „роковые“ глаза и манеры заядлого барина. На сцене он держался как рыба в воде…»
Антрепренером же Самарский — он держал труппу вместе с неким В. А. Перовским — оказался не слишком удачливым, но в молодом Шаляпине он проницательно увидел талантливого артиста и энергично поддержал его. Шаляпин тоже не забыл Самарского. Через 20 лет, в 1911 году, в письме издателю газеты «Новое время» и владельцу петербургского Малого театра А. С. Суворину Шаляпин протежировал Семенова-Самарского в труппу театра: «Он, право, недурной актер, а Ваше внимание согреет в душе его сознание послужить искренне и искусству, и Вам».
Быть может, Семенов-Самарский и не вспомнил бы о своем широком жесте, да и вообще об этой встрече, но через 20 лет имя хориста будет греметь по всему миру. И тогда «первый импресарио», как назовет его Шаляпин, выступит в «Петербургской газете» с воспоминаниями:
«В один прекрасный день утром кто-то постучался в мою дверь в Волжско-Камских номерах. Вошел молодой человек, застенчивый, неуклюжий, длинный, очень плохо одетый — чуть ли не на босу ногу сапоги, в калошах… Хор у меня был уже сформирован, для Уфы он был даже слишком велик — человек около восемнадцати. Но Шаляпин произвел на меня удивительное впечатление своею искренностью и необыкновенным желанием, прямо горением, быть на сцене. Я… дал ему тут же лежавший у меня билет на проезд на пароходе Ефимова. Когда он получил этот билет, казалось, что в ту минуту не было на свете человека счастливее Шаляпина…»
Видимо, выданного аванса Федору надолго не хватило. Семенов-Самарский припомнил, что по приезде в Уфу юноша явился в гостиницу и прожил в его номере неделю, получая от своего щедрого благодетеля по пятачку в день. К завтраку Федор покупал сайку и пил чай в обществе Самарского. По версии самого Шаляпина, в Уфе он снял комнату вместе с хористом Яковом Нейбергом, знакомым еще по Казани…
Гастроли труппы Семенова-Самарского открывались 26 сентября 1890 года комической оперой итальянского композитора Антонио Замара «Певец из Палермо». Спустя много лет Шаляпин вспоминал, с какой радостью рассматривал он и примерял сценическое одеяние и перечитывал свою фамилию на афише: «Я надел испанский костюм. Впервые в жизни я надел трико… Я был как во сне…» Афишу первого спектакля певец хранил в своем архиве, но в числе участников спектакля он не упомянут. Видимо, фамилия Шаляпина появится в афише 9 октября, когда он исполнит маленькую партию контрабандиста Пьеро в оперетте К. Миллёкера «Гаспарон, морской разбойник».
Приходил первый опыт: «Через месяц я уже мог стоять на сцене, как хотел. Ноги не тряслись, и на душе было спокойно. Мне уже начали давать маленькие роли в два-три слова».
На Святках было решено ставить оперу «Галька» С. Монюшко.
Непредсказуемое актерское везение! Дирижер А. С. Апрельский выгнал с репетиции исполнителя партии Стольника — отца Гальки. Ее пел сценариус труппы, человек капризный, вздорный, знал: заменить его некем. Банальный шантаж! Надеясь на дополнительное вознаграждение, он демонстративно отказался от роли: формально по контракту он должен выступать только в опереттах, а не в операх. Спектакль оказался под угрозой. И тогда Семенов-Самарский поручил партию Шаляпину.
Федор выучил роль за день. Он пришел в театр за три часа до начала спектакля, загримировался под старика, примерил толщинку, но объемный живот не сочетался с худыми руками и ногами… Было от чего прийти в отчаяние! И в голове завертелась мысль: а что, если сейчас вот, не говоря никому ни слова, удрать в Казань?
Будто в ответ на эти лукавые мысли Федор услышал голос Семенова-Самарского:
— Бояться не надо. Веселей! Все сойдет отлично!
Длинный, нескладный юноша не был похож на вальяжного польского магната. Руки и ноги плохо слушались певца. Сосредоточенно следил он за палочкой дирижера и старательно выпевал:
Ах, друзья, какое счастье! Я теряюсь, я не смею, Выразить вам не сумею Благодарность за участье.Послышались аплодисменты, Федор даже не понял, что они адресованы ему. Очнулся он после грозного шипения дирижера:
— Кланяйся, черт! Кланяйся!
И вот тут-то случилось непредвиденное! После поклонов Федор попятился, отошел в глубину сцены, чтобы сесть в кресло, но, на беду, один из хористов отодвинул его в сторону, и чинный Стольник свалился на пол под громовой хохот публики, однако сопровождаемый новой волной радостных аплодисментов!
Уже на склоне лет Шаляпин писал: «…я до сих пор суеверно думаю: хороший признак — новичку в первом спектакле при публике сесть мимо стула…»
Вскоре примадонна театра Н. Террачиано предложила Федору участвовать в ее бенефисном спектакле «Трубадур» в партии Феррандо. Успех и здесь сопутствовал певцу, и он получил прибавку к жалованью.
— Пять рублей — деньги не лишние, — подкрепил щедрый жест антрепренер.
Службу у Семенова-Самарского Шаляпин вспоминал с радостью. Труппа жила дружно, репетировали по ночам. И артисты, и рабочие сцены относились к юноше с доброй симпатией. «Это был единственный сезон в моей жизни, когда я не видел, не чувствовал зависти ко мне и даже не подозревал, что она существует».
На радостях Федор фотографируется и дарит карточки товарищам. Михаил Жилин, ведущий актер труппы, получает портрет Федора с припиской: «От почитателя его бывшего сослуживца в г. Уфе в сезон 1890/91 г. Федора Ивановича Шаляпина на память. Февраль 19-го 1891 года». Через четверть века Федор Иванович придет в Петербургское убежище престарелых артистов и узнает в глубоком старике своего партнера. Там же Шаляпин сфотографируется с ветеранами театра. Федор Иванович сидит в кресле, в центре, Михаил Михайлович Жилин стоит позади, положив руки на плечи Шаляпину. Снимок хранится в архиве певца, его рукой сделана надпись: «Комик Жилин служил у Сем<енова> Сам<арского> со мной в Уфе».
…Молодой Шаляпин относится к своему ремеслу вдохновенно и восторженно:
«Я так любил театр, что работал за всех с одинаковым наслаждением: наливал керосин в лампы, чистил стекла, подметал сцену, лазил на колосниках, устанавливал декорации. Семенов-Самарский тоже был доволен мною».
— Вы, Шаляпин, были очень полезным членом труппы, и мне хотелось бы поблагодарить вас. Поэтому я хочу предложить вам бенефис.
В роли Неизвестного в «Аскольдовой могиле» А. Верстовского — в этой партии выступал обычно сам Семенов-Самарский. Федор приклеил к лицу черную бороду, подпоясался широким красным кушаком и вышел на сцену, согласно роли, с веслом наперевес. Выход начинался монологом, Шаляпин, как природный волжанин, сильно «окал». Зал насторожился. Но когда Федор запел «В старину живали деды…», публика простила ему «местный диалект», раздались аплодисменты. Как и положено, бенефицианту «отчислилось от сбора» 30 рублей; сверх того кто-то из публики преподнес молодому артисту еще полсотни и серебряные часы. «Я стал богатым человеком. Никогда у меня не было такой кучи денег. Успех в Уфе окончательно укрепил во мне решение посвятить себя театру».
Выбор был сделан!
Шаляпин пробует себя в разных качествах. Он выступает с «устными рассказами» в концерте, который устраивает в театре заезжий фокусник. Друг певца Иван Петрович Пеняев (Бекханов) вспоминал: «На нем был мой пиджак, который я ему дал, видя, что его порыжелый пиджак для чтения в „концертах“, хотя бы и таких, не совсем удобен. Пиджак этот был так тесен и короток, что являл собою живое подобие тришкина кафтана, и вся фигура Шаляпина производила весьма комическое впечатление. Наконец, Федор Иванович начал читать стихотворение, но на средине его он вдруг остановился, помолчал и смущенно заявил: „Забыл“ и, махнув рукой на публику, медленною и тяжелою поступью удалился за кулисы. Такой комический уход вызвал бурю аплодисментов, и Федору Ивановичу пришлось бисировать. На бис он начал читать известный бурлаковский (В. Н. Андреева-Бурлака. — В. Д.) рассказ про „Ветлянскую чуму“, но и тут неудача преследовала бедного чтеца. Как ни старался Шаляпин довести рассказ до конца, ему это не удавалось, и он несколько раз, не зная, как кончить, начинал снова. Вторично махнул безнадежно рукой и с благодушной улыбкой удалился со сцены. Снова раздались аплодисменты и крики „бис“. В заключение Шаляпин довольно порядочно рассказал о том, „как генеральский петух ухаживал за капитанской курицей“. Получив условленный „солидный куш“ — 30 копеек! — Шаляпин повел присутствующих хористов угощать на свой первый „гастрольный гонорар“».
С Иваном Пеняевым-Бекхановым (?—1929) Федор дружил много лет. С фотографии, подаренной Шаляпину, смотрит плотный, круглощекий молодой человек в клетчатом пиджаке. «Начинающему от начинающего артиста Ваньки Пеняева на память Феде Шаляпину. Старый друг лучше новых двух. 9 марта 1891 г. г. Уфа», — гласит надпись на фото.
«Очень хорошо относился ко мне Пеняев, — вспоминает Шаляпин в „Страницах из моей жизни“. — Стояла зима, но я гулял в пиджаке, покрываясь шалью как пледом. Пеняев подарил мне пальто. Оно было несколько коротким, но хорошо застегивалось — его хозяин был толще меня».
Пеняев называл Федора Геннадием Демьяновичем — по имени персонажа пьесы А. Н. Островского «Лес», бродячего провинциального трагика Несчастливцева. Шаляпин гордился этим прозвищем: оно льстило его артистическому самолюбию.
Между тем дела в труппе Семенова-Самарского шли неважно. Исчерпав свой опереточный репертуар, артисты поставили «Ревизора», Пеняев играл Городничего, Семенов-Самарский — Хлестакова, Жилин — Осипа. Шаляпину досталась роль Держиморды. В качестве прощального бенефиса всей труппы показали комическую оперу К. Миллёкера «Бедный Ионафан»: Бростелоне пел Шаляпин, а заглавную партию — Пеняев.
Вместе с новыми товарищами Федор направляется в Златоуст — это была первая поездка Шаляпина по железной дороге. Артисты выступали с концертом. Один из «гвоздевых» номеров программы — сцена из оперетты Ж. Оффенбаха «Синяя борода». Выяснилось, однако, что главный отличительный атрибут роли, которую исполнял Семенов-Самарский, — борода — в суете забыта в Уфе. Шаляпин тут же срезал клок своих длинных волос и самолично выкрасил его в синий цвет. Самарский не остался в долгу, дал Шаляпину для выступления в концерте свой фрак и посоветовал завить оставшиеся волосы. Фрак, конечно, не по фигуре, в публике с появлением Шаляпина раздался смех, но после арии Сусанина «Чуют правду» послышались одобрительные хлопки, а ария Руслана и романсы П. Козлова окончательно расположили публику…
Далее пути Федора и труппы Семенова-Самарского расходились. Шаляпин вернулся в Уфу. «Я почувствовал себя одиноко и грустно, как на кладбище. Театр стоял пустой. Никого из актеров не было, и весь город создавал впечатление каких-то вековых буден. Жил я на хлебах у прачки, в большом доме, прилепившемся на крутом обрыве реки Белой. Деньги быстро таяли. Надо было искать работу».
Что же представляла собой Уфа конца XIX века? Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854–1933), врач, литератор, близко знавший Толстого, Чехова, Короленко, Горького, сосланный в Уфу за близость к народовольцам, вспоминал: «Из маленьких домиков плыла музыка в тихие улицы. Я дивился, когда в скромненькой квартире чиновника, приказчика, служащего встречал рояль или пианино, скрипку и узнавал, что дети людей, живущих на 50–60 рублей в месяц, берут систематические уроки музыки. Были кружки, где музыка являлась серьезным содержанием жизни. В один из таких кружков я попал вскоре по приезде и начал получать приглашения на квартеты — квартеты, которые сделали бы честь и столице. Местный чиновник Савостьянов, как рассказывали мне, долго играл первую скрипку в оркестре московского Большого театра и, когда уходил из него, чтобы переселиться в Уфу, получил от московского общества чудесную редкостную скрипку».
Дочь Савостьянова окончила Петербургскую консерваторию певицей и пианисткой, она давала уроки и с учениками в местном собрании выступала в концертах и даже ставила оперные спектакли.
В Уфе Шаляпин встретил людей, которые серьезно и уважительно отнеслись к его житейской и творческой судьбе. Художественная жизнь города интенсивно поддерживалась любителями искусства. В их круг входили сестры Мария Яковлевна и Елена Яковлевна Барсовы, адвокат Л. В. Рындзюнский, музыканты-инструменталисты М. Д. Брудинский, профессиональный музыкант Дмитрий Николаевич Савостьянов: в недавнем прошлом он занимал место за пультом первых скрипок в московском Большом театре, а его дочь Варвара Дмитриевна Паршина, ученица Антона Григорьевича Рубинштейна, часто выступала перед уфимской публикой с фортепианными программами, сама комментировала исполняемые произведения, возглавляла правление Музыкального общества. Организаторская энергия и просветительский талант Паршиной сочетались с тонким вкусом, интуицией, умением находить талантливых людей и вдохновлять их на творчество.
Варвара Дмитриевна предложила Федору профессионально заняться постановкой его голоса, она призвала любителей-музыкантов финансировать обучение Шаляпина в столице. Подобный прецедент в Уфе уже был: в Московскую консерваторию поступила ученица Паршиной Елена Барсова, и в 1891 году состоится ее дебют в Большом театре в партии Марселины в опере Л. Бетховена «Фиделио». Елена Барсова вскоре приобретет известность под фамилией Цветкова (1872–1929), а в 1896 году будет партнершей Шаляпина во многих спектаклях Частной оперы Мамонтова.
Друзья и покровители Федора подыскали ему должность писца в Уфимской губернской управе — прекрасный почерк не раз спасал его в трудные времена! Жалованье небольшое — 25 рублей, но еще удавалось подработать певчим в хоре Ильинской церкви. Однако Шаляпин посещал занятия Паршиной от случая к случаю и к идее консерваторского обучения отнесся скептически — он хочет играть в театре сегодня!
В конце мая в Уфе в летнем саду выступает малороссийская труппа Г. И. Любимова-Деркача. Федор легко сошелся с артистами, голос его Деркачу понравился, и он предложил 40 рублей в месяц. Покинуть Уфу Федору мешал стыд перед приютившими его музыкантами. Он остался, но… ненадолго.
В пьесе А. Н. Островского «Лес» бродячий комик Аркашка Счастливцев угнетен своим пребыванием в доме богатой помещицы Гурмыжской. «А не удавиться ли мне?» — преследует его «внутренний голос». «И однажды ночью, как Аркашка Счастливцев в „Лесе“, я тайно убежал из Уфы», — вспоминал Шаляпин.
Федор обрек себя на рискованные странствия, а проще говоря — на бродяжничество. Он догоняет труппу Деркача уже в Самаре, но теперь вместо обещанных 40 рублей ему дают только 25. Делать нечего. Взяв пять рублей аванса, Федор идет на поиски родителей и брата: из Астрахани семья к тому времени тоже перебралась в Самару. Постаревший отец встретил сына усталым равнодушием.
— А мы плохо живем, плохо!.. — сказал он, глядя в сторону. — Службы нет…
Вошла мать, радостно поздоровалась и, застыдившись, спрятала котомку в угол.
— Да, — сказал отец, — мать-то по миру ходит.
Это была последняя встреча Федора с матерью. Через четыре месяца она скончалась в больнице от брюшного тифа…
С малороссийской труппой Шаляпин отправляется в Бузулук, потом в Оренбург и Уральск. Ехали на телегах, ночевали в степи, подкреплялись краденными с бахчей арбузами. В Уральске труппа участвует в концерте по случаю трехсотлетия казачьего войска. На празднике присутствует цесаревич — будущий император Николай II. (Вряд ли Федор мог тогда предположить, что через десять с небольшим лет он будет вести с императором светскую беседу в ложе Большого театра.) Шаляпин запевает украинские песни «Ой, у лузи», «Куковала та сиза зозуля». В награду от наследника престола хор получил по два целковых на брата…
Шаляпин быстро овладел украинской «мовою», ему стали поручать небольшие роли, в «Наталке Полтавке» он спел партию Петра. Труппа двинулась дальше, на юг, нигде не задерживаясь подолгу. Менялись пейзажи, селения: Петровск (Махачкала) на Каспийском море, Темир-Хан-Шура (Буйнакск), Узуль-Ада… К осени добрались до Ашхабада.
Спустя много лет Шаляпин вспоминал свой «малороссийский период» как бесконечное мытарство, голод, унижения. Самодуром и эксплуататором выглядит в «Страницах из моей жизни» Г. И. Деркач. Один из эпизодов тех лет певец потом часто рассказывал: в вагоне поезда по пути в Чарджоу Шаляпин жевал хлеб с колбасой и чесноком, запах не понравился Деркачу:
— Выброси в окно чертову колбасу. Она воняет!
— Зачем бросать? Я лучше съем.
Деркач рассвирепел:
— Как ты смеешь при мне есть это вонючее?
«Я ответил ему что-то вроде того, что ему, человеку первого класса, нет дела до того, чем питаются в третьем. Он одичал еще более. Поезд как раз в это время подошел к станции, и Деркач вытолкнул меня из вагона. Что мне делать? Поезд свистнул и ушел, а я остался на перроне среди каких-то инородных людей в халатах и чалмах. Эти чернобородые люди смотрели на меня вовсе не ласково. Сгоряча я решил идти вслед за поездом. Денег у меня не было ни гроша… Я чувствовал себя нехорошо: эдаким несчастным Робинзоном до его встречи с Пятницей. Кое-как добравшись до станции, я зайцем сел в поезд, доехал до Чарджуя и, найдя там труппу, присоединился к ней. Деркач сделал вид, что не замечает меня. Я вел себя так, как будто ничего не случилось между нами».
Позже эмоциональный рассказ Шаляпина поразил Горького. В письме литератору В. А. Поссе (октябрь 1901 года) он писал о Шаляпине: «…чуть его души коснется искра идеи — он вспыхивает огнем желания расплатиться с теми, которые вышвыривали его из вагона среди пустыни…»
Вряд ли Шаляпин был столь одержим идеей возмездия, реванша, скорее сам Горький с его обостренным социальным темпераментом так остро воспринял рассказ певца. К тому же и Георгий Иосифович Любимов-Деркач (1846–1900), несмотря на его показную свирепость — а как еще можно сдерживать богемные страсти бродячей труппы? — знал толк в театре, умело вел антрепризу, ценил талантливых и преданных делу актеров. Газеты писали о прекрасном хоре малороссийской труппы, отлично сыгранном оркестре, сильных солистах.
В Самарканде фамилия Федора, правда с опечаткой, попадает на страницы газеты «Окраина»: «Молодой и хороший голос г-на Шеляпина заставил позабыть его не особенное уменье держаться на сцене».
Работа у Деркача — неплохая школа для начинающего певца, хотя назвать ее легкой нельзя: едва ли не каждый день новый спектакль, времени на репетиции почти не оставалось. Приходилось рассчитывать на собственную наблюдательность, интуицию, смекалку и находчивость. Этими качествами Федор, несомненно, овладевал. Деркач оценил его природную одаренность, стал поручать ему новые партии и даже увеличил жалованье до некогда обещанных 40 рублей. Певица О. В. Арди-Светлова впоследствии вспоминала: «Деркач прекрасно разбирался в своем деле и очень любил хорошие голоса в хоре… Голос Шаляпина резко выделялся своей красотой и мощью. Уже скоро он начал петь ответственные партии — Султана в „Запорожце за Дунаем“, Петра в „Наталке Полтавке“, а в дивертисменте — арию Сусанина „Чуют правду“. В то время он был простой, задушевный, и каждый помогал ему чем только мог».
Положение Федора в труппе укрепилось, Деркач «дал ему ход» и даже начал строить репертуар «на Шаляпина». Однако когда в Баку Федор встретил во французской оперетте Е. Лассаля старых друзей и Семенова-Самарского, то, поддавшись настроению, присоединился к ним. Деркач, разумеется, рассвирепел и, как часто поступали провинциальные антрепренеры, отказался вернуть Федору паспорт. Но и это обстоятельство не остановило импульсивного юношу. В самом деле, чем не поступишься ради славного дружества, доброй компании! Мягкий и приветливый Самарский был ему милее требовательного Деркача, начинающий певец нуждался в отеческом покровительстве и, размягченный радостной встречей, весело запел в хоре французской оперетки, где, по его признанию, французов было человека три-четыре, а остальные евреи и земляки.
«Французы» ставили не только оперетки, но и оперы. Федору тут же поручили партию Жермона в «Травиате», и, как вспоминал актер М. А. Завадский, его участие было столь успешным, что повлияло на сборы. Радость, однако, оказалась преждевременной. Оперетка тифлисской публике вдруг наскучила, труппа развалилась, актеры разбрелись кто куда. «Подарком судьбы» для Федора стало теплое пальто, приобретенное в магазине готового платья «по записке» управляющего труппой Л. Л. Пальмского. Жизнь без денег, да еще и без паспорта, стала совсем унылой. Федор пристроился на пристань крючником, иногда подрабатывал в церковном хоре. Наступали холода, а пальто уже продано… Но судьба снова улыбнулась певцу: он нашел на улице ситцевый платок, в котором узлом были завязаны четыре двугривенных. Федор бросился в татарскую лавку, досыта поел, а за оставшиеся деньги уговорил железнодорожного кондуктора довезти до Тифлиса…
Грузинская столица гостеприимно встретила Шаляпина. Федор разыскал Семенова-Самарского, тот свел его с антрепренером Р. Ключаревым, у которого Самарский сам подвизался артистом. Бывший офицер пробовал себя в театральном деле и собирал оперную труппу. Стоял Великий пост, петь по-русски запрещалось, но опера называлась итальянской, хотя итальянцев в труппе было лишь двое: оркестрант-флейтист и хорист Понтэ, добрый знакомый Федора еще по Баку.
Батум, Кутаис, Елисаветполь… Федор пел почти каждый вечер, иногда подменяя заболевшего Семенова-Самарского. Репертуар Шаляпина ширился: Валентин в «Фаусте», Феррандо в «Трубадуре», кардинал Броньи в «Жидовке», Жорж Жермон в «Травиате», Сват в «Русалке»… Вроде бы трудности миновали, жалованье платили вполне приличное: 75 рублей. Но неисповедимы актерские судьбы! Легкомысленная супруга антрепренера Ключарева сбежала с молодым артистом, оскорбленный офицер оказался сражен женским коварством, горестно запил — труппа распалась.
Снова голод, ночевки в заброшенных сараях, случайные выступления на садовых эстрадах, нищета, отчаяние, мысли о самоубийстве. Федора, стоявшего в печальном раздумье у витрины оружейного магазина, окликнул знакомый голос. Понтэ! Он накормил изголодавшегося приятеля, приютил у себя…
Именно Тифлис Шаляпин назовет потом городом «чудодейственным» и часто будет говорить: «Я родился дважды: для жизни в Казани, для сцены — в Тифлисе».
Глава 6 ВОЗДУХ КАВКАЗА
Как причудливо подчас сплетаются пути и судьбы человеческие! В Казани, по дороге в Панаевский сад, Федор забегал перекусить в булочную Деренкова. Здесь в ту пору служил Алексей Пешков, возможно, они и перебрасывались случайными фразами. Теперь же и молодой Шаляпин, и Горький в поисках пристанища бродят по улицам и переулкам Тифлиса. Их впечатления и жизненные увлечения похожи — обоих властно влечет театр. Горький читает рабочим железнодорожных мастерских трагедии Байрона и Шиллера, участвует в литературных вечерах в библиотеке В. Кайдаловой, хочет создать передвижную труппу, чтобы показывать спектакли в деревнях. Вероятно, Горький видел в Тифлисе «Разбойников» с участием известного актера В. С. Алекси-Месхишвили — он темпераментно играл Франца Моора.
12 сентября 1892 года в газете «Кавказ» опубликован рассказ Горького «Макар Чудра». «Я никогда не забываю, что именно в этом городе (Тифлисе. — В. Д.) сделал свой первый неуверенный шаг по тому пути, которым я иду уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно величественная природа страны и романтическая мягкость ее народа — именно эти две силы дали мне толчок, который сделал из бродяги литератора», — признавался Горький.
В Грузии сумели и оценить дебютные успехи двадцатилетнего конторского писца, и одобрить первые литературные шаги 24-летнего мастерового. Для обоих это была пора накопления незабываемых жизненных впечатлений, встреч с удивительными людьми, раздумий о времени и жизни, о призвании, о будущем.
…А в летнем театре Немецкого сада между тем выступали молодые актеры-любители, к ним и прибился Шаляпин. Они приняли живое участие в судьбе «бродячего комедианта», срочно устроили ему бенефис в «Наталке Полтавке». Среди любителей много служащих Закавказской железной дороги. Чтобы поддержать Федора, новые друзья нашли ему место конторщика в бухгалтерии — хороший почерк опять выручил Шаляпина в трудную минуту! Помощник начальника дороги П. В. Корш, любитель музыки, почетный старшина Тифлисского музыкального кружка, обратил внимание на одаренного молодого человека, посоветовал серьезно учиться пению.
Ситуация напоминала Уфу; писарская работа тяготила Федора. И тут он получает приглашение в Казань — Семенов-Самарский рекомендует Шаляпина в антрепризу В. А. Перовского. Дело кажется решенным: «Казанские вести» уже называют Шаляпина в числе артистов труппы, Федору обещано неплохое жалованье —100 рублей, 50 уже получены в качестве аванса. Казалось, отъезд предрешен. Но накануне Федор задумал все-таки зайти к Дмитрию Андреевичу Усатову, преподавателю пения Тифлисского музыкального кружка, весьма своеобразному человеку, о котором он много слышал от своих друзей-сослуживцев. Это импульсивное решение Федора оказалось поистине судьбоносным.
Выходец из крепостных графа Н. Д. Шереметева дворовый Дмитрий Усатов (1847–1913) чудесным образом, благодаря своему исключительному певческому таланту, «выбился в люди». В 1873 году (год рождения Шаляпина!) Усатов окончил Петербургскую консерваторию по классу пения у известного профессора Камилло Эверарди. Через три десятилетия Эверарди восхищался пением Шаляпина и, считая его в какой-то степени своим учеником, умиленно говорил ему: «Ти — моя внучка!»
Усатов хорошо знал трудный быт провинциального артиста: в 1873–1880 годах он выступал в различных оперных антрепризах, в том числе и в Казани, в труппе П. М. Медведева. Именно там, наряду с Ю. Ф. Закржевским, С. К. Ильяшевичем, Усатов в середине 1880-х годов приобрел известность, благодаря которой попал в Большой театр, стал первым исполнителем партии Ленского в «Евгении Онегине», выступил в ролях Андрея в «Мазепе», Вакулы в «Черевичках» П. И. Чайковского. Композитор ценил талант Усатова, его красивый, выразительный, богатый красками голос и посвятил ему свой романс «Смерть» на стихи Д. Мережковского.
Покинув сцену, Усатов занялся вокальной педагогикой, иногда отваживался становиться за дирижерский пульт в Тифлисском музыкальном кружке. Здоровье любимой жены Усатова — Марии Петровны — не позволяло жить в Москве, семья обосновалась в Тифлисе. Здесь Дмитрий Андреевич стал уважаем и любим, его окружали друзья, поклонники, благодарные ученики. Усатова знавал и Семенов-Самарский и даже как-то посоветовал Шаляпину пойти к нему в учение, но в ту пору Федор был отвлечен чем-то, как казалось ему, более существенным.
Встречу с Усатовым Шаляпин запомнил надолго. В дверях на него с визгливым лаем набросилась стая мопсов. Следом появился хозяин дома, «человечек низенького роста, круглый, с закрученными усами опереточного разбойника и досиня бритым лицом».
— Вам что угодно? — не очень ласково спросил он.
Федор смущенно объяснил.
— Ну что же, давайте покричим.
Усатов сел за рояль. Федор начал с арии Валентина из «Фауста».
На высокой ноте Усатов прервал его, пребольно ткнув в бок. По всей вероятности, опытный педагог задумался о певческих возможностях молодого человека. Федору показалось, что он уронил себя в глазах маэстро и шансов на успех нет, но на всякий случай спросил:
— Что же, можно мне учиться петь?
— Должно, — был категоричный ответ.
Тогда Федор обрисовал Усатову сложившуюся житейскую ситуацию: он поедет в Казань, заработает денег на учение и вернется в Тифлис.
— Бросьте все это, — отмахнулся Усатов. — Ничего вы не скопите! Да еще едва ли и заплатят вам. Знаю я эти дела! Оставайтесь здесь и учитесь у меня. Денег за ученье я не возьму с вас.
Усатов тут же отправил недоумевающего Федора с запиской к тифлисскому меценату и музыкальному деятелю Константину Николаевичу Алиханову, возглавлявшему Товарищество торговли аптечных складов. Тот назначил ученику Усатова стипендию — десять рублей в месяц. Впервые в жизни Федор мог не думать о ночлеге и хлебе насущном.
А как же Семенов-Самарский? Перовский? Шаляпин написал в Казань: внезапно захворал, приехать не могу. Это, конечно, нехорошо. Но певец утешал себя тем, что многие поступают гораздо хуже ради более низких целей.
В семье Усатова Федору на первых порах было тяжело и даже мучительно: он привык к богемно-босяцкому свободному образу жизни, не утруждал себя «манерами», полагая их ненужной условностью.
— Шаляпин, не надо шмыгать носом во время обеда! Если вы будете есть с ножа, то разрежете себе рот до ушей! — одергивал ученика Усатов.
«Этот превосходный человек и учитель, — скажет в конце жизни Шаляпин, — сыграл в моей артистической карьере огромную роль. С этой встречи с Усатовым начинается моя сознательная художественная жизнь… Он пробудил во мне первые серьезные мысли о театре, научил чувствовать характер различных музыкальных произведений, утончил мой вкус и — что я в течение всей моей карьеры считал и до сих пор считаю самым драгоценным — наглядно обучил музыкальному восприятию и музыкальному выражению исполняемых пьес».
Конечно, строгие уроки «хорошего тона» били по самолюбию, но постепенно Федор научился вести себя «в приличном обществе». В подарок от Усатова он получил нижнее белье и носки, а потом и фрак, правда, слишком широкий в плечах и выглядевший коротким на его долговязой фигуре. Но теперь Федору и самому стало очевидно: благодаря Усатову он попал в среду образованных и культурных людей. Молодые офицеры, студенты, чиновники не чванились, не блюли «сословную дистанцию», относились к Шаляпину по-товарищески, на равных. Братья Корш — два студента и два гимназиста, сыновья уже упоминавшегося заместителя начальника Закавказской железной дороги, — ввели Федора в дом отца. Здесь Федору открылся незнакомый и непривычный мир «интеллигентного общения». Начинающие певцы М. Г. Измирова, А. Г. Рчеулов много способствовали образованию Федора, приносили книги, ноты, звали в оперу, на концерты, на драматические спектакли грузинской, армянской и русской труппы. Они «корректировали» и манеры Федора. По обоюдному согласию он получал предупреждение: кто-нибудь многозначительно щелкал портсигаром, если у Шаляпина вырывалось слишком «смелое» выражение или вдруг «выскакивал» сомнительного вкуса анекдот. Компания, без сомнения, отучала Федора и от «загулов», и от свойственной ему лихой развязности — приходилось считаться с присутствием в музыкальном кружке очаровательных интеллигентных барышень.
Все это было непривычно для Шаляпина, притягивало, волновало его, он жадно впитывал новые впечатления.
На фотографиях, снятых в Тифлисе, Шаляпин мало похож на артиста. «Это был длинноногий парень, худой, нескладный. На нем были косоворотка и какие-то немыслимые брюки (которые он именовал „пьедесталами“). На голове почему-то соломенная шляпа-канотье с черной ленточкой. Дно шляпы было оторвано, держалось сзади на одной ниточке, при ходьбе от ветра поднималось вверх. Немало мы смеялись по поводу этой необыкновенной шляпы», — рассказывала М. Г. Измирова. Но, слушая Шаляпина на концертах, друзья забывали о неуклюжести артиста — внимание приковывал его неповторимый голос, высокий бас редкого «бархатного» тембра, basso cantante.
Усатов точно определил диапазон голоса и научил Шаляпина пользоваться редким богатством обнаружившихся в нем вокальных красок. Он же познакомил Федора с композитором Генарием Осиповичем Коргановым (его «Элегия» на многие годы вошла в концертный репертуар певца), с режиссером И. С. Питоевым, пианистом и педагогом А. В. Мизандари.
В Тифлисском музыкальном кружке — его еще называли «кружком Арцруни» по имени домовладельца — Шаляпину дали концертный дебют, и он вскоре стал участвовать не только в музыкальных, но и драматических вечерах: играл Разлюляева в комедии А. Н. Островского «Бедность не порок», Несчастливцева в «Лесе». Имя Шаляпина попадает в газетные отзывы и рецензии. В статье Василия Давидовича Корганова (1865–1934), известного пианиста и педагога, напечатанной в газете «Кавказ», Шаляпин сравнивался со знаменитым басом Мариинского театра Осипом Петровым.
Прошел год учебы. Для бенефисного концерта в сентябре 1893 года Усатов подготовил с Федором большую программу: партию Мельника из «Русалки», первый акт «Фауста», в котором Шаляпин пел Мефистофеля, несколько русских романсов. «Тифлисский листок» 10 сентября писал: «Голос бенефицианта… звучал превосходно, производя на зрителей приятное впечатление своей свежестью и мягкостью тонов при значительной силе и хорошей фразировке. Играет молодой артист неуверенно, порывисто, нервно, но держит себя на сцене достаточно свободно. Видевшие и слышавшие г. Шаляпина зимой были приятно поражены теми успехами, которые сделал он за это короткое время. Нет сомнения, что при дальнейшей его работе над своим голосом из г. Шаляпина выработается очень и очень недурной исполнитель оперных ролей; для этого он обладает всеми данными: звучным, сильным голосом, музыкальным ухом, хорошими задатками драматического таланта и, что всего важнее, молодостью».
И все же главным для Шаляпина стали в ту пору уроки Усатова. Дмитрий Андреевич — строгий наставник. Когда он не замечал у своего ученика должного усердия, то не стеснялся в средствах «педагогического воздействия». Федор иногда ленился учить партии наизусть, он ставил на пюпитр рояля раскрытые ноты, а сам, отойдя в сторону, скашивал глаза и читал с листа. Усатов заметил это и однажды встал между нотами и певцом. Федор замолчал. Дмитрий Андреевич сильно разгневался, схватил трость и поколотил нерадивого ученика:
— Лодырь, лодырь, ничего не делаешь!
Усатов открыл Шаляпину творчество Мусоргского, с его сочинениями певец в дальнейшем связал свою артистическую судьбу. В «Сцене в корчме» из «Бориса Годунова», поставленной любителями, Федор исполнял партию пристава. «И вот, когда Варлаам начал петь свою тягостную, внешне нелепую песню, в то время как на фоне аккордов оркестра Самозванец ведет разговор с шинкаркой, я вдруг почувствовал, что со мною случилось что-то необыкновенное. Я вдруг почувствовал в этой странной музыке нечто удивительное, родное, знакомое мне. Мне показалось, что вся моя запутанная, нелегкая жизнь шла именно под эту музыку. Она всегда сопровождала меня, живет во мне, в душе моей и более того — она всюду в мире, знакомом мне. Это я теперь так говорю, — писал Шаляпин годы спустя, — а тогда я просто почувствовал какое-то благоговейное слияние тоски и радости. Мне хотелось плакать и смеяться. Первый раз я ощутил тогда, что музыка — это голос души мира, ее безглагольная песнь».
Самыми одаренными учениками Усатова были Федор Шаляпин и Павел Агнивцев (1866–1920). Павел ради сцены оставил успешную офицерскую службу в Мингрельском полку. «Я очень увлекался его чудесным голосом, и мне нравилась его солидная манера держаться», — писал об Агнивцеве Шаляпин.
Когда в конце лета 1893 года помещение казенного театра арендовала оперная антреприза В. Н. Любимова и В. Л. Форкатти, Шаляпин спросил Усатова: не наняться ли ему в труппу?
— Отчего же нет? — азартно поддержал педагог. — Попробуем! Надо выучить несколько опер. «Русалка» и «Фауст» — это ваши кормильцы, так и знайте. Надо еще выучить «Жизнь за царя».
Однажды на репетиции Шаляпин услышал, как дирижер, веселый итальянец Иосиф Антонович Труффи (1850–1925), говорил кому-то:
— Какой хороши колос у этот молодой мальчик!
Радости Федора не было границ.
Дебют на сцене Тифлисского казенного театра — 28 февраля 1893 года — друзья получили одновременно. Их первое выступление отметила пресса. «Совершенно неожиданно весьма сносными исполнителями оказались новички оперной сцены г. Агнивцев (Амонасро) и г. Шаляпин (Рамфис), ученики г. Усатова, известные нам уже по концертам. Оба они пели и держались на сцене весьма прилично, хотя, конечно, нельзя и требовать от них полного знакомства со сценой — спокойного владения своими голосовыми средствами и игрой… Театр был переполнен», — отмечал 30 сентября «Тифлисский листок».
Репертуар театра Федор Шаляпин освоил уверенно, быстро преодолев робость и застенчивость. В сезоне 1893/94 года артист выходил на сцену более шестидесяти раз, исполнял ведущие басовые партии в четырнадцати операх. В бенефисном спектакле 4 февраля 1894 года Шаляпин пел Тонио из «Паяцев» и Мефистофеля из «Фауста». «Г-н Шаляпин и на этот раз доказал свою музыкальность, мощь голоса и умение владеть им. Игра его, как всегда, была безукоризненной. Артист был в голосе, и многие выдающиеся арии по требованию публики были повторены», — писал рецензент «Тифлисского листка».
«Перед удивленными глазами наших меломанов, помнивших Шаляпина-хориста, ученика, явился Шаляпин-артист в полном значении этого слова. Г-н Шаляпин имеет большой успех, и если он не остановится на пути артистического развития, увлекшись легко доставшимися лаврами, то в недалеком будущем он будет занимать одно из первых мест в ряду выдающихся артистов», — пророчески предсказал проницательный журналист.
Сезон в Тифлисе завершился на высокой ноте успеха. Чтобы закрепиться на его вершине, Усатов благословляет Павла Агнивцева и Федора Шаляпина в путь. С ворохом рецензий и рекомендательных писем друзья отправляются завоевывать Москву.
Но было бы неверным не остановиться еще на одном существенном эпизоде жизни Шаляпина, уже сугубо личном, интимном. К «тифлисской поре» относится и первая любовь молодого артиста. «Ах, Ольга! Я тебя люблю», — написал он, слегка изменив слова из арии Ленского, на своей фотографии, подаренной юной поклоннице.
…Итак, она звалась Ольгой! Впоследствии, когда Шаляпин сблизится с Максимом Горьким, артист и писатель будут удивляться поразительному совпадению сюжетов. Недолгая жизнь в Тифлисе также сыграет в судьбе Горького важную роль. Его первый рассказ появился в газете «Кавказ» в 1892 году; тогда же Шаляпин прочел и первые отзывы критики на свои оперные дебюты. Как и Шаляпин, Горький в поисках заработка служил на Закавказской железной дороге — в слесарных мастерских. «Было и еще некоторое странное совпадение, — писал Шаляпин. — В ранней молодости, когда душа, так сказать, стремится к мечте, когда молодые люди влюбляются, у нас вышло почему-то так, что и мое первое увлечение, и его первое увлечение жили как раз в одном и том же городе, в одной и той же местности: на горе Вере, в Тифлисе, причем и его предмет, и мой носили одно и то же имя Ольги».
Ольга Каминская, ввергнувшая Горького в «трагикомические волнения» первой любви, как и избранница Шаляпина Ольга Михеева были женщинами другого круга, нежели тот, к которому принадлежали влюбленные в них молодые люди. Это обстоятельство окружало образы возлюбленных особым ореолом недосягаемости. «Я хорошо понимал, что она культурно выше меня», — писал Горький об Ольге Каминской в «Рассказе о первой любви».
Ольга Михеева окончила Петербургскую консерваторию. Ее рассказы о величественной красоте российской столицы приобщали Шаляпина к удивительному и неведомому прекрасному. Да и внешним обликом, манерой держаться Ольга сильно отличалась от знакомых Федору хористок, простых и не очень требовательных женщин.
Незадолго до встречи с Ольгой Федор расстался со своей подругой Марией Шульц, приютившей оборванного бродягу-артиста в первые дни тифлисского бытия. Шаляпин остался благодарен Марии за кров, за самоотверженность: чтобы прокормиться вдвоем в трудную пору, Мария продавала свои вещи. Но, когда Федор сам начал зарабатывать, непрочный семейный быт совсем развалился. Пьяные ссоры чередовались с бурными примирениями, и казалось, что выйти за пределы унылого и угнетающего однообразия уже невозможно…
Ольга же представлялась Федору воистину неземным созданием. Они познакомились на одном из концертов в музыкальном кружке. Барышня в пенсне, в изящном воздушном платье взволнованно исполняла чувствительный романс «Плыви, моя гондола…».
На следующем вечере выступал Федор. Арию Гремина «Любви все возрасты покорны» он посвятил Ольге, она была тронута, наговорила певцу комплиментов. «Трагикомических волнений» в этом романе было предостаточно. Против Федора ополчилась мать Ольги, она не разделяла выбора дочери. Однажды, желая выяснить, насколько далеко зашли отношения влюбленных, добродетельная мамаша спряталась за шкафом, но неловким движением обнаружила себя. Изумлению и возмущению Федора не было предела. Он не сомневался, что оскорбленная Ольга порвет с матерью, предложил возлюбленной уйти к нему, жить на его скромный достаток. Но мать и дочь быстро примирились, а юношеский романтизм Федора «заволокло серое облако каких-то сомнений и подозрений». Много лет спустя Шаляпин в «Страницах из моей жизни» вспомнит оскорбления, обвинит Ольгу в непонимании и высокомерии.
Похоже описывал Горький и свою избранницу, порицая ее за «снисходительное отношение к людям»: «Ей жизнь казалась чем-то вроде паноптикума». Горький и Шаляпин мучились и ревностью, и «комплексом неравенства», и невозможностью самим «вписаться» в среду, к которой принадлежали обе Ольги. К тому же ни Горький, ни Шаляпин в ту пору не могли обеспечить своим возлюбленным более или менее достойную жизнь; это, безусловно, влияло на отношения и неизбежно способствовало разрыву.
Описывая в «Страницах из моей жизни» неудачный юношеский роман, Шаляпин не задумывался о том, что Ольга может их прочесть. Однако именно так и произошло… Ольга Петровна Михеева (1873–1943), скромная учительница музыки, до старости жила в Тифлисе. Первая любовь артиста пережила его на пять лет…
Последнее впечатление Федора о Тифлисе: «Пришла на станцию Ольга с матерью. Я начал уговаривать ее ехать со мною. Она отказалась… Когда лошади потащили нас вдоль Ольгиной улицы на Военно-Грузинскую дорогу, сердце мое мучительно сжалось…»
Глава 7 ТИФЛИС — МОСКВА — ПЕТЕРБУРГ
Федору 21 год. Пережитые скитания не погасили романтическую наивность и восторженность. Вместе с Пашей Агнивцевым Шаляпин едет в Москву. По дороге умудрились в Ставрополе дать концерт; в кармане гонорар — 250 рублей, огромная сумма!
Мысли о Москве, о Большом театре будоражат воображение молодого певца. Чтобы скоротать дорогу, Федор садится играть в «три туза» со случайными попутчиками и очень скоро становится жертвой ловких поездных шулеров. Приподнятого настроения как не бывало, в душе горечь, тревога и злость на самого себя. Даже Паше Агнивцеву стыдно признаться в происшедшем. Радость от встречи с Москвой омрачена. Город только ошеломил провинциалов своей пестротой, суетой и шумом.
Оставив свой нехитрый багаж в номерах, Шаляпин направился на Театральную площадь. Большой театр с величественной колоннадой, увенчанной квадригой Аполлона, поразил его. Храм искусства показался строгим и неприступным, не верилось, что его двери могут гостеприимно распахнуться перед ничтожным провинциалом, каким чувствовал себя Федор в эти минуты. Рядом с площадью — Охотный ряд, лавки, полные мясных туш, овощей, фруктов. Снуют разносчики всяческой снеди, бойкие лоточники, пестрят вывески трактиров, чайных, кофеен… но в кармане пусто.
Поутру Федор отправился в Дирекцию императорских театров — на Большую Дмитровку. Сонный сторож куда-то унес рекомендательное письмо Усатова, потянулись часы томительного ожидания. Наконец выяснилось: управляющий конторой П. М. Пчельников его не примет, а императорские театры закрыты до осени, прослушать певца некому. Оставалась хрупкая надежда: на даче под Москвой, в Пушкине, жили дирижеры Большого театра И. К. Альтани и У. И. Авранек — может быть, Шаляпину помогут письма их тифлисских коллег, антрепренера В. Л. Форкатти и дирижера И. А. Труффи. Но и здесь певец не встретил сочувствия: никто не захотел прослушать его, дать совет, где устроиться, как продержаться до начала театрального сезона. Видимо, от соседей по номерам узнали Шаляпин и Агнивцев о Театральном агентстве Е. Н. Рассохиной. И вот они перед домом Сушкина в Георгиевском переулке, что на углу Тверской. На втором этаже — залы «Первого театрального агентства для России и заграницы».
Умная и бывалая дама Елизавета Николаевна Рассохина (1860–1920) заботилась в первую очередь о коммерческом успехе своего предприятия. Она помогала антрепренерам набрать труппу подешевле и получала за это хороший процент. Рассохина знала: в большинстве случаев к ней обращаются люди, потерявшие надежду устроиться где-либо самостоятельно, и потому никаких прав за ними не признавала. «Неутомимая, шумливая Рассохина шариком каталась по залам своего агентства, расхваливала товар покупателю с исключительным искусством пройдохи-агента, якобы знающего весь артистический мир. Заключались сделки по договорам, где опять-таки все было на стороне антрепренера и мадам». Так запомнилось посещение бюро Рассохиной известному провинциальному актеру и режиссеру Н. И. Собольщикову-Самарину.
Федор принес Рассохиной свои фотографии в ролях, вырезки из тифлисских газет. Но не он один искал здесь хоть какой-нибудь сносный ангажемент. У дверей кабинета Рассохиной толпились актеры. Антрепренеры, высокомерно тесня их, солидно проходили в кабинет — «к самой». В ожидании приема Шаляпин и Агнивцев слушали витиеватые актерские байки: кто-то хвастался успехами в провинции, щедрыми подарками благодарной публики, демонстрировал золоченые портсигары, перстни, брелоки, часы. Жаловались и на «хозяйку», на кабальные контракты и поборы.
Наконец Шаляпина приглашают в кабинет. Елизавета Николаевна желает услышать его пение. Федор волнуется: решается дальнейшая судьба. Но голос звучит хорошо, «хозяйка» довольна: «Отлично! Мы найдем вам театр!»
Ждать пришлось почти месяц. Бездеятельное прозябание в дешевых номерах угнетало — грязь, скандалы, крикливые соседи. В воспоминаниях Шаляпин назовет свое пристанище конурой. Паша Агнивцев приглашает товарища прогуляться по Москве. Федор мрачно отказывается: стыдно рассказывать о проигрыше. Но с голодом не поспоришь, и Федор признается Павлу: денег нет! Друг благородно предлагает свои, они обедают в трактире Рогова, помещавшемся непосредственно под Театральным агентством. В залах с низкими потолками, в клубах сизого дыма охотнорядские мясники, рыбники, возчики, грузчики, разносчики подводят итоги дневной торговли, выясняют отношения; там же актерская братия пропивает и проедает жалкие свои авансы, гонорары, золоченые портсигары и прочие подношения признательной публики.
Паша отзывчив и добр, но при этом отличается необыкновенной скрупулезностью: долги Шаляпина он заносит в записную книжку. Если он расходовал семь копеек, то записывал за Федором три с половиной. Это, конечно, правильно, однако как скучно! — думал Шаляпин и умолял:
— Да запиши ты за мной четыре копейки!
— Зачем же? Половина семи — три с половиной, пяти — две с половиной…
После таких обедов хотелось побыть одному. Федор уходил на Воробьевы горы и оттуда любовался Москвой, золочеными куполами и маковками церквей. Город притягивал к себе… Но здесь, на Воробьевых горах, одолевали Шаляпина и грустные мысли о собственной бездомности, неустроенности — казалось, нет этому конца, — о порушенной любви: письма от Ольги Михеевой приходили, но все реже и становились все короче…
Наконец пришел вызов от Рассохиной. Захватив ноты, Федор мчится в Георгиевский переулок — его ждут! Рядом с «хозяйкой», вальяжно развалясь, расположился плечистый кудрявый человек в поддевке, впечатляющий своим внушительным видом. «Вот это настоящий московский антрепренер!» — подумал Федор. И не ошибся. Перед ним — сам Михаил Валентинович Лентовский (1843–1906), известный публике «маг и чародей», в прошлом актер императорского Малого театра. Ныне Лентовский славен постановками грандиозных феерий и зрелищ в московском театре «Эрмитаж».
— Пойте, — предложила Рассохина.
Федор решил исполнить арию из «Дон Карлоса», кивнул аккомпаниатору, но едва успел начать, как Лентовский оборвал его:
— Довольно. Ну, что вы знаете и что можете? «Сказки Гофмана» пели?
— Нет.
— Вы будете играть Миракля. Возьмите клавир и учите. Вот вам сто рублей, а затем вы поедете в Петербург петь в «Аркадии»…
Все поразило Шаляпина — и важный тон Лентовского, исключающий вопросы и сомнения, и щедрые 100 рублей — нежданное богатство! — и магические слова «Аркадия», «Петербург»… Федор не стал затруднять себя внимательным чтением договора, подмахнул не глядя. Рассохина позаботилась и о дальнейшем трудоустройстве Шаляпина, оформила с ним контракт на предстоящий зимний сезон в Казань и кабальный вексель, по которому Шаляпин в случае отказа от обязательств платит серьезную неустойку. Но в эту минуту Лентовский и Рассохина казались ему благодетелями — он снова полон надежд, верит в грядущий успех!
А между тем Михаил Валентинович Лентовский оказался в положении банкрота. Только этим можно объяснить его «предпринимательский союз» с арендатором буфета и театрального зала неким Христофором Петросьяном. Совместными усилиями они надеялись завлечь в сад «Аркадия», что в пригороде Петербурга, в Новой Деревне, гуляющую публику. О грядущих представлениях «знаменитого Михаила Лентовского» уже оповещали афиши на круглых тумбах, об этом сообщали и петербургские газеты.
Судьба Павла Агнивцева еще не решена, но Федор не может скрыть своей радости, он спешит покинуть Москву. Друзья встретятся только через пять лет, в апреле 1899 года: солист императорского Мариинского театра Шаляпин приедет на две недели в Казань, его партнером выступит Павел Агнивцев.
А пока — в путь! Федор на перроне Николаевского вокзала, дымит паровоз, начальник станции в последний раз трижды ударяет в станционный колокол, протяжный гудок! Шаляпин едет в Петербург.
Театры в столице закрыли сезон, артисты ринулись гастролировать в ближнюю и дальнюю провинцию, горожане отдыхают на дачах — теперь это модно. Театральная жизнь из центра столицы переместилась в пригороды, в летние частные, любительские и «дачные» театры. Впрочем, и здесь на наскоро сбитых дощатых подмостках можно было встретиться с высоким искусством. В поселке Озерки зрители, как сообщалось в газетной хронике, благодарно аплодировали талантливой инженю госпоже В. Ф. Комиссаржевской, впервые выступившей перед петербургской публикой.
В эту же пору, в последние июньские дни 1894 года, в Петербурге объявился и певец Федор Шаляпин. Его пылкому воображению российская столица рисовалась каким-то праздничным городом, вознесенным на гору и утопающим в зелени. Из окна вагона увидел он поначалу бесконечные рабочие слободы, закопченные трубы фабрик, кирпичные заводские корпуса. И город показался Федору дымным, хмурым, не похожим на тот, который он себе представлял.
Чего ждал Шаляпин от Петербурга? Далекоидущих планов у него не было. Именно поэтому певец легко примирился с тем, что «Аркадия» оказалась не роскошным столичным театром, а непритязательным увеселительным заведением, какие он видел в садах Казани, Уфы, Астрахани, Баку, Тифлиса. И театр в «Аркадии» тоже был деревянный, располагался в саду, недалеко от открытой летней эстрады и ресторана.
Летом в «Аркадию» на Новодеревенскую набережную съезжалось много веселящейся публики. На извозчиках, на небольших пароходиках, курсировавших по Большой Невке, прибывали офицеры с нарядными дамами, модные адвокаты, биржевые маклеры, чиновники, купцы, содержатели торговых домов и магазинов. Бывал здесь народ и попроще. Зрелищ предлагалось много, на разные вкусы и по разным ценам. Нынешний сезон открылся, как обычно, весной, в мае. Зрителям обещана заманчивая программа: спектакли, феерические представления, «кафе-шантаны с балетно-шансонетною программою» и прочие увеселения. Артисты выступали в закрытом помещении и в саду, на открытой эстраде.
Федор снял комнату в небольшом деревянном доме в Новой Деревне, неподалеку от «Аркадии», днем гулял по Петербургу, а вечерами в «Аркадии» аплодировал озорной шансонетной певице итальянке Паоле Кортез. В целом же дела «Аркадии» шли неважно, и на грядущие представления Лентовского — «мага и волшебника» — возлагались большие надежды.
12 июля труппа Лентовского открыла долгожданные гастроли. Давали шумную феерию в пяти картинах «Козрак, или Брака-та-куа». Однако зрители быстро охладели к спектаклю, к тому же рецензенты сочли представление скучным, грубым, бессмысленным и несценичным. Не пробудила стойкого интереса публики и опера «Сказки Гофмана», в которой 24 июля выступил Шаляпин, а дирижировал Иосиф Антонович Труффи, старый знакомец по Тифлисскому оперному театру. Но прессой дебют Шаляпина в Петербурге был замечен. Журнал «Артист» писал: оркестр играет с увлечением, солисты заслуживают похвалы, недурен также и мужской хор. Публике в числе прочих понравился и «г. Шляпин (красивый basso cantante)». Первое упоминание в столичной прессе не обошлось без опечатки.
«Магу и волшебнику» Лентовскому явно не везло. Моросили дожди, погода не располагала к прогулкам, до «Аркадии» добирались немногие. Лентовский спешно поставил фарс под зазывным названием «Орловский тигр, или Необыкновенные приключения», но и его премьера общего положения не изменила. «Маг» мрачен, ругается и даже дерется с Христофором Петросьяном, официальным держателем антрепризы и арендатором театра. Труппа бедствует, Лентовский отделывается полтинниками, лишь иногда Федору удается выклянчить у раздраженного «волшебника» трешку или пятерку…
Поняв, что фортуна отвернулась от обитателей «Аркадии», Лентовский, как мог, рассчитался с долгами и отбыл в Москву. Шаляпину тоже пора было уезжать в родную Казань: в кармане у него подписанный у Рассохиной контракт с оперной антрепризой Н. В. Унковского. Но как же не хотелось ему теперь покидать Петербург! Федору нравились широкие, ровные, прямые многолюдные улицы, просторы проспектов и набережных, полноводная темная Нева, украшенные скульптурами аллеи Летнего сада. Город увлек молодого певца своим прекрасным обликом, пестрой художественной жизнью, неожиданными встречами…
Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) — живописец, график, декоратор и режиссер — на три года старше Шаляпина. Его воспоминания воссоздают «художественный дух» российской столицы этих лет. «Вообще, во всем Петербурге царит изумительно глубокая и чудесная музыкальность (по количеству рек и каналов Петербург может соперничать с Венецией и Амстердамом), и музыкальность эта как бы заключается в самой влажности атмосферы. Однако что там доискиваться и выяснять. У Петербурга, у этого „казарменного“, „ничего в себе национального не имеющего города“ есть своя душа, а ведь душа по-настоящему только и может проявляться и общаться с другими душами посредством музыки».
Возможно, провинциальный певец Шаляпин видел город иными глазами, однако «музыкальность» столицы он если не осознал, то, безусловно, почувствовал. Как бы то ни было, он решил остаться в Петербурге и в надежде на счастливый случай дал объявление в газете: «Оперный артист (бас), свободный на зимний сезон, ищет ангажемента». Предложений, однако, не последовало. Шаляпин покинул Новую Деревню и переселился на Охту, пристанище петербургской ремесленной бедноты, район жалких лачуг, чахлых деревьев: здесь жизнь дешевле.
«Колосс по увеселительной части». Карикатура на М. В. Лентовского. 1883 г.
Столица в эту пору сильно менялась, утрачивала свой «строгий, стройный вид». Огромные доходные дома неожиданно возникали даже в центре города, они скрыли Адмиралтейство, ранее выходившее на Неву, и Петербург лишился едва ли не лучшего из своих архитектурных ансамблей. Одно из уродливых зданий — Панаевский театр, названный так по фамилии своего владельца. Летом 1894 года его арендовало Оперное товарищество дирижера И. А. Труффи. Неудивительно, что здесь вскоре оказался и Шаляпин.
Труппу набрали в основном из провинциальных певцов, и они с энтузиазмом взялись за дело. «Сегодня товарищи имели первое заседание, на котором были вполне определены как состав, так и месячный бюджет товарищества. С завтрашнего дня начнутся репетиции», — сообщала газета «Новости» 29 августа. Репертуар составили из популярных ходовых названий, хорошо знакомых Шаляпину по Тифлису: «Трубадур», «Аида», «Травиата» Дж. Верди, «Жизнь за царя» М. Глинки, «Африканка» Дж. Мейербера, «Кармен» Ж. Бизе, «Фауст» Ш. Гуно, «Паяцы» Р. Леонкавалло.
Неуютный зал не понравился Федору, но коллеги встретили его хорошо, и в первом же спектакле — «Фаусте», состоявшемся 18 сентября 1894 года, — он пел Мефистофеля. Газета «Новое время» писала: «Приятный бас у г. Шаляпина (Мефистофель), силы этого певца, кажется, невелики, под конец спектакля его голос звучал утомленно в сцене в церкви и в серенаде, которую его, однако, заставили повторить». «Голос его хорош», — отметила и «Петербургская газета»; указав на малую опытность артиста, плохой грим и ряд вокальных промахов, репортер тем не менее оценил общее впечатление в пользу певца.
Спустя месяц — премьера оперы Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол». Шаляпин пел Бертрама. Рецензент «Нового времени» опять выделил его из прочих исполнителей, назвал его пение «сравнительно недурным». «Петербургская газета» оказалась более сдержанна, а в газете «Русь» начинающий музыкальный обозреватель, в будущем известный композитор Николай Черепнин, разнес спектакль в пух и прах…
Глава 8 УРОКИ СТОЛИЧНОЙ ДРАМЫ
20 октября 1894 года почил в Бозе император Александр III. В знак траура театры закрыты почти на полтора месяца, но Панаевской труппе после долгих хлопот разрешили играть оперы. Спектакли пошли удачно. О Шаляпине одобрительно отзываются рецензенты, певцом интересуются знатоки театра, за кулисы приходят известные в художественном мире люди.
Один из таких авторитетных музыкантов — Василий Васильевич Андреев (1861–1918), балалаечник-виртуоз, организатор и руководитель русского народного оркестра. Он сразу оценил талант Шаляпина, проникся к нему теплой симпатией, пригласил к себе. В его доме собирались музыканты, артисты, художники. «Душа моя насыщалась в нем красотой, я смотрел, слушал, учился», — признавался впоследствии Шаляпин.
В. В. Андреев в ту пору еще не имел той блистательной славы, она пришла к нему позже, но «в художественных кругах» уже был известен. В 1889 и 1892 годах его оркестр имел успех в Париже, он стал часто выступать с концертами в Петербурге и Москве. Андреев возрождал и совершенствовал старинные народные инструменты. По остроумному выражению современника, он ухитрился соединить «фрак и балалайку», сделал свой оркестр великолепным музыкальным коллективом, любимым в самых разных слоях российской и европейской публики.
Андреев привлекал к себе простотой общения, открытым дружелюбием, приветливостью. При этом Василий Васильевич за элегантность и изысканность почитался в художественных кругах «законодателем мод». Наблюдая Шаляпина, Андреев, как когда-то Усатов, заботливо советовал певцу, как следует вести себя в обществе.
— Чай пить во фраке не ходят… Фрак требует лаковых ботинок, — иногда осторожно замечал Василий Васильевич.
Федор не обижался, он и сам тяготился своей провинциальной неуклюжестью. «В. В. Андреев усердно и очень умело старался перевоспитать меня. Уговорил остричь длинные „певческие“ волосы, научил прилично одеваться и всячески заботился обо мне», — с благодарностью вспоминал он впоследствии.
Андреевские «пятницы» для Шаляпина — серьезные уроки этики, культуры, познания искусства. Молодой артист подкупал своей необыкновенной восприимчивостью, как губка впитывал он новые впечатления, жадно слушал собеседников. Василий Васильевич целенаправленно расширял круг его знакомых и наконец свел с дирижером Мариинского театра Эдуардом Францевичем Направником (1839–1916).
В дом известного знатока искусства Тертия Ивановича Филиппова (1826–1899) Федора привели В. В. Андреев и новые молодые друзья певца братья Василий и Николай Стюарты. Т. И. Филиппов — фигура колоритная. Член Комитета министров, государственный контролер, убежденный славянофил, он дружил с А. Н. Островским, Ап. А. Григорьевым, М. А. Балакиревым, М. П. Мусоргским, Н. А. Римским-Корсаковым, В. В. Андреевым. Тертий Иванович щедро покровительствовал замечательному исполнителю былин Трофиму Рябинину, известной сказительнице-«вопленице» Орине Федосовой. М. А. Балакирев называл Т. И. Филиппова «другом русской музыки», а Горький почитал его как «крупнейшего любителя и знатока древней русской песни». Помимо высоких государственных чинов Филиппов был активным членом Русского литературного общества, председателем песенной комиссии отделения этнографии Русского географического общества, энергично руководил работой по собиранию, изучению и изданию народных песен, организовывал научные экспедиции по сбору отечественного фольклора.
Федор стал бывать на музыкальных вечерах Филиппова, пел соло и в хоре. В начале января 1895 года Т. И. Филиппов собрал в гостиной многих знаменитостей: играл на рояле приехавший из Москвы вундеркинд Иосиф Гофман, свои чудесные сказы-былины и рекрутские причитания выпевала Орина Федосова. Много лет спустя М. Горький воскрешал свои встречи с Ориной Федосовой в романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина»:
«…Полился необыкновенно певучий голос, зазвучали веские, старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое… Он (Самгин. — В. Д.) не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом, добром лице, от изумительного блеска детских глаз, которые, красноречиво договаривая каждую строку стихов, придавали древним словам живой блеск и обаятельный, мягкий звон… Казалось, что он один в зале, больше никого нет… а сквозь шумок за пределами зала, из прожитых веков, воистину чудесно долетает до него оживший голос героической древности».
«Песельница» воспламенила и воображение Шаляпина: «Я слышал много рассказов, старых песен и былин и до встречи с Федосовой, но только в ее изумительной передаче мне вдруг стала понятна глубокая прелесть народного творчества»…
Федор проникновенно исполнил арию Сусанина, чем растрогал сестру Глинки Людмилу Ивановну Шестакову (1816–1906). Тогда же Шаляпин познакомился с Иваном Федоровичем Горбуновым (1831–1895), актером Малого и затем Александрийского театра.
Горбунов прекрасно играл характерные роли в пьесах A. Н. Островского, но особенно прославился как непревзойденный рассказчик и исполнитель драматических импровизаций и собственных жанровых зарисовок. В написанных им «Сценах из народного быта» изображались крестьяне, купцы, мастеровые, приказчики, генералы, городские обыватели. «Впервые видел я, как человек двумя-тремя словами, соответствующей интонацией и мимикой может показать целую картину. Слушая его бытовые сценки, я с изумлением чувствовал, что это человек магически извлекает из жизни Бузулуков, Самар, Астраханей и всех городов, в которых я бывал и откуда вынес множество хаотических впечатлений, отложившихся на душе моей серой пылью скуки». Ценнейший урок актерской наблюдательности, профессиональной фантазии, воображения вынес Шаляпин из цикла юмористических сцен Горбунова о генерале Дитятине, из рассказов «Затмение Солнца», «На большой дороге», «Утро квартального».
Шаляпин не успел близко сойтись с Горбуновым: очень скоро, в конце декабря 1895 года, его не стало. Но певец всегда тепло вспоминал об Иване Федоровиче, считал, что многому научился у него, тоже старался в жизни и на сцене быть свободным и пластичным.
Федору повезло: окружавшие его люди видели в нем не только забавного провинциала и диковинного самородка. B. В. Андреев, Т. И. Филиппов, Л. И. Шестакова разглядели в нем удивительный талант артиста, живой ум, восприимчивую душу, старались помочь ему, щедро делились своим опытом — житейским и художественным.
Вечера у Андреева нередко продолжались в ресторане Лейнера. На втором этаже огромного здания, фасады которого выходили на Невский, набережную Мойки и Большую Морскую, разместился своеобразный артистический клуб. Публика собиралась яркая, талантливая, шумная. Завсегдатаем был Мамонт Дальский, в ту пору премьер Александрийского театра, фигура в Петербурге весьма популярная. С мощным трагическим темпераментом он играл Гамлета, Чацкого в «Горе от ума», Незнамова в «Без вины виноватых», Рогожина в «Идиоте» и самую любимую свою роль — актера Кина в пьесе А. Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство». Известен был Дальский и бурными богемными авантюрами. «Игра — моя жизнь», — говаривал он часто; дерзкая бравада, картежные баталии, кутежи с цыганами принесли ему репутацию «беспутного Кина» — как часто называли его поклонники.
Кстати, мало кто знает и сегодня, что имя Дальского (1865–1918) к вымершему виду древних слонов — мамонтов, живших в ледниковую эпоху в Европе, никакого отношения не имеет. Историк И. Ф. Петровская сообщает: «В списке русских имен имени Мамонта нет, есть Мамант. На визитных карточках Дальского: Мамант. Это древнеримское имя, вошедшее в русские святцы, означает „грудастый“ (лат. mamma — грудь). Надо бы вернуть Дальскому его настоящее имя»[1].
Шаляпин увидел Дальского в спектаклях Александрийского театра. Императорские театры традиционно открывались в России 30 августа, попасть туда бедному провинциалу было трудно: слишком дороги билеты. Но Федор старался не пропускать спектакли дачных антреприз, в которых нередко играли знаменитости, а также различные благотворительные представления с их участием.
Как-то он оказался в летнем театре в Петергофе. В представлении участвовали премьеры Александринки — М. Г. Савина, К. А. Варламов, В. Н. Давыдов, П. Д. Ленский и молодой тогда Юрий Михайлович Юрьев (1872–1948)… На следующий день Юрьев зашел по каким-то делам в Контору императорских театров и увидел среди толпящихся чиновников и артистов шумного блондина — то ли семинариста-бурсака, то ли церковного певчего. Незнакомец привлекал к себе внимание выразительной мимикой и жестикуляцией. Он заметил пристальный взгляд Юрьева и, когда тот собрался уходить, с досадой и при этом добродушно обратился к окружающим:
— Да познакомьте же нас, черт возьми!.. Я все ждал, что вы догадаетесь это сделать, и вот теперь самому приходится быть навязчивым.
Их представили друг другу, и Шаляпин тут же стал восторгаться виденным накануне спектаклем:
— Вчера я был в Петергофском театре… Смотрел вас и сразу узнал… Какой чудесный спектакль!.. Особенно мне понравилась тургеневская вещица… Тургенев! Вот, шут его побери, так писатель!.. Италия, Сорренто, вдали Везувий, луна, гитара, серенада, и на фоне всего тут тебе влюбленная парочка… Дьявольски красиво!.. Так потянуло меня в этот благословенный край!.. А главное, у этого шельмы Ивана Сергеева все в точку!.. Можно было и засахарить. Ничего подобного! Никакой тебе конфеты!..
Юрию Юрьеву, в общем-то привыкшему к назойливым откровениям поклонников, такой непосредственный экспромт показался любопытным: странного вида собеседник говорил о спектакле вычурно, да еще с характерным волжским оканьем, но с пониманием, непосредственно и свежо. Подумалось: откуда у него, казалось бы, мало тронутого культурой, знание эпохи, чувство характера и стиля тургеневского письма? Юрьев с интересом поддержал разговор и немало подивился поведанной ему истории появления Федора в столице и его страстной любви к театру.
Заметив расположение собеседника, Шаляпин рискнул обратиться с просьбой:
— Нельзя ли как-нибудь достать контрамарку в ваш театр? Я и теперь люблю драму более всего… Но к вам так трудно проникать…
И вот спустя несколько дней, когда Юрьев гримировался перед началом «Гамлета» (он играл Лаэрта), в дверь робко постучали. Вошел Шаляпин. Юрьев вручил ему желанную контрамарку и пригласил зайти в антракте. Федор появился после первого акта и сразу же заговорил о Гамлете — Дальском. Юрьев тут же, не мешкая, познакомил знаменитого актера с его новым почитателем, и эта встреча положила начало двадцатилетней дружбе Дальского и Шаляпина.
Федор сразу подчинился неотразимому обаянию Дальского, его таланту, его волевому напору. Чтобы не расставаться со своим кумиром, Федор переселился в «Пале-Рояль», где тот обитал…
Гостиница привлекала внимание броской зазывной рекламой: «Большой меблированный дом „Пале-Рояль“. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 20, близ Николаевского вокзала. 175 меблированных комнат от 1 рубля до 10 рублей в сутки, включая постельное белье». Объявление завершалось загадочным предупреждением: «Просят извозчикам не верить». Вероятно, им-то и была ведома истинная репутация отеля.
Тяжеловесное здание «Пале-Рояля», больше похожее на заводской цех, давило своей массой на небольшое пространство улицы, на соседние дома, на памятник Пушкину работы скульптора А. М. Опекушина, фигура поэта казалась здесь крошечной и неуместной.
В «Пале-Рояле» Шаляпин и Дальский жили на пятом этаже. Пыльные портьеры и насекомые в комнатах не омрачали настроения. Шаляпин неразлучен с Дальским. Его удаль, молодечество, желание эпатировать публику импонировали молодому певцу. Несмотря на необузданность, подчас наигранную вспыльчивость, Дальский, по словам театрального критика А. Р. Кугеля, «был способен к хорошим порывам, и душа его была не мелкая». Артистом же Дальский был и в самом деле незаурядным.
Шаляпин не просто увлекался спектаклями Александрийского театра и игрой артистов — он хотел вникнуть в самую суть и логику сценического поведения, пытался понять, возможно ли что-нибудь из увиденного перенести на оперную сцену.
В театр Шаляпин входил обычно со служебного входа и сразу шел в артистическую уборную Дальского или Юрьева, а после спектакля Дальский, Юрьев и Шаляпин нередко заходили «на огонек» к Зое Яковлевой, их большой приятельнице. Она жила на Фонтанке, у Чернышева моста, в ее всегда открытом доме было просто, без чинности.
Зоя Юлиановна Яковлева (Рушиц) пользовалась известностью в петербургских литературных и артистических кругах как прекрасная исполнительница комических ролей в любительских спектаклях, а позднее и как писательница. Ее рассказы и очерки печатались в петербургских газетах, в журнале «Нива», пьесы «Поздно» и «Прибой» ставились в Александрийском театре, в «Комедии» шла ее пьеса «Под крылом его светлости», «открывшая романтическую страничку из жизни князя Потемкина», как писал рецензент «Обозрения театров». Впрочем, выдающимся литературным дарованием Зоя Яковлева не обладала, но добротой, радушием и гостеприимством она была одарена щедро — за это ее и любили.
В квартире Зои Юлиановны — электрическое освещение, в ту пору большая редкость. Лампочка без абажура свисала с потолка в центре комнаты. Яркий, необычный свет, чай с бутербродами, веселое общество привлекали гостей. Во всей обстановке дома, в самой хозяйке, как отмечал Юрьев, «было что-то архиспецифическое, петербургское».
Гости Яковлевой жили тоже неподалеку: Шаляпин и Дальский — на Пушкинской улице, Юрьев — на Ямской. Маленькая квартирка, в которой жил Юрчик — так друзья называли Юрьева, — досталась ему от прежнего владельца, актера И. П. Киселевского, игра которого так восхищала Федора в пору казанской юности. Квартира находилась в одном из уголков города, описанных Ф. М. Достоевским: плотно прижатые кварталы с мрачными многоквартирными домами неопределенной темной окраски, с унылыми проходными дворами. Здесь жили мастеровые, курсистки, студенты, люди неопределенных занятий и квартиры были дешевые.
Мамонт Дальский, высокомерный с бездарностями и неучтивый с дилетантами, внимательно относился к одаренной молодежи, многому научил таких известных в будущем актеров, как М. М. Тарханов, Н. М. Радин. Шаляпин же воспринял уроки Дальского столь основательно, что через шесть лет, в 1901 году, не слишком осведомленный в отношениях артистов рецензент «Новостей дня» писал о Дальском в «Гамлете» едва ли не как о последователе Шаляпина: «Ум и обдуманность просвечивают в каждом движении, в каждом жесте артиста; нечего и говорить, что искусством позы, жеста, вообще тела, что называется сценической технологией, он владеет в совершенстве. Богатство рассыпаемых им на каждом шагу деталей — изумительно. Это — ум, бьющий через край, талант, не знающий границ вдохновения… Это Шаляпин, это драматический Шаляпин, точно так же, как наш великий артист — оперный Дальский». Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874–1942) высоко ценил талант Дальского-трагика и часто цитировал его слова: «Не должно быть у актера совпадения личного настроения с настроением изображаемого лица — это убивает искусство». И действительно, своего Гамлета Дальский играл всегда по-разному. Если был бодр, энергичен — играл Гамлета мечтательным, нежным. Если был настроен задумчиво-лирически — играл с мужеством и страстным пылом. «Я влюбился в Дальского, — рассказывал Мейерхольд, — когда заметил у него легкое и сразу прерванное движение руки к кинжалу при первом обращении к принцу Гамлету короля».
Как и будущие его великие друзья — Горький, Рахманинов, Серов, Коровин, — Шаляпин врастал в поле современного искусства на высокой «романтической волне». Его путь на большую сцену начинался с искреннего увлечения актерами-романтиками — Киселевским, Дальским, Юрьевым. Каждый свободный вечер Федор в Александринке. «Мы так привыкли его видеть в кулисах, что когда он не приходил, нам чего-то не хватало», — вспоминал позднее премьер театра Константин Александрович Варламов.
Ю. М. Юрьев радовался дружбе Шаляпина и Дальского: «Их сблизили общие интересы, оба одаренные, увлекающиеся. Творческие начала у обоих были очень сильны. На этой почве возникали всевозможные планы, мечты, горячие споры… Да что греха таить — надо сознаться, и кутнуть они оба были не прочь!.. Он (Шаляпин. — В. Д.) поклонялся Дальскому и, уверовав в его авторитет, постоянно пользовался его советами, работая над той или другой ролью, стараясь совершенствовать те партии, которые он уже неоднократно исполнял, стремясь с помощью Дальского внести что-то новое, свежее и отступить от закрепленных, по недоразумению именуемых традициями, форм, не повторяя того, что делали его предшественники».
Безусловно, как актер Шаляпин многим обязан Юрьеву и Дальскому. Они часто бывали на оперных спектаклях с участием Федора, а потом втроем обсуждали исполнение. «Пел он прекрасно, но играл, надо прямо сказать, плохо: не владел своей фигурой, жестом, чувствовалась какая-то связанность, но в то же время уже ощущались проблески настоящего творчества», — вспоминал Юрьев.
Однажды Шаляпин пригласил Юрьева на генеральную репетицию оперы Э. Направника «Дубровский», в которой исполнял партию Дубровского-отца.
— Ну как? — спросил он после первого же акта.
— Все бы хорошо, Федя, если бы ты умел справляться с руками, — ответил Юрьев.
— Да, да, мешают, черт их подери! — огорченно согласился Шаляпин. — Не знаю, куда их деть. Болтаются, понимаешь, без толку, как у картонного паяца, которого дергают за ниточку… Видно, никогда с ними не сладишь!
— А вот что, Федя, — посоветовал Юрьев, — постарайся их больше ощущать, не распускай их так, держи покрепче… А для этого на первых порах возьми спичку и отломи от нее две маленьких частички — вот так, как я сейчас это делаю, — и каждую зажми накрепко между большим и средним пальцами. Так и держи, они не будут заметны публике. Ты сразу почувствуешь свои руки, они найдут себе место и не будут, как плети, болтаться без толку. Главное, чтобы не думать, куда их девать. А потом привыкнешь — станешь обходиться без спичек…
Федор попробовал и обрадовался:
— Да-да! Ты прав. Совсем иное ощущение!
Драматический театр все больше увлекал его: «В мои свободные вечера я ходил… не в оперу, а в драму… Началось это с Петербурга… Я с жадностью высматривал, как ведут свои роли наши превосходные артисты и артистки: Савина… Варламов… Давыдов…»
Но Шаляпин не просто поклонник прославленных мастеров Александринки — он хочет проникнуть в самую суть сценического поведения, пытается понять, что из виденного можно перенести в оперу. Дружба с актерами Александрийского театра открыла ему путь на концертную эстраду.
В ту пору в Петербурге было принято устраивать благотворительные концерты в пользу разного рода нуждающихся сообществ. Актеры выступали бесплатно, но публичностью, славой не брезговали и потому легко поддавались на уговоры предприимчивых организаторов. Те в назначенное время приезжали за артистом в наемной карете — обычно старой, расхлябанной, брошенной бывшим владельцем. Подали такую колымагу и Мамонту Дальскому, но выступать ему в этот раз почему-то расхотелось — актер пребывал в дурном расположении духа, вдохновение покинуло его, и он с ленивой капризностью отбивался от напористого студента.
— Как же это так, Мамонт Викторович? Вы стоите на афише… Вас только одного и ждут… Вы — гвоздь нашего концерта, главная приманка… Если вы не приедете — скандал!.. Потребуют деньги обратно!..
— Не потребуют!.. Это благотворительный концерт… Не уговаривайте, все равно не поеду, — категорически заявил Дальский, но после небольшой паузы добавил: — Вот что: я вам дам вместо себя певца… Хотите?
И Дальский уже кричал в коридор:
— Федор Иванович!.. Поди сюда! Скорей!
Долговязый детина не внушал доверия. Между тем Дальский счел проблему решенной:
— Вот он и заменит меня… Познакомьтесь — Шаляпин!
Делать нечего — карета у подъезда. Федор наскоро собрался. По дороге артист пробовал голос, время от времени откашливаясь, сплевывая в окно, приводя в ужас своего спутника. Федор предавался приятным размышлениям: не раз он видел, как разъезжали в экипажах и каретах знатные дамы да архиереи. А теперь — не угодно ли? — он сам едет в карете по главной улице Петербурга — Невскому проспекту! Мимо движется пестрая вечерняя толпа. Шаляпин вспоминал детство, ночи, когда он, служа у сапожника, дышал густым запахом кожи, краски, лака и какой-то особенной материи…
Карета тем временем свернула с Невского на Михайловскую улицу и остановилась перед Дворянским собранием. Студент — распорядитель вечера — толком и не знал, кого он привез вместо Дальского… Пройдет немного лет, петербургский студент Василий Шверубович уедет в родной город Шаляпина Казань играть на провинциальной сцене, а затем обоснуется в Москве, станет знаменитым актером Московского Художественного театра Василием Ивановичем Качаловым, а Федор уже будет восходящей звездой Московской частной русской оперы, и оба тепло вспомнят о своем знакомстве в «Пале-Рояле»…
А сейчас?..
Когда вместо Дальского в артистическую костюмерную вошел Шаляпин, его встретили с нескрываемым разочарованием. Федор заволновался, стал снова пробовать голос. Роскошный зал Дворянского собрания ослепил молодого певца парадным сочетанием темно-малинового бархата кресел с белоснежными стенами и мраморными колоннами, огромными люстрами с тысячами хрустальных слезинок, внезапно вспыхивающими разноцветными искрами… Публика молчалива, сдержанна. Федор запел — и лед равнодушия стал постепенно таять. «Сердца коснулся страх, тотчас же сменившийся радостью. Я запел с большим подъемом. Особенно мне удались „Два гренадера“. В зале поднялся неслыханный мною шум. Меня не отпускали с эстрады. Каждую вещь я должен был петь по два, по три раза и, растроганный, восхищенный настроением публики, готов был петь до утра…»
Теперь Шаляпина стали часто приглашать на благотворительные вечера, он приобрел известность в кругах любителей музыки. Впрочем, скоро и Панаевский театр ушел в прошлое — рекомендации В. В. Андреева, Т. И. Филиппова, Л. И. Шестаковой открыли Федору путь в Мариинский театр. После памятного вечера у Тертия Ивановича, на котором Федор проникновенно исполнил арию Сусанина, «Заклинание цветов» из «Фауста», певца пригласил дирижер Э. Ф. Направник…
Эдуард Францевич Направник, выходец из Чехии, много лет возглавлявший музыкальную часть Мариинского театра, человек замкнутый и скупой на похвалы, молча прослушал Шаляпина, который на публичном прослушивании спел арию Руслана, арию и речитатив Сусанина из четвертого акта «Жизни за царя». «Арию я пел, как поют все артисты, а речитатив — по-своему, как исполняю его и теперь, — вспоминал впоследствии Шаляпин. — Кажется, это вызвало у испытателей моих впечатление, лестное для меня. Помню, Фигнер (известный тенор Мариинского театра. — В. Д.) подошел ко мне, крепко пожал мою руку, и на глазах его были слезы. На другой день мне предложили подписать контракт, и я был зачислен в состав труппы императорских театров».
Жизнь Федора отныне становится более устойчивой, благополучной. Прошло всего полгода с той поры, когда он выпрашивал у Лентовского жалкие полтинники и щеголял в резиновых галошах, не имея лишнего рубля, чтобы починить изношенные сапоги. Теперь у него в руках официальный документ из плотной желтой бумаги: «Дирекция Императорских театров заключила сей контракт с Федором Ивановичем Шаляпиным в качестве певца баса русской оперы на три года, т. е. с 1 февраля 1895 г. по 1 сентября 1898 г. каждый сезон имеет начаться с 30 августа и окончиться 1-го мая, с обязанностью являться к репетициям с 20 августа…» и далее 14 параграфов, до мелочей регламентирующих существование певца на ближайшие три сезона. А в кармане — визитная карточка: «Артист Императорского Мариинского театра Федор Иванович Шаляпин».
Глава 9 СОЛИСТ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЫ
В 1890-х годах Мариинский театр обладал превосходными силами. У дирижерского пульта стояли талантливые и опытные капельмейстеры — Э. Ф. Направник, Э. А. Крушевский, Ф. М. Блуменфельд, постановку опер осуществлял эрудированный режиссер и педагог, в прошлом известный певец О. О. Палечек, с мнением которого считались композиторы A. П. Бородин, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский. Басовые партии исполняли прекрасные артисты — Ф. И. Стравинский, М. М. Корякин, А. Я. Чернов, B. С. Шаронов, Я. А. Фрей, К. Т. Серебряков, В. Я. Майборода, А. Д. Поляков, Н. Н. Климов. Совсем недавно покинул театр замечательный певец И. А. Мельников. Федор Шаляпин стал десятым в труппе солистом-басом, да к тому же самым молодым — ему едва исполнилось 22 года.
До сих пор Федор почитал за счастье выступать на эстрадах летних, «садовых» и частных театров. Теперь перед ним — одна из лучших сцен Европы.
Мариинский театр впечатлил молодого певца своей величественной роскошью. Недавно здесь закончены реставрационные работы по проекту архитектора В. А. Шретера. Но главное, о чем думал Федор, — как встретят его опытные певцы Медея и Николай Фигнеры, Е. И. Збруева, М. А. Славина, басы А. П. Антоновский, Ф. И. Стравинский, М. М. Корякин… С ними ему теперь выходить на сценические подмостки, с ними работать, у них учиться.
Вдохновленный Мамонтом Дальским, Федор готовился показать Мефистофеля, обогатив его выразительными драматическими красками, но на репетиции режиссер О. О. Палечек резко охладил реформаторский пыл певца:
— Что вы еще разводите какую-то игру? Делайте, как установлено. Были и поталантливее вас, а ничего не выдумывали. Все равно лучше не будет!..
Первое выступление Шаляпина состоялось 5 апреля 1895 года. На следующий день газета «Новое время» опубликовала сдержанный отзыв: «Шаляпин недурной Мефистофель в тех местах, в которых ему дана возможность блеснуть голосом, чересчур мягким для партии Мефистофеля, в фразировке характерных речитативов отсутствовала выразительность и едкость тона. Рондо о золотом тельце и серенаду он исполнял со вкусом и без лишних подчеркиваний».
Для второго дебюта Федору предложили спеть Руслана в опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Главный режиссер театра, строгий и хмурый Геннадий Петрович Кондратьев, обращавшийся ко всем на «ты», поинтересовался у Федора:
— Руслана роль знаешь?
— Не знаю, — сознался Федор.
— Есть две недели сроку, если хочешь эту роль сыграть. Можешь в две недели одолеть?
По своему провинциальному опыту Федор знал: певцам нередко случалось спешно вводиться в спектакль и выучивать роль и в два дня, и в два часа. Сам он не раз спасал положение и получал благодарность антрепренера за дружескую выручку.
— В две недели? Еще бы! Как же нет? Конечно! — радостно откликнулся Федор.
Уже в ходе репетиций он понял: переоценил себя, а на спектакле мучился одной только мыслью — не наврать в партии, не спутать слова. «Я нарядился русским витязем, надел толщинку, наклеил русскую бороду и вышел на сцену. С первой же ноты я почувствовал, что пою плохо и очень похож на тех витязей, которые во дни святых танцуют кадриль и лансье в купеческих домах. Поняв это, я растерялся, и хотя усердно размахивал руками, делал страшные гримасы, это не помогло мне». Голос не звучал, движения, пластика, жесты казались вычурными, неорганичными.
Сам же Кондратьев, как видно из его записи, оценил ситуацию по-другому: «Шаляпин-Руслан очень удачен. Молод еще он, но решительно выходит из ряда вон по способностям самообладания и приятности звука. Верю в его будущность». «Способности самообладания» — это важное качество характера очень многое определяло в судьбе Шаляпина.
Однако рецензенты единодушны — роль не удалась, хотя и отметили вокальные способности певца. Федору дали новые репетиции, но, «поскользнувшись», ему так и не удалось найти себя в Руслане. Спустя полгода «Петербургская газета» с досадой отмечала: «…неуверенность чувствуется во всем, даже в ритме… Так выступать на образцовой сцене в образцовой партии национального героя — нельзя».
Через день, 19 апреля, Шаляпин выступил в третьем дебюте — в опере Ж. Бизе «Кармен» исполнил партию Цуниги, хорошо знакомую ему по тифлисским спектаклям, но в ансамбле с певцами Мариинки он снова выглядел не слишком удачно. «Слаб г. Шаляпин в роли лейтенанта, — писал рецензент „Нового времени“, — где он безусловно подражал отличному исполнителю г. Стравинскому».
Отзыв свидетельствует, однако, не только о неуспехе дебютанта, но и — что, пожалуй, самое существенное — о готовности учиться у мэтров. Примером для подражания молодой артист избрал выдающегося оперного мастера Федора Игнатьевича Стравинского, талантливого артиста, последователя замечательного русского певца О. А. Петрова. Стравинский исполнял партии драматического и комического плана, прекрасно владел пластикой, тончайшими оттенками сценического перевоплощения. Проработав в Мариинском театре почти 40 лет, он создал на его сцене мощные сценические характеры басового репертуара.
Среди певцов Мариинского театра Федор Игнатьевич Стравинский (1843–1902, отец композитора Игоря Стравинского) выделялся высокой и разносторонней культурой. Артист собрал большую библиотеку, ее украшали книги по истории и философии. Свои партии Федор Игнатьевич тщательно готовил, изучал эпоху, время, этнографию. «Книги помогают мне уяснить изображаемую мной личность, если она принадлежит истории; если же она лирическая, то изучение мое направляется в сторону обстановки и среды. И лишь тогда, когда в моем воображении окончательно встает образ героя, я приступаю к изучению вокальной стороны партитуры…» — говорил певец.
Блестящий исполнитель характерных ролей, Стравинский уделял много внимания пластике и гриму. Сам делал эскизы, наброски гримов, помогавших в создании сценического образа. Внучка певца Ксения Юрьевна вспоминала восторженные рассказы Шаляпина — он показывал Стравинского в ролях Фарлафа, Олоферна, Скулы и восхищенно восклицал: «Какой это был изумительный актер!» Особенности творческой индивидуальности Стравинского — интерес к пластической «живописной» образности, поиски острой характерности — станут определяющими и в работах Шаляпина. Наброски шаляпинских гримов (талант рисовальщика откроется у Федора позднее) напомнят эскизы гримов Стравинского. В 1901 году Шаляпин поздравляет Стравинского с юбилеем словами: «Слава могучему российскому таланту, победившему силы рутины и застоя». А спустя год в некрологе Ф. И. Стравинскому современник напишет: «Обладая прекрасным могучим голосом (бас), драматическим талантом, редким у оперных певцов, поразительной способностью гримироваться и интеллигентностью, он по какому-то недоразумению не сделался „Шаляпиным“ — до Шаляпина».
Однако — всему свое время…
Неудача Руслана оставила в сознании Шаляпина след на всю жизнь. Певец не раз намеревался выступить в этой роли, но так и не рискнул. Успех в опере «Руслан и Людмила» принесла ему в будущем роль Фарлафа.
Тем временем после трех дебютов Шаляпина окончательно зачислили в труппу Мариинского театра. Ему поручили партии Свата в «Русалке» А. С. Даргомыжского, Судьи в «Вертере» Ж. Массне, Андрея Дубровского в «Дубровском» Э. Ф. Направника. Имя Шаляпина теперь часто встречается в театральной хронике, публика и пресса относятся к его выступлениям с пристальным вниманием. О Шаляпине — Галицком в «Князе Игоре» «Петербургская газета» 27 апреля 1896 года писала: «Что же касается г. Шаляпина, то текст он понял верно… Но голос его как-то слабо (вернее, закрыто) звучал, и ему приходилось форсировать голос для достижения известных эффектов. Ему необходимо еще учиться петь».
Газета «Новое время» также отметила сценическое дарование Шаляпина, которое «при работе может хорошо развиться».
После выступления Шаляпина в роли графа Робинзона в опере Д. Чимарозы «Тайный брак» (премьера состоялась на сцене Михайловского театра) та же газета «Новое время» писала: «…г. Шаляпин в роли жениха-графа не отставал от других, во внешнем виде этого фата не хватало типичности и оригинальности; зато вокальную часть своей партии артист провел с полным вниманием».
Дирекция театра решила: неопытного, пусть и способного артиста следует занимать в маленьких ролях.
«Я благодарю Бога за эти первые неуспехи, — признался Шаляпин через много лет в своей книге „Маска и душа“. — Они вышибли из меня самоуверенность, которую во мне усердно поддерживали поклонники. Урок, который я извлек из этого неуспеха, практически сводился к тому, что я окончательно понял недостаточность механической выучки той или другой роли. Как пуганая ворона боится куста, так и я стал бояться в моей работе беззаботной торопливости и легкомысленной поспешности… Я понял навсегда, что для того, чтобы роль уродилась здоровой, надо долго-долго проносить ее под сердцем (если не в самом сердце) — до тех пор, пока она не заживет полной жизнью».
Лето 1895 года Шаляпин провел под Петербургом, в Павловске, вместе с новым своим приятелем-ровесником Евгением Вольф-Израэлем, виолончелистом Мариинского театра. Певец разучивал новые партии, выступал в музыкальных вечерах в зале Павловского вокзала, в свободное время гулял с друзьями по парку, катался на велосипеде, ловил рыбу в речке Славянке.
Вернувшись осенью в Петербург, он снова начал заниматься с Дальским. Их общий приятель, молодой артист Александрийского театра Николай Ходотов, вспоминал:
«— Чуют прав-в-вду!.. — горланит Шаляпин.
— Болван! Дубина! — кричит Мамонт. — Чего орешь! Все вы, оперные басы, дубы порядочные. „Чу-ют!“ Пойми… чуют! Разве ревом можно чуять?
— Ну и как, Мамонт Викторович? — виновато спрашивает тот.
— Чу-ют тихо. Чуют, — грозя пальцем, декламирует он. — Понимаешь? Чу-ю-ю-т! — напевая своим хриплым, но необычайно приятным голосом, показывает он это… — Чу-у-ют!.. А потом разверни на „правде“, „пра-авду“ всей ширью… вот это я понимаю, а то одна чушь — только сплошной вой…
— Я здесь… — громко и зычно докладывает Шаляпин.
— Кто это здесь? — презрительно перебивает Дальский.
— Мефистофель!..
— А ты знаешь, кто такой Мефистофель?
— Ну как же… — озадаченно бормочет Шаляпин. — Черт!..
— Сам ты полосатый черт. Стихия!..
Дальше идет лекция о скульптуре в опере, о лепке фигуры на музыкальных паузах, на медленных темпах речи… И Шаляпин слушал…
Много взял Шаляпин от Дальского. Даже единственный шаляпинский тембр, увлекший за собой массу других певцов-басов подражателей, получил свою „обработку“ в „школе“ Дальского. Самая артистичность, драматическая музыкальность, красочность фраз Мамонта вошли в плоть и кровь гениальной восприимчивой натуры Федора Шаляпина».
Шаляпин безгранично верил Дальскому, следовал его советам в трактовке ролей, в осмыслении характеров, в отборе интонаций, красок, жестов, пластики. Когда спустя два года великая актриса Малого театра Мария Николаевна Ермолова увидела Шаляпина в роли Ивана Грозного в «Псковитянке», она была поражена прежде всего исключительным актерским мастерством певца.
— Откуда это всё у вас? — спросила она Шаляпина.
— Из «Пале»…
— Из какого «Пале»? — удивленно переспросила Ермолова.
— Из «Пале-Рояля»… Я там «дальчизму» учился.
А в театре Шаляпин мечтал сыграть Мельника в «Русалке». Обещания дирекции неопределенны, но тем не менее он начал работать над ролью с Мамонтом Дальским. «Почему пение в опере не выражает так много жизненных страстей, как слово в театре драматическом? — размышлял артист. — Что, если вокальное искусство сочетать с мастерством драматического актера?» Дальский и здесь оказался умным советчиком.
— У вас, оперных артистов, всегда так. Как только роль требует проявления какого-нибудь характера, она начинает вам не подходить. Думаешь, тебе не подходит роль Мельника? А я полагаю, что ты не понимаешь как следует роли. Прочти-ка.
— Как прочти? Прочесть «Русалку» Пушкина?
— Нет, прочти текст роли, как ее у вас поют. Вот хотя бы эту первую арию твою, на которую ты жалуешься.
Федор прочел — внятно, с соблюдением грамматических и логических пауз. Дальский сказал:
— Интонация твоего персонажа фальшивая — вот в чем секрет. Наставления и укоры, которые Мельник делает своей дочери, ты говоришь тоном мелкого лавочника, а Мельник — степенный мужик, собственник мельницы и угодьев.
«Как иголкой, насквозь прокололо меня замечание Дальского, — вспоминал Шаляпин. — Я сразу понял всю фальшь моей интонации, покраснел от стыда, но в то же время обрадовался тому, что Дальский сказал слово, созвучное моему смутному настроению. Интонация, окраска слова — вот оно что!.. В правильности интонации, в окраске слова и фразы — вся сила пения».
Работа в театре тем временем продолжалась. Подходивший к завершению сезон так и не приблизил Шаляпина к осуществлению его мечты. А тут еще Дальский, читая недельный репертуар Мариинки, укорял Федора:
— Нужно быть таким артистом, имя которого стояло бы в репертуаре по крайней мере дважды в неделю. А если артиста в репертуаре нет, значит, он не нужен театру. Вот смотри — Александринский театр: понедельник — «Гамлет», играет Дальский. Среда — «Женитьба Белугина», играет Дальский. Пятница — «Без вины виноватые», снова Дальский. А вот Мариинский театр: «Русалка», поет Корякин, а не Шаляпин. «Рогнеда», поет Чернов, а не Шаляпин.
— Что же делать? — взволнованно спрашивал Федор. — Не дают мне играть!
— Не дают — уйди, не служи!
— Легко сказать — уйди…
Удрученность Федора замечали и его коллеги. Михаил Михайлович Корякин, с которым он не раз пел дуэтом, хотел вселить в молодого певца бодрость, веру в талант и поэтому в последний день сезона — 30 апреля 1896 года — сказался внезапно заболевшим. Дирекция пошла на риск и выпустила на сцену Мельника — Шаляпина. Спектакль неожиданно оказался заметным событием в жизни певца. Успех не вызывал сомнений.
Так славно завершился для Федора второй сезон в Мариинском театре! «Этот захудалый, с третьестепенными силами, обреченный дирекцией на жертву последний спектакль взвинтил публику до того, что она превратила его в праздничный для меня бенефис. Не было конца аплодисментам и вызовам», — вспоминал Шаляпин.
Спектакль дорог не только Шаляпину. Известный критик Эдуард Старк спустя 20 лет, в 1915 году, вспоминал: «Здесь подлинная драма, и притом драма русская, здесь сочетание двух гениев, Пушкина и Даргомыжского, здесь образец музыкальной драмы в высоком значении этого слова, и какое полное проникновение в музыку и текст явил в нем Шаляпин! Как он сумел в единый миг раскрыть все чары, таящиеся в этом слиянии слова с музыкой, овладеть всеми тонкостями речитатива, доведенного Даргомыжским в третьем акте до высокой степени совершенства, влить в слова столько жуткого трагизма, сообщить всем жестам такую выразительность, овладеть замыслом настолько, чтобы подчинить себе средства этого внешнего воплощения, все это было непостижимо, казалось почти чудом, да оно и было, несомненно, чудом внезапного пробуждения великого таланта от долгого сна, в который он был погружен. Это была вспышка гения, это было блестящее начало того искусства, которое сделало из Шаляпина кумира толпы».
И все же Шаляпин чувствовал себя в труппе неуютно. Некоторые солисты и чиновники театральной конторы не скрывали высокомерия к «пришельцу», раздражения его «провинциальностью», «неотесанностью». «Жизнь в Питере, — писал Шаляпин в Тифлис своему другу В. Д. Корганову в январе 1896 года, — идет своим чередом, по-столичному: шум, гам, руготня и проч. Поругивают и меня, и здорово поругивают, но я не унываю и летом во что бы то ни стало хочу за границу, в Италию и Францию в особенности…»
Намерение серьезное. 22 апреля Федор получил в Дирекции императорских театров «Свидетельство об отпуске» — необходимый каждому государственному служащему документ для выезда за границу. Но мечта певца не осуществилась: судьба готовила ему другой сюрприз — встречу с московским промышленником и владельцем Московской частной русской оперы Саввой Ивановичем Мамонтовым. Правда, о Мамонтове певец тогда почти ничего не знал — официально труппа носила название «Оперный театр К. С. Винтер».
Можно допустить, что Клавдию Спиридоновну Винтер Федор не раз встречал осенью 1894 года в Панаевском театре: она тогда возглавляла административную часть Оперного товарищества И. А. Труффи. Биограф С. И. Мамонтова Е. Р. Арензон полагает, что Товарищество Труффи существовало на капиталы Мамонтова: в это время Савва Иванович всерьез намеревался возобновить начатую в 1880-х годах деятельность своего театра и уже мысленно его формировал.
О Шаляпине Мамонтову напомнили Иосиф Антонович Труффи и Петр Иванович Мельников, сын известного певца Мариинского театра И. А. Мельникова. Переговоры с Федором вел «панаевец» И. Я. Соколов — он с супругой, певицей К. Ф. Нума-Соколовой, также был приглашен в Частную оперу. Втроем артисты двинулись в Нижний Новгород — там С. И. Мамонтов готовил выступления своего театра.
Часть вторая СТАНОВЛЕНИЕ
Можно по-разному понимать, что такое красота; каждый может иметь на этот счет свое особое мнение. Но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя. Она очевидна и осязаема. Двух правд чувства не бывает. Единственно правильным путем к красоте я поэтому признал для себя правду. Вся суть театра в том, чтобы произвести впечатление правды, реальности, потому что только правда и может нас захватить и заставить так или иначе отозваться сердцем на то, что дается искусством. Искусство для русских художников никогда не было развлечением, оно осмыслялось прежде всего как духовная потребность, как жизненная необходимость и высшее предназначение.
Ф. И. ШаляпинГлава 1 ПРАВДА ЖИЗНИ И ПРАВДА ИСКУССТВА
Летом 1896 года в Нижнем Новгороде открылась Всероссийская промышленно-художественная выставка, приуроченная к традиционной Нижегородской ярмарке. В старинный русский город прибыли купцы, промышленники и финансисты, собрались известные деятели культуры, искусства. Фотографы иллюстрировали, журналисты повествовали о событиях ярмарки читателям не только России, но и Европы. Молодой М. Горький писал для «Нижегородского листка» и «Одесских новостей» обстоятельные отчеты, очерки и статьи: о картинах художественного отдела — им заведовал художник А. Н. Бенуа; об экспозиции экзотического Крайнего Севера, живописно оформленной К. А. Коровиным; о великолепии отдела кустарных промыслов, о симфонических концертах темпераментного дирижера Н. Г. Главача, об опереточных спектаклях труппы М. Л. Малкиэля, о выступлениях хорватских музыкантов и хоровой капеллы Д. А. Агренева-Славянского, о виртуозах-акробатах цирка Никитиных, о ярких лекциях по искусству А. Н. Кремлева, наконец, о кинематографических сеансах, демонстрировавших ленты братьев Люмьер, и др.
Горький радовался спектаклям Малого театра «Гамлет» и «Бешеные деньги», хвалил просветительские устремления труппы: «Ряд художественных образов, созданных Г. Н. Федотовой, М. Н. Ермоловой, А. П. Ленским, А. И. Южиным и др., никогда не умрут в истории культуры».
С тревогой размышлял Горький об уходящей в безвозвратное прошлое народной музыкальной культуре, описывая концерт владимирских рожечников и сказительницы Орины Федосовой, он резко реагировал на все, что, как ему казалось, уводило искусство от острой социальной проблематики в область отвлеченного надуманного экспериментаторства. Горький восхищен полотнами И. Айвазовского, В. Маковского, Н. Касаткина, но в этот перечень попала и «любимица публики» автор примитивных открыток Е. Бем. За «общепонятность» Горький прощал ей умилительную слащавость, дидактическую благонравность, назидательную сентиментальность. Зато он страстно обрушился на картины М. Врубеля — за их «сложность»: «Профан в вопросах искусства, я возражу как один из публики… (Фраза не случайная: природная интуиция, классовое чутье Горькому всегда важнее приобретенной эрудиции. — В. Д.) Задача искусства — облагородить дух человека, скрасить тяжесть бытия, учить вере, надежде, любви. Чтобы достичь этих великих результатов, чтобы служить этим благородным задачам, оно должно быть ясно, просто и поражать ум и сердце. Отвечает ли творчество г. Врубеля этим задачам? Нет!» — категорично утверждает Горький: суждения широкой публики для него выше установок художника.
В эти годы Горький исповедует «передвижнические», «народнические идеи», он горячо отстаивает жесткий рационализм, утилитаризм искусства, восторженно отзывается о прикладных изделиях керамической мастерской С. Мамонтова: «Жизнь тяжела — оно (искусство. — В. Д.) дает возможность отдохнуть от нее, люди грубы — оно облагородит их, они не особенно умны — искусство поможет им развиться. Искусство нужно публике, а не художникам, и нужно давать публике такие картины, которые она понимала бы… Роль искусства — педагогическая, цель его — установить возможно более полную общность ощущений и чувств».
По таким «утилитарно-просветительским» критериям Горький оценил и сенсационное открытие века — кинематограф: «Этому изобретению ввиду его поражающей оригинальности можно безошибочно предречь широкое распространение». Горький-прагматик видит в искусстве универсальный способ познания, компас духовной, нравственной ориентации масс. Художник — это поводырь и наставник, призванный образовывать «массу», он обязан дать ей четкую шкалу ценностных императивов. В ситуации стремительной смены социальных, эстетических, этических ориентиров Горький возлагает на художника ответственную проповедническую, культуртрегерскую миссию.
Театр конца XIX века хочет сохранить себя в своей эстетической самоценности и сохранить свою привлекательность для масс. Гастроли по стране — традиционны и привычны, но эпицентрами художественной жизни, конечно, оставались столицы. В Петербурге — царский двор с многочисленными службами, правительственный аппарат, дворянская аристократия, высшее чиновничество, крупная промышленная и торговая буржуазия. Москва же полна своих амбиций, она удалена от регулярных официозных ритуалов, здесь меньше формальностей, отношения проще, демократичнее. Атмосферу задают меценатствующие богачи — купцы, предприниматели, фабриканты, владельцы торговых домов и фирм — щедрые покровители искусств. В публике широко представлена демократическая интеллигенция — юристы, врачи, журналисты, университетская профессура, гимназические учителя, студенчество, учащаяся молодежь. Отчетливо заметна прослойка разнообразного городского люда: мастеровые, ремесленники, торговцы, разночинцы, пестрый служилый народ. Обстановка в Москве более радушная, теплая, гостеприимная, чем в застегнутом на все пуговицы мундирном Петербурге. Признанная премьерша александринской сцены М. Г. Савина редко выступала в Москве, а великие актрисы Малого театра О. О. Садовская и М. Н. Ермолова не любили выезжать в Петербург: Малый театр был более демократичен, чем приближенный к императорскому дому Александринский. В Москве создавал свои великие пьесы А. Н. Островский, здесь возникла Частная опера С. И. Мамонтова; правда, основу репертуара в ней составили петербуржцы — Даргомыжский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков. В Москве родились Третьяковская галерея, Художественно-общедоступный театр Станиславского и Немировича-Данченко. После концерта певицы М. А. Олениной-д’Альгейм критик Ю. Д. Энгель писал в январе 1902 года в газете «Русские ведомости»: «Московская публика несколько отличается — на наш взгляд — от петербургской. Смелее и меньше считаясь с шаблонами, берет она хорошее везде, где его находит и чувствует. Оттого-то она наперекор Петербургу сумела оценить г. Шаляпина, оттого предпочла Бауэра Розенталю (пианисты. — В. Д.), оттого так восхищается г-жой Олениной-д’Альгейм».
Действительно, реформаторское начало в искусстве на рубеже веков зарождалось в Москве и затем проникало в Петербург, давая поддержку росткам художественных направлений. Столичный высокомерный консерватизм испытал и Шаляпин в пору службы в Мариинском театре, и Горький в первый приезд в Петербург в 1898 году.
Вхождение в повседневный быт массовой культуры видоизменило место и роль театра, потребовало от его деятелей четко определить свое место в структуре развлечений, в иерархии всего совокупного развивающегося культурного процесса. Резко повысился спрос нового городского населения на иллюстрированные издания, календари, письменники, «городской роман», на лубочную литературу, на разного рода ярмарочные зрелища, балаганные представления, народные празднества и развлечения, организуемые сетью благотворительных организаций, обществами «народной трезвости», «народных развлечений», «народными домами», «народными библиотеками», «университетами», «чайными» и пр. «В жизнь входят, благодаря все сильнее и сильнее развивающейся культуре, целые толпы людей, раньше игравших пассивную роль, — с тревогой писал в 1902 году драматург, актер, руководитель Малого театра А. Сумбатов-Южин. — Искусству первому пришлось столкнуться с этим новым „нашествием гуннов“ и придется сыграть в нем свою обычную и важную роль. Эта буря застала нас неготовыми».
Неизбежность грядущих перемен тревожила не только князя А. И. Сумбатова-Южина, но и хорошо знающего «настроения простолюдина» Максима Горького. Горячий сторонник «полезного искусства», Горький тем не менее относится «к массам» весьма противоречиво, подчас — брезгливо. В 1896 году в «Самарской газете» Горький публикует очерковую зарисовку «Первый дебют». Молодая актриса подавлена устрашающим ликом толпы, «громадного стоглавого животного»: «И нет для человека рабства тяжелей и мучительней, чем служение толпе. Она капля за каплей сосет его соки, холодно наблюдая, как он утрачивает свежесть таланта и силу своего сердца, — она все это поглощает, все поглощает, и — где оно? Она много пожрала, много пожирает, еще больше пожрет и все живет, как раньше, — черствая, грубая, воспламеняющаяся на момент и тотчас же угасающая, живет холодная, серая и скучная, сильная, но бездушная, громадная, но умственно низкая…»
Какой же хотел видеть публику Горький? В ком искал единомышленника? В сентябре 1904 года он писал С. Елеонскому: «…самый внимательный и строгий читатель наших дней — это грамотный рабочий, грамотный мужик-демократ. Этот читатель ищет в книге прежде всего ответов на свои социальные и моральные недоумения, его основное стремление — к свободе, в самом широком смысле этого слова…»
Идея «популяризации» и «общедоступности» искусства, науки, культуры уходила своими корнями в революционно-демократическое, в народническое движение, в формирующуюся идеологию разночинной интеллигенции 1890-х годов. В значительной своей части интеллигенция разделяла либерально-народнические взгляды, поддерживала инакомыслие, оппозицию правительственному идеологическому официозу.
18 апреля 1898 года в Колонном зале московского театра «Эрмитаж» состоялось учредительное собрание Литературно-художественного кружка. В его руководящие органы были избраны актер и режиссер Малого театра князь А. И. Сумбатов-Южин, основатели Московского художественно-общедоступного театра (МХТ) актер и режиссер К. С. Станиславский, драматург и театральный педагог Вл. И. Немирович-Данченко, известные в столицах и в провинции актеры К. Н. Рыбаков, Г. Н. Федотова, многие другие знаменитые и не слишком известные театральные деятели. А через полгода, 14 октября, спектаклем по пьесе А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» состоялось торжественное открытие Московского художественно-общедоступного театра. Известный критик и театровед И. Н. Игнатов писал: «Первый спектакль, так же как и намеченный репертуар, заставляет предполагать в организаторах новой сцены серьезные намерения, которым нельзя не сочувствовать. До сих пор на так называемых „образцовых сценах“ мы иногда видели действительно образцовое исполнение отдельных ролей, но никогда не видели образцового репертуара».
На открытие театра сразу откликнулся А. П. Чехов. «Этот Ваш успех еще раз лишнее доказательство, что и публике, и актерам нужен интеллигентный театр. Художественный театр — это лучшие страницы той книги, какая будет написана когда-либо о современном русском театре», — писал он Вл. И. Немировичу-Данченко.
В широком общественном мнении новый театр стал восприниматься как символ интеллигентности, носитель ее картины мира с присущим ей благородством возвышенных устремлений, духовным подвижничеством, богатством внутренней жизни, высоким чувством этики.
И в самом деле: на фоне филигранной психологической разработки характеров, сценического ансамбля, декорационного и музыкального оформления спектаклей МХТ открытость страстей актеров Малого театра, тяготение к традиционным амплуа, к сочным бытовым краскам, романтическая приподнятость стали казаться старомодными, консервативными, уводящими от реально существующих жизненных проблем и противоречий. Увидев в 1896 году спектакли Малого театра на Нижегородской промышленной выставке, Горький, как уже говорилось, был покорен его актерами. Но как стремительно меняются его эстетические критерии и культурные установки! Спустя всего три года в письме А. П. Чехову он с восторгом пишет о Художественном театре: «Не любить его — невозможно, не работать для него — преступление — ей-богу… Малый театр поразительно груб по сравнению с этой труппой». Конечно, это сильное полемическое преувеличение, но безусловно то, что Художественный театр подвел искусство к освоению нового этапа сценического реализма, отвергавшего премьерство, утверждавшего высокую правду жизненной достоверности и философского обобщения, помог увидеть современного человека в его многообразных связях с обществом.
Название театра вобрало в себя три ключевых смыслообразующих признака — территориально-исторический («московский»), эстетический («художественный»), социальный («общедоступный»). К. С. Станиславский, по сути дела, дистанцировался от существующих театров всех категорий, начиная от императорских и кончая «народными». «Не забывайте, — обращался он к труппе в день основания театра, — что мы стремимся осветить темную жизнь бедного класса, дать им счастливые эстетические минуты среди той тьмы, которая окутала их. Мы стремимся создать первый, разумный, нравственный, общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь».
Такое понимание театра оказалось понятным и близким Федору Шаляпину. Исполнительское мастерство, способность постижения «человеческого духа» во всей его глубине, сложности, противоречивости, богатстве психологических красок увлекали Шаляпина и эмоционально, как зрителя, и профессионально, как артиста. Молодой певец восхищался талантом и тонкостью высокого мастерства и сам на спектаклях «художественников» обогащался впечатлениями и опытом.
Глава 2 СЮРПРИЗЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ
«Необыкновенное количество мачт, пароходов, барж загрудило подступы к городу, а ярмарка гудела всевозможными звуками, какие только мог представить себе человек до изобретения радио, — вспоминал Шаляпин. — На ярмарке краски России смешались с пестрыми красками мусульманского востока. Просторно, весело, разгульно текла жизнь великого торжища. Мне все это сильно понравилось».
На Всероссийской промышленно-художественной выставке представлены последние достижения отечественной промышленности, изобразительного искусства, кустарных ремесел. Двадцать нарядных павильонов строились масштабно, с размахом. Резной ропетовский [2] павильон сельского хозяйства соседствовал с белым особняком Художественного отдела в стиле ренессанс, рядом высился сказочный терем Царского павильона.
Особое любопытство вызывал похожий на древнюю церковь павильон Крайнего Севера. Он создавался по инициативе С. И. Мамонтова художником К. А. Коровиным: оба недавно вернулись из экспедиции по северным окраинам России. У просторной балюстрады выстроен грот, по внешнему виду напоминавший пещеру из ледяных глыб. На ее вершине стоял огромный, в натуральную величину, выполненный из алебастра белый медведь. Рядом — фонтан и бассейн, где плавали живые чайки, альбатросы, плескался тюлень. По приказу ненца тюлень перевертывался на спину, шевелил ластами и не очень членораздельно произносил слова: «мама», «благодарю» и «ура».
Живописное панно Константина Коровина на северные темы соседствовало со шкурами белых медведей и тюленей, с охотничьими костюмами аборигенов и снастями поморов-рыбаков. Здесь же размещались бочки с рыбой, канаты, весла, огромные челюсти кита.
В павильон вошел Шаляпин:
— Что же это у вас тут делается? А? Едят живую рыбу! Здравствуйте, где это я вас видел? У Лейнера, в Петербурге, или где? — И, не дождавшись ответа, обернулся к тюленю: — Что это такое у вас? Какая замечательная зверюга! Ты же замечательный человек! Глаза какие! Можно его погладить?
— Можно, — ответил Коровин.
Федор протянул было руку, но тюлень Васька сильно ударил ластами и окатил его водой с ног до головы.
…В ресторане Шаляпин восхищенно повторял:
— Ваш павильон — волшебный! Я первый раз в жизни вижу такое!
В преддверии торжественной церемонии открытия Всероссийской промышленно-художественной выставки жизнь в Нижнем Новгороде кипела! По улицам тянули провода электрического освещения, прокладывали трамвай — последнее чудо европейской цивилизации уходящего века, устанавливали рекламные щиты. Спешно достраивались несколько общественных зданий, концертный зал и театр.
Председатель Нижегородского выставочного комитета — владелец ткацких мануфактур Савва Тимофеевич Морозов. Энергичный молодой промышленник поистине вездесущ: его видят в художественных павильонах, на пристанях, в торговых рядах, на бурных заседаниях купеческого собрания, на концертах, в театрах, на спектаклях оперной труппы Саввы Ивановича Мамонтова.
Русская частная опера — весьма многочисленный на выставке художественный коллектив. Мамонтов полон творческих и организационных забот, но самым большим его увлечением в эти дни стал Федор Шаляпин.
Художественный отдел Нижегородской выставки показывал более девятисот экспонатов! Были представлены портреты философа Вл. С. Соловьева, литературного критика и публициста Н. К. Михайловского работы художника Н. А. Ярошенко, пейзажи И. К. Айвазовского, И. И. Левитана, картина М. В. Нестерова «Под благовест». Савва Мамонтов привез на выставку два панно Врубеля: «Принцесса Греза» была навеяна художнику популярной тогда на российской сцене романтической пьесой французского драматурга Э. Ростана на сюжет средневековой легенды; другое панно написано по мотивам русской былины «О Вольге и Микуле». Эскизы художник делал в Москве, в Нижнем Новгороде К. А. Коровин и Т. И. Сафонов перенесли их на холст.
Выставочный комитет, состоявший в основном из приверженцев академической традиционной живописи, отверг полотна Врубеля. Тогда Савва Иванович выстроил для них специальный павильон.
Мамонтову интересно было осматривать выставку вместе с Шаляпиным. Федора привлекали достоверно — «как в жизни» — выписанные портреты, ландшафты, пейзажи… Мамонтов торопил:
— Не останавливайтесь, Феденька, у этих картин, это все плохие.
— Как же плохие, Савва Иванович? Такой ведь пейзаж, что и на фотографии не выйдет, — недоумевал Шаляпин.
— Вот это и плохо, Феденька, — улыбаясь, отвечал Мамонтов. — Фотографий не надо. Скучная машинка.
Он повел артиста в деревянный павильон. Врубелевские творения показались Федору странными: преобладали какие-то непривычные цветовые сочетания, хаотично разбросанные пятна и кубики. Мамонтов же смотрел на картину с нескрываемым восхищением и повторял:
— Хорошо! А, черт возьми…
Подошли к «Принцессе Грезе».
— Вот, Феденька, это — вещь замечательная. Это искусство хорошего порядка.
Чудак наш меценат, думал Шаляпин, чего тут хорошего? Наляпано, намазано, неприятно смотреть. То ли дело пейзажик в главном зале выставки. Яблоки как живые — укусить хочется; яблоня такая красивая — вся в цвету. На скамейке барышня сидит с кавалером, и кавалер так чудесно одет — какие брюки! Непременно куплю себе такие.
— Как же это так, Савва Иванович? Почему вы говорите, что «Принцесса Греза» Врубеля хорошая картина, а пейзаж — плохая?
— Вы еще молоды, Феденька, — ответил Мамонтов. — Мало вы видели.
И с расстановкой добавил:
— Чувство в картине Врубеля большое.
Нижегородское лето поколебало прежние представления Шаляпина об искусстве, изменило и творческую, и личную его судьбу. В Мариинском театре ему, как и другим артистам, чиновники постоянно напоминали: он — служащий, пусть и императорского театра. В Частной опере в нем видели Художника.
Мамонтов — единоличный хозяин театра, неистощимый источник идей и душа всего дела. Им заведено правило обстоятельно обсуждать выбранные для постановки оперы. Высказываться могли все: и солисты, и оркестранты, и художники, и хористы, и дирижеры, и рабочие цехов. Ничего подобного в других театрах, и уж во всяком случае в Мариинском, Федор не встречал. Мамонтов создавал среду, открывал духовное пространство, в котором творческому человеку, независимо от его профессии и положения в труппе, дышалось легко и свободно. Совместный труд становился радостью, будил вдохновение, рождал оригинальные мысли, образы, идеи.
Театру Мамонтова легко было затеряться в пестром потоке зрелищ, среди серьезных конкурентов: с оперным репертуаром приехала из Петербурга знаменитая чета Фигнер — Медея и Николай, артисты Мариинского театра. Но Мамонтов готов к соперничеству: в составе его труппы — хор, оркестр, опытные артисты, специально выписанная из Италии балетная труппа. В числе солистов — известный баритон И. В. Тартаков, молодой, красивый, подающий большие надежды тенор А. В. Секар-Рожанский, певица Т. С. Любатович, обладательница мягкого меццо-сопрано.
Первое выступление Федора в Нижнем Новгороде состоялось в «Жизни за царя». Ранее петь эту партию целиком ему не приходилось. На репетиции Мамонтов бросил из зала реплику:
— А ведь Сусанин-то не из бояр!
Смысл этой фразы Федор поймет позднее…
Дебют прошел удачно. После арии Сусанина «Чуют правду» артиста многократно вызывают, требуют «бисов». Газета «Волгарь» пишет о Шаляпине сочувственно, однако высказывает и серьезные критические замечания: «Из исполнителей мы отметим г. Шаляпина, обширный по диапазону бас которого звучит хорошо, хотя недостаточно сильно в драматических местах… Может быть, это объясняется акустической стороной нового театра и нежеланием артиста форсировать звук… Играет артист недурно, хотя хотелось бы поменьше величавости и напыщенности». А ведь это и имел в виду Савва Иванович!
Отметил спектакль и Горький в «Одесских новостях»: «Опера эта не маклацкая и поставлена замечательно художественно, голосов выдающихся нет, но ансамбль замечательно ровен, оркестр прекрасный, декорации и бутафории намного выше Ярмарочного театра». Автор обзора точно почувствовал разницу в отношении к делу знаменитостей, смотревших на выступления на ярмарке лишь как на выгодные гастроли, и мамонтовской труппы, где исполнительский ансамбль и декорационное оформление играли исключительно важную роль и во многом определяли культуру спектаклей. Особенность эту почувствовал еще в большей мере и Федор Шаляпин.
Творческий энтузиазм артиста, жажда новых впечатлений, профессиональных навыков привлекли к нему внимание партнеров и самого Мамонтова, деятельно включившегося в работу с молодым певцом. И вот уже эти совместные усилия замечены прессой. Очевидно, что вдумчивая репетиционная работа над Сусаниным приносит ощутимые результаты. «Г-н Шаляпин — молодой артист, только начавший свою карьеру, но уже достаточно заявивший себя не только как хороший певец, но и как артист с большим талантом», — писала газета «Волгарь».
Через четыре дня Федор вышел на сцену в роли Мефистофеля, но не встретил одобрения. Публика и рецензенты разочарованы: арии пропеты бесстрастно, Мефистофель суетлив, похож на провинциального злодея. «Куда девалась прекрасная обдуманная фразировка, уменье показать голос, блеснуть его лучшими сторонами? — недоумевал рецензент. — Ничего этого не было, и по сцене ходил по временам развязный молодой человек, певший что-то про себя».
Федор — в трауре, новые друзья полны сочувствия. Менее всего огорчался, как ни странно, Мамонтов; лукаво улыбаясь, он говорил: «Подождите, увидите еще Федора» — и на следующий же день начал с артистом серьезно работать.
Шаляпин сразу и безоговорочно поверил в художественный авторитет Мамонтова, его образованность и вкус. После репетиций с Мамонтовым в следующем спектакле Федор спел и сыграл своего Мефистофеля совершенно по-новому: это сразу же отметили публика и критика. К артисту пришел устойчивый успех.
…Но жизнь Федора не исчерпывалась спектаклями и репетициями. В Нижнем Новгороде произошло еще одно чрезвычайно важное событие — он страстно увлекся молодой балериной, итальянкой Иолой Торнаги…
Рано начав танцевать, Иола Ло-Прести (1873–1965) к своим двадцати годам стала известна в итальянских труппах — в афишах она значилась как Иола Торнаги. Под этим именем запомнил ее и Мамонтов, когда путешествовал по Италии.
Судьба Иолы складывалась удачно. Зимой 1895/96 года она имела успех в Милане, а на ближайший сезон подписала контракт во Францию, в Лион. Но в театральном агентстве Карацци сообщили: ее ждут в России, владелец Частной оперы Мамонтов ангажировал балетную труппу во главе с Торнаги для выступлений в Нижнем Новгороде. «Для нас, итальянцев, это было событием. Россия казалась нам далекой и загадочной страной», — рассказывала много лет спустя Иола Игнатьевна (так ее называли на русский лад).
Труппа ехала ненадолго — максимум на сезон. Однако судьба распорядилась по-своему — в России Иоле суждено прожить почти 70 лет…
Волга поразила Иолу бескрайними просторами. Переправились на пароме вместе с шумной толпой крестьян, грузчиков, торговцев, возниц с запряженными в ломовые телеги и экипажи лошадьми, с коровами и козами. Пошли искать театр. На площади очаровательных итальянок встретил высокий молодой блондин. Он шел, размахивая шляпой и широко улыбаясь.
— Федор Шаляпин, — представился он приятным грудным голосом.
Итальянкам было трудно запомнить непривычную фамилию, и они стали называть его «иль-бассо» (бас).
Федор сразу выделил среди итальянских артисток Иолу, танцевала она изумительно, лучше всех виденных им балерин императорских театров, но была грустной, печальной. Видимо, ей было одиноко в России. «Она рассказывала мне о своей прекрасной родине, о цветах. Конечно, я скорее чувствовал смысл ее речей, не понимая языка».
Для печали у Иолы были основания. Репетиции в театре Мамонтова не заладились. В «Жизни за царя» танцовщицы разошлись с оркестром, смешались. Виноват был балетмейстер, но всё свалили на артисток, балеринам без обиняков посоветовали вернуться туда, откуда приехали. Иола оскорбилась — под сомнение поставлена ее репутация! Она потребовала объяснений, в результате чего пригласили нового балетмейстера… На спектакле профессиональный престиж был восстановлен — краковяк и мазурка в «Жизни за царя» исполнены с блеском!
…На одной из репетиций Федор заметил: Иолы нет.
— В чем дело? — спросил он ее подругу.
Та знаками объяснила: Иола больна.
— Доктора! — закричал Федор. — Немедленно доктора!
Врача нашли здесь же, среди артистов, он тут же отправился с визитом к Иоле, а следом явился и Федор: в салфетке, завязанной узелком, он принес лекарство — кастрюлю с куриным бульоном.
После болезни Иолы Федор взял на себя заботу и о ее подруге, перевез обеих в дом, где сам снимал комнату, как мог, развлекал их, рассказывал истории из своей кочевой жизни и даже научил криками подзывать извозчика.
Савва Иванович пригласил Иолу на генеральный прогон «Евгения Онегина». Сюжет представления девушке не был известен, и Мамонтов по ходу действия пояснял ей суть событий. Когда на сцену вышел Федор в генеральском мундире Гремина, Савва Иванович восхищенно сказал:
— Посмотрите на этого мальчика — он сам не знает, кто он!
Тем временем Шаляпин — Гремин взял под руку Онегина и, неторопливо беседуя с ним, прохаживался по сцене. В какой-то момент Иоле почудилось, что со сцены прозвучала ее фамилия! Вокруг засмеялись — в знаменитой арии «Любви все возрасты покорны» «старый генерал» допустил «отсебятину»:
Онегин, я клянусь на шпаге, Безумно я люблю Торнаги. Тоскливо жизнь моя текла, Она явилась и зажгла…Мамонтов нагнулся к Иоле и прошептал по-итальянски:
— Ну, поздравляю вас, Иолочка! Ведь Феденька объяснился вам в любви!
А вскоре Федор подарил балерине маленький альбом в тисненом кожаном переплете и на одной из страничек написал:
Дитя, в объятиях твоих Воскресну к новой жизни я!!. Да, Иоле, я люблю тебя! И ты моя, всю жизнь моя. Пусть Бог с лазурного чертога Придет с тобой нас разлучить, Восстану я и против Бога, Чтобы тебя не уступить. И что мне Бог? Его не знаю — В тебе святое для меня. Тебя одну я обожаю Во всем пространстве бытия. Нижний Новгород. 10 июня 1896 года. И приписка по-итальянски: «Дорогой моей Иоле Торнаги на память от Теодоро».Стихи, конечно, наивные, подражательные, но что за беда! Ведь писал их не поэт, а влюбленный! Молоденькая итальянка плохо понимала по-русски, она не могла оценить художественные достоинства лирического объяснения, но в искренности и вдохновенности порыва не усомнилась.
Гастроли подходили к концу. Федор чувствовал себя триумфатором! Даже в коротком летнем сезоне в Нижнем Новгороде со всей очевидностью был заметен его творческий рост. Он спел Мельника в «Русалке», Гудала в «Демоне», партию Старого еврея в «Самсоне и Далиле», Гремина в «Евгении Онегине». Критика увидела в Шаляпине талантливого и перспективного артиста.
…Как-то, прогуливаясь с Федором, Савва Иванович предложил ему перейти в Частную оперу. Однако уход из Мариинского театра грозил большой неустойкой. К тому же в новом сезоне Шаляпину обещали новые партии: Э. Ф. Направник обсуждал с ним возможность постановки «Мефистофеля» А. Бойто, говорили и об Олоферне в «Юдифи» А. Серова. Медленно, но все же необратимо Шаляпин завоевывал положение на императорской сцене. Это трезвое соображение мешало ему сразу принять лестное предложение Мамонтова…
Частная опера вернулась в Москву, Шаляпин — в Петербург. Но теперь Москва неудержимо влечет его. А тут еще высокомерный поучающий выпад в газете «Новое время»: «Шаляпин не овладел ролью князя (артист пел Владимира Красное Солнышко в „Рогнеде“ А. Серова. — В. Д.), он не дает ей рельефа, у него даже жесты не отвечают, как должно, сцене и нередко прямо противоречат ее требованиям, то опаздывая, то уходя вперед».
Перед самым открытием сезона, августовским днем, на углу Невского и Садовой встретились две извозчичьи пролетки. Седоки обрадовались встрече: они не виделись с весны.
— Знаешь, я думаю уйти с императорской сцены! — крикнул Шаляпин Юрьеву, воспользовавшись короткой остановкой, и в ответ на предостережение друга добавил: — Конечно, вопрос нелегкий… много есть обстоятельств. Загляни сегодня вечером ко мне, поговорим!
Друзья увиделись, Юрьев выслушал рассказ о нижегородских гастролях и понял: Шаляпин прав, лучших условий для творчества, чем у Мамонтова, ему не найти.
— Помимо всего, я там, у Мамонтова, влюбился в балерину, — признался Федор. — Понимаешь? В итальянку… Такую рыжую… Ну, посуди: она там будет, у Мамонтова, а я здесь!.. А?
На такой довод возразить было нечего…
В Москве тоже готовились к открытию сезона. Итальянских танцовщиц Мамонтов вернул в Милан — всех, кроме одной, Торнаги. С объятиями и слезами рассталась Иола с подругами. Но поддаваться тоске недосуг: Мамонтов занимает Иолу в каждом спектакле и, кроме того, наделив «чрезвычайными» полномочиями, отправляет в Петербург.
— Вы одна можете привезти нам Шаляпина, — напутствовал Мамонтов балерину, репетируя с ней перед отъездом на вокзал необходимые русские фразы.
Петербург встретил Иолу серым туманным утром. Извозчик подвез ее к мрачному дому 107 на набережной Екатерининского канала. Молодая итальянка вошла в полутемный двор, по черному ходу поднялась на третий этаж, постучала в массивную дверь. Открыла кухарка.
— Федор Иванович почивают, — объявила она, затем, оставив Иолу на кухне, пошла будить квартиранта.
Наконец вышел заспанный Федор и изумился появлению очаровательной гостьи. Немедленно ответить на приглашение Мамонтова? Бросить императорскую сцену, Петербург, друзей — Дальского, Юрьева, Андреева…
— А вы, Иолочка, уезжаете?
— Нет, я остаюсь на зимний сезон.
Федор не скрыл своей радости, обещал приехать — посмотреть спектакли. На том и расстались, но совсем ненадолго. Поразмышляв два дня, Шаляпин сильно затосковал и — оказался в Москве. А последний день в Мариинском театре запечатлен в стихотворном экспромте артиста:
Прощай, уборная моя, Прощай, тебя покину я. Пройдут года, все будет так: Софа все та же, те же рожки, Те ж режиссеры чудаки. Все та же зависть, сплетни, ложь И скудоумие все то ж. Певцов бездарных дикий вой И заслуженных старцев строй. Портной Андрюшка, страж Семен И тенора иных племен; Оркестр блестящий, стройный хор, Для роль не знающих — суфлер, Чиновников мундиров ряд И грязных лестниц дым и смрад — Все это покидаю я. Прощай, уборная моя…Письмо Шаляпина Иоле Торнаги. 1896 г.
Глава 3 СНОВА МОСКВА
В Москве рубежа столетий ломался привычный, веками сложившийся уклад. Старое причудливо переплеталось с новым. Днем толпы людей, как многие годы, стекались к Охотному ряду и Кузнецкому Мосту — здесь шла торговля всем, что можно было купить или продать. Броские витрины богатых лавок привлекали солидную публику; бойкие разносчики, торговцы с лотков сами спешили за покупателями, на разные голоса расхваливая товар, извозчики зычными голосами требовали уступить дорогу, тут же околоточный тянул за шиворот мелкого карманника.
В длинных рядах с деревянными прилавками, выстроившимися перед домами, прямо с возов и саней, из бочек и корзин шла торговля разной продуктовой снедью, мануфактурой, обувью, ношеной одеждой, сновали лоточники-папиросники, торговцы пирожками, квасом, мочеными яблоками. Соседство с помпезной гостиницей «Националь» и строгим фасадом Благородного собрания не мешало кипучей жизни Обжорного или Лоскутного ряда. Приказчики зазывали прохожих в лавки первых этажей: тут торговали мясом, рыбой, разной выпечкой. На вторых этажах закусывали и отдыхали: здесь размешались трактиры, рестораны, пивные, чайные. Из подворотен слышались взбадривающие крики: «Давай! Давай!» и злобное птичье клокотанье: во дворах охотнорядских домов азартные любители петушиных сражений вели крупную игру — делались ставки, зрители возгласами горячили друг друга.
А от Воскресенских ворот открывался путь с Красной площади на Тверскую улицу, прохожих окружали «облакаты» — мелкие стряпчие, готовые ходатайствовать у мирового по разным жалобам, составлять прошения и письма. «Облакаты» вооружены чернильницей, набором перьев, бумаги и картонной или фанерной подкладкой, которую в походных условиях использовали вместо конторки.
По Тверской улице вверх движутся двухэтажные конки: на крутых участках двум лошадям не под силу тащить экипаж, и тогда на подмогу припрягается пара, а то и две пары коняг, и вот шестерка с подхлестыванием и понуканием движется в гору к Страстному бульвару; экипаж преодолевает наконец тяжелый подъем, и у Филипповской булочной помощницы-лошади налегке отправляются обратно к Воскресенским воротам.
К вечеру торговая разноголосица на улицах и площадях понемногу затихает, потоки пестро и празднично одетой «отдыхающей» публики устремляются на Большую Дмитровку, к Солодовниковскому театру, арендуемому Русской частной оперой, к Театральной площади — к Большому театру, справа от него приземистый Малый, а театр слева так и называется — Новый.
«Когда меня представили Мамонтову, сказав, что это известный меценат, я не сразу понял, что это такое — меценат, — вспоминал о знакомстве с Саввой Ивановичем Федор Шаляпин. — Мне объяснили: этот миллионер сильно любит искусство, музыку и живопись… Сам в свободное время сочиняет все что угодно и тратит большие деньги на поощрение искусства… Я еще не подозревал в ту минуту, какую великую роль сыграет в моей жизни этот замечательный человек».
Впрочем, и сам Мамонтов признавался в собственной «необычности» в письме К. С. Станиславскому: «Мы с тобой в глазах большинства людей нашего круга какие-то чудаки, даже, может быть, поврежденные люди. Но в этом повреждении нашем есть то святое, благородное и чистое, что спасает общество от оскотения, призывает его к идеалу. Искусство во все века имеет неотразимое влияние на человека, а в наше время, как я думаю, в силу шаткости других областей человеческого духа, оно заблестит еще ярче. Кто знает, может быть, театру суждено заменить проповедь?»
Столичный музыкальный театр хранил в себе все признаки театра придворного, в котором судьба сценического искусства почти целиком зависела от вкусов и пристрастий императора и его окружения. Александр III был весьма равнодушен к русской музыке, он отдавал предпочтение западной опере. Тогдашний директор императорских театров И. А. Всеволожский не уставал повторять музыкантам, артистам и композиторам: «Мы должны прежде всего угодить царской фамилии, затем вкусу публики и только в третью очередь художественным требованиям искусства». В репертуаре преобладали иностранные оперы, а сочинения отечественных авторов ставились небрежно и нередко сходили с афиш сразу после премьеры.
Усилия отдельных, даже очень талантливых певцов и артистов не всегда могли противостоять дремучей рутине. Среди самих певцов существовало твердое убеждение, что создание сценического образа вовсе не входит в задачу солиста. «Стану я в опере дурака ломать, когда надо петь», — высокомерно отвечал известный певец на упреки в невнимании к драматической игре, и такое заявление не казалось странным.
Впервые в истории русского музыкального театра создать художественно-сценический ансамбль попытался Савва Иванович Мамонтов. Он не чурался западного репертуара, но своей главной задачей считал пропаганду русской оперы. «Ей я отдаю все мои мечты, мои восторги», — признавался он в одном из писем.
…И вот в любимом москвичами Тестовском ресторане Федор Шаляпин обсуждает с Саввой Ивановичем условия перехода в Частную оперу. Мамонтов покроет неустойку — 3600 рублей и обещает неплохое годовое жалованье — 7200 рублей.
В ту пору Шаляпин не придавал большого значения материальным благам. Иола еще в Нижнем Новгороде точным женским взглядом оценила «гардероб» Федора: в небольшой корзине хранились пара белья, выходные светлые брюки и бутылочного цвета сюртук. Для торжественных случаев предназначались гофрированная сорочка и манжеты а-ля Евгений Онегин. С собой Федор возил и самовар, выигранный за 20 копеек в лотерею, чем он очень гордился. Молодой певец был полон решимости создать свой репертуар и надеялся на помощь и понимание Саввы Ивановича, друзей-художников, ждал он любви и поддержки и от Иолы.
Уже 21 сентября 1896 года газета «Новости сезона» сообщала: «Артист Императорской оперы в Петербурге г. Шаляпин вступил в состав труппы Солодовниковского театра» (театр назван по помещению, которое арендовала Частная опера Мамонтова. — В. Д.). Спустя неделю «Петербургская газета» запоздало недоумевала: «В театральных кружках много говорят об оставлении казенной сцены молодым артистом г. Шаляпиным… Г. Шаляпину предстояла хорошая дорога в нашей казенной опере, артисту предназначались такие партии, как Олоферн, Мефистофель (в опере А. Бойто) и т. д., посылка весной за границу и пр.». Но — поздно: к этому времени Шаляпин уже дважды выступил на сцене Мамонтовской оперы: 22 сентября он пел Ивана Сусанина, 27-го — Мефистофеля в «Фаусте» и, как отметила газета «Русское слово», «обнаружил недюжинный сценический талант».
Как сильно отличается сентябрьская Москва 1896 года от Москвы майской 1894 года! Как она теперь приветлива и гостеприимна! С какой искренней радостью, хлебосольством встречают молодого певца новые друзья, с которыми он и расстался-то всего месяц назад!
Но и Шаляпин нынче не робкий провинциал — приехал солист столичного императорского театра, зарекомендовавший себя выступлениями на Всероссийской выставке. В Москве — друзья, единомышленники, коллеги, любимая женщина.
В первый же вечер Федор идет в Частную оперу. Дают «Фауста». Шаляпин наблюдает за Мефистофелем и не без тайного удовольствия замечает скованность и неуклюжесть исполнителя — ясно, что эта партия будет предназначаться ему.
22 сентября 1896 года певец дебютирует в «Жизни за царя». Он учел замечания Мамонтова, волнуется — как примет его московская публика? Критика отреагировала немедленно. «Это — молодой, но очень талантливый артист и певец, обладающий прекрасными голосовыми средствами и умелой фразировкой. На долю г. Шаляпина выпал огромный успех», — констатировали «Новости дня». Более пространно описывало спектакль «Русское слово»: «Артист не показал нам голоса особенной силы; даже скажу больше: голос Шаляпина показался мне слабым по силе. Но зато перед нами был незаурядный сценический тип Сусанина. Артист внес много своеобразного и в вокальное, и в сценическое исполнение своей роли».
Молва о новом певце Частной оперы быстро распространялась среди любителей музыки, и когда спустя три дня Шаляпин снова пел Сусанина, зал театра был полон. Мамонтов торжествовал!
В Частной опере Шаляпин выступал поначалу в партиях знакомых — Сусанина, Мефистофеля, Мельника, но исполнял их иначе. «Как будто оковы спали с души моей», — признавался певец. Да и весь театр с приходом Шаляпина вступает в пору своего расцвета и оказывает очевидное влияние на состояние отечественного оперного искусства, да и не только оперного.
Мефистофеля Федор разучил еще с Усатовым, исполнил впервые в Тифлисе. Тогда его хвалили, но теперь он совсем иначе оценивал свои первые сценические опыты. Еще в Петербурге его Мефистофель возмущал Дальского своей неуклюжестью, наивным провинциальным шиком.
— Мефистофель — тартар, гроза, ненависть, дерзновенная стихия! Явись на сцену, закрой всего себя плащом, согнись дугой, убери голову в плечи и мрачно объяви о себе: «Я здесь». Потом энергичным жестом руки сорви с себя плащ, вскинь голову вверх и встань гордо во весь рост. Тогда все поймут, кого и что ты хочешь изобразить, — убеждал он Шаляпина.
Теперь Федор и сам это чувствовал и сказал Мамонтову:
— Мой Мефистофель сегодня не удовлетворяет меня. Я вижу его иначе, в другом костюме, в другом гриме, вне сложившихся на сцене традиций…
— Ради бога! — воскликнул Мамонтов. — Что именно вы хотите сделать?
Вместе с Мамонтовым Федор идет на Кузнецкий Мост, в магазин Аванцо, смотреть альбомы и старинные гравюры. В иллюстрациях немецкого художника Вильгельма Каульбаха к «Фаусту» Гёте Шаляпин увидел возможность обновления музыкальной и пластической драматургии роли Мефистофеля. В работу включается Поленов — по его эскизам выполнен новый сценический костюм. «Явившись на сцену, я как бы нашел другого себя, свободного в движениях, чувствующего свою силу и красоту… Играл я и сам радовался, чувствуя, как у меня все выходит естественно и свободно».
…На сцене возник могучий блондин, в облике его ощущалась зловещая инфернальность: Шаляпин играл Мефистофеля не Гуно, а Гёте, как тогда же заметила Т. Л. Щепкина-Куперник. Гибкой пластикой, резким и точным жестом, выразительной интонацией, полной смысловых оттенков, рисовал артист обобщенный символ потусторонней силы зла…
Публике Частной оперы запомнились выступления Шаляпина в «Фаусте» вместе с французским певцом Жюлем Девойодом, исполнявшим партию Валентина. Девойод начинал свою карьеру в драме и привнес в музыкальный театр высокий актерский профессионализм. Партнерство с ним увлекало Шаляпина, их выходы в «Фаусте» становились состязанием мастеров, соперничеством принципиально различных исполнительских манер, традиций, стилей — французской школы открытого романтического пафоса, эффектной позы, жеста и русской проникновенной сценической игры, почерпнутой Шаляпиным у великих мастеров отечественной драмы. Девойод любил броскую аффектацию, демонстрировал виртуозную технику, силу темперамента. Шаляпин шел от глубинного содержания роли, от психологических мотивировок характера и выражал их в динамичной пластике, в мизансцене, в интонации.
Французская игра, говорил Мамонтов, хороша до тех пор, пока не пришел и не стал рядом талант «милостью Божьей». «Шаляпин ничего не делает на сцене, стоит спокойно, но посмотрите на его лицо, на его скупые движения: сколько в них выразительности, правды, а француз всю роль проплясал на ходулях, на шарнирах, старается, а не трогает, не волнует, не убеждает…»
Выступления с разными партнерами, в том числе и с теми, кто был воспитан в иных художественных традициях, обогащали Шаляпина. Жюль Девойод, например, давал ему уроки вокальной техники. С благодарностью вспоминал Федор итальянского тенора Анжело Мазини, которого услышал в опере Г. Доницетти «Фаворитка». «Он пел… как архангел, посланный с небес для того, чтобы облагородить людей. Такого пения я не слыхал никогда больше. Но он умел играть столь же великолепно!»
Репертуар Шаляпина быстро расширялся. В октябре он спел Странника в «Рогнеде», в ноябре — Нилаканту в «Лакме» и Галицкого в «Князе Игоре», но все это были, по существу, лишь шаги к значительной, этапной работе — к роли Ивана Грозного в «Псковитянке».
Опера Н. А. Римского-Корсакова впервые ставилась в Мариинском театре еще в январе 1873 года, но не продержалась на сцене, несмотря на прекрасный исполнительский состав. Когда Шаляпин познакомился с клавиром оперы, его испугали нетрадиционность музыкального языка, отсутствие развернутых арий и вокальных ансамблей. Как создать характер Грозного, какими красками выявить его силу, своеобразие, эмоциональность? Мамонтов погружает его в историю.
Кремлевские соборы, Василий Блаженный, монастыри, часовни, площади, улицы, переулки старой Москвы… В Третьяковской галерее Федор подолгу простаивает перед картиной «Иван Грозный и сын его Иван»: «Вот где я воскликнул великое спасибо Илье Ефимовичу Репину. Совершенно подавленный, я ушел из галереи. Какая силища, какая мощь! Хотя эпизод убийства не входил в играемую мной роль, однако душа Грозного (несмотря на все зверства, им творимые), как именно и хотелось, представлена была Душой Человеческой, то есть под толщею деспотизма и зверства, там где-то, далеко-далеко, я увидел теплящуюся искру любви и доброты».
Шаляпин собирал черты Грозного по крохам: что-то взял у Репина, что-то и у Аполлинария Васнецова (эскиз васнецовского портрета Ивана IV певец видел дома у инженера С. П. Чоколова, знакомого Мамонтова). Илью Ефимовича Репина Мамонтов привлек к репетициям: художник обладал уникальной коллекцией иконографии эпохи Грозного. Пригодились Шаляпину и впечатления от исторических картин В. Г. Шварца, знаменитой скульптуры М. М. Антокольского. Так постепенно складывалась целостность монументального сценического образа.
Работа над «Псковитянкой» шла трудно. Артист не спал ночей, нервничал, рвал в отчаянии ноты, иногда плакал от досады — не задавалось все, даже самая первая фраза: «Войти аль нет…» Мамонтов внимательно следил за ходом репетиций, старался вселить в Федора спокойствие.
— Хитряга и ханжа у вас в Иване есть, а вот Грозного нет… — заметил Савва Иванович.
Слова Мамонтова прозвучали для Шаляпина откровением! «Интонация фальшивая! — сразу почувствовал я. Могучим, грозным, жестко-издевательским голосом, как удар железным посохом, бросил я свой вопрос, свирепо озирая комнату. И сразу все кругом задрожало и ожило… Интонация поставила поезд на надлежащие рельсы, и поезд засвистел, понесся стрелой».
12 декабря 1896 года состоялась премьера. Дирижировал И. А. Труффи, оформляли спектакль К. А. Коровин и В. М. Васнецов. Подробное описание спектакля, самой театральной атмосферы оставил художник М. В. Нестеров:
«Мамонтовский театр переполнен сверху донизу, настроение торжественное, такое, какое бывает тогда, когда приезжают Дузе, Эрнесто Росси или дирижирует Антон Рубинштейн. Усаживаются. Увертюра. Занавес поднимается. Все, как полагается: певцы поют, статисты ни к селу ни к городу машут руками, глупо поворачивают головы и т. д. Бутафория торжествует. Публика все терпеливо выносит и только к концу второго действия начинает нервно вынимать бинокли, что называется — „подтягиваться“… На сцене тоже оживление: там как водой живой спрыснули. Чего-то ждут, куда-то смотрят, к чему-то тянутся… Что-то случилось. Напряжение растет. Еще момент — вся сцена превратилась в комок нервов, что быстро передается нам, зрителям. Все замерло. Еще минута, на сцене все падают ниц. Сперва из-за угла улицы показывается белый, в богатом уборе конь: он медленным шагом выступает вперед. На коне, тяжело осев в седле, профилем к зрителю, показывается усталая фигура царя, недавнего победителя Новгорода. Царь в тяжелых доспехах — из-под нахлобученного шлема мрачный взор его обводит покорных псковичей. Конь остановился. Длинный профиль его в нарядной дорогой попоне замер. Великий государь в раздумье озирает рабов своих… Страшная минута. Грозный час пришел: „Господи, помяни нас, грешных!“ То, что сейчас происходит там, на сцене, пронизывает ужасом весь зрительный зал. Бинокли у глаз вздрагивают. Тишина мертвая. Сцена немая, однако потрясающая. Долго она длиться не может. Занавес медленно опускается… С тех дней русское общество долгие годы было под обаянием этого огромного дарования, возвышающегося порой на сцене до подлинной гениальности».
М. В. Нестеров точно подмечает достоинства и недостатки спектакля, не скрывает очевидного контраста, возникающего при сравнении Шаляпина с хором, со статистами, со всем антуражем. Как мы увидим далее, это несоответствие редко удается сгладить. Мамонтову оказалось не по силам содержать большую высокопрофессиональную труппу. Ставка делалась на художников и солистов. В остальном же приходилось искать компромиссы, экономить на хоре, на оркестре, даже на статистах. К тому же Мамонтов очень дорожил вниманием к театру интеллигентной публики и устанавливал цены на билеты ниже, чем в императорских театрах. Наличие в труппе Шаляпина подчас компенсировало все прочие недочеты. Однако, как показали будущие события, долго такое компромиссное положение сохраняться не могло…
Пожалуй, именно в «Псковитянке» зрители впервые с такой остротой обнаружили отличительную особенность творчества певца — органичную слитность вокала и драмы. В спектакле была не только безукоризненно пропета партия Грозного, но и отлично сыграна вся роль, создан живой сценический образ. Как сказал тогда артист Малого театра А. П. Ленский, «Шаляпин сделал неслыханное чудо с оперой: он заставил нас, зрителей, как бы поверить, что есть такая страна, где люди не говорят, а поют».
Любители музыки рвутся в Солодовниковский театр увидеть, услышать новый талант.
«Появление Шаляпина в театральном мире Москвы произвело мало сказать сенсацию — оно вызвало небывалое восторженное волнение среди всех людей, любивших театр, оперу, музыку, — писал художник А. Я. Головин. — Я хорошо помню всю значительность этого подъема. Чувствовалось, что вот наступил момент, когда в истории театра откроется новая страница. Выступления Шаляпина воспринимались всеми чуткими людьми как праздник искусства. Вспоминаю одну из своих встреч с Левитаном, который с первых слов забросал меня вопросами: „Видели вы Шаляпина? Слышали его? Знаете ли вы, что такое Шаляпин? Пойдите непременно. Вы должны его увидеть! Это что-то необыкновенное. Как он поет Мефистофеля! Как играет!“
Левитан был взволнован по-настоящему, и, зная его тонкое артистическое чутье, я понял, что в театре появился действительно какой-то чародей».
Успех «Псковитянки» — достижение не только Шаляпина, но и художников Мамонтовского театра. Костюм Ивана Грозного создавался по эскизам Коровина; важной его деталью стала подлинная хевсурская кольчуга, привезенная художником с Кавказа. Журнал «Театрал» писал: «Загримирован г. Шаляпин кистью художника, одет тонким знатоком-костюмером, в движениях мускулатуры все живет и чувствует… В опере такое явление феноменально».
Артист вдохновлен художниками, помогавшими ему в создании Грозного и других ролей, сам становится источником их фантазии. Творческие идеи «переплавлялись», «переливались» в художественном сознании, они ломали условные цеховые перегородки. Созданные Шаляпиным сценические образы несли в себе мощную силу эмоционального и эстетического воздействия на публику. М. В. Нестеров считал: «ходить на Шаляпина» художнику необходимо — «великий, гениальный артист всегда обогатит меня духовно, и я как художник получу что-то, хотя бы это что-то и пришлось до поры до времени где-то далеко и надолго припрятать в себе».
В. М. Васнецов пишет картину «Иван Васильевич Грозный» под сильным впечатлением «Псковитянки». Взаимовлияние артиста и художников отмечают и критики. «Главным украшением был г. Шаляпин, исполнивший роль Грозного, — писал Н. Д. Кашкин в „Русских ведомостях“. — Он создал очень характерную, выразительную фигуру и один между всеми исполнителями высказал настоящее уменье говорить речитативом, внятно, музыкально и выразительно, оставаясь в естественном тоне декламации… В сцене с трупом Ольги г. Шаляпин весьма удачно воспользовался известной картиной Репина, изображавшей Ивана IV с убитым сыном, и воспроизвел ее довольно живо».
Шаляпину особенно близки Серов и Коровин. Савва Иванович Мамонтов угадал в Коровине художника-монументалиста, блестящего сценографа. Понять друг друга им помогла совместная поездка на Север. «Вмешаться» в судьбу, поделиться собственными впечатлениями, духовным багажом, помочь материально, «поставить на ноги» — призвание, страсть Мамонтова. В 1888 году он едет с Коровиным в Италию, Испанию, ему важно самому показать «Костеньке» Рим, Флоренцию, галерею Уффици, капеллу Медичи, Ватикан.
На лето Мамонтов отправляет учиться в Европу своих артистов — В. П. Шкафера, П. И. Мельникова, М. Д. Черненко, В. А. Эберле и Шаляпина. Савва Иванович самолично показывает Федору парижские достопримечательности, музеи, Лувр. Перед стендом с коронными драгоценностями Мамонтов добродушно предостерег:
— Кукишки, кукишки это, Федя. Не обращайте внимания на кукишки, а посмотрите, как величествен, как прост и как ярок Поль Веронез!
Серова, Коровина, Врубеля, Поленова, Шаляпина Мамонтов считал своими созданиями и любил их как собственных детей…
Друзья «образовывают» молодого певца, расширяют его кругозор, обогащают знаниями об искусстве, об истории. На выставке в Нижнем картины Врубеля были ему непонятны, понадобилось время, близкое общение с Мамонтовым, с художниками, чтобы по достоинству оценить своего талантливого современника.
…Завершился трудный и богатый сезон. Настало лето, и дружная компания мамонтовцев поселилась в Путятине у Татьяны Спиридоновны Любатович — гостеприимной хозяйки всей театральной семьи.
В жизни Саввы Ивановича увлечение Любатович стало роковым, и потому в семье Мамонтовых о ней предпочитали не говорить. Молва была несправедлива к Татьяне Спиридоновне. Княгиня М. К. Тенишева, например, в своих мемуарах объявила Т. С. Любатович бездарностью и интриганкой. Между тем в действительности все обстояло иначе. Татьяна Любатович, конечно, любила Савву Ивановича и была любима им, но оба афишировать отношения не стремились, хотя и скрыть их подчас бывало трудно. Не желала она и пользоваться благорасположением Саввы Ивановича в своих карьерных целях: не претендовала на положение премьерши, довольствовалась второстепенными партиями, хотя и обладала неплохим меццо-сопрано, владела вокальным мастерством — за ней стояли консерваторское образование, учеба в Италии и Франции. В трудные для Мамонтова годы Татьяна Спиридоновна оставалась ему верным другом.
В это лето на даче происходит важное событие, которое весело отмечается всей компанией: 27 июля 1898 года Иола Торнаги и Федор Шаляпин венчаются в деревенской церковке села Гагина. Рахманинову вместе с Коровиным и Кругликовым отведены важные роли шаферов.
— Как ты думаешь, — спрашивал Коровина Федор, — можно мне в деревне в поддевке венчаться? Я терпеть не могу эти сюртуки, пиджаки разные, потом шляпы…
Поддевка, белый картуз — такой наряд жениха никого не смутил, было много шуток, веселых розыгрышей. Обошлись без торжественных церемоний, дорогих подарков, удалого свадебного застолья — молодых забросали полевыми цветами, все сидели прямо на полу, шутили, дурачились, а поутру чету Шаляпиных разбудил страшный треск и грохот: под окнами их комнаты собрался шумовой оркестр — друзья играли на ведрах, деревенских свистульках и печных заслонках.
— Какого черта вы дрыхнете? — кричал Мамонтов. — В деревню приезжают не для того, чтобы спать. Вставайте, идем в лес за грибами.
А дирижировал этим кавардаком Сергей Рахманинов…
Осенью 1898 года на вопрос журналиста: «Какая ваша любимая роль?» — Шаляпин ответил:
— Я теперь всецело предался изучению роли Бориса Годунова. Я сыграю ее лишь в будущем году. Не знаю, удастся ли она мне…
С мыслью о Борисе Годунове живет певец весь год, и даже медовый месяц в Путятине проходит в атмосфере музыки Мусоргского.
Рахманинов не прощал несобранности, ошибок, лени ни себе, ни коллегам, ни друзьям, и от Шаляпина он требовал полного погружения в работу. Постраничное разучивание партии Годунова сочеталось с уроками теории музыки и гармонии. «Он вообще старался музыкально воспитать меня», — вспоминал Шаляпин. Певец легко схватывал основы теории, но усидчивостью не отличался; приходилось выслушивать едкие замечания ровесника.
Утром певец и композитор садились за рояль и несколько часов репетировали. В полдень бежали купаться.
«…Меряя саженками гладь реки, — вспоминал Шаляпин, — я пел какое-либо кантиленное место своей партии, стараясь укрепить нужную мне свободу голоса в условиях самых различных, перебивающих друг друга ритмов. Помнится, мне долго не давалась возможность выработать в себе спокойную, полную внутреннего достоинства и силы походку царя. И Рахманинов помирал со смеху, когда я, долговязый и неуклюжий, с необычайной важностью расхаживал по прибрежному песку в чем мать родила, стараясь придать своей фигуре царственную осанку.
— Ты бы хоть простыню на себя накинул, — говорил мне иронически Рахманинов.
— Ну нет, — отвечал ему я, — в драпировке-то каждый дурак сумеет быть величественным. А я хочу, чтобы это и голышом выходило.
И представьте себе, в конце концов добился того, чего хотел. „Знай прежде всего свое тело, а тогда театральный костюм тебе впору придется“. Это стало с тех пор моим нерушимым правилом. А что такое тело для актера? Это инструмент, на котором можно сыграть любую мелодию. Было бы только что играть, была бы душа».
Рахманинов помог Шаляпину осмыслить и прочувствовать партитуру «Бориса Годунова», но артисту хотелось окунуться в эпоху, ощутить историческую конкретность обстоятельств…
Узнав, что недалеко от Путятина живет на даче известный историк Василий Осипович Ключевский, Федор отправляется к нему.
«Когда я попросил его рассказать мне о Годунове, он предложил отправиться с ним в лес гулять. Никогда не забуду я эту сказочную прогулку среди высоких сосен по песку, смешанному с хвоей. Идет рядом со мною старичок, подстриженный в кружало, в очках, за которыми блестят узенькие мудрые глазки, идет и, останавливаясь через каждые пять, десять шагов, вкрадчивым голосом, с тонкой усмешкой на лице передает мне, точно очевидец событий, диалоги между Шуйским и Годуновым, рассказывает о приставах, как будто лично был знаком с ними, о Варлааме, Мисаиле и обаянии Самозванца. Говорил он много и так удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им. Особенное впечатление произвели на меня диалоги между Шуйским и Борисом в изображении В. О. Ключевского. Он так артистически передавал их, что, когда я слышал из его уст слова Шуйского, мне думалось: „Как жаль, что Василий Осипович не поет и не может сыграть со мною князя Василия!“
В рассказе историка фигура царя Бориса рисовалась такой могучей, интересной. Слушал я и душевно жалел царя, который обладал огромною силою воли и умом, желал сделать Русской земле добро и создал крепостное право. Ключевский очень подчеркнул одиночество Годунова, его юркую мысль и стремление к просвещению страны. Иногда мне казалось, что воскрес Василий Шуйский и сам сознается в ошибке своей, — зря погубил Годунова!»
Шаляпин и дальше встречался с Ключевским и многие его рекомендации использовал в творчестве. Да и в пространно цитируемом отрывке читается интерпретация «Псковитянки», представленной вскоре Мамонтовым. О Борисе Годунове Ключевский говорил: «Он умел вызывать удивление и признательность, но никому не внушал доверия; его всегда подозревали в двуличии и коварстве и считали на все способным…»
Обогащенный беседами с Ключевским, вернулся Шаляпин в Путятино. Здесь уже репетировались ансамблевые сцены будущего спектакля. А из окон комнаты Рахманинова слышались аккорды Второго концерта, над которым работал композитор.
В Москву Шаляпин возвращается женатым человеком. Во флигеле дома Любатович на Долгоруковской улице, где живут молодые, вечерами полно гостей, шумит самовар, Иола разливает чай. Константин Коровин, Антон (так друзья называли Серова) обсуждают эскизы новых работ, шаляпинские роли, театральные новости.
На столе — альбомы, книги по истории Ассирии и Вавилона, их распорядился приобрести Мамонтов: параллельно с «Борисом Годуновым» и «Моцартом и Сальери» готовится постановка оперы «Юдифь». Ее автор, композитор Александр Николаевич Серов, — отец Валентина Серова. Друзья подолгу всматривались в причудливые барельефы, искали пластику, властные жесты восточного деспота Олоферна.
Премьера состоялась 23 ноября в декорациях и костюмах Коровина и Серова. Критика особо отмечала новое качество артистической палитры Шаляпина: «Помимо других достоинств, артист этот обладает удивительным уменьем гримироваться; почти в каждой из сколько-нибудь значительных ролей, исполненных им, его лицо, а нередко и вся фигура могли бы служить прекрасной моделью для художника, желающего изобразить тот или иной соответственный тип. Так было и на этот раз». «Юдифь» становится «гвоздем сезона», зрители обновленного Солодовниковского театра рукоплещут шаляпинскому Олоферну. А спустя два дня — новая премьера — «Моцарт и Сальери».
Оперу Римского-Корсакова репетировали дома у Мамонтова на Садовой-Спасской. Первым зрителем спектакля стал сам автор. Декорации и костюмы Врубеля удивительно выявили дух одной из маленьких трагедий А. С. Пушкина. Добиться выразительности драмы, органичного слияния музыки с речью — об этом мечтал Шаляпин, когда вместе с Рахманиновым работал над музыкальной характеристикой Сальери. «Трудно описать правду и мощь, с которыми вдохновенная игра артиста воплотила пушкинский образ в этой суровой, крепкой фигуре, преждевременно состарившейся в своей уединенной келье ради упорной музыкальной работы и напрасным стремлением достигнуть того, что без всяких трудов „озаряет голову безумца, гуляки праздного“ Моцарта», — писал в «Русских ведомостях» Ю. Д. Энгель.
Наутро после премьеры — она состоялась 25 ноября — в Петербург полетела телеграмма: «Публичная библиотека. Владимиру Васильевичу Стасову. Вчера пел первый раз необычайное творение Пушкина и Римского-Корсакова „Моцарт и Сальери“ большим успехом. Очень счастлив, спешу поделиться радостью. Целую глубокоуважаемого Владимира Васильевича. Пишу письмо».
В письме Шаляпину Стасов высказывает мысль о редкостном своеобразии его таланта:
«Я не раз думал, что, конечно, Вы начали и будете продолжать всегда быть певцом (последние три слова Стасов жирно подчеркнул. — В. Д.). Но если бы какие-то экстраординарные, неожиданные непредвиденные обстоятельства стали Вам поперек, Вам бы стоило только променять одну сцену на другую и из певца превратиться просто в трагического актера — Вы бы остались крупно-прекрупною величиной и, может быть, пошли бы и еще выше!..»
Это письмо снова утвердило Шаляпина в убеждении: в современной опере артист должен не только петь, но и играть: «Оперы такого строя являются обновлениями. Может быть, как уверяют многие, произведения Римского-Корсакова стоят не на одной высоте с текстом Пушкина, но все-таки я убежден, что это новый род сценического искусства, удачно соединяющий музыку с психологической драмой». Но как же трудно достичь целостности, органичного сочетания вокала и драмы! Как сложно добиться такого гармонического единства в «Борисе Годунове»! Савва Иванович ведет репетиции ровно, выстраивает логику событий спектакля, ищет с Шаляпиным смысловые интонации, пластику образа. Федор нервничает, Мамонтов старается успокоить его:
— Ну, пойми: по словам Пушкина, ты достиг высшей власти. Ты — царь коронованный. Зачем тебе выступать как боярин, кичащийся своим званием, положением, родом? Зачем тебе лезть из кожи, строить выскочку, самодура? Выходи на сцену проще…
У оперы Мусоргского многострадальная судьба. Поставленная в бенефис известной певицы Мариинского театра Ю. Ф. Платоновой еще при жизни композитора, опера была встречена петербургской публикой холодно. В Частной опере премьера «Бориса Годунова» состоялась 7 декабря 1898 года. Дирижировал И. А. Труффи, массовые сцены ставил М. В. Лентовский. «Русские ведомости» откликнулись на постановку статьей Ю. Д. Энгеля: «Перед нами был царь величавый, пекущийся о народе и все-таки роковым образом идущий по наклонной плоскости к гибели благодаря совершенному преступлению — словом, тот Борис Годунов, который создан Пушкиным и музыкально воссоздан Мусоргским. Неотразимо сильное впечатление производит в исполнении г. Шаляпина сцена галлюцинаций Бориса; потрясенная публика без конца вызывала артиста».
Глава 4 САВВА ИВАНОВИЧ МАМОНТОВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
Савва Иванович Мамонтов — купец и промышленник, из числа богатырских русских талантов, умело ведущих дело и щедро жертвующих капиталы на создание картинных галерей, на издательства, больницы, школы, приюты, на благоустройство Москвы; из той генерации меценатов, которую представляли братья Третьяковы, основатели художественной галереи; знаток и историк театра, собиратель-коллекционер Юрий Алексеевич Бахрушин, купцы Щукины и Солдатенковы, наконец, Константин Сергеевич Алексеев-Станиславский, создатель Московского Художественного театра, — всех и не перечислишь…
Отец Саввы, Иван Федорович, подростком мыл в трактире шкалики, служил сидельцем в лавке, а накопив кое-какой оборотный капитал, стал откупщиком. По коммерческим делам он часто наезжал в Сибирь. В городе Ялуторовске в 1841 году и родился его сын Савва. Иван Федорович вел дружбу с декабристами: с Пущиным, Муравьевым, Ентальцевым, случалось ему быть и порученцем-связным: возить письма, посылки, помогать деньгами, вещами. Разбогатев, И. Ф. Мамонтов вложил капиталы в акции Троицкой железной дороги Москва — Сергиев Посад. Позже его сын Савва продлил дорогу в Архангельск, к Ледовитому океану, мечтал освоить Север, поразивший его строгой красотой.
Савву Ивановича называли «русским Медичи»: его идеалом была Флоренция. Он любил этот итальянский город за «общий тон — отсутствие современной лавки и фабричной красоты», за искусство великих итальянцев, которое «не было прихотью, приятной забавой; оно руководствовалось жизнью, политикой, на него опиралась церковь». Петр Великий, как известно, хотел воссоздать в Петербурге Амстердам, Савва Мамонтов мечтал превратить Москву во Флоренцию, а конец XIX века — в эпоху Возрождения, хотел приучить «глаз народа к красивому: на вокзалах, в храмах, на улице».
Природа щедро наделила Савву Ивановича редкостным художественным чутьем, способностями музыканта, рисовальщика, скульптора. Но главное его дарование — талант режиссера, «композитора» сценического пространства, идеолога театра. Любительские опыты Мамонтова под крышей абрамцевского дома и московского особняка на Садовой-Спасской стали прообразами спектаклей музыкального театра грядущего столетия.
В книге «Моя жизнь в искусстве» К. С. Станиславский писал:
«Это он, Мамонтов, провел железную дорогу на север, в Архангельск и Мурман для выхода к океану, и на юг, к Донецким угольным копям, для соединения их с угольным центром, хотя в то время, когда он начинал это важное культурное дело, над ним смеялись и называли его авантюристом и аферистом. И это же он, Мамонтов, меценатствуя в области оперы и давая артистам ценные указания по вопросам грима, костюма, жеста, даже пения, вообще по вопросам создания сценического образа, дал могучий толчок культуре русского оперного дела: выдвинул Шаляпина, сделал его, забракованного многими знатоками, при посредстве Мусоргского популярным».
Савва Иванович Мамонтов — человек образованный, наделенный художественным даром, тонким вкусом и поразительно разносторонней интуицией. Он учился на юридическом факультете Московского университета, потом в Петербургском горном институте. В юности занимался вокальным искусством и скульптурой у итальянских мастеров, знал историю искусства, писал пьесы, оперные либретто. Горький писал о Мамонтове: «Он хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов — не только этих — поставил на ноги, да и сам был исключительно даровит». Художник А. Я. Головин считал удивительным качеством Мамонтова «уменье окрылять людей», порождать в них веру в свои силы, в художественное предназначение. Строго говоря, и умом, и душой, и поступками Мамонтов сам был художник, творец, созидатель. В. М. Васнецов писал В. Д. Поленову в феврале 1900 года: «В выражении наших дружеских чувств мы ни в коем случае не должны подчеркивать в нем МЕЦЕНАТА. Да это было бы и неверно. Как я уже говорил раньше и снова скажу: он со своей семьей дорог нам как центр, около которого ютился кружок, в котором художнику легко дышалось и чувствовался воздух, в котором привольнее было жить. Он не меценат, а друг художников. В этом его роль и значение для нас».
В мамонтовском кружке домашняя дружеская беседа оборачивалась серьезными спорами о путях искусства, здесь чтение за столом книг в лицах, «живые картины», любительские шуточные розыгрыши и представления выливались в новое театральное дело. «Самое главное, к чему нам всем в жизни надо привыкать, — это к труду, каков бы он ни был, — писал своему сыну Андрею Савва Иванович Мамонтов в 1890 году. — Раз у человека есть работа и он сознательно без отвиливания исполняет ее горячо, он имеет право на уважение других, а следовательно, и на радость в жизни». В такой нравственно чистой атмосфере росли и дети Мамонтова и его супруги Елизаветы Григорьевны — Сергей, Андрей, Вера, Всеволод и Александра. Первые буквы их имен составляли имя отца: САВВА.
Этика труда, понимание его нравственного смысла присущи Мамонтову в той же высокой степени, что и понимание искусства, красоты, художественной гармонии. Этот «символ веры» господствовал в мамонтовском окружении, определял творческую, нравственную, художественную атмосферу, он был безусловен для всех, кто попадал или хотел попасть в сферу мамонтовского влияния.
Надежда Ивановна Комаровская, в начале 1900-х годов ученица студии Московского Художественного театра, тепло вспоминала об уроках К. С. Станиславского. Они часто предварялись вопросами: «А на выставке „Союза русских художников“ были? А чьи картины произвели на вас наибольшее впечатление? Нравятся ли вам портреты Серова? А что скажете о Левитане? А Константин Коровин?». Станиславский учил студийцев пониманию сущностных истоков искусства, реформаторских принципов Художественного театра, их предпосылки наметились еще в мамонтовском кружке, где гимназист Костя Алексеев — будущий Станиславский — выходил на сценические подмостки вместе с Валентином Серовым. В 1879 году в драме А. Н. Майкова «Два мира» начинающий художник Серов играл бессловесную роль раба, а Алексеев — небольшую роль патриция. На рождественских каникулах 1890 года в стихотворной драме на библейский сюжет «Царь Саул», написанной Сергеем Мамонтовым с отцом и оформленной Михаилом Врубелем, Константин Алексеев в роли грозного и величественного пророка Самуила и Валентин Серов — плененный амаликитский царь Агаг — имели безусловный успех.
Задачи кружка предполагали поиски совершенства воплощаемого актером или живописцем художественного образа, идеального зрительно-пластического выражения. Театрализация жизни и досуга органична для мамонтовского кружка, в нем природно и органически выражались созидательно-творческие натуры самих художников, пробуждались воображение, фантазия.
В доме Мамонтова постоянно звучала музыка. Нестеров и Суриков любили Баха, для Репина поры создания «Бурлаков» волжский пейзаж ассоциировался с камаринской, Врубель слушал Римского-Корсакова.
«Без музыки, — писал В. М. Васнецов, — я, пожалуй, не написал бы так ни „Побоища“, ни других дальнейших картин, особенно „Аленушки“ и „Богатырей“. Они были задуманы и писались в ощущении музыки». Здесь, видимо, и таится особое ощущение «музыкальности» декораций, которой будут славиться спектакли Частной оперы, — целостность музыкального и поэтического живописного единства. Безусловно — любительские опыты Мамонтова под крышей абрамцевского дома и особняка на Садовой-Спасской стали предшественниками спектаклей Частной оперы и Московского Художественного театра. «Бог дал ему особый талант возбуждать творчество, — писал о Мамонтове В. М. Васнецов. — Чем он привлекал к себе? Да особой чуткостью и отзывчивостью ко всем тем чаяниям и мечтам, чем жил и живет художник. Мало о нем сказать, что он любил искусство, — он им жил и дышал. С ним было легко работать, с ним художник не заснет, не погрузится в тину повседневья и меркантильной пошлости».
Раз в неделю в кабинете Саввы Ивановича появлялся длинный стол, вокруг рассаживались чтецы, художники, артисты-любители, в лицах читали «Ревизора», «Женитьбу», «Короля Лира», в которых Савва Иванович читал обыкновенно главные роли. Иногда Савва Иванович пел с молодыми артистами дуэты и трио, радовался новым талантам. В дни рождественских праздников дом превращался в театральные мастерские. В одном зале расстилалось полотно Василия Дмитриевича Поленова — он с Константином Коровиным писал декорацию. По соседству Илья Ефимович Репин с Валентином Серовым писал другой акт. Рядом в комнате трудятся Виктор Васнецов, Михаил Врубель. На другой половине дома шили костюмы. В столовой всегда стояли самовар и угощение. Молодежь толкалась вокруг чайного стола в ожидании ролей, а Савва Иванович, несмотря на шум и гвалт, спешно дописывал пьесу. Он ставил декорации, освещение, шутя режиссировал, веселился, но при этом четко управлял ходом дела.
В конце XIX века живописцы, скульпторы, художники, литераторы, музыканты часто обращались к исторической теме, конкретные черты персонажа подчас находили в лицах своих современников. И. Е. Репин писал Ивана Грозного с художника Г. Г. Мясоедова и писателя В. М. Гаршина. В. М. Васнецов искал черты своего Грозного, бродя по лабиринтам Московского Кремля: «Я как бы видел Грозного. В узких лестничных переходах храма Василия Блаженного слыхал поступь его шагов, удары посоха, его властный голос». В. И. Суриков признавался поэту Максимилиану Волошину: «А вы знаете, Иоанна-то Грозного я раз видел настоящего: ночью, в Москве, на Зубовском бульваре в 1897 году встретил. Идет сгорбленный, в лисьей шубе, в шапке меховой, с палкой… Бородка с сединой, глаза с жилками, не свирепые, а только проницательные и умные… Совсем Иоанн. Я его вот таким вижу. Подумал: если бы писал его, непременно таким бы написал. Но не хотелось тогда писать — Репин уже написал». И все же Суриков тоже не сдержался — вскоре создал свой известный этюд «Иоанн Грозный».
«После великой и правдивой русской драмы влиянию живописи в моей артистической биографии первое место, — признавался Шаляпин. — Для полного осуществления сценической правды и сценической красоты, к которым я стремился, мне было необходимо постигнуть правду и поэзию подлинной живописи. В окружении Мамонтова я нашел исключительно талантливых людей, которые в то время обновляли русскую живопись и у которых мне выпало счастье многому поучиться».
В конце XIX — начале XX века русское реалистическое искусство обретало мировое признание. Весной 1898 года в Петербурге состоялись выборы в Российскую академию художеств. И. Е. Репин с радостью сообщал В. Д. Поленову: «Серов, Дубовской, Касаткин, Архипов и Левитан вчера на общем собрании удостоены звания академиков».
В Первой международной выставке, организованной журналом «Мир искусства» в начале 1899 года, участвовали 22 русских художника. Триумфаторами стали В. А. Серов — он показал портреты М. К. Тенишевой, П. П. Трубецкого, М. К. Мамонтовой, и В. М. Васнецов — его полотна «Витязь на распутье», «Битва русских со скифами», «Снегурочка» собрали много публики.
Влияние Васнецова широко и властно распространилось на театр, на музыку, на литературу. Так, фольклорные образы художника нашли свое продолжение в поэзии И. А. Бунина. В книге «Маска и душа» Ф. И. Шаляпин называет первейшими своими учителями целую плеяду выдающихся живописцев: Серова, Левитана, Виктора и Аполлинария Васнецовых, Коровина, Поленова, Остроухова, Нестерова и, конечно, Врубеля, чью «Принцессу Грезу» когда-то он не понял. Сказочный былинный дух полотен Васнецова по-своему преломился в Варяжском госте. «Его витязи и богатыри, воскрешающие самую атмосферу Древней Руси, вселяли в меня ощущение великой мощи и дикости — физической и духовной. От творчества Виктора Васнецова веяло „Словом о полку Игореве“. Незабываемы на могучих конях эти суровые, нахмуренные витязи, смотрящие из-под рукавиц вдаль — на перекрестках дорог…» — писал Шаляпин.
Созданные артистом сценические образы вдохновляли художников на новые замыслы. В 1897 году Виктор Васнецов пишет свою картину под непосредственным впечатлением «Псковитянки». Созданный Шаляпиным сценический портрет вдохновил художника на новую живописную интерпретацию Грозного.
В Третьяковской галерее Шаляпин подолгу стоял перед Грозным скульптора М. М. Антокольского. Его создатель писал о своем зловещем персонаже: «День он проводил, смотря на пытки и казни, а по ночам, когда усталые душа и тело требовали покоя, у него пробуждалась совесть, сознание и воображение, они терзали его, и эти терзания были страшнее пытки… Тени убитых подступают: он хватается за псалтырь, падает ниц, бьет себя в грудь, кается и падает в изнеможении… Он мучил и сам страдал».
В «Псковитянке» Шаляпин заимствует у Антокольского не только позу Грозного — напряженная рука на подлокотнике, зажатые в другой четки. Царь — сосредоточен: он принимает решение! Некогда И. С. Тургенев, увидев скульптуру Антокольского, воскликнул: «И что он станет делать, как встанет? Пытать? Молиться? Или пытать и молиться?»
Шаляпин впитывал в себя художественные метафоры, лексику, гамму настроений живописных полотен. С. Т. Конёнков писал:
«Он (Шаляпин. — В. Д.) был воплощенная пластика. Для меня — начинающего скульптора — это был неисчерпаемый кладезь. Нет числа карандашам и все новым порциям глины, переведенным на рисунки, скульптурные этюды все с одной модели — с Шаляпина… Каждая его роль — находка, шедевр ваятеля».
В «Псковитянке» Шаляпин предстал перед публикой «поющим актером», соединив воедино стихию музыки, драмы и сценической пластики. Он выполнил ту нелегкую задачу, которую ставил перед театром автор исторических драм А. К. Толстой: «…разыграть всю гамму самых противоречивых состояний души, начиная от иронии до отчаяния и мотивируя каждое из них искусными переходами, так, чтобы зритель сказал: иначе и быть не могло!»
В Частной опере Шаляпин открывал для себя и смело осваивал новое художественное пространство, расширял свой творческий диапазон. Вздорного Галицкого в «Князе Игоре» А. П. Бородина Шаляпин впервые исполнил еще в Петербурге на сцене Мариинского театра и уже тогда пытался внести в образ свое представление о природе этого противоречивого характера. «Г-н Шаляпин дал очень определенное лицо добродушного кутилы, хотя более современного пошиба, чем хотелось бы видеть», — отмечала критика. В Частной опере образ «добродушного кутилы» приобретал новые черты.
— Пойми, — обращался к певцу Мамонтов, — вся психология твоего Галицкого, все его поведение с начала и до конца оперы должно направляться лишь одним восклицанием: «Э-эх!!!» Оно повторяется всем оркестром, даже аккордами литавр. Бородин подчеркнул это с умыслом. Попробуй внутренне все время ощущать это «эх!!». За примитивностью хмельного наместника скрываются самодурство, цинизм народного обидчика, рвущегося к власти.
На премьере Шаляпин поразил публику неожиданностью сценического прочтения. «Его Галицкий — новый, сплошь интересный, яркий образ, — писал критик С. Н. Кругликов. — Смотришь, слушаешь и прямо не оторваться. Для одного г. Шаляпина надо уже идти на „Игоря“… Г-н Шаляпин — такой Галицкий, какого до сих пор не видели ни Москва, ни Петербург».
Художники будили фантазию Шаляпина, желание определить границы собственных возможностей, стремление разрушать устойчивые исполнительские клише, открывать нечто новое, находить неожиданные краски даже в уже привычном, казалось бы, прочтении — это качество сразу выделило молодого артиста среди партнеров, оно радует публику и критику. Успехи Шаляпина делают артиста привлекательной фигурой. В сознании зрителей роли, сыгранные на сцене, сопрягались с представлениями о личности певца, придавали ему особую загадочность и обаяние, он «вписывается» в пространство московской жизни. «В открытом ландо, на прекрасных жеребцах проезжал Шаляпин по Никитской, мимо Консерватории, — вспоминал С. Т. Конёнков. — Величавый, в шляпе с широкими полями, Федор Иванович отвечал на приветствия, ласково кивая головой. Он наслаждался своей властью над людскими сердцами. И, казалось, опера переходила в жизнь. Казалось — по улице едет князь Галицкий и удало распевает: „Прожил бы я всласть, ведь на то и власть…“ Но Шаляпинская власть была всем желанна и мила…»
Осенью 1897 года С. И. Мамонтов решил ставить «Хованщину». Музыкальный язык Мусоргского труден. Освоение текста, сложной фразировки, дикции речитативов — требовало серьезных усилий, тем более что исполнительской традиции «Хованщины» не существовало. Дирекция императорских театров в свое время отклонила оперу, завершенную после смерти Мусоргского Римским-Корсаковым. Тогда же спектакль петербургских певцов-любителей, горячих поклонников Мусоргского, прошел для широкой публики практически незамеченным.
Особая сложность предстоящей работы состояла не только в нетрадиционном новаторском интонационном строе музыкальной драматургии Мусоргского, но и в художественном воссоздании на сцене атмосферы быта допетровской Руси. Декорации выполнялись по эскизам Аполлинария Васнецова, знатока старой Москвы. По настоянию художника артисты побывали в селе Преображенском, на Рогожском кладбище, там еще сохранились старообрядческие церкви, скиты, погосты. Примечательно: в то же село десять лет назад ездил Василий Суриков в поисках прототипа боярыни Морозовой: «Очень трудно ее лицо было найти… Ведь сколько времени я его искал… В селе Преображенском, на старообрядческом кладбище — ведь вот где ее нашел… Там, в Преображенском, все меня знали. Даже старушки мне себя рисовать позволяли и девушки-начетчицы…»
Схожими путями в постижении сценических характеров в «Хованщине» шли и артисты Частной оперы. «Какие лица! У ворот кладбища старичок-сторож… живописный облик, точь-в-точь ожившая иконопись древнего письма, лицо изрыто глубокими морщинами, одни глаза смотрят на вас выразительно, остро, глубоко и пытливо… — вспоминал певец В. П. Шкафер. — Среди присутствующих глаз улавливает характерные, типические фигуры и лица… Прошла тонкая стройная женщина в черном сарафане, покрытая большим платком; кто-то сказал: „Это Марфа“, а рядом шли „Сусанны“, начетчики и начетчицы в длинных, до полу, кафтанах».
Не этот ли кладбищенский сторож стал прототипом шаляпинского Досифея?
Константин Коровин — выходец из старообрядческой семьи. Блестящий рассказчик, он живо воссоздает атмосферу детства, быт раскольников, обряды, показывает характерную манеру поведения, походку, говор. В воображении Шаляпина начинает складываться облик Досифея: возникают лицо, пластика, интонация, жест… Досифей будто сходит с древнерусских икон: величавый, суровый, с горящим пронзительным взглядом.
Художественным откровением стало сценографическое решение спектакля по эскизам А. М. Васнецова, осуществляемое «в материале» Коровиным и Малютиным. «Стрелецкая слобода» воскрешала старую Москву. В последнем действии на сцене возникали очертания раскольничьего скита, спрятанного в лесной чаще, освещенного отблесками луны и ее отражением в речной излучине…
Премьера «Хованщины» состоялась 12 ноября 1897 года. Усилия артистов и художников не прошли даром. Критик Н. Д. Кашкин писал: «Между исполнителями сольных партий мы назовем прежде всего г. Шаляпина, создавшего очень законченную и выдержанную фигуру Досифея с его умом и фанатической убежденностью в правоте своего дела, чисто человеческими чертами сочувствия страдающей Марфе и с горестной угнетенностью старика, чувствующего свое бессилие в борьбе и неизбежную гибель единомышленников».
Сценические открытия Шаляпина подхватывались и трансформировались в творчестве содружества художников. Шаляпин, считал Нестеров, «всегда обогатит меня духовно, и я как художник получу что-то, хотя бы это что-то и пришлось до поры до времени где-то далеко и надолго припрятать в себе».
На склоне лет, размышляя о различиях Мариинского театра и Частной оперы, Шаляпин подчеркивал: казенная сцена имела огромные материальные возможности, но жила во власти сложившегося стереотипа и не могла предложить начинающему певцу ничего, кроме указаний «делай, как делали до тебя». В Частной опере Мамонтов ощутил себя свободным, раскованным, художники не терпели шаблона, учили непредвзятому взгляду на мир.
…Когда в театре еще репетировалась «Хованщина», музыкальный критик и друг Н. А. Римского-Корсакова Сергей Николаевич Кругликов привез из Петербурга клавир его оперы «Садко». Труппа встретила новость овацией в честь композитора, кто-то играл на рояле «Славу» — артисты ликовали!
Савва Иванович Мамонтов сам руководил репетициями «Садко». Декорации он поручил выполнить Врубелю, Серову, Малютину и Коровину. Мамонтов хотел видеть будущий спектакль красочным, праздничным и потому взял к себе в помощники Михаила Лентовского — в его спектакле Шаляпин дебютировал в Петербурге в летнем саду «Аркадия». «Магу и волшебнику», непревзойденному создателю феерических зрелищ предстояло воссоздать в «Садко» фантастические эпизоды «на суше и под водою».
Уже на первой читке клавира Врубель набросал эскиз костюма Волховы, Серов наметил гримы. Секар-Рожанский с листа пропел партию Садко, Забела-Врубель — Волхову, Шаляпин — Варяжского гостя. Премьера — праздник! Перед самым выходом на сцену Шаляпина — Варяжского гостя в гримерную к артисту ворвался Серов, оглядел его с ног до головы:
— Отлично, черт возьми! Только руки… руки женственны!
Шаляпин краской подчеркнул мускулы, они стали мощными, выпуклыми… Художникам понравилось.
— Хорошо! Стоишь хорошо, идешь ловко, уверенно и естественно! Молодчина!
Серов и Коровин в эту счастливую пору — и близкие друзья Шаляпина, и «соавторы» его сценических образов. Внешность Коровина сразу выдавала в нем человека искусства. На зимних улицах фигура Коровина в небрежно сдвинутой на затылок меховой шапке, в шубе нараспашку привлекала к себе внимание. Открытое, смуглое, выразительное лицо как бы освещалось светом глубоких добрых глаз.
Савва Иванович высоко ценил дарование Коровина, дружески опекал его, брал с собой в заграничные поездки. Вместе они осматривали европейские достопримечательности. С Мамонтовым и Серовым Коровин ездил на Крайний Север. Все вернулись полными новых впечатлений, потом много работали над сюжетами декорационного панно для Ярославского вокзала. Мамонтов угадал в Коровине талант сценографа. Искусствоведы не раз писали об «особой музыкальности» его декораций. В своих сценографических исканиях Коровин шел от композитора, от интерпретаций музыки ее исполнителями. И свое участие в постановке он считал частью художественного построения всего спектакля. Коровин непременно присутствовал на оркестровых репетициях оформляемых им спектаклей.
«Одними красками не возьмешь, — говорил он. — Я должен понять замысел композитора. То ли дело у Чайковского. Его музыка — сама живопись, надо только ее увидеть… Ритм движения музыкальной мысли рождает во мне ответную музыку красок».
Духовное воздействие Коровина на окружающих было незаметным, но сущностным. «Коровин обладал поразительным вкусом и в этом отношении мог быть незаменимым наставником, — писал художник А. Я. Головин. — Влияние Коровина было, несомненно, благотворно для Серова». Оно было благотворно и для Шаляпина.
Душа любой компании, человек артистичный, Коровин легко владел литературной импровизацией, с ходу сочинял стихи «под Бальмонта», «под Игоря Северянина» и других модных поэтов.
«У Коровина быль и небылица сплетались в чудесную неразрывную ткань, и его слушатели не столько любовались талантом рассказчика, сколько поддавались какому-то гипнозу, — вспоминал А. Н. Бенуа. — К тому же память его была такой неисчерпаемой сокровищницей всяких впечатлений, диалогов, пейзажей, настроений, коллизий и юмористических деталей, и все это было в передаче отмечено такой убедительностью, что и не важно было, существовали ли на самом деле те люди, о которых он говорил; бывал ли он в тех местах, в которых происходили всякие интересные перипетии, говорились ли эти с удивительной подробностью передаваемые речи, — все это покрывалось каким-то наваждением, и оставалось только слушать и слушать».
Шаляпин, сам великолепный рассказчик, состязался с Коровиным в красноречии, в искрометной выдумке. Благодарные слушатели художника — друзья, коллеги по Частной опере и мамонтовскому кружку — подзадоривали талантливых импровизаторов.
«Центром притяжения» творческого сообщества был и Валентин Александрович Серов. О сходстве и различии Коровина и Серова много спорили современники — уж очень непохожими они казались со стороны. Но их сближали понимание задач искусства, высокая этика художественных и нравственных идеалов. Да и само «несходство» темпераментов, характеров, как бы дополнявших друг друга, охраняло, как выразилась актриса Н. И. Комаровская, эту личностную связь. «Они были очень разные! Коровин весь во власти эмоций, нетерпеливый, горячий, то безудержно веселый, то мрачный, нелюдимый. Серов — весь в себе, с виду спокойный, молчаливый, замкнутый, с внимательным изучающим взглядом художника-портретиста… Серов писал не спеша, как бы погруженный в глубокое раздумье. Коровин подшучивал: „Поглядишь на тебя — прямо мировые вопросы решаешь“. Сам Коровин писал с каким-то вечно юным воодушевлением, любуясь и восхищаясь вслух открывшейся ему красотой природы, неожиданным сочетанием красок, человеческими лицами».
К творчеству друг друга художники относились с огромным интересом, но оставались строгими и непримиримыми в оценке своих работ. Достаточно Серову было сказать: «Знаешь, Костя, я бы этого не выставлял», — как картина немедленно снималась Коровиным с экспозиции. С таким же доверием к мнению Серова относился и Коровин.
Шаляпин искренне поклонялся Серову, а сам художник подтвердил взаимную симпатию более чем двадцатью портретами певца. Первый из них написан углем и мелом в 1896–1897 годах и имеет авторскую подпись: «Шаляпину на память от В. С.». Из художников мамонтовского окружения Врубель, Коровин и Серов были особенно интересны и близки певцу. Каждый отмечен удивительной способностью по-своему видеть жизнь, ее детали, подробности, внутренние смыслы…
Шаляпин вспоминал, как Серов однажды хвалил Коровина:
«— Нравится мне это у тебя, — говорил Серов Коровину, — свинец на горизонте и это…
Сжав два пальца, большой и указательный, он проводил ими в воздухе фигурную линию, и я, не видя картины, о которой шла речь, понимал, что речь идет о елях. Меня поражало уменье людей давать небольшим количеством слов и двумя-тремя жестами точное понятие о форме и содержании».
Способность Серова схватить характер человека, его сущность, высветить ее выразительно мимикой, характерным жестом, интонацией, чисто театральным приемом приводила Шаляпина в восхищение. Броскими сценическими красками, остроумной фразой он был способен воссоздать целое сюжетное повествование. Однажды Валентин Серов рассказывал о московских лихачах. «Я был изумлен, — вспоминал Шаляпин, — видя, как этот коренастый человек, сидя на стуле в комнате, верно и точно изобразил извозчика на козлах саней, как великолепно передал слова его:
— Прокатитесь? Шесть рубликов-с!
Другой раз, показывая Коровину свои этюды — плетень и ветлы, он указал на веер каких-то серых пятен и пожаловался:
— Не вышла, черт возьми, у меня эта штука! Хотелось изобразить воробьев, которые, знаешь, сразу поднялись с места… Фррр!
Он сделал всеми пальцами странный жест, и я сразу понял, что на картине „эта штука“ действительно не вышла у него. Меня очень увлекала эта легкая манера художников метко схватывать куски жизни».
Художники любили Шаляпина, он импонировал им талантливостью натуры, живым умом, юмором, готовностью к сценическим поискам и импровизациям. Н. И. Комаровская со слов Коровина рассказывала: Шаляпин никогда не обижался на подчас суровую критику художников. «Хмуро, сосредоточенно выслушивал замечания и молча уходил. А спустя несколько дней, войдя в мастерскую, произносил, ни к кому не обращаясь: „Если хотите, идите смотреть репетицию“».
Серов стал, по сути дела, соавтором шаляпинского Олоферна, помогая артисту вылепить образ решительного ассирийского военачальника. Перед выходом артиста на сцену Серов сам загримировал его, расписал ему руки, подчеркнув их скульптурную мощь. Олоферн Шаляпина значителен и слаб, суров и сладострастен, велик и незащищен. И в этой противоречивости бушующих страстей воплощались правдивость и сила могучего неповторимого человеческого характера.
«Юдифь» стала у московской публики событием сезона, зал обновленного после пожара Солодовниковского театра рукоплескал. «Трудно было не поддаться обаянию этого мрачного надменно-величавого и вместе с тем носящего на себе печать вырождающейся азиатской чувственности древнего Тамерлана, — писали „Русские ведомости“ на следующий день после премьеры. — А какое богатство интонаций, какая выразительность в произношении талантливого артиста!»
В Частной опере Шаляпин, по собственному признанию, нашел свой настоящий путь в искусстве и окончательно осмыслил свои прежние интуитивные тяготения. «После великой и правдивой русской драмы влияния живописи занимает в моей артистической биографии первое место».
Когда в Мамонтовском театре ставили оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», Шаляпин продолжает поиски органического сочетания искусства оперы и драмы. Певец шел от слова Пушкина, от музыки Римского-Корсакова, от своих жизненных наблюдений, от реальных характеров, от осмысления и прочувствования конкретной судьбы художника и человека. «Я терялся. Но снова ободрили художники. За кулисы пришел взволнованный Врубель и сказал:
— Черт знает, как хорошо! Слушаешь целое действие, звучат великолепные слова, и нет ни перьев, ни шляп, никаких ми-бемолей!
Я знал, что Врубель, как и другие — Серов, Коровин, — не говорят пустых комплиментов: они относились ко мне товарищески серьезно и не однажды очень жестоко критиковали меня. Я верил им».
Певица Частной оперы В. И. Страхова-Эрманс вспоминала о встречах художников в доме певца: «Шаляпин, Серов и Коровин, счастливые, прославленные, молодые, радостные. За столом они безудержно веселились и веселили слушателей. Все они любили рассказать о замеченном смешном в жизни и доводили рассказ до анекдота. К. Коровин мог, не умолкая, часами „рассказывать“ хорошим языком русской деревни, но в его рассказах всегда чувствовался гротеск. Шаляпин, если можно так выразиться, живописал свои рассказы-анекдоты».
За размашистостью и широкой непринужденностью Шаляпина не всегда удавалось разглядеть мятущуюся душу артиста, упорно постигающего тайны высокого искусства. Певец бывал подчас молчалив и угрюм, в его размышлениях прорывалась серьезная неудовлетворенность собой и театром.
«Понимаешь ли, как бы тебе сказать, — обращался он к Коровину, — в искусстве есть… „чуть-чуть“. Если это „чуть-чуть“ не сделаешь, то нет искусства. Выходит около. Дирижеры не понимают этого, а потому у меня не выходит то, что я хочу… А если я хочу и не выходит, то как еще? У них все верно, стараются, на дирижера смотрят, считают такты — и скука!.. А ты знаешь, что есть дирижеры, которые не знают, что такое музыка. Мне скажут: сумасшедший, а я говорю истину. Труффи следит за мной, но сделать то, что я хочу, — трудно. Ведь оркестр, музыканты играют каждый день, даже два спектакля в воскресенье, — нельзя с них и спрашивать, играют как на балах. Опера-то и скучна. „Если, Федя, все делать что ты хочешь, — говорит мне Труффи, — то это и верно, но это требует такого напряжения, что после спектакля придется лечь в больницу“. В опере есть места, где нужен эффект, его ждут — возьмет ли тенор верхнее до, а остальное так, вообще. А вот это неверно… Это надо чувствовать. Понимаешь, все хорошо, но запаха цветка нет. Ты сам часто говоришь, когда смотришь картину, — не то. Все сделано, все выписано, — а не то. Цветок-то отсутствует. Можно уважать работу, удивляться труду, а любить нельзя. Работать, говорят, нужно. Но вот бык или вол трудится, работает двадцать часов, а он не артист. Артист думает всю жизнь, а работает иной раз полчаса. И выходит — если он артист. А как? — Неизвестно».
Коровин наблюдал за Шаляпиным на репетиции. Он пел вполголоса, останавливал Труффи, иногда громко отбивал такт ногой. Труффи не обижался и говорил, смеясь: «Этот Черт Иванович Шаляпин — таланта огромная. Но он постоянно меняет и всегда хорошо. Другая дирижер палочку бросит и уйдет. Но я его люблю, понимаешь, какая это артист. Он чувствует и понимает, что хотел композитор».
Серов ввел в мамонтовский кружок Михаила Врубеля. Они дружили еще в пору занятий в Академии художеств, потом их пути разошлись, и лишь спустя время Серов встретил Врубеля в Киеве и позвал в Москву. Атмосфера мамонтовского кружка сразу захватила Врубеля, он даже поселился дома у Саввы Ивановича.
Как-то Коровин застал в мастерской Мамонтова одного. Савва Иванович внимательно смотрел на стену, где свежей краской была изображена гигантская фигура Демона.
— Посмотри, — сказал Мамонтов Коровину, — Врубель исписал всю стену. Что ты скажешь?
— Скажу, что это написано гением, — ответил взволнованный Коровин.
Михаил Врубель отличался аристократическим изяществом и сдержанностью. Он ценил академическое искусство, свободно владел древними языками и вместе с тем обожал зрелища, цирк, клоунов, любил лошадей, сам был умелым наездником. В компании Врубель весел и остроумен, с Коровиным они исполняли дуэты, шуточные куплеты, сочиненные Мамонтовым. В Частной опере Врубель занял свое особое положение самобытного художника. Подводное царство в «Садко», оформление «Моцарта и Сальери» сразу привлекли к нему внимание широкой публики и художественных авторитетов.
Врубеля увлекала сценическая природа театра, его декорации динамизировали сюжетное и музыкальное развитие спектакля, углубленно раскрывали характеры оперы в гармоническом единстве музыки, живописи, драмы, в театральном костюме. Врубель находил точный неповторимый стиль всего представления, тонко выражая характер образа в покрое, в цветовых сочетаниях, в орнаментике, в пластической характеристике.
Вклад художников Мамонтовской оперы в развитие ансамблевого отечественного театра поистине огромен. Именно здесь сложился новый тип театрального художника — равноправного автора спектакля, целостно определяющего его постановочную темпоритмическую трактовку посредством образного решения декорации, костюма, сценического грима, актерской пластики. От Серова Шаляпин взял скульптурность жестов, движения тела, композиционное видение мизансцен, пластическое воплощение характеров. Под влиянием художников и сам Шаляпин ощутил в себе новые творческие способности, стал пробовать себя в живописи, в рисунке, в скульптуре.
Глава 5 МУЗЫКАНТЫ И АКТЕРЫ
1897 год завершается в праздничном возбуждении. Критика приветствует премьеру «Хованщины». «Г. Шаляпин дал отличный внешний облик Досифея, прекрасно пел и сумел оттенить на игре, мимике и гриме ту перемену, которая произошла в Досифее, когда наступили грозные для раскольников события», — писали «Московские ведомости». В. Д. Поленов поздравляет артиста восторженным письмом. 30 декабря Шаляпин впервые выступает в «Садко» в роли Варяжского гостя, без бисов, разумеется, не обошлось.
С 24 декабря началась рождественская неделя. Шаляпины к этому времени переселились в гостеприимный дом Татьяны Спиридоновны Любатович, на Долгоруковскую улицу. Москва веселится. Главные торжества в Манеже. Здесь выступают семь военных оркестров, большой оперный хор соревнуется с хором московских цыган, атлет-борец Вильям Моор обещает поднять и пронести по эстраде рояль вместе с играющим пианистом.
Шаляпин — Грозный. Портрет работы В. Серова. 1897 г.
31 декабря — дневной спектакль «Псковитянка». Вечером — встреча Нового года. Газета «Московский листок» утром 1 января 1898 года поздравляет читателей: «Старый 1897 год, отслужив свой срок, подал в отставку и удалился на покой. Поклон новоиспеченному, 1898-му! Ворота настежь! Музыка, играй марш! Шампанского сюда!»
Впрочем, расслабляться Федору Ивановичу нельзя: на 1 января назначена «Хованщина» — все билеты давно распроданы…
…В разгар сезона театр С. И. Мамонтова постигла катастрофа: ночью 19 января произошел пожар, почти полностью уничтоживший зрительный зал и прилегающие к нему помещения. Железный занавес спас сцену, декорации и реквизит, чудом уцелел и стоявший в фойе рояль — подарок Мамонтова Шаляпину. Однако Савву Ивановича катастрофа не только не сломила, но даже азартно воодушевила — театр отправился на длительные гастроли в Петербург демонстрировать свои достижения.
Опера «Садко» в Москве имела у публики успех, но ее создатель Николай Андреевич Римский-Корсаков остался недоволен спектаклем. С ним был солидарен и композитор М. М. Ипполитов-Иванов: «Хоры и оркестр были совершенно не подготовлены, и надо было удивляться, как в таком виде Савва Иванович решился их выпустить. Все шло вразброд, а в оркестре от кружевной партитуры Корсакова не осталось и намека». Поэтому в Петербурге спектакль выпускал сам Римский-Корсаков. Дирижер Е. Д. Эспозито, как заметил потом сам композитор, оказался внимательным к замечаниям автора, были заново выучены трудные оркестровые и хоровые фрагменты.
Частная опера показывала спектакли в Большом зале консерватории с 22 февраля по 19 апреля 1898 года. Петербуржцы увидели обширный репертуар — девять русских и пять иностранных опер: «Псковитянку», «Жизнь за царя», «Рогнеду», «Садко», «Снегурочку», «Майскую ночь», «Хованщину», «Русалку», «Опричника», «Фауста», «Миньону», «Самсона и Далилу», «Богему», «Орфея». В те же дни напротив консерватории, в Мариинском театре, гастролировала немецкая труппа с операми Р. Вагнера, а до этого, совсем недавно, в столице выступали итальянцы. Корреспондент «Петербургской газеты» с некоторым удивлением отмечал, что Частная опера успешно выдерживает конкуренцию:
«Г. Шаляпин… производит впечатление чрезвычайно талантливого человека, посвятившего себя всецело искусству». Газеты полны восторженных отзывов: «В каждом движении, в каждом слове чувствовался Грозный царь. Голос его такой же хороший, свежий, звучный, как и был; дикция выработана (петь ему мало приходится в этой опере) и отчетлива. Обработать и типично передать такой сложный характер, каков характер Грозного, — для этого нужны большие способности».
Когда 24 февраля 1898 года Шаляпин выступил в «Псковитянке», в антракте рослый длиннобородый старик в сюртуке порывисто кинулся к рампе, рукоплеща и громко восклицая:
— Да ведь это удивительно! Огромный талант! Такой Грозный! Я такого не видел! Чудесно! Гениально!
Старейший критик, друг и соратник композиторов «Могучей кучки», вдохновитель художников-передвижников Владимир Васильевич Стасов загорелся желанием немедленно познакомиться с певцом. В антракте Шаляпин услыхал раскатистый голос Стасова: он пришел за кулисы вместе со скульптором М. М. Антокольским:
— Ну, братец, удивили вы меня! Здравствуйте же! Давайте познакомимся! Я, видите ли, живу здесь, в Петербурге, но и в Москве бывал, и за границей и, знаете ли, Петрова слышал, Мельникова, и вообще, а таких чудес не видал. Нет, не видал! Вот спасибо вам! Спасибо!
Певец был польщен и счастлив. На следующий день после знакомства Шаляпин пришел в Публичную библиотеку: Стасов заведовал здесь рукописным отделом. Огромное, почти во всю стену окно, тяжеловесный письменный стол, заваленный книгами, рукописями, журналами, стенды с гравированными портретами Петра Великого, стеллажи со старинными, с золотым тиснением фолиантами.
Стасов пододвинул Шаляпину кресло.
— Прошу! В этих креслах сидели когда-то Гоголь и Тургенев… Нет-нет, садитесь! Ничего, что вы еще молоденький, — ободрил Стасов молодого гостя.
«Этот человек, — писал потом Шаляпин, — как бы обнял меня душой своей. Редко кто в жизни наполнял меня таким счастьем и так щедро, как он… Всегда, как только на пути моем встречались трудности, я шел к Стасову, как к отцу… Он стал ежедневным посетителем нашего театра. Бывало, выйдешь на вызов, а среди публики колокольней стоит Стасов и хлопает широкими ладонями».
25 февраля в «Новостях» и «Биржевой газете» появилась статья Стасова «Радость безмерная!». «Великое счастье на нас с неба упало. Новый великий талант народился» — такими словами приветствовал критик Шаляпина в «Псковитянке». Выступления молодого певца — повод для нового программного манифеста Стасова в защиту национальной культуры: «Двадцать семь лет тому назад, в 1871 году, мне привелось напечатать в „СПб Ведомостях“: „В настоящую минуту одним капитальным художественным произведением у нас больше. Это — статуя „Иван Грозный“, вылепленная молодым скульптором Антокольским“. Прошло четверть века, и вот нынче с таким же доверием к тому, что перед собой вижу, я снова говорю: „В настоящую минуту — одним великим художником у нас больше. Это — оперный певец Шаляпин, создавший нечто необычайное и поразительное на русской сцене“. Так же как Антокольский, этот еще юноша, даже на несколько лет моложе того, но создавший такого Ивана Грозного, какого мы еще никогда не видели ни на драматической, ни на оперной сцене. За последнее время Шаляпин еще вырос безмерно. Он создает уже не отдельные сцены, не отдельные фигуры и облики, а целые роли, целого человека, во всем многообразии разных его элементов и положений. Передо мной явился вчера Иван Грозный в целом ряде разносторонних мгновений своей жизни. Каков это был бесконечный ряд чудных картин. Как голос его выгибался, послушно и талантливо, для выражения все новых и новых душевных мотивов! Какая истинно скульптурная пластика являлась у него во всех движениях, можно бы, кажется, лепить его каждую секунду, и будут выходить все новые и новые необычайные статуи! И как все это являлось у него естественно, просто и поразительно! Ничего непродуманного, ничего театрального, ничего повторяющего сценическую рутину».
Так к старым петербургским друзьям и знакомым Шаляпина — М. В. Дальскому, Ю. М. Юрьеву, В. В. Андрееву, И. Е. Репину — теперь прибавились новые. Стасов свел 25-летнего певца с Н. А. Римским-Корсаковым, А. К. Глазуновым, М. М. Антокольским. Традиционными стали вечера на даче у Стасова в деревне Старожиловке и в его петербургской квартире на Песках, «нечетные среды» Римского-Корсакова, встречи на даче Глазунова в Озерках.
22 августа 1904 года Шаляпин, Горький и Репин приезжают к Стасову в Старожиловку, что под Петербургом.
На даче — атмосфера предвкушения грядущего праздника. Празднично одетый Владимир Васильевич Стасов часто выходит на крыльцо и с беспокойством восклицает: «А вдруг не приедут?» Решено преподнести гостям шуточный адрес, текст сочинил юный Самуил Маршак. Он вспоминал:
«Шутейный церемониал встречи был выполнен во всех подробностях. Шумно играли туш, если не ошибаюсь, на двух роялях. Поднесли адрес. Читать приветствие пришлось автору — самому младшему из гостей, подростку в гимназической куртке с блестящими пуговицами и резными буквами на пряжке пояса. Меня хвалили, пожимали мне руку, обнимали. Только Горький не сказал ни слова. Да он и вообще-то был не слишком словоохотлив на первых порах и медленно вступал в общую беседу. Я смотрел на всех троих, не спуская глаз. Репин и Шаляпин выглядели нарядно, особенно Шаляпин. Казалось, скуповатое осеннее солнце освещает его щедрее, чем всех. Как светлы были его легкие, словно приподнятые ветром волосы, его открытое, веселое и смелое лицо с широко вырезанными, как будто глубоко дышащими ноздрями и победительным взглядом прозрачных глаз. И одет он был во все светлое — под стать солнечному дню. Легкий костюм ловко и ладно сидел на этом красивом человеке, таком большом и статном».
Горький сразу покорил впечатлительного Стасова. В письме друзьям критик сообщал: «А сам он собой преотличный, пречудесный… Мы успели перебрать всякой всячины целые горы: и про Льва Великого, и про Чехова, и про самого Горького, и про Андреева… Мы почти одинаково думали… Что за чудная натура! Что за чудная голова! Что за поэзия! Что за сила духа и художества! Что за простота и красивость формы!»
Стасов очень любил талантливую молодежь, радовался, когда к нему приезжали писатели, артисты, музыканты. «А про Горького и Шаляпина, — писал он брату 2 сентября 1904 года, — мне опять есть много что рассказать нового! Чудно и великолепно!» И друзья тоже любили навещать «старчища могуч-богатыря», как называл Владимира Васильевича Шаляпин. Горький в ноябре 1904 года писал Стасову: «Может быть, Вы устроили бы так: сообщите мне, когда у Вас будет свободный вечер, и я приеду. И Большого Федора зовите — хорошо?»
Свободный вечер выдался нескоро, 3 сентября 1906 года. Шаляпин сообщает Иоле из Петербурга: «Я хотел уехать сразу, но милый Стасов так стар (83 года), что вот-вот умрет. Я хочу устроить ему праздник… буду немного петь и прочту новые вещи, написанные Горьким… Вчера вечером ужинали у Контана вместе с Дальским, так как был день его ангела».
Последний раз Стасов встретился с Шаляпиным в своей петербургской квартире. Было много гостей. За ужином хозяин дома провозгласил тост «за здоровье Федора Большого!». Шаляпин в ответ спел «Славу», остальные подхватили.
«…Я упросил Гинцбурга Элиаса прочесть после конца ужина две маленькие вещицы, — пишет В. В. Стасов брату. — …Все хохотали и восхищались — всего более Мария Валентиновна, нынешняя пассия Шаляпина; он сидел по мою правую руку, она по левую. Она решительно всем вчера понравилась: и красота, и простота, и любезность, и приветливость… Но Шаляпин — Шаляпин какой он вчера был — просто невообразимо!! Так произвел „Ich grolle nicht“ и „Die alten bösen Lieder“ („Я не сержусь“ и „Старые злые песни“. — В. Д.), как, кажется, никогда еще! Я подобного у него не слыхивал…»
Без Стасова Шаляпину в Петербурге первое время было одиноко. Может быть, поэтому он так стремится на «среды» Римского-Корсакова, хотя между ними той живой близости, какая была со Стасовым, не было.
«В Римском-Корсакове как композиторе поражает прежде всего художественный аристократизм, — писал Шаляпин позднее. — Богатейший лирик, он благородно сдержан в выражении чувства, и это качество придает такую тонкую прелесть его творениям… Иная грусть, чем у Чайковского, у Римского-Корсакова — она ложится на души радостным чувством. В этой печали не чувствуется ничего личного — высоко, в лазурных высотах грустит Римский-Корсаков. Его знаменитый романс на слова Пушкина „На холмах Грузии“ имеет для композитора смысл почти эпиграфа ко всем его творениям».
Мне грустно и легко: Печаль моя светла……26 ноября 1906 года Федор Иванович Шаляпин у Римского-Корсакова много пел на все голоса — и басом, и баритоном, и тенором, и даже сопрано. Потом говорили о музыке, об опере, о «Царе Эдипе» Софокла.
— Какой прекрасный материал для оперного спектакля! — горячо воскликнул Шаляпин и прямо обратился к Римскому-Корсакову: — Вы должны написать «Царя Эдипа»! Должны! Эдип — это же моя роль. В ваших операх, Николай Андреевич, достигнута удивительная естественность театральной декламации. Да нет же, вы послушайте!
Он повернулся к присутствующим и прочел начало монолога Сальери, свободно перевоплощаясь в характеры того и другого, как бы убеждая Римского-Корсакова.
— Вы же чувствуете драму, характеры, интонации как никто. Вы должны написать «Эдипа», — настаивал Шаляпин, — да я вам его прочту, хорошо?
Римский-Корсаков застенчиво улыбался. Шаляпин не успокаивался:
— Мы непременно соберемся в следующий раз, и я прочту. Непременно.
И сразу же назначил дату — 5 февраля.
Болезнь Шаляпина помешала встрече. «Прошу Вас, дорогой мой Николай Андреевич, не считать этого досадного случая концом моих пламенных желаний прочитать Вам „Царя Эдипа“ и позволить мне надеяться исполнить это как-нибудь в ближайшем будущем — по возможности».
С благодарностью вспоминал потом Шаляпин музыкальные вечера петербургских музыкантов, которые, по его выражению, сами творили русскую народную музыку: «Это они добрались до народных корней, где пот и кровь. Приходилось держаться друг за друга, работать вместе. Дружно жили поэтому наши старики. Хороший был „коллектив“ знаменитых наших композиторов в Петербурге. Вот такие коллективы я понимаю!.. Встречу с этими людьми в самом начале своего артистического пути я всегда считал и продолжаю считать одним из больших подарков мне судьбы».
Быт Римских-Корсаковых прост. Небольшая гостиная, в центре — рояль, по стенам — стулья. В столовой — скромная закуска. Гости говорили о музыке, о театре, о судьбах искусства, спорили о последних премьерах, но в одном были едины: все склонялись перед гением Мусоргского.
Любовь к музыке Мусоргского Шаляпину, как известно, привил Усатов, но укрепилась она здесь, в беседах со сподвижниками и друзьями — Стасовым, Римским-Корсаковым, Кюи. Невозможность увидеть Мусоргского Шаляпин вдруг ощутил как тяжелую утрату, личное горе: «Большое мое огорчение в жизни, что не встретил Мусоргского. Он умер до моего появления в Петербурге. Мое горе. Это все равно что опоздать на судьбоносный поезд. Приходишь на станцию, а поезд на глазах у тебя уходит навсегда!»
Окрыленный успехами петербургских гастролей, Шаляпин возвращается в Москву. Жизнь заполнена работой над новыми партиями. Только самые близкие друзья знали, как терпеливо артист искал каждый жест, каждую интонацию, как часто он бывал недоволен собой. Вряд ли поклонники, забрасывающие его цветами и венками с надписью «гениальному» и «великому», могли предположить, что их любимец столь сосредоточенно и мучительно пытается понять, в чем заключена великая тайна творчества. «В мои свободные вечера я уже ходил не в оперу, а в драму. Началось это в Петербурге и продолжилось в Москве. Я с жадностью высматривал, как ведут свои роли наши превосходные артисты и артистки», — вспоминал Шаляпин.
Драматические актеры едва ли не с первых театральных впечатлений стали «властителями дум» Шаляпина, а затем и добрыми наставниками. В. Н. Андреев-Бурлак, И. П. Киселевский, Н. В. Пальчикова — премьеры казанских театральных сезонов — остались в памяти Шаляпина на всю жизнь. Тогда же в Казани Шаляпин мог видеть очаровательную восемнадцатилетнюю актрису Марию Андрееву, дебютировавшую в антрепризе П. М. Медведева в 1886 году. Спустя несколько лет, уже на сцене Тифлисского артистического общества, М. Ф. Андреева выходит в водевильных, комедийных спектаклях и даже исполняет оперные роли. Вполне вероятно, что и Шаляпин, и живший в ту пору в Тифлисе Горький, люди не только увлеченные театром, но и профессионально причастные к нему, могли быть зрителями этих спектаклей или, по крайней мере, слышали о них. Тогда же здесь выступали выдающиеся актрисы М. Г. Савина и В. Ф. Комиссаржевская — с ними певец тоже через несколько лет встретится в Петербурге и будет вместе выступать на концертной эстраде.
Оказавшись в Петербурге, Шаляпин знакомится с актером Александрийского театра И. Ф. Горбуновым, дружит с Ю. М. Юрьевым, Н. Н. Ходотовым, К. А. Варламовым. Знаменательной для певца стала дружба с молодым, но уже известным трагиком Мамонтом Викторовичем Дальским. Многие встречи с великими мастерами искусства Шаляпин называл судьбоносными.
Поселившись в Москве, Шаляпин стал завсегдатаем Малого, а потом и Художественного театров. В Малом театре Федор знал и любил многих прекрасных артистов, но Ольгу Осиповну Садовскую выделял особо, называл ее «архигениальнейшей».
— И как это вы, Ольга Осиповна, можете так играть? — спрашивал он актрису, снискавшую себе славу в бытовых характерных ролях московских купчих, свах, приживалок.
— А я не играю, милый мой Федор.
— Да как же не играете? — допытывался Шаляпин.
— Да так. Вот выхожу да и говорю. Так же я и дома разговариваю, — лукавила Ольга Осиповна. — Какая я, батюшка, актриса! Я со всеми так разговариваю.
— Да, но ведь, Ольга Осиповна, все же это сваха.
— Да, батюшка, сваха!
— Да теперь и свах-то таких нет. Вы играете старое время. Как это вы можете?
— Да ведь, батюшка мой, жизнь-то наша, она завсегда одинаковая… Ведь язык-то наш русский — богатый. Ведь на нем всякая сваха хорошо умеет говорить. А такая сваха — это уж, батюшка, как хочет автор. Автора надо уважать и изображать того уж, кого он захочет…
О. О. Садовская и сама бывала на спектаклях с участием Шаляпина и считала, что молодым актерам тут есть чему поучиться.
В Малом театре певец стал своим человеком, у многих актеров бывал дома, общался с людьми яркими, талантливыми, для которых театр — высокое призвание, жизненное подвижничество. Исполнительская школа Малого многому научила Шаляпина, воспитала в нем эстетические критерии, вкус, чувство стиля.
«Я познакомилась с Шаляпиным, — сообщала М. Н. Ермолова 1 декабря 1898 года своему близкому приятелю врачу Л. В. Средину. — Пока впечатление сомнительное, не знаю, что будет дальше. Шаляпин хорош в Сальери, но не удивителен». Спустя месяц Ермолова пишет ему же: «Мы с Шаляпиным чуть не подрались, когда он мне доказывал, что музыка „Бориса“ так велика, что в ней видны даже проселочные дороги! Как Вы скажете? По-моему, это падение! Если в музыке слышны проселочные дороги и топот лошадей!»
Горячие споры лишь сблизили Ермолову и Шаляпина. Не прошло и года, как Ермолова восторженно пишет Средину:
«Приехал сегодня (15 ноября 1899 года. — В. Д.) Шаляпин на минуту по делу и забыл все дела и провел полдня у нас, до глубокой ночи. Мы сели к пианино, я кое-как с трудом подыгрывала, а он пел бесконечно. Я уехала играть, а он все сидел: говорят, спел целого „Фауста“».
Шаляпин в это время тесно связан с Московским Художественным театром, близок с семьей Станиславского; он рад приходу режиссера на спектакль. Накануне открытия Художественного театра, 14 октября 1898 года, Шаляпин — среди друзей. Вместе со Станиславским и свободными от работы актерами он смотрел репетицию премьеры — «Царь Федор Иоаннович», видел, как вешали главный занавес. Актриса О. Л. Книппер в письме А. П. Чехову сообщала, что Шаляпин «стену колотил от восторга» после репетиции спектакля «Смерть Иоанна Грозного».
С. И. Мамонтов. Портрет работы В. Серова. 1880 г.
Н. А. Римский-Корсаков. Рисунок Ф. И. Шаляпина
Пристально следят за успехами певца не только Станиславский и артисты Художественного и Малого театров. Настойчивые поиски сценической правды вызвали интерес к Шаляпину и у собратьев по профессии — оперных артистов. Молодой тенор Большого театра Леонид Собинов под впечатлением от «Бориса Годунова» пишет:
«Шаляпин был очень хорош. Теперь я начну аккуратно посещать спектакли с его участием. Он всегда меня интересовал, а после нашего разговора стал интересовать вдвое. Меня очень занимает секрет его творчества — упорная ли это работа или вдохновение… В Шаляпине весь фокус его художественного воспроизведения заключается в драматической стороне передачи, а ведь в драме с одинаковым интересом смотрим и первого любовника и трагического актера, совсем не произносящего красивых, идущих к сердцу фраз».
Собинову еще невдомек, что он совсем скоро станет партнером Шаляпина, они близко сойдутся, будут вместе выступать в концертах, ездить в Петербург…
Глава 6 ПРОЩАНИЕ С ЧАСТНОЙ ОПЕРОЙ
В 1898 году Московскую (а позднее и Петербургскую) контору императорских театров возглавил весьма энергичный, образованный и знающий искусство человек, в прошлом бравый гвардейский офицер, Владимир Аркадьевич Теляковский. Сын военного инженера, он с детских лет обучался музыкальным искусствам, играл на фортепиано, окончил Пажеский корпус, дослужился до звания полковника и по прихоти судьбы возглавил московскую, а позже и петербургскую Дирекцию императорских театров. В личном дневнике, который Теляковский вел на протяжении десятилетий, есть относящаяся к этому времени запись. Она свидетельствует о весьма глубоком понимании создавшейся в театральном искусстве ситуации. Приняв дела от своего предшественника Сергея Михайловича Волконского, Теляковский теперь увидел театральную жизнь не из рядов партера, не из раззолоченной ложи бенуара, но изнутри, из-за кулис, из чиновничьего кабинета управляющего: «На сцене господствует такая рутина и такая безграмотность, которая существовала десять — двадцать лет тому назад. Это небрежное отношение казенной администрации к императорским театрам, и особенно к монтировочной и бутафорской части, эта косность и неподвижность… побудили посторонних лиц открыть собственные театры, чтобы воочию доказать, как маленьким персоналом и с маленькими средствами можно достигнуть художественных постановок… Публика, утомленная рутинными постановками императорских театров, притом публика интеллигентная, образованная, хлынула в частные театры».
Побывав в Мамонтовской опере, Теляковский сразу оценил реформаторскую деятельность Мамонтова, гений Шаляпина и решил вернуть певца на императорскую сцену, но на этот раз в совершенно новом качестве — первого солиста, на которого будет строиться весь репертуар театра.
Теляковский сам был неплохим пианистом, хорошо разбирался в живописи и музыке. В его квартире, помещавшейся рядом с Александринским театром, часто собирались музыканты, художники, знатоки искусства. Умный чиновник с большими личными связями, умелый и энергичный организатор, Теляковский понимал: театр нуждается в преобразованиях, в обновлении репертуара, в изменении принципов декоративного оформления, в современной режиссуре. Владимир Аркадьевич искал талантливых людей, способных мыслить свежо и непредвзято. И вскоре на императорской сцене начинают работать М. А. Врубель, В. А. Серов, К. А. Коровин, А. Я. Головин, С. В. Рахманинов, Вс. Э. Мейерхольд. Высоко ставил Теляковский дарование Мамонтова и хотел видеть его в Большом театре режиссером, но этого не случилось…
Теляковский услышал Шаляпина впервые в «Фаусте» Ш. Гуно. Он озадачен: как можно было такого певца в свое время отпустить из Мариинского театра?! Владимир Аркадьевич поручает своему помощнику В. А. Нелидову обстоятельно побеседовать с Шаляпиным. Где? Выбор останавливают на известном московском ресторане «Славянский базар». «За завтраком денег не жалеть!» — напутствовал Теляковский Нелидова.
«Славянский базар» — заведение благопристойное, чинное, обстановка почти торжественная. Он уже вошел в историю восемнадцатичасовой беседой К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко: здесь 21 июня 1897 года решалась судьба будущего Московского Художественного театра. Бюсты русских писателей строго смотрят на посетителей из простенков второго этажа. Фонтанчик в бассейне легким журчанием приглушает звон посуды. У подъезда — швейцар в сверкающих позументах, более похожий на генерала. В зале — не менее представительный метрдотель. Предупредительные официанты в голубых казакинах снуют между столиками. Есть здесь и отдельные кабинеты — «для компаний», для деловых встреч и бесед.
После обильного завтрака в «Славянском базаре» 12 декабря 1898 года Нелидов ведет Шаляпина на Большую Дмитровку, в московское представительство Дирекции императорских театров. Теляковский предлагает жалованье, в два раза превышающее сумму, которую Федор получает у Мамонтова, и не без коварства намекает на циркулирующие слухи о непрочности мамонтовского капитала. Газеты пишут об этом уже третий год, но совсем недавно, весной, появились сведения о миллионных недостачах в фонде Ярославской железной дороги. Сам собой напрашивался вопрос: сможет ли Мамонтов и дальше содержать свой театр?..
Директор вызвал у певца большую симпатию: любезен, обаятелен, корректен, знает дело, с пониманием выслушал и разделил его суждения о консервативности Большого театра, обещал поддержку его планам:
— Вот мы всё и будем постепенно делать так, как вы найдете нужным!
В тот вечер Теляковский записал в своем дневнике:
«Шаляпин произвел на меня очень хорошее впечатление. Но он еще молод. Торговались долго, хотел подумать, но я думать не хотел и сейчас же дал ему подписать контракт — и только тогда успокоился, когда он подписал. Говорит хорошо, но цену себе еще не знает. Теперь только бы утвердили кабинетом в Петербурге — и сделано большое дело в жизни».
Петербургское начальство упрекнуло Теляковского в расточительности, но контракт все-таки утвердило. Владимир Аркадьевич с досадой замечает: «Нюха нет у этих людей. Мы не баса пригласили, а особенно выдающегося артиста и взяли его еще на корню».
Дни шли за днями, а Шаляпин никак не решался рассказать о случившемся Мамонтову. Впрочем, выступать в Большом театре предстояло лишь в начале следующего сезона, авось за это время все как-нибудь и образуется… Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Уже через неделю в Петербурге у Римского-Корсакова обсуждали сенсационную новость — Шаляпин переходит на императорскую сцену. Стороной об этом узнал и Мамонтов. Теперь, пожалуй, и театр Солодовниковский рухнет, размышляют за столом у Николая Андреевича Римского-Корсакова, говорят, что уйти собираются и певцы — Секар-Рожанский и даже Забела. Обсуждают неудачу, случившуюся на «Псковитянке» в начале сезона: Шаляпин начал свой речитатив, а у Труффи в оркестре зазвучала каватина. Дали занавес. Скандал…
Больно было Мамонтову узнать о намерениях Шаляпина, да еще от третьих лиц. И вместе с тем вряд ли стоит думать, что для него поступок певца был полной неожиданностью. Ведь еще весной 1898 года, 30 апреля, «Театральные известия» сообщили об уходе Шаляпина из Частной оперы, а в июне Савве Ивановичу писали об этом Любатович, Винтер и Кругликова.
«Он (Борис Годунов. — В. Д.) очень хорош в исполнении Шаляпина… Не вздумаете ли поставить, пока у нас служит Шаляпин?» — спрашивает Мамонтова Винтер. Савва Иванович срочно отправил в Путятино Секар-Рожанского, «чтобы совместно с Шаляпиным учить Самозванца». «Очень рад, — отвечает Мамонтову Кругликов, — что Вы утвердились мыслью его („Бориса Годунова“. — В. Д.) ставить… Шаляпин у нас служит последний год, а он мог бы создать в опере кого угодно — и яркого Бориса, и превосходного Варлаама».
Что стоит за этой перепиской? Во всяком случае, отношения Мамонтова и Шаляпина не нарушились, они вместе работали над «Борисом Годуновым». Но нельзя не видеть другого: постановочные возможности императорской сцены не шли в сравнение с Частной оперой, масштабы которой Шаляпин как художник уже перерос. Федор хочет мотивировать причину грядущего разрыва, советуется со Стасовым. «Посудите сами, Владимир Васильевич, — пишет он, — можно ли так относиться хотя бы к Мусоргскому, чьего „Бориса“ мы поставили, то есть на все уверения, что „Борис“ грандиознейшая опера и вследствие этой грандиозности, следовательно, требует тщательной постановки, — Савва махнул ее, кажется, после двух или трех репетиций с ансамблем. Да разве это возможно, ведь это черт знает что, ведь на последней-то репетиции еще почти никто ролей-то как следует не знал… Скажу словами Бориса — „скорбит душа“…»
Приходится признать: Шаляпин не был одинок в своих огорчениях. На репетиционную спешку и музыкальную недоработку не раз сетовали М. М. Ипполитов-Иванов, Н. А. Римский-Корсаков, критик Н. Д. Кашкин, С. В. Рахманинов. Да и сам Мамонтов, безусловно, чувствовал необходимость совершенствования своего «театрального дела». Как-то он пожаловался К. А. Коровину: «…Холодность и снобизм общества к дивным авторам — это плохой признак, это отсутствие понимания, плохой патриотизм. Эх, Костенька, плохо, косно, не слышат, не видят… Вот „Аида“ полна, а на „Снегурочку“ не идут и газеты ругают… Меня спрашивает Витте, зачем я театр-оперу держу, это несерьезно. „Это серьезнее железных дорог, — ответил я. — Искусство это не одно развлечение только и увеселение“… Вдохновение имеет высшие права. Вот консерватория тоже существует, а в императорских театрах отменяют оперы и не ставят ни Мусоргского, ни Римского-Корсакова. Надо, чтобы народ знал своих поэтов и художников. Пора народу знать и понимать Пушкина. А министр финансов (С. Ю. Витте. — В. Д.) говорит, что это увеселение. Так ли это? Когда будут думать о хлебе едином, пожалуй, не будет и хлеба».
Мамонтов затевает поистине грандиозный архитектурный, художественный, театральный проект. Арендует напротив Малого театра целый квартал, предполагает воздвигнуть — иначе не скажешь — культурный центр: гостиницу, ресторан, залы для вернисажей, зимний сад, крытый каток… Но главное, конечно же, огромный, шестиярусный, на три тысячи кресел — на тысячу мест превышающий вместимость Большого! — театр по проекту архитектора Вильяма Валькотта, украшенный панно по эскизам М. А. Врубеля, К. А. Коровина, В. М. Васнецова, настоящий храм музыкального искусства! «Таким путем, — писал Мамонтов одному из друзей, — осуществится моя заветная мечта, а Частная опера уже не будет случайным, компромиссным предприятием, а вступит в свои права, как прочное учреждение».
Таковы мечты, планы, замыслы…
Пока же жизнь идет своим чередом, внешне отношения Федора и Саввы Ивановича остаются добрыми, правда, премьер в первые месяцы 1899 года в театре почти нет, но в старых спектаклях певец по-прежнему имеет успех…
Рождество 1899 года Федор празднует дома, в окружении близких людей. 3 января Иола Игнатьевна родила сына. Шаляпин счастлив. Игорь в центре внимания, молодые родители восхищаются поразительной смекалистостью и прочими исключительными достоинствами ребенка. «Игрушка с каждым днем все забавнее и милее, чудак ужасный, — сообщает певец в письмах отцу Ивану Яковлевичу. — Это мое наслаждение! Это такой замечательный мальчик, что я положительно считаю себя счастливцем, что имею такого сына!»
К этому времени семье становится тесновато в гостеприимном доме Т. С. Любатович, и Шаляпины переезжают в Большой Чернышевский переулок. Вокруг небольшие, в два-три этажа, особняки, недалеко оживленная Тверская, напротив — мрачноватое здание англиканской церкви, напоминающее средневековый замок.
Сезон в Частной опере закрывался 25 апреля «Русалкой». «Шаляпин пел и играл бесподобно, — писали „Русские ведомости“. — …Участие это было, так сказать, лебединою песней артиста в труппе: как известно, он покидает ее и переходит осенью в Большой театр. Нужно пожелать, чтобы г. Шаляпин и там занял достойное его таланту положение и чтобы он нашел себе наиболее обширное и плодотворное поле для своей сценической деятельности».
В мае 1899 года Россия готовится отметить столетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Шаляпин тоже участник этого праздника. Правда, юбилей любимого поэта он будет отмечать не в Москве, а в Петербурге: в Таврическом дворце исполняется опера Рахманинова «Алеко». «Солисты были великолепны, — писал композитор в Москву своему другу М. А. Слонову, — не считая Шаляпина, перед которым они все, как и другие, постоянно бледнели. Этот был на три головы выше их. Между прочим, я до сих пор слышу, как он рыдал в конце оперы. Так может рыдать только или великий артист на сцене, или человек, у которого такое же большое горе в обыкновенной жизни, как у Алеко…»
Афиша концерта Ф. И. Шаляпина. 1899 г.
Летом Шаляпин выступал в Казани, Одессе, Киеве, Петербурге, Николаеве, Кисловодске. С его возвращением московскую публику ожидает сюрприз: артист, простившийся в конце прошлого сезона с Частной оперой, до перехода в Большой театр даст в ней последние спектакли — объявлены «Фауст», «Псковитянка», «Князь Игорь», «Жизнь за царя». На 21 сентября назначен прощальный спектакль — «Борис Годунов». А 12 сентября Шаляпин узнает потрясшую всех новость: Савва Иванович арестован накануне и под конвоем полицейских, в наручниках препровожден из дома на Садовой-Спасской в Таганскую тюрьму…
Таков был финал политической интриги, жертвой которой стал Мамонтов. Формальным поводом для ареста послужил просроченный долг Петербургскому международному банку. Ревизия вскрыла финансовые нарушения в расходовании средств Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги: деньги направлялись на другое мамонтовское предприятие — Невский завод в Петербурге. Завод этот оказался на грани банкротства, но усилиями Мамонтова начал выходить из кризиса… Приобретен он был под нажимом министра финансов С. Ю. Витте; в критический момент министр коварно устранился, не захотел спасти Мамонтова, хотя и мог… Суд открыл дело…
Следователь по особо важным делам назначил сумму залога — 763 тысячи рублей, которую родственники и друзья Мамонтова — Морозовы, Сапожниковы, Алексеевы — готовы были тут же внести, чтобы вызволить Савву Ивановича из тюрьмы. Но это оказалось всего лишь судейской игрой: сумму залога тотчас же взвинтили до пяти миллионов. Таких денег собрать не удалось. Только спустя пять месяцев, благодаря хлопотам Валентина Серова — он в это время писал портрет Николая II и мог с ним приватно общаться, по личному распоряжению императора тюремное заключение заменили домашним арестом — вплоть до окончания следствия и вынесения приговора.
Понимая, какой удар он наносит Частной опере своим уходом, Шаляпин кинулся к Теляковскому расторгнуть контракт, начал собирать деньги на неустойку, но не тут-то было! Оказалось, что в самой труппе с уходом певца давно примирились и к возможному его возвращению относятся по-разному. Свет на ситуацию проливает письмо К. С. Станиславского сыну Мамонтова Сергею Саввичу, написанное через два дня после ареста Саввы Ивановича: «Дело с Шаляпиным могло бы устроиться, если бы сами артисты действовали поэнергичнее, но, как мне показалось, кроме Оленина, Шкафера и Мельникова, никто не желает его возвращения, и это очень затрудняет дело. Я понял, что Секар очень против этого и сама Винтер мало оперативна и как будто дело находится между двух огней. Вчера утром думал ехать в театр поставить вопрос ребром, но потом побоялся запутать дело. Сегодня утром Шаляпин должен был видеться и решить все дело с Теляковским».
Но проницательнее всех оказался опытный и прагматичный Теляковский: «С арестом самого Мамонтова опере его все равно угрожала гибель и Шаляпин едва ли мог ее спасти. Он артист, а не администратор». О расторжении контракта Теляковский и слышать не хочет: дело давно решенное, «разрешить этот вопрос едва ли может директор — даже министр». Шаляпина мучила мысль: дебют в Большом театре состоится в дни, когда Мамонтов будет томиться в камере. Накануне первого выступления артист снова пришел к Теляковскому уже вместе со своим другом, режиссером Частной оперы Петром Мельниковым, и попросил хотя бы отсрочить дебют. Теляковский объяснил: со вступлением контракта в юридическую силу обер-полицмейстер может запретить последние спектакли с Шаляпиным в Частной опере, тогда уже неминуем ее немедленный крах. Федор растерянно посмотрел на Мельникова:
— Видишь, Петруша, я говорил тебе, что ничего не выйдет.
…Суд над Саввой Ивановичем Станиславский назвал его бенефисом: «Когда его оправдали — зал вздрогнул от рукоплесканий. Не могла остановить оваций и толпа, которая бросилась со слезами обнимать своего любимца».
С. И. Мамонтов умер в 1918 году. Станиславский писал:
«Живи и скончайся он не в России, а в другой стране, ему поставили бы несколько памятников: на Муроме, в Архангельске, на Донецкой ж. д. и на Театральной площади. Но мы в России… Он был прекрасным образцом чисто русской творческой натуры, которых у нас так мало и которых так больно терять именно теперь, когда предстоит вновь творить все разрушенное».
«Это был удивительный процесс, — писал известный московский фельетонист Влас Дорошевич, — человек обвинялся в преступлении с корыстными целями, а на суде если и говорилось, то только о его бескорыстности».
Публичное рассмотрение дела восстановило репутацию Саввы Ивановича, но не спасло его от разорения. Дом на Садовой-Спасской опечатан до аукциона, распродаются шедевры коллекции. Абрамцево теперь тоже не принадлежит Мамонтову, но причина тут сугубо личная: на пороге своего шестидесятилетия Савва Иванович разошелся с женой Елизаветой Григорьевной. «Я думал, — писал Станиславский, — что после всего случившегося Савва Иванович целиком отдастся искусству. Но я ошибся. Внутренняя рана и обида не давала ему покоя».
Сразу после суда Мамонтов уехал в Париж на Всемирную выставку; ему вручили золотую медаль за экспозицию художественной керамики. В Париже Мамонтов надеялся установить связи с деловыми кругами Франции, Германии и вновь утвердиться в «предпринимателях», но этого сделать не удалось — интриги сильных мира сего преодолеть было трудно…
Через десять лет Мамонтов дал интервью в связи с 25-летием Частной оперы:
«Если до сих пор существовало дело, которое мной создано, может быть, имело бы смысл говорить о юбилее. Но ведь мне придется признаваться в своих слабостях, в своих ошибках, раскаиваться в своем доверии к людям, так как я не мог бы умолчать об обстоятельствах, последовавших за налетевшим на меня бурным шквалом и на время сломавшим мою жизнь. Я тогда принял меры, чтобы обеспечить существование оперы, но я ее доверил людям, которые не сумели ее удержать, дали ее разграбить. Я не хочу обвинять никого, и я предпочитаю молчать!»
Кого имел в виду Савва Иванович? Вероятнее всего, Клавдию Спиридоновну Винтер, которая с его арестом превратилась из формальной в реальную владелицу театра. Ситуация запутана. Винтер — сестра Т. С. Любатович, гражданской жены С. И. Мамонтова, из-за которой он ушел из семьи. Зятем же Винтер был Секар-Рожанский, с ним и у Мамонтова, и у Шаляпина отношения складывались неровные. Но подробности своей интимной жизни и личных отношений Мамонтов предавать гласности не хотел.
Конечно, переход Шаляпина на императорскую сцену был продиктован в первую очередь творческими причинами. Шаляпин перерос вскормившую его Частную оперу по масштабу своего грандиозного дарования. Но для самолюбивого Мамонтова его поступок остался незаживающей раной. «Теперь у него (Шаляпина. — В. Д.) искусство на втором плане и все помыслы ушли на то, как бы побольше выколотить денег. А там — покупка домов, имений», — говорит Савва Иванович спустя несколько лет в одном из интервью. Тогда же «Голос Москвы» печатает отрывок из беседы Мамонтова с великим князем Владимиром Александровичем:
«— Вы ведь первый изобрели Шаляпина?
— Шаляпина первый выдумал Бог.
— Да, но вы его первый открыли.
— Нет, он еще до меня служил на императорской Мариинской сцене.
— Но ведь все-таки вам принадлежит заслуга открытия такого гениального артиста, которого ранее не замечали.
— Позвольте, надо прежде условиться в понятии гениальности. Гений делает всегда что-то новое, гений идет вперед, а Шаляпин застыл на „Фаусте“, „Мефистофеле“, „Псковитянке“, „Борисе Годунове“».
Все это будет сказано в 1910 году…
Впрочем, сегодня, более века спустя, очевидно: Мамонтовская опера сыграла свою исторически значимую роль, она разрушила штампы старого театра, утвердила в сознании критики и публики новые эстетические критерии, выявила широчайшие возможности оперы как жанра синтетического и, по сути дела, открыла новую эпоху в истории музыкального театра. Савва Иванович Мамонтов, носитель смелых художественных идей, вырастил и воспитал поколение художников, музыкантов, театральных реформаторов. Встреча Шаляпина с Мамонтовской оперой была судьбоносной для обеих сторон. 1896–1899-й — три «звездных» года! В Большом театре Шаляпин продолжил свой стремительный взлет на художественный олимп. «Вряд ли появлялся до наших дней на театральных подмостках артист, про которого с правом можно было бы сказать: „Вот плоть от плоти русской оперы, вот кровь от крови ее“, — писал авторитетный критик Ю. Д. Энгель. — Но если такого артиста не было до сих пор, то теперь он, наконец, появился. Это — Шаляпин. Мы, по крайней мере, именно так смотрим на этого необыкновенного, единственного в своем роде певца, одного из тех гигантов, которым дано созидать в искусстве новое, неведомое и вести за собой сотни и тысячи последователей».
Часть третья СЛАВА
…На концертах и спектаклях мне часто после этого приходилось слышать настойчивые просьбы спеть «Дубинушку». И иногда по настроению я ее пел в столице и в провинции, каждый раз, однако, ставя условия, чтобы публика мне подпевала.
Пришлось мне петь однажды «Дубинушку» не потому, что меня об этом просили, а потому, что царь в особом манифесте обещал свободу…
Ф. И. ШаляпинГлава 1 ХУДОЖНИК И ПУБЛИКА
Жизнь поколения российских людей, к которому принадлежал Шаляпин, пришлась на годы политических бурь и социальных катастроф. События общественные и впрямую, и опосредованно отражались и на жизни художественной. Шаляпин переживал духовный, творческий расцвет в атмосфере горячих идеологических и философских дискуссий, борьбы за новую театральную эстетику, споров о кризисе актерского реализма, о становлении режиссерского театра.
В общественном сознании атмосфера рубежа столетий рождала ощущение начала нового отсчета времени, исторического пролога новой эпохи. «Новый год я встретил превосходно, — сообщал Горький К. П. Пятницкому в январе 1901 года, — в большой компании живых духом, здоровых телом, бодро настроенных людей. Они — верная порука за то, что новый век — воистину будет веком духовного обновления… одолеет красота, справедливость, победят лучшие стремления человека».
Еще в конце 1890-х годов резонанс вызвали работы Г. Плеханова, в частности «Судьбы русской критики». История русского искусства рассматривалась здесь в связи с освободительным движением. Плеханов опровергал народнические представления о «самобытности крестьянской России» и утверждал концепцию неотвратимости революции пролетарской. Оценивая роль марксистских идей и значимость их распространения в России, Плеханов приходил к выводу: в авангард революционного процесса вышел рабочий.
Эту точку зрения горячо принял Горький. Независимый, дерзкий Нил из «Мещан» (смягченный во мхатовском спектакле интерпретацией Станиславского), мрачный задира конторщик Влас в «Дачниках» автобиографичны и одновременно «программны» — именно в них Горький видит нового «героя времени». Звучно-приказное, командное имя «Влас» нравится Горькому — фамилию «Власов» он даст герою программного романа «Мать» — Власов, Влас, власть…
Но Влас, как и Павел Власов, — в значительной мере плоды творческой фантазии, «сочинены», «сконструированы». Шаляпин же вошел в мир Горького непосредственно «из жизни» в своем материальном, реальном воплощении и воспалил писательское воображение.
Появление горьковского героя на сцене МХТ принципиально меняло представление зрителей о современном театре. Сцена оказывалась не только ареной соперничества различных позиций, этических взглядов, эстетических школ и направлений, она становилась митинговой трибуной, пространством напряженной идейной борьбы. В спектаклях по пьесам Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца», «Дачники», поставленных в МХТ и Театре В. Ф. Комиссаржевской, обнажались острота и непримиримость различных гражданских установок, утверждались новые отношения художника и публики, художника и театра, наконец — личности и общества, человека и государства.
Горький, с которым Шаляпин будет долгие годы связан узами искренней дружбы, к 1900-м годам определился как писатель, гражданин, политик и идеолог. Классовое «родство крови» для Горького — знак оправданных социальных претензий: «Права не дают — права берут!» Как слышно из многих его высказываний, превыше всего он ценил в человеке «общественное чувство» и, может быть, только для Шаляпина делал исключение: настолько бесспорен был его художественный гений. Впрочем, сам Горький часто бывал непоследователен в поступках и позднее во многих ситуациях использовал авторитет Шаляпина в собственных политических интересах.
…Большой театр — одно из красивейших зданий Москвы, а может быть, и России. Новый облик театр приобрел в 1856 году. Жестокий пожар, случившийся тремя годами раньше, уничтожил все внутренние помещения. Театр восстанавливал архитектор К. А. Кавос. Теперь только всемирно известный оперный театр «Ла Скала» в Милане располагал равными постановочными возможностями и масштабами сцены. В Большом театре глубина игрового пространства составляла 22,8 метра. Однако по высоте сцены и размерам пятиярусного зрительного зала — он вмещал более двух тысяч зрителей — у Большого театра в ту пору не было соперников. А созданная еще в 1776 году труппа сохраняла богатейшие исполнительские традиции и вырастила не одно поколение прекрасных артистов.
Хотя Москва начала XX века богата зрелищами для самых различных слоев горожан, Большой театр редко бывал неполным. Цены на билеты разные, от дорогих — в партер и ложи до вполне умеренных — на галерею. Потому публика собиралась в зале весьма пестрая: и привилегированная, аристократическая, чиновничья, и литературно-художественная, журналистская, и студенческая, гимназическая, и барская, купеческая, и мещанская, и разномастная прислуга. «На первых представлениях, — вспоминал В. А. Гиляровский, — партер занят поклонниками былого, оплакивавшими прошлую оперу, скорбящими об упадке настоящей, людьми недовольными, брюзгами. Верхи заняты наполовину истинными любителями — бедняками, наполовину непризнанными талантами, воспитанниками и воспитанницами вокально-музыкальных, драматических школ, заполнивших в последнее время глухие переулки Москвы. Публика лож — сбродная. Здесь складывались по полтине десять человек приказчиков, железнодорожных служащих, конторщиков и забивали ложу. Дамы сидели, кавалеры плотной стеной стояли сзади и потчевали дам яблоками, грушами, леденцами».
Москвичи горячо любили искусство, талантливого и заслуживающего благодарности артиста они щедро одаривали овациями, возгласами «браво!», «бис!», подчас даже забывая о собственной безопасности. Однажды, как рассказывал журнал «Театрал», на спектакле Большого театра из ложи третьего яруса вывалился в партер студент Московского университета некий В. Г. Михайловский и получил тяжелые увечья: возбужденный поклонник оперы взобрался на стул и, неистово аплодируя, потерял равновесие, за что и поплатился…
Приход Шаляпина на казенную сцену нарушил рутинную замшелость императорских театров 1890-х годов. Когда-то, в начале своей карьеры в Мариинском театре, молодой артист высказал неудовлетворенность сценическим костюмом и получил в ответ гневную и назидательную отповедь. Теперь, приехав в Петербург и увидев нелепый, как для выходов на костюмированный бал, пейзанский наряд Сусанина, Шаляпин потребовал подать ему мужицкий армяк и лапти. Гардеробщик, конечно, не ожидал такой решительности и испугался. «Я думаю, — вспоминал Шаляпин, — это был первый случай в императорских театрах, когда чиновник испугался актера. До сих пор актеры пугались чиновников. Гардеробщик, вероятно, доложил; вероятно, собрался совет — тяжелый случай нарушения субординации и порча казенного имущества. Костюма я дожидался долго, но дождался. Мне принесли темно-желтый армяк, лапти и онучи. Революция свершилась. На самой высокой баррикаде стоял костромской мужик Сусанин в настоящих лаптях».
Исторической и художественной подлинности, правды сценического воплощения в деталях и в целостном замысле требовал Шаляпин и от себя, и от своих партнеров. Пристальный интерес к русской истории, пробужденный беседами с Василием Осиповичем Ключевским, остался у певца на всю жизнь. В 1902 году Шаляпин просил ученого подарить ему курс университетских лекций и книгу «Боярская дума Древней Руси».
В. О. Ключевский довольно мрачно оценивал общественно-политическую ситуацию в России. В одном из черновых набросков 1886 года он от имени вымышленного лица рассуждал: «Здесь никто ничем не руководит, и никто не знает, что он делает и что выйдет из его деятельности: здесь всё только плывет по течению, направляемому какими-то стихийными силами, и никто не оглядывается на то, что было, не заглядывает в то, что будет… Здесь господствует странная мысль, что управление государственными делами избавляет от обязанностей знать их. Один сановник на мое замечание об этом наивно признался: „Зачем мне знать, что делать, когда я имею власть все сделать? Знать это нужно тому, у кого есть дела, но нет власти, — нужно крестьянину, купцу, моему приказчику, моему секретарю; а у меня ведь нет дел, а есть власть. Зачем мне знать, что делается, когда мне достаточно приказать, чтобы сделалось то, что я желаю?“ Согласитесь, что в стране, где все так рассуждают, может случиться многое, чего никто не ожидает».
Политическая атмосфера входила в сложную сопряженность с социально-экономическим развитием общества, с культурой и искусством, с духовной жизнью России. Расширяется пространство нравственного выбора человека, поле его жизнедеятельности. Раздвигаются границы общения с художественным миром, открываются новые возможности саморазвития личности. В 1904 году Савва Иванович Мамонтов в силу сложившихся обстоятельств отошел от театральных дел, но, остро чувствуя атмосферу нового времени, писал: «Сейчас мы в России переживаем знаменательную эпоху. Очевидно, мы накануне переоценки ценностей. Я сознаю, что будет, что должно быть, и готов переживать эту беспощадно надвигающуюся переоценку. Время чревато, а где и как остановится народившаяся реформа, никто сказать не может. А что она уже берет нас за горло, это не подлежит сомнению. Где и как, но время насилий и беспощадного уничтожения прежних прав, принципов должно сказаться в самой бесцеремонной форме. Я чувствую это всем своим существом. Уйти от этого? Куда? Нечего и думать и надо идти навстречу».
Художественная многокрасочность и духовная содержательность отличали в эти годы жизнь не только столиц — Петербурга и Москвы, но и всей российской провинции. Растет число антреприз, стремительно расширяется поле их деятельности. Театральными городами стали Казань, Самара, Саратов, Ярославль, Нижний Новгород, Астрахань, Воронеж, Курск, Орел, Ростов, южные города Тифлис, Одесса, Харьков, Киев, Таганрог, уральский Екатеринбург, сибирские Омск, Иркутск, Томск, Тюмень… Молодежь, студенчество часто находили в спектаклях повод для шумных манифестаций, а страницы местных газет становились полем для дискуссий самого разного содержания, например о значимости опереточного спектакля в общественной жизни и является ли смех зала, вызванный «Орфеем» или «Прекрасной Еленой», эмоциональным «выплеском», «выхлопом», смягчающим растущую социальную напряженность.
Конечно, уровень театральной жизни в провинции зависел от множества обстоятельств, от состава населения и платежеспособности публики, ее готовности тратиться на зрелища и развлечения. Не последнюю роль играла здесь и личная склонность губернатора (или губернаторши!) к культуртрегерству, земляческий патриотизм «отцов города» — промышленников, купцов, предпринимателей, меценатов, наконец представительство и авторитет местной интеллигенции. К тому же в пору интенсивной урбанизации начала века потоки публики резко сместились: пришлые мастеровые, крестьяне, обосновавшиеся в городе, меняли «культурный климат», вкусы и запросы, сословные соотношения аудитории. «Синтетическая» природа театра, его универсальный изобразительный язык объективно способствовали развитию массового искусства, заражали аудиторию эмоциями, игрой импровизаций, живым общением сцены и зала. В сознании театральных лидеров крепла вера в свою просветительскую миссию, убежденность в возможности идеалами добра и красоты воспитывать массы, влиять на них, управлять общественным настроением.
Однако сама массовая аудитория все энергичнее отметала опеку и высокомерную снисходительность признанных адептов культуры. В критических откликах и комментариях все чаще термины «публика», «зритель» заменяются определениями «толпа», «потребитель». «Народническое» умиление наивностью и непритязательностью «серой публики» сменяется плохо скрываемыми «наставниками» разочарованием, раздражением, за которыми просматриваются и обида, и горечь непонятости, и одновременно трезвое осознание того, что публика, как повзрослевший подросток, становится неуправляемой, игнорирует художественные авторитеты, требует «сделать ей весело и красиво». «Почтенная публика» превратилась в «неблагодарную». Известный критик П. Ярцев одну из своих статей в журнале «Артист» завершал гневной филиппикой: «Если и такой спектакль не будет благодарно принят залом, то какого же рожна еще надо публике?»
Деятельность множества частных трупп и антреприз — «народных», «любительских», «общедоступных», коммерческих — так или иначе подчинялась жесткому механизму рыночного спроса и предложения. Зритель активно вторгался в творческий процесс, влиял на него, придавал отношениям сцены и зала подвижность, гибкость, иногда обогащал, а иногда и упрощал спектакль конкретными сиюминутными реакциями. Он привносил в зал острую злободневность, «настроение момента». Театр же отражал психологию общества, он обретал новое художественное видение жизни глазами новых поколений, выявлял доминирующие в реальной современной жизни обстоятельства, характеры и типы.
Театры ставят социальные драмы Л. Н. Толстого, Г. Ибсена, М. Горького, Л. Н. Андреева, психологические пьесы А. П. Чехова, символистскую западную драматургию. Человек на сцене вступает в борьбу за существование по новым общественным законам, борется за свое достоинство, за признание своей личностной значимости. Зритель приходил в театр на встречу с любимыми актерами, провозглашал их «кумирами», «гениями», «корифеями», «глашатаями», «провозвестниками»; поклонение, доверие к ним было подчас безграничным, в зале возникали редкостное духовное единство, восторг солидарности, идейной сплоченности. Художник и создаваемый им образ оказались в сильной зависимости от социально-психологического воздействия времени. Если художник претендовал на заметное положение в обществе, он должен был отчетливо выразить свою гражданскую позицию, участвовать в решении проблем бытия современного человека. Личное и творческое существование художника, нередко помимо его воли и намерений, становились фактом жизни общественной, публичной.
Поиски новой сценической образности реализовывались Шаляпиным в сокрушении устоявшихся канонов и штампов, опровержении расхожих стереотипов, в осознании собственной индивидуальности и в смелых откровениях, в неожиданных экспериментах, сближении видов искусства и обретении синтетизма на сцене. И сам художник в процессе творческих исканий формировался как неповторимая индивидуальность, в которой его природный дар, житейское поведение, образ существования выступали в нерасторжимом единстве личностного, творческого, нравственного облика.
В этих сложных и противоречивых исканиях крепла сама натура артиста, крепла его уверенность в своих творческих поисках. «В Шаляпине было слишком много „богатырского размаха“, данного ему от природы», — писал И. А. Бунин. Достигнутое всеобщее признание, дружба с Горьким защищали Шаляпина от распространенного в России в те годы кризисного, «упадочного» мироощущения, заметно повлиявшего на часть интеллигенции.
Глава 2 НА ГРЕБНЕ УСПЕХА
Конец XIX века совпал с завершением очень важного этапа в жизненной и творческой биографии Федора Шаляпина. Общение с тифлисскими, петербургскими, московскими музыкантами и артистами, с С. И. Мамонтовым и его художественным окружением способствовало становлению мировосприятия артиста. Сценический успех в значительной мере обусловлен совместными усилиями талантливейших людей своего времени, сообщивших молодому певцу мощную энергию духовного, творческого и гражданского созревания. В профессиональной среде, в критике, в представлении публики певец становится безусловным художественным авторитетом, превосходящим, как считал В. В. Стасов, «громадным дарованием и правдивостью всех своих предшественников».
24 сентября 1899 года Шаляпин впервые вышел на сцену Большого театра.
«В зрительном зале чувствовался подъем, который не всегда бывает и на юбилейных чествованиях заслуженных артистов, — писала петербургская газета „Новости искусства“. — Едва Ф<едор> И<ванович>, исполнявший партию Мефистофеля в „Фаусте“, появился из подземелья, театр застонал от восторженных рукоплесканий, которые длились несколько минут… Публика была так настроена, что певец мог бы несколько раз повторять каждую фразу, если бы не новое правило, допускающее повторять только один раз. Голос артиста звучал в Большом театре еще лучше, чем в Солодовниковском театре, и ни акустика Большого театра, ни сильный оркестр не помешали г. Шаляпину проявить свое обычное мастерство, чудную фразировку, всю красоту его исключительного голоса. Шесть лавровых венков с надписями „славному“, „великому“, „гениальному“ артисту, „красе и гордости русской сцены“, цветочную лиру и щит с венком из золотых и серебряных цветов с выгравированной подписью: „Любовь наша будет тебе щитом, мечом же будет великий твой талант. Шире дорогу певцу-художнику!“».
Певец обсудил с В. А. Теляковским планы сезона. Предстояло сыграть Сусанина, Странника в «Рогнеде», князя Вязьминского в «Опричнике», Андрея в «Дубровском», Нилаканты в «Лакме», Дона Базилио в «Севильском цирюльнике», Галицкого в «Князе Игоре».
С нетерпением ждали выступления Шаляпина и в Мариинском театре: не в традициях было «выписывать» артистов в столицу — обычно из Петербурга российские знаменитости приезжали в Москву.
Итак, Федор Иванович Шаляпин вновь солист императорских театров. Теперь он получает широкие возможности для самостоятельного творчества.
Любимец московской публики тенор Леонид Витальевич Собинов теперь постоянный партнер Шаляпина. Он с радостью и вместе с тем с ревностью отмечает успех дебютанта. «Триумф был самый блестящий, — сообщает он в одном из писем. — Голос Федора звучит в нашем театре великолепно и кажется даже еще больше. Дирекция за Федором прямо ухаживает, а режиссерское правление готово на все уступки и, что называется, смотрит в глаза. Альтани так воодушевился, что вел оркестр неподражаемо».
А ведь Федору Шаляпину в эту пору всего 26 лет. Его приход на императорскую сцену воспринимался как триумфальное восхождение талантливого артиста на театральный олимп. В. А. Теляковский при встречах с певцом не уставал повторять: в Большом работать лучше, чем у Мамонтова. Артисты первоклассные: в оркестре чуть ли не сплошь преподаватели и профессора консерватории, дирижеры, хормейстеры, солисты — опытнейшие музыканты, декораторы, художники по костюмам — талантливейшие живописцы. Шаляпин, однако, оговорил возможность самостоятельного выбора ролей и свободу их интерпретации, настоял на обновлении декораций оперных спектаклей и обусловил право заказывать сценические костюмы сообразно своему вкусу и выбору. Он хорошо понимал: исключительное положение премьера позволяет диктовать условия. Но понял Шаляпин и другое: у Мамонтова он — Художник, Артист, в Большом театре он, как, впрочем, и сам Теляковский, его нынешний покровитель, прежде всего служащий, пусть даже столь высокого ведомства, как Министерство двора, и занимает положение в соответствии с принятой в императорском театре иерархией чинов и званий.
Бюрократия пронизывала Большой театр, напоминала о себе и в мелочах, и в главном — в творчестве. На первых порах Федор Иванович попытался противиться ей корпоративно: заметив, как чиновник распекал артистов по какому-то пустяку, он твердо посоветовал ему покинуть сцену, не мешать работать, а партнерам сказал: в театре администраторы должны играть роли ничтожные и незаметные, в случае надобности мы, артисты, сами придем в контору. Многим это понравилось, актерская братия, как показалось Шаляпину, распрямилась, сплотилась, стала жить дружнее, но вскоре все вернулось к прежнему. Самые же осторожные сотоварищи-партнеры засуетились: конечно, Шаляпин прав, но нельзя же все менять так резко и сразу.
Певец понял: труппа его не поддержит, но мириться с чиновничьим чванством и произволом не пожелал. Да, на придворной сцене нельзя служить только искусству и не служить императору… Однако как разрешить это противоречие? Только одним способом — противопоставить величию Короны величие дара Художника, достоинство Личности.
Два года в Мариинском театре и четыре сезона в мамонтовской труппе не прошли для Шаляпина даром. Теперь он не тот наивный восторженный юноша, поспешно заказавший визитные карточки «Солиста Императорского Мариинского театра». Он — Художник, природное обаяние сочетается в нем с приобретенным артистизмом, дарование — с опытом, юмор и непосредственность — с пониманием психологии человеческой натуры, доброжелательность — с осознанием своей творческой значимости. Он свободен в поступках, независим в оценках, умело входит в отношения с самыми разными людьми; соблюдая ранговые условности и оказываясь подчас в сложных житейских коллизиях, владеет ситуацией все-таки он, Шаляпин.
В императорском театре певца поняли и оценили не сразу, подчас ему приходилось балансировать на острие традиционных церемониальных приличий и ритуалов, и тут уж чиновникам предлагалось выбирать: считать ли поведение артиста «дерзкой выходкой», «наглым вызовом», предполагающим немедленные административные санкции, или смириться и лишь пожурить за неуместную «шутку гения». Но кто кому нужнее: Шаляпин императорскому театру или театр Шаляпину, кто от кого теперь больше зависит?
И в общественном мнении, и в сознании коллег, и в семье Шаляпин утверждал себя таким, каким хотел, чтобы его видели и принимали. Пусть публика — начиная с балкона и до царской ложи — критика, артисты, музыканты, чиновники решают, считаться с ним или не считаться. Конечно, Шаляпин высоко оценил возможности императорской сцены и готов принять на себя связанные с этим обязательства, но в определенных пределах: он знал и по собственному опыту, и по опыту других: в искусстве, в творчестве компромисс опасен!
Однако посмотрим на ситуацию и с другой, «официальной» стороны: сознавало ли Министерство императорского двора, артиста какого масштаба приглашало в Большой театр и какие обязательства, какую ответственность за его судьбу тем самым на себя принимало? Среди «высших лиц» это понимал, пожалуй, только один — Владимир Аркадьевич Теляковский. Сохранение Шаляпина на императорской сцене было для него делом личной и профессиональной чести. Он гордился своей миссией и справедливо видел в ее выполнении собственную значимость. Теляковский специально приехал из Москвы в Петербург на представление «Фауста» в Мариинском театре, принимал заслуженные приветствия и поздравления, комментируя их: «Вы нам сами отпустили (в 1896 году. — В. Д.) в Москву Шаляпина за ненадобностью, мы же вам за большой в нем надобностью отпускать будем представления на два-три не больше». Вот, мол, вам, министерским канцеляристам, петербургским снобам, шпилька — где ваша проницательность, чутье, художественный вкус?
Масла в огонь подливают критики. Зигфрид (Э. А. Старк) радуется и сокрушается одновременно:
«Восхищаясь голосом Шаляпина, наслаждаясь его великолепной игрой, приходится горько пожалеть, что в свое время у нас в Петербурге не сумели разглядеть этот великолепный талант и, поставив его в благоприятные условия для своего развития, привязать его к себе и сделать его впоследствии своей гордостью. Теперь мы обречены на редкое созерцание г. Шаляпина, да и то не всегда, в удачном репертуаре. Поневоле только остается завидовать Москве…»
И вот министр двора барон В. Б. Фредерикс приватно советуется с Теляковским: не перевести ли все же Шаляпина в Петербург, в Мариинский театр, ближе к императорской резиденции? В новый контракт, который Шаляпин подпишет в 1902 году, вносится специальный пункт: регулярные выступления артиста в Петербурге.
Для процветания отечественного театра В. А. Теляковский делал очень много. В 1900-х годах на императорскую оперную сцену вступают выдающиеся артисты: Л. В. Собинов, А. В. Нежданова, В. Р. Петров, Г. С. Пирогов, И. А. Алчевский, Е. Н. Збруева, А. П. Боначич. Изумительный художественный ансамбль складывался в спектаклях, оформленных К. А. Коровиным, А. Я. Головиным, А. М. Васнецовым, В. А. Серовым и музыкально руководимых С. В. Рахманиновым. «Дай Бог, чтобы этот талантливый капельмейстер утвердился бы в театре, — записал Теляковский в своем дневнике 7 сентября 1904 года. — Это важное и интересное приобретение».
Среди мотивов, по которым композитор согласился на уговоры Теляковского и встал за пульт, было не только его намерение усовершенствовать дирижерскую технику, но и горячее желание работать вместе с Шаляпиным.
Рахманинов и Шаляпин встретились в пору, драматичную для композитора. Только что провалилась в Петербурге, в Дворянском собрании, Первая симфония. Рахманинов подавлен, он не мог сочинять, и именно в этот тяжелый момент руку помощи ему протянул Савва Иванович. «Что могло быть более желанным, чем приглашение Мамонтова? — вспоминал композитор. — Я чувствовал, что способен дирижировать, хотя и имел весьма туманное представление о технике дирижерства. Мамонтов был рожден режиссером, и этим, вероятно, объясняется, почему его главный интерес сосредоточился на сцене, декорациях, на художественной постановке. Он высказал себя в этой области настоящим мастером».
Дебют Рахманинова-дирижера в «Самсоне и Далиле» отметили «Русское слово», «Русские ведомости», «Московский листок». «Газеты все меня хвалят. Я мало верю», — писал Рахманинов в Петербург друзьям. За первыми спектаклями последовали «Русалка», «Кармен», «Рогнеда», «Аскольдова могила», «Майская ночь». Быстро освоив технические навыки управления оркестром, Рахманинов теперь и сам оценивал себя иначе. «Дирижерский рубикон я перешел, — сообщал он в письме, — и мне теперь нужно только безусловное внимание и подчинение себе оркестра, чего я как второй дирижер никогда от них не дождусь». Последнее обстоятельство вскоре и обусловило переход Рахманинова в Большой театр.
В Частной опере Рахманинов познакомился с интереснейшими людьми, с которыми он, в силу замкнутого образа жизни, мог и не встретиться: с художниками Коровиным, Врубелем, Серовым, с прекрасными артистами — Н. И. Забелой-Врубель, Е. И. Цветковой.
«Предлагая мне место дирижера в своей опере, — вспоминал много лет спустя Сергей Васильевич, — Мамонтов сказал, что пригласил в труппу молодого певца, обладающего беспредельным талантом, с которым, он был уверен, мне будет приятно работать. Такая оценка ничуть не оказалась преувеличенной: это был Федор Шаляпин. Это было время, когда Шаляпин создавал своего Бориса Годунова, своего Ивана Грозного и другие роли, которыми он завоевал мир. В эти дни возникла моя дружба, которая, к моему счастью, связывает меня с этим великим человеком и по сей день».
Шаляпин и Рахманинов часто выступали вместе в симфонических и камерных концертах, в оперных спектаклях. Композитор посвятил певцу свои романсы «Судьба», «В душе у каждого из нас…», «Воскрешение Лазаря», «Ты знал его», «Оброчник». Однажды Рахманинов слушал в исполнении Шаляпина «Судьбу» и был потрясен: схватился за голову, воскликнул: «Неужели это я написал?!»
В первые же дни нового сезона в оркестровых репетициях Сергея Васильевича Рахманинова Шаляпин сразу ощутил иную творческую атмосферу. Они были ровесниками и сразу почувствовали взаимное расположение.
«Рахманинов был в то же время одним из немногих чудесных дирижеров, которых я в жизни встречал, — писал Шаляпин. — С Рахманиновым за дирижерским пультом певец мог быть совершенно спокоен. Дух произведения будет проявлен им с тонким совершенством, а если нужно задержание или пауза, то будет это тоже в йоту… Когда Рахманинов сидит за фортепиано и аккомпанирует, то приходится говорить: „Не я пою, а мы поем“».
Дружба была искренней и взаимной, сохранилась до последних дней жизни Шаляпина: Рахманинов пережил его на пять лет. Оба чрезвычайно ценили природный музыкальный гений друг друга, мастерство, высочайший художественный вкус. В начале 1900-х годов пути Шаляпина и Рахманинова пересекались, они часто выступали в концертных программах пианиста и дирижера Александра Ильича Зилоти.
В 1903 году Зилоти открывает в петербургском Дворянском собрании цикл абонементных концертов. Заручившись материальной поддержкой владельцев русско-американской компании Г. Гейзе, М. Нейшнеллера и Г. Гильзе, субсидировавших на первых порах концерты, Зилоти становится пропагандистом лучших произведений западноевропейских и отечественных композиторов.
Александр Ильич Зилоти (1863–1945) — пианист, дирижер, ученик Ф. Листа и Н. Г. Рубинштейна — видел свое основное призвание в широкой популяризации серьезной музыки, стремился воспитать вкус широкой публики на лучших художественных образцах. Концерты Зилоти привлекали музыкантов. Леонид Собинов даже отказался от вознаграждения за участие в них. Шаляпин, которому Дирекцией императорских театров (с 1901 года он поет в московском Большом театре) запрещено где-либо выступать без санкций начальства, оговорил в контракте исключительное право петь в концертах Зилоти. Певца привлекали нетрадиционный репертуар, возможность петь ранее не исполнявшиеся произведения, а Зилоти, включая в программу Шаляпина, приучал публику к современной музыке. «…идя только слушать Шаляпина, толпа, его слушая, услышит кантату Рахманинова и Вагнера; вот эта-то самая толпа, пустая толпа, уйдет из концерта больше образованной, чем шла на концерт», — полагал он.
Концерт 15 ноября 1903 года остался памятен для современников. Рахманинов исполнял малоизвестный петербуржцам Второй концерт для фортепиано с оркестром. «Уже при всем эстетическом великолепии гениальной темы Второго концерта, — писал об этом произведении Б. В. Асафьев, — в ней слышится встревоженность начала века, полная грозовых предчувствий».
В этот день в Петербурге началось сильное наводнение. С моря подул шквальный ветер, полил дождь, в реках и каналах поднялась вода, на центральных улицах всплыли торцовые мостовые, потоки воды несли к тротуарам деревянные бруски и мусор. Хотя из-за разведенных невских мостов не все любители музыки смогли приехать на концерт, толпа плотно окружила подъезд Дворянского собрания.
«Страшная давка, — вспоминал скульптор И. Я. Гинцбург. — Все спешат, торопятся услышать давно обещанный концерт знаменитого певца Шаляпина. Вместе с толпой я проталкиваюсь в ярко освещенный зал. Он ослепил меня… Это уже не те люди, которых я сегодня видел на улицах. Всё утихает, когда певец начинает. Он поет божественно хорошо. Все притаив дыхание его слушают. Настроение растет. Точно огромная река несется. Оно все поднимается и поднимается. Точно река вышла из берегов, все затопила. Звуками весь зал переполняется… Страшный взрыв аплодисментов. Крик. Стон».
Профессиональное и дружеское сотрудничество с Рахманиновым значило очень много для Шаляпина. Его раздражало непонимание дирижерами самой природы оперного искусства — и в Мариинском театре, и у Мамонтова, и в разных антрепризах, где он время от времени выступал, а теперь вот и в Большом театре. Шаляпин предъявлял музыкантам высокие требования, но им проще было объявить их «капризами премьера», чем пойти навстречу певцу. Рахманинов же понимал и приветствовал шаляпинские нововведения, сам он никогда не относился к оперной партитуре формально. Как дирижер он требовал от оркестрантов соблюдения авторских темпов, ритмов, но при этом как бы заново открывал замысел композитора, его интонационную палитру. В интерпретации Рахманинова «запетые» оперы обретали одухотворенность, свежесть чувства, живость непосредственно возникающей по ходу исполнения глубокой эмоциональности, настроения.
Рахманинов ввел строгую дисциплину в Большом театре — не только на сцене, в оркестре, но и в зрительном зале. Он отменил бисирование сцен и арий — это разрушало логику сценического развития спектакля, его художественную целостность. Оркестрантам запрещалось покидать свои места во время длительных пауз, читать, отвлекаться на посторонние занятия. Поведение Рахманинова многих в труппе насторожило. Дирижер показался сухим, строгим, высокомерным. Послышался ропот: «Рахманинов всех разругал», «на всех сердится», «сказал, что петь никто не умеет», «посоветовал снова поступить в консерваторию». Лед недоверия растаял на первых репетициях, совместное творчество с выдающимся музыкантом доставляло артистам истинное наслаждение.
С приходом Рахманинова художественная культура спектаклей резко возросла. «В оркестровом исполнении Большого театра сразу повеяло новым духом… свежестью и бодростью, ярко обозначился живой и богатый темперамент дирижера», — писал рецензент.
Отношения Федора с новыми партнерами складывались по-разному. Профессиональный уровень труппы Большого театра в целом был, безусловно, высоким, однако человеческие, личные связи установились далеко не сразу, да и не со всеми. 3 сентября 1904 года Шаляпин из Петербурга писал Иоле с досадой: «Была репетиция „Бориса“, и я увидел на репетиции, что артисты не симпатизируют мне и здесь тоже. О зависть, зависть, она не дает никому спать, мне кажется. Когда я показал Шуйскому, как нужно воплощать этот персонаж, остальные артисты говорили между собой: „Шаляпин приехал сюда, чтобы давать нам уроки“. Какие дураки!! Мне, естественно, ничего не говорят, так как, наверное, боятся. Все ничтожные выскочки, когда никто не видит».
Шаляпин прав: у одних он вызывал жгучую зависть, другие его побаивались, зная, что он не прощает ошибок, неряшливости, халтуры, третьи прикрывали собственную творческую несостоятельность «принципиальными» соображениями, раздувая миф о «несносном» характере певца. Но были в театре и артисты, ценившие и редкий дар Шаляпина, и его незаурядную личность. А совместная работа с Рахманиновым, Собиновым, Салиной, Неждановой обогащала Федора Ивановича, давала импульс его собственным художественным исканиям.
Пройдя школу Усатова, Дальского, Юрьева, Мамонтова, тесно общаясь с писателями и художниками, Шаляпин приобрел тонкий эстетический вкус. Он остро чувствовал исполнительскую фальшь, не принимал пошлой цветистой красивости. Как часто Федору не хватало понимания со стороны коллег — артистов, музыкантов! Нередко случались стычки с капельмейстерами В. И. Суком, У. И. Авранеком, Ф. М. Блюменфельдом, не желавшими поначалу считаться с требованиями Шаляпина. Один дирижер вспоминал такой разговор с певцом:
— Ты, Федя, часто сердишься на нас за то, что мы недодерживаем или передерживаем твои паузы. А как же угадать длительность этих пауз?
— Очень просто, — отвечал Шаляпин, — переживи их со мной — и попадешь в точку.
На генеральной репетиции оперы Ц. А. Кюи «Анджело» тенор С. Г. Трезвинский никак не мог выйти на сцену в нужное время. Федор Иванович трижды повторял эпизод и, наконец, с досадой воскликнул:
— Неужели так трудно вовремя быть на сцене, где я столько раз падаю с одинаковой точностью?
Друг Шаляпина тенор А. М. Давыдов слегка сфальшивил в партии Шуйского в «Борисе Годунове». Шаляпин царственно встряхнул Давыдова — Шуйского могучими руками за ворот боярского кафтана:
— Чтоб было в последний раз, иначе я тебя, Саша, просто-напросто изувечу!
На сцене Нового театра Шаляпин репетировал оперу Рахманинова «Алеко». В перерыве Федор Иванович сел на бутафорский бочонок, собрал оркестрантов и продирижировал арию Алеко «Весь табор спит». Певец указывал вступления инструментам, объяснял характер тембрового и интонационного звучания, он выразительно «выпевал» свою вокальную партию и партии всех инструментов оркестра! «Судите же сами, — вспоминал актер М. Ф. Ленин, — как отзывалась в душе этого гения, обладавшего к тому же абсолютным слухом, малейшая неточность в оркестре. После этого дирижирования оркестранты, всегда очень скупые на одобрения, устроили Ф. И. Шаляпину искреннейшую бурную овацию».
Дружеские отношения и творческое взаимопонимание сложились у Шаляпина с премьером Большого театра лирическим тенором Леонидом Витальевичем Собиновым. «Бремя славы» тот нес легко, слыл хорошим товарищем, добрым партнером и отзывчивым человеком. Недоброжелателям не удавалось поссорить артистов, хотя стремительного возвышения Шаляпина Собинов не мог не замечать: публика с подачи репортеров бурно обсуждает гонорары премьеров. Даже доброжелательный к обоим Стасов не удержался от того, чтобы не сообщить в одном из писем: Шаляпину-то назначено за концерт в Павловске 1300 рублей, а Собинову — лишь 700.
Для петербуржца отправиться в Павловск на концерт — праздничный ритуал. В Павловском вокзале в симфонических концертах выступали прославленные музыканты. На Царскосельском вокзале слушатели приобретали билеты на поезд и на концерт одновременно. Поезд подвозил публику к зданию, в котором располагался большой концертный зал. Капельдинеры в железнодорожной форме проверяли билеты, продавали программки, при этом пристально осматривали входящих: «простонародная публика» в платках и сапогах не допускалась.
Атмосферу концертов красочно воссоздал Осип Мандельштам: «В Павловск, как в некий Эллизий, стремился попасть весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались патриотической увертюрой „1812 год“, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз, и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы».
Павловские концерты славились высоким уровнем исполнения. С 1891 года постоянным дирижером этих концертов стал профессор Петербургской консерватории Н. В. Галкин. «Галкин надевает фрак, палочка сверкает в воздухе, и все равно, идет ли снег, гремит ли гром, ездят ли на санях, — летний сезон считался открытым», — писала «Петербургская газета».
Павловск в июльские дни — любимое место петербуржцев. «К сожалению, — писал обозреватель „Биржевых новостей“, — последовало распоряжение властей о недопущении автомобилей в прекрасный местный парк, очень соблазняющий своими аллеями любителей этого спорта. Публики масса, между которой в счастливом положении оказался тот, кто приехал пораньше и занял киоски и затем довольно равнодушно поглядывал на безместных, подолгу жаждавших кофе и простокваши… На террасе столики ресторана заняты исключительно петербуржцами, приехавшими взять воздуха, но не утратившими способность в поисках его отходить далее пяти сажен от буфета…» По окончании концерта все присутствующие в парке любовались фейерверком, осветившим вечернее небо.
В Павловске Шаляпина и Собинова принимали триумфально.
«Что это был за рев — не поддается описанию, — сообщал в письме композитор Ц. А. Кюи. — И трудно решить, кто кого победил: если Собинову было сделано несколько подношений, то Шаляпину играли туш». А. К. Глазунов после другого «дуэтного» концерта полагал, что публика была невнимательна к интересно составленной оркестровой программе прежде всего потому, что была занята только «нетерпеливым ожиданием обещанных Шаляпина и Собинова».
Во время отъезда артистов перрон Павловского вокзала заполнили элегантно одетые растроганные поклонники. Поезд тронулся, Шаляпин помахал шляпой. Какой-то студент поднял старую перчатку и закричал: «Господа! Федор Иванович забыл перчатку!» Любители сувениров, не поняв шутки, вмиг разорвали перчатку на мелкие кусочки.
В 1901 году веселый карикатурист журнала «Развлечение» как-то изобразил Шаляпина волом, а Собинова — мухой. Артисты возмутились. «Не знаю, право, может, это и смешно, — обратился Шаляпин к журналистам, — но для меня это и печально, так как подобного рода карикатуры могут породить между мной и моим товарищем неприязненное отношение, что мне крайне нежелательно». «Карикатура, оскорбляющая меня, роняет еще в глазах публики мои добрые отношения с Федором Ивановичем Шаляпиным, которыми я очень дорожу…» — заявил Л. В. Собинов.
В декабре 1902 года в купе поезда Москва — Петербург ехали в столицу едва ли не самые большие артистические знаменитости России — «чародей звука» Леонид Собинов, любимец публики, знаменитый тенор, и его коллега по Большому театру «царь-бас» Федор Шаляпин. Их вызвала телеграммой премьерша Александрийского театра Мария Гавриловна Савина, основательница Русского театрального общества, для участия в благотворительном концерте.
В пути Собинов и Шаляпин обменивались впечатлениями на разные темы, беседа затянулась далеко за полночь. «Федор был именно такой, каким я его больше всего люблю, простой, душевный, без всякого ломанья. Говорили о всякой злобе последних дней… потом он мне рассказывал историю своей карьеры, своего артистического развития, которое началось с перехода его в Мамонтовскую оперу», — вспоминал Собинов.
В Петербурге на перроне Николаевского вокзала Шаляпина, Собинова, а также ехавших с ними в одном поезде премьерш Малого театра М. Н. Ермолову и Г. Н. Федотову встречала Савина с шумной актерской свитой и толпой возбужденных поклонников. Сразу же все отправились в Мариинский театр на репетицию. Собинов отметил: Шаляпин в Петербурге проще, скромнее, чем в Москве.
Артисты остановились в меблированных комнатах Мухиной на Большой Морской. Окнами номер выходил на набережную Мойки, до поздней ночи слышалась зажигательная музыка румынского оркестра: внизу, на первом этаже, помещался любимый петербургской богемой ресторан Кюба.
Вечером в Мариинском театре идет «Русалка»: Шаляпин — Мельник, Собинов — Князь. Цены, как тогда писали в афишах, «возвышенные», но сборы полные. Организаторы благотворительного спектакля в пользу Русского театрального общества остались довольны.
Дружба Шаляпина с Собиновым была искренней и даже нежной. Слава первого тенора России велика, но Собинов нес ее бремя легко, всегда оставаясь добрым и верным товарищем. В творчестве они были соратниками, энергично поддерживали друг друга, но даже большим художественным натурам чувство ревности к успеху было свойственно. Однажды после бурных оваций Шаляпину в «Демоне» Собинов — он исполнял в спектакле роль Синодала — с обидой сказал Шаляпину:
— Знаешь, Федя, пел бы ты лучше всю оперу один.
— Не огорчайся, Леня, славы хватит и на двоих, — великодушно утешил партнера Шаляпин.
Между тем Шаляпин чувствует растущий интерес публики к себе как к камерному певцу, да и его самого увлекают выразительные возможности концертного исполнительства. Вместе с С. В. Рахманиновым, А. И. Зилоти, А. Н. Корещенко, М. А. Слоновым певец готовит серьезные программы. Концерты становятся для него не менее важными, чем сценические работы. «У него нет предшественников, — писал А. В. Амфитеатров после концерта Шаляпина в Павловском вокзале 4 июля 1901 года. — Будут ли последователи?.. Да! Большой человек наш милый Федор Иванович с его светлым талантом, так родственным Пушкину, Глинке и Моцарту, с его изумительным даром не только чаровать, но и мыслить звуками. Голосов на свете много хороших, есть басы даже и на петербургских сценах, голосовой материал которых может быть разделен с избытком на нескольких Шаляпиных. Но ведь в том-то и суть, что, идя слушать Шаляпина, вы даже и не вспомните, что идете слушать „баса“, Вам нужен Шаляпин. Вам нужна его способность петь не более или менее звучные ноты в установленном партитурой порядке, а нужен именно необычайный дар мыслить звуками, который так ново и чудно открылся певцам с появлением на сцене этого странного человека».
Лето 1901 года выдалось в Москве жарким. Публики мало, концерты и спектакли идут в полупустых залах. Воздух отдает дымом: в окрестностях бушуют лесные пожары. 7 июля начинаются спектакли с участием Шаляпина в летнем театре «Эрмитаж». Газеты отмечают успех артиста в «Русалке», в «Моцарте и Сальери», в «Паяцах», но даже Шаляпину в такую жару не всегда удается собрать аншлаг.
Вслед за певцом в «Эрмитаже» выступает Мамонт Дальский. Набранная по случаю драматическая труппа слаба, ансамбля нет и в помине. Спасает положение «коронный» репертуар Дальского — «Разбойники», «Рюи Блаз», «Без вины виноватые», «Гамлет», «Кин, или Гений и беспутство», «Уриель Акоста».
Московская публика любит Дальского, ей близки его романтический пафос, эмоциональность, темперамент. Шаляпин и Дальский теперь соперники-конкуренты. «Беспутный Кин» — Дальский болезненно относится к лаврам Шаляпина, своего недавнего ученика, особенно когда их пути пересекаются на театральных подмостках. Уязвленность Дальского заметна многим. Собинов сообщает в одном из писем: «Часто заходит ко мне Дальский, рассказывает очень много о своих успехах… Зависть к теперешнему положению Шаляпина играет в его рассказах первую роль». Федор же по-королевски щедр и снисходителен к слабостям своего наставника, вечерами их видят у «Яра», в «Стрельне».
Поклонники не знают удержу. «Музыкально-театральный современник» пишет после симфонического концерта 13 июля 1901 года в московских «Сокольниках» с участием Шаляпина:
«В диком, необузданном выражении своих восторгов публика побила рекорд… Стулья ломались в настоящем смысле слова. В конце концов сам артист обратился к слушателям с довольно-таки саркастической речью, в которой отказался от дальнейших бисов, обещая в будущий раз спеть побольше, и, кроме того, советовал „стульев не ломать, а лучше разойтись“ („…хотя вы и так уж слишком разошлись“, — прибавил г. Шаляпин не особенно любезно)».
Глава 3 ГРАЖДАНИН МИРА
Известность Шаляпина выходит за пределы России. В мае 1900 года певец получает телеграмму из Италии, от генерального директора миланского театра «Ла Скала» с просьбой выступить в опере Арриго Бойто «Мефистофель».
Федор поначалу принял приглашение за розыгрыш. Иола отнеслась к делу серьезнее и оказалась права: дирекция Ла Скала подтвердила свое намерение.
Шаляпин растерялся: петь в Италии — «стране музыки», — да еще по-итальянски и в малоизвестной опере… «Двое суток провел я в волнении, не спал и не ел, додумался до чего-то, посмотрел клавир оперы Бойто и нашел, что его Мефистофель по голосу мне. Но и это не внушило мне уверенности, и я послал телеграмму в Милан, назначая 15 000 франков за десять спектаклей, в тайной надежде, что дирекция театра не согласится на это».
Дирекция, однако, согласилась с поставленным условием, и отступать было некуда…
Шаляпин кинулся за советом к Рахманинову. Чтобы серьезно подготовиться к выступлениям в Ла Скала, решили летом выехать вместе в Италию. «Я буду заниматься там музыкой, а в свободное время помогу тебе разучивать оперу», — сказал Сергей Васильевич.
Предложение миланского театра таило для Шаляпина немалый риск: 32 года назад на той же сцене опера Арриго Бойто провалилась, хотя и ставилась прекрасной труппой под руководством тогда еще молодого автора. В 1886 году в Ла Скала решили «реабилитировать» оперу и ее создателя, но и тогда публика осталась равнодушной. Теперь делалась третья попытка восстановить репутацию композитора и его давнего сочинения — уже с помощью российского гастролера.
Между тем Шаляпину опера Бойто знакома. Еще в 1895 году, вскоре после дебютов в Мариинском театре, Федор подготовил к показу Э. Ф. Направнику партию Мефистофеля. Видимо, прослушивание оказалось удачным, и у дирижера возникло серьезное намерение поставить спектакль на Мариинской сцене, о чем в свое время и сообщали газеты, но Шаляпин тогда уже перебрался в Москву.
Разумеется, Рахманинов понимал всю значимость дебюта Шаляпина в Ла Скала. В середине мая Федор с семьей отправляется в Италию: сначала в Милан, потом на морское побережье близ Генуи, в небольшое местечко Варацци. Туда же приезжает и Рахманинов.
Алессандро Бончи и Ф. И. Шаляпин в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник». Карикатура Э. Карузо
Все складывается замечательно: чудная погода, вилла на морском побережье, тенистый сад, тишина, покой… Но тихая курортная жизнь не по нутру Федору, через несколько дней он «срывается» в Милан, встречается с Леонидом Собиновым, а узнав, что на Всемирной выставке концертирует его старый друг Василий Андреев с русским народным оркестром, мчится в Париж.
Как некогда в Петербурге, В. В. Андреев и в Париже опекает Шаляпина, вводит его в аристократические музыкальные салоны, Федор выступает на вечере газеты «Фигаро», на приеме у княгини М. К. Тенишевой, супруги главного комиссара Русского отдела Всемирной выставки князя В. Н. Тенишева. Рахманинов терпеливо ждет возвращения певца. «Застрял в Париже, — сетует он в письме. — Постреливает оттуда редкими телеграммами, в которых о своем приезде говорит как-то неопределенно. С его приездом мне будет, конечно, веселее».
В начале июля Шаляпин наконец вернулся в Варацци. Занятия итальянским языком и музыкой шли успешно. Убедившись в этом, Федор вновь затосковал по многоцветью светской жизни; уединение наскучило артисту, и он снова спешит в Париж!..
Право же, крайности больших артистических натур подчас сходятся и, во всяком случае, не мешают дружбе даже тогда, когда тяготеют к разному стилю и образу жизни. «Уезжаю отсюда (не хочу скрывать) с большим удовольствием, — пишет Рахманинов друзьям. — Мне скучно без русских и России… Ни в Париж, ни в Обераммергау я не поеду».
Теперь друзья встретятся уже в Москве — до начала выступлений в Милане еще полгода. На сцене Шаляпину сопутствует успех, но многое в Большом театре его нервирует, да и сам он нередко раздражает труппу. Высказывает свои претензии певцу и критика: Н. Д. Кашкин не принимает Сусанина, Ю. Д. Энгелю не нравится Мельник: в сцене с Наташей исполнитель впадает в «какую-то плаксивую расслабленность». В театре недовольны отказами Шаляпина петь запланированные спектакли под предлогом недомогания, усталости. Насторожился и Теляковский — его любимец и протеже почти откровенно манкирует службой: сославшись на больное горло, отказался участвовать в «Фаусте», поставленном в афишу, между прочим, по просьбам великих княгинь, и тем не менее не отказывает себе в прогулках среди оживленных его появлением москвичей по многолюдному Кузнецкому Мосту! Куда это годится? Надежда только на актерское тщеславие: Шаляпин полагал, что спектакль отменят по причине его нездоровья, ан нет — Теляковский вызвал С. Г. Власова, который — к досаде Федора Ивановича — к тому же хорошо был принят публикой!
Конфликты замыкаются на Теляковском: он вынужден принимать рапорты и донесения чиновников, выслушивать жалобы артистов, упреки в снисхождении и покровительстве Шаляпину. Да, все так, но ведь Шаляпин «не бас, а гений»! И Владимир Аркадьевич готов мириться с житейскими мелочами ради главного. «Шаляпин вообще представляет из себя довольно сложный тип и требует особого обхождения, — размышляет Теляковский на страницах своего дневника. — Как нервный человек, когда его рассердят, он сам не знает — что говорит и что делает. Это человек порыва, и с этим надо считаться».
…Между тем подготовка к выступлениям в Милане идет тщательная и серьезная. Шаляпин продолжает работать с Рахманиновым над партией Мефистофеля, Александр Головин создает эскизы костюма.
Опера Арриго Бойто давала певцу редкую возможность переосмыслить традиционный, обросший исполнительскими штампами сценический образ, придать ему новую силу современного художественного обобщения. Артист не приемлет шаблонные краски Мефистофеля, известного публике по спектаклям «Фауста» Ш. Гуно, отказывается от привычного костюма средневекового кавалера. Его Мефистофель появится на сцене полуобнаженным, главной динамичной деталью одежды будет плащ.
Когда-то скульптор М. М. Антокольский писал В. В. Стасову:
«Я не сделаю Мефистофеля одетым: во-первых, костюм уже опошлил бы эту замечательную „фигуру-драму“, да притом у него костюм также сузил бы идею… Раз Мефистофель есть идея, нечто общечеловеческое, то он, конечно, не может принадлежать ни к какой расе, ни к какому времени… Мефистофель есть продукт всех времен и нашего в особенности…»
Сравним высказывание скульптора с замыслом артиста.
«Мне кажется, — пишет Шаляпин, — что в приближении этой фигуры, не связанной ни с каким бытом, ни с какой реальной средой или обстановкой, фигуры вполне абстрактной, математической, — единственно подходящим средством выражения является скульптура. Никакие краски костюма, никакие пятна грима в отдельности не могут в данном случае заменить остроты и таинственного холода голой скульптурной линии. Элемент скульптуры вообще присущ театру, он есть во всяком жесте, — но в роли Мефистофеля скульптура в чистом виде прямая необходимость и первооснова. Мефистофеля я вижу без бутафории и без костюма. Это острые кости в беспрестанном действии».
Итак, во второй половине февраля 1901 года Федор вместе с Иолой прибывают в Милан. Театр поразил Шаляпина величественностью зала, масштабами сцены, прекрасной акустикой: в прошлом в здании была церковь Мадонны делла Скала. Дирижер Артуро Тосканини, подтянутый, непроницаемый маэстро тридцати с небольшим лет, после краткой беседы пригласил певцов в небольшое фойе, украшенное старинными портретами. Началась репетиция. Солисты — среди них выдающийся тенор Энрико Карузо, ему поручена партия Фауста — пели вполголоса. Тосканини делал краткие замечания и наконец обратился к Шаляпину:
— Синьор! Вы так и намерены петь оперу, как поете ее теперь? Я не имел чести быть в России и слышать вас там, я не знаю ваш голос. Будьте любезны петь так, как на спектакле.
Шаляпин запел в полный голос, дирижер сохранял невозмутимость.
Следующее утро началось с пролога. Репетиция шла под фортепиано, за инструментом сидел Тосканини. Когда певец закончил, дирижер сделал паузу, чуть склонил голову набок и слегка хриплым голосом сказал:
— Браво.
«Это прозвучало неожиданно и точно выстрел. Сначала я даже не понял, что это относится ко мне, но, так как пел один я, приходилось принять одобрение на свой счет. Очень обрадованный, я продолжал петь с большим подъемом, но Тосканини не сказал мне ни слова более».
Одобрение Тосканини стало известно директору, он любезно приветствовал Шаляпина, сообщил о предстоящих репетициях на сцене и предложил померить костюм.
— Костюмы я привез с собою.
— Ага, так! А вы видели когда-нибудь эту оперу? — с намеком поинтересовался директор.
— Нет, не видел.
— Какие же у вас костюмы? У нас, видите ли, существует известная традиция. Мне хотелось бы заранее видеть, как вы будете одеты.
— В прологе я думаю изобразить Мефистофеля полуголым…
— Как? — испуганно переспросил директор. — Но послушайте, ведь это едва ли возможно…
Дирекция встревожилась. Тосканини на репетициях показал Шаляпину, как следует двигаться по сцене, какие принимать «зловещие» позы. На вопрос, почему то или иное движение, жест здесь необходимы, Тосканини категорично отвечал:
— Потому что это настоящая дьявольская поза.
Опровергнуть такой аргумент было трудно…
Близилась генеральная репетиция, Милан полнился невероятными слухами о ближайшей премьере. Влас Дорошевич, присланный в Милан газетой «Россия» освещать события, передал Шаляпину ободряющую записку: «Все идет превосходно. Весь театр по сумасшедшим ценам распродан… Артисты — я наводил справки — говорят, что очень хорошо. Да что артисты! Хористы — разве есть судьи строже? — хористы, и притом хористы-басы, отзываются с восторгом. В „галерее“ только и разговоров что о синьоре Шаляпино».
На генеральной репетиции Шаляпин вышел загримированным и одетым в свой костюм. Изумленные артисты, музыканты, рабочие сцены окружили его, восторженно галдели, щупали плащ, трогали нарисованные на руках мускулы. После пролога Шаляпин спросил Тосканини, принимает ли он такое сценическое решение. Неожиданно отбросив непроницаемость, дирижер открыто улыбнулся и, похлопав Шаляпина по плечу, ответил:
— Не будем больше говорить об этом.
3 (16) марта 1901 года в Ла Скала состоялась премьера.
«При гробовом молчании начался пролог, — вспоминал певец, — и вот, вопреки всем традициям итальянского театра, в котором не аплодируют до конца акта, в середине пролога грянул такой гром аплодисментов, какого я никогда не слышал, да, вероятно, и не услышу… Я сам не ожидал такого успеха, и когда после спектакля я, лежа в кровати, переживал впечатления дня, я представлялся себе самому каким-то Ганнибалом или Суворовым, с той только разницею, что я переехал Альпы в вагоне железной дороги…»
…Пройдет время, Шаляпин привыкнет к овациям и восторгам европейской публики. Но этот первый триумф воспринимался певцом — да и не только им, а и многими современниками — как огромная победа русского оперного искусства, доселе неизвестного на Западе. Радость успеха делил с Шаляпиным журналист Влас Дорошевич. Его красочное описание событий поместила газета «Россия» 14 марта 1902 года.
Фельетону «Шаляпин в Scala» в качестве эпиграфа предпослана фраза:
«— Да чего вы так волнуетесь? Выписывать русского певца в Италию! Да ведь это все равно, что к вам стали бы ввозить пшеницу!»
Бессмыслица, нелепость! Дорошевич описывает, как на премьере абсурд обернулся триумфом:
«…Мефистофель кончил пролог. Тосканини идет дальше.
Но громовые аккорды оркестра потонули в рёве:
— Скиаляпино!..
Театр ревет. Машут платками, афишами.
Все побеждено, все сломано.
Публика бесновалась. Что наши тощие и жалкие вопли шаляпинисток перед этой бурей, перед этим ураганом восторженной, пришедшей в экстаз итальянской толпы! Унылый свет призрачного солнца сквозь кислый туман по сравнению с горячим, жгучим полуденным солнцем.
Я оглянулся. В ложах всё повскакало с мест. Кричало, вопило, махало платками. Партер ревел.
Можно было ждать успеха. Но такого восторга, такой овации…
…Победа русского артиста над итальянской публикой действительно — победа полная, блестящая, небывалая…»
Анджело Мазини, которого Шаляпин считал образцом оперного артиста, приветствовал русского гастролера у себя дома:
— Браво, дважды браво! В России меня так любят, что, когда я приезжаю туда, я чувствую себя королем! Можете себе представить, как мне приятно видеть ваш заслуженный успех! Аплодируя вам, я делал это действительно от души, как бы благодаря Россию в вашем лице за то, что она дала мне!
Спустя несколько дней Анджело Мазини посылает в газету «Новое время» письмо: «Глубокое впечатление, произведенное Шаляпиным, вполне понятно. Это и прекрасный певец, и превосходный актер, а вдобавок у него прямо дантовское произношение. Удивительное явление в артисте, для которого итальянский язык не родной».
«Слава Богу, сражение выиграно блестяще, — пишет Шаляпин в Москву. — Имею колоссальный успех, он идет даже crescendo. Итальянские артисты были и есть злы на меня, но я им натянул порядочный нос».
Десять контрактных спектаклей не удовлетворили миланскую публику. Пришлось показать еще один, дополнительный. Перед отъездом артист дает прощальный банкет. Вдогонку ему летит письмо дирекции с просьбой не принимать никаких предложений из Италии, кроме как от театра «Ла Скала»: театр хочет сохранить у себя в стране монополию на выступления Шаляпина.
Журналисты описывают триумф Шаляпина, пытаются постичь «феномен артиста». Он реформатор. Он создает свою школу. У него нет предшественников. Будут ли последователи?
Помимо грандиозного успеха в прессе обсуждался инцидент артиста с итальянской клакой. Первым о нем поведал, видимо со слов Шаляпина, Дорошевич в своем фельетоне. Шеф клаки вызвался за вознаграждение организовать успех, взбешенный артист пожаловался в дирекцию и распорядился прогнать незваных визитеров: «Я никогда аплодисментов не покупал и покупать не буду!» На премьере ждали скандала, но клакеры, покоренные искусством певца, забыли об обиде и устроили ему горячую овацию.
Спустя полвека красивая история обросла подробностями в воспоминаниях болгарского певца Петра Райчева, встречавшегося и с «главным клакером» Маринетти, и с самим Федором Ивановичем. По свидетельству Райчева, Шаляпин согласился выплатить клакерам требуемую сумму, но с условием:
— Мы поднимем здесь шум, чтобы в коридоре собралось побольше народу, а затем я выброшу вас из комнаты одного за другим и спущу с лестницы.
Впрочем, история с клакой — всего лишь «экзотическая» краска итальянского быта. Главное в другом: Шаляпин «пробил окно в Европу» русскому музыкальному искусству. «Запишем эту дату золотыми буквами: в субботний вечер 16 марта 1901 года, после пятнадцати лет забвения (не будем говорить — остракизма), на сцене театра „Ла Скала“ вновь появился „Мефистофель“ Бойто — этот все отрицающий дух, сын мрака, — писала 21 марта 1901 года итальянская „Gazzetta Musicale di Milano“. — Новым для „Ла Скала“ и для всей Италии был русский бас Шаляпин».
В Россию певец вернулся «со щитом». Растущая слава доставляет немало забот. Чтобы обезопасить себя от церемониальных встреч, шумных приветственных манифестаций, Шаляпин намеренно приезжает в Москву на день раньше объявленного в газетах срока.
— А скажи, пожалуйста, — домогаются приятели во время шумного застолья, — чем, собственно, ты тогда в Милане ужег итальянцев: голосом или игрой?
— Ужег я их, — с расстановкой и совершенно серьезно объявил Шаляпин, — игрой. Голосом итальянцев не удивишь, голоса они слыхали, а вот игрой-то я их, значит, и ужег…
Теперь итальянская публика хочет видеть Шаляпина и в других спектаклях. В 1904 году певец приглашен поставить «Фауста» и спеть уже другого Мефистофеля — Шарля Гуно. О каких-либо рекомендациях и советах речи нет: всё на усмотрение Шаляпина. Правда, без накладок все-таки не обошлось: когда декораторам Миланской оперы предложили копировать эскизы художника Константина Коровина, они оскорбились, угрожали покинуть театр и тем сильно напугали дирекцию.
«Пришлось петь в „конфектах“. — Так Шаляпин назвал декорации итальянцев в письме Теляковскому. — Но если бы Вы и милый Саша Головин посмотрели на сцену, каким резким пятном осталась бы в Вашей памяти моя фигура, одетая положительно в блестящий костюм. Как глубоко благодарен я и Вам и моему симпатичному и любимому Александру Яковлевичу Головину (автору эскиза костюма. — В. Д.). Мне страшно досадно, что я не мог показать здесь публике нашего милого Костю (Коровина. — В. Д.), а как бы было бы нужно, как нужно!!!»
…Как-то во время выступлений в Париже к Шаляпину пришел директор театра «Ла Скала» Мингарди и предложил ему поставить в Милане «Бориса Годунова». После некоторых раздумий — опера должна была идти с итальянской труппой и на итальянском языке — Шаляпин согласился. Театр сразу же заказал перевод партий на итальянский язык, а А. Я. Головин вскоре приступил к работе над оформлением.
Спектакль имел неслыханный успех.
«Я считаю, что в современном русском искусстве никто ни в одной области не сделал и десятой доли того, что молодой Шаляпин в своем творчестве 1895–1905 годов, — писал А. В. Амфитеатров. — И когда он результаты этого творчества перенес в Париж и Милан, Европа ахнула и перед величьем артиста, и перед грандиозностью искусства, которое он в нее принес и ей объяснил. „Борис Годунов“ в Милане — великое дело Шаляпина, которое не забудется в истории русской музыки».
Мир интересует Шаляпина не только как пространство гастролей, но и как обычного любопытствующего туриста, жаждущего экзотических впечатлений, — ничто человеческое ему не чуждо…
В феврале 1903 года Шаляпин отправляется в морское путешествие. Спустя несколько лет, в 1914 году, Н. А. Соколов выпустил иллюстрированную книгу «Путешествие Шаляпина в Африку». Книгу открывал снимок: Шаляпин в смокинге, широкополой шляпе и папиросой в зубах верхом на украшенном кистями и попоной верблюде, рядом — белозубо улыбающийся араб-проводник в длинном белом халате и белой феске.
…Отплытие из Одессы парохода с коротким, но значимым именем «Царь», назначенное на десять часов утра, задерживалось: один из пассажиров известил по телефону о своем опоздании. Однако этот факт никого не возмутил, но даже наоборот, привнес приподнятость и волнение: разнесся слух, что сейчас прибудет сам Шаляпин. А вот и в самом деле он, одетый в длинный чапан, похожий на поповскую рясу, меховую шапку, высокие сапоги, сумрачно отвечает на приветствия. Капитан тут же дает команду отдать концы, оглушительный свисток — «Царь», солидно развернувшись, берет курс на Константинополь…
Трехдневная стоянка. Шаляпин не спеша осматривает город. В русской поддевке и широкополой шляпе, с толстой суковатой палкой, он привлекал к себе внимание — турки принимали Федора Ивановича за русского казака.
Среди толпы предлагающих услуги гидов разного ранга — назойливых оборванцев и полных достоинства солидных господ — Шаляпин, возглавивший немногочисленную группу путешествующих соотечественников, выбрал в гиды наиболее представительного Мустафу: тот свободно говорил по-русски, знал, чем поразить воображение туристов. Таинственные закоулки легендарного Царьграда, Галатская башня, Сераль, древние мечети… Мустафа не забыл о шикарном кафешантане и лучшей в городе бане, которые, однако, оставили путешественников равнодушными. К тому же в кафешантане узнали Шаляпина, раздались крики «браво!», «просим!» — и Федор Иванович поспешил ретироваться. Впрочем, перед отъездом из Константинополя Шаляпин принял приглашение выступить в одном частном доме. Под аккомпанемент своего друга композитора и пианиста Михаила Акимовича Слонова он пел русские песни.
Совместное многодневное путешествие сблизило пассажиров. Расстояние между «знаменитостью» и «публикой» сократилось. Увидев у одной из дам пьесу «На дне», Шаляпин прочел ее вслух, закончив чтение песней «Солнце всходит и заходит». Вечером, после отплытия из Смирны, состоялся давно ожидаемый мореплавателями концерт. Благодарная публика почти по-родственному расточала восторги и комплименты. А ночью, когда слушатели разошлись по каютам, среди морских просторов с капитанского мостика разнеслась ария Демона:
На воздушном океане, Без руля и без ветрил Тихо плавают в тумане Хоры стройные светил…Помолчав, артист сказал стоявшему у штурвала вахтенному офицеру: «Да! Во что бы то ни стало я должен спеть „Демона“».
Утром пароход стоял в Пирее, Шаляпин с новыми друзьями осматривал Афины. Следующий день был посвящен Александрии, а оттуда поездом Шаляпин отправился в Каир. Сопровождавший Шаляпина Михаил Слонов, страстный любитель-фотограф, привез в Москву множество фотографий: Шаляпин на улицах, в отеле, среди пирамид, у Ассуанской плотины на Ниле, в пустыне на верблюде…
Еще в конце XIX века художник М. В. Нестеров прозорливо предсказывал: «Для меня ясно, что мы, русские… должны войти в Европу, заставить уважать себя… Когда и кто на себя возьмет трудную задачу… Заставит увидеть искусство русских, как заставили уважать нашу литературу, — покажет время».
Эту миссию взял на себя Сергей Павлович Дягилев.
Осенью 1906 года европейская публика заново открывала для себя русскую жизнь. Знакомство с восточным соседом стало для Европы поистине откровением. Париж, а затем Лондон, Берлин, Монте-Карло воочию увидели произведения русских художников на выставках, организованных Сергеем Павловичем Дягилевым. Оценив возрастающий интерес западной публики к отечественной культуре, он начал проводить в Париже и Лондоне ежегодные Русские сезоны за границей.
Сергей Павлович Дягилев (1872–1929), издатель журнала «Мир искусства», обладал редким художественным вкусом и недюжинным организаторским талантом. К выступлениям в Русских сезонах он привлек звезд балета — А. Павлову, Т. Карсавину, М. Фокина, В. Нижинского, дирижеров и композиторов А. Никиша, Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова, С. Рахманинова. Участие в спектаклях и концертах Шаляпина открыло европейской публике творения Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина. Постановочная культура «Псковитянки» (опера шла под названием «Иван Грозный»), «Бориса Годунова», высокий исполнительский уровень, декорационное оформление, костюмы, ансамблевое единство труппы — все это создавало выступлениям огромный успех.
В «Борисе Годунове» режиссер А. А. Санин выстроил впечатляющие, красочные мизансцены, включив в драматическое движение массу статистов. Подлинные вещи и аксессуары привнесли в спектакль дыхание времени. Даже парча, из которой шили костюмы бояр и самого Бориса, была подлинной. Обстановка, предметная среда создавались кропотливо, поистине с музейной тщательностью. Коронационное облачение Бориса Годунова, украшенное драгоценными камнями, весило 27 килограммов. Исторической достоверности способствовали старинные часы с курантами, под их бой Шаляпин произносил речитативы.
Подготовка спектакля требовала огромного напряжения, полной самоотдачи. Накануне премьеры Шаляпин запаниковал, Дягилеву и Бенуа стоило больших усилий помочь артисту преодолеть страх и мнимое недомогание. Певца мучила навязчивая мысль: он забудет текст. На всякий случай перед артистом положили раскрытый том Пушкина, заслонив его от зала декоративной грудой книг.
А. Н. Бенуа вспоминал:
«О, это были незабываемые дни, — и мы, все участники торжества, отлично чувствовали, что переживаем поистине исторический момент… у нас… было полное ощущение колоссальной победы, победы, которой мы главным образом обязаны Федору. О да, весь спектакль был прекрасен. Декорации, писанные по эскизам Головина, Юона и моим, удались на славу и создавали надлежащую атмосферу… Но, разумеется, надо всем этим орлиным полетом парила гениальность нашего „главного актера“, и она-то и давала тон всему, от нее и шло все настроение… И до чего же он был предельно великолепен, до чего исполнен трагической стихии! Какую жуть вызвало его появление, облаченного в порфиру, среди заседания боярской думы в полном трансе безумного ужаса. И сколько благородства и истинной царственности он проявил в сцене с сыном в „Тереме“! И как чудесно скорбно Федор Иванович произносил предсмертные слова „Я царь еще…“, Шаляпин переживал как раз тогда кульминационный момент расцвета своего таланта».
«Уведомляю: Альпы перешли. Париж покорен», — телеграфировал Шаляпин своему другу художнику П. П. Щербову. Победа была очевидна: президент Франции К. Фальер подписал декрет о пожаловании артисту звания кавалера ордена Почетного легиона…
Александр Бенуа, безусловно, прав — Шаляпин этой поры в расцвете своих артистических возможностей. Повлияло ли всеобщее поклонение, признание на его собственное мироощущение? Было бы странно, если бы этого не произошло. Шаляпин начинает ощущать себя «полномочным представителем» отечественного искусства в европейском и даже в мировом культурном пространстве и, что чрезвычайно важно, осознает всю ответственность своей миссии.
Шаляпин становится «гражданином мира», он свободно перемещается по планете, границы стран и континентов для него условны, прозрачны: его гений покоряет Европу, Азию, Северную и Южную Америку. Из Лондона в июле 1905 года Шаляпин, не скрывая торжества, писал Иоле: «Леди Грей… сказала мне вчера, что Королева Англии хочет меня слушать у себя во дворце».
В июне 1908 года Шаляпин отправляется в Аргентину. Впечатления от Южной Америки отраднее, чем от Северной: «Жизнь здесь веселее, легче, праздничнее, все напоминает милую Европу». Шаляпин выступал на открытии грандиозного театра «Колон» в Буэнос-Айресе в партиях Лепорелло, Дона Базилио и Мефистофеля. Его партнер — знаменитый Титта Руффо. Газеты и журналы полны подробностей о триумфах артистов. В альбоме «Императорский Мариинский и Большой театр — сезон 1907–1908 года» — портреты Шаляпина в жизни, в ролях, громогласные подписи: «Федор Шаляпин — король басов. По таланту равных ему нет. Властелин сцены — он покоряет публику всего мира». В Петербурге выходит монография П. М. Сивкова «Ф. И. Шаляпин».
В Оранже, в открытом театре, Рауль Гинсбург ставил «Троянцев» Г. Берлиоза и «Мефистофеля» А. Бойто. В синеве неба горели яркие звезды. Восемь тысяч зрителей располагались на шестидесяти каменных рядах громадного древнего амфитеатра. В нише полуразвалившейся стены возникал Шаляпин — Мефистофель. Ночные птицы, пролетая в лучах театральных прожекторов и прячась в каменные расщелины, издавали какие-то хриплые вздохи. «Шаляпин, который имел уже блестящий успех в Милане, Париже, Лондоне, на днях отличился вовсю в римском Theatre Antigue, — сообщала газета „Новое время“. — Французская критика называет его исполнение „поразительным“, его голос „громовым“, его пение „в высшей степени выразительным“, а игру „оригинальною и эффектною“».
А Леониду Андрееву Шаляпин пишет в мае 1909 года:
«О себе скажу: занятие мое веселое — знай себе пой — вот и пою — однако все же и веселье надоедает, а я мечтаю о том, как буду через месяц-полтора ловить рыбу у себя в деревне. Вчера пел Ивана Грозного в первый раз. Слава Богу, французам нравится, и спектакль прошел с огромным успехом и для меня, и для моих товарищей».
Во всех странах Шаляпина встречают как звезду мирового масштаба. Покорен экспансивный Милан, Гранд-опера в Париже ломится от публики, театр «Колон» в Буэнос-Айресе, Метрополитен-опера в Нью-Йорке дают рекордные сборы, критика не находит слов для выражения восторга.
Что изменилось в Шаляпине с осознанием себя «гражданином мира»? Многое. Общественное мнение признало за ним право диктовать свои условия в искусстве. Для него как художника это главное. Теперь в Ла Скала от него не требуют предварительных показов. А. В. Амфитеатров пишет М. Горькому из Милана:
«Слушали вчера одну из репетиций „Бориса“… Работает Федор великолепно и строго. Школит итальянцев. Надо им отдать справедливость, что слушаются и стараются… Итальянцы очарованно говорили, что на оперной сцене подобного исполнения никогда не имели, а в драме, кроме Сальвини и кроме покойника Росси, соперников у Федора нет».
Но все ли видят в Шаляпине «гражданина мира»? Отнюдь нет. Артиста сильно раздражают бюрократические препоны, цензурные придирки, необходимость подавать на усмотрение чиновников разного рода просьбы — об организации концертов, о получении паспорта и прочем. Он же намерен петь где хочет и кому хочет — в столичных театрах, в великосветских салонах, в цирке для рабочих, в общедоступных концертах А. И. Зилоти.
Чем увлекает Шаляпина жизнь артиста? Что волнует его более всего? Об этом он пишет в своем пылком обращении к европейской публике в парижской газете «Matin» 6 мая 1908 года, в день представления «Бориса Годунова». «Цветы моей родины» — это не только призыв к духовной свободе, не только признание любви к России, это признание в любви к соотечественникам-художникам, создающим русское искусство, и прежде всего — к М. Горькому.
«Может быть, мой тон покажется вам чересчур странным и приподнятым, но, патриот, я люблю свою родину, не Россию кваса и самовара, а ту страну великого народа, в которой, как в плохо обработанном саду, стольким цветам так и не суждено было распуститься.
У меня перед глазами афиша „Бориса Годунова“. На ней я читаю славное имя Мусоргского, того самого композитора, который в период создания своего шедевра жил грошовыми подачками от бюрократов и умер в больнице. Это было в 1881 году».
Конечно, статья написана под влиянием идей Максима Горького. Дружба с ним, начавшаяся в 1901 году, многое определила в жизни и мироощущении артиста.
Глава 4 МОСКОВСКИЙ ДОМ
В один из зимних дней 1900 года к Шаляпиным, в дом 9 по Большому Чернышевскому переулку, пришли поздравить именинника Серов, Коровин, Ключевский, Рахманинов… Звучали тосты за здоровье хозяина и Иолы Игнатьевны. Скоро должен был родиться еще один ребенок, и Шаляпин просил Рахманинова стать крестным отцом. Сергей Васильевич согласился, но с условием: если это будет девочка, назвать ее Ириной. 10 февраля Ирина появилась на свет, а 23-го ее крестили в Вознесенской церкви, что на Большой Никитской. Здесь же через 20 лет состоится и ее венчание…
В доме певца побывали отец, Иван Яковлевич Шаляпин, и брат Василий, однако прижиться в Москве им оказалось непросто. Василий (1886–1915) был музыкально одаренным юношей, Федор Иванович пытался учить его музыке, просил Рахманинова пристроить в Синодальное училище, помогал деньгами, но близости между братьями так и не возникло.
В 1997 году в Нью-Йорке вышла книга Лидии Федоровны Шаляпиной «Глазами дочери». Со слов матери, Иолы Игнатьевны, она пишет, как однажды Федор Иванович взял брата в гастрольную поездку; в Монте-Карло он и Иола наблюдали в казино за лихой карточной игрой Василия, «который стоял во фраке за игорным столом и бросал на зеленое сукно золотые монеты с таким видом, как будто золота у него куры не клевали». «Отец многое старался сделать для брата, но, к сожалению, впустую. Дядя Вася абсолютно ничем не интересовался и ничем не хотел заниматься. У него был прекрасный голос — тенор, удивительное чувство музыки и фразировки. Отец был уверен, что из него может получиться хороший певец, и предлагал ему помощь на этом поприще, но напрасно».
Пьянство погубило Василия, свидетельствует Лидия Федоровна, он часто пропадал из дома, а однажды украл деньги. «И дядя Вася у нас больше не появлялся. Он уехал в Вятку и там женился на какой-то женщине, гораздо старше его, но с кое-каким достатком… Все же каким-то образом он сдал экзамены на фельдшера и во время Первой мировой войны работал в военном госпитале в Вятке. Вскоре, сравнительно молодым, он умер от сыпного тифа».
В июне 1901 года Иван Яковлевич вызвал старшего сына — проститься. Федор Иванович поехал в деревню Сырцово, застал отца при смерти, в грязной избе. Он перевез Ивана Яковлевича в земскую больницу. Врач заверил: положение «не так серьезно — старик еще поживет». На другой день Шаляпин уехал и уже в Москве получил телеграмму о смерти отца…
Федор Иванович помнил свое детство. Ему хотелось избавить детей от житейских забот. Семья растет, певец решает переехать в просторную квартиру, в Леонтьевский переулок. Шаляпины поселяются в доме 24, принадлежащем некоему А. Катыку. Дом примечательный: здесь у своих друзей Гучковых-Зилоти, родственников С. В. Рахманинова, останавливалась В. Ф. Комиссаржевская. Одно время в доме жил Чехов и сообщал знакомым адрес: Леонтьевский переулок, дом Катыка, — «это там, где живет знаменитый Шаляпин».
Рахманинов некоторое время также проживал по соседству, в доме 22, принадлежащем тому же владельцу, но затем с молодой женой поселится на Воздвиженке, 11. Скоро появится на свет старшая дочь Рахманиновых, названная, как и дочь Шаляпиных, Ириной. Сергей Васильевич много работает: сочиняет, готовится к концертам, компаний в доме не собирает, но у Шаляпиных бывать любит. Друзьям здесь всегда рады, хотя пробиться сквозь заслон поклонников и нежданных визитеров бывает нелегко.
Степан Скиталец вспоминал, как ему удалось сквозь толпу протиснуться к подъезду шаляпинского дома и позвонить в колокольчик. Дверь полуоткрылась, оказалась на цепи. В щель просунулся здоровенный кулак «длиннобородого Иоанна», слуги Шаляпина. Узнав Скитальца, страж порядка впустил гостя в переднюю и, осадив толпу назойливых поклонников певца могучим окриком, захлопнул дверь:
— Уж вы извините, я по привычке и не посмотрел, кто идет, а прямо кулак выставил. Иначе нельзя — лезут! И ведь какие нахалы! Мы, говорят, друзья Федора, да мы с ним на «ты», как смеешь не пускать?
— Зачем же их привалило столько?
— Да за билетиками же даровыми!
Немало «ходоков» с многочисленными просьбами дать благотворительный концерт в пользу разных действующих и сомнительных сообществ, с приглашениями на всевозможные «общественные акции» и прочее и, конечно, множество рекламных агентов. Посыльный известной табачной фабрики принес Шаляпину письмо предприимчивого владельца С. Габая:
«Милостивый Государь!
Побывав несколько раз у Вас на квартире, мы, к крайнему сожалению, не могли переговорить с Вами лично, а посему принуждены, извиняясь в причиняемом беспокойстве, изложить Вам письменно нашу покорнейшую к Вам просьбу: не откажите в любезности разрешить нам выпустить папиросы с Вашей фамилией „Шаляпинские“. Желая сделать это ко дню Вашего бенефиса, мы были бы Вам очень благодарны, если бы Вы прислали нам Ваше разрешение по возможности скоро, так как могут явиться между нашими конкурентами подражатели и ввиду предстоящих для этого дела затрат на ярлыки и проч. Убедительно просим Вас предоставить право это исключительно нашей фирме».
Папиросник С. Габай не зря спешил, опасаясь конкуренции: его опередил представитель парфюмерной фирмы «Брокар и К°»:
«Глубокоуважаемый Федор Иванович! С Вашего разрешения мы выпускаем в продажу новые духи, посвященные Вашему имени, образцы которых мы почтительнейше просим Вас принять, как дань нашего глубокого к Вам уважения и почитания Вашего таланта. Надеемся также, что Вы соблаговолите нам дать Ваше позволение и на публикацию в газетах о выходе в свет означенных, посвященных Вам духов».
Надо полагать, разрешение было получено, потому что вскоре и папиросы, и духи «Шаляпинские» появились в продаже.
Да только ли папиросы? Витрины и прилавки украшают «шаляпинские» конфеты, шоколад, гребенки, одеколоны, а на Выставке российского общества канароводства выставлена в качестве экспоната канарейка «Шаляпин»…
30 августа 1901 года Иола Игнатьевна родила дочь — ее нарекут Лидией. Шаляпин — любящий отец. Особая гордость — сын. Летом 1903 года в семью пришло горе — первенец Игорь умер от аппендицита. Квартиру в Леонтьевском переулке решено было покинуть: слишком многое напоминало о потере. Семья переехала в тихий и зеленый район — в 3-й Зачатьевский переулок, рядом с Остоженкой. Двухэтажный особняк примыкал к ограде Зачатьевского девичьего монастыря, основанного еще в начале XVII века при царе Михаиле Федоровиче.
Спустя десятилетие после описываемых событий в 3-м Зачатьевском переулке (может быть, даже в том же доме) поселится Анна Ахматова. В стихотворении, посвященном этому уголку Москвы, она напишет:
Тянет свежесть с Москва-реки, В окнах теплятся огоньки. Как по левой руке — пустырь, А по правой руке — монастырь… А напротив — высокий клен Ночью слушает долгий стон. Покосился гнилой фонарь — С колокольни идет звонарь…Удаленный от шумной Тверской улицы район облюбовали многие художники, музыканты, артисты. В Ваганьковском переулке неподалеку от Волхонки поселился Иван Михайлович Москвин, известный актер Художественного театра, любитель шумных застолий и розыгрышей; на Никитском бульваре живет примадонна Большого театра, несравненная Антонина Васильевна Нежданова, партнерша Шаляпина по многим спектаклям. В Большом Знаменском переулке в двухэтажном домике обосновался Валентин Серов, к нему нередко захаживает Шаляпин. Окна квартиры выходят в большой сад, Серов иногда внезапно останавливается и подолгу задумчиво смотрит на каркающих ворон — он любит их рисовать.
22 сентября 1904 года у Шаляпиных родился сын Борис, в будущем известный художник. Счастливый отец нес по широкой лестнице Иолу Игнатьевну, одетую в белое, воздушное, украшенное кружевами и лентами платье…
Растущая семья и жизнь на широкую ногу требовали немалых средств. Шаляпин много гастролирует; его письма полны любви, тревоги, заботы. «Не знаю почему, — пишет он Иоле, — но ничего меня не интересует, и я жду с восторгом дня, когда смогу увидеть тебя и целовать без конца».
И все же частые расставания раздражают обоих, Федор становится подозрительным, жестким. В 1902 году он в Олеизе навещает Горького.
«Написать твоему мужу, что его любишь, у тебя нет полчаса времени? — возмущенно обращается он к Иоле. — Черт побери! Чем ты занимаешься? Скажи мне, пожалуйста, хотя бы как поживают наши дети, если ты ничего не хочешь писать о себе… Извини меня, но мне так плохо, когда я думаю о тебе, я так переживаю из-за твоего молчания… Я не могу ни работать, ни заняться чем-нибудь другим. Я готов рыдать…»
Письмо из Екатеринослава (май 1903 года):
«Дорогая моя Иолинушка! Если бы ты могла знать, как я страдаю без моей дорогой семьи, как я скучаю, абсолютно не знаю, что делать, и думаю только о том, чтобы возможно скорее прошло это нудное время, считаю дни… О, как я хочу прижать тебя к моему сердцу, обнять тебя, целовать тебя без конца, моя обожаемая женушка. О, как я люблю тебя, милая Иоле, как обожаю, я бы хотел, чтобы ты вот так любила бы и меня, и я был бы счастливейшим человеком! Много поцелуев тебе, моя милая, и моим крошкам, также твоей маме».
В 1904 году тон писем меняется — наступает скучная пора выяснения отношений. Федор приревновал Иолу к ее давнему знакомому, с которым она неожиданно встретилась и в приливе чувств расцеловалась:
«Случай с твоим старым приятелем в Неаполе ясно показывает, что Федя не отвечает твоим требованиям (о себе Шаляпин пишет в третьем лице. — В. Д.). Давно я уже замечаю, что чувства твои ко мне погасли, и мне кажется, что этим ты тяготишься… Но так как у нас есть дети, ты ради них приносишь себя в жертву и, конечно, этого не говоришь и даже стараешься, может быть, этого не показать, но едва ли я ошибусь, если скажу, что все это несомненно так!»
Ревность мучает обоих, упреки чередуются с признаниями в любви, из которых, впрочем, следует, что и у Иолы Игнатьевны могли быть к мужу свои претензии. «Милая моя, хорошая, несравненная Иолочка! — пишет Шаляпин. — Мне было крайне тяжело сейчас уезжать от тебя, потому что я видел, что ты, провожая меня, осталась взволнованной, думая, что я уехал от тебя в ненавистный тебе Кисловодск не только для пения, а еще и с другими намерениями, то есть чтобы подурить с женщинами и, может быть, тебе изменить. Спешу поэтому предупредить тебя, что эти времена, когда я дурачился, прошли. И я уверяю тебя, моя милая, что этого больше не повторится. Верь мне, что я тебя люблю, искренно, хорошо, спокойно, как несравненную женщину и мать дорогих моих деток, и никогда в жизни не променяю тебя ни на кого…»
«Боже мой! — восклицает Шаляпин в письме из Лондона. — Неужели ты, Иолинка, продолжаешь думать еще до сих пор, что я что-то сделал тебе скверное и что я в самом деле сошел с ума хотя бы от какой-то шансонетной певицы… Все-таки напрасно ты думаешь, Иолинка, что я тебя могу променять на всякую putank’y. Клянусь тебе, что это заставляет меня немного страдать. Конечно, у меня скверный характер, и я могу тебя ругать, но все же я тебя люблю больше всех на свете и знаю, и верю, и ценю, что ты мой самый истинный друг».
Здесь примечательны интонационные оттенки — «немного (!) страдать» — и заверения в истинной дружбе (а не в любви!).
Но вот письмо из Монте-Карло от 12 марта (27 февраля) 1905 года:
«Ах, Jole, Jole, если бы ты была умнее, мы могли бы быть очень счастливы. Если бы я получил от тебя письмо, где увидел бы хоть одно теплое слово или какое-нибудь объяснение, я бы тебе писал как всегда и ты бы не удивлялась бы тому, что от меня нет писем… Я думаю, что лучше меня тебе найти кого-нибудь будет трудно. Будь здорова и не поминай меня лихом…»
Скажем прямо, Шаляпин выбрал не лучшее время для выяснения отношений: Иола Игнатьевна на третьем месяце беременности. В день отправления цитируемого письма он поет в «Мефистофеле», спустя неделю — в «Фаусте», в конце марта оказывается в Париже. По свидетельству одного из современников, «он привел всех в телячий восторг. Дамы сошли с ума».
В Москву Федор Иванович вернулся в начале мая, а 23 сентября 1905 года Иола Игнатьевна родила близнецов — Федора и Татьяну.
Шаляпин много концертирует, в Петербурге участвует в церемонии открытия памятника Глинке напротив Мариинского театра, опять уезжает в Монте-Карло, поет в «Мефистофеле» в театре «Казино» со своей давней партнершей Линой Кавальери (злые языки уверяли, что у Шаляпина роман с итальянской певицей), в апреле 1906 года возвращается в Россию, в июне — июле отдыхает в Германии, в Эмсе, в августе — сентябре — в Петербурге, в новом летнем театре «Олимпия», поет в «Мефистофеле» и «Фаусте», встречается со Стасовым.
Вспоминая в письме брату прекрасный вечер 3 сентября 1906 года с участием Шаляпина и Горького, Владимир Васильевич, как мы помним, сообщал «о нынешней пассии» Шаляпина Марии Валентиновне Петцольд: «…она решительно всем вчера понравилась. И красота, и простота, и любезность, и приветливость». Красивая, умная женщина неотразимого обаяния не оставила равнодушным тогда и Горького. «Великое счастье, что рядом с ним (Шаляпиным. — В. Д.) такая умная и спокойная женщина, как Мария Валентиновна, — вот чудесная фигура и милый товарищ!» — пишет Алексей Максимович Екатерине Павловне Пешковой.
Мария Валентиновна Петцольд происходила из многодетной семьи помощника управляющего государственным имуществом Казанской губернии Валентина Фридриховича Элухена. Выходец из Лифляндской губернии, он окончил Лесной институт в Петербурге, получил назначение в Казань, дослужился до статского советника и за усердие был вместе с детьми пожалован дворянством. В семье ценили культуру, образование. Мария и ее сестры окончили Мариинскую женскую гимназию, часто посещали концерты, спектакли, Казанское общество изящных искусств.
Первый муж Марии Валентиновны Артур Фердинанд Эдуард Петцольд — сын Оскара Петцольда, богатого предпринимателя, владельца пивоварни, содержателя манежа, сада «Аркадия» и летнего театра. Молодой Петцольд не стал продолжателем дел отца. Поступив на физико-математический факультет Казанского университета, он увлекся либеральными идеями и был отчислен за участие в беспорядках, вступил в социал-демократическую партию. В 1904 году Петцольд скоропостижно скончался, оставив на руках Марии Валентиновны двух младенцев — сына Эдуарда Оскара и дочь Стеллу Беатрису.
Трудно сказать, был ли этот брак счастливым. Бытовала семейная легенда: еще гимназисткой Мария Валентиновна заявила, что выйдет замуж только за известного промышленника Савву Морозова или за знаменитого певца Федора Шаляпина. Решительная гимназистка, как мы видим, на ветер слов не бросала.
После смерти мужа Мария Валентиновна приезжает в Москву, к сестре Терезе — она замужем за Константином Капитоновичем Ушковым, владельцем чайной фирмы «Губкин, Кузнецов и Кº» и одновременно одним из директоров правления Московского филармонического общества. Здесь Мария Валентиновна вскоре знакомится с Федором Ивановичем Шаляпиным…
Мучительно переживала случившееся Иола Игнатьевна, еще до объяснения с мужем посвященная знакомыми в его тайну. После бурного объяснения супруги решили не сообщать детям о происшедшем. Федор Федорович Шаляпин, младший сын певца, вспоминал: многие годы никто из детей даже не догадывался о разрыве отношений, настолько кровной и насущной была связь певца с первой семьей.
Жизнь Марии Валентиновны с Шаляпиным не проста. Юридически брак оказалось возможным заключить только много лет спустя, в конце 1920-х годов. Кроме того, Шаляпин поставил условие: первая семья, дети не должны чувствовать себя осиротевшими. Иола Игнатьевна сумела сохранить в доме такую атмосферу, в которой Федор Иванович не чувствовал себя виноватым и отвергнутым. В происшедшей семейной драме она считала виноватой себя — не смогла укротить свой ревнивый характер, пылкий итальянский темперамент. В 1906 году Шаляпин основывает домашний очаг в Петербурге, но в московском доме он по-прежнему любящий отец. Летом Федор Иванович живет с детьми на даче, развивает склонности Бориса к рисованию, девочек — к танцу и драматическому искусству, направляет их, образовывает. Московский дом по-прежнему полон друзей. Серов, Коровин, даже если не заставали дома хозяина, возились с детьми, беседовали с Иолой Игнатьевной. Серов рисовал птиц и животных, а однажды принес модную в то время игрушку — куклу бибабо и показал детям маленький спектакль: они запомнили его на всю жизнь.
К 1910 году Шаляпин и Мария Валентиновна уже прочно обосновались в Петербурге. Для Иолы Игнатьевны и детей Федор Иванович приобрел дом со службами на Новинском бульваре.
Лидия Федоровна Шаляпина обстоятельно описывала усадьбу. В глубине — парк с вековыми деревьями, теннисной площадкой. В двухэтажном особняке — 25 светлых просторных комнат, парадный белый зал — здесь собирались для репетиций и домашних концертов. «Далее следовали: столовая, гостиная, кабинет, биллиардная и мамина половина, состоявшая из спальни, будуара и ванной; затем шли комнаты для гостей, комнаты для прислуги и, наконец, двухэтажная папина половина: внизу была уютная спальня, выдержанная в синих тонах, и большая ванная комната, лестница из которой вела наверх, в светлую и веселую комнатку с двумя окнами, выходящими в палисадник. Впоследствии отец вообще перебрался туда; ему нравилась эта уютная комната и ее privacy».
Как складывается жизнь Шаляпина в 1900-е годы? О мироощущении артиста можно судить по автографу, оставленному им в альбоме Сергея Ивановича Зимина: «Нужно всегда гнать прочь спокойствие, ибо радость настоящей жизни в беспокойстве. Ф. Шаляпин. 31 января 1906 года». Ликующая интонация!
Певец существует в пестром и многокрасочном духовном, творческом и жизненном пространстве. В Москве — Большой театр, дом, дети, давнее дружеское окружение; в Петербурге — Мариинский театр, концерты Александра Ильича Зилоти, сонм поклонников, новый очаг, который он создает вместе с Марией Валентиновной, авторитетные музыканты, их дружеское окружение, сохранившееся еще с поры первых петербургских дебютов: Стасов, Глазунов, Римский-Корсаков. Наконец — Европа, ее Шаляпин тоже обживает весьма энергично: Милан, Париж, Берлин, Лондон, Монте-Карло… Артист в расцвете сил и таланта, он вступил в четвертое десятилетие своей жизни, свободно перемещается из страны в страну, он везде «звезда», «гражданин мира», желанный гость, его мечтают принять с почестями главы государств и удостоить высшей награды. Но при этом Шаляпин «обычный человек» — «гуляка праздный», любвеобильный отец и покоритель женских сердец, открытый дружбе, общению, и известные пушкинские строки:
Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен… —к нему вполне применимы. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова писала Антону Павловичу в Ялту:
«После спектакля („На дне“ в Художественном театре. — В. Д.) ездили в „Эрмитаж“ по приглашению Горького… Шаляпин рассказывал анекдоты, но не сальные, я до боли хохотала. Какой он талантливый! Пел он тоже, пел чудесно, широко, с захватом. Рассказывал о сотворении мира; о том, как поп слушал оперу „Демон“, как дьякон первый раз по железной дороге ехал; как армянин украл лошадь, но оправдался: лошадь, говорит, стоит поперек улицы, а улица узенькая, я — мимо морды: кусает, я мимо зада — лягает, я — под нее, а она тут-то и убежала, значит, она меня украла, а не я ее…»
Шаляпин любил бывать у художников, он приезжал на шмаровинские «среды», на Молчановку вместе с пианистами А. Н. Корещенко и Ф. Ф. Кенеманом, пел для друзей. А в традиционный «рисовальный час» вместе с другими брался за карандаш и щедро дарил шаржи, автопортреты. Его рисунки разыгрывались в лотерею, а вырученные деньги шли в фонд стипендии студентам Училища живописи, ваяния и зодчества. В мастерской под собственный фортепианный аккомпанемент Шаляпин пел романсы, русские песни, оперные арии. Слушателей покоряла особая, хрупкая интимность музыкальной атмосферы, которая не возникала на большой концертной эстраде, при «сборной» публике.
Один из вечеров у Константина Коровина запечатлел художник Леонид Пастернак. Артист — в центре композиции, вокруг завсегдатаи коровинских вечеринок: сам хозяин, Л. О. Пастернак, А. Е. Архипов, С. А. Виноградов. Аккомпанирует на гитаре П. А. Тучков, прожигатель жизни, бывший предводитель дворянства, прокутивший с цыганами состояние…
«Когда Тучков в своем увлечении аккомпанементом к прекрасному пению Шаляпина доходил почти до экстаза, — вспоминал Л. О. Пастернак, — Шаляпин нарочно спадал на одну ноту выше или ниже… Тучков вдруг как бы просыпался, свирепел от злобы — ругательствам не было конца, а вся компания ввергалась в беспрерывный хохот, шум и гам. Это бывал один из „номеров“ вечера. Во время пения Тучкова, когда тот входил в раж и его лицо становилось багровым и смешным, Шаляпин, бывало, шептал мне на ухо: „Посмотрите на него! Глазок, глазок-то его! Нарисуйте его! Ради Бога, нарисуйте!..“».
Глава 5 ГОРЬКИЙ, ЧЕХОВ, ТОЛСТОЙ
О Максиме Горьком Шаляпин впервые услышал от Рахманинова. Сергей Васильевич предложил ему книгу рассказов:
— Прочти. Какой у нас появился чудесный писатель! Вероятно, молодой…
Читая Горького, Федор вспоминал прошлое, удивлялся сходству жизненных впечатлений. Тогда же он написал автору письмо, но ответа не получил.
Они мельком виделись в 1900 году, но знакомство не закрепилось.
«Я только что воротился из Москвы, — писал Горький Чехову, — где бегал целую неделю, наслаждаясь лицезрением всяческих диковин, вроде „Снегурочки“ Васнецова, „Смерти Грозного“ и Шаляпина… Шаляпин — простой парень, большущий, неуклюжий, с грубым, умным лицом. В каждом суждении его чувствуется артист. Но я провел с ним полчаса, не больше».
Стремительное сближение писателя с артистом произошло год спустя в Нижнем Новгороде. После представления «Жизни за царя» за кулисы пришел Горький и с характерным волжским оканьем сказал:
— Вот хорошо вы изображаете русского мужика. И хотя я не поклонник таких русско-немецких сюжетов, все-таки, как плачете, вспоминая о детях, Сусаниным, — люблю. Правда ли, что вы также из нашего брата Исаакия? («Нашего поля ягода». — Ф. И. Шаляпин.)
Разговорились. Оказалось, что трудные годы отрочества и юности они прожили рядом, бродяжничали, грузили баржи, набирались синяков и ума — «в людях», у сапожника, у пекаря. Вспоминали зимние кулачные бои, которыми славились поволжские города. «Обнялись мы тут с ним и расцеловались, — вспоминал певец. — В этот вечер между нами завязалась долгая горячая, искренняя дружба».
Горький и его жена Екатерина Павловна Пешкова пригласили Федора к себе на Канатную улицу. В память об этой встрече осталась фотография с надписью: «Великому артисту Федору Ивановичу Шаляпину. М. Горький — преклоняюсь перед его могучим талантом. 30 августа 1901 года. Нижний Новгород». А в день отъезда певец получил еще один снимок Горького: «Простому, русскому парню Федору от его товарища по судьбе А. Пешкова».
В доме Горького Федор встретил молодых писателей Степана Скитальца, Леонида Андреева, врачей А. Н. Алексина, Л. С. Средина, он почувствовал себя легко среди новых знакомых, много рассказывал, пел.
«Я за это время был поглощен Шаляпиным, а теперь на всех парах пишу драму („Мещане“. — В. Д.), — сообщал Горький в Петербург своему другу издателю Константину Пятницкому. — Шаляпин — это нечто огромное, изумительное и русское. Безоружный малограмотный сапожник и токарь, он сквозь терния всяких унижений взошел на вершину горы, весь окурен славой и — остался простецким, душевным парнем. Это — великолепно! Славная фигура!.. Вообще — жить на этой земле — удивительно интересно! То же говорит и Шаляпин. Он будет хлопотать о допущении меня в Москву, в октябре, куда мне надо быть, чтобы поставить пьесу…»
Портрет Горького той поры воссоздает писатель и публицист Сергей Яковлевич Елпатьевский: «Он был неуклюжий, с длинными руками. Спина у него немножко горбом, как у грузчиков, что долго таскали десятипудовые мешки, и когда ходил, сутулился: мне все казалось, что походная сума еще не слезла с его плеч. Сидеть он не умеет, у него нет определенной манеры сидеть, как у людей, привыкших сидеть; кажется, он только пришел и вот-вот снимется. Лицо серое, сумрачное, и только глаза голубые, прозрачные, цветочные глаза ярко встают на пасмурном лице. Когда улыбается, лицо становится моложе и ласковее, и немного хитренькое. Слова из него выходят медлительные, тяжелые, словно из-под пресса, давно залежавшиеся, с трудом вырывающиеся».
Приезд знаменитого артиста взбудоражил Нижний Новгород. Рассказывали, как Шаляпин закрыл кассу перед прокурором Утиным, незадолго до этого производившим обыск в квартире Горького; о появлении друзей в ресторане «Россия»: Алексей Максимович в черной суконной рубашке, подпоясанной ремешком, Федор Иванович в белой поддевке — посетителей в таких костюмах дальше швейцарской не пускали. Тут же навстречу гостям поспешил владелец заведения с метрдотелем, официанты споро расчистили место у эстрады, поставили столик.
Днем друзья гуляют по городу и окрестностям, посещают ателье известного фотохудожника Михаила Петровича Дмитриева, осматривают ярмарку, стройку Народного дома. Узнав, что для завершения строительства не хватает средств, Шаляпин дает благотворительный концерт. Из полученных сборов 200 рублей выделено на открытие сельской библиотеки-читальни. «Мы все еще находимся в том светлом настроении, которое вы нам оставили, — пишет Шаляпину в Москву Екатерина Павловна. — Только и разговору что о вас». «Никогда не забуду о днях, проведенных с тобою. Славный ты парень, Федор», — прибавляет Горький.
Фотографии М. П. Дмитриева в виде открыток расходятся по России тысячными тиражами, газеты и журналы публикуют фотопортреты, карикатуры, шаржи: Шаляпин и Горький рядом — как символ дружбы двух «самородков», «выходцев из народа», «новейшие Орест и Пилад». Каждый шаг «новейших» описывается репортерами — едва ли в эти годы есть в России более популярные фигуры.
«…Был здесь Шаляпин, — сообщал Горький своему петербургскому приятелю В. А. Поссе. — Этот человек — скромно говоря — гений. Не смейся надо мной, дядя. Это, брат, некое большое чудовище, одаренное страшной, дьявольской силой порабощать толпу. Умный от природы, он в общественном смысле пока еще — младенец, хотя и слишком развит для певца. И это слишком позволяет ему творить чудеса. Какой он Мефистофель! Какой князь Галицкий! Но — все это не столь важно по сравнению с его концертом. Я просил его петь в пользу нашего народного театра. Он пел „Двух гренадеров“, „Капрала“, „Сижу за решеткой, в темнице сырой“, „Перед воеводой“ и „Блоху“ — песню Мефистофеля. Друг мой — это было нечто необычайное, никогда ничего подобного я не испытывал. Всё — он спел 15 пьес — было покрыто — разумеется — рукоплесканиями, всё было великолепно, оригинально… Но я чувствовал, что будет что-то еще! И вот — „Блоха“. Вышел к рампе огромный парень, во фраке, в перчатках, с грубым лицом и маленькими глазами. Помолчал. И вдруг — улыбнулся и — ей-богу! — стал дьяволом во фраке. Запел, негромко так: „Жил-был король, когда-то, при нем блоха жила…“ Спел куплет и — до ужаса тихо захохотал: „Блоха? Ха-ха-ха“. Потом властно — королевски властно! — крикнул портному: „Послушай, ты! Чурбан!“ И снова засмеялся дьявол: „Блохе — кафтан? Ха-ха. Кафтан? Блоха? Ха-ха!“ И это невозможно передать — с иронией, поражающей, как гром, как проклятие, он ужасающей силы голосом заревел: „Король ей сан министра и с ним звезду дает, за нею и другие пошли все блохи в ход“. Снова — смех, тихий, ядовитый смех, от которого мороз по коже продирает. И снова, негромко, убийственно, иронично: „И самой королеве и фрейлинам ея от блох не стало мо-о-очи, не стало и житья“. Когда он кончил петь — кончил этим смехом дьявола — публика, — театр был битком набит, — публика растерялась. С минуту — я не преувеличиваю! — все сидели молча и неподвижно, точно на них вылили что-то клейкое, густое, тяжелое, что придавило их и — задушило. Мещанские рожи побледнели, всем было страшно. А он — опять пришел, Шаляпин, и снова начал петь „Блоху“. Ну, брат, ты не можешь представить, что это было!
Пока я не услышал его — я не верил в его талант. Ты знаешь — я терпеть не могу оперы, не понимаю музыки. Он не заставил меня измениться в этом отношении, но я пойду его слушать, если даже он целый вечер будет петь только одно „Господи помилуй!“. Уверяю тебя — и эти два слова он так может спеть, что Господь — он непременно услышит, если существует, — или сейчас же помилует всех и вся, или превратит землю в пыль, в хлам, — это уж зависит от Шаляпина, от того, что захочет он вложить в два слова.
Лично Шаляпин — простой, милый парень, умница. Все время он сидел у меня, мы много говорили, и я убедился еще раз, что не нужно многому учиться для того, чтобы много понимать. Фрак — прыщ на коже демократа, не более. Если человек проходил по жизни своими ногами, если он своими глазами видел миллионы людей, на которых строится жизнь, если тяжелая лапа жизни хорошо поцарапала его шкуру — он не испортится, не прокиснет от того, что несколько тысяч мещан улыбнутся ему одобрительно и поднесут венок славы. Он сух — все мокрое, все мягкое выдавлено из него, он сух — и чуть его души коснется искра идеи, — он вспыхивает огнем желания расплатиться с теми, которые вышвыривали его из вагона среди пустыни, как это было с Шаляпиным в С<редней> Азии. Он прожил много — не меньше меня, он видывал виды не хуже, чем я. Огромная, славная фигура! И — свой человек».
Право же, удивительное письмо! В нем краткий и в то же время очень емкий, осязаемый портрет молодого Шаляпина поры его артистического и духовного расцвета. Но при этом вырисовывается и облик самого Горького, здесь же — и ключ к пониманию прекрасных и сложных взаимоотношений писателя и артиста, связавших их на три десятилетия.
В самом деле, что привело Горького в восхищение? Сценический талант, природный ум, готовность к общению — это безусловно. Но самое главное и радостное открытие для Горького — в Шаляпине он нашел подтверждение своих взглядов: «Я убедился еще раз…» В чем же? Вновь цитируем письмо: «Не нужно многому учиться, чтобы много понимать…»
Невероятно! Конечно, Горький считает книгу «источником знания», «другом человека» и «лучшим подарком», но классовое чувство он ставит всего выше и потому восхищается тем, как Шаляпин «вспыхивает огнем желания расплатиться», отомстить за нанесенные ему в юности обиды и унижения. Что делать, людям свойственно слышать прежде всего то, что им интересно, близко, созвучно их собственному умонастроению. Также, впрочем, как рассказчику свойственно повествовать так, чтобы нравиться слушателю.
Шаляпин — артист, точно чувствующий настроение аудитории. Он расставляет акценты, создает еще одну версию многократно рассказываемого дорожного эпизода — стычки с антрепренером Любимовым-Деркачем из-за чесночной колбасы. Горький потрясен: Шаляпин по знанию и опыту жизни равен ему самому: «Он видывал виды не хуже, чем я. Огромная, славная фигура! И — свой человек». (В скобках заметим: когда артист в 1930-х годах прочитал мемуары певицы О. В. Арди-Светловой, он написал ей благодарное письмо: «Так приятно было вспомнить самому и Деркача, и мои нелепые подвизания в труппе… Отлично помню и остро переживаю наши путешествия… Ах, как было беспечно и молодо!»)
Свой человек! Союзник! Единоверец! Горький будет это повторять не раз. Идея расплаты, реванша, классового возмездия, столь волновавшая писателя, образно «материализуется» в фигуре Шаляпина.
Чем еще восхищен Горький? Оказывается, артист может творить чудеса, он «большое чудовище, одаренное страшной, дьявольской силой порабощать толпу». Порабощать толпу, манипулировать ею — не мечта ли это самого Горького, вкусившего в юности хмель провинциального ницшеанства, больно уязвленного «свинцовыми мерзостями жизни»? Не просвечивает ли здесь лик рабочего-машиниста Нила из «Мещан», которых уже репетирует Московский Художественный театр? Или революционера Павла Власова из будущего романа «Мать», написанного в 1906 году?
Но отнюдь не во всем Шаляпин равен Горькому: «Умный от природы, он в общественном смысле пока еще — младенец, хотя и слишком развит для певца, и это слишком позволяет ему делать чудеса». Здесь все важно. Оказывается, все-таки можно в искусстве творить чудеса, будучи «младенцем в общественном смысле». Значит, гений все же обладает природной интуицией, чувством правды жизни, которое не замыкается и не исчерпывается «классовым чутьем»? Горький, пламенно увлеченный Шаляпиным, уже не слышит себя. К тому же это частное письмо. Вскоре Горький по весьма важному поводу — о нем позднее — напишет так называемое «Письмо другу» — тоже о Шаляпине, предназначенное к публикации. В нем все оценки и определения взвешены и выверены.
Горького крайне раздражают «необщественные» люди. Но Шаляпин — «брат по классу», и заботу о социальном просвещении «младенца» писатель уверенно берет на себя. В «общественном созревании» Шаляпина Горький готов стать наставником, подобно Мамонтову, Дальскому, Юрьеву, Коровину, Серову, которые взрастили Шаляпина-художника. Горький же воспитывает Шаляпина-гражданина, революционера, борца.
Затея эта сомнительна, во-первых, потому, что Шаляпин теперь совсем не наивный провинциал, а первый артист императорских театров. Во-вторых, ведь не только искусству петь и играть на сцене учился Шаляпин у художников, музыкантов и актеров, он постигал с ними жизнь и перенимал от них опыт нравственный, этический и, конечно, гражданский, и потому видеть в Шаляпине «в общественном смысле младенца» слишком самоуверенно. Но самое главное состоит, пожалуй, в том, что Усатов, В. В. Андреев, Дальский, Юрьев, Мамонтов и его друзья-художники развивали дарование артиста в согласии с его личностью, они «лепили» его «изнутри», из его же «природного материала», они вместе искали пути созревания таланта, не прибегая для этого к какому-либо внешнему насилию. Горький же хочет «лепить» Шаляпина «снаружи», по своему рецепту, исходя из собственных взглядов на жизнь и на человека. Часто его взгляды совпадали, пересекались с шаляпинскими, но случалось и так, что Горький пытался навязать артисту свои убеждения, а иногда и просто приписывал их ему. Он хотел создать «свой» образ Шаляпина. Но речь об этом пойдет позднее, а пока Горький и Шаляпин в эпицентре публичного внимания, их дружба, их духовное единство кажутся и им самим, и окружающим нерасторжимыми.
В 1901 году петербургским издательством «Знание», возглавляемым Константином Пятницким, выпущено собрание сочинений М. Горького. Писатель дарит его певцу с автографом: «Милый человек Федор Иванович! Нам с тобой нужно быть товарищами, мы люди одной судьбы. Будем же любить друг друга и напоминать друг другу о прошлом нашем, о тех людях, что остались внизу и сзади нас, как мы с тобой ушли вперед и в гору. И будем работать для родного русского искусства, для славности нашего народа. Мы его ростки, от него вышли и ему все наше. Вперед, дружище! Вперед, товарищ, рука об руку!»
5 ноября 1903 года состоялось открытие Народного дома в Нижнем Новгороде. Сцена украшена живой зеленью, соснами и елями. Зал переполнен. Шаляпина встретили овацией и огромным лавровым венком. Перед вторым отделением член правления Общества начального образования Н. Н. Иорданский сообщил: «Желая запечатлеть в памяти нижегородцев вашу отзывчивость к делу просвещения той среды, из которой вы вышли, мы решили открыть школу в честь вашего имени в Нижегородской губернии». В зале загремели аплодисменты. Шаляпин поклонился низким поясным поклоном. Артист много пел на бис. Выйдя в последний раз на вызовы вместе с архитектором Народного дома Малиновским, Шаляпин, после многочисленных поклонов, поднял архитектора на руки и унес его со сцены. Публика неистовствовала! «Знали бы Вы, как обидно, что Вас не было на концерте! — писал Горький Пятницкому 8 сентября. — Концерт был таков, что, наверное, у сотни людей воспоминание о нем будет одним из лучших воспоминаний жизни. Я не преувеличиваю. Пел Федор — как молодой бог, встречали его так, что даже он, привыкший к триумфам, был взволнован… Уезжая, — вчера, 7-го, заплакал даже и сказал: „Я у тебя — приобщаюсь какой-то особенной жизни, переживаю настроения, очищающие душу… а теперь вот опять Москва… купцы, карты, скука“. Мне стало жаль его».
Карикатура. Журнал «Шут». 1904 г.
В эту пору влияние Горького на Шаляпина огромно. Артист увлечен творчеством друга, знает наизусть его произведения и часто читает их знакомым и друзьям. Федор познакомил Горького с Теляковским, вместе они бывают у Стасова, во многих петербургских домах. Репортер «Петербургской газеты» проник в гостиничные номера Собинова и Шаляпина, подробно описывает восторженные отзывы артиста о пьесах Горького «Мещане» и «На дне».
Узнав от Теляковского о намерении ставить «На дне» в Александрийском театре, Шаляпин вызвался сам прочитать пьесу. В просторной гостиной Владимира Аркадьевича Теляковского — участники будущего спектакля — актеры, режиссеры, художники: П. П. Гнедич, А. А. Санин, Ю. Э. Озаровский, А. Я. Головин, М. Е. Дарский. «Читал пьесу Шаляпин и читал ее превосходно, — записал в дневнике Теляковский, — все слушатели, конечно, были в восторге от такого исполнения Шаляпина».
Но до спектакля дело не дошло: цензурное ведомство запретило ставить пьесы Горького на императорских сценах.
В Москве Шаляпин репетирует «Псковитянку», она включена в афишу Большого театра по его категорическому настоянию. На премьеру из Петербурга приехал Н. А. Римский-Корсаков. «…Исполнение было хорошее, а Шаляпин был неподражаем», — записал композитор в своей «Летописи». Горький пристально следит за успехами певца. «Страшно приятно было читать о твоем триумфе в „Псковитянке“ и досадно, что не могу я видеть тебя на сцене в этой роли».
Горький занесен властями в список «неблагонадежных» и ограничен в своих перемещениях. После долгих хлопот (в том числе и Шаляпина) писателю разрешили поехать лечиться в Крым. Проводы на Нижегородском вокзале превратились в политическую манифестацию. Полиции приказано не допустить приезда Горького в Москву: на узловой станции его пересадили в другой состав, направлявшийся в Севастополь.
Когда об этом стало известно в Москве, Л. Н. Андреев, Н. Д. Телешов, переводчик произведений Горького на немецкий язык А. Шольц, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин спешно выехали наперерез, в Подольск.
До прихода поезда с Горьким оставалось несколько часов. Все отправились ужинать в гостиницу. В гардеробе жандармы не преминули обшарить одежду и послали хозяина переписать собравшихся.
— Приезжий здесь один я, — строго ответил Шаляпин. — А это мои гости. Такого закона нет, чтобы гостей переписывать. Давайте сюда книгу, я один распишусь в чем следует.
Поезд остановился на несколько минут, Горький и Пятницкий стояли на вагонной подножке, приветствовали друзей. «Товарищи! Будем отныне все на „ты“!» — воскликнул Горький. Прощаясь, Шаляпин обещал вскоре приехать в Крым.
В Москве Бунин пригласил Шаляпина на «телешовскую Среду», и с той поры певец стал там частым гостем. Он «…пленил всех своей многообразной талантливостью, — писал Горькому Л. Н. Андреев. — Хороший человек».
Иван Алексеевич Бунин свел Шаляпина и с Чеховым: «Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я, наконец, спросил:
— Да за чем же дело стало?
— Да за тем, — отвечал он, — что Чехов нигде не показывается, что все нет случая представиться ему.
— Помилуй, какой для этого нужен случай? Возьми извозчика и поезжай.
— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так робею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком.
— Ну, полно, это ты сейчас дурака исполняешь.
— Бог свидетель, нисколько не валяю. Вот если б ты свез меня как-нибудь к нему.
Я не замедлил сделать это и убедился, что все было правда: подойдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать и вышел от него в полном восторге.
— Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как я очарован им! Вот это человек! Вот это писатель!» — говорил Шаляпин Бунину.
В сентябре 1898 года артисты Частной оперы гастролировали в Крыму. Ялта горячо принимала музыкантов. «Публика устроила шумную овацию г. Шаляпину, причем ему был поднесен лавровый венок», — сообщала газета «Крымский курьер».
Журнал «Стрекоза»
На концертах Шаляпину аккомпанировал Рахманинов. За кулисы пришел Чехов, подошел к Сергею Васильевичу: «А знаете, вы будете большим музыкантом. У вас очень значительное лицо».
После концерта все отправились ужинать в ресторан городского сада. Шаляпин, Рахманинов и журналист В. С. Миров посылают Чехову записку: «Сейчас же, как придете домой, дорогой Антон Павлович, и прочтете эту писульку, идите в городской сад, мы там обедаем и Вас ждем».
Чехов так и поступил. На следующий день он сообщал Л. С. Мизиновой: «Здесь концертирует Шаляпин и С<екар>-Рожанский, вчера мы ужинали и говорили о Вас».
Но говорили не только о Мизиновой. Обсуждали и решение Российской академии наук, принятое под нажимом власти и отменяющее недавнее избрание Горького своим почетным членом. В ответ В. Г. Короленко, А. П. Чехов, известный математик А. А. Марков отказываются от звания академиков.
Шаляпин, Горький и Чехов в эту пору сильно увлечены друг другом. Еще до личного знакомства в 1900 году между Чеховым и Горьким завязывается регулярная переписка. Горький посылал Чехову книги, писал о своем восхищении «удивительным талантом… тоскливым и за душу хватающим, трагическим и нежным, всегда таким красивым и тонким». Позднее Горький напишет о Чехове:
«Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П.». Эта черта Чехова присуща многим современникам и друзьям Шаляпина. Она свойственна Серову, Рахманинову, Мамонтову, Станиславскому. Неслучайно Чехову оказался так интересен Нил в горьковских «Мещанах»; он писал Станиславскому: «Нил — это Ваша роль… лучшая мужская роль во всей пьесе… Это не мужчина, не мастеровой, а новый человек, обинтеллигентившийся рабочий. В пьесе он недописан, а жаль, ужасно жалко, что Горький лишен возможности бывать на репетициях». А своей постоянной корреспондентке Л. А. Авиловой Чехов пишет: «Горький, по-моему, настоящий талант, кисти и краски у него настоящие. Но какой-то невыдуманный, залихватский талант… По внешности это босяк, но внутри это довольно изящный человек — и я очень рад».
Сближала Чехова и Горького ненависть к мещанству, борьбу с ним оба понимали как борьбу социальную с захудалым скудоумием обывательщины. «Он обладал искусством всюду находить, оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными… Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обывательщины. Талант человеческий, тонкий, великолепное чутье к боли и обиде на людей».
При первой встрече Чехов подарил Горькому часы с надписью: «От д-ра Чехова. Писатель, а без часов. Нехорошо».
Конечно, сближала Чехова, Горького, Шаляпина и их любовь к Художественному театру. «Напишите драму, Антон Павлович, ей-богу, это всем нужно», — уговаривал Горький Чехова в апреле 1899 года. В Москве они вместе смотрят спектакли МХТ «Доктор Штокман», «Дядя Ваня», «Одинокие», «Чайка», встречаются с артистами и режиссерами.
23 февраля 1900 года на гастролях в Петербурге роль доктора Штокмана играет К. С. Станиславский. Горький описывал спектакль в письме Е. П. Пешковой:
«В Художественном с треском и громом прошел „Штокман“. Что было после 4-го акта! „Жизнь“ (редакция журнала. — В. Д.) поднесла огромный венок с красной лентой, оваций — без счета, всей массой публики. Удивительно грандиозное зрелище!»
Второй абонементный спектакль 26 февраля прошел с еще большим успехом. Публика кричала: «Спасибо, Станиславский!» — многократно вызывала актеров и даже сама раздвигала занавес, чтобы еще раз увидеть исполнителей. «И публика здесь интеллигентная, — писал Горький, — и молодежь горячая, и прием великолепный, и успех небывалый и неожиданный, но почему-то у меня чувство, что я совершил преступление и что меня посадят в Петропавловку». Так и случится, но позже: в январе 1905 года Горького арестуют и заключат в Петропавловскую крепость.
Недуги не позволяли Чехову долго жить в Москве, он приобрел в Аутке, близ Ялты, запущенный участок, по его плану построили небольшой двухэтажный дом. «Чехов был сидячий человек, — вспоминал С. Я. Елпатьевский. — Он редко ходил в гости, не очень любил гулять, и я не помню, чтобы он пешком ходил за пределы Ялты… Иногда выходил из своего дальнего Аутского угла к морю, садился на Набережной у книжного магазина Синани, с которым приятельствовал, и подолгу сидел, наблюдая прищуренными глазами, как волны катятся по морю, слушая, как лениво бьются они о каменную набережную, любуясь, как белые чайки взлетают и падают в море.
Подходили дамы, поклонницы Антона Павловича, мимо шли туземные люди. Он давно и близко знал этих туземных людей, караимов, армян, греков, и так сказать, международных людей, помеси разных национальностей, которых так много на Юге России и в Крыму, — и в его родном Таганроге, и в Ялте. И кажется, ему нравились эти красочные южные люди, и у него были знакомства среди них… Его любовь к Москве была удивительна… И может быть, поэтому в Ялте Чехов бывал сумрачный и грустный, не такой, каким я его видел в Москве. Он оживлялся, когда наезжали в Ялту писатели, был более обычного оживлен, когда в Гаспре жил Толстой, а в Олеизе Горький, но по-настоящему веселым я видел его во время приезда Художественного театра в Ялту с чеховскими пьесами. Я помню обед у Чехова, где были артисты Художественного театра и Горький, никогда не видел Чехова таким веселым и радостным, как во время этого обеда. В Чехове не было горьковской дерзости, горьковского озорства. Красивый, изящный, он был тихий, немного застенчивый, с негромким смехом, с медлительными движениями, с мягким, терпимым и немножко скептическим, насмешливым отношением к жизни и к людям.
Как мне говорил живший тогда в Ялте бывший певец Усатов, служивший там по городским выборам, этот участок непрактичному Антону Павловичу просто „всучили“. Тогда он не был включен ни в водопроводную сеть, ни в канализацию, и первые три года жизни на нем пришлось довольствоваться дождевой водой, а молодой сад поливали помоями из-под умывания».
«Бывший певец Усатов» уже несколько лет жил в Ялте с больной женой. Между ним и Чеховым установились добрые отношения, и, надо полагать, он немало рассказывал Антону Павловичу о ныне знаменитом своем ученике. Приглашая знакомых приехать в Крым, Чехов рекомендовал Усатова как гостеприимного человека: «…отыщет для вас такого вина, какого вы еще никогда не пили в Крыму».
Вместе с Дмитрием Андреевичем Усатовым, членом Ялтинской думы, Антон Павлович избран в состав юбилейной Пушкинской комиссии, они ходатайствуют об установке памятника поэту, о присвоении его имени местной школе, учреждении пушкинской стипендии для гимназистов. Из Москвы в письмах приятелю-книготорговцу И. А. Синани Чехов не забывал передавать Д. А. Усатову «нижайший поклон».
Бывая в Москве теперь уже все реже, наездами, Чехов сам искал встречи с Горьким и Шаляпиным.
«Дорогой Федор Иванович, все ждал Горького, чтобы вместе отправиться к Вам, и не дождался. Недуги гонят меня вон из Москвы. Первого марта приеду опять и тогда явлюсь к Вам, а пока — да хранят Вас ангелы небесные.
Фотографию пришлите в Ялту.
Крепко жму руку и целую Вас. Будьте здоровы и благополучны.
Ваш А. Чехов».Эта записка датирована 16 ноября 1902 года. И в тот же день Шаляпин отвечает:
«Дорогой мой Антон Павлович!
Адски досадно, что не пришлось еще разок посидеть с Вами, проклятая „бенефисная“ работа затрепала всякую мою свободную минуту, — жалко, жалко, но что поделаешь.
Сердечное спасибо Вам за портрет. Я очень счастлив, что получил его. Уверяю, что это было в „мечтах“ моих. В свою очередь посылаю Вам мой, похожий на „бандуру“. Лучшего, к сожалению, не нашлось.
Дай Бог Вам счастья и здоровья.
Клянусь, что люблю Вас сердечно, и так же крепко, как люблю, — целую.
Ваш Федор Шаляпин».Фотография с дарственной надписью Чехова постоянно находилась на письменном столе певца в его кабинете на Новинском бульваре, а потом в Петербурге. Портрет Шаляпина, подаренный Чехову, находится в доме писателя в Ялте.
После «бенефисного Мефистофеля» 3 декабря Шаляпин с друзьями посылает Чехову телеграмму:
«Сидим у Тестова и гуртом радостно пьем (за) здоровье дорогого Антона Павловича. Шаляпин, Андреева, Горький, Серов, Коровин, Стюарт, Гримальди, Телешов, Серафимович, Тихомиров, Скирмунт, Симов, Марья Чехова, Кундасова, Бунин, Пятницкий, Пешкова, Ключевский, Скиталец, Крандиевский, Розенберг».
Шаляпин и Чехов встречались и у Гиляровского, на его «субботах» в Столешниковом переулке, к Антону Павловичу певец относился с трепетом и любовью.
Чехов отличался чрезвычайной требовательностью к себе. Смолоду он ставил перед собой жесткие задачи: «Мне надо писать добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять месяцев. Надо уйти из дому, надо начать жить на семьсот-девятьсот рублей в год, а не на три-четыре тысячи, как теперь. Надо на многое наплевать, но хохлацкой лени во мне больше, чем смелости». Заметим: Чехову в ту пору 29 лет.
Чувство личной, творческой свободы — та этическая основа, на которой вырастает миросозерцание писателя. В письме А. А. Плещееву в октябре 1888 года Чехов признается: «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист… Я хотел бы быть свободным художником — и только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах… Поэтому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником». А. С. Суворину Чехов писал: «Я страшно испорчен тем, что родился, вырос, учился писать в среде, в которой деньги играют безобразно большую роль».
Шаляпин знал творчество Чехова, любил его рассказы, видел его пьесы в Художественном театре. Певец восхищенно отзывался о рассказе «Крыжовник» как квинтэссенции чеховского мировидения, цитировал мудрые слова его героя Ивана Ивановича: «Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли, но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку, и говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбу, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы — это те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе, это не жизнь, это эгоизм, это лень, это своего рода монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».
Чехов не любил публичности, но поразительно точно видел жизнь, окружавших его людей в самых разных проявлениях — остродраматических, фальшивых, комических: «19 февраля — обед в „Континентале“, в память великой реформы. Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п., в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе, ждут кучера, — это значит лгать святому духу».
А Ивану Алексеевичу Бунину Чехов пересказывал забавный эпизод «светской» жизни:
«Поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: „Да пойми же ты, что ты теперь первый писатель в России!“
И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой произносит, указывая на меня через плечо: „И он“…»
В начале апреля 1902 года Шаляпин едет в Крым, останавливается у Горького на даче «Нюра» в Нижнем Мисхоре. В Ялте живут в ту пору писатель Алексин, рядом, в Аутке, — Чехов.
В Олеизе в это время распускалась зелень, цвел миндаль. В сумерках спокойной тишины мерцало море. В миндалевой роще появились две фигуры. Шаляпин в одной руке нес ведро квашеной капусты с яблоками, а в другой миску из карельской березы в серебряной оправе с эмалевыми инкрустациями и деревянными ложками. За ним приказчик из лавки тащил внушительных размеров корзину с шампанским и каравай черного хлеба.
13 апреля Шаляпин пришел в Аутку с Горьким и пианистом Александром Гольденвейзером, встретил здесь Бунина, Телешова, Скитальца, Немировича-Данченко, Сулержицкого, Спендиарова. Артист много пел под аккомпанемент Марии Павловны Чеховой.
Конечно, отношения Шаляпина с Чеховым сильно отличались от тех, которые сложились у него с другими литераторами. Чехов — живой классик, он не так уж намного старше Шаляпина — на неполных 13 лет, однако дистанция отношений определялась не возрастом, а пониманием таланта друг друга. Взаимная симпатия очевидна. Заметим и то, что Чехов не стремился «образовывать» Шаляпина, «развивать» его, не делал его героем своих произведений, к чему сильно тяготели другие литературные друзья певца.
Певец и писатель встречались и у общих московских друзей, в том числе у Владимира Алексеевича Гиляровского на его шумных «субботах» в Столешниковом переулке. Колоритный облик Гиляровского, а особенно его рассказы из жизни «низов» московского люмпенства впечатляли многих. И. Е. Репин писал с него одного из своих запорожцев, а скульптору Н. А. Андрееву писатель служил моделью для Тараса Бульбы в барельефе на постаменте известного памятника Гоголю. Молодость «дяди Гиляя» прошла на Волге, он актерствовал, бурлачил, гонял табуны. Человек живой и страстный, охочий до приключений, Гиляровский был своим на знаменитой Хитровке и как доверенное лицо приводил в ночлежку артистов — в это время в Художественном театре шли репетиции «На дне».
Двери дома Гиляровского распахнуты настежь, кипел большой самовар, вокруг плотной компанией сидели писатели, журналисты, художники, актеры, обсуждали новости, слушали пение Шаляпина, рассказы Коровина, Москвина, самого хозяина дома, звучали тосты, речи, за удачный экспромт награждали гривенником.
Лето 1902 года Чехов проводил вместе со своей женой, артисткой Художественного театра Ольгой Леонардовной Книппер, в имении Станиславского Любимовка. Здесь рождался замысел нового спектакля Художественного театра — «Вишневый сад». Работа, однако, шла медленно, премьера состоялась только 17 января 1904 года. Ее решили совместить с чествованием Антона Павловича по случаю 25-летия его литературной деятельности. Противник ритуалов и церемоний, Чехов не появился в театре, за ним послали экипаж.
Чехов стоял на сцене бледный, худой, не мог справиться с кашлем. Потянулись люди с цветами, венками, подарками. Из зала аплодировали Коровин, Рахманинов и Шаляпин. Отвечая на приветствия, Чехов засмеялся и сильно закашлялся. Несколько голосов крикнули, чтобы он сел. Антон Павлович лишь чуть поморщился. «Один из литераторов, — вспоминал Станиславский, — начал свою речь почти теми же словами, какими Гаев приветствует шкаф в первом акте (пьесы „Вишневый сад“. — В. Д.): „Дорогой и многоуважаемый… (вместо слова „шкаф“ литератор вставил имя Антона Павловича)… приветствуя вас“ и т. д.
Антон Павлович покосился на меня, — исполнителя Гаева, — и коварная улыбка пробежала по его губам… Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами…»
Смерть Чехова потрясла многих. Из Петербурга приехал в Москву Горький. Подступы к Николаевскому вокзалу, куда прибывал поезд с гробом Чехова — он умер в Баденвейлере, — запружены толпой. Процессия двинулась к Художественному театру. Студенты несли гроб на руках. К ним присоединились Горький, Шаляпин, Куприн. После панихиды у театра — отпевание в Успенском соборе, речи на Новодевичьем кладбище.
В. И. Качалову запомнились Елена Яковлевна, мать Антона Павловича, и Горький: «В обоих лицах, как-то беспомощно, по-детски, зареванных было выражение какой-то, мне показалось, физической нестерпимой обиды». Среди груды цветов выделяется огромный венок из живых роз, орхидей, на ленте надпись: «С великой скорбью Шаляпин — дорогому, незабвенному А. П. Чехову».
Горький так рассказывал о похоронах:
«От Ник<олаевского> вокзала до Худ<ожественного> театра я шел в толпе и слышал, как говорили обо мне, о том, что я похудел, не похож на портреты, что у меня смешное пальто, шляпа обрызгана грязью, что я напрасно ношу сапоги. Говорили, что грязно, душно, что Шаляпин похож на пастора и стал некрасив, когда остриг волосы; говорили обо всем — собирались в трактиры, к знакомым — и никто ни слова о Чехове. Что это за публика была, я не знаю. Вползали на деревья и — смеялись, ломали кресты и ругались из-за мест, громко спрашивали: „Которая жена? А сестра? Посмотрите — плачут“. „А вы знаете — ведь после него ни гроша не осталось, все идет Марксу (издателю сочинений Чехова. — В. Д.)“. „Бедная Книппер!“ „Ну, что ее жалеть, ведь она получает 10 000“ и т. д.
Все это лезло в уши насильно, назойливо, нахально. Не хотелось слышать, хотелось какого-то красивого, искренне грустного слова, и никто не сказал его. Шаляпин — заплакал и стал ругаться: „И для этой сволочи он жил, и для нее он работал, учил, упрекал“. Я его увел с кладбища. И когда мы садились на лошадь, нас окружила толпа, улыбалась и смотрела на нас. Кто-то — один из тысячи! — крикнул: „Господа, уйдите же! Это неприлично!“ — они, конечно, не ушли…»
С тяжелым чувством покидали Москву Шаляпин и Горький: артист уезжал на гастроли в Кисловодск, писатель — в Старую Руссу. Они встретились спустя месяц у Стасова, в Старожиловке. Среди гостей — А. К. Глазунов, Б. В. Асафьев, И. Е. Репин, И. Я. Гинцбург. Когда Стасов спросил Горького о его музыкальных вкусах, Алексей Максимович, усмехнувшись, кивнул на Шаляпина:
— Вот этот меня просвещает в русской музыке.
Для друзей-литераторов Шаляпин не только душа застолья, но, если можно сравнить литературный труд с живописным, — натурщик и вместе с тем удивительное и неожиданное откровение. Перед ними раскрывался самобытный характер, над созданием которого они трудились, черты которого искали и собирали по крупицам в разных людях. Писатели восприняли артиста и как реального человека, и одновременно как символ времени, сконцентрировавший в себе его настроения, остро чувствующий пульс действительности и художественно преобразующий свои представления о жизни в сложнейших и эмоционально насыщенных сценических образах. Впечатляющие рассказы Шаляпина, создаваемые им зримые, осязаемые персонажи и, конечно, театральные, концертные работы, богатейшая интонационная выразительность пения, наконец, неординарная личность, оригинальность взглядов, независимость суждений, поведения будили творческое воображение.
Шаляпин становится литературным героем произведений своих современников — Л. Н. Андреева, В. А. Гиляровского, А. И. Куприна, С. Г. Скитальца, А. С. Серафимовича, множества журналистов, мемуаристов. Яркой эпизодической фигурой вошел артист и в последний роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина». В «литературном» Шаляпине причудливо переплеталось то, что действительно было присуще певцу, с тем, что привносилось субъективными впечатлениями, художественными домыслами, расхожей молвой. Их источником было живое общение литераторов с артистом.
…Телешовская «Среда» возникла в 1899 году. Николай Дмитриевич Телешов и его жена, выпускница Училища живописи, ваяния и зодчества Елена Андреевна Карзинкина, приглашали в свой дом на Чистые пруды молодых писателей, художников, музыкантов.
Учредителями «Среды» считались Н. П. Ашешов, И. А. Бунин, И. А. Белоусов, С. С. Голоушев (Сергей Глаголь), Е. П. Гославский, А. А. Карзинкин, С. Д. Махалов, Е. А. Телешова, Н. Д. Телешов, Н. И. Тимковский, Л. А. Хитрово. Поначалу собирались на Валовой улице, в Замоскворечье, потом на Чистых прудах. Со временем в «Среду» вовлекли М. Горького, Л. Н. Андреева, В. В. Вересаева, С. Г. Скитальца, А. С. Серафимовича, С. А. Найденова, А. И. Куприна, Е. Н. Чирикова и других. Гостями «Среды» в разные годы бывали П. Д. Боборыкин, Н. Н. Златовратский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, С. Я. Елпатьевский, А. П. Чехов, В. Г. Короленко.
По традиции участникам «Сред» давались «адреса»: каждый получал имя — название московской улицы, которое всего лучше подходило его натуре и характеру. Горькому, автору «На дне», присвоили прозвище «Хитровка», Куприн за любовь к лошадям стал «Конной площадью», худощавого, изящного, ядовитого Бунина прозвали «Живодеркой»; и может быть, самый удачный «адрес» получил Шаляпин — «Разгуляй» — за удаль и молодечество.
Шаляпина в «Среду» по просьбе писателей привел И. А. Бунин, с которым певец познакомился на проводах Горького в Крым, в Подольске. Оба сразу прониклись друг к другу симпатией. В «Среде» Шаляпин быстро освоился, почувствовал себя «своим», не боялся вступить в литературный спор, да и сам приобщился к «писательству». Свидетельство тому — стихотворный экспромт, записанный в рукописном альманахе «Среды». Свое сочинение он предварил традиционно-водевильной просьбой о снисхождении:
У Телешова
Трясется стол, трясутся руки, Писать совсем я не могу. Я без тебя умру со скуки. Прошу об этом ни гу-гу. Ты просишь слова два на память Тебе, мой ангел, написать, Изволь мне сердца не изранить, Я стар, я дряхл, мне наплевать. Сергей Васильич (Рахманинов. — В. Д.), друг любезный, Для Нины милой, дорогой Просил меня, чтоб стих курьезный Я написал ночной порой. Твою я просьбу исполняю, Беру перо, бумаги клок, Тебя душой благословляю, А остальное ждет свой срок.«Среда» разрасталась, порой собиралась и у Леонида Андреева на Пресне, и в Грузинах у доктора Ф. А. Доброва. Возникло даже намерение отъединиться от «Среды», преобразоваться в «Понедельники» и сохранить тесный круг общения. Однажды Шаляпин приехал на «Среду» возбужденный, вызвал по телефону С. В. Рахманинова и почти всю ночь пел под его аккомпанемент. «Никаких чтений в этот вечер не было, да и быть не могло, — вспоминал Телешов. — На него нашло вдохновение. Никогда и нигде не был он так обаятелен и прекрасен, как в тот вечер. Даже сам несколько раз говорил нам: — Здесь меня слушайте, а не в театре! Шаляпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти два великана, увлекая один другого, буквально творили чудеса. Это было уже не пение и не музыка в общепринятом значении, это был какой-то припадок вдохновения двух крупнейших артистов».
С Рахманиновым Шаляпин всегда чувствовал себя уверенно и защищенно. Поэтому к Льву Николаевичу Толстому они поехали вместе.
Случилось это в один из январских дней 1900 года.
В доме Толстых в Долго-Хамовническом переулке 9 января собрались дети Льва Николаевича, ближайшие родственники, близкие друзья, в числе которых молодые пианисты К. Н. Игумнов и А. Б. Гольденвейзер.
«Встретили нас радушно София Андреевна и сыновья Михаил, Андрей и Сергей. Нам предложили, конечно, чаю, но не до чаю было мне, — вспоминал Шаляпин спустя 30 лет после памятного вечера. — Я очень волновался. Подумать только, мне предстояло в первый раз в жизни взглянуть в лицо и в глаза человеку, слова и мысли которого волновали весь мир. До сих пор я видел Льва Николаевича только на портретах. И вот он живой! Стоит у шахматного столика и о чем-то разговаривает с молодым Гольденвейзером… Я увидел фигуру, кажется, ниже среднего роста, что меня крайне удивило, — по фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным, но физическим гигантом — высоким, могучим и широким в плечах…»
Под аккомпанемент Рахманинова Шаляпин исполнил романсы Даргомыжского, Чайковского, Мусоргского, Грига, Шуберта, Шумана. «Помню, запел балладу „Судьба“, только что написанную Рахманиновым на музыкальную тему Пятой симфонии Бетховена и на слова Апухтина. Рахманинов мне аккомпанировал, и мы оба старались представить это произведение возможно лучше, но так и не узнали, понравилось ли оно Льву Николаевичу».
Толстой избирательно относился к поэзии, Апухтин ему резко не нравился.
— И охота вам было, Сергей Васильевич, писать музыку на слова такого пошлого поэта? — спросил Лев Николаевич Рахманинова. — Вот что, Федор Иванович, спойте нам что-нибудь русское, родное.
Шаляпин спел «Ноченьку», потом песню А. С. Даргомыжского на слова Беранже «Старый капрал».
Лев Николаевич молчал и, в отличие от всех присутствующих, не аплодировал. Софья Андреевна шепотом сказала Шаляпину:
— Ради Бога, не подавайте виду, что вы заметили у Льва Николаевича слезы. Вы знаете, он бывает иногда странным. Он говорит одно, а в душе, помимо холодного рассуждения, чувствует горячо.
Музыканты все-таки были смущены таким приемом Толстого, но сыновья писателя посоветовали не придавать значения суждениям отца, кликнули лихача и все вместе умчались к «Яру» — развеяться, послушать цыган…
Иван Алексеевич Бунин приводит в своем биографическом очерке слова Толстого о Шаляпине:
«Он поет слишком громко». «Как все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине, — размышлял Бунин по поводу столь неожиданной оценки. — Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, высказывался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы — ему было тогда лет двадцать пять, — особенно; на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил».
На память о встрече с Толстым артист хранил фотографию с дарственной надписью: «Федору Ивановичу Шаляпину. Лев Толстой, 9 января 1900 г.». Тогда певец почувствовал облегчение, покидая дом Толстого, но, подводя итоги жизни, с печалью вспоминал:
«Стыдновато и обидно мне теперь сознавать, как многое, к чему надо было присмотреться внимательно и глубоко, прошло мимо меня как бы незамеченным. Так природный москвич проходит равнодушно мимо Кремля, а парижанин не замечает Лувра. По молодости лет и легкомыслию очень много проморгал я в жизни. Не я ли мог глубже, поближе и страстнее подойти к Льву Николаевичу Толстому?»
Пройдет совсем немного времени, и Горький поставит имя Шаляпина в один ряд с великим мыслителем: «Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый — Толстой».
Глава 6 ТРИУМФЫ НА СЦЕНЕ И ПОЛИТИКА В ЖИЗНИ
В 1904 году Шаляпин решил выступить в «Демоне» А. Г. Рубинштейна. Критики скептически отнеслись к этому намерению: партия написана для баритона и содержала для артиста определенные технические сложности. Кроме того, в театре уже сформировалась устойчивая традиция исполнения Демона. Представить себе что-либо отличное от принятой публикой интерпретации известных певцов И. В. Тартакова или П. А. Хохлова трудно. Внешний облик Демона исполнители заимствовали у известного мастера академической живописи М. Зичи, и могучий «дух зла» больше походил у Хохлова на женственного ангела, изнеженного и жеманного… В представлении же М. А. Врубеля Демон символизировал смятенное сознание, взрыв могучих страстей, не нашедших покоя ни на земле, ни на небе.
Шаляпин шел к Демону от полотен Врубеля, от его трагической обреченности, и потому поклонники старой сценической традиции сочли шаляпинскую интерпретацию «модернистской», «декадентской». Но Влас Дорошевич категорически объявил премьеру «Демона» «вечером реабилитации большого художника — Врубеля».
Морозной ночью на площади у Большого театра топчется толпа — ждут открытия кассы. А сам артист нервно ходит по кабинету, пробует голос. Не звучит! Утром в панике вызвал Горького: домашние в такие минуты старались не попадаться на глаза.
Алексей Максимович сел на край тахты, как врач у тяжелобольного:
— Федор, ты того… погоди… Может быть, еще обойдется? Главное, не волнуйся и не капризничай…
— Я капризничаю?.. Что я — институтка?
— Вот что, друг… ты это брось… Никакого ларингита у тебя нет… все это ты выдумал…
— То есть как это выдумал?
— Вот так и выдумал… Вчера голос у тебя был?
— Ну… был…
— Горло не болит?
Больной помял пальцами гланды:
— Кажется… не болит…
— Вот видишь… Сам посуди — куда твоему голосу из тебя деваться?.. Загнал его со страху в пятки и разводишь истерику…
«Лицо Шаляпина меняется толчками, как переводные картинки в альбоме, — вспоминает писатель А. Н. Серебров, — гримаса раздражения, потом обида на недоверие, потом упрямство, сконфуженность и вдруг — во все лицо — улыбка и успокоение, как у капризного ребенка, которого мать взяла на руки.
Он хватает Горького за шею и валит к себе на подушки:
— Чертушко!.. Эскулап!.. И откуда ты знаешь, как обращаться с актерами?.. Верно, угадал… От страха… Чего греха таить — боюсь, ох боюсь, Алексей… Никогда в жизни, кажется, так не боялся. Вторые сутки есть не могу… Чертова профессия! С каждой ролью такая мука… А сегодня — особенно.
Он по-театральному, полуоткрытой ладонью простер руку:
— Лермонтов!.. Это потруднее Мефистофеля. Мефистофель — еще человек, а этот — вольный сын эфира… По земле ходить не умеет — летает…
Шаляпин привстал с тахты, сдернул с шеи платок, сделал какое-то неуловимое движение плечами, и я увидел чудо. Вместо белобрысого вятича на разводах восточного ковра возникло жуткое существо надземного мира: трагическое лицо с сумасшедшим изломом бровей, выпуклые глаза без зрачков, из них фосфорический свет, длинные, не по-человечески вывернутые в локтях руки надломились над головой как два крыла… Сейчас поднимется и полетит…»
«Демон» родился в совместном творческом поиске Шаляпина, Врубеля, Коровина. «Врубелевский» грим, костюм из черной полупрозрачной ткани, прошитый красной нитью, подчеркивал фигуру певца. Коровин на репетициях помогал Шаляпину найти пластический рисунок роли. Не раз приходилось и Горькому, жившему в эти дни в Москве, приезжать к Шаляпину. «Великолепная фигура! Русский богатырь Васька Буслаев… Сто лет такого не увидите», — рекомендовал он певца А. Н. Сереброву.
1904 год — общественные страсти в России накалены… «Я задумал… понимаешь… не сатана… нет, а этакий Люцифер, что ли? Ты видел ночью грозу? На Кавказе? — спрашивал Шаляпин Горького. — Молния и тьма… в горах!.. Романтика… Революция!..»
В ложе Большого театра — Вл. И. Немирович-Данченко, В. А. Серов, К. А. Коровин, Влас Дорошевич, критик Н. Д. Кашкин, М. Горький и его постоянные спутники — К. П. Пятницкий, И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, С. Г. Скиталец, А. Н. Серебров…
«Шаляпинский Демон предстал со сцены как фантастическое видение из Апокалипсиса, с исступленным ликом архангела и светящимися глазницами, — писал В. Дорошевич. — Смоляные до плеч волосы, сумасшедший излом бровей и облачная ткань одежд закрепляют его сходство с „Демоном“ Врубеля. Он полулежит, распростершись на скале: одной рукой судорожно вцепился в камень, другая — жестом тоски — закинута за голову».
«— От Врубеля мой Демон, — скажет Шаляпин. — …Мне кажется, что талант Врубеля так грандиозен, что ему было тесно в его тщедушном теле, и Врубель погиб от разлада духа с телом».
В антракте перед третьим актом — чествование бенефицианта: подарки, венки, цветы, приветствия, аплодисменты. Зрительский восторг достигает эмоциональной вершины: Ф. И. Шаляпин вывел на авансцену К. А. Коровина, обнял его, в зале — овация!
Но впереди — третий акт!
«Это был не спектакль. Это был сплошной триумф, — писали „Новости дня“. — Несомненно, Шаляпин работал здесь под влиянием врубелевских картин. И под тем же, может быть, влиянием значительно убавил обычную у оперных исполнителей „лиричность“ Демона, придал ему большую суровость, силу сосредоточенной скорби. Впечатление мощи преобладало…»
Очерк Дорошевича о «Демоне» звучал пламенным манифестом творческой свободы:
«Антракт был полон разговоров о Демоне, которого увидели в первый раз.
— Это врубелевский Демон!
— Врубелевский!
— Врубелевский!
И при этих словах, право, сжималось сердце.
Позвольте вас спросить, что же говорили вы, когда этот безумный и безумно талантливый художник создавал свои творения?
За что же вы костили его „декадентом“ и отрицали за ним даже право называться „художником“?
За что?
За то, что он смел писать так, как он думает? А не так, как „принято“, как „полагается“, как каждый лавочник привык, чтобы ему писали?
Вы говорите о тяжести цензуры. Вы самые безжалостные цензоры в области творчества с вашим:
— Пиши, как принято!
И если Шаляпин дал „врубелевского Демона“, — это был вечер реабилитации большого художника.
Итак, Врубель заменил на сцене Зичи. И у прозаичных баритонов, „лепивших из себя Демона Зичи“, выходил больше послушник с умащенными к празднику расчесанными волосами.
Шаляпин имел смелость показать врубелевского Демона.
И создание несчастного и талантливого художника сразу обаянием охватило толпу.
Ущелье, заваленное снеговым обвалом. Дикое и мрачное.
Решительно Коровин недаром проехался по Дарьяльскому ущелью. От его Кавказа веет действительно Кавказом, мрачным, суровым, и среди этих скал действительно мерещится призрак лермонтовского Демона.
Мы в первый раз видели лермонтовского Демона, в первый раз слышали рубинштейновского „Демона“, перед нами воплотился он во врубелевском нынешнем образе.
Артиста, который сумел воплотить в себе то, что носилось в мечтах у гениального поэта, великого композитора, талантливого художника — можно назвать такого артиста гениальным?» — спрашивал В. Дорошевич.
После окончания спектакля публика рукоплещет, певец на сцене засыпан цветами, подарками, записками…
Горький с друзьями у подъезда Большого театра, в распахнутом пальто, без шапки.
— Простудитесь, Алексей Максимович!
— Да… да… Замечательно, — бормочет Горький.
Выходит певец, друзья окружают его, берут извозчика. Дорогой молчат… У Страстного монастыря остановка: куда ехать? Выбирают «Стрельну», что в Петровском парке.
Гостей проводят в отдельный кабинет. Рядом, за перегородкой, шумно, тосты, пение. Знакомый мотив — куплеты Мефистофеля! Прислушались.
Я на первый бенефис Сто рублей себе назначил. Москвичей я одурачил, Деньги все ко мне стеклись. Мой великий друг Максим Заседал в бесплатной ложе. «Полугорьких» двое тоже Заседали вместе с ним. Мы дождались этой чести Потому, что мы друзья. Это все одна семья. Мы снимались даже вместе, Чтоб москвич увидеть мог Восемь пар смазных сапог… Смазных сапог, да!Как вспоминает К. А. Коровин, среди прибывших возникло замешательство. Первым весело отреагировал «бенефициант»:
«— Что за черт, — сказал Шаляпин. — А ведь ловко!
Позвали метрдотеля. Шаляпин спросил:
— Кто это там?
— Да ведь как сказать… Гости веселятся. Уж вы не выдайте, Федор Иванович. Только вам скажу: Алексей Александрович Бахрушин с артистами веселятся. Они хотели вас видеть, только вы не пустите.
Горький вдруг нахмурился и встал:
— Довольно. Едем.
Мы все поднялись. Обратно Горький и Шаляпин снова ехали вместе, мы на паре.
— Чего он вскинулся? — удивлялся Серов. — Люди забавляются. Неужели обиделся? Глупо».
В соседнем кабинете гостей принимал Алексей Александрович Бахрушин, страстный коллекционер, создатель Театрального музея. «Восемь пар…» — это для рифмы. На фотографии писателей семеро, а в сапогах лишь четверо — Л. Андреев, Шаляпин, Скиталец, Горький. Но это всего лишь детали — корпоративный дух «Среды» в куплетах, которые и исполнял, кстати, Бахрушин, схвачен точно.
Куплеты вмиг стали популярными. Шаляпин сам пел их друзьям. Реагировали по-разному. Бунин назидательно пенял артисту:
— Не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, — помни, кто ты и кто они.
— Чем же я от них отличаюсь?
— Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература» и часто даже лубочная, твой же голос, во всяком случае, не «литература».
Впрочем, что касается публичной демонстрации сословно-классового братства, то, как и другие участники фотографического сеанса, артист вскоре освободился от увлечения «костюмированными композициями» и впоследствии если и облачался в косоворотку русского мастерового и смазные сапоги, то лишь на сценических подмостках в соответствующей роли, например в тургеневских «Певцах».
Жизнь художника, артиста, литератора не замыкалась творчеством, она выходила за пределы театра, мастерской и неизбежно становилась публичной; она отражалась в «устных рассказах», молве, слухах, в многочисленных газетных репортажах, интервью, статьях, карикатурах. Вот шарж-пародия на «Трех богатырей» — известную картину В. М. Васнецова. Богатыри: Короленко, Толстой, Чехов. Им противостоит «троица» на соломенных пьедесталах — Горький, Скиталец, Андреев. Следует диалог:
Горький. Богатыри, братцы едут! Сила!.. Не стушеваться ли нам? (Всматривается)
Андреев. Чего тушеваться? Мы им не пара. Трогать нас не станут.
Скиталец (с балалайкой). Верно! Они по себе, а мы по себе. (Играет на балалайке.) Трим-бим-бом.
Диалог ведут между собой и «богатыри»:
Толстой. Что за люди сидят на соломенных пьедесталах? (Всматривается.)
Короленко. Должно быть, пропойцы какие-нибудь. Жулики.
Чехов. Эге-ге, да никак Андреев, Горький, Скиталец там?!
Шарж иллюстрировал мнение той части публики, которая с недоверием относилась к творчеству нового поколения литераторов.
Но существовала и иная точка зрения. Она запечатлена в открытке, разошедшейся в те годы огромным тиражом. Опять за основу берется сюжет васнецовских «Богатырей», изображены на этот раз Горький, Андреев и Шаляпин, рисунок сопровожден красноречивым текстом Н. Г. Шебуева:
«Васнецовские „Богатыри“ оторвались от сырой матери-земли, сели на своих коренастых коней и глядят, в какую сторону поехать. То были богатыри былины. А это богатыри сегодняшней были. Былина претворилась в быль. Почуяли добрые молодцы у себя в плечах силищу несказанную — так бы весь мир перевернули.
Максим опустился на дно и „На дне“ жизни свою силушку выявил. Леонид к вершинам норовит. „К звездам“ (так называлась пьеса Л. Н. Андреева. — В. Д.), — и до неба рукой достать хочется.
А Федор — посередке стал. На дно посмотрит — „Дубинушку“ шарахнет, на небо взглянет — сатанинским смехом расхохочется».
Дружба с литераторами обогащала и расширяла кругозор Шаляпина. Это заметил и оценил рецензент «Санкт-Петербургских ведомостей»: «Г<осподину> Шаляпину много помогает его общая интеллигентность: общение с литературною средою заставило его серьезно относиться к идеальным обязанностям артиста».
Литераторы, публицисты, критики создавали у читающей публики образ артиста — «героя нашего времени», человека «со дна», «из толщи народной жизни», поднявшегося к вершинам искусства. «Из факта существования Шаляпина можно вывести много утешительного, — писал Леонид Андреев. — И отсутствие дипломов и всяких условных цензов, и странная судьба Шаляпина с чудесным переходом от тьмы заброшенной деревушки к вершине славы даст только лишний повод к радости и гордости: значит — силен человек. Значит — силен живой Бог в человеке!.. Я не беру на себя задачи достойно оценить Ф. И. Шаляпина — Избави Бог. Для того нужна прежде всего далеко не фельетонная обстоятельность, а серьезная подготовка и хорошее знание музыки. И я надеюсь, хочу надеяться, что эта благородная и трудная задача найдет для себя достойных исполнителей: когда-нибудь, быть может скоро, появится „Книга о Ф. Шаляпине“, созданная совместными усилиями музыкантов и литераторов. Такая книга необходима».
Озорство, бунтарство, эпатаж увлекали артистичную натуру Шаляпина. В 1912 году он носился с мыслью об опере о Ваське Буслаеве или Стеньке Разине и делился своими соображениями с Горьким, Глазуновым, Буниным… Однако компанейские «игры в революцию» становились подчас нарочитыми, показными, а иногда и рискованными.
Борцы за народное благо любили отмечать успехи, юбилеи, знаменательные даты раздольно, широко, за обильным ужином, в столичных ресторанах и запечатлевать встречи — на радость публике, для истории — в журналистских репортажах, газетных интервью и, конечно, на фото. Как-то после теплого застолья в «Альпийской розе» участники «Среды» — Л. Н. Андреев, Н. Д. Телешов, М. Горький, И. А. Бунин, С. Г. Скиталец, Е. Н. Чириков, Ф. И. Шаляпин — в очередной раз дружно отправились в фотоателье. Бунин заметил Скитальцу:
— По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть против тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет Буревестник, черной молнии подобный», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к «Яру» и в «Стрельну».
Шаляпин находчиво все обернул в шутку:
— Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер, и крышка ему.
— Да, — подхватил Горький, — писал, писал и околел.
— Как я, например, — сумрачно сказал Андреев. — Околею в первую голову.
«Он это постоянно говорил, — замечает Бунин, — и над ним посмеивались. Но так оно и вышло».
Фотографию снова широко растиражировали в виде почтовой открытки. На газетных полосах карикатуристы не устают обыгрывать дружбу Шаляпина с Горьким — «Новейшие Орест и Пилад», высмеивают манеры друзей Горького — «подмаксимков», «стилизующихся» под «простонародье».
И. А. Бунин обычно останавливался в Большой Московской гостинице, что размещалась на Воскресенской площади. Как-то, вспоминал писатель, он спустился поужинать в Большой московский трактир при гостинице. Вяло играл неаполитанский оркестр, мелодии гасли в гуле звенящей посуды, тостов…
«И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, „орлиным“ взглядом окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной „королевской“ милости! — вспоминал Бунин. — Пели мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком:
— Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и потому решил поднять тебя в твой номер на собственных плечах, ибо лифт не действует уже.
— Не забывай, — сказал я, — что я живу на пятом этаже и не так мал.
— Ничего, милый, — ответил он, — как-нибудь донесу!
И действительно донес, как я ни отбивался».
В бунинских воспоминаниях Шаляпин несется по морозной Москве на лихаче, в распахнутой шубе и поет в полный голос…
Осенью 1903 года Шаляпин часто выступает в Большом театре, готовит премьеру — оперу А. Т. Гречанинова «Добрыня Никитич», в которой исполняет заглавную роль. Артист М. С. Нароков оказался у Шаляпина в компании актеров, музыкантов, писателей. Федор Иванович, в русской рубахе и высоких сапогах, весел, общителен. Композитор А. Н. Корещенко играет на рояле фрагменты своего нового балета. Леонид Андреев и Горький беседуют о литературе. Окинув взглядом книжный шкаф, Горький замечает:
— Слушай, Федор, сколько у тебя тут всякой дряни понапихано!
Вскоре в бенефис артиста Горький подарил певцу целую библиотеку русских классиков.
Вечер у Шаляпина завершался, разумеется, пением. Нарокову запомнились «Песня семинариста», тонкая и озорная, и «Волки» на слова А. К. Толстого. «В исполнении Шаляпина эта песня потрясла меня до озноба. Пахнуло седой стариной, колдовством и нежитью.
Волки церковь обходят Осторожно кругом. В двор поповский заходят И шевелят хвостом. Близ корчмы водят ухом И внимают всем слухом: Не ведутся ль там грешные речи? Их глаза словно свечи, Зубы шила острей: Ты тринадцать картечей Козьей шерстью забей И стреляй по ним смело…Этот могучий шаляпинский крик леденил душу. И заключительные строки о мертвых старухах, и последние слова: „С нами сила Господня!“ звучали как избавление от бесовского наваждения.
Сам же он, Шаляпин, точно колдун, кружил своими пьянящими песнями наши головы, заставлял усиленно биться наши сердца».
Москву Шаляпин в эту пору любил больше Петербурга. Москвичи раскованнее, дружелюбнее, нежели сдержанные обитатели Северной Пальмиры. Ведь Частная опера, Художественный театр, абрамцевский кружок, Товарищество художников, телешовские «Среды» и множество студий возникли в Москве не случайно. Московским писателям, художникам, артистам больше, чем петербургским, присуще стремление к общению, не связанное официальным регламентом, рожденное близостью личных симпатий и творческих устремлений. Даже «петербуржец» И. Е. Репин отмечал — во всех важнейших проявлениях русской жизни Москва «недосягаема для прочих культурных центров нашего отечества».
Осенью 1902 года Горький приезжает читать труппе МХТ пьесу «На дне». Прагматичный Немирович-Данченко хочет извлечь из предстоящего мероприятия максимальный художественный и экономический результат.
«Многоуважаемый Федор Иванович! — пишет он Шаляпину. — Вы и в прошлом и в нынешнем году обещали спеть в пользу бедных наших учеников.
Знаю отлично, как Вам это трудно, и потому я устраиваю это так.
На воскресенье, 1 декабря, в фойе нашего театра, в час дня Горький будет читать „На дне“. Билетов продается всего сорок-пятьдесят штук. Плата за билет 25 руб. (многие платят больше). (От себя заметим: кресло первого ряда партера в императорских театрах стоило пять-шесть рублей. — В. Д.) Таким образом, — продолжает письмо Немирович-Данченко, — получится совершенно интимное утро. И вот я обещаю этим сорока-пятидесяти лицам, что Вы будете в театре, будете слушать пьесу, а потом что-нибудь споете совершенно запросто, даже в сюртуке. Словом, мне хочется, чтоб это Вас не утомило. Правда же, это Вам не так трудно — спеть два-три романса в фойе театра. Часа в 4–4½ все кончится.
Мне бы хотелось попросить Рахманинова проаккомпанировать Вам».
Представление удалось на славу! «Горький читал великолепно, но особенно Луку, — вспоминала М. Ф. Андреева. — Когда дошел до сцены смерти Анны, он не выдержал, расплакался. Оторвался от рукописи, поглядел на всех, вытирает глаза, сморкается и говорит: „Хорошо, ей-богу, написал. Черт знает, а правда хорошо!“ Вокруг него смотрели влюбленными глазами, мы все тогда, от мала до велика, были влюблены в него; больше всех, пожалуй, К. С. Станиславский. Шаляпин обнял Алексея Максимовича и стал уговаривать: „Ничего, ничего! Ты читай, читай дальше, старик!“ Трудно описать, в каком все мы были восторге».
Спустя три недели чтение «На дне» состоялось у Л. Н. Андреева, в Среднем Тишинском переулке. Просторная квартира едва вместила всех приглашенных. Люди стояли в дверях, сидели на подоконниках.
Шаляпин знает «На дне» почти наизусть, сам находится под сильным обаянием пьесы, и это удивительным образом выплескивается на сцене. В опере А. Н. Серова «Вражья сила» он исполнял партию Еремки: критик Ю. Д. Энгель, слушавший оперу 30 сентября 1902 года (накануне Шаляпин читал «На дне» у Леонида Андреева. — В. Д.), писал:
«Еремка получился неподражаемый, точно сорвавшийся со страниц Горького, яркий и верный жизни с головы до пяток, от первого слова до последнего…»
«Присутствие» горьковских персонажей чувствовалось и в исполнении Шаляпиным концертных номеров. Газета «Новое время», рассказывая о концерте в Большом театре (вечер давался в пользу артистического убежища), отмечала: «Разудалое, отчаянное „Прощальное слово“ г. Скитальца, положенное на музыку г. Слонова, производит фурор. Действительно, г. Шаляпин поет это мощно, широко. Звуки обжигают. Поет „Дно“ с его бродящими силами. Публика не может успокоиться».
Два больших художественных события состоялись в Москве в декабре 1902 года: Шаляпин готовился к бенефисному спектаклю «Мефистофель» А. Бойто, а Московский Художественный театр выпустил премьеру «На дне». «Горький был вызван всем театром пятнадцать раз, он выходил со всеми участниками спектакля и г. Немировичем-Данченко, — писала газета „Русское слово“. — Нечто не поддающееся описанию произошло, когда Горький, наконец, вышел на выходы один. Такого успеха драматурга мы не запомним».
Горький, занятый собственной премьерой, тем не менее принимал горячее участие в подготовке шаляпинского бенефиса в «Мефистофеле». В театре должна была собраться «вся Москва», а сам спектакль становился для Горького не только художественным, но и общественным событием. Триумфу певца следовало придать социальную окраску. От имени «Среды» Горький пишет певцу приветственный адрес — программный манифест, в котором звучат пламенные политические призывы и угрозы нового героя-бунтаря.
«Федор Иванович!
Могучими шагами великана ты поднялся на вершину жизни из темных глубин ее, где люди задыхаются в грязи и трудовом поту. Для тех, что слишком сыты, для хозяев жизни, чьи наслаждения оплачиваются ценою тяжелого труда и рабских унижений миллионов людей, ты принес в своей душе великий талант — свободный дар грабителям от ограбленных. Ты как бы говоришь людям: смотрите! Вот я пришел оттуда, со дна жизни, из среды задавленной трудом массы народной, у которой все взято и ничего взамен ей не дано! И вот вам, отнимающим у нее гроши, она, в моем лице, свободно дает неисчислимые богатства таланта моего! Наслаждайтесь и смотрите, сколько духовной силы, сколько ума и чувства скрылось там, в глубине жизни!
Наслаждайтесь и подумайте — что может быть с вами, если проснется в народе мощь его души, и он буйно ринется вверх к вам и потребует от вас признания за ним его человеческих прав и грозно скажет вам: хозяин жизни тот, кто трудится!
Федор Иванович!
Для тысяч тех пресыщенных людей, которые наслаждаются твоей игрой, ты — голос, артист, забава, ты для них — не больше; для нас — немногих — ты доказательство духовного богатства родной страны. Когда мы видим, слушаем тебя, в душе каждого из нас разгорается ярким огнем святая вера в мощь и силу русского человека. Нам больно видеть тебя слугой пресыщенных, но мы сами скованы цепью той же необходимости, которая заставляет тебя отдавать свой талант чужим тебе людям. Во все времена роковым несчастием художника была его отдаленность от народа, который поэтому именно до сей поры все еще не знает, что искусство так же нужно душе человека, как и хлеб его телу: всегда художники и артисты зависели от богатых, для которых искусство только пряность.
Но уже скоро это несчастие отойдет от нас в темные области прошлого, ибо масса народная, выросшая духовно, поднимается все выше и выше!
Мы смотрим на тебя как на глашатая о силе духа русского народа, как на человека, который, опередив сотни талантов будущего, пришел к нам укрепить нашу веру в душу нашего народа, полную творческих сил.
Иди же, богатырь, все вперед и выше!
Славное, могучее детище горячо любимой родины, — привет тебе!
Иван Бунин, М. Горький, К. Пятницкий, А. Алексин, Скиталец, Н. Телешов, Евгений Чириков, Леонид Андреев, С. Скирмунт».Вдумаемся в поздравительный текст. Считал ли сам певец собственный талант «даром грабителям от ограбленных»? Чувствовал ли он «трагичность разрыва с народом»? Ощущал ли себя несчастной «жертвой режима», вынужденной быть «слугой чужих пресыщенных людей, для которых искусство только пряность»? Наконец, согласен ли был принять на себя роль провозвестника социальных преобразований? Да полно! Радость жизни и творчества переполняет его в эти годы, он кумир российской и европейской публики, желанный гость королевских и княжеских дворов, наконец, друг талантливейших своих современников, никакого «разрыва с народом» у него нет, как нет и «комплекса ограбленного», и тяжкой зависимости от «власти имущих»… И уж совсем странно звучит вложенная Горьким в уста Шаляпина неотвратимая угроза поклонникам: наслаждайтесь моим искусством, пока народ не призвал вас к ответу и не сказал грозно: «Хозяин жизни тот, кто трудится» (кстати, прямая цитата из роли Нила в «Мещанах»).
Адрес был заключен в изящно инкрустированный ларец и прочитан уже в ходе ресторанного застолья после спектакля: видимо, вся его выспренняя декларативность, многозначительность и помпезность растворились в тостах, лобзаниях, объятиях и речах во славу процветающего юбиляра и великого отечества.
Однако еще до знакомства с Горьким имидж Шаляпина энергично формировали журналистика и публика. Триумфальные приемы на сцене Русской частной оперы Мамонтова, в миланском театре «Ла Скала», в императорском Большом театре, овации, триумфы, венки с лентами «Гениальному самородку», «Великому художнику», «Борцу», репортажи, интервью, портреты, восторги критики… К началу века Шаляпин прочно вписан в культурный контекст времени. Сценические образы, житейский облик, публичное поведение Шаляпина восхищают публику мощью таланта, игровой импровизацией, рождают ассоциации, влияют на моду, взгляды, образовывают вокруг его неординарной фигуры некую духовную и художественную ауру. «Самородок», «талант из низов» — социальные ярлыки прилипли к певцу. Но одновременно — «кумир публики», «царь-бас», «великий кудесник», «творец-художник» — он становится «символом эпохи», ему подражают, на него ссылаются, его именем ниспровергают неколебимые, казалось бы, авторитеты.
Горький-идеолог «выстраивает» имидж Шаляпина в другой — идеологической — плоскости: на основе уже циркулирующего в сознании публики «образа народного самородка» он «лепит» из артиста плакатно пропагандистскую фигуру «горлана-главаря». Приветствие писателей «Среды», написанное Горьким к бенефисному спектаклю «Мефистофель» 3 декабря 1902 года, — это программный манифест, полный политических поучений и угроз обществу, сконцентрировавший в себе мотивы «песен» о Соколе, о Буревестнике, обличительных монологов из «На дне», «Мещан», «Дачников», «Детей солнца». Горький властно навязывает Шаляпину бунтарское мышление, обряжает в костюм баррикадного лидера и таким преподносит общественному мнению.
Хотел ли Шаляпин выступать в облике «народного мстителя», провозвестника грядущих мятежей?
Пройдет немного времени, и артисту придется все чаще отвечать друзьям и недругам на категоричный вопрос: с кем же он? Но пока возбужденные поклонники всех рангов и сословий осаждают подъезды театра, а «Среда» дружно занимает отведенную ей ложу Большого театра и до хрипоты вместе с «грабителями» кричит «браво!», «бис!». Ну а потом — привычное: «Эй, ямщик, гони-ка к „Яру“!»…
Видимо, в последний момент приветственный адрес решили в театре со сцены не оглашать — Горький передал его артисту после застольной речи в ресторане Тестова. Тем не менее миф о «революционере» запущен в оборот. «Могучим крылатым воителем», «вождем небесных революций» называют критики шаляпинского Демона. А писатель А. С. Серафимович увидел в зале разодетых и пресыщенных людей, которые «…уже не думали хорошо или дурно звучит голос, хорошо или дурно играет тот, кто прежде был Шаляпиным. Бездна злобного презрения заливала, давила их. А сатана не унимался. Он оторвал сытую, уверенную толпу от обычной обстановки, от обычного комплекса чувств и ощущений, и все чувствовали себя маленькими, жалкими и ничтожными». Этот фонтан горячих восторгов не охладила даже ироническая реплика критика Н. Д. Кашкина: «Не хватало только, чтобы Демон разбрасывал листовки „Долой самодержавие!“».
Глава 7 «ДУБИНУШКА»
8 января 1905 года в Петербурге, в переполненном зале Дворянского собрания состоялся абонементный концерт дирижера А. И. Зилоти. Впервые исполнялась кантата С. В. Рахманинова «Весна» с участием Шаляпина.
Исключительный успех концерта обусловлен не только участием Шаляпина, но и созвучностью кантаты настроению предреволюционных дней. «Вот нужное искусство, созданное убежденным художником», — подчеркивал музыковед А. В. Оссовский в газете «Слово».
Жена Александра Ильича Зилоти Вера Павловна сообщала своей сестре Третьяковой-Боткиной: «Да, забыла написать о концерте 8-го; это было в минуту начала беспорядков, во дворе уже были войска „на случай“, но потом угнали их, говоря, что „публика, как и всегда у Зилоти, чинная, бояться нечего“. Да и правда, несмотря на присутствие „шаляписток“ или „шаляпинисток“, весь концерт прошел „чинно“… Рахманинов — великолепен».
В столице тем временем ощущались напряженность и тревога. Вернувшись из Михайловского театра, В. А. Теляковский записал в дневнике: «На спектакле присутствовали вел. кн. Владимир Александрович, Алексей Александрович, Николай Николаевич, Борис и Алексей Владимировичи… При разъезде Борис Владимирович, смеясь, мне сказал: „А завтра-то, говорят, толпа будет и войска будут делать пиф-паф“».
Еще днем Горький с депутацией ученых и литераторов обратился к министру внутренних дел С. Ю. Витте с требованием не допускать расправы над мирной рабочей демонстрацией. Вечером Савва Морозов подтвердил тревожную информацию: к Зимнему дворцу стягиваются войска.
9 января в шесть утра Горький на петербургских улицах. У Сампсониевского моста он встречает колонны демонстрантов с красным флагом. «Эту толпу, — сообщал Горький в письме Е. П. Пешковой, — расстреляли почти в упор у Троицкого моста. После трех залпов откуда-то со стороны Петропавловской крепости выскочили драгуны и начали рубить людей шашками».
Горького ужаснула кровавая сцена. Он участвует в сборе пожертвований в пользу пострадавших, пишет воззвание «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств». Бледный, в распахнутой шубе, Горький ворвался в огромный читальный зал Публичной библиотеки с призывом: «Молодежь! Студенты! Разве тут ваше место? Идите к тем, кого убивают, боритесь за их дело!» Вечером того же дня Горький выступал с протестующей речью в Вольном экономическом обществе.
На следующий день Горький уезжает в Ригу, там его арестовывают, возвращают в Петербург и заключают в Петропавловскую крепость. Мир возмущен насильственной акцией. Зарубежные газеты публикуют воззвания «Спасите Горького!». 14 февраля 1905 года Горький освобожден «по состоянию здоровья». Советник Петербургской судебной палаты информировал директора Департамента полиции: «По названному делу мерою пресечения принят залог в сумме 10 000 рублей, внесенный мануфактур-советником Саввой Тимофеевичем Морозовым».
Шаляпину не довелось быть свидетелем событий 9 января. Сразу после концерта он уехал в Москву. Но 16 января артист участвовал в заседании «Рубинштейновского кружка» в московском «Эрмитаже» — обсуждалось составленное Ю. Энгелем «Постановление московских композиторов и музыкантов». Документ констатировал отсутствие в стране свободы мысли и совести, слова и печати. «Мы не свободные художники, а такие же бесправные жертвы современных ненормальных общественно-правовых условий, как и остальные русские граждане, и выход из этих условий, по нашему убеждению, только один: Россия наконец должна вступить на путь коренных реформ». Текст подписали С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, А. Б. Гольденвейзер, Н. Д. Кашкин, С. Н. Кругликов, Л. В. Николаев — всего 29 музыкантов. На постановление москвичей немедленно откликнулся из Петербурга и Н. А. Римский-Корсаков: через газету «Наши дни» он просит присоединить его подпись.
Русское музыкальное общество по воле его вице-президента великого князя К. К. Романова осудило Римского-Корсакова и содействовало его увольнению из Петербургской консерватории за сочувствие бастующим студентам. А. К. Глазунов и А. Н. Лядов демонстративно покинули консерваторию, солидарные с ними московские музыканты, в том числе и Шаляпин, отказались участвовать в концертах Русского музыкального общества, а московские деятели культуры — 622 человека — обратились к Римскому-Корсакову с открытым письмом: «Но чем бы ни пытались оправдаться лица, осмелившиеся Вас уволить, весь несмываемый позор этого поступка падет на них же. И мы верим, что недалек тот день, когда волна общественного самосознания вырвет судьбы родного искусства из рук непризнанных вершителей и вручит их Вам и подобным Вам истинным художникам и истинным гражданам».
Публичные акции насторожили чиновников. Управляющий Московской театральной конторой Н. фон Бооль доносил Теляковскому о невозможности дальнейшего пребывания Шаляпина, Рахманинова, пианиста и дирижера Л. В. Николаева в Большом театре: «О том, что артисты императорских театров подписались под приведенным постановлением, уже толкуют по всему городу».
Бунтарские настроения проникают в императорский Большой театр. Демократически настроенная публика требует начинать спектакли исполнением «Марсельезы», в ответ консервативная часть зала настаивает на гимне «Боже, царя храни!».
С. В. Рахманинов поставил дирекции условие: под его руководством будут исполнять «Марсельезу»; для царского гимна приглашайте других дирижеров. Теляковский принял ультиматум и вплоть до разгрома Декабрьского вооруженного восстания перед началом представлений звучала «Марсельеза».
На четвертом филармоническом концерте в Москве 29 января Шаляпин исполнял «Вакхическую песню» А. К. Глазунова на слова А. С. Пушкина и «Семинариста» М. П. Мусоргского — романс долгое время запрещался цензурой. «Поистине гениально и на этот раз как-то особенно многозначительно спета сверх программы чудесная „Песня о блохе“ Мусоргского, за которой последовал ряд других пьес (Шуберта и др.)», — писал Ю. Энгель. Светлый пафос «Вакхической песни», грозная интонация «Песни о блохе» находили в эти дни живой отклик у публики.
5 февраля 1905 года эсер Иван Каляев стрелял в московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Полиция, казаки, конные разъезды патрулируют улицы. 9 февраля на квартире Леонида Андреева в Среднем Тишинском переулке арестована группа членов РСДРП. За три дня до ареста Андреев писал В. В. Вересаеву: «Вы поверите, ни одной мысли в голове не осталось, кроме революции, революции, революции. Вся жизнь сводится к ней. Литература в загоне — на „Среде“ вместо рассказов читают „протесты“, заявления и т. п.».
Шаляпин участвует в работе Комитета самопомощи среди сценических деятелей — председательствует в нем В. Ф. Комиссаржевская. Мать В. А. Серова Валентина Семеновна организует столовую для рабочих. Шаляпин жертвует тысячу рублей. Ей тут же подбросили записку: «Если вы не перестанете кормить рабочих, мы вас убьем!» Отважная женщина отправилась к зданию, где помещалась столовая, но уже из окна конки увидела толпу черносотенцев, поджидавших ее. Пришлось вернуться. Дома в Большом Знаменском переулке скрывалась дочь арестованного близкого друга Серова. Когда у входной двери раздавались звонки, думали: пришли жандармы. Квартира Константина Коровина ограблена, разрушена артиллерийскими снарядами, выбиты стекла, пробит потолок…
Авторы известного сборника статей «Вехи» (1909), философы и мыслители, задавались вопросом: как могло общество, в котором интеллигенция занимает такое видное положение, опуститься до грабежей, резни, животной разнузданности? Г. П. Федотов писал: «60-е годы, сделавшие так много для раскрепощения России, нанесли политическому освободительному движению тяжелый удар. Они направили значительную и самую энергичную часть его — все революционное движение — по антилиберальному руслу… Они желают революции, которая немедленно осуществила бы в России всеобщее равенство — хотя бы ценой уничтожения привилегированных классов… Можно многое привести в объяснение этой поразительной аберрации: погоню за последним криком западной политической моды, чрезвычайный примитивизм мысли, оторванной от действительности, максимализм, свойственный русской мечтательности. Но есть один, более серьезный и роковой мотив, уже знакомый нам. Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы. Они знали, что народу свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы».
В 1905 году большевизм начал себя осознавать и набираться практического боевого опыта. В своей пророческой статье «Грядущий Хам» Д. С. Мережковский описал три зловещих лица Хама в России: первое — настоящее лицо самодержавия; второе — «лицо православия, воздающего кесарю Божие», «мертвый позитивизм православной казенщины». И третье — «будущее под нами, лицо хамства, идущего снизу, — хулиганства, босячества, черной сотни — самое страшное из всех трех лиц». Согласно Мережковскому, три этих начала направлены против народа — живой плоти, против церкви — живой души, против интеллигенции — живого духа России.
К предсказанию Мережковского, известного автора философско-искусствоведческих эссе, историко-философских романов, многие в ту пору отнеслись как к абстрактным конструкциям писателя-символиста, живущего в умозрительных представлениях о реальной жизни. Между тем, как показала дальнейшая история, в его суждениях было много больше здравого смысла и трезвого реализма, нежели в романтизации босяка-люмпена и шумных «буревестнических» призывах Горького.
События на Дворцовой площади 9 января тяжело переживал В. А. Серов. «Он имел вид человека, — вспоминала художница С. Симонович-Ефимова, — перенесшего тяжелую болезнь или утрату близких. Желтое бледное лицо с еще более желтыми подтеками под глазами, с какими-то зеленоватыми висками — он был просто страшен, потому что привычный цвет его лица был красный. При этом он явно томился и не находил себе места. Он переходил из одной комнаты в другую, садился, опять вставал, сильно вдыхал воздух, долго смотрел в окно. Это было началом изменения его характера и его убеждений».
Потрясенный случившимся, Серов написал своему учителю И. Е. Репину письмо:
«То, что пришлось видеть мне из окон Академии Художеств 9 января, не забуду никогда — одержимая величественная безоружная толпа, идущая навстречу кавалерийским атакам и ружейному прицелу — зрелище ужасное. То, что пришлось увидеть после, было еще невероятнее по своему ужасу. Ужели же сам государь не пожелал выйти к рабочим и принять от них просьбу, то это означало их избиение? Кем же предрешено это избиение? Никому и ничем не смыть этого пятна. Как главнокомандующий петербургскими войсками в этой безвинной крови повинен и президент Академии Художеств — одного из высших институтов России. Не знаю, в этом сопоставлении есть что-то поистине чудовищное — не знаешь, куда деваться. Невольное чувство просто уйти — выйти из членов Академии, но выходить одному не имеет значения… Мне кажется, что если бы такое имя, как Ваше, его не заменить другим, подкрепленное другими какими-либо заявлениями или выходом их членов Академии, могло бы сделать многое».
Выход Серова из академии приветствовал Стасов. Репин тоже отметил резкие перемены в Серове: «…его милый характер круто изменился: он стал угрюм, резок, вспыльчив и нетерпим…»
Рисунок Серова «Солдатушки, браво ребятушки! Где же ваша слава?» — исследователи связывают с Декабрьским вооруженным восстанием в Москве. Тогда же Серов написал эскиз «Похороны Баумана», акварель «14 декабря 1905 года», «Сумской полк», три карикатуры на царскую фамилию: «Виды на урожай», «После усмирения», «М. Ф. Романова на придворной сцене».
27 марта 1905 года в Театре В. Ф. Комиссаржевской исполнялась опера Римского-Корсакова «Кащей бессмертный». Дирижировал А. К. Глазунов. Спектакль превратился в демонстрацию солидарности с автором. Темпераментно выступал В. В. Стасов, композитору преподнесли цветы, венки, на алой ленте одного из них надпись — «Борцу».
Правительственный манифест от 17 октября 1905 года провозгласил гражданские и политические свободы, создание законодательной Государственной думы. Толпы ликующего народа устремились к центру — к Театральной площади, к Тверской. С фонтана, как с трибуны, выступали ораторы. На следующий день Шаляпин с друзьями отмечал событие в «Метрополе». «Было это в Москве, в огромном ресторанном зале… Ликовала в этот вечер Москва! Я стоял на столе и пел — с каким подъемом, с какой радостью!»
Писательница Т. Л. Щепкина-Куперник так воссоздает этот эпизод: «Перед глазами слушателей, сидевших за столиками в ресторане, так и вставала Волга и бурлаки, тянувшие бечеву, как на знаменитой картине Репина, и песню их пел Шаляпин, словно олицетворивший ширину и силу своей родной реки. Когда он кончил петь и улеглись овации, он взял шляпу и пошел по столикам… Никто не спрашивал, на что он собирал, знали отлично, что деньги пойдут на революционные цели… Но собрал он огромную сумму».
Через два дня «Русские ведомости» подсчитали: собрано и передано Шаляпину в пользу «рабочих-освободителей» (социал-демократов) 603 рубля. Эта же газета 20 октября сообщала: Шаляпин первым среди других известных 140 москвичей подписал телеграмму министру С. Ю. Витте с требованием немедленно предоставить амнистию всем пострадавшим «за политические и нравственные убеждения». (В 1914 году некий предприимчивый делец объявил о продаже автографа Шаляпина — на обратной стороне меню ресторана «Метрополь» записаны слова «Дубинушки». «Владелец автографа оценивает его в несколько тысяч рублей», — сообщала газета «Раннее утро» от 6 марта 1914 года.)
«Дубинушку» в «Метрополе» описал Горький во второй части романа «Жизнь Клима Самгина», созданного два десятилетия спустя:
«Тут Самгин услыхал, что шум рассеялся, разбежался по углам, уступив место одному мощному и грозному голосу. Усугубляя тишину, точно выбросив людей из зала, опустошив его, голос этот с поразительной отчетливостью произносил знакомые слова, угрожающе раскладывая их по знакомому мотиву. Голос звучал все более мощно, вызывая отрезвляющий холодок в спине Самгина, и вдруг весь зал точно обрушился, разломились стены, приподнялся пол и грянул единодушный разрушающий крик:
Эх, дубинушка, ухнем!
— Черт возьми, — сказал Лютов, подпрыгнув со стула, и тоже завизжал:
— Эй-и…
Самгина подбросило, поставило на ноги. Все стояли, глядя в угол, там возвышался большой человек и пел, покрывая нестройный рев сотни людей. Лютов, обняв Самгина за талию, прижимаясь к нему, вскинул голову, закрыв глаза, источая из выгнутого кадыка тончайший визг; Клим хорошо слышал низкий голос Алины и еще чей-то, старческий, дрожавший.
Снова стало тихо; певец запел следующий куплет; казалось, что голос его стал еще более сильным и уничтожающим. Самгина пошатывало, у него дрожали ноги, судорожно сжималось горло; он ясно видел вокруг себя напряженные ожидающие лица, и ни одно из них не казалось ему пьяным, а из угла, от большого человека плыли над их головами гремящие слова:
На цар-ря, на господ Он поднимет с р-размаха дубину!— Э-эх, — рявкнули господа, — Дубинушка, ухнем!
Придерживая очки, Самгин смотрел и застывал в каком-то еще не испытанном холоде. Артиста этого он видел на сцене театра в царских одеждах трагического царя Бориса, видел его безумным и страшным Олоферном, ужаснейшим царем Иваном Грозным при въезде его в Псков, — маленькой, кошмарной фигуркой с плетью в руках, сидевшей криво на коне, над людями, которые кланялись в ноги коню его; видел гибким Мефистофелем, пламенным сарказмом над людями, над жизнью; великолепно, поражающе изображал этот человек ужас безграничной власти. Видел его Самгин в концертах, во фраке, — фрак казался всегда чужой одеждой, как-то принижающей эту мощную фигуру с ее лицом умного мужика.
Теперь он видел Федора Шаляпина стоящим на столе, над людями, точно монумент. На нем простой пиджак серокаменного цвета, и внешне артист такой же обыкновенный, домашний человек, каковы все вокруг него. Но его чудесный, красноречивый, дьявольски умный голос звучит с потрясающей силой, — таким Самгин еще никогда не слышал этот неисчерпаемый голос. Есть что-то страшное в том, что человек этот обыкновенен, как все тут, в огнях, в дыму, — страшное в том, что он так же прост, как все люди, и — не похож на людей. Его лицо ужаснее всех лиц, которые он показывал на сцене театра. Он пел — и вырастал. Теперь он разгримировался до самой глубокой сути своей души, и эта суть — месть царю, господам, рычащая, беспощадная месть какого-то гигантского существа».
Впрочем, «Клим Самгин» не историческое исследование, а художественное произведение, автор имеет право на домысел. Но идеологическая тенденциозность, стремление Горького придать Шаляпину черты чуть ли не политического героя, «народного мстителя» здесь очевидны.
Конечно, артист не мог оставаться равнодушным к происходящим в стране событиям, он участвовал в спектаклях и концертах в пользу раненых и бастующих. С Горьким и артистами Художественного театра О. Л. Книппер-Чеховой, И. М. Москвиным, В. И. Качаловым выступал на литературно-художественном благотворительном вечере в Фидлеровском училище. Через день газета «Русское слово» писала: «Так как концерт был бесплатный, то г. Шаляпин взял шляпу и обошел присутствующих. На доброе дело было собрано свыше 1000 рублей».
Пристрастие Шаляпина к «Дубинушке» журналисты объясняют разными мотивировками, от революционных до националистских. Черносотенное «Русское знамя» смакует инцидент в петербургском Театральном клубе на чествовании Шаляпина:
«Весь поток „жидовской грязи“ русского актерства хлынул в роскошные залы дома родовитого русского аристократа князя Юсупова… Кто-то запел еврейскую „хаву“…
Его примеру последовал и Шаляпин. Мы хотим думать, к чести русского артиста, что это была простая выходка пьяного человека — Шаляпин не нуждается в жидовской рекламе: человек, как Шаляпин, вышедший из народа, не может в душе не презирать это подлое племя… Г. Шаляпин, видя, что скандал принимает не совсем удобные для торжественного события размеры, запел „Дубинушку“, покрыв своим могучим голосом крики поклонников и противников „хаве“».
Очевидно: на Шаляпина хотят напялить маску патриота-антисемита — от него ждут ответного хода. Артист брезгливо проигнорировал провокационный выпад.
В. А. Теляковский сетует: «Большинство зрителей даже в императорских театрах состояло теперь не столько из аристократического дворянства и придворной знати, но и из людей среднего достатка, интеллигенции, чиновничества, просвещенного купечества, учащейся молодежи, мастеровых». Именно к восторгу этой публики Шаляпин в эйфории свободолюбия поет из ложи императорского Большого театра «Дубинушку».
26 ноября 1905 года в Большом театре шел концерт в пользу Общества для призрения престарелых артистов, в нем участвовал и Шаляпин. После нескольких номеров с верхних ярусов раздались голоса: «Дубинушку!» Федор Иванович пригласил зрителей подпевать ему. Актер Малого театра М. Ф. Ленин вспоминал: после второго или третьего куплета Шаляпин внезапно прервал пение и обратился к публике:
— Вот, в третьем ярусе, направо от меня, я вижу брюнета с большой черной бородой. Уж очень вы здорово фальшивите. Вы бы как-нибудь постарались прислушаться к товарищам!
Брюнет смутился, густо покраснел: он и не предполагал, что артист со сцены услышит его неуклюжее пение.
А тем временем управляющий Московской театральной конторой Н. Ф. фон Бооль, не зная, как скорее прервать непредвиденную программу, строчил донесение в Петербург: «Припев подхватили в зале очень дружно и даже стройно. Верхи ликовали, но из лож некоторые вышли и оставались в фойе, пока Шаляпин совсем кончил. В антракте (перед третьим отделением) среди публики много говорилось не в пользу Шаляпина; некоторые были положительно возмущены его выходкой и уехали с концерта после второго же отделения. Конечно, об этом случае много говорят теперь в городе, как и о том, что он то же самое проделал в ресторане „Метрополь“. Но то, говорят, было в ресторане, где мог он позволить себе сделать все, что хотел, но как же позволить себе сделать то же самое в императорском театре, где он служит и, следовательно, должен сам знать, что можно и чего нельзя? Неужели это ему сойдет?» — провокационно спрашивал высокий чиновник.
Министр двора барон В. Б. Фредерикс в растерянности. «Как, неужели до сих пор не уволили Шаляпина?» — спросил его император. Министр предлагает Теляковскому разорвать с Шаляпиным контракт.
Газеты живо подхватили новость, за границей появились сообщения об аресте и даже гибели певца. В Париже К. А. Коровин встретил чиновника Никифорова:
«Он сказал мне: „В Москве-то нехорошо, а ваш приятель Шаляпин — революционер, погиб на баррикадах“, — и показал какую-то иллюстрацию, на которой были изображены Горький, Шаляпин, Телешов и еще кто-то как главные революционеры. Я подумал: „Что за странность. Неужели и Телешов? Женился на богатейшей женщине. А Шаляпин? Неужели и он революционер — так любит копить деньги. Горький — тот, по крайней мере, всегда был в оппозиции ко всякой власти. И неужели Шаляпин погиб на баррикадах? Что-то не верилось“…»
Л. В. Собинов из Милана спрашивал в письме, правда ли, что уволили Шаляпина, и сокрушенно восклицал: «Вот еще одна бедная жертва революции!» Однако репрессий не последовало. Дипломатичный Теляковский убедил начальство: увольнение певца усугубит ситуацию, вызовет опасное недовольство, создаст вокруг него ореол жертвы, освободит от контроля и ограничений, которые налагает на него положение артиста императорских театров. Инцидент замяли.
Тем не менее Шаляпин стал на долгое время заложником «Дубинушки». Ноты «Дубинушки» с портретом певца на обложке и специальным указанием, что вариант текста и исполнительская интерпретация принадлежат певцу, издаются массовыми тиражами. «Дубинушка» не только становится ритуалом в концертах для широкой публики, но и проникает в элитарные аудитории. В 1909 году в одном из концертов в петербургском Дворянском собрании после вдохновенного исполнения романса Н. А. Римского-Корсакова «Ненастный день потух» и бурной овации слушателей раздался выкрик: «Дубинушку!» — Шаляпин вздрогнул и горестно воскликнул: «Я им душу отдал, а они — „Дубинушку“…» Но образ революционного борца уже прочно пристал к артистической и гражданской репутации певца, и ему не раз приходилось подтверждать его, когда с радостью, а когда и с раздражением. На склоне лет Шаляпин признавался, что всю свою жизнь безраздельно посвятил искусству, политику же не любил и не понимал, но бунтарская натура и острое чувство справедливости и сочувствия побуждали отвергать произвол власти и насилия.
Сезон 1906/07 года в Большом театре по традиции открывался 30 августа оперой Глинки «Жизнь за царя». Накануне у Шаляпина обострилась простуда. Это дало повод для разного рода политических упреков. «Федор Шаляпин участвовать в роли Сусанина не пожелал, отозвался больным и даже пропечатал, что у него в горле болезнь, но оказалось, что все это наглое вранье, и за это он поплатился штрафом в 921 рубль. И поделом этому босоножке — вперед авось умнее будет!» — писала газета «Вече». «Этого господина давно уже нужно было выпроводить вон. Никто, решительно никто не может давать права на подобные дерзкие выходки; ни в одной стране в мире подобное поведение не было бы терпимо», — поддакивала «Русская земля».
«Московские ведомости» прямо провоцировали увольнение Шаляпина из Большого театра: «После того, что было за последнее время, никому и мысли не приходило в голову, что г. Шаляпин может все-таки остаться на той сцене, которая так несимпатична ему по многим причинам, и прежде всего потому, что она императорская. Казалось, что дирекция императорских театров также не пожелает оставить на службе артиста, который со сцены Большого театра поет „Дубинушку“ и отказывается петь „Жизнь за царя“ по своим политическим убеждениям, который в иностранных иллюстрированных журналах изображается в рядах сражающихся на московских баррикадах и сам не прочь прослыть за революционера».
От Шаляпина, как, впрочем, и от других артистов императорских театров, требуют подписки о непричастности к деятельности «противоправительственных партий». Как сообщал журнал «Театр и искусство», «Шаляпин приписал, что он вообще никогда ни в каких партиях не участвовал». «У нас всегда, — вспоминал В. А. Теляковский, — старались любой поступок Шаляпина, если только это было возможно, неизменно рассматривать с точки зрения политики, причем каждый присочинял то, что ему казалось, и действительность получала тогда полное искажение… История отказа Шаляпина от „Жизни за царя“ проникла в иностранную печать и принимала уже окончательно вздорное освещение: там, как и в левых органах русской печати, приветствовали… „смелый отказ“ Шаляпина от патриотической оперы!.. Я получал бесконечное число анонимных писем с угрозами по адресу Шаляпина и даже по моему, а министерство двора официально запрашивало меня, верен ли слух об отказе Шаляпина петь „Жизнь за царя“».
Артист затравлен, раздражен — его насильно втянули в политическую интригу. Что делать? Теляковский, Головин, Коровин советуют Шаляпину спеть Сусанина, но не в Москве, а в Петербурге, в Мариинском театре. Теляковский убежден: многие газетные нападки опираются на досужие слухи, которые распускают сами артисты и служащие театра. Талант Шаляпина, его особое положение в труппе, огромный успех, большие гонорары — все это раздражало завистников, они не упускали случая лягнуть певца.
В творчестве любого художника, в том числе и артиста, не могут не проявляться его собственные нравственные устои, гражданская позиция. Конечно, оперный певец, в отличие от актера драматического, связан с более условным театральным жанром и лишен возможности впрямую откликаться на политическую «злобу дня» ролями в современных пьесах. Шаляпина не раз упрекали в том, что после перехода на императорскую сцену он перестал расширять репертуар, хотя известно и то, что он мечтал о воплощении таких мощных сценических характеров, как Степан Разин, Василий Буслаев, просил Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Глазунова написать оперы специально для него. Но замыслы эти, не поддержанные композиторами, не осуществились. Можно предположить, что, увидев собственными глазами разгул «смутных лет», Римский-Корсаков и Глазунов не захотели романтизировать и облагораживать босячество, смуту и мятежное разбойничество.
Да и революционная эйфория постепенно спадает, жизнь входит в повседневную колею. В сентябре 1906 года Шаляпин пишет Иоле из Москвы в Милан:
«Кажется, что все спят, или, может быть, устали от этой дурацкой несносной политики. На улицах, как и раньше, городовые стоят с ружьями и примкнутыми штыками. Не чувствуется никаких беспорядков, как-то говорили, что 17 октября будет забастовка и беспорядки, но я думаю, что все обойдется спокойно, так как сила на стороне правительства, все революционеры в тюрьме и, в общем, я думаю, что еще много времени пройдет, пока получим хоть какую-нибудь свободу».
Свои художественные и социальные идеалы Шаляпин утверждал со сцены. Критик Юрий Беляев, защищая Шаляпина от поверхностных и спекулятивных упреков в «остановке артистического развития», писал:
«… всегда обновляясь и совершенствуясь, всегда что-нибудь да придумывая новое, что-нибудь дополняя к прежнему образу, Шаляпин показывает своих героев, так сказать, по ходу громадной актерской работы. Вчера он был Мефистофелем. И это — утверждаю — был новый Мефистофель, не тот, которого я видел раньше… Звали его Красный Смех (только, пожалуйста, не Андреева) („Красный смех“ — название нашумевшего рассказал. Н. Андреева. — В. Д.)… „На земле весь род людской“. Эту песню Красный Смех кидал в публику, показывая ужасные черты, гримасы презрения и отвращения, издеваясь над теми самыми страстями, вдохновителем которых был он — Мефистофель. А был он божком продажной совести, гнусных сделок чести, грязных закоулков человеческой души. Сводник, спекулянт и ростовщик жили в этом красном черте, самом близком и понятном из всех чертей современного пекла. Он управлял биржей, приобретал концессии, вздувал акции, брал подряды и взятки, открывал ломбарды и кассы ссуд, игорные притоны и дома терпимости…
Я расскажу, чем он еще занимался. Он состоял директором нескольких частных банков и ходатаем многих высокопоставленных лиц, он организовывал рабочие союзы и издавал большую „либеральную“ газету. В министерствах, в университетах, в собраниях, в комиссиях, даже на освящениях новых храмов видели его, принимая по красному мундиру за сенатора. Ему даже на конвертах писали: „Его Высокопревосходительству, Действительному Тайному Советнику Красному Смеху“.
Я узнаю, что он устроил войну и революцию. Теперь он поет:
…брат на брата, Край на край идет войной, А людская кровь рекой По клинку течет булата…Но он издевается над ними и злорадствует, и этот несравненный жест пальцем по клинку, жест, которым Мефистофель — Шаляпин словно облизывает кровь со шпаги, лучше всякого слова показывает, как велик и силен в настоящее время рыцарь пекла. Он — душа погромов еврейских, армянских и наших ужасных русских погромов, которых словно и не замечает завороженное им стадо, которых не хочет знать его министерство и о которых молчит его газета… Он направляет кинжал убийцы из-за угла и поклялся переколоть всех „постовых“ и прочих Валентинов своей отравленной шпагой. Он — провокатор и прокламатор, которого долго будут помнить города и деревни. На красных обложках его изданий отразилась смеющаяся рожа черта. Теперь — за неимением спроса на все „красное“ — он не без выгоды торгует порнографической литературой и воспевает содомский грех и нимфоманию.
Довольно. Я обращаюсь к артисту. Шаляпин может каждый раз хлопнуть по плечу Мефистофеля и спросить: „Каков, мол, я сегодня?“ Красный Смех, конечно, и тут засмеется. Черт бы взял этого черта!»
Шаляпинский Мефистофель 1907 года как символ эпохи, краха революционных иллюзий противостоял Демону 1904 года, которого Горький называл символом «бури и натиска».
Часть четвертая НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
Когда я слушал «Град Китеж» в первый раз, мне представлялась картина, наполнившая радостью мое сердце. Мне представилось человечество, все человечество, мертвое и живое, стоящее на какой-то таинственной планете. В темноте — с богатырями, с рыцарями, с королями, с царями, с первосвященниками и с несметной своей людской громадой… И из этой тьмы взоры их устремлены на линию горизонта — торжественные, спокойные, уверенные, они ждут восхода светила. И в стройной гармонии мертвые и живые поют еще до сих пор никому не ведомую, но нужную молитву.
Федор ШаляпинГлава 1 В ПОИСКАХ ГЕРОЯ
«Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие тайны всем людям», — заметил Л. Н. Толстой. В начале века Художественный театр предложил публике заглянуть в микроскоп и войти в атмосферу особого духовного общения, настроения, создаваемого режиссером в ансамбле всех участников спектакля. Все существуют в едином интонационном ключе, и режиссер, как дирижер в оркестре, тонко интерпретирует произведение в согласии с настроением зала. Исполнители погружены режиссером в одно эмоциональное поле, живут общим чувством, открывая публике образы, метафоры, глубинные смыслы спектакля.
Природу новаторского обновления, привнесенного «художественниками» в театральную жизнь, остро почувствовали Чехов, Горький, Л. Андреев, неслучайно их пьесы вошли в репертуар театра, определили его неповторимость. «Регистры настроения», интонационная партитура здесь создавались общими усилиями драматургов, актеров, режиссеров, декораторов, музыкантов. К. С. Станиславский писал: «Чехов, как никто, умеет выбирать и передавать человеческие настроения, прослаивая их сценами резко противоположного характера из бытовой жизни, и пересыпать блестками своего чистого юмора… Незаметно переводя их (артистов и зрителей) из одного настроения в другое, он ведет людей куда-то за собой. Переживая каждое из этих настроений в отдельности, чувствуешь себя на земле, в самой гуще знакомой, мелкой обывательщины, от которой поднимается в душе великое томление, ищущее выхода. Но тут Чехов незаметно приобщает нас к своей мечте, указывающей единственный выход из положения, и мы спешим унестись за ней вместе с поэтом».
Московский Художественный театр чутко ощутил особую музыкальность драматургии Чехова. Станиславский ставил «Чайку», опираясь в своем режиссерском построении на симфонии П. И. Чайковского, где рок, воплощенный в повседневном бездуховном быте, выступал неотвратимой силой, убивавшей высокие мечты и душевные порывы. В «Чайке» развитие действия строилось на динамике внутренних психологических состояний отчаяния, радости, торжества, смятения, разочарования. В таком интонационно-насыщенном развитии спектакля режиссура обнаруживала пульс драматизма, живую и противоречивую природу мироощущения героев.
Эти поиски сценической правды чрезвычайно близки Шаляпину. Леонид Андреев, выступая театральным критиком под псевдонимом Джемс Линч, вдохновенно и взволнованно писал и о мхатовских спектаклях, и о спектаклях Шаляпина; о нем он собирался написать книгу.
Л. Андреев был совершенно ошеломлен спектаклем «Три сестры» и так писал о восприятии спектакля публикой: «Серая человеческая масса была потрясена, захвачена одним властным чувством и брошена лицом к лицу с чужими человеческим страданиями. Человек шел в театр повеселиться, а его там, как залежалый тюфяк, перевернули, перетрясли и до тех пор выколачивали палкой, пока не вылетела из него вся пыль мелких личных забот, пошлости и непонимания… Тоска о жизни — вот то мощное настроение, которое с начала до конца проникает пьесу и слезами ее героинь поет гимн этой самой жизни. Жить хочется, смертельно, до истомы, до боли жить хочется! — вот основная трагическая мелодия „Трех сестер“, и только тот, кто в стонах умирающего никогда не сумел подслушать победного крика жизни, не видит этого. Какую-то незаметную черту перешагнул А. П. Чехов — и жизнь, преследуемая им когда-то жизнь, засияла победным светом».
Публика ждала героя на сцене, и рождение героического характера возникало на самом разном литературно-драматическом и музыкально-сценическом материале. Художники искали его в тесном сближении с реальными событиями, другое дело, что сама специфика театрального жанра — трагедии, фарса, драмы, оперы, балета — определяла многообразие сценических приемов и образных характеристик.
«Доктор Штокман» Г. Ибсена, поставленный МХТ в атмосфере нараставших в России революционных настроений, со всей очевидностью отражал сближение героических и человеческих эмоций, циркулирующих в обществе. Примечательно, что Станиславский, игравший Штокмана, выбрал грим, напоминавший облик Н. А. Римского-Корсакова, имя которого стало особенно популярным в связи с его протестным уходом из консерватории. Станиславский показывал обычному частному человеку возможность героического самопроявления, убеждал в нравственной обязанности каждого следовать голосу совести и правды: «Я имею право выражать свое мнение о каждом предмете… Я буду провозглашать истину на каждом перекрестке!» — и исступленные выкрики Штокмана — Станиславского тонули в шквале аплодисментов возбужденной публики.
К. С. Станиславский объявил целью спектакля воссоздание на сцене «живой жизни человеческого духа» и отражение ее в художественной сценической форме. МХТ звал художников в постижении правды идти от жизни, а не от сцены, от смыслов и настроений времени, пульса общества, опыта истории, а не от привычных устоявшихся штампов театрального исполнительства. И в этом своем качестве упорного правдоискательства МХТ был чрезвычайно близок Шаляпину. Мироощущение Шаляпина находило свое выражение преимущественно в трагических характерах, в них он выражал свое отношение к жизни. В искусстве переживания, в интонационном богатстве красок, в «настроениях» Шаляпин находил действенное и глубокое воплощение художественной правды своих мощных сценических образов.
Поистине завидную проницательность и ум продемонстрировал Владимир Аркадьевич Теляковский, пригласив К. А. Коровина, А. Я. Головина, С. В. Рахманинова, Ф. И. Шаляпина работать в императорских театрах Петербурга и Москвы. «Имение в труппе такого артиста подымет всю оперу, — записал он в дневнике, — Шаляпин певец не Большого и не Мариинского театра, а певец — мировой… Я страшно рад. Я чувствую гения, а не баса».
Гения открывали в Шаляпине многие проницательные современники, тонкие ценители искусства — Ю. Д. Беляев, А. В. Амфитеатров, Э. Старк, В. В. Стасов, С. В. Рахманинов, М. Горький. Прекрасно объяснил природу шаляпинского дарования и значение его популярности известный критик и драматург Юрий Беляев в 1902 году:
«Шаляпин-певец, Шаляпин-драматический актер чуть ли не угодил в народные герои. Его успех — несомненное знамение времени. Толпа требует сверхъестественного, воспринимает впечатления в повышенном настроении, ищет героев и… находит их в опере. Кто-то сказал, что в нашем безвременьи мы — все романтики. Шаляпин — фигура романтическая. Это именно „герой нашего времени“, в странной судьбе которого замешаны все современные элементы от босячества, национализма и до… антихриста включительно».
Для Шаляпина зло не было отвлеченной сценической характеристикой образа, некой метафорической абстракцией. Певец ощущал и воспроизводил на сцене узнаваемые «оттенки зла»; они как бы «резонировались» общественным настроением, конфликтами времени. Иван Грозный, Борис Годунов, Демон, Олоферн, Сальери воспринимались театральной публикой не только как художественные шедевры гениального артиста, они становились символами, знаками, краской реального бытия, его нравственного тонуса. Сценические образы Шаляпина входят в культурную жизнь, циркулируют в развитии общественной мысли, они обнажают корни социальной деградации, падение морали. В «Жизни ненужного человека» (1907) М. Горький стремился вскрыть истоки предательства в житейской среде повседневного обитания. Московский Художественный театр в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского показывал природу нравственного и политического провокаторства, лжи, обмана, распада личности в душной атмосфере духовного релятивизма.
В творчестве Шаляпина, в поле его нравственных, философских, художественных исканий возникает мощная фигура Бориса Годунова, заново переосмысленная и воплощенная на столичных сценах. Музыковед А. А. Гозепуд безусловно прав, связывая обновленное прочтение артистом роли Бориса Годунова с проблематикой и эстетикой романов Достоевского и их бытования в литературно-театральном обороте начала 1900-х годов: «Думается, гениальный писатель незримо участвовал в работе артиста над партией Бориса. В ней Шаляпин воплотил одну из важнейших тем Достоевского — невозможность построить счастье (общее или личное) на страданиях ребенка… Шаляпин стремился воплотить характер в единстве и сложности, в борьбе доброго и злого начал — и это тоже роднило его с Достоевским. Герои Шаляпина, в том числе и Иван Грозный, не говоря о Борисе Годунове, не только тираны и мучители, но люди страдающие, глубоко несчастные, одинокие».
Выход певца на уровень значимых метафор, мировоззренческих раздумий, освоение им нового пласта сценической эстетики, практически недоступного другим оперным мастерам, признает как отечественная, так и зарубежная музыкальная критика. Французский обозреватель музыкальной жизни Л. Шнейдер особо отметил органичность сочетания в Шаляпине вокального и драматического таланта:
«Мы никогда не думали, чтобы спетая фраза и игра могла бы сочетаться с такой выразительностью и силой. Шаляпин не поет, а в пении выражает действующее лицо: он живет на сцене, отвергая все условности во имя художественной правды». Журналист петербургского «Нового времени» Н. Яковлев сообщал о реакции парижской публики: «Даже те, кто не понимал слов… притаили дыхание, смотрели и слушали с глубоким волнением. И в антрактах, и в коридорах говорили: „Да это в самом деле великий трагик“».
С парижской публикой горячо солидаризируется и московская, и петербургская, и вся российская. Ее коллективный портрет красочно рисует П. А. Марков: «Постепенно среди молодежи, постоянно посещавшей театры, образовались группы, объединенные общим интересом к театру и, может быть, еще больше — заботами о далеко не всегда легком труде добывания дешевых билетов на особенно знаменательные спектакли, в первую очередь на Шаляпина и в МХТ. Это занятие — добывание билетов — казалось нам увлекательным, авантюрным, поскольку поглощало обычно целую ночь и зачастую сопровождалось столкновением с полицией, тщательно разгонявшей толпу, осаждающую кассы. Гастроли Шаляпина доставляли массу неприятностей блюстителям порядка. В ночь накануне продажи билетов в Большой вокруг величественного здания собиралась толпа чающих билетов. Но до окончания спектакля к дверям не подпускали. Поэтому вокруг театра шло невиданное массовое гулянье, а когда рассеивались последние зрители, толпа весело и могуче бросалась занимать очередь. Как правило, для наведения порядка во мгле полуночи появлялся на коне сам помощник градоначальника Модль. Позднее в очередь становились уже за несколько суток, добровольцы составляли списки, для проверки которых требовалось лично и неукоснительно являться по несколько раз в день, назначались контрольные комиссии для проверки количества поступающих в кассу билетов — продавать их разрешалось по два на человека, а так как значительная их часть оказывалась заранее расписанной, то мы орали, стучали ногами, уличали чиновников из администрации, скандалили вовсю».
Впрочем, главное состояло в другом — здесь формировались общественное мнение, художественные вкусы публики. «В очереди шли самые неистовые споры о театре, о любимых актерах, — рассказывает П. А. Марков. — Во время же ночных очередей мы на короткое время шли в ночные чайные, в которых кормились извозчики и грузчики, и там, в табачном дыму, за горячим чаем с булками, темпераментно и озорно продолжали свои споры, которым не было конца-краю… В МХТ существовал другой, более организованный порядок — так называемая лотерея с номерками — тут уж все зависело от везения и счастья… Эти ночные бдения навсегда сохранились в памяти, и долго еще я встречал прежних знакомых, в молодости стоявших в очередях у театральных дверей, среди них потом оказались профессора, инженеры, врачи, не говоря уже об актерах».
В массовом сознании рубежа веков первенствуют два мифа — о певце Федоре Шаляпине и литераторе Максиме Горьком. Они едва ли не самые популярные и главное — социально-близкие демократическим слоям общества новые фигуры. Шаляпин на вершине славы — «кумир публики», «баловень судьбы». У Горького диалог с публикой, с читателем развивается гораздо сложнее, отношения к искусству, к театру писателя и артиста совпадают далеко не во всем. «Я думаю, что обязанность порядочного писателя — быть писателем, неприятным публике, а высшее искусство — суть искусство раздражать людей», — эпатажно декларировал Горький свою общественно-художественную позицию в письме К. П. Пятницкому в декабре 1901 года. У Шаляпина совершенно другие отношения с залом, с публикой: раздражать, становиться ей неприятным в намерения артиста не входит.
В эти годы отношение публики к Горькому и его программным героям-люмпенам постепенно меняется. «Мы все знаем, — записал 11 мая 1901 года Л. Н. Толстой в своем дневнике, — что босяки — люди и братья, но знаем это теоретически; он же (Горький. — В. Д.) показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью». Но люмпенский оскал все страшнее заявлял о себе то в кишиневских погромах, то в резне студентов у петербургского Казанского собора. Принимая Горького в Гаспре, Толстой поддержал его замысел написать историю трех поколений купечества и заметил: «Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо».
Действительно, Горький «заразил» читателей сочувствием к люмпенам-босякам, сильно романтизировав и приукрасив их облик и быт. Теперь он сам взрывает привычный устоявшийся круг впечатлений публики о своем творчестве, он вводит в литературу открыто политизированный тип нового «хозяина жизни» — рабочего, утверждая его в качестве героя времени, носителя идеалов грядущего революционного класса — пролетариата. Но одновременно горьковский пафос напористой безграничной личной свободы насторожил думающих читателей и критиков агрессией классового реванша.
Программность Горького точно охарактеризовал профессор С. Венгеров в «Новом энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона:
«Устами босяков Горького говорит самая новая полоса европейской и русской культуры. Философия этих босяков — своеобразнейшая амальгама жесткого ницшеанского поклонения силе с тем безграничным всепроникающим альтруизмом, который составляет основу русского демократизма… Прилив общественной бодрости, которым знаменуется вторая половина 90-х годов, получил свое определенное выражение в марксизме. Горький — пророк его или, вернее, один из его создателей: основные типы Горького создались тогда, когда теоретики русского марксизма только что сформулировали его основные положения… Отказ от народнического благоговения перед христианством определяет смысл первых рассказов Горького. Певец грядущего торжества пролетариата нимало не желает апеллировать к простонародническому чувству сострадания к униженным и оскорбленным. Перед нами настроение, которое собирается само добыть себе все, что ему нужно, а не выклянчивать подачку. Существующий порядок горьковский босяк как социальный тип сознательно ненавидит всею душою… Герои пьесы „На дне“ большею частью люди, которых никак нельзя причислить к сентиментальной природе „униженных и оскорбленных“».
Шаляпин — Иван Грозный. Афиша оперы Н. Римского-Корсакова. Париж, театр Шатле, «Русские сезоны» С. Дягилева. 1909 г.
Удивительно точно высветил С. Венгеров принципиальное мировоззренческое несогласие Горького и Достоевского. Спустя десятилетие, характеризуя рубеж веков в отечественной культуре, Г. Федотов отметит плотное слияние «героев времени» и их создателей: «В конце прошлого века босяки появляются в литературе не только в качестве темы, но и авторов. С Максима Горького можно датировать рождение новой демократии, с Шаляпиным она дает России своего гения».
Горький вводит в круг художественных реалий образы сознательных рабочих-пролетариев (Нила в «Мещанах», Павла Власова в повести «Мать»), сделав их выразителями программных социально-нравственных начал, носителями новой системы жизненных ценностей. В январе 1900 года Горький писал Чехову: «Право же — настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее…»
Горький говорит от имени «всех». Оговорка открыла поспешную готовность писателя к исполнению «социального заказа». Он приглашает и Чехова подняться над «тьмой низких истин», уйти в приукрашенный мир «возвышающего обмана» — «чтобы не было похоже на жизнь». Ибо действительность отвратительна: «Огромное Вы делаете дело Вашими маленькими рассказиками, возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полумертвой жизни — черт бы ее побрал».
Герои Толстого, Чехова и Горького по-своему отражают сложность, богатство и диалектику мироощущения их создателей. Чеховские персонажи — почти ровесники чиновника Головина из рассказа «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого, опубликованного в 1886 году: «Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде всего совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было».
М. Горький, как и Л. Н. Толстой, уловил в творчестве А. П. Чехова «роковую „переломность эпохи“». За внешней традиционностью чеховских характеров он увидел черты нового рода драматургического творчества, в котором реализм возвышался до одухотворенного символа. «Слушая Вашу пьесу, — писал Горький Чехову, — думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей и о многом другом, коренном и важном. Другие драмы не отвлекают человека от реальностей до философских обобщений — Ваши делают это».
В свою очередь Чехов, как носитель новой сценической эстетики, чувствуя перспективы ее развития, считал крайне важным приобщить Горького к Художественному театру, в характерах его героев видел принципиально новый тип человека грядущего времени. Нравился он Чехову или нет — вопрос особый, но непреодолимую логику его появления в жизни и в театре он понимал.
«Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями, — писал Чехов в одном из писем. — Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать; разница между временем, когда меня драли и когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издают удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Теперь же во мне что-то протестует: расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса».
В театр, в культуру Горький пришел «со стороны», «из низов» и не упускал случая продемонстрировать исключительное видение «своей» правды, подчеркнуть свою «классово-генетическую монополию» на ее понимание. «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе — стоит, — писал Горький в 1913 году, — ибо это — живучая, подлая правда, она еще не издохла и по сей день». Еще только осваивая писательское ремесло, в 1896 году, Горький писал будущей жене Е. Пешковой: «У меня, Катя, есть своя правда, совершенно отличная от той, которая принята в жизни. И мне много придется страдать за мою правду, потому что не скоро поймут и долго будут издеваться надо мной за нее».
«Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобно жизни, — писал Л. Н. Толстой в „Исповеди“. — …Для того, чтобы понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей». Примечательны слова поддержки, сказанные Толстым Горькому в Крыму: «Вы настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите, выйдет грубо, — ничего. Умные люди поймут». Записи Толстого о Горьком в дневнике: «Настоящий человек из народа… У этой среды (в которой сформировался Горький. — В. Д.) есть чистая нравственная жизнь, а это пересиливает всё». Впрочем, сам Горький не идеализировал среду, из которой вышел, — «свинцовые мерзости жизни» он мстительно запомнил навсегда.
Единоборство со средой давалось «выходцам из ее недр» высокой ценой, растраченным талантом, духовного, а то и физического здоровья. А. Н. Серебров-Тихонов вспоминает с грустью брошенные слова А. П. Чехова: «Романы умели писать только дворяне. Нашему брату — мешанинам, разнолюдью — роман уже не под силу» — и отказывается от замысла написать роман… Двойственность общепринятой морали давила на Чехова, но он не смирялся с ней еще с той поры, когда «ценою молодости… вырывал из жизни то, что писатели-дворяне берут у природы даром». Ненависть к затхлости, мещанскому скудоумию и самодовольной посредственности формировали в нем влечение к идеалу, к человеку, способному активно противиться среде, самоотверженному в действиях и поступках, устремленному к осуществлению цели. И этим Чехов был близок Горькому и, конечно, Шаляпину.
Горький сознательно не отрывал литературную работу от своей общественно-политической деятельности — оба занятия находились в нерасторжимом единстве. И потому, окунувшись в борьбу литературных направлений и политических группировок, Горький заявлял о своей позиции вызывающе непримиримо. «Вы, кажется, первый свободный и ничему не поклоняющийся человек, которого я видел, — писал он Чехову. — Как хорошо, что Вы умеете считать литературу первым и главным делом жизни. Я же, чувствуя, что это хорошо, не способен, должно быть, жить как Вы — слишком много у меня симпатий и антипатий».
Программные герои Горького моложе чеховских, они отторгают груз традиций и опыт прожитых лет, в отличие от чеховских персонажей, несущих в себе гнет безвременья и застоя, они не «растворены» в «рефлексиях», раздумьях, сомнениях, живут в готовности к активному действию, поступку. Герои Чехова пытались вырваться из-под гнета обыденности, пошлости среды, обстоятельств и тоски по идеалам и с мужественной терпеливостью переносили невзгоды, сохраняя достоинство и веру в будущее. Но теперь Горький не приемлет такого героя. В «Заметках о мещанстве» (1905) он пишет: «Наша литература — сплошной гимн терпению русского человека, она вся пропитана тихим восторгом перед страдальцем-мужичком и удивления перед его нечеловеческой выносливостью… Она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле. Все они терпеливо — непременно терпеливо, без гнева, без ропота! — несут на своих плечах гнетущую душу и тело, невзгоды и позор рабской жизни». В письме К. Федину в 1928 году Горький писал: «Акакий Акакиевич, „станционный смотритель“, Муму и все другие „униженные и оскорбленные“ — застарелая болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными. Обучились мы этому ловко и добросовестно». Горький одержим идеей социального реванша, ее он пронес через все творчество. Самосозерцание, самоанализ, сострадание, сочувствие выведены за скобки, герои Горького созрели для действия, призывают к консолидации, к силовому мятежу.
Горький встретился с Чеховым и МХТ на гребне своего литературного успеха и восторженной любви к Москве, к Художественному театру. В письмах он восхищался независимостью Чехова, но сам уже «глядел в Наполеоны», мечтал о «декоративном», возвышающем жизнь реализме, который спустя 30 лет назовет «социалистическим». Горький звал Чехова, как и Шаляпина, за собой, но Антон Павлович чурался открытой политики и не увлекся модной «украшательской» литературной идеологией, предостерег молодых героев «Вишневого сада» — Аню и студента Петю от легковесных бунтарских увлечений.
После революционных выступлений 1905 года Горький раздражен Чеховым, его «остановкой» перед будущим, перед «тревожной неизвестностью», сам же он в «Дачниках», во «Врагах», в «Детях солнца» идет «дальше», утверждая в театре нового программного героя, выпячивающего свое классовое, кровное превосходство. «Дети прачек, кухарок, дети здоровых рабочих людей — мы должны быть иными! Ведь никогда еще в нашей стране не было образованных людей, связанных с массою народа родством крови…» Традиция очевидна — вспомним некрасовское: «Дело прочно, когда под ним струится кровь». Кровь пролилась 9 января 1905 года и воодушевила Горького. «Итак — началась русская революция, мой друг, — пишет он Е. Пешковой, — с чем тебя искренне и серьезно поздравляю. Убитые да не смущают, — история перекрашивается в новые цвета только кровью».
Немирович-Данченко с горечью признавался, что в свое время не сразу принял чеховский «Вишневый сад». Но он сразу почувствовал антиинтеллигентскую агрессию «Дачников» и, с согласия Станиславского, разорвал с Горьким отношения. А социал-демократов «вроде Горького», навязывавших искусству «дешевые революционные идеи», называл в 1910-х годах — в период обострения конфликта с Горьким — «туполобыми».
Различие картин мира Чехова, МХТ и Горького резко обнажилось после 1905 года. В эйфории революционных настроений идеи и мотивы горьковского провинциального ницшеанства героизируются, транслируются в массовое сознание Комиссаржевской, Качаловым, Мейерхольдом, Ходотовым, Шаляпиным и находят бурный отклик у возбужденной революционными идеями публики.
Глава 2 СУДЬБА ЖАНРА
Литературное слово, музыка, живопись создавали в России начала XX века особую духовную атмосферу, интонационную образную «среду духовного обитания», внедрялись в повседневное житейское общение через каналы новых развивающихся информационно-зрелищных технологий. Великие открытия века — фотография, кинематограф, грамзапись, радио — энергично завоевывали культурное пространство. Только с 1900 по 1907 год в России продано свыше полумиллиона граммофонов, десять миллионов дисков, бессчетное количество рекламных журналов, нот, песенников. Грамзапись внедрялась в быт практически всех слоев населения, включая рабочих, городских мещан, зажиточных крестьян.
Благодаря грамзаписи артисты театра, эстрады, кинематографа, чтецы, певцы, литераторы, поэты приобретают огромную популярность. «Записать грампластинку» спешат певцы Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Иван Ершов. Из граммофонных раструбов звучат «живые голоса» Льва Толстого, Ивана Бунина, Игоря Северянина, примадонн эстрады Надежды Плевицкой, Анастасии Вяльцевой, Вари Паниной, Наталии Тамары, Саши Давыдова, Александра Вертинского, Юрия Морфесси…
Федор Иванович Шаляпин чутко ощущает стремительные ритмы и темпы художественной жизни, ее пульс и энергично осваивает новые творческие пространства. Они широко открываются перед ним на концертной эстраде. Певец обогащает свой камерный репертуар новыми романсами, русскими народными песнями, пробует себя в жанре мелодекламации, увлекается новыми техническими открытиями — грамзаписью и кинематографом.
Эстрадная жизнь начала 1900-х годов поражает своей интенсивностью, импульсивной отзывчивостью на запросы самой широкой аудитории. Композиторы, авторы мелодий, текстов, певцы ведут азартный игровой диалог с публикой и между собой — на языке концертных номеров. Так, некий Саша Макаров сочиняет романс «Вы просите песен, их нет у меня» и посвящает его «мелодекламатору и известному артисту Императорского театра Н. Н. Ходотову», о чем и сообщает крупным шрифтом на нотной обложке. Романс стремительно обретает популярность и вскоре получает отклик — «сочинение Льва Дризо „Я песен просила…“ — ответ на романс „Вы просите песен“ Саши Макарова. Посвящается талантливому артисту певцу-баяну Юрию Морфесси».
Своеобразный ресторанно-кабаретный шик — от нашего стола вашему столу! На нотной обложке романса «Ямщик, не гони лошадей» — музыка Я. Фельдмана, слова Н. фон Риттер — перечень «излюбленных новейших романсов и песен» насчитывает 509 названий! Процветающий нотный издатель Н. X. Давингоф предлагает музицирующей публике романсы-диалоги: «Ты говоришь, что я играл тобой» — ответ на романс «Я не играю вовсе вами». «Я поняла давно» — ответ на романс «Я вам не говорю». «Ты полюби» — ответ на романс «Я вас люблю». «Я позабыл» — ответ на романс «О, позабудь былые увлеченья». «Потому я тебя так безумно люблю» — ответ на романс «Почему я безумно люблю»…
«Романсовая драматургия» инсценируется исполнителями на концертных площадках и воодушевленно принимается публикой. На романс «Вы просите песен» есть целых две ответные «козырные карты»: «Зачем ваша песнь так печальна» и «Я песен просила…». Тот же «Ямщик, не гони лошадей» вызывает бурную ответную реакцию — «Гони, ямщик!» и «Эй, ямщик, гони-ка к „Яру“!». Отклик на романс «Пожалей!» печально-безнадежен: «Я не в силах жалеть…». Темпераментный оптимистичный романс «Аллаверды» совмещает в себе вопрос и ответ, что неудивительно — его авторы, как объявлено в каталоге, «князья Вано и Сандро». Самые востребуемые публикой темы — тоска по прошлому и будущему, печаль, радость встречи, томное одиночество, измена, вероломство, ожидание любви, отвергнутая страсть, безумство внезапного увлечения, ностальгия… Темпоритмическая форма — вальс, куплет, полька, баллада…
Но не все так грустно в песенно-романсовой стихии. Звонко гремят и расцветают цыганская песня и пляска, горит душевным оптимизмом и светский романс с загадочным названием «Если завтра будет солнце — нам из Лондона пришлют». И конечно, полны бодрости, светлых надежд, кокетливой игры романсы, предназначенные, как предупреждает издатель, для мужского и женского исполнения — «Ах, я влюблен в глаза одни…» и «В одни глаза я влюблена!».
Песенно-романсовая лексика пронизывает любительское музицирование, озвучивается в названиях спектаклей, концертных программ и фильмов. Гвоздь сезона — кинокартина «Позабудь про камин — в нем погасли огни». По народно-песенным сюжетам песен и романсов ставится множество кинофильмов: «Стенька Разин» («Из-за острова на стрежень…»), «Ухарь-купец» («Песня про купца Калашникова»), они сразу завоевывают массового зрителя. К 1910 году в России насчитывается свыше трех тысяч кинотеатров, большинство их в Петербурге и Москве. А на концертных подмостках, в музыкальных салонах, в кабаре русский и цыганский романс начинает теснить новый популярный жанр — мелодекламация.
Эстрадное и академическое вокальное исполнительство часто переплеталось. На Нижегородской ярмарке 1909 года Леонид Собинов, подвизавшийся тогда в местной опере, услышал Надежду Плевицкую, восхитился ее пением и пригласил выступить в благотворительном концерте вместе с другими знаменитостями. Так Собинов ввел Плевицкую в столичный артистический круг. Солистка цыганского хора теперь поет в лучших концертных залах, в Московской консерватории, ее приглашают в Царское Село выступить перед императорской семьей. Как свидетельствуют очевидцы, во время выступления певицы на глазах императора блеснули слезы.
«Слушал вас с большим удовольствием, — признался Николай II. — Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такой, какая вы есть. Много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, вы же, наш курский соловей, поете для сердца».
Метафора «курский соловей» тотчас вошла в оборот, стала журналистским клише. «Высочайшее признание», разумеется, не помешало Собинову, Шаляпину, Рахманинову и многим другим артистическим авторитетам, не говоря уже о публике, восторгаться талантом Надежды Плевицкой. Сергей Васильевич Рахманинов на одном из концертов даже вызвался аккомпанировать Плевицкой народную песню «Белолицы, румяницы вы мои» в собственной аранжировке…
Надежде Плевицкой Шаляпин щедро дарил свои песни.
«Не забуду просторный светлый покой великого певца, светлую парчовую мебель, ослепительную скатерть на широком столе и рояль, — рассказывала певица. — За этой роялью Федор Иванович в первый же вечер разучил со мной песню „Помню, я еще молодушкой была…“. На прощанье Федор Великий охватил меня своей богатырской рукой, да так, что я затерялась у него где-то под мышкой. Сверху над моей головой поплыл его незабываемый бархатный голос, мощный соборный орган:
— Помогай тебе Бог, родная Надюша. Пой свои песни, что от земли принесла, у меня таких нет, я слобожанин, не деревенский.
И попросту, будто давно со мной дружен, он поцеловал меня».
В манере пения Плевицкой заметно влияние Шаляпина. «Какими-то особенными шаляпинскими значительными… вокальными штрихами иллюстрирует она свои „сказания“, дополняя вокальное исполнение чрезвычайно выразительной мимикой и жестикуляцией», — свидетельствовал композитор и музыкальный критик А. А. Затаевич.
Шаляпин относился к успеху эстрадных звезд заинтересованно и ревниво. Константин Коровин и Валентин Серов поддразнивали певца, сравнивая со знаменитой Варей Паниной:
— Цыганка одна поет лучше тебя. Поет замечательно. И голос дивный.
— Ты слышал, Антон, — возмутился Шаляпин. — Коську пора в больницу отправить. Это какая же, позвольте вас спросить, Константин Алексеевич, Варя Панина?
— В «Стрельне» поет. За пятерку поет. И поет как надо…
Друзья пробуждали в Шаляпине азарт творческого соперничества.
Варей Паниной восхищались Л. Толстой, Куприн, Шаляпин, Теляковский. Большой любитель эстрадной песни Николай II приходил на выступления артистов в Дворянское собрание, в Мариинский театр.
Впрочем, Федор Шаляпин и Варвара Панина не были конкурентами, оба они вписывались в сонм звезд русской эстрады. «Очи черные» Шаляпин взял из репертуара Паниной и любил исполнять на концертах и в дружеских компаниях.
Стремительный взлет популярности цыганки Варвары Паниной, «звездные часы» деревенской девушки Надежды Плевицкой, чудесное превращение безвестной хористки в певицу феноменальной по масштабам славы Анастасию Вяльцеву — все это напоминало судьбу Федора Шаляпина. Критик А. Р. Кугель называл их пение «языком сердца», связывал любовь к цыганскому пению с исторической «тоской русского человека по цыганскому житью». Видимо, не случайно одним из любимых героев Шаляпина был пушкинский Алеко в опере С. В. Рахманинова.
Расцвету концертного исполнительства способствовала неожиданно открывшаяся «волшебная» возможность воспроизводить, копировать, тиражировать, распространять по России песенное искусство, эстрадные программы, классическую музыку в виде граммофонных дисков, в сопровождении фото-и киноизображений. Импресарио-менеджеры, предприниматели, посредники-поставщики «художественного товара» спешат заполнить торговые прилавки своей продукцией. Производство грампластинок ставится на промышленный поток. Граммофон прочно внедряется в повседневный быт, записи влияют на вкусы и пристрастия самых широких слоев населения, меняют ориентиры в культуре, в общественной, художественной, повседневной жизни.
Эстрада веселит, развлекает, но и ей не чужда социальная тема. На фоне революционных событий возрастал интерес к песням о безрадостной жизни народа, бедноты, солдат. Песни фабричного быта в дешевых изданиях Ямбурга, Сытина, Белашева, в сериях «песен тружеников и тружениц», «плотников, сапожников и портных», «каторжан и колодников» и других распространялись в так называемых «садовых дивертисментах», на «трактирной эстраде». С. Г. Скиталец, знаток городского быта, часто знакомил друзей с образцами мещанской и тюремной надрывной лирики, сочетающей отчаяние, беспросветную горечь, залихватское веселье с солдатскими песнями, ставшими популярными после Русско-японской войны.
Горести и радости фабричного и крестьянского люда, сраженного болезнью корабельного кочегара озвучены Надеждой Плевицкой в интонациях народного сказа; нервная пульсация голоса, ритмическая взволнованность передают настроение, пробуждают сопереживание. Драматизм жизни звучит в песнях и романсах, исполняемых Л. Собиновым, Ф. Шаляпиным, Ю. Морфесси, А. Давыдовым, А. Вяльцевой, В. Паниной, сказительницей Ориной Федосовой, «песельником» Трофимом Рябининым, ансамблем М. Пятницкого. В 1911 году распространенным шлягером стала песня «Маруся отравилась, в больницу Марусю везут». Написал ее «тапер-виртуоз» ресторана «Яр» Яков Пригожин для исполнительницы цыганских романсов и песен Нины Дулькевич; тотчас же массовым тиражом вышли ноты с ее портретом и грампластинка.
Юрий Морфесси в начале русско-германской войны вдохновенно исполнял свой романс «Любила меня мать, обожала» — о судьбе искалеченного войной солдата. Острый драматизм реальной жизни пронизывал концертный репертуар многих эстрадных звезд, выступавших в самой разной аудитории. В московском саду «Эрмитаж» триумфально выступает неотразимый Саша Давыдов — «Пара гнедых», «Нищая», «Отойди», «Не говори, что молодость сгубила», «Ночи безумные». С ним конкурирует цыганская труппа — знаменитый «Соколовский хор у „Яра“» покоряет Москву пышными музыкально-хореографическими феерическими зрелищами. В обозрении «Цыганские песни в лицах» в ролях цыган Стеши и Антипа выступали любимцы Москвы Вера Зорина — «Пресненская Патти» и «опереточный Мазини» — Саша Давыдов. Страстная, надрывная, насыщенная эмоциональными мелодраматическими эффектами манера исполнения волновала публику. Головокружительная карьера Анастасии Вяльцевой была сравнима разве что со славой Федора Шаляпина. Строгий в оценках Вл. И. Немирович-Данченко считал Вяльцеву XX века «большой артисткой». Внезапная ранняя смерть певицы сделала ее имя легендарным.
В начале XX века приобретает исключительную популярность жанр мелодекламации. В декабре 1902 года дирижер и пианист А. И. Зилоти пригласил В. Ф. Комиссаржевскую и Ф. И. Шаляпина исполнить поэму Байрона «Манфред» под музыку Шумана.
Еще во время гастролей Мамонтовской оперы в Петербурге Вера Федоровна Комиссаржевская слушала «Садко» с участием Шаляпина. «Давно так не наслаждалась», — писала она режиссеру Александрийского театра Е. П. Карпову. Теперь ей предстояло дважды выступать с Шаляпиным в байроновском «Манфреде». «Вот я в Москве, я читаю завтра, читаю „Манфреда“… Весь литературный мир, все, что есть талантливого, молодого в России, сейчас в Москве и будут завтра слушать меня… Байрон с музыкой Шумана. Вот чего ждут они, и какое наслаждение для духа было бы хотя бы желание дать одним звуком ту бурю, что переживаешь, читая эту повесть гениальной души», — признавалась актриса. «Успех г-жи Комиссаржевской и г. Шаляпина был даже выше ожиданий, — писали „Московские ведомости“. — Слушатели были словно очарованы под обаянием чудной мелодекламации двух великих талантов». 14 декабря концерт повторили. М. Горький на следующий день сообщал К. П. Пятницкому: «Федор Иванович читал первый раз хорошо, а второй — изумительно».
Выступление Шаляпина в литературном концерте позволило современникам сравнивать его со знаменитым немецким трагиком Эрнстом Поссартом — он исполнял «Манфреда» во время недавних гастролей в Москве. Поссарт выстраивал всю роль по законам мелодики. Молодой Станиславский брал в свое время уроки у немецкого гастролера. «Это произведение (речь шла о стихотворении, подготовленном Станиславским) следует читать в до-мажор, — объяснял Поссарт начинающему тогда любителю, — а потом оно переходит в ре-минор, тут идут восьмые, а здесь целые ноты».
Поссарт читал «Эгмонта» Гёте и «Манфреда» Байрона с музыкой Бетховена и Шумана. Правда, некоторые считали его исполнение нарочито эффектным, помпезным и даже вычурным, претенциозным. В отличие от Поссарта шаляпинский Манфред прост, естествен, по манере декламации он отличался от подчас холодного, рационально выстроенного чтения Поссарта. «Шаляпин выполнил свою задачу великолепно, так что для нас он был в этом отношении выше знаменитого Поссарта, выступавшего в Манфреде на сцене Большого театра», — писал критик.
Спустя несколько лет Эрнст Поссарт в Петербурге слушал Шаляпина в «Фаусте» и остался неудовлетворен исполнителем. Теляковского это привело в крайнее изумление: «Неужели он не отдал себе отчета, что такое Шаляпин? И такой человек стоит в Мюнхене во главе театра».
Возможно, в такой оценке Поссарта проявилась актерская зависть к сильному сопернику-конкуренту. Мефистофель — одна из коронных ролей немецкого актера. Его образ Духа Зла был проникнут сарказмом и иронией, но с годами сатирическое звучание притушилось. Стремясь к успеху у широкой публики, Поссарт усиливал комикование, шутовские эффекты, тем самым сильно упрощая роль. Профессор А. Н. Веселовский полагал, что поздний поссартовский Мефистофель больше смахивал на фигляра, на «вульгарного забавника». Поэтому Поссарту и не могла понравиться шаляпинская интерпретация. Теляковский вспоминал: «Поссарт объяснял русскому певцу, что Мефистофель обязательно должен хромать на левую ногу… (Основано это, по словам Поссарта, на народном предании в Германии, что у черта левая нога с копытом.) Затем Поссарт нашел неподходящим костюм Шаляпина, в особенности шпагу, затем он нашел, что у Шаляпина недостаточно выучены жесты при игре». Шаляпин тоже не оставался в долгу: он не принимал чтецкой манеры Поссарта и часто весело пародировал ее в дружеском кругу.
В Комиссаржевской Шаляпин ценил изысканную и в то же время пронзительную трепетную музыкальность — в интонациях, в пластике, в движении. Год спустя Вера Федоровна исполнила стихотворение в прозе И. С. Тургенева на музыку А. С. Аренского «Как хороши, как свежи были розы». Его с восторгом слушал Шаляпин — на этот раз он находился в зале. Да и сама природа, импульсивность мятущегося таланта Комиссаржевской во многом близка Шаляпину. Еще в пору работы в Русской частной опере Федор Иванович задумывался о Манфреде, но тогда его не поддержал Мамонтов. Теперь намерение певца осуществилось. Критик Ю. Д. Энгель писал: «Главным для невероятно многочисленной публики, переполнявшей оба раза не только большую, но и все прилегающие к ней залы Дворянского собрания, было, конечно, появление г. Шаляпина в новой для него роли декламатора… Удачно схваченный общий тон речи (соединение некоторой приподнятости, вызываемой особенностями сюжета и языка, с интонациями простыми и искренними), редкая сила и выразительность декламации — все это сделало бы честь и первоклассному драматическому артисту».
Мелодекламация сопровождалась чаще всего фортепиано, иногда скрипкой и виолончелью. В. Ф. Комиссаржевская включала в свои программы стихотворения Некрасова, Никитина, Горького. Артист Александрийского театра Николай Ходотов, друг и преданный поклонник Комиссаржевской, с пианистом-композитором Евгением Вильбушевичем ввели мелодекламацию в моду и тем самым сильно повлияли на принятую тогда исполнительскую манеру вокального и чтецкого концертного репертуара. Мелодекламация заняла едва ли не центральное место в афише 1900-х годов. Соединив поэтическую, актерскую, музыкальную эмоцию, она расширила эмоциональное поле художественного диалога. Эстрадно-сценическая мелодекламационная композиция воздействовала на настроение зала живым импровизационным эмоциональным всплеском.
Природу жанра точно определил Н. Н. Ходотов: «Чтение под музыку давало мне много новых красочных ощущений, вводило меня в особый мир музыкальной гармонии и, в свою очередь, требовало от меня много новых душевных эмоциональных взлетов в мир звуков и настроений, непохожих на переживаемые мною на сцене. Здесь я был предоставлен собственному выбору, а чуткий композитор Вильбушевич угадывал мои желания и намерения и вдохновлял меня своею музыкою».
Редкое искусство музыкальной импровизации, чуткое чувство ансамбля, высокий артистизм аккомпаниаторов, способность «экспрессивно» переосмыслять и интерпретировать перипетии песенных сюжетов по ходу выступления высоко ценили Шаляпин, Собинов, Обухова, Вертинский, позднее — Клавдия Шульженко, Изабелла Юрьева и другие мастера мелодекламации.
Публика концертов разделяла с исполнителями трепет задушевной мелодии, откликалась на иронию, шутку, ловила подтексты, «интонационные виражи», неожиданные точные жесты, увлекалась сплетением броского гротеска с игровым азартом. Верность правде искреннего чувства, виртуозное мастерство, одухотворенность обнажали душу, «нерв» талантливого артиста, отзывались в зрителях «моментом истины».
Пути и судьбы «кумиров публики» подчас причудливо сближались, ломая незыблемые, казалось бы, законы логики, пространства, времени, подчиняя их каким-то своим непостижимым «импровизациям», образуя некую высшую духовную целостность бытия.
«Есть в искусстве такие вещи, о которых словами сказать нельзя, — писал Ф. И. Шаляпин в „Маске и душе“. — Я думаю, что есть такие же вещи и в религии. Вот почему и об искусстве, и о религии можно говорить много, но договорить до конца невозможно. <…> Но… есть интонация вздоха — как написать или начертить эту интонацию? Таких букв нет… <…> Движение души, которое должно быть за жестом для того, чтобы он получился живым и художественно ценным, должно быть и за словом, за каждой музыкальной фразой. Надо вообразить душевное состояние персонажа в каждый данный момент действия. Певца, у которого нет воображения, ничто не спасет от творческого бесплодия — ни хороший голос, ни сценическая практика, ни эффектная фигура. Воображение дает роли самую жизнь и содержание».
Раздумья Шаляпина — исповедь, откровение, завет старым друзьям, молодым коллегам, благодарным потомкам. В пору эмигрантских скитаний, в годы, когда русские артисты, дорожа личным общением, искали поводов для встреч и собраний, они слушали, созерцали, сопереживали друг другу…
Глава 3 ПРИЧУДЫ БОГЕМЫ И КАПРИЗЫ ПУБЛИКИ
…Проведя полгода в гастрольной поездке по Северной и Южной Америке, Шаляпин вернулся в Москву и в первый же свободный вечер отправился на «Синюю птицу» в Художественный театр: 14 октября 1908 года МХТ отмечал свое десятилетие. Труппа во главе с К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко занимала первые ряды партера, сцена на этот раз отдана гостям. На портале портрет А. П. Чехова; «Чайка» — символ театра — украшает занавес, афиши, программки, билеты…
На сцену выходят депутации, растет стопка поздравительных телеграмм. Болгарскую актрису сменяет седой грузинский актер, певцы Большого театра во главе с Шаляпиным исполняют кантату А. Т. Гречанинова «Слава», потом Федор Иванович исполняет «музыкальное письмо» Сергея Васильевича Рахманинова. Его композитор прислал из Дрездена — торжественный мотив «Многая лета» вплетен в веселую польку Ильи Сада из «Синей птицы». «Дорогой Константин Сергеевич, — поет Шаляпин, — я поздравляю вас от чистого сердца, от самой души. За десять лет вы шли вперед, все вперед и нашли синюю птицу. Я очень сожалею, что не могу вместе со всеми вас чествовать, вам хлопать, кричать на все лады — многая лета». Даже подпись в этом письме — «Ваш Сергей Рахманинов. Дрезден. 14 октября 1908 года» — была «музыкальной», так же как и постскриптум — «Жена моя мне вторит».
Письмо Рахманинова Шаляпин исполнил на бис. А затем снова читались телеграммы и приветствия из столиц и глухих уголков России, от зрителей разных сословий и профессий, пришло даже теплое поздравление от «представителей контор и прилавков».
С «художественниками» Шаляпин связан давней дружбой, вместе они проводят вечера в артистическом кабаре «Летучая мышь», недавно открывшемся в подвале «дома Перцова». Затейливые барельефы, оригинальное сказочно-былинное оформление окон, балконов, подъездов, созданное по рисункам С. В. Малютина, сразу сделали этот дом достопримечательностью Москвы. Сама же «Летучая мышь» обязана своим рождением озорным капустникам Художественного театра и задумывалась как закрытый клуб, место отдыха творческой интеллигенции. «Каждый спускавшийся под свод, — писал театральный критик Н. Е. Эфрос, — оставлял в прихожей вместе с калошами печаль, снимал с себя вместе с пальто и заботы… Обязан был там, за порогом, оставить и обидчивость, способность уязвляться шуткой».
Хозяин кабаре актер Художественного театра Н. Ф. Валиев — блестящий конферансье, зачинщик веселых представлений, гостеприимно приглашал в «Летучую мышь» на «Ужин шуток» артистов других театров, музыкантов и художников. Гостей, приглашенных на пятилетие, встречали куплетами:
«Мышь» родилась в подвале в Москве пять лет назад, Поэты воспевали ее пять лет подряд. Кружась с «Летучей мышью» среди ночных огней, Узор мы пестрый вышьем на фоне грустных дней…Вечера строились на чистой импровизации. Юная мхатовка Алиса Коонен демонстрировала с Р. Б. Болеславским пародию на модный «Танец апашей». В игру включался Сергей Рахманинов: он, как вспоминала актриса, «одним махом своей дирижерской палочки… превратил эстрадную безделушку в произведение искусства». Известному дирижеру Артуру Никишу предложили стать капельмейстером маленького духового оркестра. Никиш лихо взобрался на столик, взмахнул живой розой, и зазвучал вальс из «Веселой вдовы».
Кабаре Никиты Балиева представляло артистов в неожиданном для всех качестве. Мэтр Станиславский не считал зазорным преобразиться в фокусника и виртуозно снимал у ассистировавшего партнера сорочку, оставив неприкосновенным пиджак. Шаляпин, Собинов и режиссер МХТ Леопольд Сулержицкий, игнорируя очевидное различие в весовых категориях, проводили показательный «сеанс французской борьбы». Старинная кадриль «Вьюшки» в исполнении Шаляпина и Москвина — гвоздь программы: напевая нехитрый мотив, они вели абсурдный диалог полкового писаря и приказчика из галантерейной лавки.
«Давать Шаляпина» — назывался номер мхатовского актера В. В. Лужского по мотивам спектакля «Фауст». «„А вы, цветы, своим-м душистым-м, тонким-м ядом-м-м“, — пародийно подчеркивая эти двойные и тройные „м“ на концах слов — этот знаменитый шаляпинский штампик, но когда В. В. (Лужский. — В. Д.), дойдя до „и влиться Маргарите в сердце“, начинал по-шаляпински раздувать: „в се-е-эрдце“, его вдруг действительно захватывал шаляпинский темперамент, накатывала волна стихийной шаляпинской мощи», — вспоминал В. И. Качалов.
Через несколько лет «Летучка» перебралась в Милютинский переулок и «коммерциализировалась», стала доступна не только артистической братии, но и некоторым ее настырным и высокоимущим поклонникам. Поначалу для них ставили столики, а когда «Летучая мышь» в 1915 году перебралась в Большой Гнездниковский переулок в подвал «небоскреба» Нирнзее, от столиков отказались, выгородили сцену и зрительный зал с партером и боковыми ложами.
В «Летучей мыши» нередко устраивались благотворительные вечера и остроумные аукционы в пользу «братства актеров». Выступления знаменитостей и распродажа их реликвий позволяли иногда собирать значительные суммы в помощь тем, кому изменяла капризная театральная судьба. В один из таких вечеров было оглашено письмо Шаляпина с просьбой выставить на аукционе его портрет. «Портрет Шаляпина продали за 1180 рублей, — сообщала „Театральная газета“. — Значительно дешевле прошел принесенный г. Провдиным воротничок Шаляпина. Воротничок купил за 2 рубля г. Альшванг, владелец известной прачечной фирмы.
— Я этот воротничок в витрине выставлю, — объяснил г. Альшванг цель своей покупки».
Певец — живая достопримечательность Москвы. «У нас три чуда, — шутят москвичи, — Царь-пушка, Царь-колокол, Царь-бас». Жизнь Шаляпина, столь заметной и колоритной фигуры своего времени, — непременная мишень репортеров, фельетонистов, куплетистов. В программе театра Зон (бывший «Буфф»), что находился на Садовой-Триумфальной улице, номера на злобу дня посвящались члену Государственной думы А. И. Гучкову, Леониду Андрееву — автору пьесы «Екатерина Ивановна», имевшей скандальный успех, и, конечно, артистическим звездам первой величины — Надежде Плевицкой и Федору Шаляпину.
В театре «Эрмитаж» в обозрении «Кувырком» выступал талантливый опереточный артист Н. Ф. Монахов. Огромным успехом пользовался его номер — выступление певца Тряляляпина.
Популярность доставляла Шаляпину немало хлопот. Фотографы бойко торгуют его портретами, огромными тиражами выходят открытки, изображающие его в жизни и в ролях. Газеты и журналы публикуют карикатуры, шаржи, зарисовки, интервью артиста и репортажи о нем.
Есть как бы два Шаляпина. Один — реально существующий: вдохновенный артист, требовательный художник, отец семейства, обаятельный собеседник, желанный гость театральной богемы. И второй — мифологический, придуманный газетчиками и обывателями в соответствии с их представлениями о звезде, о присущих ей капризах, скандалах. Когда нет сенсаций и даже повода к ним, их придумывают, украшают подробностями, запускают в оборот, распространяют. И вот газеты пестрят сообщениями: Шаляпин пишет музыку «под Мусоргского», сочиняет оперу «Анатэма», беспробудно пьет, назначен послом в Китай и прочее. Артисту приходится опровергать нелепые выдумки, они усложняют жизнь, искажают репутацию. «Помилуйте, господа, — пламенно обращается певец к репортерам через газету, — можно ли так врать на живого человека… Я бы очень просил тех господ, которые про меня желают писать, оставить мою частную жизнь в покое и говорить лишь о моей сценической деятельности… Газеты выражают мнение общества, они не должны писать небылиц — ведь интерес должен заключаться в том, как поет артист и как он занимается своим искусством, а не в том, почему он ходит в баню по субботам, а не по пятницам».
В интервью «Биржевым ведомостям» Шаляпин возмущался бесцеремонностью публики, сетовал на то, что назойливые поклонники не дали ему спокойно пройтись по Летнему саду. «Даже в большом городе нельзя смешаться с толпой, скрыться от почитателей таланта. Дайте мне спокойствие вне сцены!» — взывал певец.
Но требовательная публика упорна. Она хочет, чтобы ее голос был услышан артистом, и часто искренне наивна в своих признаниях. Письмо юных поклонниц трогает своим простодушием:
«Премного-много-много обожаемый Шаляпин!
Наконец-то наша мечта осуществилась! Мы были 24-го ноября на „Фаусте“ с участием нашего чудного Шаляпина. Если бы Вы знали только, в каком мы были восторге!
Вы простите, что мы не умеем красиво выражаться, но Вы, ей-богу, так ловко играли и пели, что в некоторые моменты у нас прямо дрожь пробегала по телу и мы невольно прижимались друг к другу. Так иногда и кажется, что перед нами настоящий Мефистофель! Мы и теперь не можем вспоминать равнодушно Ваше лицо, Вашу фигуру в черном плаще перед церковью и еще этот ужасный хохот! Боже, а как Вы дивно пели, как ярко выражали значение каждого слова!.. Вот уж теперь мы знаем, почему все так хотят попасть „на Шаляпина“! Вообще всего, что творится у нас в душе, мы, при нашем скудном красноречии, не в силах выразить, но мы надеемся, что Вы поймете наш искренний восторг!
Да! К сожалению, мы не красноречивы (хоть и гимназистки VI класса), но, знаете, настолько сильное впечатление произвел на нас спектакль, что на другой день такая проза, как гимназия, привела нас прямо в ужас, и мы решили прогулять. Теперь у нас только и разговору, что о Вас! Мы так счастливы!
Бесконечно обожающие и уважающие Вас Маруся, Лёля и Лиза».
Неведомо, как сложилась судьба юных поклонниц Шаляпина. Зато известно, что их современник, киевский гимназист Михаил Булгаков, больше пятидесяти раз слышавший в театре «Фауста», свои впечатления от шаляпинского Мефистофеля запомнил надолго. Не зря же «булгаковеды» полагают, что сценический Мефистофель повлиял на образ Воланда в романе «Мастер и Маргарита».
Совсем иная «исповедь» в письме некоего С. М. Иванова — январь 1902 года. Она подтверждает мысль о «волшебной силе искусства», способного менять человеческие судьбы.
«Федор Иванович!
5-го сего января в 5 часов вечера при выходе Вашем из театра в то время, как Вы садились в сани извозчика, к Вам подбежал какой-то босяк и, трясясь, просил у Вас подаяния. Вы и Ваш спутник не отказали и подали ему лепту, при этом Ваш спутник бросил слово: „на, получай на пропой“, т. е. на водку, а Вы безнадежно махнули рукой — мол, даю, а знаю, что пропьет.
За двенадцать лет пребывания в босяках на Хитровом рынке передо мною прошли сотни босяков и сотни их ушли на хорошую оседлую жизнь и теперь при встречах уговаривают меня, чтобы я поскорее уходил „оттуда“. Два года тому назад на праздник Рождества Христова я, после усиленного трехдневного пьянства (которое, к слову сказать, прекратилось лишь за неимением денег), отправился торговать театральными афишами — два десятка которых мне дал один знакомый газетчик на „поднятие“, и он же дал мне один билет в Частную оперу. „Сходи, говорит, послушай пение“. Ну, думаю, как бы не так, лучше продам, да и опохмелюсь знатно. Продать билет не пришлось, опоздал.
Пришел с горя сам в театр. В первый раз довелось мне быть в театре, как увидел разряженных артистов, услышал пение, и грустно мне стало, досадно, зачем я раньше не ходил в театр, а одну только водку глушил. Как сейчас помню, на „утреннике“ шла опера „Кармен“. Очень она мне понравилась, хотя много я в ней и не понял. Все зло брало, зачем музыка заглушает слова и пение артистов. Кармен-цыганку играла Петрова и так хорошо, что мне пришло желание в другой раз послушать ее.
Скоро опять шла „Кармен“ вечером. Заплатил 35 коп. за билет и пошел. После этого стал замечать в себе какое-то перерождение, не одна водка — и другие потребности появились. Начал ходить в читальни, прочитал у Лермонтова описание Кавказских гор, и потянуло меня посмотреть их. <…>
Как талантливому артисту я земно кланяюсь и, как доброй души человеку, приношу благодарность Вам, Федор Иванович; признаюсь чистосердечно, не на водку пошло Ваше подаяние, а одна у меня забота — собрать денег да купить билет в Большой театр, на оперу „Фауст“, когда Вы и Собинов поете».
На отзывчивость и понимание Шаляпина надеялись не только экзальтированные гимназистки и заблудшие люмпены, но и вполне благополучные поклонники его таланта.
С коллективным письмом — тридцать одна подпись! — обращаются они с просьбой упорядочить продажу билетов в Большой театр:
«На днях, после окончания „Бориса Годунова“, Вы в личной беседе с нами осчастливили нас радостной надеждой устранить вновь утвержденный порядок по распределению билетов на спектакли с Вашим участием. <…> При таком порядке Большой театр является учреждением „закрытым“ и билеты поступают без всяких затруднений в руки господ, равнодушных к искусству, публике сонной и важной, у которой музыкально-мозговые центры пропитаны лишь злобой дня и сплетнями о Ваших личных выступлениях!
А мы — мы целыми ночами мокли и мерзли у театра, чтобы на Ваших спектаклях была публика веселая и жизнерадостная — истинная ценительница и поклонница Вашего неувядаемого таланта, мы обращаемся к Вам с вышеизложенной просьбой и искренне верим, что Вы отстоите и защитите наши столь дорогие и законные интересы…»
Федор Иванович и сам готов защитить «законные интересы» поклонников, он даже пробует «упорядочить» продажу билетов на бенефисные спектакли у себя на квартире, но ничего путного из этих затей не вышло. В декабре в Большом театре объявлен «Мефистофель» А. Бойто. «Вчера и третьего дня квартиру Ф. И. Шаляпина буквально осаждали сотни человек, жаждавшие билетов на бенефис, — сообщала газета „Новости дня“ 28 ноября 1902 года. — По лестнице живою изгородью стояли люди, но всех ждало разочарование — билетов не было». Убедившись в несостоятельности своих проектов усовершенствовать торговлю билетами, Шаляпин махнул рукой и оставил ее «профессионалам» — барышникам.
Глава 4 ПЕТЕРБУРГСКАЯ СРЕДА
С 1905 года Горький жил в Италии, на Капри, виделись они с Шаляпиным редко. Зато с художниками артист тесно общался и в Петербурге, и в Москве. Художники возвысили и укрепили в общественном мнении 1910-х годов образ Шаляпина — Артиста мира, после триумфов в Европе и Америке это вполне соответствовало реальности: именно художники потеснили циркулирующие социальные имиджи Шаляпина самородка, революционера, монархиста.
Огромное нравственное воздействие, которое оказывали на артиста Коровин и Серов, раздражало и настораживало Горького, он хотел изолировать артиста от «нездоровой богемы». Погостив в августе 1903 года на гостеприимной коровинской даче в Охотине, Горький написал Пятницкому: «Художник Коровин был консервативен, что ему, как тупице и жулику, очень идет».
Ревность Горького к художникам не была безосновательной, о чем свидетельствует дневниковая запись Теляковского в мае 1904 года:
«Горький имеет на Шаляпина большое влияние. Он перед Горьким преклоняется, верит каждому его слову и совершенно лишен возможности относиться критически к его сочинениям. На Коровина, критикующего как художник Горького, Шаляпин сердится… Преклоняясь перед умом Горького, нельзя не видеть его слабые стороны, — размышляет Теляковский, — и все эти возгласы — „жить для других“, „на пользу человечества“ — все это в литературе напоминает в живописи передвижников и идейное искусство. Коровин говорит, что почти всю дорогу проспорил с Горьким. „Человек“ Горького написан превосходно, но согласиться с его взглядом на мысль трудно. Особенно когда вера и надежда у него идут сзади в свите мысли. Стали мы после разговора читать Евангелие и сравнивать с впечатлением, выносимым из чтения Горького, и выходит, что Горький умен, но не глубок. Его самообольщенный человек считает веру, надежду и любовь слабостями, между тем без них нельзя жить на свете… Общество Коровина очень полезно Шаляпину, — заключает Теляковский. — Коровин чистый художник и обладает большим чутьем — чувствует настоящее и его трудно обмануть умственным мудрствованием. Коровин много думал и еще более чувствовал».
В Петербурге, в Мариинском театре, Шаляпин сблизился с Александром Яковлевичем Головиным. Художник впервые увидел Федора Ивановича еще в Частной опере. Позднее он оформил в Большом театре «Ледяной дом» и «Псковитянку». В Милане певец покорил публику Мефистофелем А. Бойто, и костюмы Головина в немалой степени способствовали успеху. В одном из них художник и запечатлел Шаляпина.
Фон картины выдержан в холодных серебристо-голубых, мерцающих тонах. Обнаженное плечо, крепкая мускулистая рука придерживает мертвенно-серый плащ. Другая рука резко выброшена вперед. Лицо отливает мертвой бледностью, но глаза сверкают грозной фанатичной силой. Многие считали, что Головин изобразил Шаляпина в момент, когда Мефистофель бросает небесам дерзкий вызов: «Он будет мой!»
Иной Мефистофель в опере Ш. Гуно «Фауст». Яркость пурпурного плаща, камзола выделяется на синеватом фоне. И такого же оттенка лицо — значительное, чуть искривленное дьявольской улыбкой.
Портреты Шаляпина Головин, как правило, писал ночью, в декорационном зале. Когда художника пригласили в Мариинский театр, оказалось, что работать ему, в сущности, негде. Костюмы делались полукустарным способом, часто дома у Теляковского при содействии его жены Гурли Логиновны. Головин построил под куполом театра над зрительным залом просторную художественную мастерскую, расширил штат оформителей и помощников.
«У Шаляпина было в то время обыкновение превращать ночь в день, а день в ночь, — вспоминал А. Я. Головин. — Он выразил желание позировать мне после спектакля, если угодно — до утра, но с тем, чтобы портрет был закончен в один сеанс. Пришлось согласиться и писать портрет при электрическом освещении. Работа шла у меня почти без перерывов, мне хотелось во что бы то ни стало окончить ее, и это удалось, но помню, что устал я ужасно, и когда я клал последние мазки внизу картины и нагибался, с меня буквально лился пот, стекая со лба на пол, — до такой степени я изнемог».
В одну из ночей 1908 года под сводами огромной мастерской Головина создавался портрет Шаляпина в роли Олоферна. В убранном коврами шатре на ассирийской скамье возлежит восточный владыка с чашей в руках, в экзотичных одеяниях. Длинная черная в колечках борода, тяжелые серьги, глаза чуть навыкате. Поза значительна, монументальна, величественна.
Телешовская «Среда». Журнал «Стрекоза». 1902 г.
Еще в Мамонтовской опере Шаляпин много работал над Олоферном, вместе с В. А. Серовым изучал ассирийские, египетские рисунки и орнаменты, искал особую пластику, мимику, жесты, походку. За разговорами в дружеском кругу постепенно вырисовывался могучий сценический характер. Однажды в гостях у Т. С. Любатович Серов взял со стола полоскательную чашку и обратился к Шаляпину:
— Вот, Федя, смотри, как должен ассирийский царь пить, а вот, — указывая на барельеф, — как он должен ходить, — и, протянув руки, прошелся по столовой как истый ассириец.
Серов тогда не просто писал эскизы костюма для спектакля Мамонтовской оперы — он подсказывал Шаляпину сценический рисунок роли, пластику, ритмы движения.
Ни одна из ролей Шаляпина не застывала в своем изначальном рисунке. Меняющееся время накладывало свой отпечаток на уже сложившийся образ, рождало новые интонации, краски. Сценические создания певца оказывали мощное влияние на эстетику современного театра в целом — на драму, на оперное и балетное искусство. Ассирийский военачальник Олоферн в опере А. Н. Серова «Юдифь», созданный еще на мамонтовской сцене в содружестве с Валентином Серовым, постепенно приобретал у Шаляпина силу внутренних раздумий, сложность, противоречивость. Как в Иване Грозном и Борисе Годунове, так и в Олоферне звучала близкая Шаляпину тема тяжелого одиночества властителя, жесткого и умного самодержца. «То и замечательно у Шаляпина, что избранная им для Олоферна пластическая форма переполнена одушевленнейшим содержанием, что за угловатыми линиями, за суровым каменным рельефом этого образа угадывается клокотание страстей, что каждый жест, не теряя ни на минуту своей стильности, теснейше связан с определенным переживанием. По смелости замысла и по тонкости художественного его выполнения Олоферн занимает особое место посреди всех прочих сценических созданий Шаляпина», — убежденно писал критик Э. Старк.
Принцип ожившего барельефа, найденный Шаляпиным и Серовым, использовал Михаил Фокин при постановке «Египетских ночей» на музыку А. С. Аренского. Критикуя модернистский немецкий балет, Фокин писал: «Угловатые движения тоже не являются новым изобретением немецкого танца. Целые балеты были поставлены в России 30 лет назад на угловатых движениях („Египетские ночи“, „Юдифь“). Тот же прием осуществлен и в драме Вс. Мейерхольдом, и в опере Ф. Шаляпиным в роли Олоферна». Описание Фокиным подготовительной работы к постановке «Египетских ночей» во многом совпадает с воспоминаниями хореографа о том, какими путями он шел к созданию Олоферна. Фокин проводил долгие часы в Эрмитаже, «окружал себя книгами по Египту». Как и Шаляпина, Фокина поразили профильные изображения на египетских барельефах, и он постарался претворить свои впечатления в хореографии будущего спектакля. Балет «Египетские ночи» был полемичен по отношению к классическому танцу, на премьере роль Клеопатры была поручена ученице драматических курсов Е. И. Тиме.
Пластичность Шаляпина восхищала Фокина: «В нескольких плясовых движениях его Варлаама в корчме „Бориса Годунова“ было больше чувства танца, чем в ином целом балете». О влиянии Шаляпина на современную хореографию писал и другой выдающийся балетмейстер Ф. В. Лопухов, называя его «учителем правды в музыкальном театре, учителем сценического жеста, позы, ощущения музыки в каждом движении для балетмейстеров, танцовщиков и педагогов».
Шаляпинский Олоферн стоял в ряду исканий условного театра начала XX века, театра Вс. Мейерхольда. Выразительные «барельефные» мизансцены в спектаклях театра В. Ф. Комиссаржевской вызывали у зрителей и критиков аналогии со сценическими образами певца. «Немногие оценили это „стилизованное“ окаменение, этот остроугольный автоматический жест к чаше, лепную поступь, лепные повороты головы; немногие почувствовали в этом рыкании осторожно-угрожающий голос ассирийского льва и темно-кровавую пасть его; немногим в тембре этих стесненных стенаний почудился запах пустыни», — писал о шаляпинском Олоферне Ю. Беляев.
После спектакля зрители Мариинского театра, утомленные рукоплесканиями, покидали зал, а Шаляпин в полном облачении и гриме поднимался в мастерскую Головина.
На сеансы живописи приходили жена Шаляпина Мария Валентиновна, его друзья: Исай Дворищин, дирижер Даниил Похитонов, певцы Дмитрий Смирнов и Александр Давыдов, художник-карикатурист Павел Щербов. До утра не смолкали беседы, Смирнов и Давыдов пели, Похитонов играл на рояле.
Шаляпин — любимая «персона» карикатуристов. Никто из артистов не мог похвастаться таким обилием шаржей, шуточных зарисовок. Павел Щербов — постоянный гость певца, он наблюдал за артистом на отдыхе, дома, на ночных сеансах у Головина. Из этих наблюдений родились остроумные шаржи «Головин за портретом Шаляпина», «Шаляпин в роли Олоферна», «Шаляпин в роли Демона». Головин восхищался своей «моделью». «Придет часа в три ночи и простоит до семи-восьми часов утра. Удивительно умеет позировать. Редкая выносливость и поразительное терпение. Стоит как вылитый по нескольку часов. Я писал его в роли Олоферна, Демона, Мефистофеля с поднятой рукой. Трудная была поза… Артист не просто сидел в заданной позе, но все время был в образе».
Фарлаф — один из шедевров шаляпинского репертуара. В нем в полную силу проявилась комедийная, сатирическая грань актерского дара певца. «Самый грим… напоминал немножко Запорожца г. Репина. Не прибегая к шаржу, артист превосходно изобразил самодовольную тупость и трусливость Фарлафа», — писал критик Н. Д. Кашкин. Сочная живопись репинских «Запорожцев» и в самом деле оживала в шаляпинском Фарлафе — бритая голова, усы, сочетание неуклюжей монументальности с хвастливой самоуверенностью делали образ живым и колоритным.
Александр Яковлевич Головин не писал Шаляпина «в жизни», его интересовали сценические шедевры певца, его творческие «перевоплощения». Сам же Шаляпин тщательно изучал полотна Головина, Серова, Коровина, Врубеля, художники были творческими единомышленниками и в полной мере соавторами певца. Демон Шаляпина близок врубелевским картинам. Вместе с тем Головин в своем портрете Шаляпина — Демона сумел передать и самобытный колорит коровинских декораций к спектаклям Большого театра, воссоздающих пейзаж Кавказа, суровый и сказочный одновременно. Демон как бы распят среди заснеженных скал, на его лице лежит тень одиночества, отрешенности, вселенской печали.
Головин разделял требовательность артиста к оформлению спектакля и доверял его художественному вкусу. Внешние аксессуары, все окружение подчеркивают в головинских портретах психологическое состояние Шаляпина, передают духовную кульминацию сценического образа.
Борис Годунов изображен Головиным в полный рост. Царь властно держит посох, другая рука прижата к груди, жест естествен, выразителен — кажется, что Борис непроизвольно схватился за сердце. Блестящие парчовые одежды, усыпанные драгоценными камнями, горящие перстни на руках не отвлекают внимания от лица — умного, сильного, властного. Годунов — Шаляпин стоит около багрового занавеса, подсвеченного таинственным светом театральных софитов. Этот поздний шаляпинский портрет Головин написал в 1912 году.
Шаляпин любил позировать разным художникам и не скрывал этой своей слабости. Летом 1906–1907 годов певец выступал на сцене летнего театра «Олимпия» в саду на Бассейной улице. Новый театр смахивал на большой деревянный сарай, зал состоял из партера, нескольких лож и галереи. «Пускали в театр, как полагается, за полчаса, но мы, галерочники, приходили за полтора часа и ждали открытия дверей, чтобы занять передние места у барьера. Стоять приходилось пять-шесть часов, — вспоминал известный впоследствии режиссер Г. Шебуев. — Неуспевшие прийти задолго до начала спектакля слушали оперу в саду, поскольку двери были открыты».
За кулисы «Олимпии» проник художник И. Гринман и сразу начал набрасывать портрет Шаляпина. Настойчивый рисовальщик Шаляпина заинтересовал, он запретил всем заходить в гримерную, антракт затянули до поры, пока рисунок не был закончен. Портрет Шаляпину понравился, и вскоре он был опубликован в 43-м номере журнала «Искры» за 1906 год.
Взаимоотношения Шаляпина с петербургской прессой сложные, но у певца есть близкие друзья и среди журналистов. Юрий Беляев — блестящий критик, «почетный гражданин кулис», тонкий ценитель оперы, балета, оперетты, остроумец, импровизатор, пародист, друг Дальского, Комиссаржевской, Ходотова, Савиной, любимец театральной богемы и, конечно, Шаляпина. Свидетельство тому — один автопортрет певца, сделанный смелым росчерком пера с надписью: «Федор Шаляпин — Юрию Беляеву — в трактире Cubas, опосля „Юдифи“ 14/XI—908».
Беляев и сам рисовал шаржи и карикатуры, легко сочинял модные пьесы. Одна из самых удачных — водевиль «Путаница, или 1840 год», воссоздавшая быт старого русского театра. 18 декабря 1909 года Беляев пригласил Шаляпина на генеральную репетицию в Малый (Суворинский) театр, что на Фонтанке. На вечерней премьере Шаляпин быть не мог — вечером пел «Демона» в Мариинском театре.
В том же театре выступала в эти годы Айседора Дункан. Без декораций, на сцене, задрапированной черным бархатом, в луче прожектора танцовщица исполняла хореографические импровизации на темы Шопена, Чайковского и других композиторов. Ее программы поражали зрителей смелостью, новизной хореографии. Она танцевала босой и в туниках и завершала программу темпераментной «Марсельезой». После концерта Шаляпин, Головин, Репин, Глазунов и Леонид Андреев пригласили Дункан в клуб к художникам на Галерную улицу. «Сегодня у нас все наоборот, — возвещала афиша. — Вас будут обслуживать на вешалке, за столом и в буфете не гардеробщики, не официанты, а будущие актеры — ученики театральной школы. В кабаре выступят звезды петербургских театров, но сегодня они забудут свое амплуа, свои роли, свои арии, свои романсы — они будут делать все наоборот».
Шаляпин выступил как драматический актер, вдохновенно читал монолог Барона из «Скупого рыцаря».
— Теперь, Анастасия Дмитриевна, ваша забота вернуть хорошее настроение гостям, — обратился Шаляпин к Вяльцевой, уступая эстраду певице.
Вяльцева после небольшой паузы неожиданно запела «Блоху», коронный номер Шаляпина. Айседора Дункан в экзотично-вызывающем костюме шансонетки, тут же наскоро сделанном для нее Головиным, спела игривую песенку, пританцовывая, как истинная звезда кабаре. Куприн и его друг клоун Жакомино затеяли чехарду, ловко перепрыгивая друг через друга. Завершая номер, писатель воскликнул как прирожденный циркач: «Вуаля! Всё!»
Победителям — Шаляпину, Айседоре Дункан и А. Д. Вяльцевой вручали премии — картины. Шаляпин отдал свой приз Куприну: «На, Саша! Ты заслужил все три приза, но неудобно отнимать у дам».
Глава 5 УРОКИ СЕРОВА
В 1905 году Валентин Серов пишет по заказу Литературно-артистического кружка портреты великих актрис Малого театра М. Н. Ермоловой, Г. Н. Федотовой, писателя Горького и артиста Шаляпина. «Серов оставил после себя огромную галерею портретов наших современников, и в этих портретах рассказал о своей эпохе, пожалуй, больше, чем сказали многие книги. Каждый его портрет — почти биография», — писал позднее Шаляпин.
Валентин Серов создавал портреты выдающихся деятелей театра, занявших исключительное положение в общественном сознании. Полотна демонстрируются на выставках, их выносят на суд широкой публики, о них пишут критики, спорят коллеги, журналисты, репортеры, зрители. Особым достоинством серовских картин признавалось не внешнее сходство, а именно его проникновение вглубь характеров, во внутренний мир, выведенный живописцем на всеобщее обозрение.
Серов писал портреты «властителей дум». Артисты изображены не в ролях, а в жизни. Художник видел в них не просто сценических деятелей, а передовых значимых личностей, мыслящих людей времени, не замыкавшихся узким кругом собственно-театральных проблем. «Ермоловский портрет, — писал критик Н. Эфрос, — настоящая картина, под ним можно бы смело подписать — „Трагическая актриса“, и даже просто — „Трагедия“. Это — женщина-вождь, которой дано „глаголом жечь сердца людей“».
Как известно, живопись Шаляпин оценил и остро прочувствовал, придя в Частную оперу Мамонтова. Именно здесь он в собственной творческой практике осмыслил взаимосвязь искусств, создающую новую целостность, неповторимый «художественный аккорд». Такому синтетическому художественному мышлению он учился у Врубеля, Коровина, Васнецова, но, может быть, прежде всего у Валентина Серова.
В. А. Серов в 1900-х годах — признанный мастер, «модный художник», он зарабатывает заказными портретами. Личное отношение к «модели» живописец никогда не скрывает, оно отчетливо отражается на полотне, Серов не льстит «заказчикам», и потому многие недовольны: на полотнах неожиданно проступают черты характера, которые портретируемый не стремился выставить напоказ. Некоторые серовские портреты современники считали шаржами и даже карикатурами. Но тщеславное желание «заказчиков» быть изображенным талантливым живописцем оказывалось сильнее опасности оказаться «разоблаченным» проницательным взглядом портретиста.
Валентин Серов писал портреты Николая II, многих его родственников и приближенных. Во время сеансов художник вел себя индифферентно, соблюдал дистанцию, не заискивал, был спокоен, молчалив, сосредоточен, чем несколько озадачивал высочайших особ. Только однажды он нарушил свое молчание и заговорил с императором о нелепости заключения Саввы Ивановича Мамонтова в тюрьму. Государь ответил, что распорядится перевести подсудимого из Таганской тюрьмы под домашний арест, и слово сдержал.
Работы Серова нравились царскому семейству, ему был заказан «домашний» портрет императора в тужурке, без парадных знаков отличия — Николай хотел преподнести его супруге в подарок. И. Э. Грабарь рассказывал:
«В назначенный час пришли царь с царицей. Царица попросила царя принять свою обычную позу и, взяв сухую кисть из ящика с красками, стала внимательно просматривать черты лица на портрете, сравнивая их по натуре и указывая удивленному Серову на замеченные ею мнимые погрешности в рисунке:
— Тут слишком широко, здесь надо поднять, там опустить.
Серов, по его словам, опешил от этого неожиданного урока рисования, ему кровь ударила в голову, и, взяв с ящика палитру, он протянул ее царице со словами:
— Так вы, ваше величество, лучше сами уж и пишите, если так хорошо умеете рисовать, а я больше слуга покорный».
Действительно, как ни зазывали после этого Серова в официальном порядке и кружным путем, он наотрез отказывался от царских заказов.
Первый портрет Шаляпина Серов написал еще в Частной опере и подарил его певцу с надписью: «Шаляпину на память от В. С.». Тогда же художник и артист быстро сошлись, подружились, хотя характеры у них были разные. «С виду это был человек суровый и сухой, — писал о Серове Шаляпин. — Я даже сначала побаивался его, но вскоре узнал, что он юморист, весельчак и крайне правдивое существо. Он умел сказать и резкость, но за нею всегда чувствовалось все-таки хорошее отношение к человеку».
В 1906 году на выставке Союза русских художников портрет Ф. И. Шаляпина в центре всеобщего внимания. Однако, единодушно признав безусловные достоинства портрета, критика видела и оценивала его очень по-разному. За Серовым признавали «мощь художника-портретиста, подчеркнувшего во всей фигуре артиста черты гениальной характерности таланта самородка» (Прометей. 1906. № 2). «Стоит как живой. Рисунок безукоризнен. Сходство поразительное» (Русский голос. 1906. 11 апреля). Но, чтобы судить о сходстве, требовалось хорошо знать Шаляпина, а на этот счет у критиков никакого единства не было, хотя некоторые и полагали, что владеют истиной в конечной инстанции. «Вся деятельность г. Шаляпина заставляет нас предполагать в нем силу реальную, совершенно чуждую той мечтательности и того меланхолического оттенка, который придал ему художник», — писали «Русские ведомости» (1906. 29 апреля). «Шаляпинский портрет дорог еще и тем, что из-под надменности, которая за последние годы, вероятно невольно, становится преобладающей чертой внешности знаменитого артиста, Серов вынес на свет Божий нечто другое, более глубокое, привлекающее, то, что дало возможность Шаляпину сделаться великим художником: душу, большую душу большого артиста. Серов нарисовал не артиста, до пресыщения избалованного совершенно исключительным успехом, а того Шаляпина, каким мы его помним еще до этих успехов; много свежего, непосредственного, а в глазах не только вдумчивость, но и необыкновенное облагораживающее человека страдание», — отметило «Русское слово» 7 апреля 1906 года. «Высокий, с выправкой денди, как будто бы с десятого поколения привыкший носить фрак, Шаляпин ни в ком из посвященных не вызвал бы сомнения в высокой аристократичности своего происхождения. Есть какая-то артистическая тайна в этой способности соборного певчего из крестьян превратиться в европейца с манерами, которым позавидует самый взыскательный arbiter elegantarum», — писали «Одесские новости» 2 июня 1910 года. «Это человек от земли, от тех нижних слоев жизни, где каждый имущий власть стремится наступить на другого. Разве в портрете этого нет? И отсюда как будто даже что-то отталкивающее от этого человека», — писали «Известия Общества преподавателей графических искусств в Москве» (1911. № 11). Можно привести здесь и мнение Б. В. Асафьева (И. Глебова): «В рисунке Ф. Шаляпина В. Серов не мог удержаться, чтобы тонко не отметить, что в высоком росте великого артиста, столь прекрасно выразительном на сцене, заключается нечто „нелепое“ при „сюртучном оформлении“».
В отличие от других портретов, написанных маслом, шаляпинский нарисован углем. Свободная непринужденная поза, артистизм облика, вдохновенное лицо… «Серов изумительно написал Шаляпина в полный рост», — сообщал Горький Е. П. Пешковой. Критика сочла портрет Шаляпина одним из лучших. «В истории русского портрета серовский портрет Шаляпина всегда будет знаменовать расцвет искусства, а образ Шаляпина сохранится на вечные времена», — писал современник.
Тяготение Шаляпина к Серову было очень сильным. Характер артиста сложен, противоречив, стихиен, подвержен слабостям — натура, знавшая и многие высокие озарения, и приступы мнительности, слабости. Он испытывал потребность в общении с людьми цельными, воплощавшими в себе честь, совесть времени. Серов был именно такой личностью.
«В его присутствии не было никакой возможности говорить без ощущения самокритики, — писал Андрей Белый. — В том невидимом и неблещущем ореоле опадали павлиньи хвосты, и — сколь многих!.. Такова была атмосфера Серова, такова была моральная мощь его человеческих проявлений и творчества. В комнату он входил как-то тихо, неловко, угрюмо, с ним входила невидимо атмосфера любви и суда над всем ложным, фальшивым…» «Стихия Серова была правда, правдивость, — отмечал А. Н. Бенуа. — В этом фантастическом культе правды он мог доходить до частичных несправедливостей и ему случалось даже оскорблять тех, кто менее всего заслуживал этого. Но даже обиженные готовы были каждую минуту простить его заблуждения, настолько по существу они были честны и благородны».
Ныне портрет В. А. Серова широко известен. Представить себе Шаляпина только по литературным и мемуарным описаниям, часто противоречивым и невнятным, достаточно трудно. Но, может быть, это разнообразие оценок свидетельствует о многозначности и портрета Серова, и самого Шаляпина, ибо величие художественных шедевров в том и состоит, что они открывают публике широкую возможность интерпретаций, трактовок, прочтений, будят в душе зрителя талант сопереживания, сотворчества, соучастия.
Видимо, даже такому проницательному художнику-психологу, как Серов, знавшему Шаляпина к тому времени уже более десяти лет, оказалось сложно художественно осмыслить и воссоздать внутренний мир артиста во всей целостности его духовной жизни. Впрочем, это было трудно для всех, кто хотел запечатлеть Шаляпина — в слове, на холсте, в графике, в скульптуре. «Мой Пушкин», — когда-то сказала о поэте Марина Цветаева, настаивая на собственном постижении и понимании гения. «Мой Шаляпин» — так могли бы выразиться те, кто, восхищаясь портретом Серова, делился своими впечатлениями об артисте и его портрете. «Мой Шаляпин» — мог бы сказать о своей работе и Серов. Но, по словам И. Э. Грабаря, художник остался недоволен портретом: «Это только небольшая часть Шаляпина, а он (Серов. — В. Д.) задумал дать его всего. Так и не была осуществлена долго лелеянная мечта».
О других своих «заказчиках» Серов подобного не говорил. Николая II он, как свидетельствует Г. Л. Гиршман, воспринимал «провинциальным капитаном, сошедшим со страниц какого-нибудь рассказа А. И. Куприна».
Постичь суть художнической натуры Шаляпина сложно, еще сложнее ее воплотить. Серов и Репин это понимали; Илья Ефимович после долгой работы самолично уничтожил свой портрет Шаляпина, посчитав его неудачей.
Портрет Серова создавался в московской квартире Шаляпина в 3-м Зачатьевском переулке. Много лет спустя литератор Илья Груздев вспоминал разговор с певцом. Федор Иванович, посмотрев на холст Серова, усомнился, так ли он, Шаляпин, велик, и спросил об этом художника. «А Серов был такой, знаете, скрытый сатирик. (И Шаляпин представил Серова, под густыми седыми бровями засветился насмешливый взгляд.) Молча принес половую щетку, смерил меня, потом портрет. „Видишь, — сказал он, — точь-в-точь“. Отчего происходила эта иллюзия, Шаляпин объяснил наглядно. Он встал и заложил руку в жилет, так, как изображен на портрете, затем слегка откинулся. Произошло нечто изумительное. Шаляпин мгновенно вырос, и его могучая фигура стала еще величественнее и монументальнее».
Может быть, Серов и прав — на портрете «только небольшая часть Шаляпина», но и в этой «части» возникала личность Артиста, Художника, Мастера во всей мощи его вдохновения и великого дарования.
Портрет Ф. И. Шаляпина работы В. Серова. 1905 г.
Шаляпин считал серовский портрет одним из самых удачных, а влияния Серова он и не скрывал, оно было настолько сильным, что, по свидетельству дочери певца Ирины Федоровны, пробудило у Федора Ивановича желание самому рисовать. Подражая манере Серова, Шаляпин несколькими штрихами точно передавал сходство, достигал законченности и экспрессии в сценическом гриме.
Глава 6 БРЕМЯ САМОРОДКА
В российской общественной жизни 1900–1910-х годов, в журналистике и публицистике «народность» становится модным торговым брендом и одновременно общепонятным агитационно-пропагандистским ярлыком.
Пишущая братия настойчиво муссирует тему «неиссякаемых истоков» отечественной культуры, воспевает «таланты из народа», принесшие в традиционную культуру «подлинную глубинную правду». Отсюда — восхищение династиями процветающих купцов-предпринимателей, тоже «выходцев из низов», — Третьяковыми, Мамонтовыми, Морозовыми, Бахрушиными, Беляевым, Зиминым и многими другими. «Из „народной целины“ выходят Шаляпины, Плевицкие, Горькие — выйдут еще сотни и тысячи талантливых, оригинальных, организованных натур», — восторженно писал критик А. Р. Кугель. А об эстрадной звезде Н. Плевицкой Сергей Мамонтов писал: «В г-же Плевицкой теплится священная искра, та самая, которая из вятской деревни вывела Федора Шаляпина, из патриархально-купеческого дома Константина Станиславского, из ночлежки золоторотцев (! — В. Д.) — Максима Горького».
«Простое» происхождение «звезды» — важный жизненный штрих удивительной судьбы. Варвара Панина — из цыганских хористок, Анастасия Вяльцева — в прошлом горничная третьеразрядного отеля, из крестьян — Надежда Плевицкая и опереточная примадонна Наталия Тамара.
Огромная популярность «народных кумиров» имела под собой серьезные психологические предпосылки. «Беспорядки» 1905–1907 годов показали нарастание «бунтарских настроений» социальных «низов», становление силы, угрожающей государственному устройству России. Отсюда — поиски сословно-классовых, идейных мотивировок этой силы, возросший интерес к русской истории, к прошлому народа, к опыту социальной борьбы и пониманию современных ее проявлений. Именно этими обстоятельствами в значительной степени обусловлен интерес публики к историческим сюжетам на драматической и музыкальной сцене, в литературе и кинематографе, расцвет МХТ, Русской частной оперы, Мариинского, Александрийского, Большого и Малого театров.
Облик «талантов из народа» с горячностью принят и востребован читательской массой. Портреты кумиров публики печатают журналы, газеты, афиши, грампластинки тиражируются тысячами дисков, изображения «кумиров» выставляются в витринах, печатаются на табачных пачках, кондитерских коробках. Поднявшиеся «со дна» «баловни славы» окружены сонмом поклонников, цирковой силач Иван Поддубный, клоун Владимир Дуров, певица Надежда Плевицкая, певец Федор Шаляпин, писатель Максим Горький — это не столько реальные лица и судьбы, сколько модели социального успеха, образцы для подражания, увлекающие каждого. Пресса подробно комментирует путешествия, скандалы, смакует интимные подробности быта, бешеные гонорары, описывает домашние интерьеры, богатство гостиничных апартаментов, оценивает щедрость чаевых. Подобная информация, поданная в сенсационной возбужденной интонации, — выгодный товар, который широко продается и будоражит воображение обывателя.
«Маска и душа» — так назвал Шаляпин свою итоговую «исповедническую» книгу. Масок было великое множество — и на сцене, и в жизни. Присущая Шаляпину природа озорного, фантазийного, а иногда и раздраженного, обличительного, язвительного лицедейства питала его артистический талант и обогащала, разнообразила жизнь многообразием красок, а иногда и спасала в рискованных ситуациях.
Пожалуй, всё, к чему прикасался Шаляпин, приобретало в его жизни смысл творчества и созидания. У сапожника он научился ловко тачать обувь и потом иногда демонстрировал свое мастерство к удивлению друзей. В приходской школе Федор научился писать аккуратно, красиво, грамотно, и отцу не стоило труда определить его на службу в канцелярию. До преклонных лет почерк Шаляпина отличался удивительной четкостью, своеобразным изяществом и красотой. В бродячих антрепризах Шаляпин обрел первые сценические навыки и готовность к публичным выступлениям. Со страстью молодости Шаляпин «жрал знания», по верному замечанию Мамонтова, но не только знания — он постигал и осваивал все многообразие окружающей его действительности, обогащался животворными смыслами житейского и духовного существования. В Тифлисе он стал профессиональным артистом, на спектаклях петербургских театров совершенствовал мастерство драматического актера, общение с художниками пробуждает в нем способности к рисованию и скульптуре, встреча с писателями толкает к литературным опытам. Неудовлетворенный оперной режиссурой, Шаляпин начинает сам ставить спектакли и в ходе репетиционного процесса иногда даже становится за дирижерский пульт. Артист стремится расширить поле диалога с аудиторией, с искусством. Заграничные поездки пробудили желание овладеть иностранными языками — итальянским, французским, английским, он исполняет партии в оригинале, а тексты русских опер нередко сам переводит на язык страны, где ему доводится выступать. Азарт соперничества с эстрадными знаменитостями вывел Шаляпина на концертные подмостки, развил талант камерного певца и мелодекламатора. Его увлекла грамзапись, и пластинки русских песен и романсов при жизни и после кончины певца выпускаются миллионными тиражами. Притом что голос оставался главным инструментом его творчества, Шаляпин увлекается кинематографом и снимается в роли Ивана Грозного в полнометражном историческом фильме по мотивам «Псковитянки», а когда, спустя полтора десятилетия, в быт входит звуковое кино, Шаляпин выступает в «Дон Кихоте» Г. Пабста в двух разноязычных вариантах — французском и английском. Практически все сферы искусства артист делал подвластными себе, достоянием своего собственного личного опыта, мастерства, вдохновения, таланта.
Многосторонняя деятельность в искусстве — его сознательный выбор, она, соответственно, формировала и личность артиста. Мир Шаляпина-художника выстраивается как цепь активных осознанных поступков, в которых подсознательно или намеренно складываются представления о жизни, ценностные ряды, поле духовной свободы, творческого мышления. В поступках преодолевается разрыв идеального и реального, в них разрешаются духовные противоречия, рождается мировоззрение.
Осознание своего предназначения, личностной значимости, своего места в искусстве проходит у Шаляпина в постоянном диалоге с судьбой, с жизнью, в творческом и житейском общении с коллегами — музыкантами, художниками и артистами, с учеными, мыслителями и общественными деятелями, с семьей и друзьями. Да и с врагами тоже.
Поступок каждой неординарной личности — итог приобретенных знаний, опыта, убеждений. Шаляпин умел принимать серьезные рациональные решения, но нередко подчинялся и стихии нахлынувших эмоций, проснувшихся страстей, настроений. Его самопознание было глубоко индивидуально, неповторимо и подчас как для него самого, так и для других — непредсказуемо. Хорошо знавший и искренне любивший Шаляпина В. А. Теляковский считал его человеком порыва и призывал снисходительно относиться к нему, к его неожиданным импровизациям, иногда грозившим серьезными последствиями.
Шаляпин и его творческая судьба, профессиональная деятельность реализовывались публично, и не только брызжущая страсть к игре, но и чувство самосохранения подчас побуждало артиста скрываться за масками, сохраняя свою суверенность, личностную и творческую независимость. Он выходил в ролях не только на сцену, но часто и на публику — и в тех, которые навязывала ему молва, и в тех, которые ему самому казались уместными, выигрышными, просто интересными. В общении с любым — выбранным, навязанным или случайным — партнером Шаляпин брал инициативу на себя, вел свою стратегию и тактику, часто остроумную, дерзкую, озорную, и почти всегда выигрывал поединок. Быть естественным, органичным в любой избранной роли артисту не составляло труда, он сам наслаждался ее виртуозным исполнением. Он играл и великого артиста, и неуживчивого гения, и капризного барина, и смелого революционера, трибуна, и «выходца из народа», «самородка», и уличного бродягу-певца парижских предместий, играл увлеченно, иногда вынужденно, стремясь разрешить сложную творческую, «производственную», житейскую ситуацию, но играл всегда органично, убедительно, талантливо. Правда искусства была для него выше обыденной достоверности, а востребованная роль «самородка», «скомороха», столь рьяно и восторженно поддерживаемая молвой, была, в общем-то, и не самой сложной, близкой артисту по духу, по темпераменту, по социальному смыслу. К тому же как «самородок», как «знаменитость» Шаляпин позволял и «в жизни» большее «лицедейство», чем другие его собратья, и, что скрывать, подчас с удовольствием и небескорыстно этим пользовался.
К приятельству с Шаляпиным стремятся цари, короли и их многочисленная челядь, «поставщики двора его императорского величества», промышленные и торговые магнаты. «Снимал Шаляпина и чуму», — рекламировал себя бойкий фотограф. Облик Шаляпина отвечает социальным настроениям, пробуждает интерес к человеку «низовой» культуры, к «самородку», выбившемуся «вверх», выступающему «прообразом нового героя».
О самородках не слишком дружелюбно, но проницательно отозвалась Анна Ахматова: «Я поняла главный недостаток подобных людей: Есенин, Шаляпин, Русланова… Они самородки. И тут это „само“ сыграло с ними скверную шутку. У них есть всё, кроме самообуздания. Относительно других они позволяют себе быть какими угодно, вести себя Бог знает как». И в самом деле, «других», мечтавших войти хоть в какие-то отношения с «самородками», было поистине несметное число, и потому «мера самообуздания» артиста была различной, смотря по ситуации, настроению, по «капризу гения», наконец, а Шаляпину все это тоже не было чуждо.
В одном из писем 1904 года Горький с тревогой замечает: «Я видел в Москве Алексина, Шаляпина… Шаляпин растолстел и очень много говорил о себе. Признак дурной, это нужно предоставить другим. Славная душа все же, хотя успехи его портят». И в ноябре того же года из Петербурга он сообщает Е. П. Пешковой: «Здесь Шаляпин. Поет. Ему рукоплещут, он толстеет и много говорит о деньгах». В своем мнении Горький не был одинок. В феврале 1904 года Л. Н. Андреев писал Горькому: «А Шаляпин мне тоже совсем не нравится, он начинает относиться к себе с благоговением. Видел я его в постели, в три часа дня, и был он очень похож на римского императора — времен упадка. Крупный, красивый, сильный — и изнеженный». Впрочем, кто без греха? Сдержанный Немирович-Данченко и тот смутился, когда увидел сверкающий драгоценными камнями перстень на пальце из-под глухого рукава грубой горьковской косоворотки.
В Петербурге Шаляпин пел не только на мариинской сцене, но и в закрытых спектаклях придворного Эрмитажного театра. Здание, соединенное переходом с Зимним дворцом, построено в 1780-х годах архитектором Дж. Кваренги для Екатерины II. Зал украшен статуями Аполлона и девяти муз, стены отделаны искусственным мрамором. Красные бархатные скамьи амфитеатром спускались к сцене. Балы, маскарады, концерты для приближенных к царю чиновников и свиты были продолжением дворцовых церемоний и обставлялись с пышной театральностью. Иногда гости предварительно оповещались, в костюмах какой исторической эпохи им следует прибыть.
Шаляпина смешила искусственность таких официальных развлечений, забавляли аристократы, манерно беседующие с легким иностранным акцентом в богатых, но безвкусно сшитых боярских нарядах.
«…делалось неловко, неприятно и скучно смотреть на эту забаву, тем более что в ней отсутствовал смех, — вспоминал Шаляпин. — Серьезно и значительно сидел посередине зала государь император, а мы, также одетые в русские боярские костюмы XVII века, изображали сцену из „Бориса Годунова“. Серьезно я распоряжался с князем Шуйским: брал его за шиворот дареной ему мною же, Годуновым, шубы и ставил его на колени. Бояре из зала шибко аплодировали… В антракте после сцены, когда я вышел в продолговатый зал покурить, ко мне подошел старый великий князь Владимир Александрович и, похвалив меня, сказал:
— Сцена с Шуйским проявлена вами очень сильно и характерно.
На что я весьма глухо ответил:
— Старался, ваше высочество, обратить внимание кого следует, как надо разговаривать иногда с боярами…
Великий князь не ожидал такого ответа. Он посмотрел на меня расширенными глазами — вероятно, ему в первую минуту почудился в моих словах мотив рабочей „Дубинушки“, но сейчас же понял, что я имею в виду дубину Петра Великого, и громко рассмеялся».
Присутствие высокопоставленных особ не сковывало Шаляпина. Певец вел себя как обычно, не подлаживаясь под нравы великосветской публики.
Как мы помним, Шаляпин впервые вышел на сцену Большого театра в сентябре 1899 года, а уже в декабре великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Александрович, брат императора, просят представить им певца. Супругам артист показался симпатичным, они просят его выступить в концерте в Благородном собрании в пользу московского Дамского благотворительного тюремного комитета. Программа составлена удачно: участвуют С. В. Рахманинов, А. Б. Гольденвейзер…
Вскоре Шаляпина приглашают на домашний вечер. Высшее общество: государь, императрица, их близкие, министр двора барон Фредерикс… Присутствовал и Теляковский. Вечером он записал в дневнике: Шаляпин «удостоился высочайшего одобрения и похвал как от государя, так и от министра Двора». Императорская семья с удовольствием посещает спектакли с участием Шаляпина.
19 декабря 1902 года В. А. Теляковский сообщает артисту: «Не видал Вас вчера после спектакля, а потому не мог Вам высказать того высокого художественного наслаждения, которое я испытал во время спектакля „Мефистофеля“. Приношу Вам мою сердечную благодарность за прекрасное исполнение. Государь Император и Государыня Императрица остались вполне довольны Вашим исполнением — и мне об этом говорили — считаю для себя приятным долгом Вам об этом сообщить».
Однажды в антракте «Бориса Годунова» в Мариинском театре певца пригласил Николай II. Шаляпин в костюме и гриме вошел в царскую ложу. Царь говорил комплименты, хвалил голос, исполнение.
«Но мне всегда казалось, — вспоминал Шаляпин, — что я был приглашаем больше из любопытства посмотреть вблизи, как я загримирован, как у меня наклеен нос, как приклеена борода. Я это думал потому, что в ложе всегда бывали дамы, великие княгини и фрейлины. И когда я входил в ложу, они как-то облепляли меня взглядами. Их глаза буквально ощупывали мой нос, бороду. Очень мило, немножко капризно спрашивали:
— Как же наклеили нос? Пластырь?»
Вслед за государем и великими князьями хотят заручиться приятельством с певцом и «просто» князья. Мария Клавдиевна Тенишева, сама склонная к любительскому музицированию и даже мечтавшая о карьере оперной певицы, встретила Шаляпина в Париже и пригласила в свой салон. Растроганная его пением, она одарила артиста красивой булавкой — на память о прекрасном вечере.
Супругу Марии Клавдиевны князю В. Н. Тенишеву это почему-то не понравилось; певцу же пришлось не по душе поведение хозяина дома:
«Князь!
Я крайне удивлен и обижен Вашей запиской ко мне: я был приглашен княгинею к Вам петь и исполнил эту просьбу с удовольствием. Княгиня подарила мне, как Souvenir, булавку, а я, довольный любезным ко мне отношением, выразил ей мою благодарность. Требований каких бы то ни было я, кажется, Вам не предъявлял и получение от Вас 1000 франков и Вашей визитной карточки, на которой написано было: „прошу возвратить булавку подателю“, — во-первых, меня удивило, а во вторых, заставляет теперь уже сообщить Вам, что гонорар мой я определяю в 2000 франков за каждое мое участие, а потому покорнейше прошу Вас, Князь, прислать мне по нижеследующему адресу сумму, оставшуюся мне Вами недоплаченной. Булавку же могу возвратить только уважаемой княгине, ибо от нее лично я имел честь ее получить, и если княгиня скажет мне только слово, то не медля ни минуты булавка будет выслана. Всегда с почтением к Вам имею честь быть
Федор Шаляпин».Артист, слегка по-мужицки покуражась, указал аристократу на его место. И здесь мы не будем идеализировать Шаляпина. Княгиня М. К. Тенишева в своих воспоминаниях описывала эту историю иначе:
«Хотя Шаляпин назвался ко мне сам, я все же хотела его отблагодарить за участие и перед отъездом преподнесла ему на память небольшую вещицу. Это была булавка для галстука из бриллиантов в виде маленькой урны. Отдавая ее Шаляпину, я сказала, что в эту урну я собрала те слезы, которые он заставил меня пролить своим чудесным исполнением. Он был растроган и благодарил. Однако, спустя несколько дней, снова приезжает ко мне В. В. Андреев и говорит, что Шаляпин очень обижен, не получая платы за свое участие. Муж написал письмо Шаляпину, извинился за происшедшее недоразумение, объяснив, что я сделала ему подарок, который, очевидно, ему не понравился, а потому посылает ему деньги, булавку же просит вернуть. Князь вложил деньги в конверт и послал с человеком. Ответа не последовало. Муж послал человека вторично, и тогда Шаляпин ответил, что деньги он получил, а булавку оставляет на память»[3].
Оставим на совести обеих сторон этот инцидент, однако, видимо, не без оснований прозвучало разраженное замечание Горького в одном из его писем: «Шаляпин располнел. Деньги его портят».
Разумеется, Шаляпин знал себе цену и не любил, когда другие ее занижали, ни в плане материальном, ни в художественном, ни в этическом. Талант и труд были для него неделимы. А труд требовал вознаграждения. Некоторым заядлым поклонникам, не знавшим удержу в благотворительной деятельности за счет артиста, он лукаво, но твердо напоминал: «Бесплатно только птички поют!» Награды? Он считал их заслуженными — артистов награждать принято. И вот — первый царский подарок: золотые часы!
«Посмотрел я часы, и показалось мне, что они недостаточно отражают широту натуры Российского Государя, — вспоминал Шаляпин. — Я бы сказал, что эти золотые с розочками (осколками бриллиантов. — В. Д.) часы доставили бы большую радость заслуженному швейцару богатого дома… Я подумал, что лично мне таких часов вообще не надо — у меня были лучшие, а держать для хвастовства перед иностранцами — вот-де какие Царь Русский часы подарить может! — не имело никакого смысла — хвастаться ими как раз и нельзя было. Я положил часы в футляр и отослал к милому Теляковскому при письме, в котором вполне точно объяснил резоны моего поступка. Получился „скандал“. В старину от царских подарков никто не смел отказываться, а я… В. А. Теляковский отправился в Кабинет Его Величества и вместе со своими там друзьями без огласки инцидент уладил. Через некоторое время я получил другие часы — на этот раз приличные».
Подарок сопровождался официальным документом на гербовой бумаге:
«Удостоверение № 3549.
Дано Артисту Императорских театров Федору Шаляпину в том, что ему Всемилостивейше пожалованы золотые часы с государственным гербом, украшенные бриллиантами из Кабинета Его Императорского Величества.
С. Петербург, Марта 14 дня 1903 года».
Артист демонстрировал свою независимость и даже бравировал ею. Он благосклонно принимал ордена, подношения, звания, но не собирался расплачиваться за них ограничениями свободы, регламентацией своего поведения.
Известна в актерских кругах легенда о трагике Александрийского театра В. А. Каратыгине: когда император Николай I, находясь в благостном настроении, захотел полюбоваться, как знаменитый актер сможет его «изобразить», тот принял картинную позу царя и невозмутимо приказал присутствовавшему при этом директору императорских театров Гедеонову завтра же выплатить ему, Каратыгину, двойной месячный оклад. Государь рассмеялся, но распоряжение велел выполнить.
Шаляпин очень любил рассказывать этот анекдот и даже подробно, в лицах, изложил его в своих мемуарах. И неудивительно: он сам не чуждался рискованных импровизаций с властными покровителями, не без удовольствия осаживал их.
Как-то во время выступления в Зимнем дворце великий князь Сергей Михайлович вынес после концерта бокал шампанского в драгоценном старинном венецианском стакане:
— Шаляпин, мне государь поручил предложить вам стакан шампанского в благодарность за ваше пение, чтобы вы выпили за здоровье его величества.
«Я взял стакан, молча выпил содержимое, — рассказывал Шаляпин, — и, чтобы сгладить немного показавшуюся мне неловкость, посмотрел на великого князя, на поднос, с которым он стоял в ожидании стакана, и сказал:
— Прошу, Ваше Величество, передайте государю императору, что Шаляпин на память об этом знаменательном случае стакан взял с собой домой.
Конечно, князю ничего не осталось, как улыбнуться и отнести поднос пустым».
Действительно, высоким покровителям императорской сцены ничего более не оставалось, как улыбаться «шуткам гениев». Что они могли еще сделать? Придержать очередное полагающееся по выслуге лет и заслугам звание, как пытался сделать министр двора В. Б. Фредерикс? Пожаловаться Теляковскому: «Каким невозможным нахалом держит себя Шаляпин! Что это за манера во время репетиции в Эрмитажном театре держать руки в карманах, играть цепочкой, строить гримасы и т. д. Прямо невыносимо и противно на него смотреть!» Но — смотрели, кричали до изнеможения «бис!», «браво!», приглашали артиста зайти к себе в ложу, чтобы показать лопнувшие от аплодисментов перчатки.
— Видите, до чего вы меня доводите, — кокетливо жаловалась великая княгиня. — Вообще, вы такой артист, который любит разорять. В прошлый раз вы мне разрознили дюжину венецианских стаканов.
Шаляпин ответил:
— Ваше высочество, дюжина эта легко восстановится, если к исчезнувшему стакану присоединятся другие одиннадцать…
«Великая княгиня очень мило улыбнулась, но остроумия моего не оценила, — комментировал этот эпизод Шаляпин. — Стакан остался у меня горевать в одиночестве…»
Писатель Андрей Седых (Я. М. Цвибак) пересказывал со слов сына артиста Федора Федоровича диалог Шаляпина с Николаем II в антракте «Бориса Годунова»:
— Я, Федор Иванович, хотел у вас кое-что приватно спросить: скажите, вот я часто бываю на оперных спектаклях. Почему это тенора всегда имеют у публики, в особенности у женщин, такой успех, а басы — кроме вас — нет?
— Ваше величество, ведь это очень просто… Тенора всегда поют партии любовников… «Куда, куда вы удалились?» Ну, женщины и умирают… А мы, басы, кого поем? Либо монахов, либо дьяволов, либо царей… Кого это интересует?!
Государь подумал, подергал бородку и согласился:
— Да, действительно, роли все неинтересные…
Подобных эпизодов у Шаляпина случалось немало. Ему было интересно обострить диалог, поставить партнера в трудное положение, выявить его суть. Конечно, он бравировал своим озорством, эпатировал верноподданническое окружение, получал несомненное актерское удовольствие, кураж от поставленного им маленького спектакля, от того, что не он в этот момент зависел от власти, а власть «приспосабливалась» к нему. Удовольствие это, вероятно, было сродни тому, какое он испытывал, поддразнивая своих учителей в казанском училище и собирая первые лавры от публики — школьного класса…
Нужно отдать должное энергии, вкусу и нравственному чутью В. А. Теляковского: он по мере сил оберегал Шаляпина и от бюрократического напора, и от благорасположения «шумного света», и от интриг и происков артистов-завистников, которых тоже было немало.
Коровин вспоминал: стоило ему с Шаляпиным появиться в каком-нибудь московском ресторане, как к их столику немедленно подсаживались бесцеремонные собеседники. Друзья пытались искать место поукромнее, но не тут-то было: назойливая публика сдвигала столы поближе.
Падкие до сенсаций и слухов репортеры любили подсчитывать гонорары Шаляпина, сравнивать с доходами других артистов, с заработками Шаляпина в юности. А что может быть интереснее для обывателя, чем подсчет денег в кармане знаменитости? «В Уфе, когда он начинал, ему платили 25 рублей в месяц, теперь 60 тысяч в год, а за выход в спектакле частной антрепризы две или три тысячи…»
Пройдя к славе трудный, полный лишений путь, Шаляпин, став знаменитым, панически боялся потерять голос, остаться без средств, сделать семью нищей. Правда, однако, и то, что к Шаляпину шли за помощью самые разные люди и очень многим он помогал. Певец посылает в Крым деньги больному В. С. Калинникову, причем делает это анонимно, не желая обидеть и смутить композитора. Юрист М. Ф. Волькенштейн, доверенное лицо Шаляпина, вспоминал: «Если б только знали, сколько через мои руки прошло денег Шаляпина для помощи тем, кто в этом нуждался». Сосчитать спектакли и концерты, которые Шаляпин давал в пользу различных организаций и фондов, и в самом деле трудно.
В марте 1906 года Шаляпин поет в Милане. Возвращаясь в Москву, он останавливается в Киеве, выступает в Соловцовском театре. «Заседание городской думы не состоялось, так как большинство гласных оказалось в театре, где пел Шаляпин. Следующее заседание решено назначить по окончании гастролей Шаляпина», — писали газеты.
Но главным событием в Киеве стал благотворительный концерт для рабочих в огромном цирке «Hippo palas».
«Устройством общедоступного народного концерта в Киеве я преследовал две цели, — объяснял Шаляпин, — во-первых, дать возможность посетить этот концерт своим друзьям-рабочим, которым было предоставлено около тысячи бесплатных мест и около тысячи денежных (от 12 до 42 коп.); во-вторых, принести им посильную материальную помощь. Весь чистый сбор с концерта в сумме 1704 р. 33 коп. я передал для этой цели Л. Г. Мунштейну (Lolo). Федор Шаляпин. Киев, 30 апреля 1906 года».
Концерт, однако, вызвал противоречивые отклики. «Московские ведомости» писали о неумеренном в последнее время увлечении «тенденциозными театральными постановками: наряду с „вредными“ спектаклями Чехова и Горького в Художественном театре „за воспитание“ публики с концертной эстрады взялся г. Шаляпин. Большая часть романсов, которые он исполнял, носили узкотенденциозную окраску. Достаточно вспомнить, как он распевал Мусоргского „Король и блоха“ или „Как король шел на войну“, или „Три дороги“ Кенемана… Венцом этих песнопений доморощенного „менестреля“ надо считать революционную „Дубинушку“, которую он спел со сцены императорского Большого театра с хором разных хулиганов-добровольцев из публики…».
Артист раздражен: его втягивают в политическую интригу. А в 1911 году произошло событие, серьезно отразившееся на судьбе артиста, на его репутации, на отношении к нему многих дорогих ему людей…
Глава 7 ГРЕХ КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЯ
6 января Шаляпин готовился выступить в Мариинском театре в «Борисе Годунове». Утром в день спектакля певца пригласили в Царское Село: согласно ритуалу он благодарил государя за пожалованное ему звание Солиста его императорского величества.
Вечером Николай II с домочадцами прибыл в Мариинский театр. Спектакль шел хорошо. Особый успех выпал на долю знаменитого монолога «Достиг я высшей власти» и сцены с галлюцинациями. После многочисленных вызовов Шаляпин было направился за кулисы, но тут раздались крики: «Гимн! Гимн!» На сцене грянули «Боже, царя храни!» — хористы ринулись к царской ложе и рухнули на пол, Шаляпин в замешательстве опустился на одно колено…
Когда дали занавес, артист поинтересовался: что, собственно, происходит? Выяснилось: хор, уже давно враждовавший с дирекцией, решил воспользоваться присутствием в театре государя и подать на «высочайшее имя» просьбу о прибавке к пенсии. Рассчитали: умиленный манифестацией царь вышлет к хору флигель-адъютанта, тот примет петицию и передаст непосредственно Николаю.
Царь и в самом деле размяк. «Пожалуйста, поблагодарите от меня артистов, особенно хор, — сказал он Теляковскому. — Они прямо тронули меня выражением чувств и преданности».
Шаляпин не придал значения случившемуся.
«Пел я великолепно, — сообщал он в письме из Петербурга. — Успех колоссальный. Был принят на первом представлении „Бориса Годунова“ Государем и в ложе у него с ним разговаривал. Он был весел и, между прочим, очень рекомендовал мне петь больше в России, чем за границей».
Через два дня певец выехал в Монте-Карло и уже там узнал о масштабах скандала: его посчитали инициатором верноподданнической политической акции! И кто! Даже близкие люди — Серов, Дорошевич, Амфитеатров! Серов прислал ему ворох вырезок с короткой припиской: «Что это за горе, что даже и ты кончаешь карачками. Постыдился бы». Шаляпин просил друга не верить прессе, но оправдаться было трудно. Во Франции в вагон артиста ворвалась молодежь с криками «лакей», «мерзавец», «предатель». Г. В. Плеханов прислал некогда подаренный ему Шаляпиным портрет с припиской: «Возвращаю за ненадобностью». Миф о Шаляпине-революционере рухнул в одночасье.
В артистическом кабаре «Летучая мышь» исполняются куплеты Лоло Мунштейна:
Раньше пел я «Марсельезу», Про «Дубинушку» стихи. А теперь из кожи лезу, Чтоб загладить все грехи. Я пою при королях, Все коленки в мозолях.Шаляпин подавлен и глубоко оскорблен, он пишет Теляковскому о намерении не возвращаться более в Россию. В. Дорошевич иронизировал по поводу «политической неопределенности» артиста: «Шаляпин хочет иметь успех. Какой когда можно. В 1905 году он желает иметь один успех. В 1911 году желает иметь другой. Конечно, это тоже „политика“. А каких он политических убеждений? Это все равно, что есть суп из курицы и думать: какого цвета у нее были перья? Кому это интересно? Г. Шаляпин напрасно тревожится. Немного лавровишневых капель отличное средство и против этой мании преследования, и против маленькой мании величия… Только когда пьешь лавровишневые капли, не надо говорить: За республику! Теперь не время».
Со злорадным восторгом откликнулась на «инцидент» черносотенная пресса. «Мы счастливы, что в сердце первого певца России проснулась русская совесть и любовь к родине, — писала газета „Южный богатырь“ 19 февраля 1911 года. — Многие лета новому русскому Шаляпину, который, не испугавшись гвалта жидовского кагала и воя левой печати, открыто объявил себя патриотом».
К травле Шаляпина хотели подключить и Горького. Он писал Е. П. Пешковой 24 января 1911 года:
«Выходка дурака Шаляпина просто раздавила меня — так это по-холопски гнусно! Ты только представь себе: гений на коленях перед мерзавцем и убийцей! Третий день получаю из России и разных городов заграницы газетные вырезки… Любит этот гнилой русский человек мерзость подчеркнуть».
28 февраля 1911 года Шаляпин пишет Иоле в Москву путаное и сумбурное письмо:
«Хотя мне и делают всякие козни и заставляют насильно быть „политиком“, однако я по-прежнему знаю, что люблю и понимаю только мое дорогое искусство. <…> Что же это за страна такая и что за люди? Нет, это ужасно и из такой страны надо бежать без оглядки. Конечно, это задача очень трудная и особенно из-за детей, но что же делать? Думаю, что, поселившись во Франции, мы так же сумеем воспитать и образовать моих дорогих ненаглядных малышей, а главное, я смею думать, что они меньше рискуют испортиться, чем опять-таки между собственными компатриотами… Прошу тебя, милый друг мой Полина, подумать хорошенько об этом и не только ничего не строить в деревне на Волге, но постараться по возможности избавиться от всего и даже от дома, чтобы ликвидировать всякие сношения с милой Россией… Этот последний месяц до такой степени разочаровал меня в жизни, что у меня совершенно пропала охота что-нибудь делать. Думаю я только о том, что жить в России становится для меня совершенно невозможным. Не дай Бог какое-нибудь волнение — меня убьют. Мои враги и завистники, с одной стороны, и полные, круглые идиоты и фанатики, безрассудно считающие меня каким-то изменником Азефом — с другой, — поставили меня, наконец, в такую позицию, какую именно желали мои ненавистники, — Россия хотя и родина моя, хотя я и люблю ее, однако жизнь среди русской интеллигенции в последнее время становится просто невозможной, всякая личность, носящая жилет и галстух, уже считает себя интеллигентом и судит и рядит как ей угодно».
Подобные панические настроения звучат и в письмах В. А. Теляковскому, М. Ф. Волькенштейну. Слух о намерении певца покинуть Россию просочился в печать и породил новый поток обвинений и выдуманных сенсаций.
Теляковский пытался, как мог, смягчить напряжение. На злополучном спектакле, обменявшись взглядами с Шаляпиным, он понял безнадежность его положения: «Как бы Шаляпин ни поступил — во всяком случае, он остался бы виноват. Если станет на колени — зачем стал? Если не станет — зачем он один остался стоять? Продолжать стоять, когда все опустились на колени, — это было бы объяснено как демонстрация».
Во множестве журналистских комментариев истинные мотивы — просьба хора о пенсиях — даже не фигурировали, зато участие Шаляпина в верноподданническом акте подчеркивалось особо. Газета «Копейка» 24 января 1911 года цитировала неведомо откуда взятое интервью Шаляпина: «…при виде своего государя я не мог сдержать душевного порыва… Я не скрою еще, что у меня была мысль просить за моего лучшего друга, за Максима Горького». «Столичная молва», вышедшая в тот же день, распространила «Беседу с Шаляпиным»: «„Все вышло само собой, — сказал Ф. И. — Это был порыв, патриотический порыв, который охватил меня безотчетно, едва я увидел императорскую ложу. Конечно, и я, и хор должны были петь стоя, но порыв увлек меня, а за мною и хор, на колени. Это во мне сказалось стихийное движение русской души. Ведь я — мужик. Красивый, эффектный момент! Я не забуду его до конца моей жизни“. Ф. И. помолчал и добавил: „Правда, была еще одна мысль. Была мысль просить за моего старого друга Максима Горького, надеясь на милосердие государя. Но… об этом я вам сообщать ничего не буду. Это мое личное дело. И, повторяю, эта мысль ничего общего не имела с тем чувством патриотизма, которое наполнило мою грудь. Я никогда еще не пел, как в тот момент“».
Шаляпин выступает в Монте-Карло и Париже, но и здесь его принуждают исповедоваться и каяться в грехах. Газета «Киевская почта» 21 июня перепечатывает беседу певца с французской журналисткой:
«Я никогда не принадлежал ни к одной революционной партии, и мои симпатии, от которых я не отрекаюсь, всегда были свободны от каких-либо то ни было обязательств. Но почему те, которые стоят за правду и во имя ее жертвуют даже жизнью, так несправедливы по отношению ко мне? Я не стану скрывать, мне очень больно. Прежде всего, что я жертва ошибки и гнусной клеветы, а затем оттого, что не могу допустить мысли, что мои друзья и единомышленники могли поверить клевете, даже не выслушав меня. Я никогда не скрывал ни своих взглядов, ни своих симпатий. Я родился крестьянином, был босяком, голодал сам, моя мать умерла с голоду… Такие вещи не забываются… А затем пришел успех. Я ничего не просил. Звание Солиста Его Величества, Крест Почетного Легиона — все это свалилось как с неба. И я принял эти знаки отличия с удовольствием, говорю откровенно. Я рассматриваю это как венчание моей артистической карьеры. Разве это преступление?»
Не раз брался Шаляпин за письмо Горькому. Только в июле, после окончания сезона, артист наконец решился рассказать ему о своей жизни в Европе. И лишь в одной фразе проскальзывали тревога и тоска: «Мне очень хочется о многом поговорить с тобою».
Горький ответил немедленно и резко:
«…мне казалось, что в силу тех отношений, которые существовали между нами, ты давно бы должен написать мне, как сам ты относишься к тем диким глупостям, которые сделаны тобою к великому стыду твоему и великой печали всех честных людей в России.
И вот ты пишешь мне, но — ни слова о том, что не может, как ты знаешь, не может не мучить меня, что никогда не будет забыто тебе на Руси, будь ты хоть гений. Сволочь, которая обычно окружает тебя, конечно, отнесется иначе, она тебя будет оправдывать, чтобы приблизить к себе, но — твое ли это место в ее рядах?
Мне жалко тебя, Федор, но так как ты, видимо, не сознаешь дрянности совершенного тобою, не чувствуешь стыда за себя — нам лучше не видаться, и ты не приезжай ко мне…»
Шаляпин в отчаянии. Его пытается утешить Мария Валентиновна.
«Федичка мой! — взволнованно и нежно пишет она из Петербурга 3 июля 1911 года. — Мне больно, что ты печален. Не нужно, мой любимый, задумываться над тем, что на тебя клевещут. Злоба живет на свете — ты на виду; возбуждаешь к себе невольно зависть и понятно, что на тебя будут постоянно лгать и стараться из всех сил сделать тебе дурное. Надо с этим сжиться. Про Горького я думаю, что если уж он захочет с тобой повидаться, то никакой холодности не будет — тот ведь тебя любит».
Право же, как умна и проницательна Мария Валентиновна!
Шаляпин снова написал Горькому, взволнованно поведал о случившемся на злополучном спектакле и получил ответ: «И люблю, и уважаю я тебя не меньше, чем всегда любил и уважал; знаю я, что в душе — ты честный человек, к холопству — не способен, но ты нелепый русский человек и — много раз я говорил тебе это! — не знаешь своей настоящей цены, великой цены… А видеться нам нужно…»
Для Шаляпина это был сигнал к выезду. Вскоре у Капри на рейде бросил якорь пароход. От берега отчалила лодка, в ней Горький. «Приехал третьего дня Федор, — пишет Горький Е. П. Пешковой, — и — заревел, увидев меня; прослезился — конечно — и я, имея на это причин не меньше, чем он, ведь у меня с души тоже достаточно кожи снято. Сидим, говорим, открыв все шлюзы, и, как всегда, хорошо понимаем друг друга, я его — немножко больше, чем он меня, но это ничему не мешает».
Мария Федоровна Андреева вспоминала, что Шаляпин был в отчаянии:
«Он пытался застрелиться, не будь рядом такой сильной дамы, как Мария Валентиновна, он застрелился бы, она глаз с него не спускала. Разговаривая с А<лексеем> М<аксимовичем>, он так рыдал, что слушать было больно. Алексей же слезы не проронил, хотя потом мы всю ночь не спали и Алеша плакал над тем, что Федор не так силен и велик как человек, каким бы он по таланту своему должен был бы быть».
Друзья много времени провели наедине, и лучшие слова Горького о Шаляпине были написаны именно в эти дни. Горький убеждал А. В. Амфитеатрова помириться с Шаляпиным, обратился с «программным письмом» к Н. Е. Буренину:
«…осудить Шаляпина — выгодно. Мелкий, трусливый грешник всегда старался и старается истолковать глупый поступок крупного человека как поступок подлый. Ведь приятно крупного-то человека сопричислить к себе, ввалить в тот хлам, где шевыряется, прячется маленькая, пестрая душа, приятно сказать: „Ага, и он таков же, как мы“… Такие люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский народ! Вот плоть от плоти его, человек, своими силами прошедший сквозь тернии и теснины жизни, чтобы гордо встать в ряд с лучшими людьми мира, чтобы петь всем людям о России, показать всем, как она — внутри, в глубине своей, — талантлива и крупна, обаятельна. Любить Россию надо, она этого стоит, она богата великими силами и чарующей красотой.
Вот о чем поет Шаляпин всегда, для этого он и живет, за это мы бы и должны поклониться ему благодарно, дружелюбно, а ошибки его в фальшь не ставить и подлостью не считать.
Любить надо таких людей и ценить их высокой ценою, эти люди стоят дороже тех, кто вчера играл роль фанатика, а ныне стал нигилистом.
Федор Иванов Шаляпин всегда будет тем, что он есть: ослепительно ярким и радостным криком на весь мир: вот она — Русь, вот каков ее народ — дорогу ему, свободу ему!»
Горький хотел опубликовать письмо в российских газетах, но Н. Е. Буренин, Д. В. Стасов и другие люди, окружавшие в то время Шаляпина, решили «не ворошить прошлого» и уговорили артиста не будоражить публику какими-либо объяснениями.
Объясняться тем не менее потом пришлось, и не один раз. Клеймо монархиста, едва ли не черносотенца приклеилось к репутации певца. Обвинения в чванстве, в холопстве больно задевали артиста. Горький, Теляковский, Волькенштейн удержали Шаляпина от отъезда из России, но сам факт обсуждения этой темы оказался достоянием молвы. Певец стал мишенью для шаржей, карикатур, пародий. На одном из рисунков Шаляпин в костюме Грозного «размышлял» о возвращении на российскую сцену: «Войти аль нет?»
Разумеется, скандал «с коленопреклонением» пробудил новый интерес публики к биографии певца. В 1912 году несколько газет сообщили о планах итальянского издательства «Рикорди» выпустить его мемуары и даже публиковали отрывки из них. Шаляпин просил читателей ко всем журналистским новостям относиться с осторожностью и поместил в «Синем журнале» фельетон-обращение:
«Пресса, пресса!! Иногда это мощная, великолепная сила, потрясающая умы сотен тысяч человек, свергающая тиранов и меняющая границы государств и судьбы народов. Эта сила в неделю делает человека всемирной знаменитостью и в три дня сбрасывает его с пьедестала…»
Певец далее опровергал сообщения газет и буквально взывал к совести журналистов и читателей:
«— Не браните меня за то, что разбойники украли у меня рукопись мемуаров; разберитесь раньше, чем осуждать меня за перебранку с дирижером того или другого театра; и не объявляйте поспешно мне бойкота за то, что я украл у своего лучшего друга велосипед, проплясал на бойкой городской улице камаринскую, а потом поджег дом бедной вдовы и т. д. Многое в этом может быть и преувеличено».
Этот «вопль души», разумеется, не остановил репортеров, они продолжали преследовать певца — в театре, за кулисами, на улице, на банкетах и приемах. Но, по крайней мере, Шаляпин еще раз предостерег читателей: не доверяйте всему тому, что пишут обо мне. Место артиста — театр, и лучше всего поведать публике о себе он может со сценических подмостков.
Между тем созданный журналистской братией «образ Шаляпина» начал жить в общественной молве самостоятельной, независимой от реального Шаляпина жизнью — им восхищались, возмущались, его возвышали и ниспровергали. Поклонники и противники артиста вступают в поединки между собой, и Шаляпин становился лишь поводом к выяснению их собственных отношений. Бывшим друзьям певца доставалось от его новых приверженцев. Некто Гри-Гри (Г. П. Альтерсон) сардонически «изничтожал» своего конкурента «короля фельетона» Власа Дорошевича:
…Что с Власом сделалось, скажите ради Бога? Ах, он совсем не тот (переменился за ночь!). Похвал заслуженных он «Феде» не поет, Не «Федя» у него, а «Федор» да «Иваныч», И с пеною у рта наш бедный Влас Доказывает тщетно: «В Шаляпине лишь голоска запас, Таланта вовсе не заметно». А публика твердит: «Не проведет он нас!»… Шаляпин гений был и гением остался… Вот Дорошевич — точно исписался. Мораль кратка на этот раз: Не следуй Власову примеру, Коль сердишься — сердись, Но ври при этом в меру.31 декабря 1913 года вслед за амнистией, объявленной к трехсотлетию дома Романовых, в Россию вернулся Горький. Он обосновался под Выборгом, в поселке Мустамяки, в Петербург выезжал редко, как-то был с Шаляпиным в цирке на борцовских состязаниях, слушал его в Мариинском театре в «Дон Кихоте». Последнюю неделю апреля 1914 года друзья вместе отдыхали в Мустамяках: гуляли, катались верхом, играли в городки, пели русские песни.
После давних концертов для киевских и харьковских рабочих Шаляпин думал о новых встречах с «простым зрителем»: в 1910 году журнал «Театр и искусство» сообщал о намерении певца дать в Петербурге бесплатный спектакль «Бориса Годунова», но осуществить это удалось только в 1915 году, 19 апреля. По окончании спектакля депутация зрителей со сцены Народного дома горячо благодарила Шаляпина.
— Я сам вышел из народа, — сказал артист в ответ на приветствия, — и счастлив, что моя давнишняя мечта — выступить перед народом — осуществилась.
Горький писал большевику С. В. Малышеву в сибирскую ссылку: «Народу собралось до четырех тысяч человек, пел „Бориса Годунова“: Шаляпину был триумф и в театре, и на улице. Но не думайте, что ему не напомнили о том, о чем следовало напомнить. Восемь заводов написали ему очень хорошее письмо, такое хорошее, что он, читая, плакал, а в письме было сказано, что ему, Федору, никогда ни пред кем на коленки вставать не подобает…»
Действительно, без политических попреков не обошлось. В «хорошем письме», о котором упоминает Горький, говорилось: «Демократическая Россия по праву считала вас своим сыном и получала от вас доказательства вашей верности духу, стремлениям, порывам и светлым идеалам. Но „не до конца друзья ее пошли на пламенный призыв пророческого слова“. В день, который так же резко запечатлелся в нашей памяти, как и первый день вашей славы, вы ясно и недвусмысленно ренегировали из рядов демократии и ушли к тем, кто за деньги покупает ваш великий талант, к далеким от нас по духу людям. Больше даже вами, силою вашего таланта, были освящены люди, клавшие узду на свободную мысль демократии. Мы не перестаем ценить ваш талант, вами созданные художественные образы; их нельзя забыть, они будут жить в нашем сознании, но все это будет, наряду с мыслью о том, что пыль, оставшаяся на ваших коленях, загрязнила для нас ваше имя».
Часть пятая ПОРА ВЫБОРА
Русская земля так богата загубленными, погибшими талантами. Как она плодотворна, сколько прекрасных всходов могла бы дать ее почва!!! Но вечно ступает по ней чей-нибудь тяжелый сапог, втискивая в снег, затаптывая все живое: то татаро-монголы, то удельный князь, то турок, а теперь… полицейский.
Ф. И. ШаляпинГлава 1 ТЕАТР НА РАСПУТЬЕ
Максимализм русского сознания начала XX века во многом опирался на постулаты кардинального переустройства жизни на идеалах свободы, равенства, справедливости, правды, добра, и сцена становилась открытой общественной трибуной, мощным притягательным полем. Авторитет театрального деятеля стремительно возрастает. Актер, певец, музыкант, драматург, режиссер воспринимается как идеолог времени, как духовный наставник, как человек, знающий — как надо жить. Вера в идею правдоискательства наделяла художника исключительными правами и полномочиями. Всей гаммой эмоциональных реакций зритель отвечал доверием к сценическим событиям, характерам, к актерам, которые, в свою очередь, откликаясь на настроение публики, корректировали свое исполнение. Жизнь спектакля соотносилась с действительностью, а подчас впрямую инициировалась ею: Станиславский называл публику «большим зеркалом», призывал актеров, смотрясь в него, познавать смысл своего творчества.
«Мыслитель-режиссер — явление невиданное, новое, неожиданное, и, как все необычайное, не скоро понимается», — писал зритель, пораженный спектаклями Художественного театра. На эту восторженную зрительскую филиппику в статье 1909 года ответил Станиславский: «Знаете, почему я бросил свои личные дела и занялся театром? Потому что театр — это самая могущественная кафедра, еще более сильная по своему влиянию, чем книга и пресса. Эта кафедра попала в руки отребьев человечества, и они сделали ее местом разврата. Моя задача, по мере моих сил, пояснить современному поколению, что актер — проповедник красоты и правды».
Режиссура утверждала новый взгляд на личность, на положение человека в обществе. Опираясь на русскую и западную драматургию, на отечественную и европейскую оперную классику, постановщики спектаклей предлагали зрителю осмыслить новую «картину мира». Жизнь частного человека, его обыденное существование стали предметом художественного исследования, а стремление проникнуть в его внутренний мир, в его психологию, миропонимание потребовало новых выразительных средств, нового театрального языка. Ансамблевый театр стремился выстроить на сцене целостную и обобщенную картину современного бытия. Личность становится средоточием проявления социально-психологических тенденций времени.
Но одновременно на сцене продолжаются эксперименты символистского и условного театра. Они опирались на теоретические концепции, изложенные в статьях В. Брюсова «Ненужная правда», позднее в работах Вяч. Иванова, А. Белого, Ф. Сологуба, Г. Чулкова, Н. Евреинова, которые, по сути дела, размывали традиционные границы сцены, настаивали на неминуемом кризисе театра. В статье Ю. Айхенвальда «Отрицание театра», опубликованной в 1914 году, театр вообще выводился за рамки искусства, так как, по мнению автора, «он целиком зависит от литературной основы — драматургии и не содержит в себе никакой самостоятельности».
В развернувшуюся академическую дискуссию о будущем театра Л. Андреев внес долю пикантности, но по-существу был точен. Природа театра — живое общение сцены и публики — залог его нынешнего и будущего процветания. «Останется театр или нет — это остается гадательным, — писал он в журнале „Маски“ (1913. № 3), — но что сохранится навеки нерушимо кафешантан и театры с раздеванием — это факт. Ибо никогда и никакой зритель не удовлетворится дамой, которая только на экране и не может пойти с ним поужинать».
Прогнозы гибели театра оказались несостоятельны, они опровергались живой практикой театра, многообразием исканий его лидеров.
Ф. И. Шаляпина умозрительные концепции «театра будущего», поиски «условного театра» не увлекали, ему ближе сценическая правда Малого и Александрийского театров, трепетность эмоций и непокорность гуманистической мысли Художественного театра.
С М. Горьким Художественный театр спустился на «дно жизни» — в поисках конкретной «осязаемой» социальной правды. Экскурсия актеров в ночлежки Хитрова рынка, сопровождаемая истерическими воплями устрашающих босяков-обитателей, обмороками прекрасных мхатовских премьерш и спасительной находчивостью гида — знатока «дна», писателя В. А. Гиляровского, продемонстрировала подвижническую готовность «художественников» собственными глазами увидеть «свинцовые мерзости» люмпенского быта.
Драматизм воссозданной на сцене жизни чутко воспринимался аудиторией. Мотивы личного несогласия, социального протеста, звучавшие в спектаклях МХТ, в выступлениях Комиссаржевской, Шаляпина, Горького, улавливались зрителями в узнаваемости сценических фигур, их переживаний, поступков, настроений, рождали идейное и эмоциональное единомыслие. Публика возвышалась, поднималась в своих чувствах, помыслах, сближалась с художником, и обыкновенный «частный человек» и в собственных глазах вырастал до масштабов значимой фигуры, способной на смелую личностную, героическую гражданскую акцию.
«Народившееся искусство, в котором центр тяжести всецело переносится на настроение, — писал критик С. Глаголь, — требовало для себя, конечно, новых форм выражения, новой постановки на сцене. Сознательно или бессознательно, но Художественный театр нашел эти формы и выступил с ними. И в этом главная причина его успеха». МХТ сделал настроение средством эмоционального и интеллектуального воздействия на публику, и Шаляпину такая модель театра была чрезвычайно близка.
Творческая и личная дружеская близость к МХТ, к его мастерам значила для Шаляпина очень много, рождалось желание перенести реформаторские открытия Станиславского, Немировича-Данченко на оперную сцену. Это стремление реализовалось в режиссерских опытах Шаляпина в Большом и Мариинском театрах, в его концертных программах.
«Художественный театр — дитя русской интеллигенции, плоть от плоти ее, кость от кости… Сходить в „Художественный“ для интеллигента значило почти причаститься, сходить в церковь, — писал О. Мандельштам. — Здесь русская интеллигенция отправляла свой самый высокий и нужный для нее культ, облекая его в форму театрального представления».
Идеал красоты и правды в широком сознании тесно смыкался с романтически-приподнятым над реальностью идеалом социального равенства и всеобщей справедливости. «Общедоступно-интеллигентский» МХТ открылся, как известно, в 1898 году исторической драмой А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Исполнитель заглавной роли И. М. Москвин начинал спектакль фразой, несущей глубинный смысл: «На это дело крепко надеюсь я». А спустя семь лет С. П. Дягилев, выступая на открытии одной из художественных выставок, сказал: «Я совершенно убедился, что мы живем в страшную пору перелома: мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой мудрости. Это говорит история, то же подтверждает эстетика… Я могу смело и убежденно сказать, что не ошибается тот, кто уверен, что мы — свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой неведомой культуры, которая нами возникает, но и нас же отметет».
Шел ли Шаляпин к новой сценической эстетике интуитивно, движимый только гениальным художественным наитием? Безусловно, нет. Впечатляет глубина и зрелость суждений 25-летнего артиста, высказанных в интервью «Петербургской газете» еще в 1898 году в ходе триумфальных гастролей Русской частной оперы в Северной столице: «Заслуга современных композиторов в том, что они стали писать осмысленно, применяясь к тексту… В „Садко“ и других русских операх всякое выражение, особенно драматическое, находит именно ту музыку, тот ритм, который ему наиболее подходящ… Иногда поражаешься сходству музыки с текстом, доходящему до того, что вам кажется, что иная фраза и не может быть выражена иными музыкальными звуками, нежели теми, которые вы услышали. Вот в этом, мне кажется, и заключается суть музыкального реализма».
В стремительном расцвете таланта Шаляпина была своя историческая закономерность. Он появился в тот момент культурного развития, когда возникла острая потребность именно в художнике такого типа. Певец создавал сценические характеры Грозного, Досифея, Олоферна, Галицкого, Мельника, Мефистофеля в пору, когда великая русская литература определяла настроения общества, когда в живописи и в театре устремления художников направлялись на постижение «жизни человеческого духа», когда вопрос смысла жизни решался с позиций идеалов добра, справедливости, совести, личной ответственности перед собой, перед отечеством, перед миром. И потому совсем не случайно ищущий талант Шаляпина вошел в художественную культуру удивительно своевременно и вызывал у современников желание оценивать его искусство в сопоставлении с Достоевским, Толстым, в русле пушкинской и гоголевской традиции. В. В. Стасов радостно поддержал суждение М. Горького: «Споет он слово, два, фразу, и слышишь — вся человеческая душа, а порой и мир». Стасов продолжил Горького, сравнив Шаляпина со Львом Толстым, которого «читаешь и словно чувствуешь, тоже две, три фразы, и слова-то привычные, но штрих, деталь — и схватил человека, всего — с душой, одеждой и обстановкой, и тут же природа».
Глава 2 ШАЛЯПИН-РЕЖИССЕР
Сезон 1910/11 года начался в Большом театре с шумного конфликта. На спектакле «Русалка» дирижер И. А. Авранек затянул темп, Шаляпин стал задыхаться и ногой принялся отбивать темп. В антракте режиссер В. С. Тютюнник лукаво подмигнул и улыбнулся Авранеку, демонстрируя презрительное отношение к «скандалисту». Шаляпин рассвирепел, разгримировался и уехал домой.
Стали звонить В. А. Теляковскому в Петербург: как быть? Спектакль продолжался, скоро выход Мельника, а между тем исполнителя роли в театре нет. Владимир Аркадьевич спешно отправил к певцу В. А. Нелидова — того самого, который десять лет назад уговаривал Федора Ивановича в «Славянском базаре» перейти в Большой театр, — и В. П. Шкафера, приятеля Шаляпина со времен Частной оперы. Приехав на Новинский бульвар, они увидели тягостную картину — артист лежал на диване и плакал…
Вернулись в театр. И может быть, никогда с такой драматичностью Шаляпин не исполнял сцену сумасшествия Мельника. Зрители устроили певцу овацию и простили затянувшийся антракт.
Пресса тут же раздула закулисный скандал, Шаляпина порицали певцы Н. Н. Фигнер, А. Дидур, защищали А. М. Давыдов, критик Э. А. Старк (Зигфрид). Поддержал друга и Рахманинов — он в это время находился в Вене. На вопрос журналиста, почему он уволился из Большого театра, Сергей Васильевич ответил: «Никогда не пойду в Большой театр, даже если мне предложат большие деньги. Им не такой человек нужен, как я. Все вот обвиняют Федю, кричат „Шаляпин — скандалист“. Это верно — Федя скандалист. Они там его „духа“ боятся. Вдруг крикнет, а то и ударит! А кулак у Феди могучий… И за себя он постоит. Но как прикажете иначе? Ведь у нас за сценой точно трактир. Орут, пьют, ругаются последними словами. Где уж тут творчество и возможность работать? Им нужен „скандалист“ Шаляпин, от которого все прячутся в углы, чтобы избежать скандала. Но ведь это не работа, а вечное раздражение и враждебное отношение к своему шефу. При таких условиях ничего не создать. А между тем создать многое можно».
В защиту Шаляпина выступил Сергей Мамонтов, сын Саввы Ивановича:
«Давно следует освежить оперную атмосферу, окружающую художественную работу нашей Большой оперы, об этом в Москве толкуют уже давно… Человек исключительного художественного чутья с нервно-повышенной творческой энергией, Шаляпин не может не протестовать против рутины…» Поддержал певца и журнал «Рампа и жизнь»: «Изгнать Шаляпина из Большого театра, не допускать сильного и беспокойного человека к казенному пирогу — вот заветная мечта ретроградов…»
Этого не произошло: к радости всех — от швейцаров до премьеров — режиссер В. С. Тютюнник покинул труппу. В журнале распоряжений по театру появилась запись: отныне Шаляпин, а также Собинов будут считаться режиссерами всех спектаклей, в которых они участвуют. Авранеку же певец по просьбе Теляковского написал примирительное письмо, особо подчеркнув, что в своих требованиях он руководствовался только творческими мотивами. Конфликт объявили исчерпанным, и пресса на какое-то время перестала надоедать артисту назойливым вниманием. Но ненадолго. Популярная фельетонистка Н. Тэффи в журнале «Рампа и жизнь» публикует свои заметки «Крик и пение»:
«В былые времена, когда повторялось о Шаляпине яркое восклицание „Радость безмерная“, и тогда, кажется, не так много говорили о нем, как говорят теперь.
В былые времена барышня, вернувшись из оперы, говорила домашним: „Ах, как дивно пел Шаляпин! Мишель Зюзюкин говорит, что положительно сам Пушкин не желал бы лучшего исполнителя для роли Годунова“.
Теперь, вернувшись из оперы, барышню осаждают домашние: „Ну что? Как сегодня? Не ругался? Несчастий с людьми не было?“
Дирекция императорских театров, кажется, этому не сочувствует — Каракаш нарушил дисциплину и перестал петь, когда его ругал Шаляпин. А потом страшно — вдруг ему кто-нибудь в публике не понравится! Зачем раздражаете Федора Ивановича? Не умеете себя держать, так и не лезьте на „Севильского цирюльника“, а удовольствуйтесь обыкновенным».
Впрочем, отрицать очевидное обстоятельство, что с приходом на императорскую сцену Шаляпина культура спектаклей в Большом и Мариинском театрах заметно повысилась, бессмысленно: опера стала популярным жанром у широкой публики. О ее возросшем престиже достаточно убедительно свидетельствует принятое Теляковским постановление, категорически запрещавшее после начала оперных спектаклей входить в зрительный зал. «Благодаря распоряжению дирекции о закрытии дверей во время действия беготня в партере, слава Богу, прекратилась», — прокомментировал эту акцию журнал «Студия». Примечательно, что на балетные представления запрет не распространялся. К тому же Теляковский пошел навстречу публике и солистам и разрешил повторять успешно исполненные арии. «Разрешены „бисы“!» — торжествовала газета «Театр и искусство».
Прочно бытовавшие в театре постановочные и исполнительские традиции, рутинные штампы снижали художественность постановок, стилевую целостность, и разрушить их даже Шаляпину оказывалось непросто. Так, во всех спектаклях на сцену выставлялся один и тот же декоративный «вечный камень». На него присаживались во время исполнения арий, около него пели дуэты Онегин и Ленский, в «Демоне» на камне лежала Тамара, а в «Русалке» Наташа; ставили камень и в «Борисе Годунове».
Как-то Шаляпин предложил Коровину:
— Слушай, да ведь это черт знает что — режиссеры наши все ставят этот камень на сцену. Давай после спектакля этот камень вытащим вон, ты позовешь ломового, мы увезем на Москву-реку и бросим с моста.
Но режиссеры, вспоминает К. А. Коровин, не дали Шаляпину утащить камень.
— Не один, — говорили они, — Федор Иванович, вы поете, камень необходим для других.
В. А. Теляковский едва ли не первый распознал в Шаляпине дар режиссера, способного строить спектакль прежде всего по законам музыкальной драматургии. «Шаляпин нередко приходил ко мне по вечерам с художником К. А. Коровиным и мы до поздней ночи толковали о новых постановках, — вспоминает Теляковский в книге „Мой сослуживец Шаляпин“. — Замыслы у Шаляпина были самые грандиозные».
Уже в первый сезон работы в императорских театрах Шаляпин понял, сколь сложно артисту соблюдать сложившиеся в придворной труппе чиновные обычаи и нормы поведения. Шаляпин делился с Теляковским своими раздумьями, настаивал на обновлении старых спектаклей, но многое оставалось по-прежнему. Тогда певец стал действовать решительно. Он отказался участвовать в «Юдифи» в Мариинском театре из-за обветшалых декораций и костюмов. Газеты тут же одернули певца и призвали дирекцию не потакать капризам артистов, «ибо, в конце концов, ведь не опера существует для артистов, а артисты для оперы».
В Петербурге Шаляпин обратил внимание костюмеров на нелепый головной убор Бориса Годунова. Художник Пономарев возмутился: «Даже сам император Александр III это одобрили, а вы критикуете. Как можно высочайшее одобрение критиковать!»
Но прошло три года, и интонации прессы и поведение театральной обслуги кардинально изменились: теперь по поводу нового возобновления «Юдифи» критик писал: «Партию Олоферна должен петь Шаляпин, но, говорят, талантливый артист поставил дирекции одно условие…
Чтобы декорации были новые.
При старых декорациях Шаляпин не соглашается петь.
Казалось бы, какое дело артисту, старые или новые декорации? Была бы партия ему по голосу и дали бы ему костюм.
Так смотрели в старину. Но не так смотрят современные артисты, справедливо рассуждающие, что сила в ансамбле, а не в артисте. Оттого Шаляпин и имеет такой исключительный успех, что заботится не столько о том, чтобы у него звучал голос, чтобы грим был интересный, а чтобы вся рамка, которая его окружает, была художественной и в тоне с его гримом и костюмом… Я по-прежнему продолжаю теряться перед этой горою таланта, пошли ему Бог еще лет на тридцать здоровья». Критик не ведал тогда, что угадал срок, отпущенный певцу, — ему осталось жить и творить ровно 30 лет…
Шаляпин борется за правдивое искусство больших человеческих страстей, ищет новые средства сценической выразительности. И как первая действенная попытка утвердить на сцене свои представления о современной театральной эстетике, возникает режиссерский замысел «Хованщины». К этому времени Шаляпин — зрелый мастер, его дарование признано в России, Европе, Америке, он по личному опыту знает мировой уровень развития сценической культуры, он свой человек в литературно-художественной среде, знаком с поисками новых форм в драматическом театре, видит упорные стремления «художественников» создать совершенный сценический ансамбль.
И в музыкальном театре Шаляпин тоже стремится создать ансамблевое единство. Могучие характеры народной драмы увидены им на крутом изломе русской истории времен стрелецких бунтов и кровавых расправ в исторической масштабности и трагическом накале судеб народных. В 1897 году Шаляпин пел Досифея в Частной опере Мамонтова. Теперь «Хованщина» стала итогом исканий артиста, осмысления пройденного, насыщенного творческими событиями пути.
К «Хованщине» 1911 года Шаляпин идет от трагических противоречий «Псковитянки» и «Бориса Годунова», от литературно-сценической традиции Пушкина и оперной драматургии Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, от русской истории, интерес к которой так сильно был развит беседами с В. О. Ключевским, наконец, от исторической живописи Репина, Сурикова, Васнецова, от скульптур Антокольского. Все эти влияния пересеклись в Шаляпине в пору его работы над «Хованщиной».
Артист тщательно выверял ритмику, пластику, интонации, жесты, не ограничивался словесным объяснением актерской задачи: «…за словами тотчас же должен следовать наглядный пример». Репетируя «Хованщину», Шаляпин изумлял артистов интерпретацией их ролей. «Шаляпин — враг рутины, все, что он показывает, просто, жизненно, правдиво… Работать с ним — наслаждение, — рассказывал журналистам тенор А. М. Лабинский, — и не только потому, что он великий художник. Шаляпин — прекрасный товарищ, ласковый, любезный, простой. При всем величии своего авторитета Шаляпин нисколько не стесняет исполнителя в проявлении индивидуальности. Он первый искренне радуется, когда артист хочет доказать, почему так задумал то или иное место».
Артистке В. П. Веригиной Шаляпин предложил новое видение раскольницы Марфы:
«Начал петь тихо, покачиваясь: „Исходила, младешенька, все поля и покосы…“ В голосе слышалась неизбывная тоска русской женщины, мерещились выжженные солнцем поля, но, все больше и больше увлекаясь, певец усилил звук и как-то внезапно почти во весь голос запел „Силы потайные“. И не стало пассивной женщины, возникла могущественная волшебница, и казалось, что волхвованием своим она, несомненно, может всех зачаровать и все превратить в очарованный сон. Такое сотворить мог только Шаляпин! Ни один женский голос, кажется мне, не обладает в такой степени чарами волшебства… Федор Иванович ходил и пел без всяких жестов. Все передавалось голосом и внутренней интонацией».
С появлением Шаляпина на сцене мгновенно наступала полная тишина. Он приходил в ярость от всякой небрежности, неряшливости, требовал точного исполнения указаний, и здесь дружеские отношения отступали на второй план.
На генеральной репетиции «Хованщины» Шаляпин заподозрил Коровина в неточном решении сцены «Стрелецкое гнездо». Певец вызвал его из публики к оркестру:
— Константин Алексеевич, я понимаю, что вы не читали историю Петра, но вы должны были прочесть хотя бы либретто. Что же вы сделали день, когда на сцене должна быть ночь? Тут же говорится: «Спит стрелецкое гнездо».
— Федор Иванович, — ответил художник, — конечно, я не могу похвастаться столь глубоким знанием истории Петра, как вы, но все же должен вам сказать, что это день, и не иначе. Хотя и «спит стрелецкое гнездо». И это ясно должен знать тот, кто знает «Хованщину».
На сцену выбежал режиссер Мельников с клавиром:
— Здесь написано: «Полдень».
Актриса Н. И. Комаровская внимательно наблюдала за работой Коровина и Шаляпина: «Вместе они намечали внешний облик Досифея. По рисункам Коровина Досифей представлялся то гневным изувером, то пламенным фанатиком, то добрым пастырем. Шаляпин загорался. Вдохновенно, с потрясающей силой пел он в этот вечер Досифея. Выслушивая соображения Коровина, он вновь повторял те места из своей роли, которые не удовлетворяли его. Это был незабываемый вечер содружества двух больших художников».
Скоро на стене артистической комнаты Шаляпина в Мариинском театре появился портрет Досифея, исполненный артистом гримировальными карандашами. Суровые глаза Досифея — Шаляпина как бы пронизывают каждого, кто смотрит на портрет. Впоследствии с большими предосторожностями слой штукатурки с рисунком был снят со стены и перенесен в созданную в театре мемориальную комнату Ф. И. Шаляпина.
Перед началом работы над «Хованщиной» Шаляпин дал интервью. Репортер наблюдал, как, «стоя у письменного стола, он водит карандашом по белому листу бумаги. Красивый великан с голубыми, совсем детскими глазами, он то поправляет рисунок, то бросает карандаш и ходит по комнате, слишком тесной для его гигантских ног. Разговаривая с нами, он то снова возвращается к столу и доделывает контур, то опять ходит, начинает маршировать по комнате». Когда беседа закончилась, был готов и рисунок — один из бесчисленных автопортретов, сделанных певцом.
Премьера «Хованщины» состоялась 7 ноября 1911 года. Ю. Д. Беляев подчеркивал огромное музыкальное и общественное значение новой постановки. Шаляпин «не только не выдвинул на первый план роль Досифея, но пожертвовал всем его выгодным положением в целях наилучшего ансамбля. Вот эту скромность, эту уступчивость, этот „подвиг“ я ставлю в первую заслугу артисту, — писал рецензент. — Как, иметь в руках такой благодарный материал, да еще шаляпинский талант, и не „ахнуть“, не разразиться, не сокрушить?! Да, вот в чем заключается главная заслуга артиста: в согласии. И вот вам точный ответ на обычные сомнения: может ли режиссер быть в то же время и актером? Может. Шаляпин доказал это вчера».
В. Г. Каратыгин писал в «Солнце России»: «Мало того, что великий отечественный артист с бесподобной силой и яркостью исполняет партию Досифея, — он же режиссировал всю оперу (совместно с г. Мельниковым). Это он заставил Марфу обходить Андрея со свечой перед тем, как обоим им входить на костер. Это он придумал всю эту массу превосходных подробностей, которые внесли в наш музыкальный праздник столько свежести и жизни. Это он присоветовал таинственные паузы оркестра во многих местах партитуры».
В «Хованщине» Шаляпин утвердил свое безусловное право на собственную оригинальную интерпретацию классики и в то же время обнажил всё противоречие своего художественного поиска. Стремясь к ансамблю на сцене, артист ставил перед своими партнерами такие исполнительские задачи, которые в полном объеме успешно решить он мог только сам. Роль Досифея позволяла Шаляпину увести своего персонажа в тень, оставив пространство для развития действия главным героям, и тем самым достичь художественной целостности спектакля.
Из Петербурга Шаляпин сообщал Горькому:
«Дорогой Максимыч!
Как искренно жалею я, что тебя не было здесь. Какая это удивительная вещь, и какой был у нас в театре праздник. Я видел, как не один десяток участвующих на сцене — плакали, а я, я и до сих пор не могу еще равнодушно петь эту оперу. Боже мой, сколько там народушки есть, сколько там правды, несмотря на отсутствие, может быть, исторически точной правды и некоторую запутанность в либретто. Ты, конечно, знаешь ведь, что Мусоргский затевал нечто огромное, но, во-первых, его недуг, а во-вторых, и смерть помешали ему осуществить то, что задумал он и Влад<имир> Вас<ильевич> Стасов. Экая жаль! Какие удивительные народные семена растил этот удивительный Модест Мусоргский, и какие гады всю жизнь вертелись в его вертограде и мешали растить ему народное семечко. Если ты не читал его писем к Стасову, я тебе их пришлю. Эта книжечка вышла тому назад только месяц, — хорошие это письма, и хорошо они рисуют Мусоргского».
Всем, чем жил, чему радовался Шаляпин, ему хотелось поделиться с Горьким. Он пытался привлечь писателя к работе над либретто опер, в которых мечтал выступить. В 1909 году в Монте-Карло Шаляпин пел в опере композитора и антрепренера Р. Гинсбурга «Старый орел», написанной по легенде Горького «Хан и его сын». В письмах певец обсуждал с другом идею оперы на сюжет трагедии Софокла «Царь Эдип» (еще раньше он пытался увлечь этим замыслом Римского-Корсакова) и приветствовал желание Горького создать либретто оперы о Ваське Буслаеве. Писателя давно привлекал образ этого героя новгородского былинного эпоса.
1913 год юбилейный — трехсотлетие династии Романовых. Праздник должен отмечаться с помпезностью, казна не скупилась. Шаляпин гастролировал в Берлине. Дирекция императорских театров вызвала его в Петербург для участия в торжествах — политика снова властно вмешивалась в жизнь певца. Шаляпин решил не приезжать, сославшись на болезнь.
Горький поддержал его:
«…И позволь еще раз сказать тебе то, что я говорил не однажды, да и скажу еще не раз: помни, кто ты в России, не ставь себя на одну доску с пошляками, не давай мелочам раздражать и порабощать тебя. Ты больше аристократ, чем любой Рюрикович, — хамы и холопы должны понять это. Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый — Толстой… Так думаю и чувствую не один я, поверь. Может быть, ты скажешь: а все-таки трудно мне! Всем крупным людям трудно на Руси. Это чувствовал и Пушкин, это переживали десятки наших лучших людей, в ряду которых и твое место — законно, потому что в русском искусстве Шаляпин — эпоха, как Пушкин. Не умеем мы ценить себя, плохо знаем нашу скудную и тяжкую историю, не понимаем ясно своих заслуг перед Родиной, бедной добром, содеянным ей людьми. И так хотелось бы, чтоб ты понял твою роль, твое значение в русской жизни!
Вот это — те слова от сердца, которые сами идут на язык каждый раз, когда я думаю о тебе, дорогой мой друг. И часто орать хочется на всех, кто не понимает твоего значения в жизни нашей…»
Шаляпин вернулся в Петербург после официальных празднеств.
И на Западе, и в России на спектакли, поставленные Шаляпиным, приходили актеры, режиссеры, художники. К. С. Станиславский смотрел Дон Кихота — Шаляпина из ложи Большого театра, надев поверх пенсне очки и приставив громадный бинокль. Он следил за каждым движением певца, заразительно смеялся. Художественный театр в это время работал над «Моцартом и Сальери» Пушкина. Станиславский репетировал Сальери, роль давалась ему с трудом. По воспоминаниям актера МХТ Л. М. Леонидова, Станиславский «…пришел к мысли, что не умеет говорить на сцене, и стал работать над словом. Он обратился к человеку, которого считали лучшим мастером слова, — к Шаляпину. И вот они сидели вдвоем — Константин Сергеевич слушал, а Шаляпин читал ему монолог Сальери».
О вечерах, проведенных с Шаляпиным, Станиславский записал: «Шаляпин мне читал Сальери очень холодно, но очень убедительно. Вот что я почувствовал. Он умеет из красот Пушкина сделать убедительные приспособления. Талант, как Шаляпин, умеет взять себе в услужение Пушкина, а бездарный сам поступает Пушкину в услужение».
Оформлял «Пушкинский спектакль» Художественного театра А. Н. Бенуа. Он признавался, что при работе над эскизами ему помогли советы Шаляпина.
Современники сравнивали оперного и драматического Сальери — Шаляпина и Станиславского. Многие отдавали приоритет певцу в этой роли. Да и сам Станиславский остался собой недоволен. Но вот свидетельство П. А. Маркова: «Громадная фигура сумрачного размышляющего человека — почти неподвижного, смотрящего неизменно в одну точку — мучительно волновала и тревожила. Была в нем какая-то неизбывная неустроенность… Станиславский коснулся в Сальери неизведанной человеческой бездны. И даже Шаляпин — мощный, эффектный, волевой — не мог сгладить особого впечатления, которое оставлял Станиславский в этой роли… Для меня он навсегда в Сальери остался выше и значительнее Шаляпина — если возможны такие сравнения».
Для многих современников шаляпинский Сальери стал художественным совершенством. Певец и режиссер Э. И. Каплан слушал «Моцарта и Сальери» 22 раза: «Это был Сальери Пушкина, Римского-Корсакова и Шаляпина… Сальери в великом противоречии своем — истинный музыкант, понимающий прекрасное и великое искусство, обладающий тонким вкусом и в то же время посредственный композитор — ремесленник».
Критик Э. Старк увидел Шаляпина с иной стороны: «Душа Сальери обнажена перед нами и холодом веет на нас. Страшно за человека, который довел себя до такого состояния. И, созерцая это творчество, возникающее с совершенно божественной легкостью, начинаешь сознавать, что если трагедия умерла на той сцене, где некогда царила веками, то ею еще можно наслаждаться на оперной сцене, где дивным чудом воплотилась она в образе Шаляпина, последнего трагика наших дней».
В воспоминаниях современников артист живет одновременно в нескольких ипостасях. Открытый, жизнерадостный, всегда готовый к шутке и розыгрышу, умеющий своим рассказом утешить (выражение Рахманинова), развеселить, создать вокруг себя атмосферу праздника. Таков Шаляпин в обществе близких людей. Другой Шаляпин сложился в памяти коллег по театру. Строгий к партнерам, непримиримый в отстаивании своих темпов и пауз, своего видения ролей, яростно, а подчас и капризно конфликтующий с артистами, дирижерами, режиссерами. «Невозможный» характер Шаляпина — богатая и постоянная тема пересудов. «С какой радостью и пеной у рта пересказывались на тысячи ладов всякие скандалы с Шаляпиным! Как охотно скандалы эти подхватывала пресса!
О них говорили гораздо чаще и гораздо больше, чем об исполнении Шаляпиным опер Мусоргского, которые в свое время им были вытащены на свет рампы и в настоящем освещении были представлены публике», — сетовал В. А. Теляковский.
«Властным деспотичным владыкой сцены» считал Шаляпина М. В. Нестеров. Но люди искусства понимали и признавали право артиста «на деспотизм». В своей лекции 1909 года «К постановке „Тристана и Изольды“» в Мариинском театре Вс. Э. Мейерхольд назвал Шаляпина «образцом идеального певца». Оперный артист, подчеркивал Мейерхольд, в своем исполнительстве, как правило, опирается в большей мере на либретто, чем на партитуру. Поэтому его пластика и жесты или нарочито условны, или приземлены, обытовлены.
Всеволод Мейерхольд впервые встретился с Шаляпиным в «Борисе Годунове» в Мариинском театре. Присутствующие на репетициях удивлены несвойственной мягкостью Мейерхольда. Режиссер В. М. Бебутов вспоминал:
«Великолепная по композиции и краскам декорация, на площади Кремля тянется красная дорожка. Дабы отгородить царя от народа, Головин поставил вдоль красной дорожки низенькую (фута на полтора) переборку. Шаляпин выходит из собора. Золотой идол в царском облачении. Бармы. Парча с драгоценными камнями. Шапка Мономаха. Посох. Он остановился… Но что это? Шаляпин останавливает жестом оркестр. Трижды ударяет посохом о злосчастную переборку и бросает в темноту зрительного зала фразу: „Виноват! На спектакле это придется убрать“.
Мейерхольд с Головиным — в ложе над оркестром. Художник замялся — ему, видимо, жаль этой детали. Тогда Мейерхольд с легкостью балетного танцовщика поднимается, опирается на барьер и делает, говоря балетным языком, жете (jete). Вот он на сцене. Сам, без помощи рабочих сцены, отрывает крепко пришитую гвоздями к полу переборку и бросает ее за кулисы. Шаляпин благодарит его милостивым жестом (в образе) и продолжает репетицию.
В одном из антрактов, — продолжает В. М. Бебутов, — я подхожу к Мейерхольду и говорю ему, что зрители восхищены его уступчивой находчивостью и быстротой, с которой он устранил эту помеху.
— А что оставалось делать? — говорит Всеволод Эмильевич. — Он перестал бы петь и сорвал бы генеральную. Ведь я заметил, как его грозное лицо ко мне „тихонько обращалось“. Помните „Медного всадника“?»
Мейерхольд, как Станиславский и Немирович-Данченко, видел в Шаляпине «идеал артиста». Творчество Шаляпина открывало безграничные возможности музыкальной драмы, которая, по словам Мейерхольда, должна исполняться так, чтобы у слушателя-зрителя ни на секунду не возникало вопроса, почему это в опере актеры поют, а не говорят. Образец такой интерпретации ролей он увидел у Шаляпина: «Он сумел удержаться как бы на гребне крыши с двумя уклонами, не падая ни в сторону уклона натурализма, ни в сторону оперной условности».
С молодых лет Шаляпин, при всей свойственной ему «богемности», шел к достижению жизненной цели вполне осознанно и отнюдь не скрывал серьезности своих намерений. Не одно только честолюбие определяло направленность его усилий, прежде всего — стремление к высокому художественному идеалу, который рано сложился в его душе и сознании.
После множества выступлений в Европе, гастролей в Нью-Йорке в июле 1908 года Шаляпин сообщает на родину:
«Эта публика ничего не понимает. Они привыкли к итальянским артистам, которые, конечно, превосходные певцы, но как актеры стоят немногого и вкуса имеют на два чентезимо, к чему и приучили эту публику. Но для меня все это ничего не значит. Я делаю то, что я думаю».
То, что Шаляпину удалось не только осуществить задуманное, но и сделать это достоянием современной музыкальной культуры, подтверждает Ю. Д. Энгель в октябрьской книжке «Музыкального современника» за 1912 год: «Несомненно, что итальянскую школу исполнения, связанную до некоторой степени с характерными чертами самой итальянской музыки, школу, где главным фактором выражения были внешние вокальные факторы, — заменила ныне русская — шаляпинская, в которой самодовлеющим элементом стало слово, претворенное в музыку и углубленное ею».
М. Горький в 1901 году в письме В. А. Поссе назвал Шаляпина гением, добавив: «Это, брат, некое большое чудовище, одаренное страшной, дьявольской силой порабощать толпу». «Дьявольской» силой воздействия на публику восхищалась Айседора Дункан, да и многие другие поклонники артиста нередко употребляли именно этот эпитет.
Зло для Шаляпина не отвлеченная характеристика сценического образа, не метафорическая абстракция. Певец внутренне ощущал и находил на сцене такие конкретные краски Зла, такие выразительные детали, черты, нюансы внешнего и внутреннего рисунка, такие интонационные оттенки, которые содержали отклик на общественные настроения, актуализировали социально-психологические конфликты времени. Поэтому Иван Грозный, Мефистофель, Борис Годунов, Олоферн, Демон, Сальери становились не только артистическими свершениями певца, но и событиями культурной жизни в самом широком понимании.
В пушкинском Сальери на сцене Частной оперы 22-летний Шаляпин сумел передать глубину восторга и потрясения от встречи с гением. Но в спектакле произошла неожиданная перестановка акцентов: В. П. Шкафер по масштабу дарования не мог претендовать на роль Моцарта. Гений и Злодейство по причудливости театральной судьбы поменялись местами, замысел Пушкина и Римского-Корсакова оказался «недовоплощенным» — гениальность Моцарта сильно уступала духовной мощи Сальери.
В данном случае такая очевидная смещенность воспринималась публикой как вынужденная дань театральной условности. Однако в дальнейшем галерея шаляпинских демонических фигур стала расшатывать сложившуюся сценическую традицию. Артист все энергичнее вклинивается в социально-психологический и нравственный контекст российской жизни. В его репертуаре появились переосмысленные фигуры Мефистофеля А. Бойто, жестокого деспота и политического интригана Бирона в «Ледяном доме» А. Н. Корещенко, Ивана Грозного, Дона Базилио, Демона, позднее — Филиппа II в «Дон Карлосе» Дж. Верди, Еремки во «Вражьей силе» А. Н. Серова.
Обличение тиранов, деспотов обретало у Шаляпина такую значительность еще и потому, что опиралось на его собственное нравственное чувство. Преданность творчеству, страсть художнического подвижничества в сознании Шаляпина тесно связаны с гуманистическим идеалом человека — венца природы. Натура артиста противится самой идее морального разрушения, растления личности, обману, политическому интриганству. Он создает художественную антитезу, образное воплощение Добра. И поэтому такой искренний и живой отклик вызвала у Шаляпина новая опера Ж. Массне «Дон Кихот», написанная композитором специально для него…
Изначально было ясно: музыка Ж. Массне и либретто А. Кэна художественно несопоставимы с романом М. Сервантеса. Шаляпин опять ищет поддержки художников, по его просьбе Александр Бенуа рисует эскиз костюма Дон Кихота. Образ создавался Шаляпиным в радостном предвкушении нового художественного открытия. Душевное благородство, самоотречение во имя справедливости, романтическая верность идеалам — вот что волнует артиста. «Если Бог умудрит меня и на этот раз, — взволнованно пишет он Горькому, — то я думаю хорошо сыграть „тебя“ и немного „себя“, мой дорогой Максимыч. О, Дон Кихот Ламанчский, как он мил и дорог моему сердцу, как я его люблю».
Шаляпин шел к внешнему рисунку роли от глубокого осмысления ее внутренней психологической сути: «Исходя из нутра Дон Кихота, я увидел его внешность. Вообразил ее себе и, черта за чертой, упорно лепил его фигуру, издали эффектную, вблизи смешную и трогательную. Я дал ему остроконечную бородку, на лбу я взвихрил фантастический хохолок, удлинил его фигуру и поставил ее на слабые, тонкие, длинные ноги. И дал ему ус, — смешной, положим; но явно претендующий украсить лицо именно испанского рыцаря, и шлему рыцарскому и латам противопоставил доброе, наивное, детское лицо, на котором и улыбка, и слеза, и судорога страдания выходят почему-то особенно трогательными».
Как и в романе Сервантеса, Дон Кихот Шаляпина выступал носителем идеи Добра, выраженной в возвышенно поэтической и одновременно трагикомической стилистике. Это видно по множеству эскизных набросков Дон Кихота, сделанных артистом. Безусловная уверенность в своем предназначении — творить справедливость — позволяла шаляпинскому рыцарю отважно и безоглядно отвергать пошлость, трусость, вероломство. Даже заведомая обреченность поступков не снижала величия и благородства героя.
После премьеры «Дон Кихота» 12 ноября 1910 года в Большом театре критики отмечали оригинальность сценического рисунка, драматизм интонаций, пластичность жестов, эмоциональность исполнения. «Чего стоит один только грим и весь внешний вид артиста! — восклицал Ю. Д. Энгель. — И потом эта необычайная ясность и выразительность декламации, столь усиливающая действие музыки Массне! Особенно поражают гибкость и разнообразие тембров, в которые г. Шаляпин, соответственно художественным требованиям момента, умеет окрашивать свой голос». «Шаляпин — Дон Кихот не только носитель высокоидеальных стремлений, — писал в „Утре России“ Г. Э. Конюс. — Он ими заражает окружающих… Шаляпин — Дон Кихот — символ».
Освоив богатство русской драмы, живописи, скульптуры, музыки, литературы, Шаляпин стал художником, выстраивающим собственную картину мира, способным создавать не только свои роли, но и спектакли в соответствии со своим нравственным и эстетическим мироощущением. Целостного видения спектакля Шаляпин требовал от всех его участников — дирижера, художников, певцов, музыкантов. И вот неразрешимый парадокс: поднимая спектакль своим участием на высшую исполнительскую ступень, стремясь к ансамблевой целостности театрального представления, Шаляпин в силу масштабной несопоставимости своего дарования и мастерства с возможностями труппы сам же и способствовал разрушению этой целостности. («Талант разрушает равенство», — строго предупредит Шаляпина спустя несколько лет, правда по другому поводу, незваный ночной гость. Но об этом позднее.)
Еще в Частной опере Шаляпин увлекся партий Грязного в «Царской невесте» и поручил своему другу, певцу и режиссеру П. И. Мельникову, попросить Римского-Корсакова транспонировать для него партию. По воспоминаниям А. В. Оссовского, Николай Андреевич посетовал на то, что Шаляпин «искажает» своим гением соотношение музыкальных образов. Композитор И. Ф. Стравинский подтверждал растерянную настороженность Римского-Корсакова уже в связи с «Псковитянкой». «Что мне делать? — вопрошал композитор. — Я автор, а он не обращает никакого внимания на то, что я говорю».
А. С. Аренский, отдавая для постановки в Большой театр свою оперу «Наль и Дамаянти», предусмотрительно поставил перед Дирекцией императорских театров категорическое условие — не занимать в спектакле Шаляпина и Собинова, так как они непременно подчинят оперу своей интерпретации, своему «видению» и тем самым изменят замысел автора.
Проницательный и тонкий музыкальный критик Н. П. Малков так писал о «вынужденном гастролерстве» Шаляпина: «Всегда неизмеримо выше партнеров, Шаляпин роковым образом нарушает цельность впечатления. Создавая, Шаляпин разрушает, и так велика сила его сценического дарования, что даже незначительная партия, за которую возьмется Шаляпин, сразу вырастает на гигантскую высоту. Если хотите, в этом есть трагедия. Шаляпина давит сила его дарования. Ему надо выступать только с Шаляпиным же или примириться с положением гастролера…
Безусловно, Шаляпин своим участием в спектакле устанавливал высочайшие критерии исполнительства, заставляя тем самым партнеров творить на пределе возможностей, побуждая их совершенствовать мастерство. Однако предел этот несопоставим с пределами самого Шаляпина, и разрешить противоречие оказывалось практически невозможно.
Отдельными светящимися точками намечается эволюция музыкального творчества, отдельными личностями движется и театр… Вопросы искусства не решаются по большинству голосов. Поэтому театр без крупных артистов всегда будет мещанским театром».
Шаляпин осознавал значимость своей художественной миссии. На следующий день после премьеры «Псковитянки» в Милане — она состоялась 30 марта (12 апреля) 1912 года — артист писал Горькому: «Какое счастье ходило вчера в моем сердце! Подумай, пятнадцать лет назад — кто мог бы предполагать, что это поистине прекрасное произведение, но трудное для удобопонимания даже для уха русской публики, — будет поставлено у итальянцев и так им понравится!! Сладкое и славное чудо».
Миссия Шаляпина на Западе не ограничивалась пропагандой русского искусства, хотя она и была весьма существенна. Шаляпин побудил европейскую и американскую публику кардинально переосмыслить свое отношение к оперному представлению: в иерархии культурных ценностей музыкальный театр поднялся на более высокий уровень. Главной, основополагающей фигурой, стержнем музыкальной драматургии в западном театре традиционно были тенор и баритон. В этом смысле абсолютное первенство таких виртуозов вокала, как Энрико Карузо или Титта Руффо, никогда не оспаривалось. Но в Шаляпине публика не только увидела и услышала со сцены бас героя русской оперы — Ивана Сусанина, Галицкого, Бориса Годунова, Ивана Грозного… Благодаря Шаляпину и хорошо известные западному слушателю образы — Мефистофель в «Фаусте» Ш. Гуно, Мефистофель А. Бойто, Дон Базилио в «Севильском цирюльнике», в «Дон Карлосе» — обретали совершенно новый масштаб. Усилив в Мефистофеле Ш. Гуно и А. Бойто тему зла, сатанинства, зловещей инфернальности, Шаляпин предложил Массне написать Дон Кихота в басовом регистре и этим своим сценическим шедевром сломал устоявшийся предрассудок, согласно которому голос был характеристикой определенного оперного героя, безусловным знаком характера сценического персонажа.
Создав своего Дон Кихота, Шаляпин вторгся в европейскую театральную традицию, изменил привычное представление об оперных амплуа. Устойчивая монополия на музыкальной сцене тенора — главного и ведущего героя оперы — была им разрушена. Это признали и публика, и сами европейские музыканты. Пианист Мишель Кальвакоресси, аккомпанировавший Шаляпину во время европейских гастролей, даже сожалел, что тот — бас: «Будь он тенором — с его статной фигурой, сильным, веселым, восхитительно-наивным лицом, светлой, пышной шевелюрой, — из него получился бы несравненный Зигфрид». Но сила исполнительского внушения Шаляпина сметала сложившиеся стереотипы зрительского восприятия. В Дон Кихоте, вспоминает Кальвакоресси, «он был так убедителен, что просто зачаровал меня, несмотря на всю незначительность и даже пустоту музыки. И этот единственный раз в моей жизни объяснил мне, как многие зрители, благодаря выразительной интерпретации, могут увидеть в произведении высокие положительные качества, которых эта музыка решительно лишена… Такое впечатление произвело прекрасное актерское воплощение».
В созданной Шаляпиным широкой панораме оперных образов возникло художественное поле, как бы обрамленное двумя ярчайшими сценическими фигурами: символом Зла — Мефистофелем и символом Добра — Дон Кихотом. В этом пространстве оказались и мрачная фигура Филиппа II, и раздираемый мучениями долга и совести Борис Годунов, и Иван Грозный, и гротескный Дон Базилио с присущим ему лукавым коварством. «Мой Дон Базилио как будто складной, если хотите, растяжимый, как его совесть, — писал Шаляпин. — Когда он показывается в дверях, он мал, как карлик, и сейчас же на глазах у публики разматывается и вырастает жирафом. Из жирафа он опять сжимается в карлика — когда это нужно. Он все может — вы ему только дайте денег. Вот отчего он сразу и смешон, и жуток. Зрителя уже ничто в нем не удивляет. Его дифирамб клевете — уже в его фигуре».
Критика отмечала злободневность, современность образа Дона Базилио и вместе с тем видела в шаляпинской интерпретации вневременные черты, «комизм мелкого продажного мошенника и глубину ужаса, какую мы встречаем в типах Достоевского» (Ю. С. Сахновский), сравнивала Дона Базилио с главным героем «Мелкого беса» Ф. К. Сологуба.
Режиссер Вс. Э. Мейерхольд ценил в Шаляпине уникальную способность самостоятельно «достраивать» образ, психологически оправдывать даже самую нарочитую ситуацию благодаря виртуозному владению техникой постижения роли. Певец шел как от внешнего к внутреннему, так и наоборот — от внутреннего к внешнему, от глубокого эмоционально-психологического проживания духовной жизни персонажа к объемному, конкретно-достоверному драматическому характеру в его живой сценической плоти. Шаляпин и сам декларировал этот метод «материализации» воображения: «Я только тогда могу хорошо спеть историю молодой крестьянки, которая всю свою жизнь умиленно помнит, как когда-то давно, в молодости, красивый улан, проезжая деревней, ее поцеловал, и слезами обливается, и когда, уже старухой, встречает его стариком… когда воображу, что это за деревня была, и не только одна эта деревня, — что была вообще за Россия, что была за жизнь в этих деревнях, какое сердце бьется в этой песне».
Новый тип артиста утверждался в русском театре XX века параллельно с формированием режиссерского театра. Шаляпин же олицетворял на отечественной и мировой музыкальной сцене некую синтезирующую силу, которая воздействовала на спектакль изнутри, композиционно и концептуально скрепляла его, поднимала на уровень высочайшего художественного обобщения, превращала в целостный «художественный аккорд». Но достичь его даже Шаляпину было не всегда по силам.
Взыскательный художник требовал предельной творческой отдачи и даже подвижничества от своих партнеров, от дирижеров и хористов, от сценографов и оркестрантов. Характерно письмо Федора Ивановича В. А. Теляковскому 31 (18) января 1912 года: «Сознаюсь, что мне очень неприятно, или, вернее, жалко покидать Москву, но провинциальная жизнь, кружковщина этого города, всевозможнейшие сплетни и всякие мелочи, выросшие в последние два-три года здесь в такие колоссальные размеры, положительно давят и не знаешь, как на все реагировать… Когда я думаю о том, что мне пришлось заниматься здесь постановками, требующими большого хладнокровия и выдержки, — меня начинает брать страх, мною овладевает беспокойство, и я ясно понимаю, что все равно работать хорошо я не в состоянии, а петь кое-что и кое-как при отсутствии труппы, при отсутствии света в театре, при — опять повторю — провинциальной обстановке на сцене, — вполне отвечающей городской жизни, — при всех семейных артистах и хористках, штопающих чулки и спорящих о дороговизне овощей, — петь и играть, и тем более заниматься режиссерством — мне представляется совершенно невозможным — это уже в достаточной степени все надоело, и продолжать дальше в этом духе я не могу».
Несоизмеримость масштаба личности и таланта артиста с его театральным окружением — один журнал поместил карикатуру, изображающую артиста Гулливером, опутанным по рукам и ногам лилипутами, — рождала чувство неудовлетворенности и одиночества художника, опередившего свое время. «У нас не умеют ценить, беречь и уважать больших людей, — сокрушался критик Л. Добронравов. — Даже не любят их — скрытно, так где-то, на дне души. Как только станет заметен человек, виден всем и отовсюду — сейчас в него каждый норовит запустить комочек грязи. Удивительная черта!»
Глава 3 ЖИЗНЬ НА ДВА ДОМА
Театральная площадь в Москве опоясана толстым канатом на толстых столбах. В центре плац, где устраиваются военные парады по поводу приездов царского семейства. В сумерках толпы зрителей стекаются к Большому, Малому и недавно открытому Новому театру, подкатывают коляски, пролетки, ландо и кареты. На площади тесно. Кучера, споря, разводят спутавшихся лошадей, кричат городовые, устанавливая порядок движения. А публика все прибывает, многие приходят в надежде на лишний билет — когда поет Шаляпин, в колоннаде резво шныряют барышники-перекупщики. На время спектакля площадь затихает, но к полуночи из внезапно распахнувшихся дверей выходят возбужденные зрители. К ним кидаются извозчики, на бегу запрашивают цену, торгуются, уступают. Барские экипажи в очередь заезжают прямо в колоннаду главного подъезда. А среди толпы, как и в старину, бродят сбитенщики; в пояс, как гильзы, заправлены стаканы, к спине привязано нечто вроде самовара, от которого сыпятся искры и гаснут в стремительном воздушном потоке.
— Сбитень! Горячий сбитень! — раздаются хриплые голоса. Кучера и слуги в ожидании хозяев согреваются горячим напитком.
Но вот площадь снова пустеет, и только под козырьком служебного подъезда «поклонники таланта», ежась и притоптывая на морозе, ожидают выхода певца. Наконец появляется мощная фигура Шаляпина, в шубе нараспашку, в шумном окружении друзей. Аплодисменты, возгласы «браво!», восклицания, приветствия. Толпа как бы нехотя расступается, пропуская артиста.
Вроде бы ничего не изменилось в театральной Москве за минувшие десятилетия, «театр уж полон, ложи блещут» — как в пушкинские времена. Но так кажется только на первый взгляд. Город стал шумнее, многолюднее, центральные улицы и площади теснят новые доходные дома, огромные магазины. Вот и на Петровке вплотную к Малому и Большому театрам ломают старое здание: владельцы торговой фирмы «Мюр и Мерилиз» строят здесь современный универмаг. На Кузнецком Мосту заработала городская телефонная станция, по вечерам в центре зажигаются электрические светильники, призывная реклама, приглашают на представления «синематографа» первые «электротеатры». Улицы разрыты — идет прокладка водопровода, канализации, центрального отопления. Из окон высоких доходных домов слышны обрывки граммофонных записей, конки вытесняются трамваями, изредка, пугая лошадей, проезжают автомобили, ходят слухи о пуске в скором времени городской железной дороги — метрополитена: журналы публикуют фантастические иллюстрации — необычный поезд мчится по ажурной эстакаде на фоне Кремлевской стены.
В 1904 году газета «Русское слово» поместила объявление: «Нужна квартира-особняк, комнат 10–12. Отопление голландское. Местность по возможности центральная. Желательно бы сад. Сообщить письменно — Леонтьевский переулок, дом Катык, квартира Шаляпина».
Мечта о собственном очаге не оставляла певца. В 1907 году Шаляпины оставили квартиру в 3-м Зачатьевском переулке и поселились в доме Варгина на Скобелевской площади (здесь же откроется позднее студия МХТ), но прожили там недолго. В 1910 году Шаляпин наконец приобретает на имя Иолы Игнатьевны особняк на Новинском бульваре. Этот факт тотчас же освещает пресса:
Словно гений исполинский Обессмертил я Москву. Знаменит бульвар Новинский Тем, что я на нем живу.Новинский бульвар в ту пору украшали вековые липы и клены. Старинный особняк, привлекший внимание Шаляпина, — деревянный, на каменном фундаменте, оштукатуренный и окрашенный в палевый (розовато-желтый) цвет, крыша увенчана балюстрадой. Дом чудом уцелел во время пожара Москвы 1812 года. Его хотели снести в 1980-м, когда Москва готовилась к Олимпийским играм, но, видимо, вовремя одумались…
Перед тем как переехать на Новинский бульвар, дом основательно ремонтируют. Отопление должно быть печным — это важно для голоса певца. В доме появляются три ванные комнаты, проводится газ, устанавливается телефон с двумя аппаратами, один из них — в кабинете Шаляпина. Иола Игнатьевна заводит новинку того времени — пылесос, правда, ни сама хозяйка, ни прислуга так и не освоили это изобретение.
Решающим аргументом в пользу покупки усадьбы на Новинском бульваре стал большой, в десятину, сад. В нем росли каштаны, тополя, рябины, яблони, груши, малина, смородина. Зимой дети катались в саду на санках, весной и летом на велосипедах. В хорошую погоду стол накрывали в беседке. Шумел самовар, гости за чаепитием обсуждали семейные, театральные и политические новости. Друзьями дома были в ту пору В. А. Серов, С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, М. Горький, А. М. и В. М. Васнецовы.
Валентин Серов за беседой постоянно что-то набрасывал; после его ухода Иола Игнатьевна вытаскивала рисунки из корзины для бумаг, разглаживала и окантовывала.
Уклад жизни Шаляпиных типично московский — открытость, радушие, хлебосольство. Здесь делились душевностью и теплотой не только со знаменитостями. Семья большая, в нее входили люди «из другой жизни» — той, что предшествовала восхождению Шаляпина на театральный Олимп. Много лет жила в доме Людмила Родионовна Шишкова (Харитонова), его крестная. На правах близкого родственника обитал здесь Иван Петрович Пеняев (Бекханов), с которым судьба столкнула Федора еще в Уфе. В 1900-х годах Иван Пеняев написал биографию Шаляпина и выпустил ее отдельной брошюрой. Теперь он жил у артиста «на хлебах» и «заведовал» библиотекой, за что получал жалованье. Библиотека большая, значительную ее часть составляли книги, подаренные в разное время Горьким.
Друг семьи — гувернантка-немка Лелечка — Антонина Матвеевна Экк. В 1916 году торжественно отмечалось десятилетие ее службы у Шаляпиных. «Я пожалел, — писал из Петербурга Федор Иванович, — что меня не было. Эта Леля — прекрасное существо, я ее очень люблю, и мне хотелось бы принять участие в ее чествовании».
Дети Шаляпиных учились музыке, рисованию, разным искусствам. Борис, названный в честь лучшей роли отца — Бориса Годунова, станет впоследствии известным художником, Федор — киноактером, дочери увлекутся сценой. Как уже говорилось, Федор Иванович превосходно рисовал. Его письма детям обычно сопровождались смешными автошаржами, фигурками людей, животных.
Любимое занятие — игры «в театр». Приятель Шаляпиных актер и режиссер Николай Львов вспоминал: каждый артист домашней труппы имел свое амплуа. Ирина — «страдающая героиня», Лидия обычно играла мужские роли героев-освободителей. Самому Львову доставались сказочные злодеи вроде Кощея Бессмертного. Танцевать «артистов» учила, разумеется, Иола Игнатьевна. Выступали не только дома, но и на разного рода благотворительных вечерах. На концерте «Дети в пользу детей» девочки Шаляпины в напудренных париках и кринолинах (платья шились самой знаменитой в Москве портнихой и театральной художницей Надеждой Ламановой) исполняли менуэт. Иола Игнатьевна ставила детскую оперу А. Меттельштетта «Сказка о мертвой царевне». Перед Рождеством в доме царила веселая суета, дети примеряли нарядные костюмы Месяца, Солнца, скоморохов. Спектакли готовили к показу в Литературно-художественном кружке на Большой Дмитровке. Особый успех имели младшие лицедеи — близнецы Татьяна и Федор.
Между тем в Петербурге у Шаляпина возник другой дом, рядом с Мариинским театром. Федор Иванович и здесь по-московски гостеприимен. «Дорогой Владимир Николаевич, — пишет он 13 ноября 1912 года замечательному актеру Александрийского театра Давыдову. — Очень прошу тебя сделать удовольствие искренне тебя любящему Федору. Приезжай, пожалуйста, ко мне завтра в 8 часов вечера — молодой Волькенштейн будет читать свою пьесу — будут твои знакомые и друзья… Кроме пьесы, знакомых и друзей будет также вино и прочее угощение. Живу я на Никольской площади против церкви Николы Морского. Крепко целую тебя. Искренне твой Федор Шаляпин».
Дом вела энергичная и властная Мария Валентиновна, здесь росли ее дети от первого брака Стелла и Эдуард, здесь недавно родились Марфа и Марина. Надо отдать должное участникам этой непростой коллизии — Федору Ивановичу, Иоле Игнатьевне, Марии Валентиновне. Они вели себя достойно. Первая семья не знала никаких забот. На Рождество — праздник традиционно домашний — Федор Иванович всегда приезжал в Москву. В доме на Новинском — елка, соседские дети, друзья, знакомые, игры и танцы до упаду.
О разводе речь до определенной поры не заходила, но тем не менее Иола Игнатьевна считала, что дочери Марии Валентиновны и Шаляпина должны носить фамилию отца. Решение этого вопроса зависело не только от доброго согласия законной жены — последнее слово оставалось за императором всея России Николаем II. Оно и зафиксировано в подписанном им 20 июля 1916 года «Указе Правительствующему сенату»: «Снисходя на Всеподданнейшее ходатайство солиста Нашего артиста Императорских театров Федора Шаляпина, Всемилостивейше повелеваем внебрачным дочерям его Марине и Марфе, прижитым им с вдовою сына Казанского купца Мариею Петцольд, принять фамилию просителя, а также и отчество по его имени, пользоваться правами потомственного почетного гражданства и вступать, по отношению к нему, во все права и обязанности детей усыновленных».
Личная жизнь Шаляпина — сюжет, сильно волнующий журналистов, критиков, его биографов и обсуждаемый подчас едва ли не меньше, чем созданные им сценические шедевры. И это неудивительно. Творчество артиста публично, и потому каждый из публики полагает себя вправе знать о своем кумире всё — ведь личное, творческое, бытовое, социальное тесно переплетено в артисте, так или иначе выплескивается в его художественных откровениях. А уж просто желающих с праздным обывательским интересом вторгнуться в приватную сферу существования своего кумира всегда предостаточно.
Надо отдать должное Федору Ивановичу: поводов для скандальных сенсаций он никогда не давал, журналистам приходилось довольствоваться лишь слухами, сплетнями, домыслами, предположениями, непроверенными свидетельствами неведомых очевидцев, просто сомнительными источниками. Хотя уже на склоне лет Федор Иванович, рассуждая с дочерью Лидией о кодексе мужской чести, весело замечал, что уважающий себя мужчина обязан идти навстречу желаниям женщины — иначе он не может считать себя джентльменом.
Между тем возникшее и стабильное существование двух семейных домов Шаляпина не могло не вызывать интереса не только любопытствующего обывателя, но и серьезных исследователей жизни и творчества артиста: ибо совокупность художественных, этических, психологических, характерологических качеств, природных и приобретенных опытом взглядов, вкусов, житейских поведенческих установок и создает полное представление о личности художника. Из множества интерпретаций, циркулирующих в мемуарном, эпистолярном, литературном и исследовательском обороте, наиболее глубокими представляются суждения вдумчивого исследователя жизни и творчества Шаляпина А. Я. Тучинской, ее характеристики «действующих лиц» семейной драмы и понимание мотивировок их поведения и поступков.
Иола Ло Прести, по сцене Торнаги, была, как известно, приглашена С. И. Мамонтовым в 1896 году на гастрольные спектакли Частной оперы в Нижнем Новгороде и вскоре вышла замуж за премьера труппы Федора Ивановича Шаляпина. Обоим в ту пору исполнилось 23 года.
«Подруга и жена национального русского гения, родившая шестерых его детей, она обрела дом не в своей теплой Италии, а в холодной, чужой России и чудом уцелела в трагических перипетиях российской истории, — пишет А. Я. Тучинская. — Умерла в Италии, куда вернулась за несколько лет до смерти в том возрасте, когда она уже не в силах была распоряжаться своей судьбой. Отказавшись от родины, от собственной артистической карьеры, Иола Торнаги-Шаляпина выбрала свой путь — путь любви и самоотверженности и не избежала на этом пути разочарований и потерь. Иола Торнаги была красавицей и сильной личностью. И если балетную карьеру она без сожалений оставила, трезво оценив свои шансы в ситуации европейского театра, то свое положение жены и главы знаменитого российского семейства она не собиралась уступать никому… Она хорошо знала, кого выбирала себе в мужья, знала и часть своей вины в их разрыве, а жалобы свои изливала только в дневнике да в письмах к родным… Иола Игнатьевна была артисткой, став женой и матерью, она, словно компенсируя неблагополучие собственного детства, построила свою семейную жизнь как примерная буржуазка: со священным авторитетом отца, с незыблемостью домашнего очага и с эксклюзивным правом на имя знаменитого мужа. Она придумала идеальную схему их общей жизни и страдала от выпадения из этой схемы».
А. Я. Тучинская тесно связывает «семейный сюжет» с творческой судьбой артиста: «Что и говорить, великий Шаляпин не был ангелом, а на сцене ему чаще приходилось являться и вовсе чертом: то Мефистофелем, то Демоном, да и цари его — Иван Грозный, Борис Годунов бросали вызов божественному предназначению. И тем не менее в том, что Шаляпин зажил на две семьи, или, как он сам говорил, стал „весьма женат“, была закономерность… Творческое напряжение, в котором проходила его жизнь, было залогом его успеха. Но оно же было источником постоянной неуверенности в себе, страха перед потерей голоса и вообще болезнью. И в нем коренилась причина огромного опустошающего одиночества артиста. Именно момент жуткого рубежа между реальностью и фантазией — момент выхода на подмостки — был для него желанен и ужасен, да так никогда и не стал для него рутинным. Его близкие вспоминали, что, уже приобретя мировую славу, Шаляпин мог из мнительности отменить спектакль, и его нужно было едва ли не выталкивать на сцену. Он все больше нуждался в постоянной заботе о себе.
Мария Валентиновна вошла в его жизнь именно тогда, когда его гастрольная деятельность все больше приобретала черты постоянного образа жизни… Она… разделила артистическое кочевье Шаляпина, вовсе для нее непривычное: в переездах, на репетициях, на спектаклях, в капризах и болезнях, радостях и неудачах — она всегда рядом. Она приняла его и его жизнь такими, какими их узнала».
Иола Игнатьевна оставалась Шаляпину надежным другом. Об этом свидетельствует многолетняя переписка на русском и итальянском языках. В Москву летят письма Шаляпина на бланках американских, европейских отелей. Дом на Новинском — семейная крепость. Здесь все устойчиво, стабильно, прочно.
Недалеко от дома Шаляпиных жила семья композитора Михаила Акимовича Слонова, с которым певца познакомил Рахманинов. Шаляпин и Слонов с первой встречи прониклись друг к другу симпатией и уже в 1903 году вместе совершили большую морскую поездку в Африку. Композитор, либреттист, автор переводных текстов многих вокальных произведений, Слонов стал другом Федора Ивановича, помощником и творческим единомышленником. Он посвятил певцу два своих лучших романса — «Ах ты, солнце, солнце красное» и «Прощальное слово». Шаляпин часто включал их в концертный репертуар. Со Слоновым работал певец над первыми грамзаписями 1902 года: в обработке Михаила Акимовича он выпустил пластинки «Ноченька» и «Ах ты, солнце, солнце красное».
Сын Михаила Акимовича Юрий, в будущем тоже композитор, — ровесник и друг детей Шаляпиных. Из церковного дома в Кудринском переулке, скромного обиталища Слоновых, рукой подать до Новинского бульвара — стоит лишь пробежать садами за старой церковью бывшего Новинского монастыря, по Девятинскому переулку, мимо водопроводной колонки. Рано лишившийся матери, Юра Слонов бывал здесь чуть ли не ежедневно, всегда ощущая заботу Иолы Игнатьевны. С Федором-младшим Юрий увлеченно занимался фотографией, они вместе ходили на спектакли в Большой театр — в электробудке для них всегда находились места.
«Уютный и складный был наш домик, — вспоминала старшая дочь певца Ирина Федоровна, — его усиленно стали посещать многочисленные друзья и знакомые Федора Ивановича; в нем собирались интереснейшие люди нашего времени…
Я любила утром зайти к отцу в комнату, отдернуть занавески и взглянуть на него; а он, щурясь и потягиваясь, улыбался мне, а затем начинал распеваться сначала на пианиссимо, а потом, вздохнув полной грудью, пробовал голос в полную силу…
Выпив чай, просмотрев газету, поиграв с Булькой и поговорив с ним на каком-то особом „собачьем языке“, отец вставал и принимал душ; сразу не одевался, а долго еще расхаживал в длинном шелковом халате, делавшем его и без того высокую фигуру еще выше. На ноги он неизменно надевал „мефистофельские“ туфли из красного сукна с острыми, загнутыми кверху носами — он их принес из театра и носил вместо комнатных».
Бывая в Москве наездами, Шаляпин теперь реже видится с друзьями и особенно ценит общение с ними. Когда появлялся Федор Иванович, жизнь в доме преображалась, царило приподнятое настроение, звенел телефон, хлопала входная дверь, толпились разного рода посыльные, чиновники, торговцы. С Ф. Ф. Кенеманом певец запирался в зале работать над предстоящим концертом. Приходили молчаливый Серов, всегда оживленный Коровин; беседовали в кабинете Федора Ивановича, в столовой за обедом, который незаметно, в шумных беседах переходил в ужин. Если же вечером Шаляпин выступал, то отметить успех по старому московскому обычаю отправлялись в «Эрмитаж» или «Метрополь», а уж оттуда домой, играли в бильярд, пели, засиживались, бывало, до утра.
Иногда после разъезда гостей дети слышали у дверей своей спальни осторожные шаги отца. Кто-нибудь просыпался, включал свет — начинались тихие ночные разговоры. Федор Иванович рассказывал детям сказки, увлекался, жестикулировал. На шум приходила встревоженная Иола Игнатьевна и восстанавливала порядок.
Общение с друзьями, домочадцами — прекрасная разрядка после тяжелого напряжения и высокого художественного взлета, которым обычно отличался каждый шаляпинский спектакль. Зато самыми трудными днями для семьи, вспоминает Ирина Федоровна, были те, которые предшествовали ответственным выступлениям певца. Тогда решительно все обитатели дома считали за благо не попадаться Федору Ивановичу на глаза.
Однажды певцу показалось, что он не в голосе и потому надо немедленно отменить «Бориса Годунова». По счастью, сообщить об этом в режиссерское управление Большого театра оказалось некому: секретарь и друг Федора Ивановича певец Исай Григорьевич Дворищин благоразумно исчез… А к вечеру недомогание как рукой сняло. И, взяв с собой старшую дочь Ирину, в ту пору еще гимназистку-шестиклассницу, Федор Иванович отправился в театр.
«Борис Годунов» шел легко, вдохновенно, в антракте сцену завалили цветами. Но Шаляпин за кулисами опять впал в тоску — в только что завершившемся эпизоде ближний боярин неточно подал реплику. Певец нервно ходит из угла в угол; нарастают раздражение и гнев.
— Не могут двух фраз выучить… Неужели это так трудно? Ну что же мне остается — ругаться? Нельзя, скажут: Шаляпин хам. Завтра во всех газетах сенсация: «Шаляпин скандалист». Значит: терпи, а я так не могу!
Но вот дверь гримерной осторожно отворяется — входят К. А. Коровин, В. А. Гиляровский, критик Ю. С. Сахновский, артист М. И. Шуванов — объятия, поздравления. Шаляпин успокоился, развеселился, и спектакль спасен!
После многочисленных выходов, прорвавшись сквозь кордоны поклонников, артист отправляется домой. Друзья уже здесь. Исай Дворищин привозит из театра цветы, корзины, подношения. В прихожей слышны звонки — после своих спектаклей приезжают актеры И. М. Москвин, Б. С. Борисов, А. А. Менделевия. Теплые объятия, лобзания, приветствия, ужин, тосты…
— Ну, а теперь надо закончить вечер оперой, — провозглашает хозяин дома и, водрузив на плечо графин, ведет шествие вокруг стола: «Ходим мы к Арагве светлой каждый вечер за водой…» За Шаляпиным Москвин, за ним все остальные двинулись по комнатам и снова с пением возвратились в столовую…
1914 год Шаляпин традиционно встречал на Новинском бульваре. В эти январские дни он пел на сцене Большого театра Бориса Годунова и Дона Базилио. Первая партия хорошо знакома публике, вторая создана певцом сравнительно недавно, но сразу покорила москвичей. Один из рецензентов называл шаляпинского Базилио смешным и одновременно жутким. Замечателен был грим, особенно руки Базилио с крючковатыми ощупывающими пальцами — «руки эпохи», как выражался Коровин. Пушкинский Моцарт, как известно, предлагал в минуты печали «откупорить шампанского бутылку иль перечесть „Женитьбу Фигаро“». Рецензент «Рампы и жизни» дает публике еще один совет — «посмотреть Шаляпина в „Севильском цирюльнике“».
В добром настроении, в ожидании нового успеха отправился Шаляпин в Петербург. Выступления в Северной столице — событие. С вечера на Театральной площади в ожидании открытия кассы подъезды Мариинского театра осаждает толпа. Перекупщики билетов предлагают свои услуги. Сделка совершалась в ближайшей подворотне или в закоулках Никольского гостиного двора. «Как известно, легче добиться конституции, чем билета на спектакли Мариинского театра, — острил один из журналистов. — Во всяком случае, и тут и там человек должен отречься от всех удобств жизни и не дремать. Вокруг этого театра орудуют какие-то театральные Лидвали (архитектор Лидваль, скандально известный финансовыми махинациями. — В. Д.), забирающие в свои руки все билеты… За кресло седьмого ряда они теперь спрашивают пятьдесят рублей. Каким образом, однако, билеты на этот спектакль все-таки попали в руки барышников? Ведь билеты не поступали даже в кассу, а заранее были расписаны между постоянными посетителями, — недоумевал журналист. — Неужели и постоянные посетители… все эти великосветские сановные звездоносцы подторговывают театральными билетами?»
Когда в 1909 году Шаляпин приехал в Петербург, он поселился вместе со второй семьей недалеко от Мариинского театра, в доме 10 на Крюковом канале певец снимал меблированные комнаты на первом этаже в светлом трехэтажном здании. Торговый мост с изящными фонарями на узорчатых чугунных кронштейнах, по каналу сновали небольшие лодки, в спокойной воде отражалась легкая колокольня Никольского собора, вдалеке виднелся силуэт голубого купола Троицкого собора. Рядом — старинный Никольский гостиный двор.
На другом конце Крюкова канала вблизи Новой Голландии жил Эдуард Францевич Направник, дирижер Мариинского театра, в этом же доме снимала квартиру балерина Т. Карсавина, на Торговой улице жил певец И. Тартаков, на Малой Подьяческой — певец В. Шаронов, на близлежащем Английском проспекте — балерина Анна Павлова и артистка Вера Федоровна Комиссаржевская, рядом, на Офицерской улице, — ее театр.
Как обычно, когда Шаляпин приезжал в Петербург, многие хотели с ним увидеться и уже с утра толпились в гостиной. Среди них — пианист М. А. Бихтер. «Несколько человек ожидали Федора Ивановича, подобно тому, как в древности ожидали выхода царя. Был час пополудни. Говорили тихо. Но вот отворилась правая дверь и к нам вышел молодой великан-славянин. Одет он был в утреннюю одежду, ибо только что поднялся с постели. Сквозь распахнувшийся халат видна длинная до пят рубашка с великолепно расшитым в манере Рериха подолом. И тут все иное перестало существовать для нас, и глаза все мгновенно устремились к вошедшему. Некоторое время Шаляпин разговаривал с ожидавшими. Но вот посетители разошлись, и мы остались одни. Он подвел меня к роялю и сел рядом слева… Сердце мое билось, руки дрожали, когда я услышал шаляпинский голос. Как описать его? Он не был звучен, наоборот — звучал глуховато, сипловато и изредка напряженно. Но оттенок голоса, в основном окрашенный в трагические тона, всегда слышавшийся из глубины его существа многоцветной, желанной правдивостью, заключал в себе как бы массу разнородных голосов, воплощающих трагическую сторону бытия русского народа. Он звучал то трубным звуком, то жалобой, то примирением, то ужасом, то непреодолимым влечением захватывал слушателя, не оставляя ему хотя бы частицы внимания ни для чего другого. Очевидно, этим свойством дарования, которое воплощало творческий синтез родников народного (недеревенского) пения, Шаляпин и привлекал к себе стремительный вихрь внимания».
Над Европой неотвратимо нависла опасность войны, но в реальность ее верить не хотелось. Положение Шаляпина как артистической звезды первой величины, желанного гастролера в любой точке земного шара упрочилось. Продолжительные турне, солидные контракты…
В мае 1913 года состоялся новый оперный Русский сезон С. П. Дягилева. На сцене Театра Елисейских Полей в Париже целый месяц шли «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского. Премьера «Хованщины» давалась в музыкальной редакции И. Ф. Стравинского и Мориса Равеля. Шаляпин, впрочем, попросил оставить свою партию Досифея в редакции Н. А. Римского-Корсакова. Ему пошли навстречу, понимая, что главный интерес публики будет прикован к гениальному артисту. За кулисами Федора Ивановича навещают поклонники и почитатели, литераторы, музыканты, критики, в их числе известные писатели Эдмон Ростан и Марсель Прево.
Атмосфера парижских сезонов празднична. Дирижер Д. И. Похитонов вспоминал о прощальном банкете, на котором присутствовали не только ведущие артисты труппы, но и два хора, участвовавших в спектаклях, — русский и французский. «В заключение выступил Шаляпин на французском языке. Когда он сказал, что в России существует обычай, выражая пожелания здоровья и долголетия, петь особую небольшую песню, я, предупрежденный заранее, вскочил на стол, задал тон, и русский хор грянул „Большое многолетие“… Торжество закончилось пением „Марсельезы“. После банкета оба хора, артисты во главе с Шаляпиным, дирижер Купер, французские хормейстеры и я сфотографировались общей группой на крыше театра, на фоне Эйфелевой башни».
Из Парижа труппа С. П. Дягилева переезжает в Лондон — предстояло первое серьезное выступление Шаляпина в столице Великобритании. (Раньше ему довелось выступать в Лондоне в частном доме.) «Это несколько тревожило меня за судьбу русских спектаклей, но в то же время и возбуждало мой задор, мое желание победить английский скептицизм ко всему неанглийскому. Не очень веря в себя, в свои силы, я был непоколебимо уверен в обаянии русского искусства, и эта вера всегда со мной… Я был дико счастлив, когда после первой картины „Бориса Годунова“ в зале театра раздались оглушительные аплодисменты, восторженные крики „браво!“. А в последнем акте спектакль принял характер победы русского искусства, характер торжественного русского праздника. Выражая свои восторги, англичане вели себя столь же экспансивно, как итальянцы, — так же перевешивались через барьеры лож, так же громко кричали, и так же восторженно блестели их зоркие, умные глаза».
«Борис Годунов», «Хованщина», «Псковитянка» прошли триумфально. Продюсеры наперебой предлагают Федору Ивановичу выгодные контракты. Король Англии приглашает артиста в свою ложу; Шаляпин дает концерт в Букингемском дворце для королевской семьи.
Спустя год артист снова в Лондоне. Кроме «Бориса Годунова» и «Псковитянки» труппа С. П. Дягилева показывает «Князя Игоря». Шаляпин впервые исполняет две партии — Кончака и Галицкого. И снова — триумфы, визиты, приемы, обеды… Федор Иванович пишет М. Ф. Волькенштейну: «Ну что тебе сказать о сезоне?! 5+++++ вот отметка за спектакли. Я, в добрый час сказать, — нанизываю здесь мои спектакли, как жемчуг, один к одному, который лучше — не знаю». Быть может, никогда Шаляпин не был столь уверен в завтрашнем дне, в творческом и житейском благополучии. Из Лондона он уезжает в Париж, чтобы отправиться в Карлсбад на курорт…
…Весть о начале войны застала артиста в пути, на маленьком полустанке. Поезда остановились, экипажи и автомобили реквизированы на нужды армии. Оставив при себе лишь самое необходимое, Шаляпин пешком добрался до Парижа, временами подсаживаясь на попутные повозки. Из французской столицы удалось вернуться в Лондон, а оттуда через Скандинавию — в Петербург, уже переименованный в Петроград. 7 сентября друзья, поклонники, репортеры встречали певца на перроне Финляндского вокзала.
— Завтра уезжаю в Москву, но на днях возвращусь к вам, чтобы устроить концерт в пользу наших раненых героев — это мой святой долг, — заявил Шаляпин газетчикам.
Певец рассказывал о своем возвращении из Европы: на корабле все были одеты в спасательные пояса, в море выходили с притушенными огнями, остерегались обстрела немецкими минами. Весь багаж утерян, но сохранилось главное — театральные костюмы.
Москва и Петроград взвинчены массовым истеричным «патриотическим» подъемом. Улицы, площади, скверы заполнены митингующими. Ораторы в пафосном крике предрекают молниеносную победу «русским орлам». А тем временем черносотенцы и мародеры грабят лавки, магазины, издательства владельцев, носящих немецкие фамилии; особенно «страдают» винные погреба и склады — погромы и бесчинства «освящаются» пьяным пением «Боже, царя храни!» и призывами к национальному сплочению…
Журнал «Рампа и жизнь» печатает портрет первого раненого воина-артиста, газеты публикуют списки погибших и искалеченных в боях. В Москве, в доме на Воскресенской площади, где некогда жила семья Шаляпина, разместился лазарет, созданный на средства Художественного театра, небольшой госпиталь открывает Л. В. Собинов. Объявлены «дни флажков»: артисты-знаменитости продают символические флажки в пользу жертв войны. В. В. Лужский, И. М. Москвин, Н. Ф. Балиев собрали 14 тысяч рублей. В цирке Саламонского на Цветном бульваре театральные звезды устраивают благотворительный вечер, балерины скачут на лошадях, актеры Малого театра выступают в качестве дрессировщиков. «Кумиры публики» М. Н. Ермолова, В. И. Качалов, пианист К. Н. Игумнов организуют в Литературно-художественном кружке на Большой Дмитровке «музыкальный чай» в пользу раненых.
«Сегодня на квартире Ф. И. Шаляпина, — сообщает репортер „Биржевых новостей“, — состоится заседание для обсуждения вопроса помощи раненым. Предполагается учредить два лазарета имени Шаляпина, в Петрограде и в Москве. Каждый лазарет будет рассчитан на 25 кроватей. С этой целью Шаляпиным будет устроен ряд концертов и спектаклей, в которых он лично будет участвовать, и кроме того, привлечет также и другие артистические силы». В Петрограде лазарет разместился в помещении Екатерининского собрания и просуществовал до конца 1916 года; в Москве под лазарет переоборудовали флигель на Новинском бульваре, на его открытие приехал городской голова. И. Ф. Шаляпина вспоминает: «Увидев, насколько хорошо был оборудован лазарет, он предложил Федору Ивановичу предназначить его для офицеров, на что отец ответил: „Вот потому именно, что лазарет оборудован хорошо, здесь будут лечиться солдаты“. Так оно и было. Федор Иванович часто навещал своих раненых, беседовал с ними, рассказывал забавные случаи из своей жизни, раздавал подарки. В этом лазарете всю войну работала вся наша семья, помогая, чем возможно, и ухаживая за ранеными». Солдаты, в основном крестьяне и рабочие, очень полюбили Шаляпина, вели с ним долгие беседы. К. А. Коровин вспоминал: «Доктором в лазарет Шаляпин взял Ивана Ивановича Красовского. Беседовал с ранеными и приказывал кормить их хорошо. Велел делать пельмени по-сибирски и часто ел с ними вместе, учась у них песням, которые они пели в деревне. Когда пел:
Ах ты, Ванька, разудала голова. На кого ты меня, Ванька, покидаешь. На злого свекора… —я видел, как раненые плакали».
За ранеными ухаживает вся семья. В годы войны в лазаретах Шаляпина поправили здоровье около четырехсот солдат.
В Большом театре Шаляпин дает концерт в пользу раненых. Зал переполнен. В ложе дирекции — дочери певца в белых платьях и косынках сестер милосердия, сыновья — в халатах санитаров. Артист выступает в сопровождении оркестра под управлением М. М. Ипполитова-Иванова и вокального квартета братьев Кедровых. Публика бурно встречает «Марсельезу» — гимн союзной Франции.
Патриотические настроения оказывают влияние на художественную жизнь российских столиц. С театральных и концертных афиш исчезают произведения немецких авторов. Это радует далеко не всех. Музыкант Ю. С. Сахновский утверждает: «Не может быть речи о каком-либо бойкоте в связи с настоящей войной. Немецкая классическая музыка служила светочем нашей отечественной музыки, и в будущем не следует лишаться ее во вред себе». Композитору А. Т. Гречанинову мысль о бойкоте представляется абсурдной. А. Н. Корещенко менее широк во взглядах: он защищает немецких классиков, но выступает против исполнения современной музыки Рихарда Штрауса и Рихарда Вагнера, «возвеличивающих Германию». Пианист и педагог Н. Н. Орлов полагает, что дискриминация немецкой музыки даже полезна: она освобождает пространство для музыки отечественной. Дирекция императорских театров на чрезвычайном совещании принимает кардинальное решение: оставить в афише только оперы русских композиторов.
В октябре 1914 года Шаляпин выезжает в Варшаву с концертом в пользу пострадавшего от войны населения царства Польского. Публика театра стоя приветствует артиста. Юрий Беляев сопровождает Шаляпина в поездке и подробно освещает ее в «Новом времени»:
«Вообще, в этот памятный для варшавской публики вечер местная педантичная Филармония увидала и услыхала сразу столько неожиданностей, что официальное выражение ее сразу как будто размякло и потеплело. Нельзя же было, в самом деле, остаться равнодушным к „классическому“ пианиссимо волжской „Дубинушки“, к запевале в „Как по ельничку“, к расшалившемуся Шаляпину, который был рад-радешенек посмешить и сам посмеяться…
На следующий день наши певцы (Шаляпин и квартет Кедровых. — В. Д.) отправились к ближайшему полю окрестных битв — к историческому Рашину. Здесь они осматривали разрушенный немцами древний костел, окопы, братские могилы.
Все вернулись в Варшаву под огромным впечатлением».
Еще до войны, в 1913 году, Ф. И. Шаляпин, М. Ф. Андреева и известный актер Н. Ф. Монахов встретились после дневного спектакля «Севильский цирюльник» в Большом театре. Дочь Марии Федоровны Андреевой Е. А. Желябужская вспоминала: Шаляпин размышлял о создании нового театра, Андреева намечала роли, которые он мог бы играть в драме, «…и вот тогда, мне кажется, впервые зародилась идея театра трагедии, театра высокой романтической драмы, театра, который должен был учить и воспитывать зрителя, нести ему лишь самые высокие образцы драматической литературы».
Вездесущие репортеры тут же сообщили о новой «синтетической труппе», объединявшей артистов всех жанров сценического искусства, называли имена: Н. Ф. Монахов, Ф. И. Шаляпин, А. Г. Коонен, Ю. К. Балтрушайтис, Э. Дузе, С. Бернар, Т. Сальвини. Уже весной 1913 года Шаляпин сообщал Горькому: «Достали много денег, собрали огромную труппу, устраивали пробу — на пробе было до 1000 человек. Наконец, выбрали более способных, и будут играть всё, то есть оперу, оперетту, комедию, драму и трагедию. Дай им Бог, но я все-таки отношусь к этой затее скептически. Дело начать не хитро, но тяжело все-таки сделать его без школы. У нас сейчас очень много школ, и каких угодно, но самой той, которая именно нужна, и нет… Очень хотелось бы мне устроить школу — мечтаю об этом, да, может быть, и сумею это сделать».
В ноябре Шаляпин побывал на репетиции «Сорочинской ярмарки» Мусоргского в недавно родившемся Свободном театре — он разместился в помещении театра «Эрмитаж». Труппу возглавил К. А. Марджанов, талантливый режиссер, пламенно мечтавший о синтетических, праздничных зрелищах. Пригласил Шаляпина в театр, вероятнее всего, А. А. Санин, хороший его приятель, когда-то режиссер МХТ, потом много и удачно ставивший массовые сцены в спектаклях Русских сезонов С. П. Дягилева. (Любопытно: в судьбе Санина, как и в судьбе Шаляпина, важную роль сыграл Савва Иванович Мамонтов. Робким, бедно одетым студентом пришел Санин когда-то к Мамонтову с признанием: «Я обожаю театр, но у меня нет средств его посещать». «Запишите фамилию и давайте ему всегда место», — кивнул Мамонтов театральному кассиру.)
Репетицию «Сорочинской ярмарки» Шаляпин смотрел с клавиром в руках. Ему понравились простота и правдивость режиссуры, оригинальная трактовка оперы. Певец беседовал с участниками будущего спектакля, а в ответ на просьбы спеть исполнил арию Дона Базилио на итальянском языке и русскую народную песню «Помню, я еще молодушкой была». Репортер записал его прощальную фразу: «Я приветствую начинания Марджанова и Санина, бегущих от ремесленничества, равнодушия и формализма в искусстве, столь мне ненавистных».
После «Сорочинской ярмарки» Шаляпин видел в Свободном театре пантомиму А. Шницлера и Э. Донаньи «Покрывало Пьеретты» в постановке молодого А. Я. Таирова и также отозвался о спектаклях с теплотой.
С возвращением в 1913 году в Россию Горького и завершением зарубежных гастролей Шаляпина восстанавливаются их тесные связи с Московским Художественным театром. В молодые годы К. С. Станиславский сам тяготел к опере, входил в мамонтовский кружок, учился пению у Ф. П. Комиссаржевского и даже репетировал партию Мефистофеля. Константин Сергеевич дружит со многими музыкантами, в том числе с С. В. Рахманиновым. «То, что завершено Шаляпиным в смысле слияния драмы, музыки и вокала, нужно сделать общим достоянием… Синтеза в искусстве, особенно в театральном, очень редко кто достигал, — говорил Станиславский. — Я мог бы назвать одного Шаляпина, да и то не во всех ролях. Но стремиться к нему необходимо».
К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко считали: только синтез трех составных частей оперного искусства — музыки, пения и актерской игры — может создать подлинно художественный оперный спектакль, воплощающий «правду чувств», «жизнь человеческого духа» на музыкальной сцене.
Дружеские отношения Шаляпина со многими мхатовцами сложились еще в пору, когда молодой певец Мамонтовской оперы «стену колотил от восторга» после открытия МХТ. С Иваном Михайловичем Москвиным Шаляпин любил импровизировать сцены-шутки.
Творческие пристрастия сближали Шаляпина с МХТ, с М. Горьким, А. И. Зилоти, С. В. Рахманиновым, их объединяли стремление к художественному просветительству, желание всемерно расширить пространство искусства, увлечь им широкие слои публики. Логика этих устремлений закономерно приводит артиста к самому популярному и самому общедоступному искусству той поры — кинематографу.
Глава 4 В СОАВТОРСТВЕ С ГОРЬКИМ
В 1915 году исполнилось 25 лет сценической деятельности Шаляпина. Репортеру «Биржевых ведомостей» Шаляпин ответил: не время говорить о юбилее, когда на фронте гибнут миллионы людей. Однако публика настаивала, да и Горький убеждал Шаляпина: юбилей не частное его дело, а событие большого культурного значения. Из Мустамяк Горький писал Александру Ильичу Зилоти: «Был у меня Федор, говорил мне по поводу юбилея его, он сообщил мне о Вашем добром участии в этом деле, так хорошо задуманном им. Я уверен, что из этого дела можно устроить прекрасный культурный праздник, тем более прекрасный, что он будет сделан в дни всеобщего одичания и озверения. Предлагаю Вам себя сотрудником в этой сложной работе».
22 октября 1915 года в Мариинском театре торжественно отметили 25-летие со дня первого выступления Шаляпина в 1890 году в Уфе. Горький оказался прав: в эти трудные дни для России современники оценили, какой огромный вклад вносит Шаляпин в русское искусство. «Мы сами нуждаемся в оценке, чтобы отчасти дать себе отчет в прошедшей перед нами исторической картине, отчасти укрепить свои силы в сознании величия русского искусства. В такие великие исторические моменты, как ныне переживаемый, в момент величайшего напряжения духовных сил, в момент борьбы не только физической, но и духовной, культурной — в такие минуты оглянуться на себя, на свое родное достояние необходимо для того, чтобы почерпнуть силы для дальнейшей борьбы. Шаляпин принадлежит не только себе, но и нам. Мы видим в нем воплощение нашей гордости, нашей славы», — писал известный критик Н. Малков в петроградском журнале «Театр и искусство».
Проблема свободы личности находилась в центре этической мысли начала XX века. В массовом сознании все большие симпатии завоевывает героико-романтический образ художника-ниспровергателя, и Горький становится персонифицированным символом «смутного времени»: он автор пламенно читаемых на митингах, маевках, рабочих и студенческих сходках «Песни о Буревестнике», «Песни о Соколе», «выходец из народа», «ярчайший представитель социального „дна“», «самородок» — как его рекомендуют критики и журналисты, к тому же еще недавно амнистированный властью «государственный преступник», бывший заключенный Петропавловской крепости, «жертва режима» и одновременно его грозный обличитель, вынужденный жить вдали от родины…
Интерес к Горькому в России и на Западе велик, его преследуют журналисты, репортеры, от него настойчиво требуют «рассказов о жизни». Еще в начале 1890-х годов у Горького возникает намерение написать исповедальный биографический очерк, но осуществить замысел удается только спустя почти два десятилетия.
Практически все сюжетные мотивы прозы Горького обусловлены событиями собственной жизни. В автобиографической трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты» он рисует судьбу человека, сделавшего, «слепившего», сформировавшего себя в борьбе со «свинцовыми мерзостями жизни», пришедшего «в мир, чтоб с ним не соглашаться». Алексей Пешков рано понял: ничто не уродует личность так страшно, как покорность и терпимость. О примирении и тем более гармонии с окружающим миром не могло быть и речи. Вот что писал по этому поводу профессор С. А. Венгеров: «По своему происхождению Горький отнюдь не принадлежит к тем отбросам общества, певцом которых он выступает в литературе. Апологет босячества вышел из вполне буржуазной семьи. Рано умерший отец его из обойщиков выбился в управляющие большой пароходной конторы, дед со стороны матери, Каширин, был богатым красильщиком».
В контексте биографии Горького, его мировоззрения следует понимать и оценивать написанную им вместе с Шаляпиным «Автобиографию артиста». В жизни Шаляпина Горький — профессиональный литератор — видел исходный материал для художественной реализации собственных взглядов и убеждений. Между тем судьба певца не всегда укладывалась в разрабатываемый Горьким сюжет, бытие Шаляпина зачастую оказывалось богаче, сложнее, противоречивее замысла, реальность судьбы разрушала искусственно созданную «легенду».
Впрочем, Горький не исключение. Легенду о Шаляпине создавал, по сути дела, каждый, кто брался за перо с намерением рассказать об артисте, спрос же на его «жизнеописания» возрастал согласно стремительному росту его популярности.
6 декабря 1901 года Стасов пишет Шаляпину в Москву о двух английских дамах: «…они собираются писать Вашу биографию, разыскивают в печати всякие сведения о Вас и надеются даже кое-что услыхать о Вас и лично!» Речь шла о переводчице сочинений Л. Н. Толстого Изабелле Генгуд и музыковеде Розе Ньюмарч, которая в 1914 году и в самом деле издала в Лондоне книгу о певце.
В 1902 году журнал «Искры» публикует очерк Сергея Плевако «Ф. И. Шаляпин». В 1903 году в Москве выходит книга «Первые шаги Ф. И. Шаляпина на артистическом поприще (из воспоминаний провинциального актера И. П. Пеняева)». В 1904-м Н. А. Соколов подготовил к выпуску книгу «Поездка Шаляпина в Африку», она вышла из печати только спустя десять лет. В 1908-м появляются жизнеописание П. Сивкова «Шаляпин» и шикарно иллюстрированный альбом «Императорский Мариинский и Большой театры — сезон 1907–1908 года»: портреты артиста в жизни и в ролях; подписи: «Федор Шаляпин — король басов», «По таланту ему равных нет», «Властелин сцены — он покоряет публику всего мира».
Провинциальные газеты «Волжский вестник» и «Курьер» печатают в 1903 году воспоминания некоего Г. Жукова «Ф. И. Шаляпин в качестве земского стипендиата при Арском двуклассном училище». В том же году в январском номере «Русской музыкальной газеты» публикуется биографическая заметка за подписью «Л.» (И. В. Липаева) «Ф. И. Шаляпин»; а в марте та же газета помещает «Письмо в редакцию» тенора А. Г. Рчеулова, вспоминающего совместную с Шаляпиным службу в Тифлисской опере. В 1900–1910-х годах мемуарные зарисовки, статьи, очерки о Шаляпине публикуют С. Семенов-Самарский, И. Пеняев-Бекханов, Л. Андреев, А. Амфитеатров, В. Дорошевич, С. Плевако, Н. Соколов, П. Сивков, Ю. Беляев, Э. Старк, В. Держановский и многие другие. В 1920-х годах биографию Шаляпина намеревался написать Б. Асафьев. Одновременно в читательской среде циркулирует масса заметок, интервью, анекдотов, разного рода «свидетельств очевидцев».
В публикациях множество ошибок, домыслов, нелепых подробностей. Шаляпин хочет наконец внести ясность, высказаться сам, и «Петербургская газета» получает исключительное право публиковать «Автобиографию Ф. И. Шаляпина» с его слов в записи журналиста А. Потемкина. В восьми номерах газеты, выходивших в конце августа и начале сентября 1907 года, певец поведал о своих отроческих театральных впечатлениях в казанском балагане Якова Мамонова, о своих первых выходах на сцену, о работе в труппах Деркача, Семенова-Самарского, Ключарева, об уроках Усатова, о выступлениях в Тифлисской опере, в петербургских театрах. Первая «публичная исповедь» вызвала огромный интерес; очерк, опубликованный в «Петербургской газете», явился отправной точкой будущих книг Шаляпина.
В 1909 году артист оповестил репортеров: он начал писать мемуары: «…хочется передать опыт молодежи». «Петербургская газета» от 23 октября 1909 года связывала это намерение с «круглой датой» — в сентябре 1910 года Шаляпин собирался отмечать двадцатилетие артистической деятельности. Время от времени журналисты сообщают о рассказах и стихотворениях Шаляпина, ему приписывают авторство романсов, «написанных в духе Мусоргского». В 1912 году «Биржевые ведомости», «Волны», «Солнце России», «Рампа и жизнь» почти одновременно информировали о намерении итальянского издательства «Рикорди» выпустить мемуары артиста.
В это же время Н. Д. Телешов от имени «Среды» обращается к Шаляпину с просьбой написать для сборника «…страниц пять — десять — двадцать. Может быть, Вы расскажете о Вашей жизни. (Вы иногда так интересно, остро и мило-шутливо рассказывали нам о некоторых эпизодах); может быть, расскажете о разных приключениях, об удачах и неудачах, о первом выходе, о знакомстве с Горьким, о встречах с интересными людьми, о своей интимной работе над ролями, о судьбе своей, о заграничных впечатлениях и т. д.».
В мае 1910 года Шаляпину жалуют звание Солиста его императорского величества и «Петербургская газета» в связи с этим событием публикует основные вехи биографии артиста и рассказ С. Я. Семенова-Самарского о его встречах с Шаляпиным.
Артист обращается ко всем своим поклонникам с просьбой относиться ко всем публикациям с крайней осторожностью. В интервью «Синему журналу» (1912. № 12) он предупреждает: печать часто распускает ложные слухи, ему уже не раз приходилось, например, опротестовывать несуществующие мемуары «Моя жизнь», рукопись которых якобы была у него украдена и обнародована.
Однако правомерно полагать: серьезные намерения написать биографическую книгу возникли у Шаляпина раньше. Есть сведения, что поездку в Казань он предпринял в эту пору специально для сбора материалов. 5(18) марта 1910 года Шаляпин писал из Монте-Карло: «Я еду на Капри, чтобы говорить с Горьким по поводу книги, которую он хочет написать к моему 20-летнему юбилею».
Шаляпин в эти годы достигает вершин артистического мастерства. Внимательно следит за его триумфами живущий на Капри Горький. Узнав от К. П. Пятницкого о намерении артиста публиковать свою биографию, он пишет Шаляпину письмо, предлагает соавторство, настаивает на своем монопольном праве интерпретировать его жизнь. При видимых гарантиях «невмешательства» в повествование («я ничем не стесню тебя») Горький оставляет за собой главное — оценку и определение значимости событий («…а только укажу, что надо выдвинуть вперед, что оставить в тени»). Шаляпин уже не принадлежит себе, он — герой Горького, «богатырский гениальный мужик в равнине серой и пустой».
«…Ты затеваешь дело серьезное, дело важное и общезначимое, то есть интересное не только для нас, русских, но и вообще для всего культурного — особенно же артистического мира! Понятно это тебе?.. Я тебя убедительно прошу — и ты должен верить мне! — не говорить о твоей затее никому, пока не поговоришь со мной.
Будет очень печально, если твой материал попадет в руки и зубы какого-нибудь человечка, неспособного понять всю огромную — национальную — важность твоей жизни, жизни символической, жизни, коя неоспоримо свидетельствует о великой силе и мощи родины нашей, о тех живых ключах крови чистой, которая бьется в сердце страны под гнетом ее татарского барства. Гляди, Федор, не брось своей души в руки торгашей словом!..
Я предлагаю тебе вот что: или приезжай сюда на месяц-полтора, и я сам напишу твою жизнь, под твою диктовку (здесь и далее курсив Горького. — В. Д.), или — зови меня куда-нибудь за границу — я приеду к тебе, и мы вместе будем работать над автобиографией часа по 3–4 в день.
Разумеется — я ничем не стесню тебя, а только укажу, что надо выдвинуть вперед, что оставить в тени. Хочешь — дам язык, не хочешь — изменяй его по-своему.
Я считаю так: важно, конечно, чтобы то, что необходимо написать, было написано превосходно! Поверь, что я отнюдь не намерен выдвигать себя в этом деле вперед, отнюдь нет! Нужно, чтобы ты говорил о себе, ты сам!
О письме этом — никому не говори, никому его не показывай! Очень прошу!
Ах, черт тебя возьми, ужасно я боюсь, что не поймешь ты национального-то, русского-то значения автобиографии твоей! Дорогой мой, закрой на час глаза, подумай! Погляди пристально — да увидишь в равнине серой и пустой богатырскую некую фигуру гениального мужика!
Как сказать тебе, что я чувствую, что меня горячо схватило за сердце?..
…По праву дружбы — прошу тебя — не торопись, не начинай ничего раньше, чем переговоришь со мной! Не испорчу ничего — поверь! А во многом помогу — будь спокоен!
Ответь хотя телеграммой.
И еще раз — молчи об этом письме, убедительно прошу тебя!
Алексей».8 января 1916 года газета «Речь» сообщала: Горький посетил Шаляпина, чтобы договориться об издании мемуаров певца. Осведомленность репортера не вызывает сомнений: Шаляпин писал дочери Ирине о своих ближайших планах — до 16 мая занят в спектаклях в Народном доме, затем поедет в Крым с Горьким: «…он чувствует себя, в смысле здоровья, отвратительно и должен обязательно побыть в тепле на солнце, но по своей беспечности и по увлечению разными общественными делами никогда, конечно, этого не сделает, — вот я и решил прибегнуть к — так сказать — военной хитрости, т. е. предложить ему следующее: я, мол, буду писать книгу моих воспоминаний, а он будет написанное редактировать».
Обосноваться решили в Форосе, в имении Ушковых, родственников Марии Валентиновны: ее сестра Тереза замужем за владельцем чайной фирмы и любителем музыки Константином Капитоновичем Ушковым. 13 июня туда прибыл Горький, спустя неделю объявился Шаляпин, для ускорения дела пригласили стенографистку Е. П. Сильверсван. 30 июня Горький пишет И. П. Ладыженскому: «В 9 является Федор и Ев<докия> Петр<овна> (Е. П. Сильверсван. — В. Д.), занимаемся до 12 приблизительно. Могли бы и больше, но Е. П. не успевает расшифровывать стенограмму. Дело идет довольно гладко, но — не так быстро, как я ожидал. Есть моменты, о которых неудобно говорить при барышне, и тут уж должен брать перо в руки сам я. Править приходится много… В день мы делаем листа два, даже — три, после моих поправок остается ⅔».
Горький к этому времени закончил первую часть своей биографической трилогии «Детство», нередко читал отрывки друзьям, работал над второй частью — «В людях». И в шаляпинской биографии Горький, по сути дела, развивал близкую ему тему становления личности и ее отношений с миром.
Проходит полмесяца, Горький сетует: работа расползается и вширь и вглубь, напечатано 500 страниц, а дошли только до первой поездки в Италию, много времени уходит на расшифровку. «Править я, конечно, не успеваю. Федор иногда рассказывает отчаянно вяло, и тускло, и многословно. Но иногда — удивительно! Главная работа над рукописью будет в Питере, это для меня ясно. Когда кончим? Все-таки, надеюсь, — к 20, 22-му».
Часы совместной работы, когда в Форосе Горький слушал рассказы певца, а потом правил и редактировал машинописный текст, были важным, но отнюдь не единственным источником биографической книги. В ней, конечно же, отложились и собственные впечатления Горького о Шаляпине, от их давних долгих бесед в Нижнем Новгороде, в Москве, на Капри, в Крыму, в Петербурге. Немалое отражение нашла в книге и обширная переписка, которая носила — для Шаляпина, во всяком случае, — «исповеднический характер» и потому сохранила живые блики и интонации искреннего чувства.
Стремление Горького максимально выявить духовное богатство и многогранность национального гения, природное своеобразие удивительной натуры Шаляпина, несомненно, внесло свои краски и в горьковскую концепцию личности современника. Горькому важно воссоздать личность незаурядного человека, прежде всего художника, рожденного своей средой, приобретшего жизнеутверждающее мироощущение из реальной действительности, в которой ему суждено было самоутвердиться, осуществить свой нравственный и общественный идеал.
«Работа моя идет пока успешно, — сообщает Шаляпин в Петроград, — хотя должно считаться только сбором материала. Самое трудное будет потом. Горький говорит, что все очень интересно, что думает, что книга будет очень интересная, но едва ли мы успеем управиться, чтобы ее напечатать даже в декабре месяце. Ну что ж! Лишь бы вышло хорошо, а для этого поработать можно и больше».
В Форосе Горький и Шаляпин задержались до конца месяца.
В октябре «Летопись» анонсирует подписку на будущий 1917 год, среди прочих названий объявлена «Автобиография Ф. Шаляпина. (Редактированная М. Горьким.)». Анонс вызвал неожиданно резкую читательскую реакцию: «сотрудники рабочей прессы» (32 человека) осуждали публикацию сочинения «человека, запятнавшего себя коленопреклонением». На упреки читателей надо отвечать — Горький от имени Шаляпина пишет пространное предисловие.
«Я знаю: никто не поверит мне, если я скажу, что не так грешен, как обо мне принято думать, — заявляет он от имени Шаляпина. — И если порою у меня невольно вырывалась жалоба или резкое слово — я извиняюсь. Что делать? Я — человек и чувствую боль, как все.
Я написал эти, может быть, несколько скучные страницы для того, чтоб люди, читая их в это трудное время угнетения духа и тяжких сомнений в силе своей, подумали над жизнью русского человека, который хотя и с великим трудом, но вылез, выплыл с грязного дна жизни на поверхность ее и оказал делу пропаганды русского искусства за границей услуги, которые нельзя отрицать.
Забудьте, что этого человека зовут Федор Шаляпин, и подумайте о тех сотнях и тысячах, которые по природе своей даровиты не менее Шаляпина, но у которых не хватило сил победить препятствия жизни, и они погибают, задавленные ею, погибают, может быть, каждый день…
Я просил бы верить, что мне нет надобности кривить душою, прятать свои недостатки, оправдываться и вообще выставлять себя лучше, чем я есть».
Однако этот важный «программный» текст опубликован не был. Причина неясна, но нельзя совершенно отрицать и того, что сам Шаляпин мог воспротивиться его публикации. В 12-м номере «Летописи» за 1916 год появилось заявление редакции, написанное в извинительных тонах, оно опровергало домыслы читателей относительно перемены политической позиции журнала, а также их предположения о том, что публикация мемуаров — это попытка защитить Шаляпина от общественного мнения. Таким образом, «Автобиография» певца низводилась редакцией до историко-этнографической зарисовки быта и нравов нравоучительного толка: «Помещая его мемуары, редакция рассматривает Ф. Шаляпина исключительно как великого артиста, деятеля искусства. В глазах редакции его автобиография, рассказанная им устно М. Горькому и обработанная этим последним в форме художественного произведения, является ценным и поучительным документом из истории русской жизни, русского искусства.
Редакция находит, что если все слои русского общества полагают для себя допустимым посещать спектакли Ф. Шаляпина и придают им большое художественное значение, если наиболее чуткая в общественном отношении рабочая демократия считает возможным принимать участие в качестве зрителей в спектаклях, специально для нее устраиваемых самим Шаляпиным, то журнал не только не делает ничего предосудительного, но исполняет одну из своих культурных задач, сообщая читателям, как и откуда пришел на сцену артист Шаляпин и при каких условиях создалась и развилась его художественная индивидуальность. Никакими иными мотивами редакция, печатая автобиографию Ф. Шаляпина, не руководствовалась».
Покаяние не спасло ни журнал, ни Шаляпина от дальнейших попреков. Однако на фоне общественно-политических событий последующих месяцев дискуссия потеряла свою актуальность, а с приходом советской власти журнал «Летопись» закрыли и повествование Шаляпина оборвалось на середине.
В 1916 году отмечалась первая годовщина журнала «Летопись». В юбилейном вечере в редакции участвовали Шаляпин и Маяковский — молодому поэту в ту пору покровительствовал Горький. С Маяковским Шаляпин познакомился в Народном доме, его привел туда писатель А. Н. Тихонов (Серебров). Тихонов вспоминал о случившемся разговоре, который тогда произошел. «Вот бы написал кто-нибудь музыку на мою трагедию („Владимир Маяковский“. — В. Д.), а вы бы спели», — сказал Маяковский и вдруг смутился. Шаляпин, видимо, знал о Маяковском от Горького. Снимая парик (в тот вечер шел «Борис Годунов»), он лукаво заметил: «Вы, как я слышал, в своем деле тоже Шаляпин?» — «Орать стихами научился, а петь еще не умею», — отшутился поэт.
Был Маяковский вместе с Горьким и Тихоновым на дневном спектакле «Бориса Годунова» для петроградских рабочих 20 апреля 1915 года в Народном доме. Газета «Русское слово» подробно описывала триумфальный прием, оказанный Шаляпину зрителями.
Отношение читателей «Летописи» к Шаляпину не было однозначным. Они представляли собой часть огромной художественной аудитории, которой в целом отнюдь не был свойствен столь суровый идеологический радикализм: она ценила в Шаляпине великий сценический дар и с радостью отмечала круглые даты жизни и деятельности великого артиста.
Глава 5 ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ВЕЛИКОГО НЕМОГО»
Эпоха кинематографа началась в России с показов французских лент братьев Люмьер на Нижегородской ярмарке 1896 года, а в Москве — с сенсационного показа в том же году в театре «Эрмитаж» «новейшего изобретения века — живой движущейся фотографии».
С первых шагов кинематограф складывался как искусство массовое, уличное, ярмарочное, он вобрал в себя яркость и динамику площадных зрелищ, аттракционов, балаганов, темперамент гуляющей и митингующей толпы. В кинематографе фольклорное сознание, народно-театральные традиции тесно смыкались с формами общественного городского быта. Триумфальное шествие кинематограф начал в социальных «низах», последовательно шел «наверх» и, достигнув «вершин», расслоился на массовый, коммерческий, экспериментальный, авторский.
В 1907 году Андрей Белый написал статью «Синематограф», в которой назвал его «демократическим театром будущего». Все три понятия, вместившиеся в заголовок, весьма значимы — массовость, зрелищность, время. В 1911 году А. С. Серафимович увидел в кинематографе разрушительное нашествие массовой культуры. «Загляните в зрительную залу, — пишет он. — Вас поразит состав публики. Здесь — все — студенты и жандармы, писатели и проститутки, интеллигенты — в очках, с бородкой, рабочие, приказчики, торговцы, дамы света, модистки, чиновники — словом все. Как могучий завоеватель продвигается кинематограф. Повторяю — этому ни печалиться, ни радоваться. Это — стихийно. Грядущее царство кинематографа неизбежно».
Кинематограф становится важной частью культурного быта. Заинтересованный в массовой аудитории, он увлекает широкие слои публики, конкурируя и выигрывая соперничество у балагана, ярмарочных развлечений, он, наконец, вступает в серьезный поединок с театром. Именно поиски тесных связей и контактов с массовым зрителем, с одной стороны, и стремление постичь образность, художественность, выразительных средств и поднять кинематограф до высокого искусства — с другой — обусловили приход в кино видных театральных деятелей своего времени: режиссеров Вс. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. А. Санина, драматургов Л. Н. Андреева, М. Горького, А. А. Блока, артистов В. И. Качалова, И. М. Москвина, В. Р. Гардина, Ф. И. Шаляпина, В. Г. Гайдарова, О. В. Гзовской, В. Н. Давыдова, К. А. Варламова, В. Н. Пашенной и многих других.
За два прошедших десятилетия кинематограф из ярмарочного аттракциона превратился в любимое массовое развлечение. Многим казалось, что он неизбежно вытеснит из культурной жизни все другие виды популярных зрелищ. Стали снова поговаривать и о «кризисе театра». Однако серьезных деятелей сцены нашествие кинематографа не пугало. «Театр и кинематограф лежат в разных плоскостях, и то, чем театр нас волнует, влечет и чарует, этого никогда не сможет воспроизвести кинематограф, — убежденно заявлял К. С. Станиславский, включившись в дискуссию. — Театр живет тем обменом духовной энергии, который беспрерывно происходит между зрителем и актером, той симпатической связью, которая невидимыми нитями единит актера и зрителя… Кинематограф не может заменить театр, но может, если его изучат и возьмут в свои руки преданные духовному прогрессу люди, приобщить народные массы к общей культурной жизни, и теперь это несомненно важное и прекрасное дело».
Это хорошо понимал и Шаляпин.
В 1913 году М. Ф. Андреева при поддержке Горького намеревалась организовать кинофабрику. Писатель предложил Шаляпину войти в дело одним из пайщиков. Пригласили также актеров и режиссеров преимущественно мхатовского направления: В. И. Качалова, Л. М. Леонидова, И. М. Москвина, К. А. Марджанова, А. А. Санина. Промышленник Г. Н. Лианозов согласился финансировать постройку студии во дворе Художественного театра, но начавшаяся война помешала осуществить эту идею.
В начале 1914 года Шаляпин высказал свое мнение о кино в «Театральной газете»: «При серьезном отношении к делу кинематографии можно использовать киноэкран для истинных задач театра и искусства… Мною действительно ведутся переговоры с одной кинематографической фирмой, и если я выступлю, то в „Борисе Годунове“ или в „Степане Разине“».
Выбор пал, однако, на «Псковитянку», за основу взяли пьесу Л. А. Мея. (В прокат фильм выпустили под названием «Царь Иван Васильевич Грозный».) Импресарио Шаляпина В. Д. Резников организовал акционерное общество «Шал-Рез и К°». Певец возлагал надежды на свой кинематографический дебют. «…Эта пьеса будет у нас пробным камнем для будущих, — писал он дочери Ирине, — и если дело пойдет хорошо, то предпримем ряд многих пьес, а там, если будет возможно, может быть, дадим тебе и Лидии сыграть какие-нибудь роли».
Известный в будущем кинорежиссер А. В. Ивановский вспоминал постановщика «Псковитянки» А. И. Иванова-Гая (1878–1926), бывшего провинциального журналиста, переквалифицировавшегося в кинорежиссера, — весельчака и балагура, рассказчика анекдотов, лихого гармониста. Этим он поначалу сильно расположил к себе Шаляпина, обещая к тому же все строить в фильме так, как сочтет нужным артист. В действительности все оказалось иначе.
Съемки происходили в Угличе, в Кунцеве, на Ходынском поле. Для массовых сцен использовались старые «хоромные» павильоны торгово-промышленной выставки. В батальных эпизодах заняли почти две тысячи человек. Кинотехника была в ту пору крайне несовершенной. А. В. Ивановский так описывал съемки:
«Вот вдалеке показалась свита — и мимо меня промчался грозный царь со своими опричниками. Шаляпин гневно сверкнул глазами. В театре такая сцена была б недостижимой. В перерыве я спросил у Шаляпина, где он учился так хорошо ездить верхом.
— Я же артист — надо ехать, ну я и еду.
Дальше все дело испортил режиссер И. Г. (Иванов-Гай. — В. Д.). Снималась сцена: Иван Грозный сидит у шатра в глубоком раздумье, на ладони он держит птенца. Смысл сцены такой: вот ты, птичка, взмахнешь крылами и улетишь в поднебесье, а я прикован цепями к царскому престолу.
Шаляпин с большим лиризмом вел эту сцену, у него даже слезы на глазах заблестели.
Иванов-Гай, видимо, желая покрасоваться перед артистами, сказал:
— Федор Иванович, сцена должна длиться двадцать семь метров, а у вас вышло сорок семь — в кино это скучно.
Шаляпин ошеломлен: вот как? Шаляпин стал уже скучен!
С негодованием сорвал он парик, бороду и с руганью набросился на режиссера. Шаляпин в гневе ушел со съемок. Назревал большой скандал. Фирма „Шал-Рез“ разваливалась. Уже были затрачены большие деньги на массовки, на подготовительные работы, на костюмы. С большим трудом Резникову удалось уговорить Шаляпина продолжить съемку».
Действительно, работать Шаляпину было трудно. Он стремился к психологической наполненности образа и ситуации, в фильме же отсутствовала продуманная режиссура, картина создавалась по приблизительному сценарию, без ансамбля: снимались и монтировались отдельные, наиболее эффектные эпизоды, в которых, правда, участвовали талантливые актеры: Б. М. Сушкевич, Г. И. Чернова, Н. А. Салтыков.
Молодой артист Михаил Жаров изображал в массовых сиенах одного из опричников Грозного. Его поставили рядом с царским шатром, из него вскоре вышел царь Иван Васильевич. Жара, солнце… Шаляпин прищурился, приставил руку к глазам, грозно оглядел разбросанные по берегу реки отряды актеров и статистов, изображавших псковскую вольницу… Суровая фигура Грозного была монументальна — блестящая кольчуга, кованый шлем, широкая епанча… Режиссер скомандовал: «Начали!» — и всё пришло в движение…
Первый просмотр фильма состоялся в «электротеатре» «Фатум» в два часа дня 16 октября 1915 года. Газета «Рампа и жизнь» откликнулась на премьеру пространной рецензией, указывала на принципиальные достоинства картины, выделявшиеся из общего кинематографического потока: «На экране ярко отразилась и хищная злоба ехидны, готовой растерзать „ненавистных крамольников“, и царственная мощь покорителя Казани и псковской вольницы, и великая скорбь отца, невольного убийцы любимой дочери, „плода юношеской любви“…16 октября 1915 года является началом новой эры в немом царстве победоносного кино, в этот день венчался на киноцарство Ф. И. Шаляпин».
В такой оценке, конечно, преобладала журналистская экзальтация. Фильм не отличался хорошим вкусом и оригинальной образно-кинематографической выразительностью. И Шаляпин, и Горький были явно разочарованы. Тем не менее это не охладило их интереса к новому искусству. Газета «Театр» 24 октября поместила их интервью. «Я одобряю кинематограф будущего, который безусловно займет исключительное место в нашей жизни, — подчеркивал Горький. — Он явится распространителем широких знаний и популяризатором художественных произведений».
Хотя Шаляпину не удалось в фильме «Царь Иван Васильевич Грозный» полностью выразить себя, он, как и Горький, видел огромные перспективные возможности кинематографа: «Мое выступление в кинематографе — не случайное. Я смотрю на будущее кинематографа уповающе и считаю, что в области кинематографии есть такие возможности, которых, пожалуй, не достигнуть и театру… Я выступил в „Псковитянке“, убедившись, что кинематограф может художественно запечатлеть сочетания красок, грима и мимики. Я рад и счастлив от сознания, что лента „Псковитянки“ может попасть в самые отдаленные уголки глухой провинции, что я, таким образом, буду иметь возможность, быть может, „выступить“ в деревнях и селах. Я считаю, что кинематограф достигнет апогея тогда, когда он станет необходимым проводником научных фильмов в школах, в земствах и послужит источником развлечения для деревни».
«Царь Иван Васильевич Грозный» привлек массовую аудиторию. Об этом свидетельствует организация в январе 1916 года так называемого «Петроградского Товарищества». В него вошли, кроме самого певца и Марии Валентиновны, юрист Шаляпина М. Ф. Волькенштейн и антрепренер В. М. Резников. Товарищество занималось прокатом фильма и кинопроекционной аппаратуры для его демонстрации. Уже при советской власти, в 1919 году, Кинокомитет при Наркомпросе приобрел у Шаляпина права на тиражирование картины «для публичной эксплуатации во всех городах, селах и деревнях Советской России». Таким образом, мечта Шаляпина быть увиденным в глухой провинции в какой-то степени сбылась. Возможно, это обстоятельство побудило певца продолжить свою кинематографическую деятельность. Режиссер И. Н. Перестиани вспоминал о подготовленном им плане фильма «Степан Разин», который должен был сниматься по сценарию М. Горького с Шаляпиным в главной роли. Замысел этот не осуществился.
…Война тем временем продолжается. Постепенно из газет уходят казенные ура-патриотические заклинания, уверения в близкой победе. Лазареты полны раненых, в городе ощущается нехватка продовольствия, дров, растут цены. Шаляпин тревожится о своих «москвичах», 31 января 1915 года пишет Иоле Игнатьевне: «Несколько раз я собирался говорить с тобой по телефону, но — увы… Это совсем не так легко, как и все в России — хотя и империя, но оказывается не в достаточном количестве — телефон все время занят „по военным делам“ и обывателю к нему не подступиться».
Интерес публики к серьезному искусству в эти тревожные дни ослабевает, многие жаждут «забыться», уйти «в мир красивых иллюзий» от страшной и неприглядной реальности. В «Жар-птице», обосновавшейся в Камергерском переулке по соседству с Художественным театром, с огромным успехом выступал молодой Александр Вертинский. Его песенки подхватывает «вся Москва». Из гостиницы «Марсель» в Столешниковом переулке Вертинский выходит в костюме Пьеро, с набеленным гримом лицом и, сопровождаемый шумными поклонниками, идет в Камергерский переулок на концерт.
Но в большинстве своем театры миниатюр стали рассадниками дурного вкуса. «Синематографы» и «электротеатры» зазывают на зловещие боевики «Ямщик, не гони лошадей!», «Смерч любовный», на Неглинной процветает так называемый «парижский жанр»: «Четные дни для женщин, нечетные — для мужчин, дети и учащиеся не допускаются». В маленьких театриках идут новинки — «Курортная плутовка», «Я не обманываю своего мужа», «Нахал». Названия говорят сами за себя. В этом море обрушившейся на публику пошлости спектакли и концерты с участием Шаляпина отстаивают вечные, незыблемые художественные ценности, заставляют зрителя чувствовать и сострадать.
Газеты следили не только за успехами Шаляпина. Падкие на сенсации и слухи репортеры в угоду публике обсуждали гонорары певца, сравнивали их с доходами других артистов, с заработками Шаляпина в юности. Ползучие слухи пытаются опровергнуть серьезные журналисты. Они старались разобраться в его отношениях с публикой, определить его место в современной жизни, понять, поддержать и даже защитить его талант и достоинство от злобных укусов обывательской молвы. В этом плане опубликованный в журнале «Аргус» (1916. № 4) фельетон Л. М. Добронравова «Ты Царь — живи один!» (название взято из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту») — факт весьма примечательный:
«— Восемь часов! — крикнул кто-то.
Словно сигнал подал. Застучали ногами, раздались хлопки, голоса: Пора! Пора! Время!
Чей-то пьяный голос, споткнувшись в икоте, рявкнул:
— Музыка… играй! Товарищ Федька — пой!
Один из чиновников, с носом, как вареный картофель, громко сказал с такой уверенностью в голосе, будто бы только что приехал от Шаляпина:
— Пьян. Раньше десяти вряд ли начнет.
Старичок быстро повернул лицо к чиновнику:
— Да ну-те! Принимает?
— Пф-ф… „принимает“! Не напьется — ни за что не выйдет на сцену. За границу всегда с собой бочку водки везет.
— Н-ну-у!
— Факт! — Чиновник говорил громко и убежденно, видимо, рисуясь тем, что ему так много интересного известно о Шаляпине. — Вы знаете, за границей его всякий городовой знает.
— Почему такое? — спросил старик.
— Скандалист, напьется — сейчас стекла бить в магазинах, в драку лезет, ну, разумеется, в участок. Потом откупается.
— Да вы-то почем знаете?
— Мне передавал его друг.
— Так-с-с! — Старик еще придвинул свое лицо, иссеченное морщинами, к лицу чиновника и, хлюпая слюною, тихо спросил:
— А как насчет женского пола?..»
Пространный фельетон Л. Добронравов заключил грустной концовкой:
«Мне предложили написать о Шаляпине что-нибудь веселое, написать о Шаляпине по обывательским рассказам. Но о страданиях нельзя писать веселое. Трудно ему, тяжело среди фимиамов, интриг, сплетен, глупости, бездарности, в ядовитых испарениях обывательских и газетных восторгов. Если Шаляпин и ведет дневник — это будет страшная книга. „Ты Царь. Живи один“. А ему приходится жить среди многих.
Обыватель не прощает никому ни таланта, ни труда и величия. Норовит плюнуть, толкнуть, грязно швырнуть, рассказать гадость. И для него, темного и убогого, несомненно, что Шаляпин — великий артист, и не потому вовсе, что был очарован им, а больше потому, что Шаляпин — во-первых, получает большие деньги, во-вторых, пользуется успехом за границей, в-третьих, на шаляпинские спектакли трудно попасть, в-четвертых, шутка ли, с царями разговаривает и т. д. Все это импонирует обывателю, особенно деньги и почет у сильных мира…
Шаляпин — тонкий и очень чуткий человек, чувствует он и это. Тяжело ему, должно быть…»
Глава 6 В ЧАСТНЫХ ТЕАТРАХ
Осенью 1916 года истек срок контракта Шаляпина с императорскими театрами. В. А. Теляковский с горечью записал в своем дневнике: «Итак, Шаляпин теперь запел и в частных театрах. Громадный гонорар, который ему там предлагают, исключает возможность нашей конкуренции. Быть может, он и прав, но делается как-то за него обидно».
Александр Рафаилович Аксарин, предприимчивый театральный делец, знал, как обеспечить успех спектаклю. Одновременно с антрепризой в Народном доме Аксарин содержал в Москве театр «Эрмитаж». Его не слишком заботил художественный уровень спектаклей. Как отмечали рецензенты, оперы ставились «грубо, безвкусно, по-мещански». Это относилось и к декорационному оформлению, обычно примитивному по замыслу и исполнению. Аксарин прежде всего коммерсант, в нем не было ничего общего с С. И. Мамонтовым или С. И. Зиминым — искренними и вдохновенными энтузиастами искусства. Газеты и журналы не без ехидства рассказывали об удачных аферах Аксарина: в 1916 году он на три года откупил цирк за 8700 рублей в год, а потом переуступил его прежнему арендатору Чинизелли за 100 тысяч рублей.
Однако привлечь в театр публику Аксарин умел. В его антрепризе служили замечательные певцы Л. В. Собинов, И. А. Алчевский, Ф. И. Шаляпин, и огромный неуютный зал петроградского Народного дома был всегда переполнен. Молодежь сидела на ступеньках, в проходах — ни транспортная разруха, ни мрак неосвещенных улиц, ни многочасовое ночное дежурство в ненастную ночь перед открытием кассы не были помехой. Цены на билеты Аксарин устанавливал высокие, «шаляпинские», но при этом несколько рядов галерки отдавались зрителям бесплатно. На эти места стремились попасть толпы дежуривших ночами студентов, курсисток, гимназистов, молодых служащих, рабочих.
По инициативе Горького Шаляпин выступил в Народном доме в бесплатном спектакле для рабочих — в «Борисе Годунове». «Петроградские ведомости» поместили 12 апреля 1915 года развернутый репортаж критика Э. Старка: «Атмосфера, окружавшая этот спектакль, была полна необычайного обаяния. Впервые это помещение видело в своих стенах настоящий народ, представлявший собою коллективного зрителя, имевшего общую душу. Это был такой зритель, какого ни один артист никогда перед собой не ощущает. И какая должна была установиться прочная гармоническая связь между душой этого артиста, облегчая последнему задачу воплощения сценического образа, вознося его творчество на легких крыльях к достигнутым, быть может, раньше высотам художественного совершенства!
Это чувствовалось по тому громадному подъему, с которым Шаляпин играл Бориса Годунова…
И, созерцая это зрелище, прекрасное по одухотворяющей его идее, хотелось думать, что это не в последний раз, что оно повторится еще и еще, что оно войдет в законный обиход жизни артиста. Нет памятника лучше, выше, благородней, чем тот, который этими спектаклями Шаляпин еще при жизни может воздвигнуть сам себе… Я думаю, я убежден, что познавший высшую славу артист, снискавший удивление своему таланту во всех концах света, счастливейшие минуты за свою жизнь пережил лишь на этом спектакле, в воскресенье, и наибольшее удовлетворение от своего творчества получил тогда же. Шаляпин должен был понять, что тогда впервые яркий свет его искусства блеснул для тех людей, согрев их душу, которые в своей жизни видят так мало радостей, так мало красоты и так много скорбного труда. И если этот краткий, по сравнению с целой жизнью, миг Шаляпина согрел существование этих рабочих людей, то в этом он обрел себе награду превыше всех, какие имел за всю свою долгую артистическую карьеру. Повторяю, это было прекрасно, значительно и незабываемо».
Событием для театралов стало выступление Шаляпина в партии короля Филиппа II в опере Верди «Дон Карлос». Насыщенность музыкальной драматургии позволяла певцу развернуть в полную силу свое трагическое дарование. Внешняя монументальность, величественность Филиппа органично сочеталась с эмоциональной динамикой, с развитием трагической темы спектакля. «Его Филипп казался сошедшей со старинной картины фигурой или ожившей мраморной статуей, — вспоминал певец С. Ю. Левик. — Все было значительно в этом образе: большая четырехугольная голова, обрамленная бородкой, как будто каменное лицо, чаще тусклые, чем горящие, глаза с тяжелым взглядом, тяжелая, медлительная поступь, прозрачные, как бы просвечивающие холеные руки с цепко загнутыми длинными пальцами. Король немолод, но держится очень прямо. В поворотах головы, во всем его облике есть что-то явно подозревающее. Трость толста и как будто нужна только для устрашения. И в то же время король глубоко несчастен…»
Положение гастролера позволяло Шаляпину выйти за пределы Мариинского и Большого театров, выступать с разными труппами, с молодыми певцами и режиссерами. Поэтому объяснять его уход в частные театры только материальными соображениями было бы неверно. В Москве артист пел в Частной опере С. И. Зимина, чей театр с успехом конкурировал с Мариинским и Большим. В труппе большое внимание уделялось драматическому исполнению, сценическому ансамблю.
Шаляпин в роли Филиппа II в опере Дж. Верди «Дон Карлос». Портрет работы А. Яковлева. 1917 г.
Сергей Иванович Зимин сродни Савве Ивановичу Мамонтову. В молодые годы он тоже учился пению. Меценат, горячо любивший оперное искусство, Зимин в 1904 году создал один из лучших музыкальных театров России. В советское время театр несколько лет продолжал работать на правах государственного и Сергей Иванович оставался в нем в качестве члена дирекции.
С. И. Зимин открыл при театре студию, в ней молодые певцы учились вокалу, сценической речи, танцу, актерскому мастерству, слушали лекции по истории и литературе. Атмосфера в театре была творческой и дружной, напоминала ту, что царила когда-то в мамонтовском кружке. Зимин угадывал в начинающем актере талант. В его театре премьером стал Василий Дамаев, уроженец казацкой столицы, пастух. Получив в Москве музыкальное образование, он продолжил его у Зимина. Татарская девочка Фатьма Мухтарова, одаренная от природы замечательным голосом, девять лет бродила с шарманкой по провинции. Не закончив Саратовскую консерваторию, Фатьма приехала в Москву и выступила в артистическом клубе «Алатр». Там Зимин услышал ее и пригласил к себе в театр. Прежде чем дать согласие, певица отправилась на Новинский бульвар посоветоваться с Шаляпиным. Федор Иванович восхищен Мухтаровой: «Голос поставлен великолепно, остается только поступить на сцену».
Попавшие к Зимину певцы, художники, музыканты, как когда-то любимцы Мамонтова, могли рассчитывать на помощь и поддержку. Зимин на свои средства отправлял режиссеров смотреть лучшие спектакли европейских театров, набираться впечатлений и материала для постановки опер. Художник В. П. Комарденков вспоминал, как Зимин встретил его в Солодовниковском театре:
— Что ты ответишь, если тебя спросят, у кого ты служишь?
— В опере у Сергея Ивановича Зимина.
— Вот и не так. Надо ответить: в лучшей частной опере в России, у Зимина, а кто знает Зимина, знает, что меня зовут Сергей Иванович… А кто тебе поверит, что ты служишь у Зимина? Поди к «Жаку» и скажи, чтобы тебя приодели.
Комарденков отправился к «Жаку», в английский модный магазин на углу Столешникова переулка и Петровки, был тут же одет по последней моде. Денег не взяли:
— Сергей Иванович заплатит, вы не первый.
Ансамбль исполнителей С. И. Зимин собрал великолепный, в труппе с увлечением работали все. Молодой артист Михаил Жаров участвовал в массовых сценах бесплатно, но за это пользовался правом на контрамарку, на участие в репетициях и спектаклях с Шаляпиным.
Опера С. И. Зимина показывала свои спектакли в помещении Солодовниковского театра. «Рад пропеть что-нибудь на старом пепелище, которое так славно поддерживаете Вы Вашей мощной рукой, — пишет Шаляпин Зимину из Кисловодска. — Приятно мне, и я заранее спокоен, ибо знаю, что такой могучий любитель прекрасного и безграничного искусства, как Вы, всегда пойдет навстречу всему, что логично и необходимо для осуществления прекрасного… Я знаю милого Сергея Ивановича и, конечно, в его желании, чтобы наши спектакли были живее и лучше, чем в Большом театре, — нисколько не сомневаюсь!»
У Шаляпина складываются дружеские отношения со многими музыкантами зиминской оперы. Дирижер Евгений Евгеньевич Плотников чуток и внимателен к артисту. Плотниковы жили на Покровке, в большом доходном доме. На праздновании десятилетия свадьбы хозяев собралась едва ли не вся труппа во главе с Зиминым. Шаляпин появился в первом часу ночи, был в ударе, провозглашал тосты, рассказывал забавные истории и под утро неожиданно для всех прочел монолог Городничего из гоголевского «Ревизора». Артист сидел в центре стола с папиросой в руке, другой рукой как будто отстраняя от себя присутствующих, и обращался к ним с классической гоголевской репликой: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» И сразу, почти без перехода, не давая слушателям выразить свое восхищение, он прочел монолог байроновского Манфреда.
С началом империалистической войны, когда заграничные гастроли Шаляпина прекратились, постоянным местом его пребывания стал Петроград. Артист поселился на Аптекарском острове, на Пермской улице, в доме 2. Трехэтажный особняк с плоскими пилястрами, украшенными затейливыми капителями, с наличниками на окнах, строился по проекту известного архитектора В. А. Щуко (впоследствии дом надстроили двумя этажами). Парадный вход украшен узорчатым чугунным навесом. Шаляпины заняли второй этаж, сделали ремонт, несколько комнат соединили — образовался репетиционный зал. На третьем этаже дома у Шаляпина снимали квартиры знаменитый ученый, знаток Средней Азии и Памира Г. Е. Грум-Гржимайло и известный эпидемиолог, в будущем академик, Д. К. Заболотный. Шаляпин частенько навещал Грум-Гржимайло — любил слушать увлекательные рассказы путешественника.
Каменноостровский проспект, на который выходила Пермская улица, застраивался новыми зданиями стиля модерн, с балконами, лоджиями, внутренними дворами с садами и фонтанами. Аристократическую часть проспекта, ближе к центру, обжила высшая чиновничья знать, министры, коммерсанты, промышленники. Далее селилась петербургская художественная интеллигенция. В знаменитом «доме с башнями» архитектора А. Е. Белогруда жил Л. Н. Андреев, в доме ⅓ — Ю. М. Юрьев. Каменноостровский пересекал Кронверкский проспект; почти у пересечения этих улиц, в доме 23, снимал просторную квартиру М. Горький.
«В Питере были чудные дни на Пасху, особенно прекрасна была пасхальная ночь — я был на берегу Невы, любовался волшебной картиной очертаний Петропавловской крепости на ясном и прозрачном небе и голубой, широкой и в эту ночь такой задумчивой рекой. В 12 часов палили пушки — народу было без числа…» Эти строки письма к дочери говорят о том, как остро чувствовал Шаляпин неповторимость города. Возвращение после спектаклей по ночным улицам, катания на коньках в Айс-Паласе или Скайтинг-ринге, который, кстати, тоже находился поблизости, на Каменноостровском, прогулки к Горькому заполняли свободное время Шаляпина.
Поэт Всеволод Рождественский — в ту пору студент-первокурсник Петроградского университета и одновременно репетитор сына писателя — вспоминал о первой встрече с Шаляпиным у Горького:
«…я сидел один в полутемной комнате, погруженный в какую-то книгу, и не слышал звонка в передней. И вдруг, подняв глаза, увидел на пороге громаднейшую фигуру в распахнутой шубе и высокой бобровой шапке. Это был Шаляпин. Я видел его лицо до сих пор только на страницах иллюстрированных журналов. Он заполнял собой все пространство распахнутых дверей, а за ним где-то в полумраке белела пелеринка смущенной горничной.
— Алексей дома? — прогудел его хрипловатый с мороза голос. Не ожидая ответа, он подошел ко мне, бесцеремонно заглянул в лежавшую передо мной книгу. Рассеянный взгляд его скользнул по светлым пуговицам моей студенческой тужурки.
— Филолог? Энтузиаст? По вихрам вижу!
Я не нашелся, что сказать, да и он не стал бы меня слушать. Величественным медленным шагом Шаляпин направился через всю обширную комнату к двери библиотеки. Так ходят по сцене знатные бояре…»
Шаляпин дружил с петроградскими художниками, был желанным гостем на репинских «средах» в Куоккале, на «четвергах» И. И. Бродского. В его квартире на Широкой улице певец встречался с А. И. Куприным, В. В. Маяковским, Ю. М. Юрьевым, Н. Н. Ходотовым, И. Я. Гинцбургом…
На художественной выставке Шаляпин встретил И. Е. Репина и обещал приехать к нему в Куоккалу — «попозировать».
Стасов и Репин в переписке часто сообщали друг другу об успехах молодого певца, внимательно следили за его творчеством. В «Пенатах» в одной из комнат стоял бюст Шаляпина работы П. П. Трубецкого. Шаляпин интересовал Репина и как удивительно своеобразный, духовно богатый талантливый человек, и как редкостная художественная модель. Художник восхищался Досифеем, Борисом Годуновым, Олоферном. «Не так давно в Олоферне я слышал и видел Шаляпина, — рассказывал Репин в одном из писем 1909 года, — как он лежал на софе! Архивосточный деспот, завоеватель в дурном настроении. Предстоящие цепенеют со всеми одалисками. Цепенеет весь театр, так глубоко и убийственно могуча хандра великого владыки».
В феврале 1913 года Шаляпин из Берлина пишет Горькому, как сильно огорчен нападками на Репина в диспуте в Обществе художников-модернистов «Бубновый валет»: «Жалко Илью Ефимова. Хотел послать ему телеграмму, да — по русскому разгильдяйству — не знаю адреса. Впрочем, приехав в Питер, пойду к нему сам». В октябре того же года состоялось чествование Репина. В гостинице «Княжий двор» собралось много почитателей его таланта, здесь были И. А. Бунин, К. И. Чуковский, артисты, писатели, художники. Потом в ресторане «Прага» состоялся банкет. Шаляпин приехал прямо из театра после утреннего спектакля «Борис Годунов». Он провозгласил здоровье присутствующих и поднял тост за Репина — «папашу художников».
К. И. Чуковский рассказывал: на обратном пути из Москвы в Петербург Репин ни единым словом не упомянул о своих триумфах и все время говорил о том, как великолепен Шаляпин. «Говорил немногословно и вдумчиво, перемежая свои восклицания долгими паузами:
— Откуда у него эти гордые жесты?.. И такая осанка? И поступь? Вельможа екатерининских времен… да! А ведь пролетарий, казанский сапожник… Кто бы мог подумать? Чудеса!
И, достав из кармана альбомчик, начал тут же набрасывать шаляпинский портрет».
Общение с Репиным — огромная радость для Шаляпина. Те, кто видел их вместе, обычно не могли сдержать улыбки: слишком велик был контраст огромного, очень артистичного во всем, слегка барственного Шаляпина и тихого, маленького, незаметного Репина.
На выставке в Москве, посвященной годовщине со дня смерти В. А. Серова, Шаляпин и Репин много беседовали и договорились встретиться в Куоккале. После «Хованщины» перед отъездом из Москвы Репин написал Шаляпину: «Неизреченно дорогой и бесконечно обожаемый Федор Иванович! Спасибо, спасибо, спасибо! Я полон восторга и восхищения до небес Досифеем. <…> А что всплывает над всем у меня, что для меня упоительнее всего, так это брошенная, оброненная Вами мне щедро и братски — надежда, что Вы ко мне приедете, ко мне в Куоккалу и даже попозируете!! Жду и буду ожидать всякий час…»
Желанная обоим встреча состоялась, однако, только в 1914 году.
Обстановка в репинских «Пенатах» весьма оригинальна. Ее описал художник И. И. Бродский:
«Ворота с узорчатой затейливой надписью „Пенаты“ пестро раскрашены самим художником. Густая березовая аллея тянется от ворот к двухэтажному дому, множество пристроек и застекленные крыши разной высоты делают этот домик, напоминающий русский терем, необычным, похожим на игрушку.
В передней висит плакат: „Прием посторонних от 3-х до 5-ти часов. Обед в 6 часов. К обеду остаются исключительно личные знакомые. От 5.30 до 7.30 дом запирается, и всякий прием на это время прекращается“.
Здесь же висит гонг ‘там-там’ и рядом подпись: „Самопомощь. Сами снимайте пальто, галоши. Сами открывайте двери в столовую. Сами! Бейте веселей, крепче в ‘там-там’!! Сами!!“
В первом этаже несколько комнат, из них столовая и кабинетная ближе по своей обстановке и расположению вещей к домашнем быту художника… В углу, на возвышении, небольшая трибуна. Отсюда проштрафившийся гость, нарушивший „правила самопомощи“, обязан был произнести речь…»
В десять часов утра в большой мастерской Репина начинались сеансы. Репин задумал изобразить фигуру Шаляпина в натуральную величину на огромном горизонтальном холсте. Шаляпин подолгу позировал художнику. Певец свободно полулежал на широком диване (этот диван впоследствии получил название шаляпинского), небрежно лаская свою любимую собаку — бульдога Бульку.
— Барином хочу я вас написать, — говорил художник.
— Зачем? — удивленно спрашивал Шаляпин.
— Иначе не могу себе вас представить, — смеялся Репин. — Вот вы лежите на софе в халате. Жалко, что нет старинной трубки. Не курят их теперь.
Зимой в Куоккале не было дачников. Весь поселок утопал в снегу. «После шумного, почти всегда пасмурного и задымленного зимнего Петербурга вдруг белый снег, чистота воздуха прямо опьяняющая, когда снег пахнет то цветами, то арбузами. На незапачканном фабричным дымом небе яркое зимнее солнце, красное и золотое», — вспоминала Т. Л. Щепкина-Куперник, чей портрет Репин написал годом позже.
Вместе с Репиным Шаляпин днем расчищал от снега дорожки в саду, и это занятие после долгого позирования казалось певцу особенно приятным. Он катался на лыжах, на финских санях. Иногда, взяв коньки, отправлялся к берегу Финского залива, откуда вдалеке был виден Кронштадт.
За время, проведенное у Репина, Шаляпин превосходно отдохнул. Певец сохранил в памяти эту неделю, надолго запомнил беседы с Репиным. «Об искусстве Репин говорил так просто и интересно, что, не будучи живописцем, я все-таки каждый раз узнавал от него что-нибудь полезное, что давало мне возможность сообразить и отличить дурное от хорошего, прекрасное от красивого, высокое от пошлого», — писал Шаляпин.
Портрет Шаляпина вскоре был закончен. В 1914 году его видел И. Э. Грабарь, картина показалась ему несколько вычурной. Репин показал картину на 34-й передвижной выставке, но публика не проявила к ней интереса. Когда через несколько лет К. И. Чуковский спросил Репина о ней, художник с горечью ответил: «Мой портрет Шаляпина уже давно погублен. Я не мог удовлетвориться моим неудавшимся портретом. Писал, писал так долго и без натуры по памяти, что, наконец, совсем записал, уничтожил: остался только его Булька. Так и пропал большой труд».
Глава 7 ПЕСНИ РЕВОЛЮЦИИ
…А война все продолжалась. Немецкие названия повсеместно заменялись русскими. Петербургская сторона стала называться Петроградской. Из театрального репертуара изымались произведения немецких композиторов и драматургов. Такими мнимо-патриотическими акциями официальная пропаганда лишь разжигала шовинистические страсти. Обыватели легко поддавались пропаганде. Дошло до того, что националистически настроенная толпа пыталась учинить погром германского посольства на Исаакиевской площади, сбросила с фронтона здания на мостовую тяжеловесную конную скульптуру.
Тем временем петербургский обыватель постепенно «привык» к войне, отгородился от нее, не хотел задумываться о ее тяготах. И хотя в императорском Мариинском театре продолжали ставить «патриотически-аллегорическое действо» с пантомимой на злобу дня — «1914 год», в других театральных залах репертуар оставался вполне «мирным». Театр «Невский фарс» рекламировал увлекательное представление — пьесу «Без рубашки», где, по словам рецензента, «до этого дело не доходит, но г-жа Ермак показывала свои физические достоинства в весьма прозрачной сорочке, говорились скабрезности и творились нелепости». В кинотеатрах на Невском проспекте шли фильмы с завлекательными названиями: «Дочь павшей», «Сонька Золотая Ручка», «Раздавленная жизнью», «Клуб эфироманов», «Кровавый полумесяц». Спектакли Шаляпина противостояли захлестывающей пошлости «массового потока» — в Народном доме публика видела певца в лучших его ролях.
Шаляпина угнетала бессмысленность войны. Примечательно его письмо из Кисловодска М. Ф. Волькенштейну в августе 1915 года: «Аксарин предлагал мне петь 30 августа „Жизнь за царя“ и, кажется, с благотворительной целью (30 августа официально открывался каждый новый театральный сезон. — В. Д.). Все это было бы хорошо, если бы не тяжкий момент, который переживаем теперь мы все, русские люди. Если взглянуть серьезно на всю нашу жизнь и увидеть тот ужас, к которому привели нас традиции, глупейшие и ничтожнейшие, то думается мне — как смешно будет в дни, когда целый народ, может быть, стоит на краю гибели, когда гибнут сотни тысяч людей, исключительно от заведенных нашими царями и их жалкими приспешниками традиций, для них только удобных, повторяю, как смешно будет 30 августа распевать „Жизнь за царя“!.. Извини за раздражительный тон письма, но, право, я так страдаю за Россию, как ты себе и представить не можешь… С такими делами на войне нервы страшно болят, и отдыха никакого нет».
Когда в сентябре 1915 года Шаляпин вернулся в Петроград, обстановка в столице была уже далеко не мирной. Улицы заполнены беженцами, нищими, растут цены, возникают перебои с продуктами, горожане спешат запастись на зиму дровами…
В эти тревожные дни Шаляпин не скрывал своих настроений и не боялся выражать их публично. Так он вел себя, например, и 3 мая 1916 года в ресторане «Контан» на официальном банкете, посвященном годовщине франко-русского согласия. Фешенебельный ресторан находился в доме 58 на набережной Мойки, его в шутку называли «аржан-контан», что в переводе с французского жаргона значило «считать деньги». В зале собрались видные общественные деятели, французские министры Р. Вивиани и А. Тома, произносились торжественные верноподданнические речи. Однако казенно-официальную программу вечера неожиданно сломали музыканты. Газета «Русское слово» от 4 мая 1916 года писала:
«Когда Родзянко (председатель Государственной думы. — В. Д.) окончил свою речь, провозгласил тост за президента Пуанкаре, на эстраду поднялись А. К. Глазунов, А. И. Зилоти и Ф. И. Шаляпин. Зал затих. Раздались мощные звуки „Марсельезы“. Ф. И. Шаляпин, которому на двух роялях аккомпанировали А. К. Глазунов и А. И. Зилоти, пел „Марсельезу“ на французском языке. Исполнение было настолько мощным по своей красоте и сердечности, что у некоторых участников банкета появились на глазах слезы. Ф. И. Шаляпин бисировал после речи Р. Вивиани».
Иначе вспоминал об этом вечере С. К. Маковский, один из деятелей художественного объединения «Мир искусства», издатель журнала «Аполлон». Он воспринял пение Шаляпина как символическое:
«Песнь Руже де Лиля в устах Шаляпина на этом петербургском торжестве у Контана за год приблизительно до крушения императорской России прозвучала каким-то пророческим предвестием революции. В этот год она висела в воздухе. Когда Шаляпин запел, предреволюционная буря ворвалась в залу и многим не по себе стало от звуков этой песенной бури. За столом замерли, одни с испугом, другие со сладостным головокружением. Бедный Штюрмер (член Государственного совета. — В. Д.), сидевший рядом с Родзянко, врос в свою тарелку, сгорбился, зажмурил глаза. Да и не он один. Пророческий клик Шаляпина все покрыл, увлек за собой и развеял, обратил в ничтожество призрак преходящей действительности.
Сознавал ли тогда Шаляпин, какую судьбу предсказал он своей „Марсельезой“? Хотел ли он, друг Максима Горького, прозвучать каким-то Буревестником над императорской Россией?.. Но в бессознательности, в непонимании своего искусства никак нельзя заподозрить Шаляпина. Он прекрасно отдавал себе отчет в своих достижениях и возможностях…»
Февральскую революцию 1917 года Шаляпин встретил с надеждой и радостью. Многие в эту пору были охвачены романтическими надеждами и счастливой эйфорией. В письмах друзьям и родным артист поздравлял всех «с великим праздником свободы в дорогой России». В эти дни Шаляпин часто виделся с Горьким, оба они верили в переустройство жизни и хотели по мере возможности ему содействовать. «Человеком, оказавшим на меня в этом отношении особенно сильное, я бы сказал — решительное влияние, — подчеркивал Шаляпин, — был мой друг Алексей Максимович Пешков — Максим Горький. Это он своим страстным убеждением и примером скрепил мою связь с социалистами, это ему и его энтузиазму поверил я больше, чем кому бы то ни было и чему бы то ни было другому на свете».
Жажда гражданских свобод, надежда на обретение новых горизонтов творчества, новой гармонии жизни — общественной, художественной, личной — определяла взгляд на действительность, на происходящие события, наполняла новым смысловым, метафорическим содержанием даже, казалось бы, уже привычные художественные знаки, символы, образы. А. Н. Бенуа в статье, опубликованной в июле 1917 года, писал о памятнике императору Александру III П. Трубецкого на Знаменской площади в Петербурге: «…это не просто памятник какому-то монарху, а памятник, характерный для монархии, обреченной на гибель… Это — воистину монумент монарху, поощрявшему маскарад национализма и в то же время презиравшему свой народ настолько, что он считал возможным на все его порывы накладывать узду близорукого, узкодинастического упрямства».
События Февральской революции противоречиво отразились на повседневной жизни людей, не связанных с политической деятельностью. Каковы были их настроения? «Первого марта, я помню, у всех был только один страх, — как бы не пролилась кровь», — писал в газете «Русские ведомости» 14 марта А. Н. Толстой. Для многих отчетливо вставал вопрос, заданный себе А. Блоком в «Записных книжках»: «Нужен ли художник демократии?» В эти же дни поэт записал: «Произошло то, что никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала». Гимн «Да здравствует Свободная страна!» пишет К. Д. Бальмонт на музыку А. Т. Гречанинова. «На всех лицах было сознание уже одержанной победы, убеждение в том, что „вот теперь все пойдет к лучшему“», — восторженно записал А. Н. Бенуа, вернувшись с многолюдной демонстрации. «Максимализм русского сознания» особенно усилился в пору кризиса самодержавной власти и пробуждения антигосударственных настроений. Публика, охваченная пылом революционного романтизма, настойчиво требовала от художника исполнения важной социальной миссии, А. Блок предрекал появление «нового человека-артиста, который будет способен жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь».
Шаляпин снова стал «носителем революционной идеи», и это неудивительно — политическая жизнь «резонировала» в пылких и эмоциональных художественных натурах. После Февральской революции Рахманинов жертвует тысячу рублей в пользу амнистированных заключенных и публикует письмо, в котором трижды звучит слово «свободный»: «Свободной стране, свободной армии свободный художник». Слово «свобода» приобретает сакрально-магический смысл — Шаляпин поздравляет друзей «с великим праздником свободы в дорогой России».
Федор Иванович энергично включился в общественную деятельность. 4 и 5 марта 1917 года в квартире Горького собрались известные художники и архитекторы А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, К. С. Петров-Водкин, И. А. Фомин, В. И. Шухаев, Е. Е. Лансере, певец И. В. Ершов, М. Ф. Андреева и другие. Был здесь и Шаляпин. Намечалось организовать Комиссию по делам искусств.
«Необычайный переворот заставил очень сильно зашевелиться все слои общества, и, конечно, кто во что горазд начали работать хотя бы для временного устройства так ужасно расстроенного организма государства, — сообщал Федор Иванович дочери в Москву. — Вот и я тоже вынужден почти ежедневно ходить по различным заседаниям — пока я состою в Комиссии по делам искусств и на днях вступлю в общество по изучению жизни и деятельности декабристов, проектов для возведения им памятников и проч., и проч. Кроме того, я, слушая, как народные массы, гуляя со знаменами, плакатами и прочими к моменту подходящими вещами, поют все время грустные похоронные мотивы старой рабьей жизни, задался целью спеть при первом моем выступлении в новой жизни свободы что-нибудь бодрое и смелое. Но, к сожалению, не найдя ничего подходящего у наших композиторов в этом смысле, позволил себе написать слова и музыку к ним сам».
Певец неточен: в песне частично использован гимн гарибальдийцев, и потому на ее обсуждении в Мариинском театре композиторы А. К. Глазунов и Н. Н. Черепнин высказались против ее исполнения, считая музыку дилетантской и несамостоятельной. Однако Шаляпин все же спел «Песню революции» на сцене Мариинского театра на концерте-митинге. Торжественно звучали хор и оркестры — Мариинского театра и духовой Преображенского полка, Шаляпин, обернутый в широкий сверкающий плащ, пел:
К оружию, граждане, к знаменам! Свободы стяг неси вперед! Во славу русского народа Пусть враг падет, Пусть враг падет!Припев подхватывал хор. И зрители, и исполнители испытывали необычайный подъем. Публика долго аплодировала певцу.
Москва и Петроград охвачены забастовками, митингами, демонстрациями. Энергия масс проявляла себя стихийно, в увлекательном коллективном погроме прежней атрибутики и воспроизведении новой, политически актуальной эмблематики. Массовые шествия и революционные праздники сопровождались митингами, пением, плясками, музыкой духовых оркестров, живыми картинами. Торжества проводились едва ли не ежедневно по самым разным поводам отнюдь не равновеликой социальной значимости. Так, в марте 1917 года под громогласное пение «Марсельезы», с пламенными речами и движением толп несколько дней праздновалось возобновление трамвайного движения. Питирим Сорокин вспоминал: «И в Москве, и в Петербурге население радуется и веселится как на Пасху. „Свобода! Священная свобода!“ — кричат повсюду и везде поют песни». Во многих крупных городах общественность также проводит массовые церемонии торжественных перезахоронений борцов за свободу при огромном стечении народа. Похороны трех солдат собрали на Арбатскую площадь около семидесяти тысяч москвичей — с красными знаменами, цветами, транспарантами.
В бывших императорских театрах заменены официальные занавесы с имперской эмблематикой, спектакли по требованию публики начинались революционными песнями, при исполнении «Марсельезы» зал вставал. «Марсельезу» пели и играли повсеместно — перед киносеансами, в садах и парках перед гуляньями, на открытиях разного рода балов «в пользу борцов революции», на митингах с участием вождей и театральных кумиров, на концертах художественной декламации, перед докладами о «текущем моменте» и после принятия резолюции. Театры и кинематографы предлагают актуальный революционный репертуар: в прокат вышли фильмы «Отречемся от старого мира», «Вы жертвою пали в борьбе роковой», «В борьбе обретешь ты право свое», «Буржуй (враг народа) — социальная драма». На улицах бойко торговали красными лентами, бантами, флажками, открытками на революционные темы, с портретами революционных лидеров. Появление на людях без алой ленты или гвоздики выглядело подозрительным знаком уклонения от всеобщего народного ликования.
К торжественному открытию бывших императорских театров после событий Февральской революции К. А. Коровин ставит на сценах Большого и Малого театров посвященные политическим событиям живые картины. Публике Малого театра с поднятием занавеса открылось лазурное небо с ярко горящим солнцем, осветившим женщину в русском национальном костюме, с разорванными кандалами. «Освобожденную Россию» изображала А. Яблочкина. У ног ее распластался лейтенант П. Шмидт. Рядом — Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Достоевский, Толстой, Добролюбов, Чернышевский, Белинский, Писарев. Скрестив руки, сидит Бакунин, стоят Петрашевский, задумчивые Шевченко и Софья Перовская, вокруг группа арестантов в халатах. «Дальше, в мундирах александровских времен — декабристы и среди них княгиня Волконская, княгиня Трубецкая. Дальше — студенты, крестьяне, солдаты, матросы, рабочие, представители всех классов и народностей России… Теперь они победно поют „Марсельезу“. Впереди этой живой картины стоит комиссар московских государственных театров князь А. И. Сумбатов. Публика рукоплещет. У многих на глазах слезы».
К лету 1917 года наступает отрезвление. К. Бальмонт писал: «Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революцией, а эволюцией жив человек. Стройность порядка — вот что нужно нам как дыхание, как пища… Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее растут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно». Бальмонту вторит Александр Блок: «Неужели долго или никогда уже не вернуться к искусству?» И. Э. Грабарь в письме Б. М. Кустодиеву недоумевал: «Просто несчастье эта босяцкая гордость и „презрение к буржуям“, каким она считает каждого человека, носящего не грязный и не мятый воротник». В журнале «Аполлон» мрачные предчувствия и настроения были выражены с еще большей откровенностью: «Страшно вымолвить, но ничего не поделаешь: одичание. Это ли не регресс, не возвращение к… грубости неприкрытого художественного варварства». В своем предсмертном стихотворении 1921 года Блок с горечью признается: «Но не эти дни мы звали…»
Артист императорского Александрийского театра Я. О. Малютин спустя 40 лет с ужасом вспоминал зрителей той поры: «Столица кишела всякого рода подрядчиками, поставщиками, интендантами, казнокрадами всех мастей, стремившимися полной мерой отведать столичных удовольствий… Вот эта-то публика и занимала, как правило, первые ряды партера многочисленных петроградских театров, определяла их репертуар, грубо диктовала им свою волю». Интеллигенция пребывает в страхе и растерянности. П. П. Гнедич писал: «И в эти дни, дни смущения духа, в дни неудач, бед, несчастий, измен, предательства и позора вокруг все несется в какой-то бешеной вакхической пляске. Взгляните на список „зрелищ“: оперетка, веселые шутки, клоунады пестрят на каждом шагу. Раздетые женщины щекочут упавшие нервы. На выставках кидаются на покупку картин и платят за них, почти не смотря, двойные цены. Что это: последние балы на вулкане? Пляска смерти? Бездушные пиры во время чумы?.. И не чувствуем мы того, что погребены заживо, — и где наше избавление, и скоро ли оно придет — неизвестно».
«Точно ли в настоящее время общество по-настоящему интересуется новыми достижениями в искусстве? — задавался вопросом Вл. И. Немирович-Данченко. — Может ли оно сейчас этим интересоваться? Имеется ли у него для этого достаточный запас внимания? Я думаю, что нет, и не может быть, если не считать очень немногочисленных групп более праздных, чем те, кто в той или другой форме отдает свое внимание текущим событиям… Театральные представления вообще — да, они совершенно необходимы. Без этой „отдушины нервов“ обществу труднее было бы сохранить мужество и терпение. Но для новых задач в искусстве?.. Не знаю».
Тревожные сомнения одолевают многих. Радость революции сменялась озлоблением и паникой. «Как проиграна демократическая ставка на народ, оказавшийся „взбунтовавшимся рабом“, безумной и слепою яростью ненавидящим все, что в России есть просвещенного, так проиграна ставка на демократизацию искусства», — писал критик А. Р. Кугель в журнале «Театр и искусство». А спектакль Вс. Мейерхольда «Маскарад» в Александрийском театре звучал, по мнению театроведа К. Л. Рудницкого, как «мрачный реквием империи, фатальная панихида миру, погибшему в эти дни».
Театрализация выплеснулась на городские пространства. Улицы Петрограда приняли необыкновенный вид. Толпы людей с красными гвоздиками на груди шумно митингуют, гербы на воротах Зимнего дворца закрыты красными полотнищами. В Москве флагами украшены памятники Пушкину и Минину и Пожарскому, но при этом множество скульптур сброшено с постаментов и разбито. М. Горький предлагает создать комиссию для охраны художественных ценностей, в ответ А. Амфитеатров в статье «Идол самодержавия» задавался провокационным вопросом: «А не нужна ли для равновесия комиссия для разрушения некоторых памятников?» — и призывал перелить конную скульптуру Николая I на Исаакиевской площади на оружие для военных целей.
Искусство отвечало на запросы публики и ее победные призывы — такова была «злоба дня». Массы нетерпеливо требовали смены символов, героев, прославления знаковых фигур, обещающих счастливое будущее — здесь и сейчас.
После трудных месяцев общественного подъема Шаляпин отдыхает с семьей в Крыму. Но и в Севастополе его не покидает «революционное возбуждение». На морской набережной артист организовал большой концерт с участием матросского хора и оркестра. В программе романсы, народные песни, но главное — «Песня революции». «Выходит Шаляпин, он в матросской рубахе, — описывала зрелище газета „Крымский вестник“. — Ему дают красное знамя, его окружают старшины клуба матросов и солдат, участники концерта. Оркестр играет „Марсельезу“. После поцелуев и речей он поет. Наконец, финальный номер — „Песня революции“. Публика встречала и провожала артиста овацией».
Федор Иванович любил Крым. С этим благословенным краем связана его мечта о Замке искусств, который он хотел построить на Пушкинской скале. В 1917 году Шаляпин приобрел участок земли в Суук-Су (ныне «Артек»). Официальный документ — «купчая» — помечен 29 июля 1917 года: «Продано Федору Ивановичу Шаляпину участок земли 1488 кв. саженей за 10 000 рублей, скала, именовавшаяся прежде пушкинской, должна ныне именоваться „Шаляпинский утес“».
Тогда же архитектор И. А. Фомин выполнил проект замка. Певец мечтал открыть в нем свою школу, объединяющую «даровитую и серьезную молодежь». К сожалению, как и многие другие проекты Шаляпина, этот замысел не осуществился — остался «воздушным замком»… Артист сильно поторопился стать «замковладельцем»…
…18 сентября 1977 года праздновалось столетие курорта Суук-Су и восьмидесятилетие приобретения земли Шаляпиным у О. М. Соловьевой. На одном из зданий открыли мемориальную доску: «Есть в Крыму, в Суук-Су, скала у моря, носящая имя Пушкина. На ней я решил построить замок искусств. Именно замок. Я говорил себе: были замки у королей, рыцарей. Отчего бы не быть замку у артистов? Ф. И. Шаляпин». Это — строки из книги Шаляпина «Маска и душа». На празднество приехали родственники артиста — под восторженные возгласы курортников и представителей местных властей внучка певца Лидия Либерати сняла покрывало с мемориальной доски…
Когда осенью 1917 года Шаляпин возвратился в Петроград, это был уже совсем другой город, даже другая страна. Дух безвластия, разброда, произвола чувствовался во всем. Продолжалась непопулярная жестокая война, с фронта в столицу тянулись эшелоны с ранеными и беженцами. Февральская революция не оправдала возлагавшихся на нее радужных надежд…
Американский журналист Джон Рид в книге «Десять дней, которые потрясли мир» так описывал Петроград:
«Повсюду под ногами густая, скользкая и вязкая грязь, размазанная тяжелыми сапогами и еще более жуткая, чем когда-либо, ввиду полного развала городской администрации. С Финского залива дует резкий, сырой ветер, и улицы затянуты мокрым туманом. По ночам — частью из экономии, частью из страха перед цеппелинами — горят лишь редкие скудные уличные фонари; в частные квартиры электричество подается только вечером, с 6 до 12 часов, причем свечи стоят по 40 центов штука, а керосина почти нельзя достать. Темно с 3 часов дня до 10 утра. Масса разбоев и грабежей. В домах мужчины по очереди несут ночную охрану, вооружившись заряженными ружьями».
Разумеется, театры были открыты ежедневно, не исключая и воскресений. В Мариинском шел новый балет с Карсавиной, и вся балетоманская Россия являлась смотреть на нее. Пел Шаляпин. В Александрийском была возобновлена мейерхольдовская постановка драмы Алексея Толстого «Смерть Ивана Грозного».
25 октября в десять часов утра Военно-революционный комитет в воззвании «К гражданам большевистской России» объявил Временное правительство низложенным… Вечером 25 октября на сцене Народного дома давали «Дона Карлоса» Верди. Во время второго выхода Филиппа — Шаляпина раздались орудийные выстрелы. Зрители стали покидать зал. После кульминационной сцены объяснения Филиппа с королевой Елизаветой зал опустел. Спектакль прервали.
Начиналась новая историческая эпоха…
Часть шестая НА ИЗЛОМЕ ИСТОРИИ
Обычная наша театральная публика, состоявшая из богатых, зажиточных и интеллигентных людей, постепенно исчезала. Залы наполнялись новой публикой. Перемена эта произошла не сразу, но скоро солдаты, рабочие и простонародье уже господствовали в составе театральных зал. Тому, чтобы простые люди имели возможности насладиться искусством наравне с богатыми, можно, конечно, только сочувствовать. Этому, в частности, должны содействовать национальные театры. И в том, что столичные русские театры во время революции стали доступны широким массам, нельзя, в принципе, видеть ничего, кроме хорошего.
Ф. И. ШаляпинГлава 1 ИСКУССТВО — НАРОДУ?
Театр В. И. Ленин называл «осколком помещичьей, буржуазной культуры», однако видел в нем эффективное средство политической пропаганды, инструмент, способный формировать массовое сознание в русле большевистских ценностных норм и установок. Однажды сильно раздосадованный Луначарским, увлеченным театром в большей мере, чем школьным образованием, Ленин наложил на его письме жесткую резолюцию: «Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте». Правда, для Московского Художественного театра Ленин делал исключение: «Если есть театр, который мы должны из прошлого во что бы то ни стало спасти и сохранить, — это, конечно, МХАТ».
Такой взгляд вождя на сценическое искусство во многом определил роль театра и место художника в условиях нового режима: он предполагал безусловную подчиненность творчества государственной идеологии. «Если оперные театры все-таки устояли, — замечает музыковед М. Тараканов, — то это было связано отнюдь не с отеческой заботой вышеупомянутых лиц, а, скорее всего, с необходимостью сохранить перед Западом имидж всемилостивейших покровителей изящных искусств и не давать явного повода врагам новой России представить ее правителей как шайку глумливых погромщиков и вандалов. Кроме того, требовалось привлечь на свою сторону все еще достаточно влиятельную старую интеллигенцию, расколоть ее и обнадежить людей, склонных к компромиссу с властями, признав за ними право на свободное художественное саморазвитие».
Взаимодействие театра и публики издревле строилось на широком разнообразии сцены, на импровизационных отношениях с залом. Игровой, творческий, «партнерский» диалог сцены и зала рождал взаимопонимание, доверие; эмоциональное воздействие способствовало эстетическому, нравственному, гражданскому воспитанию зрителей.
Самоидентификация творческой интеллигенции, опирающаяся на традиции российского либерализма, идеи суверенных прав человека, личности, оказалась противопоставлена упрощенно понятой идее митинговой социальной справедливости. Но, как замечал Вл. Соловьев, «одна свобода еще ничего не дает народному большинству, если нет равенства». В. Ленин, отрицавший религию, тем не менее понимал, что выкорчевывание православия, если и осуществится, потребует серьезного восполнения освободившегося духовного пространства. Как вспоминал соратник Ленина М. И. Калинин, «Владимир Ильич мыслил так, что, пожалуй, кроме театра нет ни одного института, ни одного органа, которым мы могли бы заменить религию. Ведь мало религию уничтожить и тем освободить человечество совершенно от страшнейших пут религиозности, надо религию эту чем-то заменить, и товарищ Ленин говорит, что на место религии заступит театр».
После 1917 года отечественная массовая культура вошла в теснейшую сопряженность с идеологией большевизма и приобретала специфические качества. В новых условиях существования пространство свободного волеизъявления человека, выбора его отношений с культурой, с искусством резко сузилось.
Если раньше зрительская масса, публика, так или иначе, в рамках складывающего культурного спроса и предложения, влияла на многообразие художественной жизни, то после большевистского переворота инициатива масс оказалась почти целиком приватизирована идеологами нового режима. Это и понятно: правовой произвол и насилие становились повседневной нормой. Разгром «рабочей оппозиции», закрытие «буржуазных» газет, театров, журналов, жесткое экономическое регулирование и прочее свидетельствовали, что в сфере культурной политики, как и политики в целом, настала пора твердого административного «упорядочивания». «Ленин объявляет нравственным все, что способствует пролетарской революции, другого определения он не знает, — писал Н. Бердяев. — Понятие свободы относится исключительно к коллективному, а не личному сознанию. Личность не имеет свободы по отношению к социальному коллективу, она не имеет личной совести и личного сознания. Для личности свобода заключается в исключительной ее приспособленности к коллективу… Революционная коммунистическая мораль неизбежно оказывается беспощадной к живому конкретному человеку, к ближнему. Индивидуальный человек рассматривается как кирпич, нужный для строительства коммунистического общества, он лишь средство».
Отрицание личностных приоритетов, установка на «массу», на «коллектив» как на безусловный социальный авторитет в решении политических, экономических, идеологических задач предполагали широкое использование всего спектра визуальных средств. Агитационные плакатные витрины «Окон РОСТа», показательные «театрализованные суды» над «врагами народа», массовые манифестации, спровоцированные разного рода «красными датами» календаря, помпезные праздничные зрелища, пронизанные эмоциональной коллективной эйфорией «победы нового над старым», воздействовали на возбужденную революционными настроениями толпу. В этом же ряду — ленинский план монументальной пропаганды, поспешное создание новых и столь же воодушевленное свержение «старых» памятников, уничтожение российской геральдики, символов, гербов, переименование городов и улиц. Парадность, декоративность, маскарадность вытесняли сущностные основы бытия. «Театральные средства, применяемые церковью, — подчеркивал Л. Д. Троцкий, — должны преобразовываться в развлечения, в „игру“ и стать орудием „коллективного образования“… Человек хочет театральных эффектов, хочет видеть и слышать необычное, волнующее, хочет прервать однообразную монотонность жизни».
13 декабря 1924 года Ленинградский губисполком принял решение заменить ангела на Александровской колонне перед Зимним дворцом на статую Ленина. Начались серьезные подготовительные работы. Чтобы предотвратить смелый проект, понадобились личное письмо наркома А. В. Луначарского Г. Е. Зиновьеву и официальное мотивированное обращение Наркомпроса РСФСР в губисполком. Раздосадованный вождь ленинградских большевиков наложил на документ резолюцию: «Ну их к черту. Оставьте им колонну с „ампирным ангелом“. Г. Зиновьев».
Нужно было оторвать человека от прошлого, от традиционных ценностей, «сломать память», разрушить культурный опыт, переместить его в другую страну, в пространство новых знаковых образов и представлений. Так, петербуржец, (а с 1914 года — петроградец), совершая прогулку по центру города, выходил на Невский проспект от Дворцового моста, через Дворцовую площадь, мимо Малой и Большой Морской улиц, минуя Полицейский мост, Большую и Малую Конюшенные улицы, ступал на Казанскую площадь, пересекал Екатерининский канал, Михайловскую, Садовые, Караванную улицы, Владимирский и Литейный проспекты, Николаевскую, Знаменскую улицы, выходил на Знаменскую площадь и оказывался у Николаевского вокзала. Уже в конце 1924 года тот же петербуржец, став ленинградцем, начинал ту же прогулку у Республиканского моста, пересекал площадь Урицкого, выходил на проспект имени 25 Октября, шел мимо улиц Герцена, Гоголя, минуя Народный мост, улицы Желябова, Софьи Перовской, Плеханова, пересекал канал Грибоедова, улицы имени 3-го Июля, Пролеткульта, Толмачева, проспекты Володарского и Нахимсона, улицу Марата и Восстания, выходил на площадь Восстания к Октябрьскому вокзалу.
В книге воспоминаний «Маска и душа» Ф. И. Шаляпин пересказывает популярный в 1920-х годах анекдот: «Когда Петроград переименовали в Ленинград, то есть когда именем Ленина окрестили творение Петра Великого, Демьян Бедный потребовал переименования произведений Пушкина в произведения Бедного». В реальности же старинный русский город Спасск — районный центр Мордовского округа (ныне Пензенская область) как подарок к сорокалетию Бедного в 1923 году был переименован в Беднодемьяновск и просуществовал под этим названием до 2005 года.
Как известно, Ленин в переписке с Горьким в ответ на его просьбы освободить арестованного В. Г. Короленко четко высказал свою оценку интеллигенции: «…не мозг нации, — как полагал Горький, — а говно». Открытый диалог с интеллигенцией обрекал власть на поражение: следовательно, интеллигенцию необходимо изолировать — другого выхода нет. В 1922 году нарком просвещения А. Луначарский досадует: «Интеллигенция выдвинула значительно меньше, чем можно было ожидать, из своей среды художников, которые способны были искренне и полностью петь песни победившему пролетариату». При этом нарком признавал: «Народные массы как таковые… не имели в себе никаких оформившихся творческих начал… Они, скорее, переживали период жадного впитывания театральной атмосферы, элементов театральности».
В марте 1922 года Ленин публикует статью «О значении воинствующего материализма» с рекомендациями «вежливенько препроводить» за рубеж представителей «духовной элиты», 19 мая предлагает Дзержинскому тщательно подготовить вопрос о высылке за границу ряда писателей и профессоров: «…надо поставить дело так, чтобы этих „военных шпионов“ изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу». В письме Сталину от 16 июля требует от занимающейся этим вопросом комиссии «несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго. Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров, не позже. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов — выезжайте, господа!»
10 августа 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) утвердило персональные списки ссыльных, а спустя неделю газета «Известия» опубликовала декрет Президиума ВЦИКа «Об административной высылке». В сентябре — октябре 1922 года из Москвы высланы многие философы и ученые, каждый расписался в уведомлении, что самовольное возвращение в Россию влечет за собой расстрел. Параллельно шли судебные процессы над эсерами и по так называемому «Таганскому делу». (А годом раньше, 25 августа 1921-го, был расстрелян Н. С. Гумилев — это один из сигналов устрашения интеллигенции. Тогда же Ленин настоял на выезде за границу Горького — «на лечение»: чтобы не мешал.)
В 1919 году учреждаются Ассоциация академических театров и главный административный орган, управляющий театральной деятельностью, — Центротеатр. В декрете об объединении театрального дела от 26 августа, подписанном Лениным и Луначарским, театрам устанавливались субсидии, позволившие существенно снизить цены на билеты, а с сезона 1920/21 года посещение театров стало практически бесплатным. В Петрограде билеты на спектакли во все государственные и академические театры распределялись по рабочим организациям, профсоюзам, учебным заведениям. Театр шел навстречу публике — и традиционной, и новой, «пролетарской», и даже репрессируемой.
А. В. Луначарский также констатировал несомненный взлет театральной жизни: «Никогда ни в одном культурном городе не было такого высокохудожественного, такого безукоризненного репертуара». И в самом деле, в московском Малом театре шли восемь пьес Островского, «Горе от ума» Грибоедова, «Плоды просвещения» Л. Толстого, «Старик» Горького, пьесы Лопе де Вега, Мольера. Московский Художественный театр показывал инсценировку «Села Степанчикова» Достоевского, «Синюю птицу» Метерлинка, «У жизни в лапах», «У врат царства» Гамсуна, «Три сестры» и «Вишневый сад» Чехова, «На дне» Горького, «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина, «На всякого мудреца…» Островского, «Горе от ума». Луначарский доволен: «Надо заботиться о том, чтобы лучшие произведения мировой литературы доходили до пролетариата с известным комментарием».
К. С. Станиславский позднее писал:
«Грянула Октябрьская революция. Спектакли были объявлены бесплатными, билеты в продолжение полутора лет не продавались, а рассылались по учреждениям и фабрикам». Об этом вспоминал и Ф. И. Шаляпин: «Напрасно думают и утверждают, что до седьмого пота будто бы добивался русский народ театральных радостей, которых его раньше лишали, и что революция открыла для народа двери театра, в которые он раньше безнадежно стучался. Правда то, что народ в театр не шел и не бежал по собственной воле, а был подталкиваем либо партийными, либо военными ячейками. Шел он в театр „по наряду“».
Действительно, «новая публика» распределялась в театры по усмотрению властей, но тем не менее и активность «старых зрителей», добровольно обеспечивающих аншлаги «своих» театров, в эти годы никоим образом не стоит недооценивать. «Нового зрителя, пришедшего в театр, можно только приветствовать, — писал А. Южин осенью 1918 года. — Для актера нет большего наслаждения, чем играть перед аудиторией, открывающей перед ним свои чуткие к прекрасному сердца». Впрочем, радуясь новой публике, Южин тем не менее серьезно опасался и «партийных шор», способных разрушить хрупкую гармонию отношений сцены и зала, складывающуюся в Малом театре.
Английский писатель Герберт Уэллс, посетивший Россию в 1920 году, был поражен насыщенностью театральной жизни российских столиц:
«Наиболее устойчивым элементом русской культурной жизни оказался театр. Здания театров оставались на своем месте, и никто не грабил и не разрушал их. Артисты привыкли собираться там и работать, и они продолжали это делать; традиции государственных субсидий оставались в силе. Как это ни поразительно, русское драматическое и оперное искусство прошло невредимым сквозь все бури и потрясения и живо по сей день. Оказалось, что в Петрограде каждый день дается свыше сорока представлений, примерно то же самое мы нашли в Москве… Пока смотришь на сцену, кажется, что в России ничто не изменилось; но вот занавес падает, оборачиваешься к публике, и революция становится ощутимой».
И в самом деле, «обернувшись», Г. Уэллс увидел не нарядную публику в вечерних туалетах, а пеструю толпу рабочих, красноармейцев, краснофлотцев, совслужащих, учащихся, пришедших на спектакль, как правило, по разнарядке.
Артисты, выступавшие в рабочих и красноармейских клубах, не сразу находили с новой аудиторией взаимопонимание. На заседании Центротеатра 21 августа 1919 года, проходившем под председательством А. В. Луначарского, А. И. Южин назвал выездные спектакли откровенной халтурой, которая влияет «не только на материальную, но и на моральную стороны работы»: «Все эти районные спектакли — они деморализуют труппу и берут у нее много времени и сил. Серьезной работы в такой обстановке быть не может». Во время одного из таких выездов великая актриса Малого театра Садовская тяжело простудилась и вскоре умерла. На похоронах Ольги Осиповны Садовской 20 января 1920 года Вл. И. Немирович-Данченко говорил:
«Испуганными, недоумевающими глазами смотрит Малый театр в настоящее и грядущее. Власть над зрительным залом, та власть, которой был особенно одарен этот театр, ускользает от него, потому что это уже иной зрительный зал и уже иные требования к искусству несет он с собою».
Замешательство, в котором оказался Малый театр, хорошо знакомо и Художественному театру. К. С. Станиславский признавался: «…мы не знали, почему новый зритель не принимает известные места пьесы и как можно приспособиться для того, чтобы они дошли до его чувства… Пришлось начать с самого начала, учить первобытного в отношении искусства зрителя сидеть тихо, не разговаривать, садиться вовремя, не курить, не грызть орехов, не приносить закусок и не есть их в зрительном зале. Первое время было трудно, и дважды или трижды доходило до того, что я по окончании акта, настроение которого сорвала присутствующая толпа еще не воспитавшихся зрителей, принужден был отдергивать занавес и обращаться к присутствующим с воззванием от имени артистов, поставленных в безвыходное положение».
Положительные результаты не заставляют себя ждать. В феврале, сыграв Астрова в «Дяде Ване», Станиславский записывает в Дневнике спектаклей:
«Я утверждаю еще серьезнее, что театр обязан обратить внимание на воспитание новой публики», а спустя три дня, 15 февраля, следует запись: «Вышел перед спектаклем и объяснил публике значение тишины для хода спектакля и игры артистов. Заявление было встречено одобрением. Весь спектакль шел при полной тишине. Даже не позволяли смеяться. Если бы на каждом спектакле делали то же, что через месяц, я ручаюсь, не узнали бы публики. Она подберется и не посмеет входить в театр в пальто и шляпах. После 2-го акта потребовал, чтобы удалили из зала пьяного. Он был удален».
Но в «воспитании» нуждались не только зрители, но и исполнители власти. Как-то вечером во время занятий Оперной студии в квартиру Станиславского «ворвался контролер жилищного отдела». «Грубо вел себя. Просил снять шляпу — „Нешто у вас здесь иконы“. Пожилой актер Тихонов одернул гостя, сославшись на собственные седины, — „Теперь все равны“. При уходе хлопнул дверью». Станиславский возмущен: «В пальто садился на все стулья спальной моей и жены. Лез во все комнаты, не спросясь. — „Что же мне, по-магометански туфли снимать, как в храме?“ Фамилия контролера Мирский Мих. Павл.», — увековечил память о визите Станиславский в Записной книжке 19 апреля 1920 года. Типичный эпизод булгаковского «Собачьего сердца».
Академические театры живут непросто. Отстраненному от работы В. А. Теляковскому директор Малого театра А. Южин пишет: «Сейчас надвигается столетний юбилей театра, и нельзя его не довести до конца… управляют все: директор, местком, общее собрание, РКК и пр.». Примечательно: и уволенный Теляковский, и оставленный в должности Южин не отделяют личную судьбу от судьбы Театра и даже России. «Все мы, и правые, и средние, и левые, и просвещенные, и не просвещенные, и богатые (некогда), и бедные — все равно виноваты в ужасе и разгроме нашей матери России и все тяжко платим за это…» — пишет Южин.
В июле 1920 года Теляковский, «классово-враждебный элемент», отправлен заведовать сапожной мастерской. «Я не жалуюсь, — замечает он Южину, — все это пустяки. Что меня беспокоит, это что время идет быстро, годами я уже не так молод, а то действительно полезное, что я мог бы дать Театру и людям, им интересующимся, — обработать и приготовить при жизни материал, собранный за 20 лет, — этим я заняться не могу… Вот материал… мог бы много помочь администраторам Театра, а потому не с эгоистической целью хочется в этом отношении поработать, а для пользы вообще всех, и театральных деятелей больше, чем лично моей».
Для Южина и Шаляпина ценность опыта Теляковского безусловна, Южин ставит своей целью, несмотря на все препятствия, вызволить архив Теляковского из банковских сейфов, реквизированных Советами. Шаляпин берется вывезти документы из Москвы в Петроград.
Наконец бюрократические препоны преодолены, и наконец князь Сумбатов-Южин вместе с горничной Машей — никому больше довериться невозможно — впрягается в салазки и вывозит мешки с архивами и рукописями из банка домой. Спустя две недели Шаляпин вручает ценный груз Теляковскому.
1922 год, видимо, самый тяжелый для Южина и Теляковского, возрастные недуги, бытовые трудности «притупляют мышление». «Не живешь, а прозябаешь изо дня в день, — сетует Теляковский, — и когда, наконец, думаешь, что все устроил и заготовил, вам приходят сказать, что для стирки мыла нет». И все же: «Как ни плохо дома, все же вы у себя, среди своих, и убеждение, что вы все переносите вместе, дает некоторое удовлетворение и еще больше его дает, когда начнется какое-нибудь улучшение».
Начнется ли? Всю ночь 5 июня 1923 года Южин писал письмо Теляковскому — кто может лучше понять его смятенное состояние? Театр одолевают проверочные комиссии, тупые назначенцы разваливают труппу, нет рядом единомышленников и честных помощников, нет денег. Все бросить? «Но осложняет дело то, что вся труппа, от Ермоловой до выходного (статиста. — В. Д.), подали мне трогательное заявление с требованием, чтоб я взял дело. Весь вспомогательный состав в иной форме обратился с тем же. Но одно дело — просить, другое помогать делу. Актеры — милые, но жестокие дети. Все это Вы знаете лучше меня».
Теляковский отвечает:
«Вы пишете про Малый театр, а я вижу современную Россию… И выходит: Театр — жизнь, жизнь — Театр. И без жизни нет театра, и без театра давно уже не было бы жизни. Более 2000 лет он ее сторожит, из нее черпает, а она в свою очередь из него берет, ибо в нем есть запас несколько больший — он забегает вперед, он предчувствует».
Спустя три месяца, 24 октября 1924 года, Владимир Аркадьевич Теляковский умер. Он успел увидеть свою книгу «Воспоминания. 1898–1917» — она вышла в январе 1924 года. Спустя два года театровед Евгений Кузнецов выпустил книгу В. А. Теляковского «Императорские театры и 1905 год», а в 1927 году — «Мой сослуживец Шаляпин». Усилия Шаляпина и Южина не пропали: книги Владимира Аркадьевича переиздаются, а многотомное издание «Дневники директора императорских театров» вышло в Москве на рубеже 1990–2000-х годов.
Глава 2 «ТАЛАНТ НАРУШАЕТ РАВЕНСТВО»
Вечером 25 октября 1917 года Шаляпин вышел на сцену петроградского Народного дома, «…одетый в богатую порфировую мантию, со скипетром в руках, с короной испанского короля Филиппа на голове», еще не зная, что в эти часы решается судьба страны. «Когда осужденные инквизицией узники проходили мимо короля и королевы, стены театра и мою бутафорскую корону сотряс гулкий пушечный выстрел». Часть публики покинула зрительный зал.
«Немало труда стоило королю Филиппу II Испанскому убедить своих робких подданных, что бежать некуда, ибо невозможно определить, куда будут сыпаться снаряды, — вспоминал Шаляпин. — Через минуту за кулисы прибежали люди и сообщили, что снаряды летят в противоположную сторону и что опасаться нечего. Мы остались на сцене и продолжали действие. Осталась и публика в зале, также не знавшая, в какую сторону бежать, и поэтому решившая сидеть на месте.
— Почему же пушки? — спрашивали мы вестовых.
— А это, видите ли, крейсер „Аврора“ обстреливает Зимний дворец, в котором заседает Временное правительство.
К концу спектакля выстрелы замолкли. Но путь мой домой не был особенно приятным. Шел дождь со снегом, как бывает в Петербурге глубокой осенью. Слякоть. Выйдя с Марией Валентиновной, я не нашел извозчика. Пошли пешком. Повернули на Каменноостровский проспект, идем, и вдруг посыпался горох по мокрому воздуху. Поднялась какая-то стрельба. Звякнули и пули. Если моя храбрость поколебалась, то можете представить, что случилось с моей женой? В темноте — фонари не горели — перебегая от крыльца к крыльцу и прячась у дверей, мы кое-как добрались домой».
Тем не менее театры продолжали работать. Народный дом, еще не так давно носивший имя императора Николая II, стал называться Госнардом. Аббревиатуры — черта нового революционного стиля.
Когда поет Шаляпин — его спектакли идут часто, через день, — огромный зал переполнен. «Принимает меня публика, скажу, как никогда, я стал иметь успех больше, чем когда-нибудь», — сообщает он в Москву дочери Ирине. Видимо, в тревожные дни театр создавал публике иллюзию стабильности, призрачную возможность на несколько часов почувствовать себя в безопасности.
В Москве революционные события развивались по своему сценарию. После трех «боевых» дней «постоя» в Малом театре — красногвардейцы обстреливали Кремль — А. И. Южин увидел загаженный зал, разгромленную канцелярию, буфеты, гардеробную, ограбленную костюмерную, репинский портрет М. С. Щепкина, изуродованный семью штыковыми проколами.
Переворот 25 октября 1917 года совпал с бенефисом любимца московской публики Александра Вертинского. Вечер в Петровском театре завершился триумфом, но домой бенефицианту пришлось полдороги добираться пешком — поблизости началась перестрелка, и ехать дальше извозчик наотрез отказался. К утру уличные бои закончились. Юнкера Алексеевского училища бились до конца. «Погибло их немало, и через несколько дней, в страшную непогоду, в стужу, в снежный вихрь, бесновавшийся над городом, — от Иверской и вверх по Тверской — бесконечной вереницей потянулись гробы за гробами, и шла за ними осмелившаяся, несметная безоглядная Москва, последний орден русской интеллигенции, — вспоминал Дон Аминадо. — На тротуарах стояли толпы народу и, не обращая внимания на морских стрелков с татуированной грудью и неопытных красногвардейцев, увешанных гранатами, долго и истово крестились».
Бессмыслие жестокости потрясло Вертинского. «То, что я должен сказать» — странное название для «ариэтки» — почти как публицистический гражданский крик «Не могу молчать!»:
Я не знаю, зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть недрожавшей рукой? Только так беспощадно, так зло и ненужно Опустили их в Вечный Покой! Осторожные зрители молча кутались в шубы, И какая-то женщина с искаженным лицом Целовала покойника в посиневшие губы И швырнула в священника обручальным кольцом.Музыкальная новелла… Эпизод из жизни обернулся исповедью, трагической подлинностью бытия…
А «проза жизни» маленьких, не слишком удачливых людей, зигзаги их личной, «частной» судьбы по-прежнему увлекали слушателей Александра Вертинского — печального Пьеро. Его портреты — на афишах, в журналах, обложках нот, выставлены в магазинных витринах и фотоателье. Но «То, что я должен сказать» обнажило в артисте «болевую точку», о которой публика ранее не догадывалась.
Тем временем политическая жизнь в стране развивалась стремительно и необратимо. 14 декабря 1917 года эсеровская газета «Воля народа» уверенно предсказывала развитие событий: «Открытие Учредительного Собрания и утверждение его прав будут означать смерть большевизма. Агония большевизма началась, и все то безумное, что сейчас делают большевики, — предсмертные припадки горячечного больного».
Социалисты-революционеры оказались плохими провидцами — какая агония? Большевики не церемонясь разогнали Учредительное собрание, эсеров вскоре разбросали по тюрьмам и поставили под расстрел.
…А театр живет!
Артистов Мариинского театра часто приглашали участвовать в концертах для рабочих, красноармейцев, матросов. Выступления оплачивались продуктами — мукой, сахаром, селедкой. Участвовал в них и Шаляпин.
В Кронштадте, в огромном зале Морского манежа, Шаляпин пел романсы, арии из опер, народные песни, «Марсельезу», «Дубинушку». В ответ на аплодисменты певец произнес краткую речь об огромной роли искусства и культуры в просвещении народа. В ответном приветствии артисту говорилось: «Великий гений мира, сын российско-трудовой семьи Федор Иванович Шаляпин! Прими от имени Красного революционного Кронштадта, товарищей моряков, солдат, рабочих и работниц сердечное российское спасибо за твой великий дар твоего труда на святое дело просвещения молодой российской демократии и искреннее пожелание здравствовать тебе и твоему семейству на многие, многие лета… Да здравствует царство социализма!»
Много позже поэт Виссарион Саянов посвятил одному из таких концертов стихотворение:
Я навсегда запомнил вечер темный В далеком восемнадцатом году, Когда на сцене средь толпы огромной Вдруг оказался сразу на виду У всех сидевших в театральном зале Огромный белокурый человек. Его аплодисментами встречали Восторженно… …А бас гремел, над всей страною несся, Всей силой славил жизни торжество, И революционные матросы В тот вечер жадно слушали его. Он дальше пел, и становился проще, И напоследок стал нам всем родной, Всей неизбывной русской силы мощен, Красив всей чистой русской красотой.В ноябре 1917 года, через три недели после октябрьского переворота, теперь в Государственном Мариинском театре отмечают 75-летие со дня первого представления «Руслана и Людмилы». Шаляпин поет Фарлафа, в зале и за кулисами атмосфера праздника. После спектакля артисты в сценических костюмах фотографируются в фойе. От гонорара за выступление певец отказывается. «В тяжелый час, когда все кругом звереет, на мою долю выпадает счастливый вечер — петь „Руслана и Людмилу“. Позволь мне от полноты сердца… передать сегодняшний мой гонорар — шесть тысяч рублей — „Музыкальному фонду“, ибо мне известно, что там есть тяжелые нужды», — пишет он А. И. Зилоти.
В апреле 1918 года Шаляпин дает благотворительный концерт в пользу создания израильской оперы, поет на иврите песню «Хатива», сегодня она исполняется как государственный гимн Израиля.
Пройдет немного времени, и Александр Ильич Зилоти эмигрирует в Финляндию. Еще раньше, 23 декабря 1917 года, выехал в Стокгольм Сергей Васильевич Рахманинов. Федор Иванович передал другу на дорогу пакет: банку икры и буханку белого хлеба — по тому времени большой дефицит…
В связи с национализацией заводов и фабрик и передачей в общественную собственность всех частных предприятий появились призывы «обобществить» и Шаляпина. «Мы должны освободить гений Шаляпина от экономического удушения… Дать ему все, избавить его от всяческих материальных забот о семье; его же обязать лишь одним условием: петь только тогда, когда он захочет и где захочет». Подобные заявления — чистейшая пропагандистская демагогия. Благостный тон сменялся гневными окриками. «Из народа, но не для народа» — называлась статья в одной из петроградских газет, в которой всерьез ставился вопрос о принудительной социализации Шаляпина, раз он «сам в себе не находит внутреннего требования такой социализации по своему убеждению». Все сбережения артиста, естественно, аннулированы.
Федор Иванович пытается защитить свои права. В царящей атмосфере произвола, экспроприаций, арестов его протесты наивны. Конфискован вклад в Азовско-Донском банке. Шаляпин обращается с заявлением в Петроградскую трудовую коммуну:
«Я нахожу эту реквизицию несправедливой и оскорбляющей как мое достоинство артиста, так и достоинство власти. Деньги, взятые у меня, я нажил не путем эксплуатации чужого труда, не спекуляцией на голоде и несчастий народа, а путем упорной работы, тяжесть которой едва ли понятна людям, не знакомым с ее условиями. Я нажил эти деньги тратой моего таланта, силами моего духа. Я могу и смею сказать, не преувеличивая моих заслуг пред родиной, что двадцатипятилетний труд мой на арене русского искусства заслуживает более справедливого отношения ко мне. Поэтому я прошу Петроградскую Коммуну возвратить мне деньги, взятые Совдепом города Ялты».
Просьба удовлетворена не была — ее просто не заметили…
Национализацией вкладов новая власть не ограничивалась. Привычными стали повальные обыски и реквизиции имущества. Шаляпин ищет защиты у наркома просвещения А. В. Луначарского:
«Анатолий Васильевич, помогите! Я получил извещение… что какие-то солдаты без надлежащего мандата грабят мою московскую квартиру. Они увезли сундук с подарками… Ищут будто бы больничное белье, так как у меня во время войны был госпиталь… Но белье я уже давно роздал, а вот мое серебро пропало…»
А. В. Луначарский выдал артисту «охранную грамоту»:
«Настоящим удостоверяю, что в запертых сундуках, находящихся в квартире Ф. Шаляпина в Москве на Новинском бульваре в д. 113, заключаются подношения, полученные Ф. Шаляпиным в разное время от публики. Имущество это никакой реквизиции подлежать не может и, представляя собою ценную коллекцию, находится под покровительством Рабочего и Крестьянского Правительства».
Но и «грамота» наркома просвещения не спасала Шаляпина от реквизиций: перед ЧК все были равны. Даже симпатизировавший певцу финский коммунист Рахия, сидя с ним за рюмкой эстонской водки, как-то откровенно заметил: таких людей, как Шаляпин, надо резать.
— Почему?
— Ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство.
Обычно чекисты искали деньги, золото, антисоветскую литературу, оружие. Впрочем, ради упрощения процедуры отбирали все, что приглянется.
«Опять подымают ковры, трясут портьеры, ощупывают подушки, заглядывают в печку, — вспоминал Шаляпин. — Конечно, никакой „литературы“ у меня не было, ни капиталистической, ни революционной. Вот, эти 13 бутылок вина…
— Забрать вино, — скомандовал старший.
И как ни уговаривал я милых гостей вина не забирать, а лучше со мной отведать, добродетельные граждане против искушения устояли. Забрали. В игральном столе нашли карты… Забрали. А в ночном столике моем нашли револьвер.
— Позвольте, товарищи! У меня есть разрешение на ношение этого револьвера. Вот смотрите: бумага с печатью.
— Бумага, гражданин, из другого района. Для нас она необязательна.
Забавна была процедура составления протокола об обыске…
— Гриша, записал карты?
— Записал, — угрюмо отвечает Гриша.
— Правильно записал бутылки?
— Правильно, 13.
— Таперича, значит, пиши: револьвер системы… системы… какой это, бишь, системы? Какой системы, гражданин, ваш револьверт?
— Веблей Скотт, — отвечаю.
— Пиши, Гриша, системы библейской…
Карты, вино, библейскую систему — все записали, забрали и унесли».
Унизительные обыски, реквизиция домашней утвари, столового серебра, постельного белья становились реалиями жизни. А ведь Шаляпина никоим образом нельзя было назвать саботажником. Артист приглашен в Мариинский театр, его первое выступление состоялось в «Борисе Годунове» 19 января 1918 года. Опера давалась «в пользу фонда плотников театра»; они преподнесли Федору Ивановичу подарок — хлеб-соль и приветственный адрес, прикрепив его к деревянной части люка-провала (из него в 1895 году появился Шаляпин, дебютируя в партии Мефистофеля). В тот же день состоялось экстренное заседание Совета государственной оперы, Шаляпин избран его почетным председателем.
Певец искренне озабочен ситуацией в театре: труппа сильно поредела, нуждается в пополнении. Шаляпин спешно восстанавливает старые спектакли.
Его огорчают частые собрания, отвлекающие труппу от творческих дел. Режиссер Н. В. Смолич вспоминал о попытках «классового шантажа» монтировщиков декораций — этот рассказ записал писатель А. Л. Лесс:
«— Без нас, рабочих, — говорили они, — спектакли так же не могут идти, как и без актеров, а раз по новой конституции мы теперь равны, то и оклады должны быть одинаковыми…
Слово взял Шаляпин. Как ни странно, он полностью присоединился к требованиям рабочих. На следующий день перед началом спектакля Шаляпин в меховой безрукавке… энергично носил декорации и устанавливал их с завидной легкостью… Уже давно поставлены декорации, сквозь занавес доносятся звуки настраиваемых инструментов… а Шаляпин как ни в чем не бывало сидит с рабочими, рассказывает им какие-то комические истории, и все весело смеются.
— Пора одеваться, Федор Иванович, — сказал Шаляпину его друг, ведущий режиссер Исай Дворищин. — Скоро начнется первый акт.
— Нет, — решительно заявил Шаляпин, — я петь не буду… Я ставил декорации и устал… Свою работу я выполнил. А так как теперь все равны, то петь Олоферна будет сегодня плотник Трофим!
Сперва все были этими словами огорошены… Но тон и лицо Шаляпина были настолько серьезны, что все поняли: его решение бесповоротно… И они стали упрашивать Шаляпина не срывать спектакль.
— Вот, братцы, — сказал он, — вы видели, что я могу хорошо ставить декорации, а петь Олоферна никто из вас не может… Значит, мы не во всем равны… И здравый смысл должен подсказать вам всю нелепость такой уравниловки…»
Новых должностей Шаляпина не счесть, и они обязывают его вступать в отношения с советским чиновничеством. Федора Ивановича раздражают «дамы-коммунистки», жены руководящих лиц, «брошенные на культуру». Впрочем, возмущают не только «дамы», но и весь бессмысленный, нищенский, унизительный уклад новой жизни.
В своем дневнике 1919 года З. Н. Гиппиус оставила желчные наблюдения:
«Всеобщая погоня за дровами, пайками, прошениями о невселении в квартиры, извороты с фунтом керосина и т. д. Блок, говорят… даже болен от страха, что к нему в кабинет вселят красноармейцев. Жаль, если не вселят, ему бы их следовало целых „12“. Жена Горького (М. Ф. Андреева. — В. Д.) теперь комиссарша всех российских театров… „коммунистка“ душой и телом. В роль комиссарши — министра всех театрально-художественных дел — она вошла блестяще… Иногда художественная мера изменяет ей и она сбивается на роль уже не министерши, а как будто императрицы („Ей-богу, настоящая Мария Феодоровна“, — восклицал кто-то в эстетическом восхищении). У нее два автомобиля, она ежедневно приезжает в свое министерство, в захваченный особняк на Литейном — „к приему“… Наш интернациональный хлыщ — Луначарский — живет в сиянии славы и роскоши, эдаким неразвенчанным Хлестаковым. Занимает, благодаря физическому устранению конкурентов, место единственного и первого „писателя земли русской“. Недаром „Фауста“ написал (пьеса Луначарского называлась „Фауст и город“. — В. Д.). Гёте написал немецкого старого, а Луначарский — русского, нового, и, уж конечно, лучшего, ибо „рабочего“».
В Петрограде Шаляпин состоит в дирекции Мариинского театра, разрабатывает план реорганизации оперной труппы, исполняет обязанности управляющего художественной частью всех государственных, в том числе и драматических, театров, он член всевозможных советов и жюри. Летом 1918 года его просят возглавить Большой театр. Шаляпин отклоняет предложение — «боюсь очень всяких московских пройдох и тамошних интриг», — но с весны 1919 года все же соглашается стать членом директории Большого. Он поет во множестве спектаклей в Москве и Петрограде, выступает с концертами в клубах, на заводах, фабриках, в воинских частях.
Артисту не нужно искать контакта с аудиторией, его всегда принимают триумфально. Новый зритель, как считал певец, имел право «насладиться искусством наравне с богатыми». Перед спектаклями Мариинского театра нередко выступал А. В. Луначарский. Его вступительное слово имело просветительскую цель, посвящалось эпохе создания оперы, ее содержанию, сценической истории. Нарком подготавливал публику к восприятию спектакля. Но Шаляпин вовсе не стремился что-то упрощать в своих ролях, он «поднимал» зрителя до уровня спектакля, вел его за собой. Это сказывалось буквально во всем. На эстраду певец всегда выходил в концертном фраке, даже если в зале было холодно; лакированные ботинки, белые перчатки, лорнет, который он подносил к глазам, заглядывая в программу, кому-то казались неуместными в матросском клубе. Режиссер Большого театра Б. А. Покровский писал: «Многие обвиняли Шаляпина в том, что он эпатирует пролетарского зрителя, хочет показать, что он другой породы, хотя все знали, откуда он появился. На самом деле — нет. Это было высочайшее уважение к публике, к новой публике. И желание, может подсознательное, воспитывать в ней чувство театральности, торжественности художественного акта».
В январе 1918 года в Мариинском театре было решено организовать бенефисный спектакль в пользу рабочих сцены. Раньше этим правом кроме артистов могли пользоваться только хор и оркестр. Монтировщик декораций В. Я. Яковлев вспоминал, что Шаляпин одобрил идею и предложил поставить в этот вечер «Бориса Годунова». Певец подарил рабочим три своих рисунка:
«На одном Федор Иванович, подняв руки, зевает и потягивается. И подпись: „Рано поутру не будите меня, молоду“. На другом — Шаляпин в роли Еремки; что было на третьем, не помню.
Вручая рисунки, Федор Иванович сказал:
— Вот вам от меня подарок к вашему бенефису. В день спектакля продайте их в зрительном зале. Это увеличит ваши средства.
Спектакль прошел с большим успехом… В антракте, — продолжает свой рассказ В. Я. Яковлев, — стоя на барьере оркестра в зале, я продавал рисунки — подарки Федора Ивановича — на манер американской лотереи. Другой член комитета Е. Воронин собирал деньги в зале и вручал рисунки.
Помню, что нарком А. В. Луначарский сидел в кресле против меня и, смеясь, смотрел, как я, держа рисунок, кричал:
— Кто больше?..»
Но отношения Шаляпина с рабочими сцены, как мы знаем, не всегда складывались столь идиллично.
Весной 1918 года в стране наступил продовольственный кризис. Дирекция Мариинского театра искала возможность обеспечить хотя бы минимумом продовольствия всех работников театра. Весьма показательно заявление, которое подписал Шаляпин вместе с другими руководителями театра: «Считая себя обязанным по мере сил содействовать обслуживанию запфронта… члены дирекции отказываются от пайка, чтобы увеличить число пайков, могущих быть выданными работникам театра (не артистам)».
Доминанта новой социальной роли Шаляпина — присуждение звания народного артиста. Импровизация увлекающегося наркома Луначарского оказалась, вероятно, неожиданной для него самого, она родилась в ходе очередного «выступления перед демократической публикой» Мариинского театра. В антракте после первого акта «Севильского цирюльника» из гримерной срочно вызвали на сцену Шаляпина. Луначарский тут же перед занавесом на публике поздравил артиста. Видимо, Луначарскому потребовалось время, чтобы убедить власти легитимизировать свой душевный порыв, потому что официальное постановление появилось почти через месяц — 13 ноября 1918 года: «Совет Народных Комиссаров Союза коммун Северной области постановил в ознаменование заслуг перед русским искусством — высокодаровитому выходцу из народа, артисту Государственной оперы в Петрограде Федору Ивановичу Шаляпину — даровать звание Народного артиста. Звание Народного артиста считать впредь высшим отличием для художников всех родов искусств Северной области и дарование его ставить в зависимость от исключительных заслуг в области художественной культуры». (Заметим: слово «республика» нигде не упоминается, не очень понятно, как и когда оно появилось. Пока же Шаляпин, строго говоря, — народный артист «губернского масштаба» — Северной области России.)
Сигнал официального признания дал толчок новым награждениям: уже через три дня общее собрание артистов — солистов театра даровало Шаляпину звание заслуженного артиста государственных театров. Положение обязывает — теперь «Дубинушка» становится ритуалом, по идеологической весомости она уступает только «Интернационалу». Всё это не мешает производить обыски, реквизировать «излишки имущества», подарки публики, столовое серебро и пр. Особняк на Новинском бульваре превращен в перенаселенную коммунальную квартиру. Шаляпин, прежде открытый, жизнерадостный, становится мрачным, подозрительным — всюду сыск, доносительство, аресты. Он боится за судьбу близких и не устает предупреждать Иолу быть крайне осторожной.
Любопытную заметку поместила газета «Вечерние вести» 20 июня 1918 года:
«Позавчера Ф. И. Шаляпин, проезжая ночью около Страстного монастыря вместе со своим неизменным спутником И. Г. Дворищиным, был неожиданно остановлен патрулем. Ссадив Шаляпина и его спутника по разные стороны извозчика, патруль произвел тщательный обыск оружия, которого у обоих не оказалось. Предъявленный на прощание Шаляпиным паспорт смутил товарищей, и они поспешили извиниться».
Новый режим изымал из социального оборота категории, определяющие существование интеллигенции, — личность, талант, индивидуальность. Лояльный художник сотрудничает с партией, с властью; устраняющийся от сотрудничества — потенциальный или реальный враг народа.
И. А. Бунин вспоминал о многолюдном митинге в петроградском Михайловском театре в защиту культуры:
«Горький держал свою речь весьма долго и высокопарно и затем объявил:
— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!
Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами и вызывать нас… Выходило так, что Шаляпину опять надо было „становиться на колени“. Но он решительно сказал прибежавшему:
— Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.
Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:
— Вот, брат, какое дело: и петь нельзя и не петь нельзя — ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.
И так и не стал».
Награды и должности иногда помогали Шаляпину смягчать участь арестованных новой властью друзей и знакомых. «Приходится хлопотать то за одного, то за другого», — пишет Федор Иванович Иоле Игнатьевне 22 сентября 1922 года. «На днях арестовали Теляковского, и вот пришлось хлопотать об его освобождении. Слава Богу, выпустили, и вчера я его видел у себя. Довольно часто бываю у Алекс<ея> Максимовича… Если б ты знала, сколько народа через его просьбы сейчас освобождено от тюрьмы», — писал артист дочери. Однако усилия Шаляпина и Горького далеко не всегда увенчиваются успехом.
В мае 1919 года Шаляпин принимает у себя А. А. Блока и К. И. Чуковского. Речь идет о предполагаемом издании книги о Горьком. Федор Иванович начал диктовать свои воспоминания, Блок и Чуковский их редактировали. Видимо, таких встреч было несколько, потому что 18 июня 1919 года Шаляпин получает из издательства З. И. Гржебина письмо: «Многоуважаемый Федор Иванович! Не хотите ль Вы продолжить, или, вернее, закончить диктовку Ваших воспоминаний о Горьком? Редакторы очень торопят с этим делом. Может быть, будете любезны, черкнете с моим посланным, когда можно приехать. Уважающая Вас Е. Струкова». И здесь же приписка: «Умоляю Вас, глубокоуважаемый Федор Иванович, завершить начатое. Если бы у Вас выдалась свободная минута, я пришел бы лично просить Вас об этом, но теперь, когда нет телефона, боюсь помешать. Вам преданный К. Чуковский». Однако в условиях всеобщей разрухи завершить работу над книгой о Горьком не удалось.
Петроград полон жутких слухов о внезапных массовых арестах и ночных расстрелах. З. Н. Гиппиус записывает в дневнике:
«Зверей зоологического сада… кормят свежими трупами расстрелянных». Поговаривают, что в анархистских налетах участвует Мамонт Дальский. Волей-неволей приходится опасаться еще недавно лучших друзей. «Прошу тебя и всех вас, — пишет Шаляпин Иоле Игнатьевне в Москву, — быть крайне осторожными и ничего не говорить о политике даже с вашими друзьями и знакомыми. Потому что вообще ничего не известно, что у кого в душе». И в другом письме: «С Дальским о политике не говорите, примите его любезно. Пусть поживет в моей комнате. Из стола прошу вынуть все мои бумаги и перенести их в свою комнату, а также и все фотографии…»
Участие Дальского в бунтах и вылазках анархистов не доказано. Тем горше сознавать, что Шаляпин допускал возможность участия своего друга и соратника по искусству в сомнительных акциях. В Москве, направляясь к Шаляпиным на Новинский бульвар, Мамонт Викторович сорвался с подножки переполненного трамвая и попал под колеса. «И смерть его какая-то странная, необычная, и жизнь его была такая же», — сокрушенно писал о Дальском театральный критик А. Р. Кугель. Ирине Шаляпиной выпала тяжелая миссия опознания Дальского: «Как сейчас помню полуподвальное помещение и распростертое на каменном полу тело трагика… А в ушах все еще раздавались бессмертные стихи Пушкина, которые накануне, сидя у нас в столовой, со слезами на глазах читал Дальский». Хоронили Мамонта Викторовича на кладбище Александро-Невской лавры в Петрограде. Народу пришло мало. На гроб возложили венки от ресторана «Стрельна» и от Ф. И. Шаляпина — с надписью: «Кину русского театра».
В «Хождении по мукам» А. Н. Толстой изображает Дальского главарем анархистов. Это малодостоверная легенда. Театровед Г. Крыжицкий приводит в своей книге письмо анархистов, заключенных в петроградских «Крестах»: «Мамонт Дальский никакого прямого или косвенного участия в наших акциях не принимал. Его мы знаем только как артиста и не знаем лично».
Тяжкой утратой для Шаляпина стала смерть Василия Васильевича Андреева. За полгода до кончины друга Федор Иванович был на концерте его оркестра в Зимнем дворце, спорил с Луначарским — нарком называл народные инструменты примитивными, — добивался государственной субсидии для музыкального коллектива Андреева…
29 декабря 1918 года Петроград прощался с В. В. Андреевым. Печальная церемония началась в доме на Мойке, 64, где жил выдающийся музыкант. Шаляпин присоединился к процессии на Невском, у Гостиного Двора. Современник вспоминал: «Из автомобиля вышла могучая фигура в темно-синего цвета русской поддевке на меху. На голове этого гиганта красовалась необыкновенная меховая шапка. Подойдя ближе, я узнал Ф. И. Шаляпина — ближайшего друга Андреева, который один из первых открыл гениального певца-артиста… Процессия приближалась — Шаляпин обнажил голову».
Василия Васильевича Андреева отпевали в одной из небольших часовен лавры.
«Величайшая печаль охватила всех. Шаляпин, поднявшись по ступенькам катафалка, долго всматривался в спокойное лицо Андреева и со словами: „Вася, Вася! Что же ты сделал?“ — опустил голову на грудь Андреева. Через несколько мгновений, овладев собой, Шаляпин поднялся, поцеловал Андреева в лоб, несколько раз с нежностью погладил его по голове и с глазами, полными слез, отошел в сторону».
С Андреевым были связаны теплые воспоминания о первых петербургских дебютах. В послереволюционные годы Шаляпину остро не хватало простоты, сердечности, добрых друзей: уехали Рахманинов и Зилоти, Дальский и Андреев покинули бренный мир… Жизнь с каждым днем становилась все официальнее, «казеннее», бездушнее.
Артиста постоянно приглашали на многочисленные концерты, завершающие работу того или иного собрания. На одном из них, проходившем в Колонном зале Дома союзов, Шаляпин с удивлением заметил, что публика не слушает его, переглядывается, встает, шепчется, кого-то приветствует. Шаляпин закончил номер, а зал в ответ стал громко скандировать: «Да здравствует Ленин! Ура Ленину!» Конферансье долго успокаивал зал и дал знак Шаляпину продолжать выступление. В таких концертах Шаляпин ощущал себя неким досадным «декоративным приложением» к официальным торжественным мероприятиям.
Летом 1919 года Шаляпин пишет Иоле Игнатьевне: «Жалею, что сам не могу поехать в Москву, но причина все одна и та же — мне не хочется вертеться на глазах у начальствующих лиц и особенно сейчас, в это крайне неопределенное время, — начнут приставать с пением, а там окажется вместо концерта — митинг и тому подобные разные штуки, участвовать в которых для меня совершенно лишнее».
Избежать поездок в Москву, однако, не удавалось, тем более что в Петроград приходили вести о новых попытках «уплотнения» московского дома.
«Эта необходимость „просить“ была одной из самых характерных и самых обидных черт советского быта», — признавался Шаляпин. Он безуспешно пытается дозвониться до Л. Б. Каменева (его называли генерал-губернатором Москвы), обращается к посредничеству высокого советского чиновника и давнего приятеля Л. Б. Красина, просит его помочь Иоле Игнатьевне: «Бедная бывшая итальянская балерина ни в каком случае не принадлежит к числу так называемых „домовладельцев“ и, конечно, не выпила ни одной капли народной крови». 22 июня 1919 года Федор Иванович пишет Иоле Игнатьевне: «В случае осложнений пойди к Леониду Борисовичу Красину, это комиссар торговли, промышленности и железных дорог, а также друг Ленина. У него ты можешь рассчитывать найти покровительство и узнать о заложниках — куда посадили и вообще…»
Конечно же отстоять московский дом от тотального уплотнения не удалось. Теперь кабинетом Шаляпину служила маленькая комнатка на антресолях; когда Федор Иванович выпрямлялся, казалось, потолок лежит на его плечах.
Шаляпин жаловался Коровину:
«Я имею право любить свой дом. В нем же моя семья. А мне говорят: теперь нет собственности — дом ваш принадлежит государству. Да и вы сами тоже. В чем же дело? Значит, я сам себе не принадлежу. Представь, я теперь, когда ем, думаю, что кормлю какого-то постороннего человека… Что же они, с ума сошли, что ли? Горького спрашиваю, а тот мне говорит: погоди, погоди, народ тебе все вернет. Какой народ? Кто? Непонятно. Но ведь и я народ… Пришли ко мне какие-то неизвестные люди и заняли половину дома. Пол сломали, чтобы топить печку… Луначарский говорит, что весь город будет покрыт садами. Лекции по воспитанию детей и их гигиене будут читать. А в городе бутылки молока достать нельзя…»
Но для Коровина Шаляпин — человек всесильный, и он просит его помощи в защите от произвола местных властей. Дом в Охотине экспроприирован. «Прошу тебя попросить Луначарского или кого нужно, чтобы подтвердили мое право пользоваться своей дачей-мастерской, — пишет Коровин 17 февраля 1918 года. — …Я всю жизнь работал для искусства и просвещения… Жить в Москве не имею средств, надеялся жить и работать в Охотине. При даче только три десятины пахотной земли, даже в купчей помянуто: „участок, не приносящей дохода“, и притом я по происхождению крестьянин той же Владимирской губернии. Помоги, дорогой Федя, так как я не знаю, к кому обратиться, кроме тебя. Лично я болен очень и не могу приехать в Петроград просить. Сердце у меня страдает, и мне трудно ходить…» А 21 марта 1920 года Коровин снова пишет Шаляпину: «Ведь художнику нужен кров, мольберт, краски, холсты… Ведь в этих комнатушках я ведь имею старинные тряпочки — черепки, цветные фарфоры, фотографии… Всякую муру, но мне нужную как мой обиход художника. Ведь с этих чуждых и грошовых вещей, для всякого другого, я сделал много постановок… и теперь театр живет моими постановками, декорациями и костюмами. Если надо, конечно, сберечь памятники искусства старины, то новое искусство будет старым, нужно и его сберечь…»
Чем мог помочь Шаляпин, подвергавшийся унизительным обыскам, конфискациям, уплотнениям, сам вынужденный постоянно выступать в роли просителя?
Летом 1919 года Федор Иванович зовет Иолу Игнатьевну и детей в Петроград: «Одно только меня очень беспокоит: как сделать так, чтобы вы все остановились у меня и вместе с тем дети не узнали бы то, о чем ты не хочешь, чтобы они знали. Этот вопрос меня совершенно убивает. Нужно что-то сделать, что-то предпринять серьезное и решительное, а между тем я не знаю что, как сделать, потому что мне ни за что не хочется причинять тебе еще какие-нибудь огорчения и неприятности. Поэтому я буду просить тебя указать мне путь к выходу наименее болезненному». Письмо свидетельствует: до 1919 года дети не знали о второй семье отца.
Иола Игнатьевна сама в Петроград не поехала, но детей к отцу отпустила. Их приезд совпал с тревожным временем. К городу подступала армия генерала Юденича. Введен комендантский час. Дочь Ирина вспоминала, как ее вместе с братьями и сестрами задержал патруль. Узнав, что нарушители — дети Шаляпина, милицейский начальник сменил гнев на милость, позвонил артисту и послал охрану за Федором Ивановичем. Пришлось Шаляпину явиться в милицию вызволять детей.
О настроениях и надеждах певца — в письме Иоле Игнатьевне:
«Питер, конечно, будет занят надвигающимися белогвардейцами. Мы вчера ходили гулять на острова, на стрелку, откуда виден в дымке Кронштадт. Вчера была очень сильная бомбардировка из тяжелых орудий… Словом, положение угрожающее. Сегодня пришел ко мне человек, который знает наверное — ночью или завтра утром сдадут Петроград… Я, вероятно, не успею переправить детей в Москву. Но я тебя очень прошу… не беспокойся о них. Мне кажется, что с падением Питера Москва тоже долго не продержится… Я ведь хотел, чтобы ты приехала сюда, для того, чтобы можно было в случае уехать за границу…»
Письмо это впервые затрагивает тему отъезда из Советской России. Но Петроград не сдан, и дети благополучно вернулись в Москву.
Скоро Федор Иванович сам отправится в столицу по весьма серьезному поводу. У властей возникла идея «национализировать» бывшие императорские театры. Имущество Мариинского театра — костюмы, декорации, бутафорию, реквизит — предполагалось раздать любительским и провинциальным группам. Вместе с управляющим петроградскими государственными театрами И. В. Экскузовичем Шаляпин встречается с Лениным.
«Я вошел в совершенно простую комнату, разделенную на две части, большую и меньшую, — вспоминал певец. — Стоял большой письменный стол. На нем лежали бумаги, бумаги. У стола стояло кресло. Это был сухой и трезвый рабочий кабинет.
Ленин немного картавил на „р“. Поздоровались. Очень любезно пригласил сесть и спросил, в чем дело. И вот я как можно внятнее начал рассусоливать очень простой, в сущности, вопрос. Не успел я сказать несколько фраз, как мой план рассусоливания был немедленно расстроен Владимиром Ильичом. Он коротко сказал:
— Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я отлично все понимаю.
Тут я понял, что имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов, и что разжевывать дел ему не надо. Он меня сразу покорил и стал мне симпатичен. „Это, пожалуй, вождь“, — подумал я. А Ленин продолжал:
— Поезжайте в Петроград. Не говорите никому ни слова, а я употреблю влияние, если оно есть, на то, чтобы ваши резонные опасения были приняты во внимание в вашу сторону.
Я поблагодарил и откланялся. Должно быть, влияние было, потому что все костюмы и декорации остались на месте и никто больше их не пытался трогать. Я был счастлив».
Характеристика, данная Ленину Шаляпиным в 1932 году, сегодня может удивить своей доброжелательностью, ведь портреты других советских вождей, нарисованные артистом, далеки от сентиментального флера, и понять, почему он отъединяет Ленина от его большевистской когорты, от всего содеянного ею в России, сложно. Вероятнее всего, в оценке Ленина Шаляпин учитывал и точку зрения Горького, который после смерти вождя в 1924 году написал проникновенный очерк, впоследствии неоднократно переиздававшийся с соответствующими политической конъюнктуре исправлениями.
Ленина, Сталина, других властных персон Шаляпин встречал у Демьяна Бедного, жившего демонстративно широко. В мемуарах Федор Иванович пишет:
«Бедного в Демьяне очень мало, и прежде всего в его вкусах и нраве. Он любит посидеть с приятелями за столом, хорошо покушать, выпить вина… В критические зимние дни он разухабисто бросает в свой камин первосортные березовые дрова. А когда я, живущий дома в 6-ти градусах тепла, не без зависти ему говорю, что это ты так расточаешь драгоценный материал, у тебя и без того жарко, мой милый поэт отвечал: „Люблю, весело пылает!“ …Бедный искренне считает себя стопроцентным коммунистом… Квартира Бедного в Кремле являлась для правящих верхов чем-то вроде клуба, куда важные, очень занятые и озабоченные сановники забегали на четверть часа не то поболтать, не то посовещаться, не то с кем-нибудь встретиться… У Бедного же я встретился с преемником Ленина Сталиным… Он говорил мало, с довольно сильным кавказским акцентом. Но все, что он говорил, звучало очень веско — может быть, потому, что это было коротко.
— Нужно, чтоб они бросили ломать дурака, а здэлали то, о чем было уже говорэно много раз…
Из его неясных для меня по смыслу, но энергичных по тону фраз я выносил впечатление, что этот человек шутить не будет. Если нужно, он так же мягко, как мягка его беззвучная поступь лезгина в мягких сапогах, и станцует, и взорвет Храм Христа Спасителя, почту или телеграф — что угодно. В жесте, движениях, звуке, глазах — это в нем было. Не то что злодей — таков он родился».
Квартира придворного поэта Демьяна Бедного — «большевистский оазис», здесь ничто не напоминало о суровой и скудной жизни москвичей. А за кремлевскими стенами писатели и поэты, ученые и артисты, художники и музыканты — те, кому еще «повезло», — по утрам выстраивались за продовольственными пайками: выдавался мерзлый картофель, ржавые селедки, залежалая мука и крупа… Но художественная жизнь в Москве продолжалась. Открывались выставки, театры, студии.
В Петрограде Шаляпин работал в Мариинском театре — и как артист, и как режиссер-постановщик, и как один из руководителей труппы. Условия существования непростые. Финансирование неустойчиво, здание требовало ремонта. В ночь на 5 октября 1919 года в зрительном зале обвалилась штукатурка — «Демона» отменили; не состоялся и «Севильский цирюльник» — 9 октября отключили электричество, спектакли прекратили до ноября. Ко второй годовщине Октября удалось показать «Псковитянку»: ее возобновлением занимался Шаляпин.
В декабре ударили свирепые морозы, и лишь когда собрали минимальные запасы дров, театр начал работать; зрителям (в отличие от артистов и музыкантов!) разрешили находиться в зале в верхней одежде. В марте 1920 года в городе вспыхнула эпидемия тифа, театр закрыли для проведения всеобщей дезинфекции.
Глава 3 «ВЕРИТЬ ТОЛЬКО НАДО В ЖИЗНЬ, В РОССИЮ»
И все же, несмотря на все социальные катаклизмы и стихийные бедствия, жизнь в Советской России приобретала относительно мирный, упорядоченный характер. В море самой разной информации — политической, экономической, криминальной — снова большое место начинает занимать хроника культурной жизни, публикуются рецензии на спектакли и обзорные статьи, интервью с деятелями искусства, хлесткие фельетоны, карикатуры, шаржи. Читающая публика хочет знать, как живут и что думают о новой жизни их «властители дум», какую творческую, житейскую и политическую платформу они занимают. С нетерпением ждут программных заявлений и от Федора Ивановича Шаляпина.
В феврале 1918 года Шаляпин отвечал репортеру одной из газет: «Вот все хочу свой театр строить. Все думаю, как бы это по-новому надо. Большие бы, огромные театры для толпы на много тысяч, и там показать большое… Нужна большая красота… Новое нужно… А что перестройка эта самая тяжело идет — это ничего. Дело ведь у нас очень большое. Утрясется все, образуется. Верить только надо в жизнь, в Россию. Я верю».
Веря в будущее, Шаляпин открывает в Москве, в тогда еще не заселенном жильцами доме на Новинском бульваре, театральную студию для одаренной молодежи. Ученицами студии стали Ирина и Лидия Шаляпины. Федор Иванович тревожился за судьбы дочерей, решивших посвятить себя актерской профессии. Он всегда относился к детям нежно, с любовью, но кому, как не артисту, знать, сколько труда, испытаний, пота, мучительных переживаний скрыто за внешней привлекательностью, «парадностью» актерской жизни.
Шаляпин многое дал своим детям, но искренне был убежден в том, что художественный талант по наследству не передается. Беседуя с руководителем студии Ольгой Владимировной Гзовской, он настойчиво выспрашивал: в полную ли меру его дочери даровиты и сильны?.. Есть ли у них право вторгаться в область искусства? В ответ на замечание О. В. Гзовской: «Федор Иванович, зачем же так жестоко?» — Шаляпин горячо воскликнул: «А в искусстве жестокость — первейшая вещь. Разве Константин Сергеевич с вами, своей ученицей, которую он любит, не жесток в своих поисках правды? Разве сама правда не бывает жестока? Вот я и думаю — лучше знать обо всех трудностях работы в искусстве с первого абцуга, чтобы потом не было разочарований. Потому и говорю: плохо верю в таланты детей талантов… Ведь если дети мечтают о Театре с большой буквы, то надо, чтобы мечта не противоречила действительности, чтобы мечты имели основание. Иначе дело — табак!»
Шаляпин всегда проявлял большой интерес к экспериментальной работе Станиславского в музыкальном театре, часто посещал репетиции и спектакли его оперной студии при Большом театре. Вместе с ним смотрит спектакль «Гадибук», поставленный Е. Б. Вахтанговым в студии Габима. Представление произвело сильное впечатление: «Прекрасному театру Габима. Бросайте, бросайте в священный огонь вашего алтаря сердца, честные актеры! Знайте, что светом пламени вы озаряете мысль и открываете путь слепцам. Ф. Шаляпин».
Режиссерские поиски Е. Б. Вахтангова увлекли Шаляпина. На встрече с актерами после спектакля «Принцесса Турандот» Шаляпин прочел «Моцарта и Сальери» Пушкина и оставил в книге посетителей запись: «Попал в райский сад благоуханных разнообразных цветов. Спасибо и низкий поклон».
Как вспоминал участник спектакля, позднее известный режиссер Ю. А. Завадский, актеры попросили Шаляпина что-нибудь почитать: «Он сидел, непринужденно развалясь в кресле. Не меняя позы, произнес первые слова из „Моцарта и Сальери“. Прошло какое-то мгновение, и мы забыли, что перед нами Шаляпин, — это был Сальери. И таким же естественным было его перевоплощение в Моцарта. Произошло чудо искусства, тот „момент истины“, который освещает творчество великих художников… Из встреч с ним я всегда извлекал неповторимые уроки мастерства».
В студии Шаляпина начинали свою артистическую жизнь знаменитые впоследствии актеры и режиссеры: О. Н. Андровская, К. М. Половикова, О. Н. Абдулов, М. Ф. Астангов, Н. М. Горчаков, А. М. Лобанов, Р. Н. Симонов, И. П. Раппопорт, Ирина и Лидия Шаляпины. Функции председателя правления Иоле Игнатьевне помогал выполнять молодой юрист М. Г. Бедросов. Федор Иванович придумывает темы для этюдов, импровизирует роль помещика, остановившегося в «номерах»; остальные студийцы тут же «входят в роли» надоедающих барину просителей.
Летом 1919 года шаляпинская студия объединилась со студией А. А. Гейрота и вскоре, согласно решениям Театрального отдела Наркомпроса — им тогда управлял Вс. Э. Мейерхольд, — получила официальное название «Театр РСФСР-4». У студийцев появилось свое помещение — небольшой двухэтажный особняк неподалеку от Арбата. На первом этаже размещались гримерные и склад декораций, на втором — зал с небольшой сценой. В студии преподавали мастера, близкие к Художественному театру: О. В. Гзовская, В. Г. Гайдаров, С. Г. Бирман, С. В. Гиацинтова. Авторитет К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, мхатовской школы здесь очень высок. Сценическому движению и танцу учила молодежь Иола Игнатьевна.
Бывало, Шаляпин долго засиживался в студии, пел, танцевал, рассказывал. Поздним вечером Осип Абдулов и Федор Иванович шли по Арбату. На пустынной улице дул холодный ветер. Абдулов спрашивал, как Шаляпин, играя Дона Базилио, прямо на глазах у публики «вырастает» до неправдоподобных размеров, вытягивается и сокращается, наподобие ползающего червя.
— Это верно, тут и от червяка что-то есть. Ведь для него главное — деньги. За деньгами он тебе от Арбатской площади до Смоленской проползет. Совесть у него такая — растяжная. Понимаешь?
— Это-то я понимаю, Федор Иванович, но непостижимо, как вы это проделываете. Так сказать — техника…
«Мы как раз проходили мимо фонаря, — вспоминал Абдулов. — Федор Иванович озорно подмигнул мне и вдруг присел на корточки, подхватил полы своей крылатки. И вот так, с согнутыми коленями, он стремительно пошел вперед. Я еле поспевал за ним. Постепенно, очень плавно, он распрямлялся, но это было незаметно, потому что так же постепенно опускалась крылатка. Он рос на глазах. Вдруг я увидел впереди фигуру какой-то старушки. Федор Иванович быстро приближался к ней, продолжая на ходу расти. Поравнявшись с ней, он внезапно выпрямился во весь свой огромный рост, как-то по-птичьи вытянул шею, раскинул руки и запел во весь голос: „Сатана там правит бал…“ Старушка мелко крестила воздух и шептала: „Свят, свят, свят“».
Абдулов наблюдал Шаляпина и в домашней обстановке, с близкими ему людьми. В квартире К. А. Коровина на Мясницкой часто бывала молодежь, повзрослевшие дети Шаляпина со своими друзьями. Коровин поражал всех невероятными рассказами, в которых трудно было отличить истину от вымысла, Шаляпин не отставал от него, Луначарский сочинял «научные» доклады на заданную тему: например, о производстве пуговиц в Южной Аргентине. Тут молодежь превращалась в благодарных зрителей: с огромного дивана все с восторгом следили за состязанием в остроумии, импровизации, выдумке.
Студия привлекала внимание многих артистов Художественного театра, в том числе и Евгения Багратионовича Вахтангова. Пристально следил за ее работой и заведующий Театральным отделом Наркомпроса Вс. Мейерхольд. 28 января 1921 года вождь «Театрального Октября» намеревался побывать на спектакле студии, но заболел и послал студийцам извинительное письмо с просьбой «поздравить… Вашего вожака гениального Федора Ивановича с новыми днями деятельности вашей студии… Будьте всегда уверены: я всегда всей душой с вами… Да здравствует молодая армия Театрального Октября. Вс. Мейерхольд. 31.1.21 г.».
На один из студийных капустников Федор Иванович привел И. М. Москвина, В. И. Качалова, известного конферансье Б. С. Борисова. Они тут же включились в программу, сымпровизировав «хор братьев Кроликовых» — это была пародия на популярный в ту пору хор братьев Зайцевых, выступавший в театрах миниатюр. Качалов надвинул на глаза кепку и обернул шею кашне, Москвин подвязал красным носовым платком якобы заболевшие зубы, Борисов надел феску Абдулова, Шаляпин взъерошил себе волосы, и они запели вразнобой, кто в лес, кто по дрова. Впоследствии этот номер студийцы неизменно включали в свои капустники.
…А в Петрограде у Шаляпина тоже творческие замыслы — он намерен выступить на драматической сцене.
Мысль выступить в драматической роли давно владела Шаляпиным. Ю. М. Юрьев помнил, что Федор Иванович намеревался сыграть Люцифера в «Каине» Байрона. Да и саму идею поставить в Художественном театре «Каина» подсказал Станиславскому Шаляпин…
Еще в 1898 году Стасов предрекал 25-летнему Шаляпину возможную блестящую карьеру драматического актера. Интерес певца к драме проявлялся весьма разнообразно: он любил читать друзьям «Моцарта и Сальери» Пушкина, пьесу Горького «На дне», репетировал с И. М. Москвиным роль Сатина, вместе с В. Ф. Комиссаржевской исполнял в концертной интерпретации «Манфреда» Байрона. Существование в «пограничной области» музыкального и драматического искусства и даже в заведомо слабых музыкально-сценических характерах позволяло ему подниматься до высокого трагизма. Поэтому, когда 10 ноября 1918 года в Александрийском театре состоялся торжественный вечер, посвященный столетию со дня рождения И. С. Тургенева, Шаляпин решил сыграть Яшку Турка в инсценировке «Певцов». В трактовке Шаляпина Яшка приобрел близкие ему черты ранних рассказов Горького: «Два босяка», «Челкаш» и др.
В молодые годы Шаляпин часто бывал за кулисами Александрийского театра. Теперь, спустя 20 лет, он пришел сюда как равный партнер выдающихся мастеров. Но, как вспоминал режиссер и актер Л. С. Вивьен, Шаляпин держал себя скромно, даже застенчиво, ответственно относился к небольшой, в общем-то, роли: «Несколько фраз, не больше. И вот что удивительно — этот гениальный мастер, у которого мы учились сценическому поведению, уменью лепить образ, сидел на репетиции тихо, в углу, словно робкий ученик… В спектакле Шаляпин спел „Лучинушку“, и как он ее спел!»
Весной 1919 года инсценировка «Певцов» с участием Шаляпина была показана на сцене Народного дома.
Шаляпина по-прежнему привлекают фигуры мощные, бунтарские. Артист мечтает поставить цикл музыкальных инсценировок по картине Репина «Бурлаки» и русской песне «Дубинушка», «Осуждение Фауста», «Манфред», и снова воображение возвращает его к казацкому атаману Степану Разину. 4 октября 1918 года в Вестнике общественно-политической жизни, искусства, театра и литературы (№ 14) появилось сообщение: «В кинематографических кругах возникла идея создать большую кинематографическую картину „Стенька Разин“. К разработке сценария привлечен и Максим Горький. Главное действующее лицо сыграет Шаляпин. Съемки будут происходить на Волге». Эти же сведения спустя пять лет подтверждает и журнал «Печать и революция» (1923. № 2). Идею всячески поддерживал и Луначарский. Фильм, однако, поставлен не был. В 1919 году Мариинский театр предполагал возобновить хореографическую картину М. М. Фокина «Стенька Разин» с участием Шаляпина. Замысел также не реализовался.
…В зимнем Петрограде разруха заметна больше, чем в Москве. Торцовые мостовые, деревянные брикеты и доски разобраны на дрова, тиф, испанка, полуголодный быт косят людей. Театры закрыты. Население подлежит мобилизации на трудовые общественные работы. Марии Валентиновне с прислугой предписано разгружать баржи на Неве…
Федор Иванович «идет за разъяснениями» в районный комитет:
«Встретил меня какой-то молодой человек с всклокоченными волосами на голове… и, выслушав меня, нравоучительно заявил, что в социалистическом обществе все обязаны помогать друг другу… Я ему говорю:
— Товарищ, вы человек образованный, отлично знаете Маркса, Энгельса, Гегеля и в особенности Дарвина… Доставать дрова зимою, стоять в холодной воде — слабым женщинам!..
— В таком случае, я сам завтра приду посмотреть, кто на что способен.
Пришел. Забавно было смотреть на Марию Валентиновну, горничную Пелагею, прачку Анисью, как они на кухне выстраивались перед ним во фронт…
— Ну, ладно. Отпускаю вас до следующей очереди. Действительно как будто не способны…»
Шаляпин тяготился однообразием и постоянством оседлой скудной жизни, он с радостью соглашался дать концерт даже в каком-нибудь провинциальном городе неподалеку от Питера. Обязанности импресарио в таких случаях брал на себя его секретарь Исай Григорьевич Дворищин. Он обычно и договаривался о вознаграждении: речь, как правило, шла об оплате натурой — мукой, сахаром, колбасой, селедкой…
Роль Дворищина в жизни Шаляпина весьма значима. Они познакомились в 1901 году, и очень скоро веселый, никогда не унывающий Исай стал незаменимым спутником певца в гастрольных поездках (обычно Дворищин пел партию Мисаила в «Сцене в корчме» из «Бориса Годунова» и подыгрывал Варлааму — Шаляпину). Исай Григорьевич умел успокоить Федора Ивановича, когда тому казалось, что голос «не звучит», мог вовремя рассмешить его, отвлечь от мрачных мыслей.
Дворищин хорошо знал особенности характера Шаляпина, не терпевшего одиночества, и всегда составлял ему компанию — в дороге, в гостинице, в гримуборной. Он безропотно терпел порой жестокие розыгрыши своего друга и хозяина. Однажды он «проиграл» в карты свою курчавую шевелюру. В другой раз одежду спящего Исая Шаляпин пришил нитками к дивану и громко крикнул: «Караул!» Как-то, уезжая в зарубежное турне, Федор Иванович внезапно подхватил щуплого Дворищина в уже отправляющийся поезд. Пограничникам находчивый Исай Григорьевич предъявил вместо документов фотографию. На ней он был снят вместе с Шаляпиным. На фото надпись: «Эх, Исай, побольше бы таких артистов, как мы с тобой…»
Впрочем, отношения секретаря и патрона не вписывались в традиционный литературно-сценический дуэт «короля и шута». Шаляпин доверял музыкальному вкусу Дворищина, советовался с ним, когда составлял программу концертов; после выступлений Исай должен был подробно рассказать Федору Ивановичу о своих впечатлениях, критику своего наперсника певец всегда внимательно выслушивал.
Существует несколько портретов, шаржей Дворищина, любовно написанных Федором Ивановичем. Конечно, отношения с «секретарем» сильно отличались от иных приятельских связей артиста, например от дружбы с Горьким, который, к слову сказать, не любил шаляпинского «окружения», и другими «маленькими» актерами, составлявшими «свиту» Шаляпина…
В доме Горького на Кронверкском проспекте Федор Иванович свой человек. К Горькому приходили за советом, за помощью, просто отогреться. Мария Федоровна Андреева была озабочена проведением конкурса на лучшую мелодраму, созданием нового театра — Большого Драматического, которому впоследствии будет присвоено имя Горького. В числе домочадцев — художник И. Н. Ракицкий по прозвищу Соловей, художница Валентина Ходасевич — ее называют Купчихой, секретарь писателя П. П. Крючков — он получил имя по своим инициалам и первому слогу фамилии — Пе-пе-крю. Сам Горький именовался Дука. Появившуюся здесь авантюрную даму Марию Закревскую-Будберг прозвали Титкой: она войдет в историю почти как Мата Хари (книга Н. Н. Берберовой о ней называется «Железная женщина»).
Валентина Ходасевич вспоминала:
«Вечерами мы жгли лучину в камине, в комнате Ракицкого, все одетые кто во что — потеплее… Часто приходил Федор Иванович с Марией Валентиновной, оба огромные, великолепные — шубы и шапки не снимали. Федор услаждал нас песнями и романсами, да и рассказчиком он был прекрасным — с большим юмором. Приводили они с собой любимого бульдога, белого с коричневыми пятнами, до смешного похожего на Федора Ивановича. Когда ему говорили: „Милиционер пришел!“, он падал как подкошенный на бок и делал вид, что умер, даже дыхание задерживал. Шаляпин очень его любил, обучал разным трюкам, гордился им и говорил: „Способный! Неплохой артист из него получится! С ним мы по миру не пойдем!“».
Федор Иванович в шубе, шапке и с бульдогом запечатлен на знаменитом портрете Б. М. Кустодиева. Артист предложил художнику сделать эскизы декораций и костюмов к «Вражьей силе» (опера А. Н. Серова написана на сюжет комедии А. Н. Островского «Не так живи, как хочется»).
«Кто лучше его (Кустодиева. — В. Д.) почувствует и изобразит мир Островского? Я отправился к нему с этой просьбой… Всем известна его удивительная яркая Россия, звенящая бубенцами масляной. Его балаганы, его купцы… его сдобные красавицы, его ухари и молодцы, — вообще, все его типические русские фигуры, созданные по воспоминаниям детства, сообщают зрителям необыкновенное чувство радости. Только неимоверная любовь к России могла одарить художника такой веселой меткостью рисунка и такой аппетитной сочностью краски в неутомимом его изображении русских людей…»
Борис Михайлович Кустодиев в свои 40 лет тяжело болен, передвигается по квартире в инвалидном кресле. Выслушав Шаляпина, художник с готовностью принял его предложение:
— С удовольствием, с удовольствием. Я рад, что могу быть вам полезным в такой чудной пьесе. С удовольствием сделаю вам эскизы, займусь костюмами.
Работа спасала Кустодиева от отчаяния. Он хотел присутствовать на репетициях «Вражьей силы». Если Шаляпину удавалось достать грузовик, друзья погружали в кузов автомобиля сидящего в кресле Бориса Михайловича, подъезжали к Мариинскому театру и вносили в зрительный зал.
Премьера «Вражьей силы» в новых декорациях и костюмах состоялась 23 октября 1920 года. А. А. Блок записал в дневнике: «Шаляпин в Еремке достигает изображения пьяной наглости, хитрости, себе на уме, кровавости, ужаса русского кузнеца…» Но главной заботой Шаляпина-режиссера была не собственная роль, он стремился создать на сцене исполнительский ансамбль. Он строго выговаривал молоденькому артисту миманса в крохотной роли ярмарочного зазывалы, смешившего публику забавными трюками в сцене гулянья, за то, что он отвлекал зрителя от серьезной сцены сговора Петра и Еремки. Этим статистом был юный Николай Черкасов, навсегда запомнивший шаляпинские уроки.
В пору работы над «Вражьей силой» Б. М. Кустодиев написал портрет Марии Валентиновны, а несколько позднее и самого Шаляпина. Художник сделал несколько этюдов и подготовительных рисунков, потом приступил к созданию картины. Холст был подвешен к потолку, Кустодиев работал, отлого наклоняя полотно над собой. Этот портрет, созданный в 1921 году, едва ли не самый известный: Шаляпин в распахнутой шубе на фоне ярмарки, балаганов, заснеженных деревьев. Позади, рядом с рекламной тумбой (в наклеенной на нее афише объявлены гастроли Федора Ивановича), — Исай Дворищин, дочери певца Марфа и Марина, одна держит в руках игрушечную обезьянку. Среди промежуточных, «рабочих» названий картины — «Шаляпин в незнакомом городе». Фоном для фигуры певца стала ярмарочная площадь то ли Казани — родины артиста, то ли Астрахани — родины Кустодиева. Но особенно тесно фон связан со спектаклем, над которым дружно работали художник и певец.
Писатель Дон Аминадо (Аминад Петрович Шполянский) назовет портрет «Широкая масленица» (первые слова арии Еремки из «Вражьей силы»), считая, что эта праздничная ярмарка да и сам артист — символы дореволюционной Москвы. В ностальгическом описании «грешной, сдобной, утробной» Москвы у Дон Аминадо — метет метелица, несутся санки, заливается гармонь… «И над всем этим кружением, верчением и мельканием, над качелями и каруселями, ларями, шатрами, прилавками и палатками… над Москвой, над веселой гульбой… в разрыве, в просвете синего неба церковной синевы, — в меховой высокой шапке, в бобровой шубе, огромный, стройный, ладный, живой, во весь рост стоял в молодой своей славе российский кумир, языческий бог — Федор Иваныч Шаляпин…»
Право же, трудно представить себе истинные обстоятельства, в которых создавался портрет: голодный, холодный Петроград, художник, прикованный к инвалидному креслу. В сундуке архивного отдела Музея имени М. И. Глинки хранится та, «историческая» шуба, запечатленная на портрете.
«— Шуба-то хорошая, да, возможно, краденая…
— Как краденая? Шутите, Федор Иванович, — удивлялся Б. М. Кустодиев.
— Да так, говорю, недели три назад получил ее за концерт от какого-то государственного учреждения. А вы ведь знаете лозунг — „грабь награбленное“…
— Вот мы ее, Федор Иванович, и закрепим на полотне. Ведь как оригинально: и актер, и певец, а шубу свистнул», — вспоминал Шаляпин свой разговор с художником в книге «Маска и душа».
Осенью 1920 года в Петроград приехал английский писатель Герберт Уэллс. Вместе с сыном Джипом он остановился у Горького. Англичанина поразило, что даже всемирно известный писатель имеет один-единственный костюм — тот, который на нем. У Горького Уэллс познакомился с Шаляпиным, вместе с Алексеем Максимовичем смотрел спектакли с участием артиста.
«Как это поразительно, — удивлялся Уэллс, — русское драматическое и оперное искусство прошло невредимо сквозь все бури и потрясения и живо по сей день… Мы слышали величайшего певца и актера в „Севильском цирюльнике“ и в „Хованщине“, музыканты великолепного оркестра были одеты весьма пестро, но дирижер по-прежнему являлся во фраке и белом галстуке… Я слышал Шаляпина в Лондоне, но не имел тогда случая с ним познакомиться. Теперь же, в Петрограде, наше знакомство состоялось и мы отобедали в кругу его милого семейства. У него две маленькие дочки, обе недурно разговаривают на несколько манерном, безупречно правильном английском языке, а младшая превосходно танцует… В сегодняшней России Шаляпин воистину представляется чудом из чудес. Это подлинный талант, дерзкий и ослепительный. В жизни он пленяет тем же воодушевлением и неиссякаемым юмором…»
Свои впечатления Уэллс включил в книгу «Россия во мгле», они субъективны и поверхностны. Многое от гостя преднамеренно скрывали. У Горького только что был обыск. В Москве, куда Алексей Максимович поехал отстаивать свои права, однако, гарантий, что в будущем ничего подобного не повторится, он не получил. И немудрено…
…Перед высылкой из России в сентябре 1922 года князь Сергей Евгеньевич Трубецкой прощался с Северной столицей:
«Какая разница с Москвой! И тут и там на всё легла печать большевизма, но легла она не одинаково. Старая московская жизнь была убита, но Москва все же интенсивно жила какой-то новой и злобной жизнью, но все же это был живой город. Петербург же производил впечатление какого-то полумертвого царства. Старая жизнь была здесь убита, а новая еще не полностью завладела им. Петербург был как бы огромной, стильной барской усадьбой, из которой ушли старые хозяева и которую еще не освоили новые и чуждые ее духу пришельцы. По сравнению с Москвой Петербург казался полупустым. Народа было мало, на улицах между камней пробивалась трава, и запущенность придавала дворцам и памятникам какую-то особую, щемящую красоту…»
Глава 4 ПОРА РАЗЛУК
С апреля 1917 года в газете «Новая жизнь» Горький публикует цикл статей под рубрикой «Несвоевременные мысли». Февральскую революцию писатель, как известно, приветствует, но события, развернувшиеся после октября 1917 года, вызывают у него ужас и возмущение. Он протестует против разгона Учредительного собрания и расстрела рабочих, которые поддерживали его своей манифестацией. «„Правда“ лжет, — пишет Горький. — Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала „Правда“, она не скроет позорного факта… Итак, 5 января расстреливали рабочих Петрограда, безоружных. Расстреливали без предупреждения о том, что будут стрелять, расстреливали из засад, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы».
Горький обвиняет большевиков в звериной жестокости, «дикой грубости», исторической поспешности и нетерпимости к своим идейным и политическим противникам. Горького и Шаляпина, как и В. Г. Короленко, В. В. Вересаева, И. А. Бунина, А. И. Куприна и многих других видных деятелей культуры, потрясали жестокость репрессий, бессмысленные казни, массовое истребление невинных людей. Из Полтавы В. Г. Короленко писал: кровавая, беспощадная борьба классов озлобляет народ, «взаимное исступление доходит до изуверства».
Власть недовольна Горьким: Буревестник революции вышел из подчинения! «Правда» 10 декабря 1917 года помещает статью В. Полянского под многозначительным заголовком «В путах старого мира»; там же, в номере от 31 декабря, скорый на политические ярлыки услужливый Демьян Бедный откликается стихотворением «Горькая правда (посвящается всем отшатнувшимся от народа писателям, М. Горькому и В. Короленко особливо)».
Положение Горького осложнялось враждебным отношением к нему председателя Петроградского совета Г. Е. Зиновьева. Он, как писала в своих воспоминаниях Н. Н. Берберова,
«…старался вредить Горькому где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал… Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил ему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького как писателя, а Зиновьева — как испытанного большевика, который был ему нужнее».
Шаляпин называл Зиновьева «самовластным феодалом». Однажды, находясь у него на приеме, Федор Иванович наблюдал, как лихо решал «феодал» судьбы своих бесправных «вассалов», распоряжаясь по телефону:
— С ними церемониться не надо. Принять самые суровые меры… Эта сволочь не стоит даже хорошей пули…
И Горький, и Шаляпин готовы были принять революцию. Но как принять зверскую расправу матросов с членами Временного правительства А. И. Шингаревым и Ф. Ф. Кокошкиным, свирепый «красный террор»?.. Тяжело пережил Шаляпин нелепую гибель близких друзей — баронов Стюарт. Братья Владимир и Николай Стюарты познакомились с ним в пору его выступлений в Панаевском театре еще в 1894 году. Веселые и отзывчивые молодые люди помогли провинциалу-певцу стать известным, ввели его в дом Тертия Филиппова, открывшего Шаляпину путь на императорскую сцену. Бескорыстные, восторженные поклонники искусства (один из братьев был товарищем председателя Музыкально-художественного общества имени М. И. Глинки), они никоим образом не выступали против новой власти. Но у них был наследственный баронский титул. Этого оказалось достаточно для ареста. Шаляпин отправился хлопотать в ЧК, на Гороховую улицу: прошел слух, что в Москве только что приняли решение не применять к «политическим элементам» смертную казнь. Но в Петрограде не стали утруждать себя ожиданием официального декрета и ради упрощения дела спешно, в одну ночь, расстреляли всех арестованных.
Горький в «Несвоевременных мыслях» не устает указывать новым вождям и исполнителям приказов на их провалы:
«В чьих бы руках ни была власть, за мною остается право отнестись к ней критически. И я особенно подозрительно, недоверчиво отношусь к русскому человеку у власти, — недавний раб, он становится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой ближнего своего».
Газета «Правда» тут же награждает писателя убийственным политическим ярлыком: «Горький заговорил языком врагов рабочего класса». (Со временем Горький овладеет и методом, и лексикой большевистской полемики и сам напишет пространную статью в той же «Правде» под красноречивым названием «Если враг не сдается — его уничтожают», статью, оправдывающую жестокие репрессии рубежа 1920–1930-х годов; спустя полтора десятилетия это будет «другой» Горький новой, сталинской эпохи.)
Пока же «окоротить» Горького не удается, и он продолжает размышлять на страницах «Новой жизни» о том, как изуверски трансформировались в революционной практике отношения власти, человека и народа: «Нельзя полагать, что народ свят и праведен только потому, что он — мученик, даже в первые годы христианства было много великомучеников по глупости. И не надо закрывать глаза на то, что теперь, когда „народ“ завоевал право физического насилия над человеком, — он стал мучителем не менее зверским и жестоким, чем были его мучители. И вот теперь этим людям, воспитанным истязаниями, как бы дано право свободно истязать друг друга. Они пользуются этим правом с явным сладострастием, с невероятной жестокостью».
Пораженный трагическим размахом последствий первых революционных преобразований, Горький признался: «Морали, как чувства органической брезгливости ко всякому грязному и дурному, как инстинктивного тяготения к чистоте душевной и красивому поступку — такой морали нет в нашем обиходе».
Чаша большевистского терпения переполнилась — в июне 1918 года Горькому вручили ордер на закрытие «Новой жизни». Он обратился за помощью к Ленину, но акция была согласована с вождем. Горькому осталось только писать протесты Дзержинскому, Зиновьеву, Рыкову и спасать от вымирания «буржуазную интеллигенцию» — ученых, литераторов, художников, вымаливая для них пайки и пособия. Ленину назойливость Горького обременительна, вождь прямо указал писателю на дверь: «Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально измените обстановку, и среду, и местожительство, и занятие, иначе опротиветь может жизнь окончательно».
В 1921 году Горький, наконец, уезжает за границу «для лечения». К. И. Чуковский запомнил его последнюю перед расставанием фразу: «С новой властью нельзя не лукавить». Однако и сменив по совету Ленина «среду и местожительство», Горький не может сразу выработать новый образ мыслей. В 1922 году он пишет председателю Совнаркома РСФСР А. И. Рыкову: «Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством — это будет убийство с заранее обдуманным намерением — гнусное убийство… За время революции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность в безграничной и некультурной стране». Но теперь суждения Горького — мало кому слышимый глас из-за границы. Гнусное убийство предотвратить, естественно, не удается. В январе 1924 года Горький признается своему французскому другу Ромену Роллану: «…я не возвращусь в Россию, и я все сильнее и сильнее ощущаю себя человеком без родины. Я уже склонен думать, что в России мне пришлось бы играть странную роль — роль противника всех и всего».
Но признание — лишь настроение момента. Убедившись в своей невостребованности, писатель уже с 1925 года круто меняет политическую ориентацию, сделает ставку на советский режим, вернется в Россию и сыграет странную и страшную роль — защитника всех и всего, что связано с большевистским режимом. На взаимоотношениях с Шаляпиным такая «перемена курса» отразится весьма существенно…
В 1921 году на вечере, посвященном А. С. Пушкину, А. А. Блок сказал: «Поэт умирает потому, что дышать ему уже нечем, жизнь потеряла смысл». Лето и осень 1921 года воспринимались как время апокалиптическое. 7 августа Александр Блок умер. Он призывал интеллигенцию «слушать музыку революции», но эта «музыка» стоила жизни самому поэту: отторгнутый кругом недавних друзей, безмерно одинокий, смертью своей он завершал эпоху «невиданных мятежей»…
Судьба Шаляпина предрешена. Как и Горький, он мешал, давал повод общественному мнению на Западе обвинять советские власти в бедственном положении русской интеллигенции. «Я все яснее видел, — писал Шаляпин, — что никому не нужно то, что я могу делать, что никакого смысла в моей работе нет. По всей линии торжествовали взгляды… сводившиеся к тому, что, кроме пролетариата, никто не имеет никаких оснований существовать и что мы, актеришки, ничего не понимаем… И этот дух проникал во все поры жизни, составлял самую суть советского режима в театрах».
10 мая 1921 года на заседании Политбюро ЦК РКП(б) в присутствии В. И. Ленина среди прочих важнейших государственных тем обсуждается вопрос о разрешении Ф. И. Шаляпину выехать за границу. Политбюро ЦК РКП(б) решило: «Утвердить Постановление Оргбюро и выпустить Шаляпина за границу при условии гарантии со стороны ВЧК за то, что Шаляпин возвратится. Если ВЧК будет возражать, вопрос пересмотреть».
Всесильная ВЧК возражать не стала, и через несколько месяцев Федор Иванович получил официальные документы. Речь идет не о разовых гастролях, а о возможности регулярно несколько месяцев в году выступать за рубежом. Убеждая Малый Совнарком в необходимости материально поддержать «так называемых европейских светил культуры», А. В. Луначарский писал:
«Никоим образом нельзя поверить, чтобы Республика не в состоянии сколько-нибудь благопристойно содержать людей, которых беспрестанно приглашает к себе заграница и за бедственное положение которых (часто, увы, имеющее действительное место) нам шлют тяжелые упреки. Эти лица следующие. 1. Ф. И. Шаляпин. Согласно решения ЦК РКП тов. Шаляпину будет дан трехмесячный отпуск за границу… Факт его отъезда является новым подтверждением необходимости урегулировать раз навсегда как оплату, могущую быть данной Шаляпину со стороны Советской республики, так и жертвы, которые со своей стороны Шаляпин ей приносит…»
Еще более колоритен документ, обнаруженный в архиве Наркомпроса. В нем Луначарский прямо говорит о том, что произойдет, если
«мы не дадим Шаляпину минимума, которого он от нас требует»: «Рано или поздно, но он от нас удерет. Это не подлежит для меня никакому сомнению… Разница между его заработком в России и за границей… громадная. Допустим даже, что он не соблазнится в этот раз остаться в Америке… Это случится либо в следующую его поездку, либо просто он в один прекрасный день перейдет финскую границу и — конец. У нас таким образом уехало из России видимо-невидимо актеров без всякого нашего разрешения. Легко может сделать это и Шаляпин, будет скандал…»
О Луначарском Шаляпин вспоминал с благодарностью: «Луначарский не раз меня выручал». В Москве нарком просвещения торжественно вручил Федору Ивановичу контракт от фирмы «Несравненная Павлова», принадлежавшей импресарио Солу Юроку. Документ гарантирует певцу 57 с половиной миллионов рублей за выступление. Эта фантастическая цифра напоминает об инфляции начала 1920-х годов.
…В июне 1921 года старшая дочь певца Ирина вышла замуж за студийца Павла Пашкова. Все хлопоты легли на плечи отца. «Чтобы устроить сравнительно прилично свадьбу — нужно потратить 10 000 000 рублей, а где их взять? Поэтому свадьба будет скромная и придется обойтись тремя миллионами», — пишет Шаляпин одному из друзей.
Бракосочетание Ирины и Павла состоялось 15 июня в церкви Большого Вознесения, где когда-то венчался Пушкин с Натальей Гончаровой и где крестили Ирину. Весть о том, что артист будет участвовать в церковной службе, облетела жителей окрестных улиц. В храм было не войти, многие остались стоять на улице. Невеста с женихом торжественно прошли к аналою, Шаляпин стоял на клиросе, держа перед собой раскрытую церковную книгу. Хор стройно пропел молитву, и голос Шаляпина огласил своды старого храма… Прихожане, затаив дыхание, слушали Чтение. «Когда отец, повышая голос, дошел до слов: „…A жена да убоится своего мужа…“ — он оглянулся на меня и посмотрел таким взглядом, что у меня мурашки пробежали по спине», — вспоминала Ирина Федоровна.
Свадебную процессию везла лошадь, похожая на донкихотовского Росинанта. Старого немощного рысака с торчащими ребрами запрягли в великолепную пролетку. Возвратившихся из храма молодых отец встретил у ворот дома на Новинском бульваре «Эпиталамой» из оперы А. Рубинштейна «Нерон» — «Пою тебе, бог Гименей».
Свадьба старшей дочери Шаляпина почти совпала по времени с рождением самой младшей. 17 июля 1921 года Мария Валентиновна родила девочку. В святцах не нашлось подходящего женского имени, и потому Федор Иванович решил переделать редкое мужское имя Дасий на Дасию. Рассказывали: артист подпоил священника, и тот дал согласие на столь необычное имя. Дася или Даська, как называл ее отец, стала десятым (если считать вместе с усыновленными детьми Марии Валентиновны) ребенком Федора Ивановича.
В августе 1921 года певец получил командировочное удостоверение, выданное «Народному артисту Ф. Шаляпину и его костюмеру-одевальщику Н. Н. Хвостову в том, что означенные лица командируются за границу на предмет обследования подготовки практического разрешения вопроса о вывозе русского искусства за границу…». Документ подписал нарком внешней торговли Л. Б. Красин. Ехал Федор Иванович бесплатно в вагоне вместе с правительственной делегацией и заместителем комиссара по иностранным делам М. М. Литвиновым.
В Латвии артисту не слишком уютно. Валюты нет, советский же миллион неконвертируем. Приятной неожиданностью оказалась встреча с прибывшим из Лондона Фредом Гайсбергом — совладельцем граммофонной фирмы «His Master’s voice». Их дружеские отношения начались в 1902 году, и с той поры Федор Иванович более тридцати лет сотрудничал со знаменитой фирмой. Сотни пластинок артиста, напетые в России и за границей, расходились по всему миру. И каждой из них предшествовала кропотливая работа: часто певец браковал диски, требовал повторной записи…
В Риге Фред Гайсберг вручил Шаляпину чек на 200 фунтов стерлингов — проценты с продажи пластинок, записанных еще до войны, в 1913 году. Эти деньги помогли артисту приодеться, ведь на Шаляпине, как он вспоминал, были «совершенно не подходившие друг к другу пиджак, жилет и брюки». Из Риги певец направляется в Финляндию — навестить Марину. Газеты пестрят провокационными заголовками: «Мефистофель при Чрезвычайке», «Большевик ли Шаляпин?». Волей-неволей нужно определять свое отношение к советской власти. «Я не желаю бежать с родины, в то время как она переживает нужду, — отвечал певец в одном из интервью. — Я и Горький служили и будем служить народу. В настоящее время я уезжаю в концертное турне в Лондон и Америку и вернусь вновь в Россию, где осталась моя семья, дети и друзья. Там я нахожусь в непосредственной связи с тем революционным народом, который меня не судит и не ругает».
Путь Шаляпина лежит в Англию, здесь выступал он в 1914 году, перед войной. Концерты в Лондоне, Бирмингеме и Ливерпуле проходят триумфально: «Огромный зал был забит сверху донизу. Я снова увидел знатных особ в вечерних туалетах — зрелище, от которого я порядком отвык за последние семь лет. С чувством огромного душевного волнения я вышел на сцену, и весь зал встал, приветствуя меня овацией, продолжавшейся несколько минут. Я запел, и голос мой уверенно разнесся по огромному залу. Ощущение, что я человек с „волчьим билетом“, напрочь покинуло меня. Я почувствовал, что крылья мои свободны и что песни мои могут парить высоко в облаках. Я не чувствовал себя русским или китайцем, большевиком или меньшевиком. Я снова чувствовал себя артистом!»
И вот уже Шаляпин на борту океанского лайнера «Адриатик» плывет в Америку. Его спутники — Герберт Уэллс и известный немецкий композитор Рихард Штраус. Федор Иванович рад своим именитым попутчикам. Погода благоприятствовала путешествию, почти весь день пассажиры проводили на просторной палубе, а перед завершением рейса музыканты дали гала-концерт в пользу моряков и их семей. Увлеченные благородным делом, Уэллс и Шаляпин рисовали карикатуры, которые тут же приобретались по баснословным аукционным ценам. Под аккомпанемент Штрауса Шаляпин спел несколько романсов и оперных арий. Публика была в восторге от концерта мировых знаменитостей и близкого общения с ними.
Неделя плавания получилась на редкость удачной. Но едва Федор Иванович ступил на американскую землю — фортуна отвернулась от него. В Нью-Йорке Шаляпин заболевает тяжелейшим ларингитом — концерты отменяются. Проходит неделя, другая — голоса нет! Шикарный отель «Уолдорф Астория» становится для Шаляпина фешенебельной тюрьмой.
«Боже, чем я прогневал тебя, что ты ниспослал на меня тяжкую кару!» — повторял артист. Николаша Хвостов, как мог, утешал своего хозяина. Прибывший из Лондона Фред Гайсберг уговаривал Федора Ивановича отправиться в Нью-Джерси — отдохнуть и полечиться у его родственников. Юрок в отчаянии. Семь концертов отменены. В конце ноября импресарио удалось уговорить Шаляпина выступить. Однако чувствует он себя неважно, голос не звучит, кажется чужим.
Сол Юрок вспоминал:
«Зал был полон до отказа. Взрывы аплодисментов красноречиво говорили, что терпение публики истощилось. Я вышел в зрительный зал и поспешил к ложе, в которой, я знал, должна сидеть Анна Павлова. Я потащил ее за кулисы. Если бы не ее нежная настойчивость, Шаляпин не стал бы петь в этот вечер. Она обвила тонкими руками его массивные плечи, и слезы полились из ее глаз, а затем и из его. „Ну ладно, Анюта, ладно, — говорил он. — Пусть кто-нибудь выйдет на сцену и скажет, что я простужен. Иначе я не могу“. Мне никогда не забыть этого концерта. Если бы теперь мне снова пришлось пережить все это, я первый бы настаивал на том, чтобы Шаляпин не пел. Шаляпин спел всего номеров шесть: больше он петь не мог. Публика ничем не выражала своего протеста: возможно, она была слишком поражена. Какова бы ни была причина, но все расходились тихо».
Пребывание в Америке, казалось, принесет одни убытки. Полтора месяца были сплошным кошмаром. Лишь в начале декабря Шаляпин выздоравливает. 9 декабря 1921 года артист поет «Бориса Годунова» на сцене Метрополитен-оперы. Ему отводят артистическую уборную недавно умершего Энрико Карузо.
«Он был хороший парень и мой большой приятель, — пишет Шаляпин дочери Ирине. — Вот что я написал там на стене — на „память“…»
Сегодня с трепетной душой В твою актерскую обитель Вошел я — друг «далекий» мой! Но ты, певец страны полденной, Холодной смертью пораженный. Лежишь в земле — тебя здесь нет! …И плачу я! — И мне в ответ В воспоминаньях о Карузо Тихонько плачет твоя муза!Шаляпин и Карузо — ровесники. Великий итальянец тоже начинал карьеру в церковном хоре. Был в его жизни и свой Усатов — маэстро Гульельмо Верджине, поверивший в его будущее. В начале карьеры Шаляпин и Карузо встретились на сцене Ла Скала в «Мефистофеле» А. Бойто. С тех пор их голоса, как и голос Титта Руффо, воспринимались в музыкальном мире эталоном художественного совершенства.
На другой день после «Бориса Годунова» газеты ликовали: «…со времен расцвета славы Карузо „Метрополитен-опера-хаус“ не была свидетелем такого триумфа, которым был встречен Шаляпин».
Новый, 1922 год певец встречает в кливлендском отеле вместе с несравненной балериной Анной Павловой. В два часа ночи Федор Иванович вынужден покинуть компанию — на следующий день он должен петь в Чикаго. Работает Шаляпин много, переезжает из города в город. Кроме спектаклей и концертов он записывает пластинки в студии граммофонной компании «Виктор».
Турне продолжается пять месяцев. Письма с родины переносят его в совершенно другую реальность.
«Жизнь у нас стала оживленней, хотя дороговизна ужасная, — пишет из Петрограда Мария Валентиновна, — хлеб сегодня 16 т<ысяч> ф<унт>, мясо 50 т<ысяч>… масло 130 т<ысяч>… и так все. Цены ежедневно растут… Мы живем скромно, но сытно и в тепле. Дров у меня еще хватит до твоего приезда… Федюша, я пошлю твоим денег, ты не беспокойся… В чем дети нуждаются, так это в одежде. Я пошлю Борису твой новый серый костюм, пусть перешьют. Еще пошлю скроенное пальто Эдино, наберу кое-какие вещи для мальчиков…»
Шаляпин шлет в Москву и Петроград то посылку, то денежный перевод. «Здесь в Америке я порядочно намаялся… Думал уж, из Америки пешком пойду, да вот, слава Богу, поправился и заработал на хорошую дорогу… Привезу вам сапожек, чулков — может, и рубашек со штанишками… Красок и холста, карандашей и других принадлежностей для рисования. А также и разных инструментов — до лобзиков включительно», — пишет он сыну Борису.
Интеллигенцию в России продают и покупают, ее берут в заложники, выставляют щитом перед отечественным и мировым общественным мнением. За крохи свободомыслия интеллигенция расплачивалась чем могла и как могла. Шаляпин за разрешение петь за границей половину гонораров отдавал советскому посольству. «Это было в добрых традициях крепостного рабства, когда мужик, уходивший на отхожие промыслы, отдавал помещику, собственнику живота его, часть заработков, — вспоминал артист. — Я традиции уважаю».
В 1921 году Горький, покидая Россию, советовал Шаляпину: «Ну теперь, брат, я думаю, тебе надо отсюдова уехать».
1 февраля 1922 года Шаляпин дает прощальный концерт в Филадельфии и на пароходе «Хомерик» отплывает в Англию. В Россию он возвращается в марте. На Николаевском вокзале в Петрограде его встречают как в старые добрые времена — торжественно и пышно. Когда Федор Иванович показался на площадке вагона, оркестр грянул марш. Директор Мариинского театра И. В. Экскузович выступил с приветственной речью, артисту устроили бурную овацию.
Но Федор Иванович приехал ненадолго: на будущий сезон у него подписаны контракты. В сентябре предстояли концерты в Англии, с ноября по июнь он обещал выступить в Америке. На этот раз препятствий к выезду нет. Власть осознала: Шаляпин поет — казна богатеет.
В Москве артист дал несколько концертов. Они проходили при полных залах. Друзья, родные, студийцы шаляпинской студии сидели прямо на сцене. Последний московский концерт прошел в Большом зале консерватории 9 мая 1922 года. Сергей Яковлевич Лемешев, тогда студент Московской консерватории, вспоминал:
«Зал гремел от оваций; сжав обе руки и протянув их к зрителям, Шаляпин приветствовал публику. Когда в зале воцарилась немая, наполненная ожиданием чуда тишина, Шаляпин с изящной небрежностью вскинул к глазам лорнет, взглянул в ноты, которые держал в левой руке, и произнес:
— Романс Чайковского „Ни слова, о друг мой“.
Я даже вздрогнул от неожиданности: то самое „Ни слова, о друг мой“ я слышал бесконечное количество раз на протяжении года в исполнении студентов, особенно студенток консерватории, певших его прескверно. Романс этот так мне надоел, что я рассердился и чуть не вслух сказал: „Нашел с чего начинать, а еще Шаляпин!“
Но уже вступление, сыгранное Кенеманом, заставило меня прислушаться, когда же запел Шаляпин, я не узнал музыки, вернее, наоборот, впервые услышал ее. Он пел, а я вдруг почувствовал, что у меня зашевелились волосы и по телу побежали мурашки… Когда же Шаляпин дошел до фразы: „Что были дни ясного счастья, что этого счастья не стало“, — из моих глаз вдруг выкатились две такие огромные слезы, что я услышал, как они шлепнулись на лацкан куртки. Этого мне никогда не забыть.
Засмущавшись, я закрыл лицо, стараясь скрыть волнение. Словно зачарованный, я просидел в ложе до самого конца, и не раз слезы застилали глаза… Я был потрясен. Никогда раньше я не представлял себе, что можно так петь, такое сотворить со зрительным залом…»
К концу кто-то из публики не выдержал и, несмотря на все предупреждения, выкрикнул: «Блоху!» Зал затих. Шаляпин с величественной медлительностью бросил строгий взгляд на верхнюю ложу, откуда раздался неуместный возглас. Воцарилась напряженная тишина. И вдруг артист стал улыбаться все шире и шире. Зал вздрогнул от аплодисментов. И тогда Шаляпин сказал:
— Ну, так «Блоха»!
Айседора Дункан, потрясенная этим перевоплощением, поднялась с кресла и, аплодируя, шептала: «Это — дьявол». Почувствовав перемену в настроении певца, зрители, уже не боясь, выкрикивали свои «заказы». Концерт закончился, над залом взметнулись белые листовки со словами: «Дорогой Федор Иванович! Счастливого пути! Любящая Вас Москва!»
Перед самым отъездом из Петрограда Шаляпин дал бесплатный дневной концерт в Большом зале филармонии (бывшем Дворянском собрании). Михайловская улица заполнена народом. Публика требовала «бисов», и Шаляпин охотно шел ей навстречу. Завершился концерт традиционной «Дубинушкой».
Вечером друзья и толпы поклонников провожали Шаляпина на набережной Лейтенанта Шмидта. 29 июня — разгар белых ночей, но день выдался мрачный, дождливый. Федор Иванович в светлом костюме махал провожающим с палубы большим платком. Пароход медленно отчаливал от невских берегов…
Оркестр Мариинского театра играл «Интернационал». «Так на глазах у моих друзей, — писал впоследствии певец, — в холодных прозрачных водах царицы-Невы растаял навсегда мнимый большевик — Шаляпин».
Глава 5 ВСЕНАРОДНЫЙ АРТИСТ
29 июня 1922 года пароход «Oberbürgermeister Hakken» увозил Шаляпина в Ревель (Таллин), а оттуда в Германию. Спустя два месяца на том же лайнере отправят в вынужденную эмиграцию писателей, философов, ученых, мыслителей, и это, по сути дела, спасет их от неминуемых арестов, репрессий, физического уничтожения на родине. Этот эпизод войдет в историю отечественной и мировой культуры как рейс «философского парохода». Один из его пассажиров, философ Н. А. Бердяев, впоследствии так напишет о тех, кто вынудил его покинуть родину: «Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры и жили исключительно верой. Вера была разрушена, кротость и смиренность народа перешли в разъяренность и свирепость. Новой власти, которая строила тоталитарное государство, не нужны были люди, критически мыслящие, способные понять весь ужас происходящего, когда осуществление веками выстраданной справедливости проводилось нечестными, насильственными методами, сопровождалось лицемерием, жестокостью, ложью. В стране рождалась новая мораль, мораль стада, кнута, идолопоклонничества».
Из такой России уезжали пассажиры «философского парохода» в августе 1922 года, такую страну покидал Шаляпин двумя месяцами раньше…
Первую стоянку «Oberbürgermeister Hakken» делал в Ревеле. На пристани родителей встречала приехавшая из Финляндии Марина, окрепшая после санаторного лечения. Как прежде, Шаляпины отправились отдыхать на немецкий курорт Бад-Хомбург. «Любимым моим занятием, — вспоминал артист, — было играть с моей маленькой дочуркой Дасей. В присутствии этой маленькой хохотушки я забывал все на свете». Дасе в ту пору чуть больше года.
На политические темы Федор Иванович высказывается осторожно. Берлинская газета «Накануне» 15 сентября печатает «Разговор с Шаляпиным»:
«Разговор был политический: о приятии или неприятии советской власти… Я — русский, — заявил Шаляпин. — Я люблю Россию. Я люблю искусство и Россию — и больше ничего. Я живу в искусстве и в России, — это воздух, которым я дышу… Я люблю Россию не так, как вы, — вы любите Россию так-то и потому-то, у вас какие-то формулы и какие-то рассуждения есть на этот счет, а я — без формул и рассуждений. Я сердцем люблю Россию. Просто. „Вообще“. Понимаете?.. Приемлю ли я советскую власть? Я, видите ли, самого-то этого слова — „приемлю“ — не понимаю. Что значит: „приемлю“? Как можно не „приять“ Россию?.. Но если уж вы на этом слове — „приемлю“ — настаиваете, то да, конечно, я приемлю советскую власть. Как же иначе? Как можно не приять? Ведь ежели не приять, так, значит, из России бежать надо, а я из России бежать не могу…»
Был ли он искренен? Сегодня трудно ответить на этот вопрос. Вряд ли Шаляпин, как и многие русские изгнанники, мог отчетливо представить будущее своей родины. Иногда казалось — «все образуется» и со временем вернется на свои привычные места. «О том, что я оставил позади себя, не хотелось думать. Малейшее напоминание о пережитом вызывало мучительное чувство. Я, конечно, дал себе слово держаться за границей вдали от всякой политики, заниматься своим делом…» — признавался артист в «Маске и душе».
Но ведь первая семья оставалась в Москве, и Шаляпин тревожился за судьбу детей. Это и объясняет явно «просоветские» высказывания в письмах, адресованных в Москву. Артист не уверен, что его письма не проходят перлюстрацию. Отсюда выспренние лозунговые заклинания: «Помните, дети: Новой России нужны сильные и здоровые честные работники во всех отраслях!!! На вас будет лежать ответственность за будущее нашей Родины». Эти строчки предваряют обещание Шаляпина определить сыновей в высшие школы Италии и Америки. Без сомнения, главным желанием отца было увезти всех детей за границу, не оставлять их в Советской России заложниками.
Начало 1920-х годов — небывалый взлет интереса американцев к русскому искусству. В 1923 году в Соединенных Штатах гастролирует МХАТ. «Такого успеха у нас не было еще ни разу ни в Москве, ни в других городах… Здесь говорят, что это не успех, а откровение», — пишет К. С. Станиславский в Москву. Очереди за билетами огромны. На спектакль «На дне» приходит Шаляпин. Он рад встрече со старыми друзьями. В свою очередь, Константин Сергеевич слушает певца в «Мефистофеле» на сцене Метрополитен-оперы. Партию Фауста исполняет Беньямино Джильи — один из лучших теноров Италии. Он признается: когда его партнер Шаляпин, он сам оказывается «несколько в тени — ничего более совершенного достичь, вероятно, уже нельзя».
Мхатовцы приглашены Шаляпиным на дневной концерт, им предоставлены две ложи. Нарядная публика встречает артиста громом аплодисментов. Со сцены Метрополитен-оперы звучат «Песня о блохе», «Эй, ухнем!», «Прощай, радость». После концерта Федор Иванович приглашает москвичей в ресторан.
Сергей Васильевич Рахманинов принимает «художественников» на даче в Локуст-Пойнте (штат Нью-Джерси). Приехали Шаляпин, Москвин, Книппер и Лужские.
«После обеда все артисты, вдохновленные Сергеем Васильевичем, его заразительным смехом, дали целое представление, — вспоминала Е. К. Сомова, жена секретаря Рахманинова. — Одна за другой шли блестящие, мастерски исполняемые сценки. Когда уже во втором часу ночи мы стали собираться домой, Шаляпин возмущенно остановил нас:
— Куда это вы? Я только что стал расходиться! Подождите, мы с Сережей сейчас вам покажем!
Сергей Васильевич сел за рояль, а Федор Иванович стал петь: пел много — пел песни крестьянские, песни мастеровых, цыганские и под конец, по просьбе Сергея Васильевича, спел „Очи черные“. Разошлись мы на рассвете, а утром, когда гости еще спали, я вышла в сад и, к своему удивлению, увидала гуляющего по саду Сергея Васильевича. Несмотря на бессонную ночь, лицо у него было свежее, совсем молодое.
— Как Федя меня вчера утешил! — сказал он мне. — Заметили ли вы, как изумительно он произнес: „Вы сгубили меня, очи черные“? Мне теперь хватит этого воспоминания по крайней мере на двадцать лет».
В Бостоне Станиславскому предлагают опубликовать книгу «Моя жизнь в искусстве». «Книга вышла в чудесном издании. Стыдно даже. Содержание не по книге. Не думал я, что она выйдет такой парадной», — удивлялся Константин Сергеевич.
Предложение издать мемуары получает в Америке и Шаляпин. Однако артисту ставится условие: «Страницы из моей жизни» должны быть продолжены. Книга, написанная в соавторстве с Горьким, заканчивалась событиями Первой мировой войны. Перед Федором Ивановичем встала нелегкая задача: надо объяснять причину отъезда, отношение к революции… Да и когда писать — он в постоянных разъездах! На помощь Шаляпину пришла юная почитательница Катарина Райт: ее восхищение Шаляпиным было столь велико, что она за полгода выучила русский язык. Мисс Райт и стала редактором шаляпинских мемуаров в англоязычном варианте (перевод Г. М. Бак, книга вышла в Нью-Йорке в 1926 году).
«Страницы из моей жизни» были разбиты на главы. В содружестве с Катариной написаны два новых раздела, охватывающие период с 1915 по 1923 год. Они интересны тем, что восстанавливают контекст биографии Шаляпина, порой решительно опровергая «версии», сочиняемые артистом в письмах на родину. В описании революционных событий Федор Иванович весьма осторожен. «Могу ли я критически относиться к жизни, какой я видел ее в годы революции? Конечно, нет. Не мое это дело — судить о том, кто был прав, а кто не прав… Настал день, когда я почувствовал, что мне абсолютно необходимо уехать из России, чтобы узнать, помнят ли еще меня… Я обратился к советским комиссарам, которые проявили любезность и разрешили мне уехать».
Свое кредо, однако, он высказывал со всей прямотой, не боясь показаться аполитичным: «Спрашивать меня о политике — это все равно что выяснять у эскимоса, что он думает о сонате Бетховена. Я воспеваю искусство и красоту каждой нации, отдавая этому все свои силы. Это и есть моя политика».
Новые главы «Страниц…» интересны описанием американских впечатлений. Оно разительно не похоже на воспоминания о первой поездке в Америку в 1907 году, в которых прослушивались интонации горьковского «Города Желтого Дьявола». На смену гневным филиппикам о невоспитанности, необразованности американцев приходят новые интонации, желание осмыслить молодую цивилизацию:
«…я заметил, что в Америке труд почитается не только необходимостью, но и удовольствием. Чем больше я ездил по этой стране, любуясь ее чудесной силой и мощью, тем больше укреплялся в убеждении, что только труд, в котором присутствует дух сотрудничества, может сделать людей богатыми, а может быть, и счастливыми…
Среди других моих наблюдений отмечу поразившее меня стремление американцев к прекрасному. Примером тому может служить удивительный факт: почти в каждом американском городе есть свой симфонический оркестр…»
Американскими оркестрами восхищался и С. В. Рахманинов. В их состав входили по преимуществу европейские музыканты. В Штатах умели ценить таланты. Как и Шаляпин, Рахманинов поражен решительными изменениями вкусов американской публики, произошедшими за десять лет, минувших после первых гастролей:
«Я имел вполне основательную возможность убедиться в огромном прогрессе, который сделала американская публика, в силе музыкального проникновения и в музыкальных вкусах. Художественная требовательность выросла до неузнаваемости. Артист, предоставляющий судить об его искусстве публике, замечает это немедленно. То, что я говорю, — отнюдь не только мое мнение, его разделяют многие артисты, которые давали концерты в Соединенных Штатах и с которыми мы обсуждали этот вопрос. Можно заключить, что те огромные усилия, которые предпринимало американское, и в особенности нью-йоркское, общество, чтобы поднять уровень музыкальной культуры, не пропали даром. Они использовали все средства, находившиеся в их распоряжении, и не жалели денег в своем стремлении превзойти Европу. Они добились своего. Никто не станет оспаривать этот факт».
В свободные вечера Шаляпин знакомился с театром, сильно отличавшимся от русского пониманием задач сценического искусства: он был в первую очередь ориентирован на развлечение. Не все ревю и шоу нравились Федору Ивановичу, но игру американских комиков-эксцентриков он смотрел с удовольствием, высоко ценил их мастерство. Шаляпин побывал на представлениях негритянских трупп, ему нравились самобытность мелодики, динамичная эксцентричность, непосредственность, зажигательный темперамент артистов.
По приглашению одной из кинокомпаний Шаляпин посещает Голливуд. Певец ошеломлен грандиозными масштабами кинопроизводства. Снимался фильм о цирке. По площадке разгуливали верблюды и слоны. По соседству была выстроена, к изумлению Шаляпина, русская деревня. Мечтой Федора Ивановича было увидеть Чарли Чаплина. «Мистер Чаплин, хоть и был занят съемками, тут же распахнул передо мной двери студии, — вспоминал Шаляпин. — Но это еще не все. Я поведал ему о страстном желании увидеть его на экране — желании, которое мне никак не удавалось осуществить… Как же я обрадовался, когда мистер Чаплин устроил специально для меня просмотр „Пилигрима“ в своем частном театре! Сидя подле меня, он через переводчика объяснял мне все, что происходило на экране… В мастерской Чаплина не было и намека на беспорядок и суету, которые непременно царят на больших студиях. Пока Чарли отдавал последние распоряжения на съемочной площадке, служанки-японки с поклонами провели нас к его кабинету — чудесной комнате, роскошно обставленной и полной книг, фотографий и цветов…» Впоследствии Шаляпин и Чаплин несколько раз встречались в Европе, возникла даже идея снять фильм-биографию Федора Ивановича по сценарию Чаплина. Не сбылось…
Не меньше, чем искусством, Шаляпин увлекся природой Америки — суровым величием гор, знаменитыми каньонами, апельсиновыми рощами Калифорнии. Побывал артист и в индейской деревне, полюбовался вигвамами, головными уборами из пестрых перьев и татуировками аборигенов. Все это напомнило ему детство, когда он зачитывался Майн Ридом. Впрочем, на поверку индейцы оказались ненастоящими — это была одна из площадок Голливуда, шла съемка очередного вестерна.
Голливудские звезды посещают спектакли с участием Шаляпина, считают его выступления школой актерского мастерства. В Лос-Анджелесе фильм «Дон Кихот» смотрел весь цвет Голливуда. После спектакля у дверей гримерной Федора Ивановича толпились Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Грета Гарбо и Джон Жильберт, замечательный актер Джон Берримор… Каждый хотел высказать свое восхищение великому русскому артисту.
Конечно, легкой жизнь гастролера не назовешь. Как и Рахманинов, Шаляпин уставал от бесконечных переездов, тяготился душными спальными вагонами. Боязнь простудиться, потерять голос преследовала певца. Разумеется, его радовало признание американцев. «Я уже не считаюсь, как раньше, в числе так называемых „stars“, а начинаю стоять в самом деле на особенном месте. Это, конечно, утешительно», — писал певец дочери Ирине. С другой стороны — незнание языка, сознательное нежелание «врастать» в чужую цивилизацию. Такое же отношение к Америке было и у С. В. Рахманинова: он жил замкнуто, общался только с соотечественниками. Федор Иванович тосковал по семье (Мария Валентиновна с дочерьми жила в Европе), по друзьям, оставшимся на родине.
Чувство одиночества нарастало под Рождество, перед Новым годом. Эти домашние праздники артист обычно отмечал в отеле или в ресторане.
«Милый мой Саша! — пишет он своему приятелю А. А. Менделевичу. — Как рад был я, получив твое письмо. Перенесся мысленно в ваш милый артистический кружок… Вспомнил наше озорство и чуть было не всплакнул. Милая моя Москва! — Несравненная! Оно конечно, много у нас и гов…но наше хорошее сравнить ни с чем нельзя. Я особенно отчетливо вспоминаю сейчас, как мылись в Сандунах и как ели стерляжью уху — помнишь… Сегодня как раз канун Нового года — вечером пою спектакль „Мефистофель“, если достану вина (здесь запрещают пить), выпью за твое здоровье и вообще за вас за всех, милые мои российские актеры и друзья…»
В первую и вторую американские поездки Федор Иванович брал с собой Николая Хвостова. В петроградском доме артиста на Пермской улице Николаша был поваром. Он хорошо знал привычки и вкусы Федора Ивановича. Спустя годы он составил список особенно вкусных блюд: щи кислые с грудинкой и гречневой кашей, пельмени, бифштекс с кровью, уха по-монастырски с расстегаями, бефстроганов сильно перченный… И здесь, в Америке, Николай готовил Федору Ивановичу его любимые кушанья.
На домашние обеды Шаляпин звал друзей. Получив от Рахманинова приглашение на концерт (выступления обоих проходили в Чикаго), Федор Иванович отвечает: «Конечно, я буду на твоем концерте и увижусь с тобой за кулисами. Но после концерта — непременно настаиваю иметь в виду вкусный „домашний“ обед у меня. Если с тобой будут друзья или близкие — они тоже мои гости».
Николай сопровождал артиста в театр, он был отзывчивым, «теплым» собеседником, умел слушать, а это так важно для Федора Ивановича!
«Вспоминаю сейчас то время, когда вы оба были маленькие, рассказываю разные случаи Николаю, и мы сидим и хохочем — это заполняет нашу путешественную тоску — в Америке зима без снега…» — писал певец сыновьям в Москву. Еще одна обязанность Николая — игра с Федором Ивановичем в карты. Он, как и другие постоянные партнеры артиста, знал — выигрывать нельзя — и нежно оберегал его расположение духа. Шаляпину всегда необходима победа! «Я коротал долгие вечера за нашим русским преферансом… Бывало, играли и вчетвером — когда мой Николай не был занят тем, что гадал по картам, здорова ли его супруга и не разлюбила ли его!» — вспоминал Шаляпин.
Хвостов скучал по своей семье. Письма в Америку шли долго. Федор Иванович сопереживал Николаю. «Что это значит, что от тебя нет никаких известий, — писал он своей бывшей горничной и экономке Пелагее, — может быть, ты пишешь как-нибудь неправильно или неразборчиво адрес? Может быть, какая-нибудь ерунда происходит на почте?.. Я вижу, как тяжело переживает это молчание Николаша… Он, бедный, очень скучает, а главное, это его чувство бесконечной любви к тебе и к его дочурке. Он только и дышит вами… Пожалуйста, Поля, возьми сейчас же конверт и бумагу и напиши письмо…»
В скором времени Хвостов возвратился в Петроград. Шаляпин не забывал о семье своего верного друга, посылал ему с оказией деньги… Николая сменил Василий Коган, знакомый Федору Ивановичу по Петрограду. В его обязанности также входили многочисленные заботы — следить за самочувствием Федора Ивановича, быть костюмером, камердинером и, конечно, сговорчивым партнером по карточной игре.
Американские турне давали Шаляпину ощущение стабильности. В течение пяти лет активный театральный сезон с октября по май он проводил в Штатах. Успех в Америке год от года нарастал. Почти каждый приезд в новый город сопровождается торжественной встречей. В Бостоне на платформе хор студентов пел в честь Шаляпина «Эй, ухнем!». После триумфальных спектаклей певцу вручили символический ключ от города. В церемонии принял участие мэр Бостона. Такие моменты Шаляпин ценил. С воодушевлением пишет он дочери:
«Дней десять тому назад приехал я во Флориду (это штат, находящийся на выдвинутом мысе у Мексиканского залива). Приехал в городок под названием Sarasotta, климат тропический — жарко. Поезд остановился, потные пассажиры, лениво переставляя ноги, выкачивались из вагонов, а на перроне загремела музыка. Я глянул в окно — какие-то не то гусары, не то драгуны из оперетки „Цыганский барон“ из всех сил дули в кларнеты, тубы, трубы и отхватывали марш. „Какой-нибудь золоторогий магнат приехал, — подумал я, — гремят“.
Каково же было мое удивление, когда взволнованный Василий Коган, задыхаясь, выплевывал слюну: „ФФФедор Ивваныч, ппппожжалте, это вас вышел встречать городской голова с музыкантами“».
Шаляпинский репертуар становился популярным у американской публики. Чтобы облегчить понимание русских романсов и песен, артист ввел в обиход подробные программки с переводами текстов. Каждое произведение имело в программке свой номер, который артист объявлял перед исполнением.
Все большим успехом пользуется «Борис Годунов». Именно Шаляпин «повинен» в том, что музыку Мусоргского признала и оценила американская публика. О шаляпинском Борисе восхищенно пишут газеты, и, что удивительно, почти не слышно сплетен и клеветы, от которых так страдал артист на родине. Исключение составили чикагские репортеры, поместившие заметку об отчаянном донжуанстве Шаляпина. Газеты писали о назойливых приставаниях певца к партнерше, исполнявшей одну из женских партий в спектакле «Мефистофель», о бешеной ревности ее мужа. Следующей сенсацией стали газетные слухи о драке Шаляпина с режиссером чикагской оперы Спадони, будто бы закончившейся победой итальянца.
История была похожа на игру в «испорченный телефон». На репетиции «Бориса Годунова», происходившей без сценических костюмов, Шаляпин показал режиссеру-итальянцу, как царь Борис расправляется с Шуйским. Приняв показ за настоящую потасовку, кто-то из присутствующих на репетиции разнес слух о драке на сцене. Инцидент обрастал подробностями. В одной из парижских газет Шаляпину приписывали хамское поведение по отношению к артистам, к которым певец будто бы обращался с ругательствами: «Идиоты, свиньи, разве это артисты, тьфу!» «За артистов, — писала газета, — вступился дирижер и дал Шаляпину пощечину». (Вместо режиссера фигурирует дирижер.) Итальянские газеты трактовали драку глобально, как конфликт русского и итальянского искусства: режиссер нанес Шаляпину удар «в защиту итальянской музыки». («Бориса Годунова» здесь сочли итальянской оперой!) Наконец, в английской газете «Дейли геральд» инциденту придали политическую окраску: «…носятся слухи, что маэстро Спадони заклятый фашист, поклявшийся бить всех большевиков по носам».
Федора Ивановича задела не столько сама газетная «утка», сколько сплетня о том, что его побили. Он потребовал опровержения. Тем временем в Петрограде слухи о скандале уже распространились… Шаляпин шлет И. Г. Дворищину нью-йоркскую газету с публикацией открытого письма Спадони:
«Дорогой синьор Шаляпин! С величайшим удивлением я узнал о помещенной в газетах злостной лжи, где мне приписывается отвратительная позиция в отношении Вас. Я итальянец и, как все мои соотечественники, воспитан чтить искусство; кроме того, как джентльмен, я никогда бы и не подумал даже занять в отношении Вас, бессмертный артист, столь гнусную позицию, какую приписали мне американские газеты, информированные какими-то недобросовестными журналистами. Примите уверения в моем совершеннейшем уважении и преданности.
Джакомо Спадони».В письмах на родину Шаляпин обещает вернуться после очередного американского турне. «Красная газета» сообщает: певец прибудет в Ленинград весной 1924 года. Однако и эту весну артист проведет в Америке. По окончании сезона Федор Иванович едет в Европу. Лето — время отдыха, поправки здоровья. «Проклятая болезнь привязывает меня к докторам, к Парижу. У меня все тот же старый гайморит, и, вероятно, придется делать операцию…» — пишет он Горькому в Сорренто. До операции Шаляпину предстоят концерты в Германии. Он ждет в Берлине гонцов из России — И. В. Экскузовича и И. Г. Дворищина, чтобы обсудить обстановку, наметить репертуар. В письмах друзья зовут его в Ленинград, обещают торжественное празднование 35-летия его работы на театрах. Но на назначенное свидание ни Экскузович, ни Дворищин не явились. Шаляпин заключает новые договоры: «Так как вы не приехали вовремя, то я снова заключил контракт с Америкой, Германией, Австрией и Австралией и снова в Россию не попаду года 2 ½ — жаль!» — пишет он Дворищину.
А в Москве в январе 1927 года «Комсомольская правда» публикует стихотворение-манифест «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому», примечательное не только поэтическим комментарием предпринятого Горьким политического виража, но еще и точным предсказанием грядущих событий в жизни Федора Ивановича Шаляпина:
Очень жалко мне, товарищ Горький, что не видно Вас на стройке наших дней. Думаете — с Капри, с горки Вам видней? ………………… Оправдайтесь, гряньте! Я знаю — Вас ценит и власть, и партия, Вам дали б всё — от любви до квартир. Прозаики сели пред Вами на парте б: — Учи! Верти!— Или жить Вам, как живет Шаляпин, раздушенными аплодисментами оляпан? Вернись теперь такой артист назад на русские рублики — я первый крикну: — Обратно катись, народный артист Республики!..Так в поэтической форме впервые прозвучала серьезная политическая угроза.
«Письмо…» Маяковского Горькому, по сути дела, открыло агитационно-политическую кампанию по возвращению деятелей культуры в «материнское лоно» социалистической державы. Маяковский, сам недавно вернувшийся из большого зарубежного турне, гневно обличал капиталистическую действительность и раздавал щедрые обещания творческого и бытового процветания. Цитирующий эти строки — «Я знаю — Вас ценит и власть, и партия, Вам дали б всё — от любви до квартир» — автор книги «Гибель буревестника» А. Ваксберг весьма резонно замечает: «Вряд ли он мог пообещать эмигранту (именно так называл Маяковский Горького) вполне конкретные столь ценимые его адресатом земные блага, если бы он не имел на этот счет специальных разрешений от тех, кто ими располагал». Думается, что «специальными указаниями», во всяком случае идеологического порядка, Маяковский был наделен и в отношении Шаляпина. Пролетарский поэт резко противопоставил Шаляпина Горькому, показательно развел их по разным лагерям и практически дал сигнал публичной травли певца…
В марте 1925 года, когда артист гастролирует по Америке, семья в Париже переселяется в новый дом на улице д’Эйло. Покупка дома, безусловно, событие в жизни Шаляпина. Положение артиста упрочилось настолько, что он становится владельцем недвижимости. Дом для семьи не только осуществление важной для Шаляпина мечты об устойчивом укладе, но и статья регулярного дохода. Семья занимает один этаж, остальные квартиры сдаются внаем. «На доллары купил я для Марии Валентиновны и детей дом в Париже (не дворец, конечно, как описывают его разные люди), но, однако, живу в хорошей квартире, в какой никогда еще в жизни не жил», — сообщает Шаляпин Горькому.
Улица д’Эйло, названная в честь сражения Наполеона при Прейсиш-Эйлау, отходит от площади Трокадеро. Неподалеку Сена, тенистые сады. Шаляпины поселяются в богатом, чопорном районе Парижа. Дом пятиэтажный (первый этаж, как обычно в Европе, жилым не считается). Квартира певца похожа на музей: старинная мебель, гобелены, вазы, статуэтки — Федор Иванович ценит антиквариат. На стенах картины, главное украшение кабинета хозяина — кустодиевский портрет. Он бросается в глаза каждому, кто переступает порог шаляпинского дома. А совсем неподалеку — ажурная Эйфелева башня, символ французской столицы.
Шаляпин просит старшую дочь Ирину и Исая Григорьевича Дворищина прислать из России дорогие сердцу вещи, чтобы обжить новый дом: «Нельзя ли все мои ленты от венков (их, ты помнишь, очень много) переслать Марии Валентиновне в Париж. Она хочет украсить ими комнаты моих детишек. Если да, то возьми их, упакуй и пошли. Постарайся, дружище!»
Впрочем, сам хозяин — редкий гость в своем доме. В дальнее турне в Австралию и Новую Зеландию Шаляпин берет с собой Марию Валентиновну, Стеллу, Марфу, Марину и Дасю. К этому времени все дети и от первого, и от второго брака, кроме старшей Ирины, живут с ним.
Федору Ивановичу все труднее ездить на гастроли одному. Мария Валентиновна готова сопровождать мужа, но в Штатах Шаляпины неожиданно подвергаются шантажу. Артиста обвиняют, как он сообщает дочери, в «незаконных сожительствах с Марией Валентиновной». Приходится откупаться — платить импресарио и назойливым журналистам, вознамерившимся было «помусолить» частную жизнь Шаляпина: в пуританских Штатах это могло отразиться на гонорарах артиста. (История живо напоминает Шаляпину обструкцию, которую устроили Горькому, приехавшему в Америку с Марией Федоровной Андреевой в 1906 году.) Федор Иванович пишет Ирине: «Я как-то просил мать сделать со мной развод — она из глупой фанаберии отказалась. Теперь я думаю, что придет день, когда из-за этого я лишусь работы… и уже не в состоянии буду поддерживать всех вас, потому что в Европе заработать столько НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО! Я еще раз поговорю с ней… Думается, что она не захочет быть врагом всем нам вместе».
Через некоторое время Шаляпин собирается с духом и обращается к Иоле Игнатьевне:
«…слушай, Иоле! Я уже не молодой человек. В последнее время стал немного прихварывать… Ездить всюду, как раньше, один, я уже не могу. За мной нужен присмотр какого-нибудь человека. Но человек этот, Мария Валентиновна, ездить со мной всюду не может, ибо рекомендовать ее моей женой по закону я не могу, и на этой почве нынче в феврале меня шантажировали некоторые мерзавцы — пришлось заплатить деньги, чтобы не раздувать истории. Раздутая история лишила бы меня самого существенного из всех моих заработков, а эти заработки как раз составляют необходимое существование и тебя, и меня самого, и всех детей. Ты сама знаешь, что у меня на шее не менее 26 человек. Ответственность моя огромна, и я, конечно, вынужден путешествовать и работать в тех странах, которые наиболее широко оплачивают мой труд. Наконец: девицы уже на возрасте и должны будут выходить замуж. Каково положение их, бедняжек, когда у них есть „незаконный“ отец, имя которого им разрешено носить, и мать, имя которой различается от их собственного. Все это осложняет именно их жизнь и приносит им лишь огорчения… Ты же видишь, что раньше, когда наши дети были малышами, я никогда не проронил ни одного слова о разводе… Верю в твою дружбу и надеюсь, что сейчас ты покажешь ее на деле. Повторяю, что материально я всегда буду делать все, что в моих силах…»
Согласие на развод Федор Иванович получил, но более Иола Игнатьевна Шаляпину не писала и, когда приезжала в Париж к сыновьям, с бывшим мужем не встречалась, хотя посещала спектакли с его участием…
Летом 1927 года Федор Иванович решил освятить новый дом и направился к отцу Георгию Спасскому в собор Александра Невского на улице Дарю — место встреч русских беженцев. Георгия Спасского уважали и любили: скольких русских изгнанников он крестил, венчал, отпевал — не перечислить! Протоиерей отец Георгий — духовник Шаляпина. К нему и обратился артист с просьбой отслужить молебен на улице д’Эйло.
Во дворе церкви Шаляпина окружили оборванные дети, просившие милостыню. Впечатление врезалось в память, и после молебна Шаляпин дал Спасскому банковский чек на пять тысяч франков для помощи нуждающимся детям российских эмигрантов. Через русскоязычную газету «Возрождение» Спасский благодарил Федора Ивановича за сочувствие несчастным.
«Возрождение» — газета, начавшая выходить в 1925 году, принадлежала к «правому» направлению, близкому к Белому движению. Короткая заметка дала повод к яростной травле Шаляпина, добрый, сердечный поступок артиста на родине расценили как пособничество белоэмиграции.
Первые осуждения донеслись в Россию из-за границы, их озвучил В. Маяковский в варшавской газете «Польске вольности» от 22 мая 1927 года: на вопрос о его отношении к опере поэт ответил: «Это для некурящих. Я не был в опере что-то около 15 лет. А Шаляпину я написал стишок такого содержания»:
Вернись теперь такой артист назад на русские рублики — я первый крикну: — Обратно катись, народный артист Республики!«Стишок» этот — фрагмент из «Письма…» Маяковского Горькому.
31 мая московский журнал «Всерабис» напечатал «Письмо из Берлина». Некий С. Г. Симон (профсоюзный чиновник, вскоре, кстати, сбежавший за границу) гневно «обличал» Шаляпина: «Сидит… „народный“ за границей годы и годы… оброс ею и вот в один прекрасный момент оглянулся и видит — нуждаются русские люди… И какие люди!.. Князья, графы, бароны, тайные и всяческие советники, митрополиты, протоиереи, флигель-адъютанты, генералы свиты его величества…
Ну как не защемить сердцу, не Народного артиста Республики, нет, а заслуженного артиста императорских театров, солиста его величества?!! Ну и посылает солист его величества тысяч этак пять франков для раздачи этим безработным… Почему мы молчим? Почему не положить предел издевательству и наглости над всем СССР этого „СВИТЫ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА НАРОДНОГО АРТИСТА РЕСПУБЛИКИ“?»
Через день, 2 июня 1927 года, «Комсомольская правда» публикует большое стихотворение В. Маяковского «Господин „народный артист“». Поэт заявляет:
И песня, и стих — это бомба и знамя, голос певца подымает класс, и тот, кто сегодня поет не с нами, тот — против нас.Стихотворение заканчивается призывом:
С барина с белого сорвите, наркомпросцы, народного артиста красный венок!У Маяковского свои счеты с русской эмиграцией. Изгнанники считают поэта «любимцем Совнаркома», вдохновенным воспевателем черных дел чекистов, казней, пыток, репрессий. В парижских «Последних новостях» — самой популярной эмигрантской газете — Дон Аминадо рисует уничижительный портрет Маяковского — «дюжего мясникообразного профессионала», «совершеннейшего маньяка, жрущего по неисчислимым добавочным пайкам, требующего себе прижизненного монумента на Красной площади… прокладывающего пути от прохвоста к сверхчеловеку».
Шаляпин — удобная мишень для политического самоутверждения, и Маяковский намеренно придает инциденту политический масштаб: он не шутил, когда писал о своем желании «приравнять перо к штыку». Со страниц советских изданий на Шаляпина выливаются ушаты грязи. Аргументы — в стиле времени. Передовая статья журнала «Жизнь искусства» называлась «Кто — за и кто — против»:
«Мы знаем, кто эти „русские безработные“, при виде которых Шаляпин почувствовал благотворительный зуд: это выброшенные за советский рубеж злобные ненавистники рабочих и крестьян… — это сотрудники лондонских, пекинских и шанхайских взломщиков и душителей революции… И в переживаемый нами серьезнейший и напряженнейший политический момент мы вправе поинтересоваться: кто с Шаляпиным, то есть с чемберленовской Англией, и кто с нами, то есть с пролетарской революцией?»
Как когда-то в 1911 году, после истории «с коленопреклонением», Шаляпин оклеветан и оболган. Газетная травля больно травмировала артиста — ведь он дорожил своей репутацией на родине. Теперь на вопрос газеты «Возрождение», что он будет делать, если с него снимут звание, певец отвечал: «Ну что же, я после этого — перестану быть Шаляпиным или стану антинародным артистом? — я, который вышел из гущи народной, — всегда пел для народа. В особенности же теперь, после того, как я уже 37 лет на сцене и исколесил земной шар, я хочу взять на себя смелость и проявить, быть может, нескромность, сказав, что я не просто народный, я всенародный артист».
Горький счел это заявление певца ошибкой. «А с газетчиками ты напрасно разговариваешь. Звание же „народного артиста“, данное тебе Совнаркомом, только Совнаркомом и может быть аннулировано, чего он не сделал, да, разумеется, и не сделает», — уверенно писал он из Сорренто Шаляпину 29 июня 1927 года. Но Алексей Максимович заблуждался. Он не знал, что вопрос лишения Шаляпина звания обсуждался 22 августа в высшей инстанции — на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и по его прямому указанию 24 августа 1927 года Совет народных комиссаров РСФСР принял постановление о лишении Шаляпина звания народного артиста.
Путаной и невнятной была позиция А. В. Луначарского: ему выпала неблагодарная обязанность комментировать постановление Совнаркома. Луначарский отметал политические причины, утверждал, «что единственным… мотивом лишения Шаляпина звания… явилось упорное нежелание его приехать хотя бы ненадолго (курсив наш. — В. Д.) на родину и художественно обслужить тот самый народ, чьим артистом он был провозглашен…». Вероятнее всего, нарком просвещения сам не совсем уверен в насущной необходимости приезда певца в СССР.
Драматизм создавшейся ситуации переживал не один Шаляпин. А. Н. Бенуа писал М. Горькому: «Мы здесь застряли, и это немудрено. С необходимостью мне здесь остаться согласился и Анатолий Васильевич в той беседе, которую я имел с ним… Он даже прямо советовал оставаться до тех пор, пока у нас там чисто материальные условия существования не восстановятся до степени известной „нормальности“».
Дело, конечно, было не в «материальных», а в политических условиях. «Кто не с нами — тот против нас!» Попытка Шаляпина защитить свою честь на родине воспринималась как откровенный компромат. Его интервью «Возрождению» почти целиком приводил в своей статье «Широкая натура» советский журналист Михаил Кольцов. В «Красной газете» 30 июня 1927 года он так «цитировал» артиста:
«— Собираюсь ли я выехать в Россию? Нет, увольте! Сейчас не могу… Кроме того, не хочу. Мне там горчицей морду вымазали. На такие вещи и лакеи обижаются».
Обижаться же певец, по мнению Кольцова, не имел права:
«В советские годы Шаляпин не смог стать тем, чем ему полагалось: просто большим артистом, для которого открыты были все художественные и театральные возможности. Ему, десятипудовой, хрипнущей птичке, показалось тошно на русской равнине. Не то чтобы голодно птичке жилось… но самый вид русского зрителя, его потертая толстовка и несвежие башмаки противели Шаляпину. Хотелось другого зрительного зала — черных фраков, тугих накрахмаленных грудей, жемчугов на нежной коже женщин… Известный певец Баттистини, потеряв на старости голос, недавно постригся в монахи и, пуская петухов, прославляет господа бога в церковном хоре.
Сейчас при набитом кошельке и кое-каких остатках голоса Шаляпину не до России… Немного погодя, когда деньги и голос растают, вместе с ними убавится и спесь. Тогда, надо полагать, в тот же Всерабис поступит от Федора Иваныча прошение о персональной пенсии со многими ссылками на пролетарское происхождение и с объяснениями в прирожденной любви к советской власти».
Осудить Шаляпина спешит и Немирович-Данченко. Вернувшись из-за границы 22 января 1928 года, Владимир Иванович уже 24 января в «Красной газете» поддерживает санкции правительства о лишении певца звания народного артиста и едко цитирует сказанные ему недавно слова Шаляпина: «И в Россию этак на годочек приеду. Вот только закруглю капиталец».
Такого рода публикации формировали общественное мнение: Шаляпин — человек низменных, «сомнительных» моральных устоев, предпочитающий сытое благополучие духовным ценностям, имя его отныне синоним «исключительного нравственного падения», он продал душу за деньги и убежал от своего народа к его «заклятым врагам».
Лишение звания народного артиста было не единственной санкцией советской власти. Шаляпина вызвали на улицу Гренель, в посольство СССР. Посол X. Г. Раковский объявил артисту о его «денационализации», то есть о лишении советского гражданства. Впрочем, документально санкция не была закреплена. Знавший Раковского писатель Л. Э. Разгон комментирует это так: «Очевидно, в Москве указание о лишении Шаляпина советского паспорта было дано тем, чьи приказы не оспаривались… Раковский объявлял Шаляпину этот жестокий и несправедливый приказ со всей мягкостью и тактичностью, на которую был способен. И тем не менее, рассказывал Раковский, Шаляпин разрыдался. Его с трудом удалось успокоить…»
Раковский сочувствовал Федору Ивановичу. Дипломат знал: дни его самого на посту посла сочтены, понимал и политическую ситуацию в СССР. В это же время к нему обратился молодой пианист Владимир Горовиц с просьбой помочь ему вернуться на родину. Раковский с грустной улыбкой осторожно посоветовал музыканту не спешить: «Играйте пока здесь, еще успеете…» Позднее стало известно: отец Горовица был арестован и погиб в сталинских лагерях.
Часть седьмая ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ
«На чужбине», — написал я в заголовке этих заключительных глав моей книги. Написал и подумал: какая же это чужбина? Ведь всё, чем духовно живет западный мир, мне, и как артисту, и как русскому, близко и дорого. Все мы пили из этого великого источника творчества и красоты.
Ф. И. ШаляпинГлава 1 ВЕСТИ С РОДИНЫ
Горький в эту пору с трудом пытается врасти в европейский литературный быт. Часть эмиграции встретила писателя откровенно враждебно, часть доброжелательно, расценив его приезд как неминуемый и окончательный разрыв с большевизмом. Язвительный памфлет соратника по «Среде» Е. Н. Чирикова «Смердяков русской революции. Роль Горького в русской революции» вышел в Софии в 1921 году и сразу стал популярен в Париже, Берлине, Праге. Зато А. Н. Толстой в статье «Великая страсть», опубликованной в литературном приложении к газете «Накануне» 1 октября 1922 года, поздравлял Горького с тридцатилетием литературной деятельности и радовался пополнению эмигрантских рядов: «Его искусство — ярость освобождения. И вот — путь от хриплого крика Буревестника к милому, у костра, у ручья, голосу отшельника: теперь ты свободен, освободись же от последних самых страшных цепей, тех, что лежат на сердце. Возлюби».
Но Горький вскоре понял: на лидерство в эмигрантской литературной среде он претендовать не может, а роль изгоя для него неприемлема. После многократных поездок в СССР он с семьей в 1933 году окончательно возвращается в Советскую Россию. К тому времени и граф Толстой кардинально перестроился и убедительно продемонстрировал преданность новому режиму. В СССР личная дружба и сотрудничество писателей окрепли. Алексей Николаевич часто бывает у Горького в Москве, в особняке Рябушинского, в подмосковной усадьбе Горки, он отмечает упорядоченность повседневного быта Алексея Максимовича, организованную плотным номенклатурным окружением. Стиль жизни здесь задавал главный чекист страны Генрих Григорьевич Ягода, увлеченный невесткой Горького Тимошей, а также другие высокопоставленные чекисты: А. В. Запорожец, А. Б. Халатов, П. П. Крючков и прочие. И Горькому, и Толстому это льстило — оба запросто общаются с военной, властной верхушкой, Горький щедро использует свои высокие связи для блага друзей, сводит Толстого с Ворошиловым, который, ссылаясь на авторитетное мнение вождя, советует писателю крупно показать роль Сталина в Гражданской войне в романе «Хождение по мукам». Атмосферу «литературных салонов» запечатлела часто бывавшая в семье Толстых художница Л. В. Шапорина-Яковлева в дневниковой записи 8 ноября 1933 года: «Толстой последнее время одержим правительственным восторгом. Через два слова в третье — ГПУ, Ягода, Запорожец и т. д. Ягода мне говорит… Я говорю Ягоде… А еще прошлой осенью Алексей Николаевич ругал Горького: там бывать невозможно, везде ГПУ. Ягода был мерзавцем, которого надо сместить. <…> Еще три года назад у Толстых во всех комнатах висели образа, ходили в церковь, а теперь — да здравствует марксизм».
К идее создания празднично-романтизированного искусства «социалистического реализма» Горький относился трепетно и бдительно охранял ее от всяческих нападок. Осенью 1929 года Горький написал из Сорренто письмо Сталину, в котором делился с вождем серьезными опасениями: в советской литературе наметился крен в сторону показа трудностей, сложных житейских обстоятельств, недостатков в строительстве социализма. Такая тенденция охлаждает энтузиазм трудящихся, деморализует массы, она вредна и опасна.
Вождь отнесся с пониманием к тревогам писателя и попытался успокоить его: «Возможно, что наша печать слишком выпячивает наши недостатки, а иногда даже (невольно) афиширует их. Это возможно и даже вероятно. И это, конечно, плохо. Вы требуете, поэтому, уравновесить (я бы сказал — перекрыть) наши недостатки нашими достижениями. В этом Вы, конечно, правы. Мы этот пробел заполним обязательно и безотлагательно. Можете в этом не сомневаться».
Пламенные декларации политической лояльности Горького в годы зреющего террора вряд ли кого-либо удивили, если бы на памяти не был известен другой Горький — 1917–1920 годов, поры его «Несвоевременных мыслей», среди которых встречается и такая: «Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грезе о всемирной или европейской революции… И пока я могу, я буду твердить русскому пролетариату: „Тебя ведут на гибель, тобою пользуются как материалом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты все еще не человек!“». Отражало ли это суждение Горького всего лишь «настроение момента»? Над этим вопросом ломают голову уже несколько поколений горьковедов-исследователей.
Действительно, спустя десять лет после октябрьского переворота греза о мировой и европейской революции рассеялась как дым. Осознание социальной и политической реальности резко изменило стратегию и тактику построения социализма: его пришлось осуществлять в одиночку, в отдельно взятой стране, в условиях «зловещего» капиталистического окружения. К тому же вскоре у Сталина появились конкуренты в претензиях если не на мировое, то уж во всяком случае на европейское идеологическое и территориальное господство — Муссолини, Гитлер, Франко. Это обстоятельство также внесло коррективы во внутреннюю и внешнюю политику СССР.
Большевистская идея классовой непримиримости, усиленная пафосом революционного романтизма, предполагала методом «социалистического реализма» сплотить на единой политико-идеологической платформе всех деятелей советского искусства. «Мы живем в атмосфере ненависти к нам со стороны дикарей Европы, ее капиталистов, нам тоже нужно уметь ненавидеть, — искусство театра должно помочь нам в этом, — писал Горький в 1933 году в статье „О пьесах“. — Наши молодые драматурги находятся в счастливом положении, они имеют перед собой героя, какого еще никогда не было, он прост и ясен так же, как и велик, а велик он потому, что непримирим и мятежен гораздо больше, чем все Дон Кихоты и Фаусты прошлого… Я не представляю себе, чему бы мог научиться у Островского современный молодой драматург… Меньше всего сейчас нам необходима лирика (пьес Чехова. — В. Д.)».
В сознание масс внедряется новая система нравственных и художественных ценностей, новое понятие героического, новых основ мировоззренческих основ бытия.
…В 1902 году Вл. Гиляровский по просьбе Станиславского и Немировича-Данченко знакомил артистов Художественного театра с темными лабиринтами московского «дна». Благодаря этому, как оказалось небезопасному, путешествию в спектакль «На дне» вошли достоверные приметы ночлежного быта, творчески переосмысленного и сценически воплощенного мастерами театра.
В 1920–1930-х годах познать жизнь преступно-криминального мира приглашены «инженеры человеческих душ» — известные советские литераторы. Показательный вояж предполагал посещение детских трудовых колоний, Соловецкого лагеря, стройку Беломорско-Балтийского канала. «Экскурсоводами» выступили высшие начальники НКВД. Итогом поездки стала вышедшая в 1934 году под редакцией М. Горького, лидера Российской ассоциации пролетарских писателей Л. Авербаха, начальника Беломорско-Балтийского лагеря и замначальника Главного управления лагерей ОГПУ С. Фирина художественно-публицистическая книга, восхваляющая процесс коллективистского социального перевоспитания «отбросов общества», превращения их в образцовых советских граждан, — «Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина. История строительства. 1931–1934». Открывавшая книгу программная первая глава принадлежала М. Горькому и называлась «Правда социализма».
В 1929 году Горький сам погостил на Соловках и в радужно-умиленных тонах описал жизнь лагерников в одном из очерков цикла «По Союзу Советов». Впечатления от поездок по лагерям и колониям не оставили его равнодушным. Горький сообщал писателю и начальнику детской колонии А. С. Макаренко в октябре 1935 года: «Так же, как Вы, я высоко ценю и уважаю товарищей этого ряда (работников НКВД. — В. Д.). У нас писали о них мало и плохо… Сами они, к сожалению, скромны, говорят о себе мало. Было бы очень хорошо, если б, присмотревшись к наркомвнудельцам, Вы написали очерк или рассказ „Чекист“. Героическое Вы любите и умеете изобразить».
Личное письмо, как это часто бывало у Горького, продолжает его публицистику. В «Правде» от 4 декабря 1934 года он писал: «Работой чекистов наглядно демонстрируется гуманизм пролетариата — гуманизм, который, развиваясь, объединит трудовой народ всей земли в единую, братскую семью, в единую творческую силу. О „гуманизме“ буржуазии, который она пятьсот лет славила и восхваляла, можно не говорить в наши дни, он — издох… Вероятно, лет этак через пятьдесят, когда жизнь несколько остынет и людям конца XX столетия первая половина его покажется великолепной трагедией, эпосом пролетариата, — вероятно, тогда будет достойно освещена искусством, а также историей удивительная культурная работа рядовых чекистов в лагерях».
21 ноября 1929 года ЦИК СССР принял постановление о «невозвращенцах»; оно предусматривало радикальные меры наказания: расстрел, конфискацию имущества, репрессии родственников. Но эти меры не останавливают от бегства из страны М. А. Чехова, В. А. Горовица, дирижера Н. А. Малько, художника Ю. Н. Анненкова, режиссера А. М. Грановского и актеров театра «Габима» и даже советника французского полпредства Г. З. Беседовского, партийного деятеля Ф. Ф. Ваковского и других. В поездках за границу отказывают В. В. Маяковскому, М. А. Булгакову, с пристальным подозрением относятся к гастролирующим в Европе режиссерам А. Я. Таирову, Вс. Э. Мейерхольду, к работающему в США кинорежиссеру С. М. Эйзенштейну.
Социальная напряженность конца 1920–1930-х годов распространялась практически на все сферы бытия. Власть управляла искусством и частной жизнью цензурными, экономическими и административными рычагами. В ходе обысков изымались домашние архивы. Дневники, интимные записи, фотокарточки, почтовая переписка в условиях тотального сыска и доносительства могли в любой момент стать серьезными обвинительными документами. Предпочтительнее оказывалось их уничтожить заблаговременно. Писатель Михаил Пришвин оставил в своем дневнике 1930 года примечательную запись: «Нельзя открывать своего лица, нужно все время носить маску». Маска в эту пору выступала как средство защиты от произвола власти и одновременно как инструмент тотальной театрализации власти.
Незадолго до самоубийства В. Маяковский поэтически изложил свою эстетическую и гражданскую программу:
Не хочу, чтоб меня, как цветочек с полян, рвали после служебных тягот. Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год. …………………………… Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо. С чугуном чтоб и с выделкой стали о работе стихов, от Политбюро, чтобы делал доклады Сталин.Мечта Маяковского оборачивалась явью. Партия и ее аппарат осваивали механику централизованного управления страной и манипулировали сознанием, поэтическое и прозаическое творчество образно уравнено со штыком, сводки о художественных достижениях входят в отчетные доклады партийных съездов, по «вопросам искусства» часто высказывается Сталин, и его суждения ложатся в основу правительственных постановлений, крепят монополию большевистской идеологии.
…До 1922 года в диалоге с Горьким Шаляпин почти всегда уступает, после — все увереннее настаивает на своем. Горький же круто меняет позицию обличителя режима на его аллилуйщика, принимает от Сталина почетный пост «первого писателя», основоположника «социалистического реализма». Горького триумфально возят по СССР, имя его присваивают городам, улицам, театрам, библиотекам, заводам, колхозам, совхозам, кустарным артелям, исправительно-трудовым колониям, стадионам, избам-читальням и пр. Но теперь Горький лукавит, притворяется, понуждает ко лжи литературных соратников и, конечно, Шаляпина.
Глава 2 ОКРУЖЕНИЕ ШАЛЯПИНА
В эмиграции Шаляпин не стремится расширять круг знакомств, в основном сфера его общения ограничивается домом, семьей, художественной средой, преимущественно соотечественниками. Большую часть времени он проводит на гастролях в разных странах мира, и встречи с С. В. Рахманиновым, М. А. Чеховым, К. А. Коровиным, И. А. Буниным, С. П. Дягилевым, Анной Павловой, актерами Художественного театра, с тем же Горьким эпизодичны, часто зависят от причудливых гастрольных маршрутов и произвольных перемещений по миру друзей и знакомых. В Париже артист поддерживает дружеские и деловые отношения с певцами русской оперы князем А. А. Церетели, антрепренером М. Э. Кашуком, артистами А. Д. Давыдовым, Г. М. Поземковским, журналистом С. Л. Поляковым-Леонтьевым, писателем Дон Аминадо (Д. Шполянским), встречается с представителями советского посольства — давним знакомым Л. Б. Красиным и новым — X. Г. Раковским. В разных концах света судьба сталкивает Шаляпина с гастролирующей труппой Художественного театра, К. С. Станиславским, Анной Павловой, в столице Уругвая Монтевидео он встречается с артистами Камерного театра и А. Я. Таировым. Но самая прочная дружба связывает его в эти годы с Сергеем Васильевичем Рахманиновым.
Рахманинов покинул Россию в 1917 году, Шаляпин — в 1922-м. Это пятилетие оказалось испытанием для обоих. Не склонному к путешествиям Рахманинову необходимо было освоить новый образ жизни музыканта-гастролера, Шаляпин же оставался в стране обособившейся, разрушенной экономической нестабильностью, Гражданской войной, политическим террором. Для обоих художников эти годы стали трудным периодом выживания — и профессионального, и экономического, и духовного, периодом переосмысления важных жизненных координат, определения новых ценностных ориентиров.
Еще в предреволюционные годы Рахманинов и Шаляпин активно участвовали в благотворительной деятельности. Федор Иванович открыл два лазарета для солдат, выступал с концертами в пользу жертв войны и их семей, в пользу артистов-воинов, амнистированных заключенных. В 1917 году Сергей Васильевич исполнил свой Первый концерт для фортепиано с оркестром и сообщил газете «Русские ведомости»: «Свой гонорар от первого выступления (после Февральской революции. — В. Д.) в стране отныне свободной, на нужды армии свободной при сем прилагает свободный художник С. Рахманинов».
Весной 1917 года Временное правительство призвало граждан России, владеющих земельными наделами, всемерно способствовать посевной кампании и помочь собрать хоть какой-нибудь урожай — крестьянских сил не хватало, множество солдат полегло на русско-германском фронте.
Рахманинов послушно прожил в своей тамбовской усадьбе Ивановка три весенних месяца, мирно беседовал с крестьянами окрестных деревень. После одной из таких посиделок несколько стариков вернулись: «Какие-то люди, Господь ведает, кто они, мутят и спаивают народ. Уезжай, барин, лучше от греха».
Совет оказался своевременным — в деревнях начались погромы, в Ивановке крестьяне в эйфории борьбы за равноправие сбросили со второго этажа рояль, а спустя четыре года спалили и дом…
15 декабря 1917 года газета «День» сообщила: «С. В. Рахманинов отправляется в концертное турне по Норвегии и Швеции. Турне продлится более двух месяцев». На Финляндском вокзале пустынно. Служащий таможни бегло осмотрел багаж, пожелал успешных выступлений. В Россию Рахманинов не вернулся.
Войдя в руководство Мариинского театра, Шаляпин чувствовал себя ответственным не только за художественную его деятельность, но и за выживание труппы. В 1918–1919 годах он дает концерты в пользу мастерских и рабочих сцены. Федора Ивановича тревожит судьба старых российских лицедеев, которых опекают Российское театральное общество и Профсоюз актеров, он дает в их пользу восемь благотворительных спектаклей и концертов. Желающих вовлечь Шаляпина в разного рода акции несметное число — его участие всегда обеспечивает высокие сборы, он вынужден сопротивляться наглому напору разного рода ловких проходимцев — его тут же обвиняют в своекорыстии и жадности. Федор Иванович вынужден оправдываться, писать в официальные инстанции заявления:
«Товарищу Михаилу Алексеевичу Сергееву, для сведения. Суммы, пожертвованные мною различным народным организациям с 25 октября 1917 года:
Кронштадт — на культурно просв. цели 18 000 рублей Орехово-Зуево — для бедных детей-рабочих 20 000 рублей Москва — бедным детям социальн. обеспеч. 20 000 рублей — профессион. союз артистов 30 000 рублей Петербург — бедным детям Социальн. обеспеч. 20 000 рублей — рабоч. — технич. персоналу Мариинского театра 40 000 рублей — хору Мариинского театра 35 000 рублей — оркестру Мариинского театра 40 000 рублей — престарелым артистам Убежища 30 000 рублей — Народи. Университету Лутугина 10 000 рублей — Политич. Красному Кресту 15 000 рублей Итого: 251 000 рублейИ другие более или менее мелкие пожертвования. <…> Несмотря на то, что все артисты, включая хор и оркестр, с прошлого года получили повышение гонорара на 300 %, — я один лишь счел для себя обязательным остаться при первоначальных условиях.
Федор Шаляпин».Заявление относится к началу 1920 года. И в дальнейшем Шаляпин дает благотворительные концерты и спектакли в помощь семействам врачей, погибших в борьбе с тифозной эпидемией, в пользу голодающих Поволжья. Адреса благотворительности самые разные и подчас неожиданные — в пользу бесплатной столовой для рабочих и их детей, в пользу детской секции Отдела народного образования, в пользу Комитета социального обеспечения Красного Креста, раненых красноармейцев, в помощь детям красноармейцев, погибших в боях за Петроград, пленных и беженцев. В Петрограде артист выступает в Народном доме в пользу образования Первого национального еврейского театра в Палестине, в Москве участвует в благотворительных концертах в Таганской и Бутырской тюрьмах. На кратковременных гастролях в Англии и Латвии поет в пользу голодающих Поволжья.
С отъездом из Советской России благотворительная деятельность Шаляпина не прекращается: в 1920–1930-х годах он выступает с концертами и спектаклями в помощь разного рода фондам, в 1932 году дает благотворительный спектакль для русских безработных. Организаторы мероприятия присылают Шаляпину благодарственное письмо: «Все русские общественные организации в Париже глубоко признательны за Ваш сердечный отклик на бедствие безработицы, тяжко поразившее трудовое русское население во Франции. Несравненный певец и гениальный артист, Вы постоянно дарите нас чарами Вашего творчества, в котором мы ощущаем русскую мощь, Вы так прочно и верно воплощаете живые образы изученных Вами героев разных стран и времен, что оправдывается на сцене вещее слово Ф. М. Достоевского о русском человеке как всечеловеке, и даете нам право гордиться Вами, как подлинным русским талантом. Примите же за все это нашу общую искреннюю благодарность».
Незадолго до кончины, в 1937 году, в Лондоне Ф. И. Шаляпин дает концерт в пользу Фонда национального совета экономической помощи районам, пострадавшим от бедствия. В Россию он отправляет деньги семье Ирины Федоровны Шаляпиной, просит дочь помочь вдове Д. А. Усатова, посылает переводы М. А. Слонову, К. С. Станиславскому, своему верному помощнику и повару Николаю Хвостову и его жене Полине, да и многим другим.
Ф. И. Шаляпин и Ч. Чаплин. Калифорния.1923. Рисунок из американского журнала
С. Л. Поляков-Литовцев пишет о последних годах жизни Шаляпина, о его отношении к деньгам, к богатству:
«Простолюдинов, людей из народа, „мужика“ Шаляпин, по-видимому, любил искренно, чувствуя себя самого сыном народа, „крестьянином“. Жаловал столбовых купцов московских за уменье строить жизнь, за изобретательность, за творчество и, пожалуй, за мужицкий их корень. К русским слугам своим относился необыкновенно просто, как к равным. Снобизма в нем не было ни капли. К барам, к аристократам его не тянуло… А вот барскую жизнь, обилие, роскошь любил. И нередко прямо предъявлял свое право на это. Царь — почему ему жить не по-царски? В „Маске и душе“ он пишет: „Я говорил себе — были замки у королей и рыцарей, отчего же не быть замку у артиста?“ И он жил в очень большой роскоши… Скуп Шаляпин не был — он был широк и даже расточителен. Когда он находил нужным оказать кому-нибудь помощь, он не мелочно ее оказывал. Но инстинкт собственности, вкус к приобретению был в нем силен. Он любил золото, землю, дома в городе, дачи в деревне. В Крыму купил Пушкинскую скалу и какую-то скалу купил даже где-то в Америке. Ему казалось, что все это очень практично, на деле это было чистейшее любительство, утоление капризной жажды владения. И деньги Шаляпин любил за то, что они могут дать. И даже эту любовь, столь сильную, он подчинял своему искусству и сану гения, каким себя гордо сознавал. Гонорары должны быть огромные, потому что он — Шаляпин».
…Вести о голоде и разрухе в России больно тревожили и С. В. Рахманинова. Он регулярно дает концерты в пользу соотечественников. В одной из американских газет опубликован большой список городов, куда высланы продуктовые посылки и денежные переводы. Только после концерта 2 апреля 1922 года посылки в Москве получили университет, консерватория, Музыкально-драматическое училище, Высшее техническое училище, Институт инженеров путей сообщения, Сельскохозяйственный институт, Школа живописи, ваяния и зодчества, Межевой институт, Высшие женские курсы, Союз русских драматических и музыкальных писателей, Большой и Малый театры, Художественный театр, Комитет содействия ученым. Благодарственные письма Рахманинову могли бы составить несколько объемных томов. Сергей Васильевич не распространялся на эту тему, но о том, сколь значительна и своевременна была его помощь, свидетельствуют письма А. К. Глазунова, К. Д. Бальмонта, Игоря Северянина, А. И. Куприна, Н. С. Морозова, К. С. Станиславского, Т. Л. Щепкиной-Куперник, Вл. И. Немировича-Данченко и многих других.
В пору экономического спада 1930-х годов многие русские эмигранты выброшены на улицу. Рахманинов дает несколько благотворительных концертов в европейских столицах. 16 марта, 3 и 5 мая 1932 года он выступает в Брюсселе и Париже «в пользу нуждающихся русских людей и русских студентов».
В 1926 году Рахманинов спасает от финансового краха авиаконструктора И. И. Сикорского, он ищет литературную работу В. В. Набокову, поддерживает театральные начинания М. А. Чехова, организует творческие заказы художникам М. В. Добужинскому, Б. Д. Григорьеву, К. А. Сомову.
Как пианист Рахманинов в эти годы достигает вершин артистического успеха, но его настораживает прагматическая предприимчивость издателей и антрепренеров, предлагающих ему выгодные контракты на создание и исполнение технически несложных произведений, заведомо ориентированных на упрощенный любительский вкус. Искусство не может быть корыстным! «Музыка должна идти от сердца… Я никогда не пишу для коммерции, — извещал Рахманинов американского издателя, — так как создание нового музыкального произведения, полагаю, должно быть чем-то священным… Я отношусь к творчеству слишком серьезно и уважительно, чтобы так поступать».
В России Рахманинов получил от И. А. Бунина книгу «Чаша жизни» и ответил писателю письмом: «И я Вас неизменно люблю и вспоминаю часто наши давнишние с Вами встречи. Грустно, что они теперь не повторяются». Дочь Рахманинова Татьяна Сергеевна рассказывала писателю Л. Ф. Зурову, что Сергей Васильевич любил перечитывать рассказы Бунина, вслушиваясь в музыкальность фраз и слов.
За границей они встретились впервые в сентябре 1926 года. Вера Николаевна Бунина записала в дневнике о Рахманинове: «Очень прост и приятен… По-видимому, к Яну (Бунину. — В. Д.) относится очень хорошо».
В ноябре 1933 года И. А. Бунину присуждается Нобелевская премия — «за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе русский характер». Рахманинов поздравил его телеграммой — он концертировал тогда в Нью-Йорке.
Полугодом раньше Сергею Васильевичу Рахманинову исполнилось 60 лет. 7 мая 1933 года в Париже, в зале Очага русской музыки на Токио-авеню, его встретили шумной овацией. Приветствия — от культурных обществ, правительственных особ, официальных лиц, от И. А. Бунина, Д. В. Мережковского, А. Т. Гречанинова, от всемирно известных музыкантов Жорже Энеску, Маргариты Лонг, Мориса Равеля, Жака Тибо… Оглашен адрес и от «русской колонии», живущей на Западе.
25 февраля 1923 года пути Рахманинова и Шаляпина пересеклись в Чикаго: Сергей Васильевич выступает с концертной программой, а Федор Иванович в театре «Аудиториум» поет Бориса Годунова в спектакле «Русской труппы» А. Фивейского. Рахманинов старается не пропускать спектакли с Шаляпиным.
Завершив напряженный концертный сезон, Рахманинов отдыхает с семьей на даче в Локуст-Пойнте, что в 50 милях от Нью-Йорка, на берегу Атлантического океана. В Штатах в ту пору гастролировали мхатовцы, в гости приехали Иван Михайлович Москвин, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, чета Лужских, художник В. А. Сомов с женой, был и Федор Иванович Шаляпин.
Годы жизни за границей — это пора невозвратимых потерь, прощаний с людьми, свидетелями первых художественных исканий, творческих свершений. Шаляпин, как и Рахманинов, живет бытом всемирно известного гастролера, перемещаясь в пространстве разных стран и континентов. Его жизнь на колесах. У него нет постоянного пристанища. В одном из писем он с грустью говорит о том, что уже много лет вынужден считать своим прибежищем спальный вагон.
С течением времени отношения Рахманинова и Шаляпина обрели черты незыблемости и редкостного постоянства, не подверженного каким-либо перепадам настроений. Их привязанность в огромной степени объяснялась «родственностью» талантов, безбрежной духовной неисчерпанностью, которую они чувствовали друг в друге. Как-то английский знакомый спросил Шаляпина: «Что надо читать, чтобы лучше понять душу русского человека?» Он тут же ответил: «Надо слушать музыку Рахманинова».
Дружба Рахманинова и Шаляпина восхищала окружавших их людей еще и потому, что воспринималась ими как черта истинно русской жизни с присущей ей прочностью духовного родства. Писатель Андрей Седых (Я. М. Цвибах) как-то спросил М. А. Алданова, почему Сергей Васильевич большей частью производит впечатление угрюмого человека. Алданов ответил: «Он не холодный и не суровый человек. Но, конечно, Рахманинов не принадлежит к категории людей „с душой нараспашку“. Я, например, просто не представляю, чтобы кто-нибудь мог быть с ним фамильярен. Это было бы просто странно… Разве только Шаляпин? Но уж очень они были близки и любили друг друга».
Русские друзья собирались у Рахманинова в Клерфонтене, недалеко от Парижа. Михаил Александрович Чехов рассказывал про закулисные будни Художественного театра, воссоздавал комические эпизоды с участием Станиславского и других мэтров. Рахманинов вспоминал, как в молодые годы Шаляпин учил его кланяться публике: «Надо улыбаться и встречать публику радушно. Сказал мне, что кланяюсь как факельщик. Но из уроков наших все равно ничего не вышло. А у него вот выходило. Федя-то хотя и бас, а кланялся как тенор. Да, умел он это…»
Скрипач Николай Константинович Авьерино навещал Рахманинова летом 1930 года. «Вокруг него была семья, в которой он души не чаял: жена, старшая дочь, молодая вдова Ирина с очаровательной шестилетней дочкой Софочкой, и другая дочь, тогда еще барышня, Татьяна. Кроме того, дом был постоянно полон молодежи, которую Сергей Васильевич очень любил. Братья Шаляпины (Борис и Федор. — В. Д.), талантливые веселые выдумщики, брат и сестра Зерновы. Конюс, будущий муж Татьяны, и пианист Павловский. Жизнь в доме била ключом… Русская помещичья усадьба в окрестности Парижа! Гостей полон дом и „нелюдимый“, „угрюмый“ Рахманинов веселится и наслаждается».
О Советской России Рахманинов хорошо осведомлен. Потрясенный масштабами начавшихся в конце 1920-х годов судебных расправ, он, обычно не склонный к публичным декларациям на политические темы, все-таки высказал свое отношение к происходящим событиям в интервью газете «Нью-Йорк таймс» 7 февраля 1931 года.
Отклик не заставил себя долго ждать. «Бойкот Рахманинову!» называлась статья в вечернем выпуске «Красной газеты» от 16 марта 1931 года. Зачинателем кампании стала альма-матер — Московская консерватория, на митингах профессоров и студентов Рахманинова объявляют «белоэмигрантом, отражающим упаднические настроения мелкой буржуазии», носителем «творчества, особенно вредного в условиях ожесточенной классовой борьбы на музыкальном фронте».
За поддержкой «славного почина» дело не стало. «„Колокола“ не должны звучать на советской сцене!» — так озаглавила гневную статью Е. Канн в журнале «Рабис» (1932. № 9). «Кто, например, не знает „маститого“ композитора Сергея Рахманинова? Человека, сбежавшего в панике за границу от „кровавых ужасов“ пролетарской революции? Человека, вымещающего свою „обиду“ на Советскую страну печатной клеветой о „принудительном труде в СССР“, о „средневековых ужасах ГПУ“ и пр.? — страстно негодовала критик-музыковед. — Квинтэссенция упадничества, поэма буржуазно-мещанских чаяний, мистически-религиозного экстаза… Вот это бесцветное, никому не нужное музыкальное содержание, разукрашенное пышными оркестровыми одеждами, которыми Рахманинов тщетно пытается прикрыть свое творческое бессилие. И все же это не только чуждое, но явно враждебное сочинение дважды прозвучало на советской эстраде!»
Рахманинов, разумеется, не был единственным объектом разнузданной агитационно-пропагандистской кампании. «Литературная газета», например, информируя читателей о присуждении И. А. Бунину Нобелевской премии, раздраженная изъятием из списка номинантов М. Горького, называла нового лауреата «матерым волком контрреволюции».
Надо отдать должное гражданскому мужеству тех, кто в Москве помнил о Рахманинове, ценил его творчество, исполнял его музыку, несмотря на грозные политические окрики и обвинения. Произведения Рахманинова прозвучали в концертах оркестра Большого театра под управлением Н. С. Голованова 11, 12 и 28 декабря 1932 года.
В середине 1930-х годов снова распространяются слухи о возвращении в СССР Рахманинова и Шаляпина. Трудно сказать, что послужило конкретным поводом для подобных предположений. Книга «Маска и душа» Шаляпина, в которой Сталину давалась уничижительная оценка («не то что злодей — такой он родился»), вряд ли обещала певцу снисхождение советского режима. Публично высказанное в прессе возмущение Рахманинова ужасами каторжного труда также никак не способствовало установлению дружественных отношений с Советами. Сталин в эту пору решил укрепить свой престиж в мировом общественном мнении, расположив к себе творческую интеллигенцию, пользующуюся на Западе безусловным нравственным авторитетом. Помпезные путешествия по стране М. Горького, возвращение А. И. Куприна, А. Н. Толстого, С. С. Прокофьева, сопровождающиеся многолюдными ликованиями визиты Рабиндраната Тагора, Анри Барбюса, Ромена Роллана, Бернарда Шоу, Лиона Фейхтвангера, Андре Жида осуществлялись в русле именно таких пропагандистских задач. Как и миссия Немировича-Данченко в Европе: уговорить блудных братьев по искусству вернуться. «Трижды меня звали в Россию, сулили всяческие блага, — признавался Рахманинов. — Не могу! Тяжело там дышать… А запрет на мои вещи „они“ все-таки сняли — и за это спасибо».
Но «они» — это не Россия, не родина. «Они» — это исполнители режимных идеологических директив. Одно из последних писем Шаляпина тоже полно горечи и презрения: «Это не я их не понял, а они меня не поняли. Это они мне устраивали в течение пяти лет унизительную жизнь, от которой нужно было бежать».
Между тем концертная деятельность Рахманинова, как и Шаляпина, развивалась весьма успешно. В письме своему другу В. Р. Вильшау Сергей Васильевич делится своими настроениями: «Странно жизнь сотворена. Теперь, когда стар стал, устал, болею, перемогаюсь, от концертов отбою нету… Читаю сейчас книгу Ильфа и Петрова „Одноэтажная Америка“. Прочти непременно, если хочешь познакомиться и узнать Америку. Много там интересного. Есть несколько смешных строчек и про меня. Это единственное место, где я нашел неправду!»
Найдем это место и мы.
«Рахманинов, как говорил о нем знакомый композитор, перед выходом на эстраду сидит в артистической комнате и рассказывает анекдоты. Но вот раздается звонок. Рахманинов поднимается с места и, напустив на лицо великую грусть российского изгнанника, идет на эстраду.
Высокий, согбенный и худой, с длинным печальным лицом, подстриженный бобриком, раздвинув фалды старомодного сюртука, поправил огромной кистью манжету и повернулся к публике. Его взгляд говорил: „Да, я несчастный изгнанник и принужден играть перед вами за ваши презренные доллары. И за все свое унижение я прошу немного — тишины“. Он играл. Была такая тишина, будто вся тысяча слушателей на галерее полегла мертвой, отравленная новым, до сих пор неизвестным музыкальным газом. Рахманинов кончил. Мы ожидали взрыва, но в партере раздались лишь нормальные аплодисменты. Мы не верили своим ушам. Чувствовалось холодное равнодушие, как будто публика пришла не слушать замечательную музыку в замечательном исполнении, а выполнить какой-то скучный, но необходимый долг. Только с галерки раздалось несколько воплей энтузиастов».
И. А. Ильф и Е. П. Петров благоразумно не относили себя к числу неразумных энтузиастов и поклонников Рахманинова. Авторы популярных фельетонов, нашумевших романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» в 1935 году были командированы в США в ранге корреспондентов «Правды», мандат которой обязывал добросовестно отработать порученный им социальный заказ. «Одноэтажную Америку» и в СССР, и на Западе читали с интересом — тонкая наблюдательность, блистательный юмор, ирония, точные бытовые зарисовки… И все же ангажированность, неизбежная для советских журналистов, давала о себе знать. «Скучающие богачи пресытились Шаляпиным, Хейфицем, Горовицем, Рахманиновым, Стравинским, Тоти Даль Монте», — свидетельствовали авторы с достоверностью очевидцев. Ну а о «простом народе» и говорить нечего.
Выходящая в Париже русская газета «Последние новости» 19 марта 1932 года опубликовала заметки Б. Шлецера о концерте в зале «Плейель»: «Слушая Рахманинова, невольно вспоминал Шаляпина и сравнивал этих двух артистов: есть между ними нечто общее. У того и другого огромное психологическое напряжение, богатство душевного содержания соединяются с мудрым равновесием, с пластическим совершенством: все внутреннее, эмоциональное оказывалось в конце насквозь оформленным… У Рахманинова, так же как и у Шаляпина, нет ничего скорого, недоделанного; оба они „нутряные“ художники, конечно, но нутро здесь, стихия, оказываются до конца преображенными…»
Знакомство западного мира с русским искусством в 1920–1930-е годы приобрело совершенно особый смысл — не только художественный, культурный, но и идеологический, политический, наконец. Артист, музыкант, художник, писатель, насильственно вытесненный из России, выступал не только носителем образов, чувств, внутреннего мира «загадочной русской души», он оказывался еще и представителем страны, пережившей трагедию революции и социального слома. Эти обстоятельства обостряли интерес, которым были окружены выступления Шаляпина, Рахманинова, Павловой, Фокина, Вертинского, артистов Художественного и Камерного театров, балета С. П. Дягилева, оперных трупп М. М. Фивейского и А. А. Церетели. На вопросы журналистов о том, какое влияние окажут происшедшие в России события на будущее русского искусства, Рахманинов отвечал: «В настоящее время неспокойная обстановка тормозит всю творческую работу. России потребуется некоторое время для того, чтобы оправиться от разрухи, явившейся результатом мировой войны. Но я глубоко убежден, однако, что музыкальное будущее России безгранично».
В начале сентября 1931 года Шаляпин гостит в Клерфонтене у С. В. Рахманинова, а русская артистическая диаспора в парижском зале Гаво отмечает сорокалетие творчества певца А. М. Давыдова, давнего любимца российской публики. «Председательство» поручили Шаляпину, его поддерживают Н. Ф. Балиев, Е. А. Рощина-Инсарова, А. Н. Вертинский. В октябре в том же зале — вечер литератора Дон Аминадо, в феврале 1932 года празднуется пятидесятилетие деятельности К. А. Коровина. Художника приветствуют Медея Фигнер, Александр Глазунов, Надежда Плевицкая, Серж Лифарь, Ольга Спесивцева, Александр Вертинский. Федор Иванович Шаляпин в тот день пел в Ла Скала «Бориса Годунова», сожалел, что встретиться с соотечественниками не привелось.
В марте 1935 года Шаляпин вместе с Рахманиновым, Фокиным, мхатовцами аплодировал А. Н. Вертинскому в нью-йоркском Таун-холле, а спустя год — в Харбине. Федор Иванович ценил редкостную стилистическую законченность его «ариеток», изысканный эстетизм, за внешним изяществом которого пронзительно и трепетно звучала трагическая правда живого чувства. После концерта Вертинский навестил Шаляпина в гостиничном номере. Федор Иванович хрипло кашлял, кутался в шарф. «Всем своим обликом и позой он был похож на умирающего льва, — вспоминал Вертинский. — Острая жалость к нему и боль пронзили мое сердце. Точно чувствуя, что я больше никогда его не увижу, я опустился около его кресла на колени и поцеловал ему руку»…
В Париже у Вертинского своя публика, артистическая среда, он ценит приятельство «земляков» — Шаляпина, Лифаря, Анны Павловой, Карсавиной, Плевицкой… Его безупречная элегантность, аристократизм, изысканная музыкальность, чувство высокой поэзии близки настроению зала. «Чужие города» на слова Раисы Блох звучат в интонациях и пластике Вертинского столь же пронзительно и проникновенно, как стихи А. Ахматовой, И. Анненского, Н. Агнивцева, Г. Иванова.
В начале 1930-х годов у Вертинского появляется неожиданный конкурент — молодой простоватый Петр Лещенко. Часть публики, истосковавшаяся по бодрым плясовым отечественным мотивам, увлечена новым кумиром, Юрий Морфесси ей уже успел порядком надоесть. Вертинский по-приятельски попрекал Морфесси: «„Гони, ямщик!“, „Ямщик, не гони лошадей!“, „Песня ямщика“, „Ну быстрей, летите кони!“, „Гайда, тройка!“, „Эй, ямщик, гони-ка к ‘Яру’!“ Слезай ты, ради Бога, с этих троек… Ведь их уже давно в помине нет! Куда там! Он и слышать не хотел».
На фоне успеха Лещенко и Морфесси подчас и в самом деле начинало казаться, что Вертинский слишком печален, утомленно-изыскан. Но артист не изменяет себе — поэт, композитор, яркая, загадочно-инфернальная натура нестандартно чувствующего человека, ностальгически привязанного к России любовью изгнанника.
Концертные турне расширяют границы общения с миром, но не заменяют общения с родиной. Вертинский триумфально выступает в Чикаго, Сан-Франциско, Калифорнии, Голливуде.
Донесла случайная молва Милые ненужные слова: Летний сад, Фонтанка и Нева. Вы, слова заветные, куда?«Чужие города» публика принимает восторженно. Слова Раисы Блох, окрашенные трепетной интонацией Вертинского, собственные поэтические признания становились пронзительным откровением:
Мы стучимся в Россию обратно Нищие и блудные отцы.Конечно, удивительно, а может быть, и закономерно, что из культурного оборота послереволюционных десятилетий Вертинский не исчез. Его пластинки, как и диски Шаляпина, Рахманинова, Плевицкой, Вяльцевой, Морфесси, Давыдова, других «изгнанников», сохранялись, передавались из поколения в поколение и, оказывается, трогали душу даже ярых комсомольских поэтов. Ярослав Смеляков написал в 1930-е годы искренние строки:
Гражданин Вертинский Вертится. Спокойно девушки танцуют Английский фокстрот. Я не понимаю, Что это такое, как это такое За сердце берет. ………………… Я хочу смеяться Над его искусством, Я могу заплакать Над его тоской.В Россию Александр Николаевич Вертинский вернулся в 1943 году. Пересекая Россию с Дальнего Востока, артист дает многочисленные концерты. (Спустя почти 40 лет этот маршрут повторит другой эмигрант — А. И. Солженицын, тоже много выступая по мере приближения к Москве.) «Тоска по России» пронизывает творчество Вертинского, но той России, которую он некогда покинул, уже не существовало. Пришлось встраиваться в реальную советскую повседневность, в бюрократическую структуру государственной концертной системы с ее жесткими ограничениями, произвольными идеологическими придирками: из ста песенок к исполнению разрешены только тридцать. Тем не менее концерты Вертинского горячо принимались публикой разных поколений, у него нашлось немало новых поклонников.
Глава 3 ПРОЩАНИЕ С ГОРЬКИМ
1927 год стал поворотным в отношениях Шаляпина с советской властью, он официально становился эмигрантом. О реакции друзей-соотечественников можно судить по появившимся в эмигрантских газетах откликам. Два стихотворения Дон Аминадо — своего рода поэтическая дуэль с Маяковским и Демьяном Бедным: последний с большим рвением включился в травлю артиста. Монолог Шаляпина Дон Аминадо положил на мелодию и тему известного русского романса:
Не шей ты мне, матушка, Красный сарафан! Не подходит, матушка, Он для здешних стран… А теперь что вздумала, Обалдела, знать? Федора Шаляпина Голоса лишать!.. Нет, не шей мне, матушка. Красный сарафан, Пусть рядится в красное Бедный твой Демьян, Пусть народным гением Числится, чудак, Пусть и тешит пением, Ежели уж так…Многие, сочувствуя Шаляпину, понимали: если с великим артистом можно поступить столь сурово, то, видно, советская власть и в самом деле не шутит. Ну а те, кто окончательно понял, что в Россию им путь заказан, гордились: Шаляпин для родины стал изгоем — нашего полку прибыло! Дон Аминадо писал:
Что такое народный артист, Народный артист республики? И какой его титульный лист? «Бас всея Великороссии, Малороссии и Новороссии, Полуострова Крымского, Кахетии и Имеретин, И не более, и не менее, Как Грузии и Армении…» …Ах! Ах! И трижды ах! Слава, как дым. Слава, как прах… Употребляя высокий слог, Отряхните сей прах от ног. И черкните на скользком, На картоне бристольском, По какой угодно орфографии, Что не царский, не луначарский, Не барский, не пролетарский, Без всякой отметки, Не бабкин, мол, и не дедкин, И не мамин, мол, и не папин, А просто Шаляпин. Авось поймут… И у бурят, и у якут.В Советской России утверждается жестокий диктат в отношении искусства. В театре под подозрением оказывается классика — «наследие классово враждебного буржуазного прошлого», запрещаются к постановке пьесы Михаила Булгакова, Николая Эрдмана. Организованно дискриминируется творчество гениального артиста Михаила Чехова — «апологета мелкобуржуазной идеологии», «пророка деклассированных и реакционных слоев». Газеты клеймят его Гамлета, который якобы «заслуживает сурового отпора со стороны марксиста и коммуниста». В 1928 году Михаил Александрович Чехов выезжает на гастроли — и становится очередным «невозвращенцем».
О том, что Шаляпин «исключен из граждан своей родины», пишут европейские газеты. В Советском Союзе «политическую точку» скандала ставит экспроприация имения певца в Ратухине. «22 ноября 1927 года Президиум ВЦИК постановил лишить Ф. И. Шаляпина права пользования усадьбой и домом во Владимирской губернии». Новость сообщила Федору Ивановичу дочь Ирина. «Насчет Ратухина не беспокойся — это совершеннейшие пустяки. Земля все же велика. Конечно, я понимаю, что вы там выросли, что же, надо простить людям», — успокаивает Ирину отец.
Отношение власти к Шаляпину двойственно. С одной стороны — лишение гражданства, звания, обвинение в «буржуазности» и прочих идеологических «грехах». С другой — настойчивые приглашения вернуться. Так, в одной из лондонских газет появляется снимок Замка искусств с подтекстовкой: «Подарок Советского правительства Ф. И. Шаляпину». Очередная фальшивка: в реальности замка не существовало — имелся лишь архитектурный проект И. А. Фомина. Зато известно: директор бывшего Мариинского театра (теперь он назывался Государственный академический театр оперы и балета — ГАТОБ) И. В. Экскузович конфиденциально сообщил Ф. И. Шаляпину: власть вернет звание народного артиста, пожалует виллу в Крыму с условием, что он раскается в своей «недружелюбной, антисоветской акции» и окончательно вернется в Советскую Россию.
Начинается многолетняя борьба за возвращение Шаляпина в Россию любой ценой, и миссия эта поначалу поручается Горькому. В прессе сталкиваются два мифа: «Шаляпин — гнусный отчепенец, враг народа» и «Шаляпин — раскаившийся блудный сын» — кнут и пряник в одной властной руке. Очевидно, Горький, будучи в СССР, обещал Сталину вернуть Шаляпина, уверенный в своем влиянии на певца. Однако события стали развиваться по иному сценарию.
Весной 1928 года писатель совершил четырехмесячную поездку по стране. Выступая с речами, непринужденно беседуя «с народом», с журналистами, Горький отвечал на самые разные вопросы, в том числе и о своем знаменитом друге. «К Шаляпину я отношусь очень хорошо, — признался писатель читателям газеты „Нижегородская коммуна“. — Правда, человек он шалый, но изумительно, не по-человечески талантливый человек». Вернувшись из России, Горький авторитетно сообщил Шаляпину: для возвращения на родину никаких препятствий власти не ставят; его в Москве ждут.
Сопоставление этих двух высказываний Горького в столь тесном временном пространстве озадачивает. Горький — литератор, чуткий к слову, к интонации, смысловому и эмоциональному подтексту, не слышит себя, не чувствует «второго плана» собственной речи. «Правда, человек он шалый», — сообщает Горький широкому читателю, не заботясь о репутации Шаляпина, и в этой шутливо-снисходительной интонации превосходства прослушивается самоуверенная убежденность — но мы-то его конечно же образумим!
Не меньше скрытых и явных смыслов содержит письмо Горького Шаляпину от 15 ноября 1928 года. Казалось бы, прошло всего немногим более года со дня показательно разрекламированного лишения Шаляпина звания народного артиста, а Алексей Максимович сообщает другу: «Очень хотят тебя послушать в Москве. Мне это говорили Сталин, Ворошилов и др. Даже „скалу“ в Крыму и еще какие-то сокровища возвратили бы тебе». Здесь интонация снисходительного покровительства «старших», ироническое упоминание о «каких-то сокровищах» сочетаются с очевидным намеком на свою собственную значимость, на близость к власти, допускающую свободные приятельские беседы с вождями на равных, в ходе которых судьбоносные вопросы гражданства и возвращения на родину решаются легко и просто, за застольными беседами. Впрочем, и в самом деле аргументы Горького и его заманчивые предложения звучат убедительно: если самого Горького одаривают особняком миллионера Рябушинского, усадьбой в подмосковных Горках и виллой в Крыму, а Алексею Толстому жалуют особняк в Царскосельском парке в Пушкине, апартаменты в Ленинграде и Москве и три персональных автомобиля, то почему бы не продемонстрировать высочайшую милость Шаляпину и щедро не подарить ему ранее у него же и отобранное? Да не оскудеет рука дающего…
Но оказывается — желания советских вождей для Шаляпина не священны, он брезгливо отвергает пошлость примитивного подкупа и торга. Реакция «шалого» Шаляпина лишена умиления щедрой барской милостью, она однозначна и трезва. «Насчет скалы и сокровищ — это, конечно, вздор! — отвечает он Горькому. — Скалу я хотел иметь тогда, когда был полон вздорными мечтами о Шильонском замке искусства. Эти мечты утонули, и их уже не вытащить мне ни на какую скалу: на что мне она?»
Однако отношения Алексея Максимовича и Федора Ивановича остаются до поры вполне доверительными, во всяком случае со стороны Шаляпина.
Тем временем миф о «раскаившемся грешнике» никак не выстраивается. Горький раздражен: обещание Сталину не выполнено. Взрыв негодования писателя вызвало переиздание «Страниц из моей жизни» в дополненном артистом варианте, а затем его книги «Маска и душа» — Шаляпин вызывающе открыто демонстрировал достоинство, приверженность к свободе и, наконец, строптивую непокорность, своенравное неподчинение, что было особенно оскорбительно и Горькому, и властям.
…Пока же Горький живет в Италии, в Сорренто, Шаляпин изредка навещает его; встречаются они и в Риме. В Европе интерес к Горькому резко упал, его почти не издают; в трудные моменты Алексей Максимович обращается к другу и всегда получает от Федора Ивановича материальную поддержку. После выхода в Америке «Страниц из моей жизни» Шаляпин посылает Горькому гонорар — 2500 долларов. Но именно эта книга станет поводом к неизбежному осложнению отношений.
Еще в 1926 году Шаляпин узнал о том, что «Страницы…» без ведома авторов выпускаются советским издательством «Прибой». Все надежды Горького могли быть связаны лишь с советскими издательствами, и он прямо пишет Шаляпину:
«Я к этому делу не хочу иметь никакого отношения и от тех американских денег, которые ты мне отчислил на мою долю, — отказываюсь». Шаляпин еще не разобрался в мотивах поведения Горького и с недоумением пишет ему: «Тон твоего письма показался мне обидным. Если я и беспокоился о материальной стороне этой книги, то это было для того, чтобы ты получил несколько тысяч долларов, которые для тебя, вероятно, были бы не лишними».
Горький перед выбором: возвращаться в Советский Союз «основателем социалистического реализма» или прозябать на Западе забытым русским литератором. Прожитые в Европе годы определили выбор: Горький окончательно отрекся от себя, вступил на путь лжи и демагогического лукавства. И потому разрыв с Шаляпиным, не желавшим идти на сближение с советскими властями, в конечном счете сделался неминуем.
Внучка Шаляпина Лидия Либерати вспоминала:
«В 1929 году Шаляпин давал первое послереволюционное выступление в Риме (он пел Бориса в Королевской опере), на этот спектакль вместе со всей семьей из Сорренто приехал Максим Горький… После спектакля, чтобы отпраздновать успех, выпавший на долю Шаляпина, все отправились ужинать в ресторан „Библиотека“, расположенный в погребах, своды которых были заставлены, наподобие книжных полок, бесчисленными бутылками.
По просьбе Горького Шаляпин запел, и на его голос сбежались со всего ресторана любопытные клиенты и служащие. А когда стало известно, что вместе с Шаляпиным находится Максим Горький, очень популярный тогда в Италии, многие захотели получить автографы знаменитостей, и в ресторане началась такая давка, что дирекции пришлось вызывать на помощь карабинеров, чтобы восстановить порядок».
После этой, казалось бы, радостной встречи с певцом и его семьей Горький пишет о Шаляпине:
«Он скоро умрет. За эти три года он очень одряхлел, точно уже боролся со смертью, и, не победив, она жестко измяла его… Кожа его лица стала дряблой, и лицо великого артиста, послушное малейшим волнениям чувства, утратило изумительную способность говорить больше и лучше, чем могут сказать самые красивые слова…»
Читая заметки Горького 1929 года, понимаешь: предательство совершилось, дальнейшее развитие событий лишь подтверждает его. Право же, как хочется Горькому выдать желаемое за действительное, объявить свой жестокий приговор истинным, справедливым, окончательным, не подлежащим сомнению! Поспешил: впереди у Шаляпина еще восемь лет богатой событиями жизни — спектакли, концерты, триумфальные гастроли в разных частях мира, звуковой фильм «Дон Кихот», собственные мемуары… Не странно ли, что столь мрачный прогноз никак не согласуется с впечатлениями свидетелей этой встречи? Скорее всего, здесь выплеснулись тяжелые настроения самого Горького. О том же знаменательном вечере вспоминала невестка писателя Н. А. Пешкова (Тимоша): вся семья была в приподнятом настроении. В театре Королевской оперы шел «Борис Годунов». Шаляпин, как обычно, имел огромный успех. После спектакля отправились в таверну «Библиотека»: «Алексей Максимович и Максим много интересного рассказывали о Советском Союзе. В заключение Алексей Максимович сказал Федору Ивановичу: „Поезжай на родину, посмотри на строительство новой жизни, на новых людей… ты захочешь остаться там, я уверен“.
Мария Валентиновна вдруг решительно заявила: „В Советский Союз ты поедешь только через мой труп“». Все замолчали. Мрачное предсказание сбылось — спустя 55 лет…
Федор Иванович в своих воспоминаниях пишет:
«Я… решительно отказался, сказав, что ехать туда не хочу. Не хочу потому, что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то что я боюсь кого-либо из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь „аппарата“… В один прекрасный день какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят, заставят и нишкни — никуда не выпустят… А по разбойному характеру моему я очень люблю быть свободным, и никаких приказаний — ни царских, ни комиссарских — не переношу».
Артист имел собственный четкий взгляд на происходившие события. И этого «вздорного самоуправства» ангажированный советской властью Горький ему простить не мог.
Сталин, как известно, с конца 1920-х годов выстраивал имидж процветающей социалистической державы, потемкинские деревни демонстрировались знаменитым западным гостям. В пространство этого яркого театрализованного пропагандистского представления вписывалась широко рекламируемая кампания по возвращению эмигрантов — великодушно прощенных детей России, счастливо обретающих родину. Одни приезжали по собственной воле — А. Н. Толстой, С. С. Прокофьев, С. Т. Конёнков, А. И. Куприн… За другими, «строптивыми», началась охота — засылали «послов» к М. Чехову, Стравинскому, Рахманинову, Бунину.
В России у Шаляпина оставались заложники: дочь Ирина и первая жена Иола Игнатьевна, это обязывало к осторожности. Тем не менее он писал дочери: «Я у вас там слыву отчаянным преступником… Пошлют на Соловки… Я стар для таких прогулок».
А в парижских книжных магазинах появилось советское издание «Страниц из моей жизни», выпущенное издательством «Прибой». Адвокат Шаляпина Д. Печорин (муж сестры Марии Валентиновны Терезы) потребовал конфискации всех экземпляров книги, поступивших в продажу, и предъявил иск акционерному обществу «Международная книга», торгпредству и фирме «Бреннер и К°». Нанесенный Шаляпину моральный и материальный ущерб оценили в 100 тысяч франков. Суд решил: «Торговое представительство СССР привлечено к ответственности во Франции перед коммерческим трибуналом Сены на законном основании». Шаляпин выиграл дело, хотя и получил компенсацию за ущерб в сокращенном размере. Но так же, как и в 1927 году, когда помощь артиста нищим русским детям расценили на родине финансовой поддержкой белоэмиграции, эпизод с книгой разросся в «скандальный иск Шаляпина к Советской власти».
В августе 1930 года Горький пишет Шаляпину резкое письмо, которое до адресата не доходит. По версии сына артиста, Федора Федоровича, его спрятала Мария Валентиновна, не желая огорчать мужа. Но следующее письмо Горького Шаляпин получил.
«…писал я тебе о нелепости и постыдности твоего иска к Советской власти, а она — что бы ни говорили негодяи — власть наиболее разумных рабочих и крестьян, которые энергично и успешно ведут всю массу рабочего народа к строительству нового государства, — убеждает Горький Шаляпина. — Я совершенно уверен, что дрянное это дело ты не сам выдумал, а тебе внушили его окружающие тебя паразиты, и все это они затеяли для того, чтобы окончательно закрыть пред тобою двери на родину. (Горький, конечно, имеет в виду Марию Валентиновну. — В. Д.) Не знаю, — продолжает Горький, — на чем твой адвокат построил иск, но — позволь напомнить тебе, что к твоим „Запискам“ я тоже имею некоторое отношение: возникли они по моей инициативе, я уговорил тебя диктовать час в день стенографистке Евдокии Петровне… стенограмма обработана и редактирована мною, рукопись написана моей рукой, ты, наверное, не забыл, что „Записки“ были напечатаны в журнале „Летопись“, за что тебе было заплачено 500 рублей за лист. Я, конечно, помню, что с американского издания в 26 г. ты прислал мне 2500 долларов. Каюсь, что принял эти деньги! Но из них я уплатил долг мой тебе 1200 долларов.
Все это я напоминаю тебе для того, чтобы сказать: „Записки“ твои на три четверти — мой труд. Если тебе внушили, что ты имеешь юридическое право считать их своей собственностью, — морального права твоего так постыдно распоряжаться этой „собственностью“ я за тобой не признаю.
По праву старой дружбы я советую тебе: не позорь себя! Этот твой иск ложится на память о тебе грязным пятном. Поверь, что не только одни русские беспощадно осудят тебя за твою жадность к деньгам… Не позволяй негодяям играть тобой как пешкой. Такой великий, прекрасный артист и так позорно ведешь себя!»
Публицистическая интонация письма объяснима: оно предназначается не столько Шаляпину, сколько советскому «общественному мнению». Вариант текста тут же публикуется в «Известиях» и одновременно направляется полпреду СССР во Франции В. С. Довгалевскому.
Дружеский союз Шаляпина с Горьким завершился трагическим разрывом.
«Что же произошло? — горько вопрошал артист и отвечал весьма определенно — Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как и в искусстве, двух правд не бывает — есть только одна правда… Все эти русские мужики — Алексеевы, Мамонтовы, Морозовы, Щукины — какие все это козыри в игре нации. Ну а теперь это — кулаки, вредный элемент, подлежащий беспощадному искоренению!.. И как обидно мне знать теперь, что они считаются врагами народа, которых надо бить, и что эту мысль, оказывается, разделяет мой первый друг Горький».
Да, Горький открыто становится в ряды рьяных обличителей, тех, кто создавал Шаляпину репутацию сутяги, сквалыги, к тому же не имеющему весомых прав на книгу, написанную «на три четверти» (?!) самим Алексеем Максимовичем. Когда-то восхищавшийся изумительными рассказами друга, Горький теперь публично отрицает саму мысль о том, что Шаляпин вообще способен сочинить какие-либо мемуары…
Да что — мемуары!
Расхождения Шаляпина и Горького имели глубокий мировоззренческий характер. Когда-то, в 1896 году, Горький делился с Е. П. Пешковой пониманием своей правды жизни и верности ее постулатам. Они были близки и Шаляпину — и как художнику, и как человеку. Теперь, в 1929 году, Горький в письме Е. Д. Кусковой без обиняков признавался: «Я искреннейше и непоколебимо ненавижу правду, которая на 99 процентов есть мерзость и ложь. Я знаю, что 150-миллионной массе вредно, и что людям необходима другая правда». А в беседе с начинающими литераторами в июне 1931 года, в очередной свой приезд из Сорренто в Москву, высказывался с неменьшей прямотой: «Надо поставить перед собой вопрос: во-первых, что такое правда? И во-вторых — для чего нужна нам правда и какая? Какая правда важнее? Та правда, которая отмирает, или та, которую мы строим? Нельзя ли принести в жертву нашей правде некоторую часть той, старой правды? На мой взгляд, можно. Мы находимся в состоянии войны против огромного старого мира, черт бы его побрал с его старой правдой! Нам необходимо утвердить свою». (Напомним: книга о Беломорканале открывалась статьей М. Горького «Правда социализма».)
Двойственность, неопределенность, умозрительность такой идеологической установки озадачивают и даже обескураживают. Что мог бы ответить Шаляпин на столь размытое понимание правды? Разве что с недоумением процитировать Сальери: «Нет правды на земле. Но правды нет и выше…»
Очевидно, выявившееся расхождение в мировоззренческих, эстетических, политических, житейских взглядах бывших друзей и, конечно, грубый и оскорбительный намек Горького на творческую немощь, литературную несостоятельность Шаляпина неизбежно вели к разрыву. Для Шаляпина культура, искусство — это высшее откровение, свобода созидания, творческой мысли и чувства, природной фантазии, полет художественного вдохновения художника и души человеческой. Для Горького 1930-х годов культура — это прежде всего непримиримая борьба с природой, ее естественным развитием. «Культура есть организованное разумом насилие над зоологическими инстинктами людей». …По сути дела, Горький отказывал человеку, художнику, личности в правах на независимое самовыявление, на свободомыслие, на созидание, на творчество. «Индивидуализм как основа развития культуры выдохся, отжил свой век. Употребляется ли ради развития сознания человека насилие над ним? Я говорю да!» — категорически утверждал Горький в статье «Гуманистам» в «Правде» 11 декабря 1930 года.
Разрыв с Горьким — очень тяжелый удар для Федора Ивановича. Достойным выходом из положения могла стать только новая книга! И она была написана: накануне шестидесятилетия Шаляпина, в 1932 году, в парижском русском издательстве «Современные записки» вышла «Маска и душа».
Глава 4 «МАСКА И ДУША»
В 1929 году в Париже вышла книга воспоминаний К. А. Коровина «Встречи и совместная жизнь». Возможно, она, как и раздраженные выпады Горького, побудила Шаляпина взяться за сочинение своей книги.
Многое роднит воспоминания Коровина, Шаляпина, Бунина, Набокова — любовь к русским характерам, к природе, пейзажам. Ностальгия по утраченным навсегда усадьбам, — набоковское Рождествено, коровинское Охотино, шаляпинское Ратухино остались в памяти как образ родины, как пространство души и источник творческого вдохновения…
Шаляпин, как и в случае со «Страницами из моей жизни», импровизировал свои мемуары в устных рассказах. Их записывал Соломон Львович Поляков-Литовцев, сотрудник парижской русскоязычной газеты «Последние новости», а прежде известный петербургский журналист.
Над книгой Шаляпин и Поляков-Литовцев работали примерно по два часа в день, с четырех до шести вечера. Мария Валентиновна следила, чтобы никто не отвлекал Федора Ивановича, не входил в кабинет, не звал к телефону. Поначалу работа шла трудно. Тогда Соломон Львович предложил тактику интервью. Каждый вечер он определял какую-то новую тему для беседы — и дело пошло!
«Мы иногда говорим о том, что тот или другой из наших современников гениален. Но многим ли из нас выпадало на долю видеть излучение гениальности в житейской обстановке, у письменного стола, за чашкой чая, и это излучение почувствовать почти физически, „кожей“, как неожиданный ожог. В душе его волновалась необъятная и таинственная сила, в которой пение было только заревом, — прометеевский огонь», — вспоминал Поляков-Литовцев.
Рассказывая о прошлом, рассуждая на заданную тему, Федор Иванович обычно раскладывал пасьянсы. По окончании работы — а она продолжалась несколько месяцев — образовалась почти тысяча страниц текста. Дальнейший «пасьянс» был уже делом редактора. Шаляпин доверял Полякову-Литовцеву: «Какой же я писатель. Делайте, что хотите. Спорить и прекословить не стану».
Надо отдать должное опытному интервьюеру-собеседнику, профессиональному литератору Соломону Львовичу Полякову-Литовцеву: он сумел сохранить неповторимость авторской интонации, стиль, метафорическую лексику, наконец темперамент, юмор рассказчика, волнение мысли и силу чувства Шаляпина.
Когда книга была готова, Федор Иванович читал ее вслух друзьям. Первыми, кто услышал авторское чтение «Маски и души», стали Александр Николаевич Бенуа и семья певца. В предисловии Федор Иванович писал: «На чужбине, оторванные от России, живут и мои дети. Я увез их с собою в раннем возрасте, когда для них выбор был еще невозможен. Почему я так поступил? Как это случилось? На этот вопрос я чувствую себя обязанным ответить».
С. Л. Поляков-Литовцев называл себя «портным», сшившим книгу из «драгоценной парчи», сотканной Шаляпиным. «Эту парчу я подровнял, скроил, сшил. Кое-где поставил пуговицу, кое-где придумал складку, чтобы лучше лежало. Выутюжил, принес и сдал заказчику. Мне радостно вспомнить, что Шаляпин мой портновский труд сердечно и честно оценил, облобызав меня за него лобзаньем друга».
«Маска и душа» сразу приобрела успех на Западе, ее перевели на европейские языки. Шаляпин подчеркивал различие «Страниц из моей жизни» и «Маски и души»: «Первая книга является… внешней и неполной биографией моей жизни, тогда как эта стремится быть аналитической биографией моей души и моего искусства».
Федор Иванович убедительно доказал: он способен создать оригинальное литературное произведение. Характер работы — диктовка, стенографирование — дело техники. «Маска и душа» стала одним из лучших произведений эмигрантской мемуаристики. Поляков-Литовцев — не Горький, однако по образности речи новая книга нисколько не уступает «Страницам…», а в чем-то и превосходит их. В «Маске и душе» Шаляпин опытнее, зрелее и как человек, и как художник, шире и свободнее в интерпретации фактов, он дальновидно и глубоко рассуждает о русской истории, о революционных мятежах и их последствиях, о людях, возглавивших новую Россию. Что-то Шаляпин, как увлекающийся рассказчик, присочинил: например, встречу с Лениным в 1905 году в квартире Горького, которой на самом деле не было. Но в главном — в оценках людей и событий, в понимании собственной роли и значении своих современников в искусстве — артист не ошибался. Его книга отстаивает право художника на свободу в жизни и творчестве. Свободу Шаляпин ставил превыше многих ценностей и почитал «величайшим благом».
«Маска и душа» не осталась незамеченной на родине. Один из первых журналистов страны Михаил Кольцов откликается на книгу в «Правде» гневной публицистической отповедью «Маска и человек». В статье преобладают злобные заклинания: «Книга „Маска и душа“ — страшная книга. Страшная не какими-нибудь трагическими откровениями и разоблачениями. Она страшна своим откровенным цинизмом… Нет, хватит! Захлопнем эту страшную книгу».
Но ни захлопнуть, ни тем более раскрыть «страшную книгу» в СССР не могли, читать такую «опасную антисоветчину» строжайше запрещено, и вплоть до конца 1980-х годов ее считаные экземпляры пылились в отделах спецхрана столичных библиотек.
Горький воспринял «Маску и душу» как вызов, как личное оскорбление. Он писал П. П. Крючкову: «Вообще книга пошлейшая, противоречивая, исполнена лжи, хвастовства, читал я ее и бесился до сердечного припадка». В архиве Горького сохранился черновик письма Шаляпину. В нем поражают злоба, несправедливые упреки, ложь, оскорбления в адрес Марии Валентиновны (хотя имя ее и не упоминается, но слова о невозвращении на родину приводятся дословно). Горький обращается к Шаляпину на «вы», демонстрируя полный разрыв отношений:
«…мне кажется, что лжете Вы не по своей воле, а по дряблости Вашей натуры и потому, что жуликам, которые окружают Вас, полезно, чтоб Вы лгали и всячески компрометировали себя. Это они, пользуясь Вашей жадностью к деньгам, Вашей малограмотностью и глубоким социальным невежеством, понуждают Вас бесстыдно лгать. Зачем это нужно им? Они — Ваши паразиты, вошь, которая питается Вашей кровью. Один из главных и самый крупный сказал за всех остальных веские слова: „Федя воротится к большевикам только через мой труп“. Люди, которые печатали книгу Вашу, — продолжает Горький, — вероятно, намеренно не редактировали ее, — пусть, дескать, читатели видят, какую чепуху пишет Шаляпин. У них ни капли уважения к Вашему прошлому, если б оно было, они не оставили бы в книге постыдных для Вас глупостей… Эх, Шаляпин, скверно Вы кончили…»
Шаляпин, написавший искреннюю, правдивую, страстную книгу, становился в толковании Горького врагом, с которым надо сражаться, который не сдается и которого уничтожают.
Это был уже новый, «советский» Горький, чьим именем назывались проспекты и города, театры и парки; Горький, который поздравление Н. К. Крупской с днем рождения завершил ликующей припиской: «В какую мощную фигуру выковался Иосиф Виссарионович!»; Горький, которому на Первом съезде советских писателей кричали: «Да здравствует Горький — Сталин советской литературы!»; Горький, автор множества публицистических статей, прославляющих ГУЛАГ, «подвиги» чекистов и Павлика Морозова. О таком Горьком с болью и гневом писал один из бывших его почитателей, советский политический заключенный Лефортовской тюрьмы Михаил Рютин: «Прочел на днях Горького „Литературные забавы“! Тягостное впечатление. Поистине, нет для таланта большей трагедии, как пережить физически самого себя… Горький-публицист опозорил и скандализировал Горького-художника… Горький — „певец“ человека превратился в Тартюфа. Горький „Макара Чудры“, „Старухи Изергиль“ и „Бывших людей“ — в тщеславного ханжу и стяжателя „золотых табакерок“. Горький-Сокол — в Горького-ужа, хотя и „великого“! Человек уже духовно умер, но он все еще воображает, что переживает первую молодость. Мертвец, хватающий живых! Да, трагично!..»
О болезненной реакции Горького на свою новую книгу Шаляпин знал. Он понимал: правда в том, что Алексей Максимович сделал свой выбор — пошел в услужение сталинскому режиму. Осознание трагичности судьбы старого друга, страх за него заставили артиста внести изменения в главу о Горьком. В дополнительной части тиража Шаляпин поправил абзац: «Когда я во время большевистской революции, совестясь покинуть родную страну… спрашивал Горького, как брата, что же, он думает, мне делать, его чувство любви ответило мне:
— Ну, теперь, брат, я думаю, тебе надо отсюдова уехать. Отсюдова — это значило из России».
Эта фраза Горького теперь могла повредить ему, и Шаляпин заменил ее на более нейтральную: «Когда я… решил в конце концов перебраться за рубеж, я со стороны Горького враждебного отношения к моему решению не заметил».
Переписка Шаляпина с Горьким оборвалась, но, узнав о смерти Максима, сына писателя, Федор Иванович послал ему телеграмму соболезнования.
В 1935 году, как пишет в своих воспоминаниях Е. П. Пешкова, Алексей Максимович «поручил» жене и невестке навестить Шаляпина: «Увидишь Федора, скажи ему: пора вернуться домой, давно пора!» Воспоминания Екатерины Павловны написаны в конце 1950-х годов и вполне отвечают пропагандистской версии: Шаляпин рвется на родину, но Мария Валентиновна этому препятствует. Федор Иванович якобы просит Е. П. Пешкову:
— Так узнайте, пустят меня?
Горький докладывает Сталину:
— Вот Екатерина Павловна видела Федора Шаляпина. Хочет к нам ехать.
— Что же, — сказал Иосиф Виссарионович, — двери открыты, милости просим…
В интерпретации Е. П. Пешковой Шаляпин предстает просителем. В действительности все было ровно наоборот. Сталин хотел вернуть великого певца любой ценой. Империи не хватало «солиста Его Величества». Возвращение «блудных детей» входило в идеологическую программу большевизма, поддерживалось организованной кампанией, широко развернутой к середине 1930-х годов. В ней участвовали многие. Миссия возвращения Шаляпина возлагалась и на К. С. Станиславского, и на Вл. И. Немировича-Данченко.
Константин Сергеевич встретился с Федором Ивановичем в Монте-Карло. Шаляпин рад его видеть. Известно: когда Станиславскому понадобились деньги на лечение, Шаляпин материально поддержал его. Артист навешал Константина Сергеевича в Ницце. Дочь Станиславского вспоминает: отец гарантировал Шаляпину «триумфальную встречу» на родине. Через несколько месяцев «в игру» включается Владимир Иванович Немирович-Данченко. Он пытается связаться с Шаляпиным через общего знакомого, импресарио Л. Д. Леонидова. «Где Шаляпин? — спрашивает он в письме 5 июля 1934 года. — Как бы мне с ним встретиться? У меня к нему есть дело, которое можно назвать очень важным, а можно и иначе — это зависит!» Неуклюжую фразу следует понимать так — от выполнения задания зависит судьба самого Владимира Ивановича. «Жаль, что не увижу Шаляпина, — сокрушается Немирович в следующем письме. — Вы знаете, что я по пустякам не говорю… И самого Шаляпина люблю достаточно… Кстати о Чехове (имеется в виду артист Михаил Александрович Чехов. — В. Д.). Прошел слух, что он возвращается в Москву — к Мейерхольду!!. Скажите ему, что двери Художественного театра ему раскрыты».
Заметим: реплика Сталина «об открытых дверях» почти дословно повторена Немировичем. Да Владимир Иванович и не скрывает, чей он порученец. 16 ноября 1934 года из Москвы он пишет Леонидову: «Скажите Федору Ивановичу, что я решительно советую ему ехать в Москву. Непременно скажите. Я еще раз говорил с лицом, о котором Вам говорил лично. Как бы ни сложилась работа Ф. И. в дальнейшем, т. е. уже будет не тот голос и не та сила, — все же его великое мастерство должно быть отдано Родине. Здесь его всячески оценят».
Шаляпин не пожелал встречаться с Владимиром Ивановичем, он понимал: знаменитый режиссер лишь исполняет задание властей. Незадолго до описываемых событий Немирович-Данченко оказался в весьма затруднительном положении: в Италии, куда его пригласили ставить спектакль, он остался без средств и был вынужден через Горького обратиться непосредственно к Сталину с просьбой о высылке ему валюты на обратный выезд.
В 1933 году И. А. Бунину присуждена Нобелевская премия. Горький взбешен. На родине Бунина называют «матерым волком контрреволюции», но, несмотря на это, его, так же как Рахманинова, Шаляпина, М. Чехова, продолжают зазывать в СССР. Осенью 1936 года Бунин встретил в парижском кафе А. Н. Толстого:
«Он… шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мне смешком и забормотал. „Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?“ — спросил он… и с такой же откровенностью, той же скороговоркой продолжал разговор еще на ходу:
— Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России…
Я перебил, шутя:
— Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.
Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:
— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, например, как я живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля…»
Вернувшись в Москву, «Третий Толстой», как именовал его Бунин, в печати пренебрежительно отозвался о нобелевском лауреате:
«Случайно в одном из кафе я встретился с Буниным. Он был взволнован, увидев меня… Я прочел три последние книги Бунина… Я был удручен глубоким и безнадежным падением этого мастера. От Бунина осталась только оболочка внешнего мастерства».
Как эта несправедливая характеристика похожа на ту, которую дал Горький Шаляпину! А ведь Толстой пишет о поздней прозе Бунина, ставшей классикой. Как и другие большевистские «миссионеры», Толстой «играл по правилам», утвержденным свыше, а их надо было выполнять неукоснительно и самоотверженно. «У них, эмигрантов, все в прошлом» — вот главный рефрен пропагандистской «мелодии». Между тем все было не так. И. А. Бунин еще напишет свои знаменитые «Темные аллеи» и войдет в отечественную и мировую культуру классиком слова. И для Шаляпина 1920–1930-е годы — время напряженной и продуктивной творческой работы.
Глава 5 РУССКИЙ ДОМ НА УЛИЦЕ Д’ЭЙЛО
В 1931 году Шаляпин, выступавший в парижском Театре Елисейских Полей в составе русской труппы, решил исполнить в опере «Князь Игорь» две партии — князя Галицкого и хана Кончака. (Роль Кончака артист исполнил лишь однажды в Русских сезонах 1914 года в Лондоне.) Сын певца Федор Федорович вспоминал:
«Я тогда жил у него в Париже, он на моих глазах работал над Кончаком… Боже, как это было поразительно! Станиславский учил: „Коли не знаешь, как играть роль, пойди к товарищу и пожалуйся… Начнется беседа, потом непременно случится спор, а в споре-то и родится истина“. Вот отец и выбрал меня в качестве „товарища-спорщика“. Начинали мы нашу прогулку от Трокадеро, там поблизости его квартира была, спускались вниз, и как же он говорил, как рисовал Словом! Он великолепно расчленил образ на три составные части: каким Кончак был на самом деле, каким он видится зрителю и каким его надобно сделать ему, Шаляпину. Он грим Кончака положил в день спектакля! Без репетиций!.. А почему он на это пошел? А потому, что был убежден в своем герое, видел его явственно… Сам себе брови подбрил, сам подобрал узенькие брючки… Он и на сцене-то появился неожиданно, словно вот-вот спрыгнул с седла, бросил поводья слугам, измаявшись после долгой и сладостной охоты… Прошел через всю сцену молча, а потом начал мыться, фыркал, обливая себя водою, наслаждался так, что все в зале ощущали сияние, в высверках солнца студеные брызги… И обратился-то он к Игорю не торжественно, по-оперному, а как драматический актер, продолжая умываться: „Ты что, князь, призадумался?“».
Сам Шаляпин считал своего Кончака важной вехой творчества. Новая роль радовала артиста — еще одна русская опера узнана и оценена европейской публикой. Через три года Шаляпин вновь репетирует «Князя Игоря» в Неаполе, заставляет итальянцев играть, а не только, как он выражался, «горланить одинаковыми голосами». Премьера в театре «Сан-Карло» имела большой успех. «Чудо создания такого спектакля оказалось возможным потому, что нашими талантливыми и с живой интуицией артистами (оркестр, хор) управлял… Шаляпин, — писал итальянский театральный критик С. Прочида. — Метаморфозы Шаляпина великолепны! От пьяницы князя, который „выламывается“, не теряя достоинства и аристократического облика, до благородного хана, который с сердечностью предлагает союз плененному Игорю… Что общего у циничного Галицкого и хана дикой орды?.. Публика была подавлена таким одухотворенным и оригинальным искусством, поражена чередованием и сменой выразительных средств в голосе, который на протяжении двух тактов переходит от спокойного тона к громовому. Она разразилась той бесконечной овацией, которая вот уже сорок лет вспыхивает там, где этот небывалый певец раскрывает секреты своего мастерства».
В 1932 году известный немецкий кинорежиссер Георг Пабст предлагает певцу выступить в фильме «Дон Кихот». «Я хочу сделать фигуру эпической, так сказать, монументом вековым — не знаю, дадут ли боги разума и силы, но пока что горю», — пишет Шаляпин дочери. Съемки шли на юге Франции. Сценарий картины дописывался в спешке, но Шаляпин не роптал, он удивлял съемочную группу заинтересованностью и терпением. Один из эпизодов переснимался 46 раз. На вопрос — не надоели ли ему бесконечные дубли? — Федор Иванович отвечал:
«— Так и нужно. Кабы я был театральным режиссером и у меня на сцене артисты не поняли бы с двух-трех раз, так я бы им по шее дал. А Пабст, видите, сколько терпения со мной проявляет. Куда мне до фильмовых артистов!.. Вот вчера копье мое все время влево подавалось и на пленке, черт его знает, обрезанным появится. Ну, и крути с самого начала… Да, чудесная штука фильм, увековечит человека, но куда труднее это дело, чем театр. Там живешь целиком, а здесь по каплям…»
Фильм снимался в двух версиях — английской и французской. Работа затягивалась. В сцене с мельницами Шаляпин сняться не успел — нужно было уезжать на гастроли в США. Артиста заменил дублер, какие-то фразы за отца озвучивал Федор Федорович.
Кинофильм «Дон Кихот» показали в Париже. Больно задел Шаляпина отзыв С. М. Волконского — ему картина решительно не понравилась… «Удивительное все-таки дело, — сетовал Федор Иванович, — до чего русский русского любит поцарапать при всех обстоятельствах — хороших и плохих».
Сергей Михайлович Волконский, внук декабриста, превосходный литератор, предшественник В. А. Теляковского в должности директора императорских театров, прекрасно знал истинную цену Шаляпину. В мемуарах, вышедших в Берлине в начале 1920-х годов, он писал о всемирной славе певца, создавшего свою вокально-артистическую школу: «Роль слова в пении, роль разума в проявлении чувства — вот на что Шаляпин обратил внимание русских певцов».
Волконский бывал на спектаклях Шаляпина в Париже. После премьеры «Бориса Годунова» в Театре Елисейских Полей появился его отзыв в «Последних новостях»: «Смешно говорить о „коронной роли“ Шаляпина. По-моему, он „коронует“ всякую роль, за какую ни возьмется. Но своим Борисом он „короновал“ всю оперу… Через него узнала „заграница“ не только Мусоргского, но за Мусоргским многое другое из русской музыки, из русского искусства вообще. Это и есть самое сильное соприкосновение с русским духом для иностранцев».
Кстати, не только для иностранцев, но и для вельможных соотечественников. Дон Аминадо писал:
«Даже их советские превосходительства, полпреды и торгпреды, притаившиеся в глубине лож, чтобы тайком взглянуть и услышать живого Шаляпина… не могли сдержать контрреволюционных восторгов и роняли невзначай неосторожное слово:
— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…»
Впрочем, эмиграция питала к Шаляпину разные и сложные чувства. Да это и немудрено. «Наконец-то мы в Париже… Здесь каждый желает прежде всего быть сытым, здоровым и хорошо одетым. А там (в России. — В. Д.) — неразбериха. Там, чтобы всем было хорошо, нужно, чтобы каждому было скверно».
Популярная фельетонистка Н. Тэффи называла русский Париж «городком», с иронией и болью описывала эмигрантский быт:
«Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили:
— Живем худо, как собаки на Сене…
Молодежь занималась извозом, люди зрелого возраста служили в трактирах: брюнеты в качестве цыган и кавказцев, блондины — малороссами.
Женщины шили друг другу платья и делали шляпки, мужчины делали друг у друга долги.
Остальную часть населения составляли министры и генералы.
Все они писали мемуары; разница между ними заключалась в том, что одни мемуары писались от руки, другие на пишущей машинке.
Со столицей мира жители городка не сливались, в музеи и галереи не заглядывали и плодами чужой культуры пользоваться не хотели».
Жители «городка», запечатленные Тэффи, восхищаясь и гордясь Шаляпиным, не могли, однако, простить ему особняка на улице д’Эйло, дачи в Пиренеях, автомобиля «Isotta Fraschini»… Благополучие певца контрастировало с нищетой других русских изгнанников, трагично переживавших унизительную бедность, невостребованность, непризнанность, одиночество! Они «не вписывались» в европейскую жизнь, они унесли с собой Россию на «подошвах сапог».
Шаляпин избавлен от материальных мытарств и забот, его уникальный артистический дар «конвертируем»: кроме «великого, могучего, правдивого и свободного» русского языка, плохо ведомого европейцам, он владел доступным всему миру «эсперанто» — голосом, гениальной музыкальностью. Неравенство положений при общности судьбы уязвляло, отравляло душу и друзьям-приятелям. Не отсюда ли сквозная тема эмигрантских воспоминаний — страсть Шаляпина к деньгам, его прижимистость? Даже один из самых близких друзей певца Константин Коровин в книге «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь» не обошел эту тему: «Как-то случалось, что он никогда не имел при себе денег — всегда три рубля и мелочь. За завтраком ли, в поезде с друзьями, он растерянно говорил:
— У меня с собой только три рубля».
Немногим удавалось удержаться от злословия, от традиционных упреков в жадности, корыстолюбии. Прав Андрей Седых, размышлявший о мемуарах К. А. Коровина: «Странная была эта книга — необычайно ярко написанная, как коровинская картина. Некоторые страницы были изумительные, а временами вдруг появлялась злость и какая-то зависть к другу юности и много лишнего, чего можно было о Шаляпине не писать».
Сильно нуждался в эмиграции и И. А. Бунин. Когда в Грас — городок на юге Франции, где жил писатель, — пришло известие о присуждении ему Нобелевской премии, Вера Николаевна не смогла выйти из дому сообщить мужу о событии: ее единственные туфли были в починке.
В «Грасском дневнике» возлюбленная Бунина Галина Кузнецова пишет о С. В. Рахманинове и его дочери: «Одеты оба были с той дорогой очевидностью богатства, которая доступна очень немногим». И Рахманинов, и Шаляпин помогали нуждающимся соотечественникам, но не афишировали эту помощь. Сохранилось немало свидетельств их бескорыстия. 20 апреля 1932 года на сцене «Опера Комик» Шаляпин участвовал в благотворительном спектакле «Дон Кихот» в пользу русских безработных. Обвинявшие же певца в корыстолюбии эмигранты невольно лили воду на мельницу тех, кто создавал Шаляпину репутацию изменника родины, продавшего душу за деньги.
И эмигрантский, и советский мифы о Шаляпине представляют артиста жертвой дурного окружения. Одной из постоянных мишеней стал Михаил Эммануилович Кашук — секретарь и импресарио певца. Он возник в поле зрения артиста в 1922 году как организатор разовых концертов.
С 1930 года Федор Иванович принимал участие в спектаклях «Русской оперы», созданной по инициативе певицы М. Н. Кузнецовой-Бенуа. Мария Николаевна замужем за инженером Массне (племянником известного композитора); в дело были вложены личные средства семьи, но «Русская опера» быстро разорила своих владельцев. Некоторое время рухнувшую антрепризу поддерживали князь А. А. Церетели и В. Де-Базиль (Воскресенский), затем на выручку пришел М. Э. Кашук — он снял для спектаклей «Русской оперы» громадный зал театра «Шатле».
Спектакль «Пиковая дама», в котором Шаляпин не был занят, прошел незаметно. Кашук ради процветания дела пригласил из Брюсселя первоклассных музыкантов, но им надо было хорошо платить, и импресарио экономил в их пользу на бесправных русских певцах, постоянных партнерах Федора Ивановича Г. М. Поземковском и К. Е. Кайданове. В кафе, где собиралась эмигрантская братия, певцы обсуждали ситуацию: «Неунывающий Жорж Поземковский хитро смотрел на Кайданова и, принимая шаляпинские позы и тон, отчитывал приятеля за хроническое безденежье. Потом заговорил конфиденциально:
— Ты не думай, Костя, что Кашук обставляет нас одних. Он и Федора надувает. Не веришь? В Елисейских Полях Федору жаловали 37 тысяч за выход. Сам видел, как он пересчитывал тысячные у себя в уборной. В Шатле ему никаких денег не приносили, а ты знаешь, что он требует полного расчета до начала представления. Почему такое изменение? А потому, что Кашук дает деньги непосредственно жене, Валентиновне, я это пронюхал. Нюхать мало, взял карандаш и прикинул. Считай сам: сбор скрыть никак нельзя. (По закону в середине спектакля специальный контролер соцобеспечения забирал на месте налог, поэтому сумма выручки была известна. — В. Д.) Аренда за зал, стоимость оркестра, ты знаешь ведь, во сколько обходятся солисты, хор, балет. Подводи итоги — никак Федору 37 тысяч не выкрадывается! Далеко до них… Понял, Костя? Если бы Федор знал! Слыхал я, откуда не скажу, Кашук умолял Марью молчать, на коленях плакал, что иначе придется спектакли в Шатле прекратить. Всех обдурил…»
Личность Михаила Эммануиловича Кашука, конечно, не была столь однозначна. В его секретарские обязанности входило исполнение крупных и мелких поручений певца — покупки, посылка денег, телеграмм. Иной раз деньги до адресата почему-то не доходили. (Об этом можно судить по письмам.) Шаляпин знал о «недостатках» своего нового секретаря. Один из знакомых вспоминал: рекомендуя Кашука французам, Федор Иванович представлял его: «C’est mon joulik, т-е Cachouk» и переводил joulik как секретарь еп russe.
Но Михаил Эммануилович во многих ситуациях бывал незаменимым, особенно в качестве партнера по белоту — любимой карточной игре Шаляпина. После спектакля артист имел привычку не ложиться спать и мог играть ночи напролет. Кашук безропотно сносил нелегкий, деспотический характер Федора Ивановича, вспышки гнева, иногда ничем не оправданные. Организаторских, администраторских способностей Кашуку, по всей вероятности, недоставало. Дасия Шаляпина считала его неважным импресарио, но человеком милым и обходительным.
Антреприза М. Э. Кашука в конечном счете провалилась. В письме дочери Ирине Шаляпин пишет о «полном прогаре» и не стесняется в выражениях по адресу своего секретаря: «Вот тут и видно, как легко заниматься спекуляцией, продавая билеты по театрам и концертам и беря с публики проценты, и как трудно спекулянту организовать настоящее дело. Этот дуралей, не спросясь броду, сунулся в воду».
По первой профессии Кашук был пианистом, иногда аккомпанировал Федору Ивановичу. В доме у Шаляпиных он оставался своим человеком и помогал Марии Валентиновне удерживать мужа от походов в рестораны, куда постоянно зазывал артиста его друг киноактер Иван Мозжухин. Рестораны были противопоказаны докторами: у Федора Ивановича обнаружили диабет, прежние привычки вредили здоровью.
Многие вспоминают о разных попытках обойти запреты:
«В Барселоне, после Бориса Годунова, усопший на сцене царь столкнулся с женой из-за борща в загородном палаццо. Борщ сварил испанский повар по шаляпинскому рецепту. Шаляпин сам проверил продукты, в его присутствии повар поставил борщ на плиту. Годунов облизывался при мысли, что покушает всласть, потихоньку от супруги. Но хитрость была разоблачена, и Федор Иванович узнал старую новость: ничего жирного диабетикам не полагается.
Ему предложили что-то вроде овощного бульона с сухариками. А борщ? Не пропадать же ему! Шаляпин поднял тревогу, названивая по телефону…
— Давай всей компанией ко мне!.. Плачу такси… Ну как, хорош? — возбужденно говорил он, усадив приехавших за стол. — Жирком подернут, черт его дери! А запах — амброзия! Водки нет, пейте коньячок. Не то, конечно, но вы уж извините… А мне ничего нельзя. Диабет, говорит Марья, — скорбел хозяин. — Попробовать и мне, что ли, ложечку? Нет, лучше не надо, нельзя.
Видя такое смирение, супруга успокоилась и, когда гости наелись, ушла в другую комнату… Увидев, что поле сражения освободилось, он тихонько налил себе полрюмочки и, морщась, пригубил.
— Капельку можно, — виновато шептал хозяин.
— Федор, брось сейчас же! — появилась Мария Валентиновна.
— П-о-о-л-рюмочки! Или даже, смотри, выплескиваю, — четверть!
— Ни капли! Ты что, не знаешь себя?
— Хорошо, глоточек, и все.
— Никакого глоточка. Поставь рюмку!
— Как так! Это же насилие! Террор! И я у себя дома!..
Против стихии идти бесполезно. Жена удалилась, а обиженный Шаляпин, вызвав метрдотеля, уже заказывал — вино рохо (красное вино).
— Здесь есть великолепное бургундское, вчера побаловался исподтишка, как вор, крадучись. К черту коньяк!
Потом появилось шампанское — и понеслись волжские песни до самого рассвета…»
В воспоминаниях близких Шаляпин предстает в слегка шаржированном виде; так же обрисована и супруга артиста. Федор Иванович представлен капризным подкаблучником, а Мария Валентиновна — домашним тираном.
Не будем недооценивать важной роли Марии Валентиновны в жизни Шаляпина — она обеспечивала ему прочный «тыл» в Париже и на гастролях, поддерживала его в моменты депрессии, в минуты неуверенности и даже паники, когда он тревожился за свой голос.
— Маша, позвони в театр, скажи, что я сегодня петь не могу. У меня горло раздражено, и голос совсем не звучит. Я тебе серьезно говорю, у меня нет сил, и в таком состоянии я в театр не поеду. Не уговаривайте меня — я все равно сегодня петь не буду.
Такие монологи приходилось выслушивать Марии Валентиновне постоянно. Жена великого артиста — миссия подчас тяжелая и неблагодарная, но Марии Валентиновне удавалось вернуть мужу самообладание, уверенность, творческое состояние. Федор Иванович обретал равновесие и выходил на сцену уверенным и спокойным. Когда после долгих поклонов Федор Иванович возвращался в гримуборную, то преображался — подписывал программки, шутил, рассказывал анекдоты. «Всегда и до последних дней… проявления восторгов публики льстили его самолюбию и доставляли большое удовольствие», — вспоминал А. И. Марщак. Мария Валентиновна и дети в такие моменты предпочитали оставаться «в тени».
Федор Иванович бережно строил свой домашний очаг. В парижском доме, как рассказывает Дон Аминадо,
«за огромным длинным столом в столовой — моложавая, дородная, нарядная Мария Валентиновна, сыновья Борис и Федор и дочери, одна другой краше — Стелла, Лидия, Марфа, Марина и последняя, отцовская любимица, Дасия…
Завтрак длится долго. Весело, но чинно.
Федор Иванович оживлен, шутит, дразнит поочередно то одного, то другого, и только маленькой Дасии с трогательной белокурой косичкой, перевязанной розовой ленточкой, то и дело посылает воздушные поцелуи.
Дасия краснеет, а папаша не унимается».
Писатель Клод Фаррер, близко знавший семью артиста, восхищался дочерьми Шаляпина, но особо выделял Марину, похожую на «старинную русскую икону». Неслучайно именно Марину короновали на конкурсе красоты в Париже.
Дети растут, обзаводятся семьями. Эмигрантский журнал «Иллюстрированная Россия» выносит на обложку анонс — «Шаляпин — дедушка». Младшая дочь Татьяна выходит замуж за итальянца Эрметте Либерати. «Парнишка хороший, но весьма легкомысленный», — рекомендует его тесть. Вскоре в новой семье появляются двое детей — Лида и Франк (Федор). У Бориса — дочь Ирина, у Марфы — Наташа; внучек больше, чем внуков. «Одним словом, я дед, и еще под знаком „кругом шестнадцать“, как говорит народ… Ну, я рад этому несказанно. Я так обожаю разных малышей…» — писал артист Ирине.
Забота о первой семье не прекращалась до последних дней. В Москве Иола Игнатьевна и Ирина долгое время избавлены от материальных трудностей, но жизнь их складывается непросто. Шаляпин в Советском Союзе скомпрометирован, в газетах скрупулезно подсчитываются его гонорары, в одной из публикаций сообщается, что «на деньги, которые посылает жене Шаляпин, можно было бы содержать целый детский сад». Болезненно переживали Иола Игнатьевна и Ирина изменившееся отношение к ним Горького. Иолу Игнатьевну пригласили учить внучек писателя итальянскому языку. Когда она пришла, ее поразило барское высокомерие домочадцев Алексея Максимовича: с ней обращались как с нанятой гувернанткой. Больше она там не бывала.
Сложные отношения и у матери с дочерью. Очевидцы вспоминали: Иола Игнатьевна и Ирина вели раздельное хозяйство, редко разговаривали друг с другом.
Об Иоле Игнатьевне Шаляпиной очень многие вспоминали с теплотой, в том числе и дети Федора Ивановича от второго брака. Когда дочь Марии Валентиновны Марфа выходила замуж, то попросила благословения у первой жены своего отца. «Милая девочка, — отвечала Иола Игнатьевна, — любовь — это самое нежное чувство». Она желала Марфе счастья, поздравляла с будущей свадьбой. Время от времени Иола Игнатьевна бывала за границей, навешала детей и внуков. И все же складывается впечатление, что она не чувствовала себя по-настоящему нужной ни в одной из молодых семей.
Страдая от Ирининых капризов, Иола Игнатьевна тем не менее жалела старшую дочь. Ее первый брак с П. П. Пашковым оказался кратковременным. Второй муж, артист МХАТа, а затем Камерного театра Петр Бакшеев (Баринов), оказался подвержен традиционной русской болезни — пил. В 1929 году он покончил с собой. Карьера актрисы у Ирины Федоровны не задалась. Прав был Федор Иванович: «В театре может быть хорошо тому, кто имеет грандиозный, выходящий вон из рамок талант, — все же другое обречено на унижения и страдания. Особенно, конечно, тяжело в театре женщине».
Ирина получала из Парижа деньги и посылки, но ревновала отца к детям от второго брака, упрекала за то, что он проявляет о них больше заботы. Для этого не было оснований. Пожалуй, исключительным можно назвать лишь положение Даси — любимицы Федора Ивановича. Но ей, вероятно, и приходилось труднее, чем другим: в своих воспоминаниях младшая дочь писала о деспотическом характере отца. Клод Фаррер вспоминает: «Было очень забавно видеть, когда Федор кидался на бедную маленькую Дасю с криками: „Ты любишь меня? Да… Но ты любишь меня больше всего на свете, без исключения… Скажи — да“. И он тряс это маленькое существо изо всех своих могучих сил».
Старший сын Шаляпина Борис приобрел известность в Америке как художник-портретист. Федор работал в кинематографе. Лида, Таня, Марина связали свою жизнь с театром, не особенно, впрочем, в этом преуспев. Большинство взрослых уже детей нуждались в материальной поддержке отца.
Семья собиралась вместе в Сен-Жан-де-Люз, где Шаляпин приобрел в 1925 году участок земли. Это место в Пиренеях на границе с Испанией, неподалеку от Биаррица, Федор Иванович очень полюбил. «Дача наша стала еще прекраснее. Переделали двор, уменьшили дорогу, засыпали желтым песком и насадили деревьев. Стал превосходным сад — очень уютно», — писал Федор Иванович Ирине, звал ее в гости. Взрослые дети приезжают с семьями, по утрам купаются с отцом в море, дурачатся, разыгрывают друг друга.
Андрей Седых вспоминал: «В самом конце бухты, у мыса Сен-Барб, стояли две виллы Федора Ивановича „Изба“ и „Корсар“. Утром он приходил на узкий волнорез и ловил бычков. Шаляпин неизменно был в ослепительно белой шелковой рубашке с галстуком-бабочкой, в белых фланелевых панталонах. Даже в деревне на отдыхе он сохранял всю свою элегантность».
Филолог Алла Ярхо в 2000 году посетила Сен-Жан-де-Люз. Место весьма примечательное. Здесь родился известный французский композитор Морис Равель, теперь ему посвящаются проводимые здесь музыкальные фестивали. Часто бывал здесь и известный скрипач Жак Тибо, его имя увековечено в названии набережной. В ходе поисков «шаляпинских мест» выяснилось: «Во время Второй мировой войны англичане бомбили аэропорт в Биаррице, в тот момент занятый немцами, но немножко промахнулись, несколько бомб упало в жилые кварталы, а одна в бывшую дачу Шаляпина, но, по счастью, не взорвалась. Дом тем не менее пострадал и много лет стоял заброшенный и полуразрушенный. Теперь он принадлежит нескольким хозяевам, о Шаляпине слыхом не слыхавшим. Они всё перестроили внутри и пристроили к дому террасу, но в остальном внешне дом остался таким же, каким и был с самого начала».
Табличка на улице «Promenade Feodor Chaliapine» привела любознательных туристов к вилле с красной крышей. «Прямо рядом с ней стоит другая вилла, поменьше, явно построенная одновременно и тем же архитектором. И хотя сейчас две эти виллы разделены забором, мы все же пришли к выводу, что это и есть „Изба“ и „Корсар“».
Федору Ивановичу иногда кажется, что ему удалось создать в Сен-Жан-де-Люз уголок России, и в письме от 29 августа 1929 года он зовет Рахманинова: «Если бы ты мог представить себе, какое райское житье здесь у меня на даче». А в письме от 3 августа 1934 года просит Ирину: «Узнай, пожалуйста, у какого-нибудь мужичка — специалиста по постройке русской деревенской бани — как она строится — то есть, кроме объяснений, попроси нарисовать план — как отопить, куда и как кладется камень, на который льется вода, чтоб достать пар. Может быть, ты найдешь среди знакомых архитектора. Он, может быть, расскажет — покажет и нарисует».
Неподалеку живут скрипач Жак Тибо и писатель Клод Фаррер. В Сен-Жан-де-Люз бывал Рахманинов. Иногда Шаляпины ездили к Сергею Васильевичу в Клерфонтен. «Прекрасная вилла, большая, белая, в два этажа… — вспоминал Михаил Чехов. — Приехал Шаляпин. Сергей Васильевич сиял — Федора Ивановича он любил горячо. Гуляли по саду, оба высокие, грациозные (каждый по-своему), говорили: Федор Иванович — погромче, Сергей Васильевич — потише. Федор Иванович смешил. Хитро поднимая правую бровь, Сергей Васильевич косился на друга и смеялся с охотой. Задаст вопрос, подзадорит рассказчика, тот ответит остротой, и Сергей Васильевич снова тихонько смеется, дымя папироской. Посидели у пруда. Вернулись в большой кабинет.
— Федя, пожалуйста… — начал было Сергей Васильевич, слегка растягивая слова. Но Федор Иванович уже догадался и наотрез отказался; и не может, и голос сегодня не… очень, да и вообще… нет, не буду, и вдруг согласился.
Сергей Васильевич сел за рояль, взял два-три аккорда, и пока „Федя“ пел, Сергей Васильевич, сияющий, радостный, такой молодой и задорный, взглядывал быстро то на того, то на другого из нас, как будто фокус показывал. Кончили. Сергей Васильевич похлопывал „Федю“ по мощному плечику, а в глазах я заметил слезинки».
Шаляпин называл себя бродягой, разговоров о ностальгии не любил, но всегда с большой радостью выступал в пограничных с Россией странах. Начиная с 1930 года он часто приезжает в Ригу. «Исключительно театральный город Рига! — восторженно говорил Федор Иванович артисту В. Г. Гайдарову. — И Барсова… И Миша Чехов, и вы, и у всех сборы, народ валом валит». Певец смотрел «Ревизора» с М. А. Чеховым в роли Хлестакова, с радостью общался со старыми товарищами.
В 1934 году Шаляпин гастролировал в Ковно (Каунасе). «Я затрудняюсь передать тебе чувства, которые сейчас переживаю здесь. Просто-напросто: я в России!!! Хожу по „пензенским“ или „саратовским“ улицам. Захожу в переулки. Старые дома деревянные, железные крыши, калитка, а на дворе булыжник, и по нем травка. Ну так, как бывало у нас, в Суконной слободе. Говорят все по-русски… Наслаждаюсь всем этим безумно. Жаль уезжать!!! — подвезло нечаянно… Успех такой, точно как в России в прошлое время. Петь приятно, все понимают. Вот так радость!!!» — писал певец дочери.
Конечно, дело было не только в названиях улиц и знакомых пейзажах. Театры Ковно, Риги, Софии находились в сфере влияния русского искусства, сохраняли традиции русской оперы, и это согревало душу Федора Ивановича. В интервью Шаляпин говорил: «Только в России театры не развлечение, а духовная потребность первой необходимости».
В апреле 1935 года Федор Иванович серьезно заболел. Вирусный грипп застиг его на пароходе, которым он возвращался из Америки в Европу. Из Гавра «скорая помощь» доставила его в парижский госпиталь.
Весть о болезни артиста облетает мир. В квартире беспрестанно звонит телефон, приходят телеграммы из Индии, Австралии, Японии, Америки. В середине мая кинохроника демонстрирует сюжет «Выздоровевший Шаляпин». В Англии по радио транслируется церковная служба «о выздоровлении Шаляпина».
Федор Иванович пишет С. В. Рахманинову:
«Вчера я встал наконец с одра. Как полагается — пошел помыться. Когда же увидал себя в зеркале, то невольно задал себе вопрос: как, собственно говоря, вел себя мой доктор или, вернее, что он чувствовал? Думал ли он, что, приходя, сидит у одра больного, или, может быть, соображал: сижу у больного одра, ибо, конечно, я был больше похож на одра… Ну, во всяком случае, слава Богу, я счастливо выпутался. Оказывается, я действительно был на краю смерти. Не знаю еще, как буду вести себя дальше. Все же мечтаю прокатиться на автомобиле и в Швейцарию, и в Тироль…»
Но чаще, чем Швейцарию, Федор Иванович вспоминал Россию, Волгу, рыбалку с Коровиным и Серовым в Охотине и в Ратухине, поездки с друзьями к Теляковскому в Отрадное.
Шаляпин был счастлив, когда летом 1904 года купил у К. А. Коровина участок земли на речке Нерли близ деревни Старово и с любовью его обустраивал. Коровин сделал для Шаляпина проект большого дома. «Серов, — вспоминал Коровин, — взглянув на него, с улыбкой сказал:
— Строить хотите терем высокий?
— Да, — ответил я. — „На верху крутой горы знаменитый барин жил по прозванью Карачун“».
«Терем» строил архитектор Виктор Александрович Мазырин (друзья звали его Анчуткой). Дом пахнул свежей сосной и радовал глаз. По ходу дела Шаляпин с Мазыриным вносили коррективы, разместили конюшни, коровники, сенной сарай, прорубили просеку к реке. На берегу поставили помост для рыбной ловли и соорудили просторную купальню.
Из Шато-де-Корметен Шаляпин писал Ирине в 1911 году: «Ничего себе… Французская деревня и парк, есть и речка, но все это не стоит и сотой доли нашего Ратухина».
И в самом деле, там сохранялся удивительный уголок русской природы, здесь Шаляпин освобождался от столичной суеты, чувствовал себя радостно и спокойно. Недалеко — Охотино, обиталище Коровина и Серова, рыбалка, неторопливые разговоры о жизни, об искусстве, о деревенских нравах и привычках, раздумья с местными степенными мужиками, пение… Собеседники душевно открыты друг другу, в общении обретают радость бытия.
К. А. Коровин вспоминал:
«Никон Осипович подошел к нам (Серову и Коровину на рыбной ловле. — В. Д.).
— Эх, — сказал, — ну и парень хорош Шаляпин, только горяч больно. Казовый парень. Выпили с ним — согреться, конечно, он меня и спрашивает: „Спой-ка, — говорит, — песню каку знаешь старую“. Я ему „Лучинушку“ и пою, а он тоже поет.
— А как же, ведь он певчий, — сказал я.
— Э!.. То-то втору-то он ловко держит. Ну и голос у него хорош, мать честная, вот хорош. Так вот прямо в нутро идет. Так пою я, не сдержался, плачу… Смотрю-ка, гляжу — и он плачет. Вот и пели. Ишь чего — певчий! Где же он поет-то?
— В театре, — говорю.
— А жалованья-то сколько получает?
— Сто целковых за песню получает.
Никон Осипович пристально посмотрел на нас с Серовым и сказал рассмеявшись:
— Ну, полно врать».
…Недалеко, на левом берегу Волги, — имение В. А. Теляковского «Отрадное». Владимир Аркадьевич наследовал его от отца, военного инженера, генерал-лейтенанта, потомственного ярославского дворянина, почившего в 1891 году. Летом Теляковский собирал у себя друзей. В июне 1905 года Коровин написал здесь портрет читающего Шаляпина. Двухэтажный деревянный особняк с просторной террасой простоял почти век, в нем сменилось много разных хозяев, по халатности последних его владельцев в начале 1980-х годов дом сгорел. Восстанавливать его не стали; в окружении старых лип закопченный фундамент зарос ольховым кустарником.
Печальные воспоминания о родной земле не покидают Шаляпина даже в напряженных зарубежных гастролях. Конечно, они настигают его, когда он пишет письма Ирине, живущей в Москве. Сквозь описания своих успехов в Австралии проскакивает забавная фраза: «Жаль, нет времени, а то интересно здесь порыбачить!» Пражская газета «Народны листы» (29 декабря 1928 года) публикует статью Шаляпина «Моя жизнь скитальца», в которой он вдруг вспоминает, какой замечательный сорт огурцов выращивают в Ярославской губернии. В мае 1934 года из Тироля: «Снег под ногами хрустит — ночь темнущая, и щиплет нос и уши, прямо как в России». В мае того же года из польского Каунаса, бывшего российского Ковно: «Я затрудняюсь передать тебе чувства, которые переживаю здесь. Просто-напросто я в России!!!»
…В 1930-х годах шаляпинский дом в Ратухине приспособили под детский санаторий. Новые обитатели — юные пионеры маршировали под доморощенную песню неизвестного стихотворца:
Не знал Шаляпин верный. Не думал он о том, Кому пойдет на пользу Его просторный дом. Под дудочку буржуя Шаляпин наш поет, А на веселой даче Идет наоборот.Так запомнила эту песню Екатерина Дмитриевна Яковлева, служившая в санатории. В 1985 году дом Шаляпина по распоряжению местных властей сломали и на его месте построили унылый типовой санаторный корпус.
Свое обиталище в Париже на улице д’Эйло Федор Иванович любил и даже гордился им как одним из важных знаков своего признания. Как свидетельствовал Соломон Львович Поляков-Литовцев, много часов проведший наедине с артистом в пору работы над «Маской и душой», Федор Иванович нередко сам поражался богатой обстановке своего жилища: столовая мерцает серебряной и золотой утварью, художественными тканями, кабинет украшен коврами и дорогими картинами.
«Он иногда как со сна пробуждался и озирался с изумлением: „Неужели это мое жилище, Феди из Суконной слободы в Казани?“ Удивлялся — за что же это все мне? И в такие минуты, полуискренно большей частью, а иногда, пожалуй, и по-настоящему, впадал в самоунижение. „Вот: Горький — какой талант, какой великий писатель! Куда мне до него?“ Собеседник либо улыбается, либо, когда уже душа не стерпит, возразит с жаром: „Что за вздор, Федор Иванович! Куда вам до Горького?! Горький в исторически русском масштабе большой человек второго ранга, а вы первый человек, наряду с Толстым, Пушкиным, Глинкой, Мусоргским“.
— Ну что вы, что вы, милый друг. Это вам все кажется оттого, что меня любите. Ну, конечно, пою не плохо. Дай Бог всякому, однако же Горький…
Но убеждение Федора Ивановича уже слабеет, он защищается неувереннее, занавес скромности начинает, шурша, опускаться и — с мягкой тяжестью, падает. Шаляпин и переходит в шутливый тон. Видно, он радостно возбудился».
Глава 6 ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ
В 1935 году исполняется 45 лет артистической деятельности Федора Ивановича Шаляпина. Газета «Возрождение» печатает благодарность артиста всем вспомнившим о нем. Приветствий из Советского Союза Федор Иванович не получил. Впрочем, он прекрасно понимал, что происходило на родине.
«Видишь ли: я слушаю довольно часто по радио Москву, — писал он Ирине. — Вот поет какой-то молодчик Старого капрала: „Ты, землячок… поклонись нашим зеленым дубравам“… Почему? Зеленым дубравам, а не храмам селенья родного? Разве в этом заключается… поддержка религии?.. Я вот также не религиоз<ен>, но из песни слова выкинуть не могу. Приеду, а меня заставят. Я не послушаюсь, и пожалте в Соловки… Ты пишешь — „прояви инициативу“. Нет! Боюсь. Сошлют в Соловки, да вот тебе и инициатива!»
В 1936 году на пароходе «Нормандия», идущем из Нью-Йорка в Гавр, Шаляпин узнает о смерти Горького. Федор Иванович телеграфирует Екатерине Павловне Пешковой: «Потрясен, прочитав ужасающую телеграмму. Всех вас всегда обожал». В Париже артист публикует в газете «Последние новости» статью «Об А. М. Горьком». Он простил другу и клевету, и наветы, защищает Горького от обвинений русской эмиграции: «Когда я слышу о корысти Горького, о его роскошной жизни на виллах в Капри и Сорренто, о его богатствах, — мне становится за людей совестно. Я могу сказать, ибо очень хорошо это знаю, что Горький был один из тех людей, которые всегда без денег, сколько бы они ни зарабатывали и ни приобретали. Не на себя тратил он деньги, не любил денег и ими не интересовался. Помню, ссудил я ему как-то денег, — случалось это между нами, — спросил немного потом, не надо ли ему еще? — Не беспокойся, Федор, — писал он мне. — „На нашу яму не напасешься хламу“… Воистину, не напасался на все то, на что он великодушно и широко тратился…» Видимо, Шаляпин имеет в виду передачу Горькому в 1908 году трех тысяч франков, когда тот жил на Капри.
В 1930-е годы в Германии силу набирал фашизм. Русская эмиграция в тревоге. Многие решают вернуться из страха перед будущим, из чувства безысходности, надеясь уйти от многолетней нищеты. Тяжелобольным вернулся на родину Александр Иванович Куприн, вскоре его не стало. Приехала с семьей поэтесса Марина Цветаева, близкий друг Шаляпина певец Александр Давыдов. Жизнь его за границей не сложилась, подводило здоровье, возраст… Александр Михайлович начинал глохнуть.
«Безмерно счастлив, что я наконец дома, — пишет Давыдов Шаляпину. — Поверь мне, дорогой мой друг, что твою гениальность в искусстве может понять по-настоящему только твой собрат, вышедший из того же народа, что и ты, и ныне творящий чудеса!!!
Да, мой милый друг Феденька, нет тебе другого места на земле, как только в СССР, где все твое — земля, дома, роскошь, друзья и слава…
Ты должен бросить все твои поездки по всяким „Япониям и Китаям“, которые, кроме переутомления, в твои годы ничего тебе не дадут, и вместо этого как можно скорее вернуться в свой родимый очаг и показать, кто ты такой, на склоне лет.
Ты по-настоящему отдохнешь здесь, окруженный друзьями и всеми благами.
У нас есть все, что твоей душе угодно будет, удобства в бытовом отношении наилучшие, чистота безукоризненная и большой порядок».
В письме Давыдова сквозит официозный пафос — видимо, власть еще не потеряла надежду вернуть Шаляпина в страну «безукоризненной чистоты и большого порядка».
Ирина советовала отцу похлопотать в полпредстве СССР во Франции относительно поездки в Москву. «Нет! Я уже стар, да и избалован… вниманием всех полпредств мира, — отвечал дочери Федор Иванович. — Я никуда не хожу, а посылаю секретаря, и мне тогда же дают визу. Неужели я 46 лет пел во всем мире для того, чтобы ходить с поклоном к полпредам?»
Несмотря на заверения о том, что в Советском Союзе он долгожданный и желанный гость, Федор Иванович имел основания для сомнений. Так, открыв вышедший в СССР том переписки А. П. Чехова с О. Л. Книппер, он в примечаниях прочел: «Шаляпин Ф. И. — знаменитый певец (род. в 1873 г.), был награжден званием народного артиста, которого был лишен за солидаризацию с белоэмигрантами». «Какая злая глупость!» — восклицает артист. Сын Федор Федорович вспоминал: отец был уверен — если не попадет в Соловки, с ним произойдет «несчастный случай». «Не убьют же тебя», — уверял кто-то из знакомых. «Не убьют — так машиной задавят», — говорил Федор Иванович…
Шаляпин признан во всем мире, в 1935 году он получил диплом Шведской академии музыки. «Представь мое удивление: я и Тосканини были только что избраны, и две недели назад я получил диплом академика. Бывают иногда за серыми неправдами светлые моменты удовлетворения», — писал он Ирине.
В начале 1936 года Шаляпин гастролирует в странах Дальнего Востока: на Цейлоне, в Сингапуре, Китае, Японии. Ему устраивают торжественные встречи, к прибытию парохода на пристани собираются толпы. В порту Кобе к пароходу «Хаконе мару» причаливает катер, представители власти, директор токийского филармонического общества с флажками и цветами приветствуют Федора Ивановича. Артист спускается на катер под звуки оркестра. Официальные встречи чередуются с неофициальными. В Японии Шаляпин — гость театра кабуки. «В зале — в ложах, на циновках, на подушечках сидела публика, на огромной сцене расположились артисты. Они чествовали гениального мастера», — вспоминала одна из участниц этой встречи.
В Китае Шаляпин познакомился со знаменитым артистом Мэй Ланьфанем. Экзотическая природа, необычная архитектура, обычаи, традиции — все это живо интересует и радует певца. Вместе с Марией Валентиновной и Дасей он осматривает достопримечательности, фотографируется на фоне пагод, храмов, скульптур, парков.
Конечно, возраст дает о себе знать. Голос Федора Ивановича теряет силу и звучность, у него снова рождается желание попробовать себя в качестве драматического артиста. Шаляпин просит Ирину прислать ему инсценировку «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя, сделанную кумиром его молодости артистом В. Н. Андреевым-Бурлаком.
В 1937 году — столетие со дня гибели А. С. Пушкина, и Шаляпин намерен сыграть «Скупого рыцаря». Андрей Седых вспоминает об импровизированной домашней репетиции. Распорядившись подать виски, Шаляпин начал монолог Барона:
Тут есть дублон старинный… вот он. Нынче Вдова мне отдала его, но прежде С тремя детьми полдня перед окном Она стояла на коленях, воя.«Я слушал его с глубоким волнением и думал: какое это счастье! Вот Шаляпин играет сейчас для одного тебя… Никакое описание не может передать игры Шаляпина. Был он в городском костюме, без грима, но лицо его как-то внезапно осунулось, в глазах появился жадный, лихорадочный блеск, пальцы, перебиравшие золотые монеты, стали крючковатыми и стариковскими… Закончив монолог, Федор Иванович устало прикрыл глаза и тихо сказал:
— Дублон старинный… Я этого рыцаря скупого чувствую. Недаром говорят люди, что я сам скуп и алчен… А знают ли эти самые люди, что такое настоящий голод? Я-то знаю — по два дня в Казани… ходил не евши… И еще боюсь, смертельно боюсь: состарюсь, потеряю голос, денег не будет — и никто не поможет, никто! Я знал таких нищих стариков певцов, а ведь какие орлы были в прошлом! Вот этот страх остаться без голоса и без денег гложет меня, не дает мне покоя… Да, деньги, „люди гибнут за металл“… Но и в деньгах радости нет…»
С именем Пушкина была связана и давняя мечта Шаляпина — спеть Алеко в новой редакции. Поэтессу Л. Я. Нелидову-Фивейскую Федор Иванович горячо убеждает:
— Ведь в Алеко Пушкин выводит самого себя. Необходимо дописать пролог, из которого было бы понятно, кто такой Алеко и почему он решил покинуть свое общество и уйти к цыганам.
Этой же идеей Шаляпин пытался заразить и Дон Аминадо:
«— Задумал я… спеть и сыграть Алеко, загримировавшись под Пушкина… И нужна мне, милый друг, ваша помощь… Да, да, да! Сейчас вы окончательно все поймете. Необходимо мне, чтобы вы написали либретто!., то есть приспособили пушкинский текст…
И, видя на моем лице ужас и изумление, вскочил с места, достал из ящика заветную партитуру, отпечатанную в Москве у Гутхейля, уселся рядышком и начал, словно в лихорадке, перелистывать страницу за страницей, восклицать, шептать, объяснять, и остановить его не было уже никакой возможности…»
Замысел не осуществился: Рахманинов не хотел, чтобы ставили его ученическую, как он считал, оперу, но обещал Шаляпину вернуться к «Алеко»…
18 июня 1937 года в парижском зале «Плейель» Шаляпин выступил в концерте вместе с хором Н. П. Афонского. Аншлаг!.. Толпы у входа. Слушатели заметили: Федор Иванович волнуется. Ощущение тревоги передалось публике. После второго номера Шаляпин подошел к роялю и легко подвинул его ближе к середине сцены, дал понять — все в порядке, для тревоги нет оснований.
Федор Иванович пел по преимуществу русский репертуар: «Трепак» Мусоргского, «Ночной смотр» Глинки, «Клубится волною» Рубинштейна, арию Кончака из «Князя Игоря». Особый восторг вызвали «Двенадцать разбойников» и «Сугубая ектения», исполненные с хором Афонского. «Шаляпин представляется нам живым воплощением России и кроме чисто художественного наслаждения всегда дает щемящее и в то же время радостное чувство мгновенного возврата к России», — писали «Последние новости». Не только русские парижане, но и французы были захвачены пением Шаляпина и восклицали: «C’est epatant! C’est genial!»
Федор Иванович много бисировал. Иван Алексеевич Бунин пришел за кулисы: Шаляпин стоял бледный, нервно курил.
«— Ну что, как я пел?
— Конечно, превосходно, — ответил я. И пошутил: — Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.
— Спасибо, милый, пожалуйста, подпевай, — ответил он со смутной улыбкой. — Мне, знаешь, очень нездоровится…»
Через пять дней Шаляпин выступил в английском городе Истборне, в концерте, приуроченном его организаторами к столетию Федерации бакалейщиков и агентов по доставке бакалейных товаров. Так случилось, что этот концерт стал последним…
…Газеты сообщают о предстоящих гастролях в Скандинавских странах, о концертном турне по Соединенным Штатам… Федор Иванович расторгает контракты, едет для консультации с медицинскими светилами. Консилиум обнаружил эмфизему легких, расширение сердца.
Федор Иванович возвращается в Париж. Постельный режим. 6 ноября 1937 года он пишет Ирине в Москву: «Ты себе не можешь представить, как ужасно, когда ты чувствуешь потребность вздохнуть глубоко и не можешь, потому что на середине вздоха должен закашляться, как лошадь. Ну… значит, приходит пора отвечать…
Будем ждать выздоровления, но… не знаю, смогу ли работать. Будет ужасно, если я уже инвалид. Во всяком случае, этот сезон уже зачеркнут».
Федор Иванович с тревогой размышляет о предстоящем юбилее — в 1939 году исполняется 50 лет его артистической деятельности. Юбилейная комиссия во главе с Клодом Фаррером собирается открыть в Париже выставочную экспозицию. Шаляпин разбирает архив, просит Ирину прислать документы, письма, костюмы, портреты — России они не нужны: «Ибо, что я Гекубе? Кому это там будет интересно? Иметь всякую ерунду относительно „врага народа“».
Артист верит в лучшее:
«Надеюсь, что я выздоровлю и в состоянии буду пропеть еще 38 и 39 годы, а там уж переберусь в деревню на „жалкий“ старческий покой. Конечно, я мог бы давать уроки или читать лекции, но я так разочаровался в театре, его уже так давно не существует, что при всех обстоятельствах буду счастлив забыть о его существовании, а также забыть и самого себя.
Уже в деревне буду называться Прозоровым (по маме).
А Шаляпина не надо.
Был да сплыл».
Федор Иванович Шаляпин не отождествлял родину с политическим режимом или, как он говорил, с «аппаратом». Он вспоминает Ратухино, Старово, Казань, Москву, Петербург, слушает московское радио; нарушив запреты докторов, спешит в кинематограф на фильм «Петр I» по роману А. Н. Толстого.
«Все актеры играют очень хорошо. Хорош и Петр (Н. К. Симонов. — В. Д.)… Перед картиной показывали Эрмитаж, Третьяковскую галерею, музей Ленина и главное канал Волга — Москва. Раздавительно!!! Словом, с фильма я ушел так, как давно уже не уходил ни из театра, ни из концерта. По уши переполненный гордостью за Русь… Я рад, что в чувствах моих никогда не ошибался и всегда любил мою родину, хотя и бродяга…
Много, много попутешествовал, видел разные страны, наше „Старово“ и дом вспоминаю всегда. Вспоминаю плотника Честнокова с сыновьями, вспоминаю, как я, Коровин и мой несравненный и незабвенный В. Серов сидели и чертили план. Вспоминаю Руслана (он теперь, небось, слывет в кулаках), а какое дерево он тогда нам привез на постройку и какой был смышленый мужик.
Лежу сейчас то в кровати, то в кресле, читаю книжки и вспоминаю прошлое, театры, города, лишения и успехи…
Страшно злюсь: как это я, я! И вдруг зубы шатаются и сердце захворало. Удивительно. Н-да! Законов природы не прейдеши!
Ну довольно об этом. Мне все-таки каплю лучше. Сегодня доктор был и разрешил ежедневно 1 час прогулки на автомобиле по Булонскому лесу…»
Диагноз — злокачественная лейкемия поставлен профессором Вейлем в конце февраля 1938 года. Федору Ивановичу сказали: малокровие. «Гадал на картах — глупо, но выходит, что выздоровлю к маю… Вообще кажется, что умираю постепенно, но верно», — пишет он Ирине в Москву.
Федору Ивановичу запрещено сладкое. Понимая, что медицина уже бессильна, профессор Абрами разрешил дать больному блюдечко варенья. «Разве мне это не повредит?» — тревожно спросил Шаляпин. «Напротив, — заверил врач, — некоторая доля сладкого подкрепит здоровье». Силы покидали артиста, он потерял, как писал дочери, «вместилище груди», как будто «в пустоту груди положили доску или камень». Дома паковали вещи к отъезду на дачу, зная — напрасно…
Чешская певица Э. Брожова навестила Шаляпина за два дня до его кончины. Артист говорил: хорошо бы поехать в деревню. «Знаете, у человека, кровь которого мне собирались перелить, фамилия Шьен (по-французски — пес). Этак я мог бы начать в опере не петь, а лаять».
К вечеру пришел Сергей Васильевич Рахманинов.
«В последний раз я видел его (Шаляпина. — В. Д.) 10 апреля. Как и раньше бывало, мне удалось его немного развлечь, и он, как раз перед моим уходом, стал рассказывать, что после его выздоровления он хочет написать еще одну книгу для артистов, темой которой будет сценическое искусство. Говорил он, конечно, очень, очень медленно. Задыхаясь! Сердце едва работало! Я дал ему кончить и сказал, вставая, что у меня тоже планы: что, как только кончу свои выступления, я напишу книгу, темой которой будет Шаляпин. Он подарил меня улыбкой и погладил мою руку. На этом мы и расстались. Навсегда!»
Перед отъездом из Парижа Сергей Васильевич вновь пришел на улицу д’Эйло. Шаляпин впал в забытье. Рахманинов пообещал Марии Валентиновне приехать через десять дней. Их глаза встретились — обоим ясно: столько дней он не проживет. Мария Валентиновна не выдержала — заплакала.
Последняя ночь прошла спокойно. Наутро Шаляпин стал бредить: «Тяжко мне… Где я? В русском театре? Чтобы петь, надо дышать, а нет дыхания… За что я должен страдать? Маша, я пропадаю». Это были его последние слова.
…13 апреля в соборе Александра Невского был назначен молебен о здравии артиста, но пришлось служить за упокой. Весть о смерти певца немедленно облетела Париж. Собор плотно окружила толпа…
Три дня на улице д’Эйло прощались с Шаляпиным. За несколько дней до кончины Федор Иванович сам указал место, где поставить гроб: в столовой, под образами. «Он лежал там в страшном одиночестве. Прекрасно и бледно было лицо в неровном свете потрескивающих восковых свечей… У гроба стоял мольберт, и сын, Борис Федорович, торопливо и нервно писал портрет отца — торопился, словно боялся, что не успеет закончить», — вспоминал Андрей Седых.
Младший сын Федор из Америки на похороны не успевал, прислал телеграмму: «Я с тобой».
Двери шаляпинского дома не закрывались. Гроб утопал в цветах. Их приносили друзья, официальные лица и сотни безвестных почитателей таланта Шаляпина. Роскошные венки и скромные букетики. Огромный крест из живых белых гвоздик и белой сирени — от С. В. Рахманинова. Крест возложили на дубовый гроб, покрытый красным бархатным с золотым шитьем церковным покрывалом XVII столетия.
Из Советского Союза ждали старшую дочь Ирину, но разрешения выехать на похороны отца она не получила.
Со всех концов света шли на шаляпинский адрес телеграммы, голос Шаляпина в эти дни постоянно звучал по всем радиостанциям мира — кроме советских.
Утром 18 апреля под пение хора гроб выносят из дома на улице д’Эйло, водружают на черный автомобиль-катафалк, следом на двенадцати автомашинах в последний путь провожают Шаляпина близкие и друзья. В соборе Александра Невского на улице Дарю митрополит Евлогий сказал: «За все то духовное наследие, которое он нам оставил, за прославление русского имени — за все это низкий поклон ему от всех нас и вечная молитвенная память».
Литургия и отпевание Федора Ивановича Шаляпина транслировались по радио. В русской церкви два с половиной часа пели два хора — Афонского и «Русской оперы». Звучала духовная музыка, в том числе «Литания» для двух хоров А. Т. Гречанинова. Фред Гайсберг вспоминал:
«Отпевание Шаляпина было самым дивным хоровым пением без сопровождения, которое я слышал в своей жизни. Хористами стали здесь прежние коллеги Шаляпина по оперной сцене, в том числе Александр Мозжухин, Поземковский, Кайданов, Запорожец, Боровский, Давыдова, Смирнов и другие. Взволнованное и страстное пение этих хористов и коллег баса производило потрясающее впечатление. Мне вспоминались частые столкновения и конфликты, случавшиеся у них с певцом в эпоху императорской России, в голодный и трудный революционный период, в дни лишений и тоски в эмиграции. Озадаченный их истовым чувством, я спросил присутствующего князя Церетели, в чем причина этого единодушия и огромного духовного подъема. Он ответил: „Шаляпин умер — и все забыто“. Все понимали, что другого такого или подобного ему артиста не будет. Он был воплощением их России».
В соборе, кроме «русских парижан», множество французов, представители посольств многих стран, делегация Почетного легиона, официальные лица от президента Франции, министра народного образования, департамента изящных искусств, артисты, музыканты, художники. «Среди многотысячной толпы — все движение на площади остановлено — перед зданием Большой оперы, стоя на ступеньках, лицом к катафалку, утопавшему в лаврах и розах, еще раз… пел все тот же хор Афонского, и французы, которые никакой родины не покидали, плакали так, как будто они были настоящими русскими, у которых уже не было ни родины, ни молодости, а только одни воспоминания о том, что невозвратимо прошло…» — писал Дон Аминадо.
Процессия двигалась на кладбище Батиньоль, там могилы Поля Верлена, русского художника Льва Бакста. Шаляпин некогда сам выбрал место для своей могилы, под высокими каштанами. Митрополичие певчие и хор «Русской оперы» поют «Вечную память». Мария Валентиновна, дети, соотечественники великого артиста бросают на гроб горсти русской земли. Вырастает холм из живых цветов. На медной доске надпись по-французски:
ФЕДОР ШАЛЯПИН оперный артист. Командор Почетного легиона 1873–1938После войны это надгробие заменили гранитным православным крестом и каменной плитой с надписью:
lci repose Feodor CHALIAPINE fils genial de la terre RUSSE.Кончилась эпоха великого артиста Федора Ивановича Шаляпина.
«„Умер только тот, кто позабыт“, — писал С. В. Рахманинов. — Такую надпись я прочел когда-то, где-то на кладбище. Если мысль верна, то Шаляпин никогда не умрет. Умереть он не может. Ибо он, этот чудо-артист, с истинно сказочным дарованием, незабываем. Сорок один год назад, с самого почти начала его карьеры, свидетелем которой я был, он быстро вознесся на пьедестал, с которого не сходил, не оступился до последних дней своих. В преклонении перед его талантом сходились все: и обыкновенные люди, и выдающиеся, и большие. В высказанных ими мнениях все те же слова, всегда и везде: необычайный, удивительный… И слух о нем пошел по всей земле, не только — всей Руси великой.
Не есть ли Шаляпин и в этом смысле единственный артист, признание которого с самых молодых лет его было общим? „Общим“ в полном значении этого слова! Да! Шаляпин — богатырь. Так было. Для будущих поколений он будет легендой».
ЭПИЛОГ
…Я иногда спрашиваю себя, почему театр не только приковал мое внимание, но заполнил целиком все мое существование, все мое существо? Объяснение этому простое. Действительность, меня окружавшая, заключала в себе очень мало положительного. В реальности моей жизни я видел грубые поступки, слишком грубые слова. Все это натурально смешано с жизнью всякого человека, но среда казанской Суконной слободы, в которой судьбе было угодно поместить меня, была особенно грубой… Глубоко в моей душе что-то необъяснимое говорило мне, что та жизнь, которую я вижу кругом, чего-то лишена. Мое первое посещение театра ударило по всему моему существу именно потому, что очевидным образом подтвердило мое смутное предчувствие, что жизнь может быть иною, более прекрасной, более благородной.
Ф. И. ШаляпинЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
12 апреля 1938 года Федор Иванович Шаляпин умер. Но с его кончиной мифотворчество не только не завершилось, оно обрело новые масштабы и направленность. В некрологе, опубликованном «Известиями» 14 апреля, солист Большого театра, народный артист СССР М. О. Рейзен писал: «В расцвете сил и таланта Шаляпин изменил своему народу, променял Родину на длинный рубль. Все его выступления носили случайный характер. Громадный талант иссяк уже давно».
Однако через неделю, 22 апреля, «Известия» вдруг публично извинились «за выражения о творчестве Шаляпина, недопустимые в советской печати». Задумаемся: кто мог в те суровые годы «строго поправить» официальную газету, «орган Советов депутатов трудящихся»? Не иначе как самое высокое в стране лицо.
Так кем же предлагалось считать Артиста?
В одном из кадров фильма «Яков Свердлов», вышедшем на экраны в 1940 году (сценарий Б. Левина, П. Павленко, режиссер С. Юткевич), в кресле развалился «известный певец» — так поименован персонаж в гриме и оперном костюме Мефистофеля (Н. Охлопков), он хмур, раздражен, груб и пьян. Позади, опершись на спинку кресла, стоит молодой цветущий Горький (П. Кадочников) и произносит вдохновенный монолог. Идейное и нравственное противопоставление акцентировано с предельной наглядностью…
1945 год… Проходит пять тяжелых лет кровопролитной битвы с гитлеровской Германией. Рабоче-крестьянская Красная армия, переименованная к концу войны в Советскую и обмундированная в офицерские и солдатские шинели с соответствующими нашивками и погонами, героически освобождает Европу от фашизма, утверждая в мировом сознании державное величие Страны Советов. В этом новом политико-идеологическом контексте в общественном сознании меняется отношение и к «заблудшим россиянам». Журнал «Новый мир» в феврале — марте 1945 года публикует вполне доброжелательные воспоминания о Шаляпине маститого писателя Льва Никулина.
В послевоенные годы власть декларирует открытость и всепрощение: из Европы на свой страх и риск потянулись эмигранты «первой волны». Литературных функционеров высшего ранга засылают даже к Ивану Алексеевичу Бунину — эту миссию возложили на поэта и драматурга лауреата сталинских премий К. М. Симонова, но проницательного автора «Окаянных дней» и «Темных аллей» трудно провести на пропагандистской мякине; он остается во Франции.
С Шаляпиным стало много проще — теперь согласия на любые манипуляции с его именем не требуется. Наступает фаза нового «пересмотра» непростой судьбы Артиста.
…24 февраля 1947 года И. В. Сталин беседовал с кинорежиссером С. М. Эйзенштейном и артистом Н. К. Черкасовым о второй серии фильма «Иван Грозный». В книге «Записки советского актера» Черкасов воссоздает умилительную атмосферу редкостного взаимопонимания художников с вождями.
«Как и всегда, товарищ И. В. Сталин, товарищи В. М. Молотов и А. А. Жданов создали обстановку необычайной простоты, которая позволила нам не только слушать, но и активно включаться в разговор… Иосиф Виссарионович подробно помнил не только наши фильмы, но и большинство актеров-исполнителей и изумительно точно определял возможности каждого из нас, — пишет он. — Говоря о задачах актера, Иосиф Виссарионович сказал, что самое главное достоинство актера — уменье перевоплощаться. Когда я заметил, что в юношеские годы мне удалось часто наблюдать такого мастера искусства сценического перевоплощения, как Федор Иванович Шаляпин, Иосиф Виссарионович сказал, что это великий актер».
Что означала эта фраза генералиссимуса? Высочайшее прошение?
Во всяком случае, уже в 1948 году в ленинградских и московских домах творческой интеллигенции решаются скромно отметить 75-летие со дня рождения Шаляпина. Оставшиеся в живых современники, друзья, знакомые, партнеры по сцене, просто зрители и поклонники выступают с воспоминаниями, музыковеды читают доклады о жизни и творчестве певца, приглашают публично слушать граммофонные записи. А 15 февраля 1953 года с неожиданной помпезностью отмечается восьмидесятилетие артиста в Большом театре Союза ССР: с высокой трибуны Федор Иванович Шаляпин официально провозглашается великим национальным достоянием.
Могло ли такое важное культурное мероприятие состояться без санкции Сталина? Разумеется, нет. Чем объяснить кардинальное изменение в отношении к певцу, еще недавно считавшемуся «невозвращенцем», «врагом» отечества и народа?
Вспомним, какова была политическая обстановка в стране.
В октябре 1952 года состоялся XIX съезд. Он переименовал Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков) в Коммунистическую партию Советского Союза и наметил политическую, экономическую и культурную линию развития страны. Последнему съезду с участием Сталина предшествовали погромные постановления ЦК партии 1946–1948 годов по идеологическим вопросам: о неудовлетворительном состоянии литературы, журналистики, кинематографа, театра, музыки, концертного дела; в печати развернулись дискуссии, разоблачающие враждебную деятельность «антипартийных групп» в художественной критике, ширилась борьба с космополитизмом в области искусства и науки. Наконец, объявлено о раскрытии преступной группы кремлевских врачей-убийц и подрывной деятельности международных сионистских организаций, запущен слух о грядущей депортации еврейского населения в отдаленные регионы страны…
…А на торжественном собрании общественности в феврале 1953 года в Большом зале Московской консерватории любимый певец вождя бас Максим Дормидонтович Михайлов, народный артист СССР, бывший церковный певчий, рассказывает «об огромной силе таланта Шаляпина, поднявшего отечественную вокальную культуру на недосягаемую высоту», хвалит репертуар Шаляпина, в котором особое место занимала народная песня, говорит об исключительной ценности художественного наследия Ф. И. Шаляпина, бережно воспринятого деятелями советского искусства… И — ни слова об эмиграции, о лишении певца звания народного артиста. В концерте участвуют лучшие силы Большого театра, в том числе и «продолжатель шаляпинских традиций», автор скандального некролога в «Известиях» — народный артист Советского Союза М. О. Рейзен.
Совершенно очевидно: в послевоенной идеологии готовится масштабное внедрение в общественное сознание новой, сплачивающей народные массы национальной идеи, и Шаляпин — одно из ее знамен.
Спустя три недели после знаменательного концерта умер Сталин, а следом — реабилитированы «злодеи-врачи», расстрелян «враг народа» Берия, осужден «культ личности». Начинается хрущевская «оттепель». И опять к «шаляпинской теме» энергично обращаются видные искусствоведы и литераторы, в 1957 году выходит объемный двухтомник «Федор Иванович Шаляпин. Литературное наследство», в нем впервые представлены фрагменты «Маски и души». Однако полный текст крамольной книги остается запрещенным вплоть до следующей исторической «перестройки» — до 1989 года.
Дочь певца Ирина Федоровна Шаляпина-Бакшеева, проживающая в Москве, начинает хлопотать о поездке в Париж. Этот, казалось бы, сугубо частный вопрос решается на высшем партийно-государственном уровне. Получив отказ от всех нижестоящих административных инстанций, И. Ф. Шаляпина доходит до самых верхов — пишет секретарю ЦК КПСС Д. Т. Шелепину:
«Обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении мне возможности выехать на один месяц во Францию. Цель поездки — посещение могилы моего отца артиста Ф. И. Шаляпина, похороненного в Париже в 1938 году на кладбище Батиньоль.
Данную поездку я предполагала бы осуществить на личные средства, выражающиеся во французской валюте, переданной на мое имя в парижский банк, и являющиеся частью завещанного семье наследства Ф. И. Шаляпина.
По справке Инюрколлегии в Москве сумма эта в переводе на советские деньги выражается примерно в 8000 рублей (восемь тысяч рублей).
Моя мать И. И. Шаляпина также просит Вас разрешить мне эту поездку.
Одновременно с этим в случае положительного решения, прошу Вас разрешить моему ближайшему другу — писательнице Кончаловской Н. П., сопровождать меня в этой поездке за мой счет, поскольку по состоянию моего здоровья мне будет трудно одной.
Уважающая Вас дочь артиста Ф. И. Шаляпина, персональный пенсионер СССР И. Шаляпина-Бакшеева».Это письмо подкреплено ходатайством Министерства культуры заместителю заведующего Отделом культуры ЦК КПСС Б. С. Рюрикову:
«Министерство культуры СССР не имеет возражений против временной поездки И. Ф. Шаляпиной-Бакшеевой в Париж. Как известно, И. Ф. Шаляпина-Бакшеева нигде не работает, она является персональным пенсионером и намерена осуществить поездку по своим личным мотивам. В таких случаях оформление своей поездки она должна произвести на общих основаниях, т. е. через ОВИР Главного Управления милиции.
Заместитель министра культуры СССР С. Кафтанов. 19 апреля 1956 года».Параллельно в ЦК КПСС поступило письмо заместителя заведующего Отделом культуры ЦК КПСС Б. Рюрикова и завсектором отдела (по совместительству известного музыковеда) Б. Ярустовского. В этом письме высокопоставленные партийные чиновники, по сути дела, категорически отмежевываются от И. Ф. Шаляпиной и ее просьб:
«Персональная пенсионерка И. Ф. Шаляпина-Бакшеева — дочь известного русского певца И. Ф. Шаляпина, просит предоставить ей возможность выехать на один месяц во Францию для посещения могилы своего отца, похороненного в Париже.
И. Ф. Шаляпиной рекомендовано осуществить данную поездку в порядке туризма с одной из экскурсионных групп, выезжающих во Францию.
3 мая 1956 г.».
Вопрос снят. На документе приписка: «В архив. 4. V. 1956 г.».
Поездка не состоялась.
Тем не менее «шаляпинский сюжет», видимо, остается в круге забот высокого начальства. Потому что уже в октябре того же 1956 года министр культуры СССР Н. А. Михайлов обращается за руководящими указаниями в ЦК КПСС:
«24 августа 1927 года на заседании Совета народных комиссаров РСФСР было принято Постановление о лишении Ф. И. Шаляпина звания народного артиста республики.
Это постановление в свое время было правильным и отражало мнение советской общественности, осудившей нелояльные поступки Ф. Шаляпина во время его гастролей в буржуазных странах.
Рост и укрепление Советского государства в годы социалистического строительства определили в дальнейшем изменения поведения отдельных русских писателей и музыкантов, в разное время и по разным обстоятельствам оставивших свою Родину. Это нашло некоторое отражение в их последующем творчестве и деятельности за рубежом, что позволило издать произведения И. Бунина, А. Куприна, композитора С. Рахманинова и других. Благодаря этому творчество выдающихся писателей и музыкантов, оказавшихся в эмиграции, вновь стало достоянием советского народа.
Ф. И. Шаляпин является неповторимым явлением в истории русского и мирового оперного театра, которым наш народ гордится по праву.
Министерство культуры СССР считает, что в настоящее время следует принять необходимые меры, для того, чтобы не только имя, но и все наследие Ф. И. Шаляпина вернуть нашей стране.
Прошу Ваших указаний.
Министр культуры СССР Н. Михайлов. 2 октября 1956 г.».Указания из ЦК КПСС последовали незамедлительно, на следующий день:
«Отдел культуры полагает, что дата шестидесятилетия первого выступления артиста в московских театрах не является юбилейной и заслуживающей всесоюзного празднования. Что касается восстановления посмертно звания Ф. Шаляпину, то было бы правильным рассмотреть этот вопрос, не связывая его решение с шестидесятилетием первого выступления Ф. Шаляпина в московских театрах.
Зав. Отделом культуры ЦК КПСС Д. Поликарпов, зав. Сектором отдела Б. Ярустовский. 3 октября 1956 года».Знакомство с документом подтвердили своими подписями члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС М. Суслов, А. Аристов, Е. Фурцева. Спустя два дня с документом ознакомился секретарь ЦК П. Н. Поспелов: «Полагаю, что нет оснований восстанавливать Ф. И. Шаляпину звание Народного артиста Республики. П. Поспелов. 5.Х.56 г.». Через четыре дня другой высокий чиновник ЦК Б. Рюриков начертал: «Тов. Михайлову Н. А. Сообщено 9.Х.56».
Бюрократический круг замкнулся. Но случилось нечто загадочное: несмотря на отрицательное отношение к празднованию шаляпинского юбилея, высказанное в документе от 3 октября, на следующий день, 4 октября, юбилейный спектакль в Большом театре все-таки состоялся. Видимо, сыграла свою роль какая-то чиновничья рассогласованность, столь характерная для отечественной бюрократии. Перед представлением «Ивана Сусанина» выступил генеральный секретарь Союза композиторов СССР Т. Н. Хренников и прозвучала «Дубинушка».
А меньше чем через год, 9 августа 1957-го, в нише плотно заселенного жильцами дома Шаляпина на Новинском бульваре установили мраморный бюст певца работы скульптора А. Елецкого и открыли мемориальную доску. Выступали живые свидетели триумфов артиста: театровед П. Марков, певец И. Козловский, режиссер Р. Симонов, итальянский гость — партнер Шаляпина Тито Скипа.
Когда-то Шаляпин писал: «Каждый раз, когда в Лондоне я с благоговением снимаю шляпу перед памятником Ирвингу, мне кажется, что в лице этого актера я кладу поклон всем актерам мира. Памятник актеру на площади! Это ведь такая редкость!»
В конце 1960-х годов возникло намерение создать двухсерийный фильм о Шаляпине. Идея родилась у Марка Донского, народного артиста СССР, признанного кинематографического мэтра. Когда-то начав свою служебную карьеру в следственных органах ЧК Украины, Донской вскоре переквалифицировался в кинорежиссера, его фильмы о Ленине, экранизация горьковской трилогии и повестей «Мать», «Фома Гордеев» имели зрительский успех. Сценарий о Шаляпине создавался совместно с драматургом и бардом Александром Галичем, первая часть дилогии называлась «Слава и жизнь», вторая — «Последнее целование». Интервью М. Донского в журнале «Советский экран» в начале 1968 года называлось «Шаляпин без легенд». Однако прохождение сценария через цензурное ведомство шло медленно и трудно: только 21 марта 1971 года газета «Советская культура» сообщила о предстоящем начале съемок. К тому времени сценарий уже вырос до масштабов трилогии и обрел новые названия: «Душа без маски», «Слава», «Маска и душа». Но тут возникли уже непреодолимые обстоятельства: «вызывающее поведение» поэта и барда А. Галича и последующая его вынужденная эмиграция поставили на фильме о Шаляпине крест. М. Донскому в утешение пожаловали вскоре звание Героя Социалистического Труда.
Миф неблагодарного «блудного сына», не успевшего покаяться и вернуться на родину, продолжает циркулировать в массовом сознании.
Федор Иванович, как хорошо известно, сам выбрал место своего упокоения на парижском кладбище Батиньоль. Здесь похоронены многие его друзья: художник Л. Бакст, семья А. Бенуа, композитор С. Ляпунов… Через 26 лет после кончины певца, в 1964 году, согласно совместной воле супругов, там же похоронили и Марию Валентиновну.
Но в 1980-х годах в умах почитателей певца, охваченных патриотической идеей духовного единения, возникла мысль перезахоронить его прах на родине. Перенесение праха с места на место, можно сказать, национальная традиция. Еще отважный европеец-путешественник по России XVIII века маркиз де Кюстин поражался: «В России и мертвые должны повиноваться причудам того, кто царит над живыми».
В 1982 году сын Шаляпина Федор Федорович обращается к советскому журналисту и писателю Юлиану Семенову с просьбой помочь ему вернуть в Россию портрет великого певца работы художника А. Головина, который в свое время был продан на Запад. Во время командировки в княжество Лихтенштейн Юлиан Семенов встретился с русским эмигрантом бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном и с Федором Федоровичем. Именно тогда они и поставили перед собой задачу — перенести на родину прах великого артиста.
Одним из участников этого замысла оказался и священнослужитель Борис Григорьевич Старк. В письме автору книги от 17 марта 1987 года — Старк к этому времени переселился из Парижа в Ярославль, где получил церковный приход, — он сообщал:
«…Мне пришлось принять участие в его (Шаляпина. — В. Д.) отпевании и погребении в 1938 году. Потом много лет я был одним из инициаторов переноса праха Ф. И. на русское кладбище Ст. Женевьев де Буа под Парижем, так как его могила на кладбище Батиньоль была запущена. Семья уехала в США… Но его вдова Мария Валентиновна ни за что не захотела этого делать. Позднее, уже вернувшись на Родину, я был одним из инициаторов его переноса в Москву и у меня хранятся письма и Ирины Федоровны, и И. С. Козловского, освещающие все трудности долголетних хлопот, пока все не увенчалось успехом. Слава Богу!»
Но вернемся к реальным исполнителям этого смелого проекта.
Встретившись с Федором Федоровичем Шаляпиным, Юлиан Семенов пламенно воскликнул:
«Шаляпина так ждут в России… Много у нас горестного, ужасного, сплошь и рядом происходит то, что и объяснить-то нельзя, но ведь память по Федору Ивановичу только дома надо хранить, где же еще?! Несчастные — по несчастному гению, лишенному родины…»
Вскоре сын певца обнародовал документ, свидетельствующий о его твердых намерениях:
«Я, Федор Федорович Шаляпин, ставший после кончины моего старшего брата, художника Бориса Федоровича Шаляпина, главой семьи Шаляпиных, даю мое согласие на перевоз гроба с прахом отца из Парижа на Родину.
Моя сестра, Татьяна Федоровна Чернова, урожденная Шаляпина, как мне известно из беседы с нею, также присоединяется к этому согласию.
Документ составлен в Вазуце, столице княжества Лихтенштейн, двадцать четвертого декабря тысяча девятьсот восемьдесят второго года в резиденции барона Эдуарда фон Фальц-Фейна, моего друга.
Свидетели подписания этого документа, барон Эдуард фон Фальц-Фейн и писатель Юлиан Семенов».
Далее предоставим слово Юлиану Семенову:
«…Вернувшись в Москву, я позвонил из Шереметьева в Министерство культуры.
— Победа! Семья Шаляпиных, отвергавшая ранее идею о перезахоронении Федора Ивановича, дала согласие на перевоз праха!
— А кто, собственно, позволит привозить в страну социализма прах антисоветчика, лишенного нашего гражданства?
— Талант не имеет гражданства, — заметил я, понимая, что говорю не то, и тем более не тому: передо мною вновь была столь знакомая нам из многовековой России ватная стена — куда страшней стены бетонной или железной…
— Странная позиция, — ответил незримый собеседник. — Она лишена самого понимания наших традиций — как вековечных, так и революционных…
Говорил я с человеком такого уровня, который не обойдешь; понял, что надежда осталась лишь на Андропова. Он тогда уже был секретарем ЦК, но городской телефон, который дал мне в шестьдесят седьмом году, только-только переехав на Лубянку (возглавлять Комитет государственной безопасности. — В. Д.), сохранил и на Старой площади».
В итоге последующих приятельских бесед писателя и секретаря ЦК КПСС принципиальное согласие на перенос праха Шаляпина было получено: некий начальственный голос по телефону сообщил Юлиану Семенову: «Юрий Владимирович просил продолжить работу по перезахоронению праха Шаляпина».
Оставались проблемы организационные. О них рассказывает сотрудник Музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки Р. В. Саркисян:
«Федор Федорович Шаляпин поручил эксгумацию специальной фирме, которая доставила гроб в специальном вагоне. Самолет должен был взлететь, и тут выяснилось, что вагон невозможно открыть. Пришлось бежать к начальнику станции, который разрешил взломать вагон с тем, чтобы гроб успели погрузить в самолет. Дети от разных жен ехали в разных отсеках. На поле встречать в Шереметьево никто не был допущен. „Детей“ провели в депутатскую комнату. Там они разместились тоже не вместе, а раздельно. Затем все отправились в гостиницу „Метрополь“. На следующий день в Большом театре была устроена панихида без единого слова. В фойе бельэтажа был установлен гроб. Рядом портрет. По обеим сторонам гроба стояли дети. Накануне работникам Министерства культуры строжайше было объявлено хранить в тайне все подробности. В Большом театре присутствовал замминистра культуры А. Иванов. На кладбище его не видели. В Большой театр пускали строго по билетам. На кладбище пускали всех. В Большом театре было все оцеплено молодыми людьми. На кладбище их тоже было много. После похорон Министерство культуры устраивало поминки в „Метрополе“.
На следующий день Федор и Татьяна поехали в Загорск, но к обедне опоздали. Однако панихиду все-таки отслужили. К ним были очень внимательны. И был устроен роскошный обед. Федору, впрочем, стало плохо…
Еще в аэропорту Федор, узнав, что будет в Большом театре, ругательски ругал Большой театр, говорил, что там разучились петь…
Федор и Татьяна посетили Музей Глинки, накануне там были Стелла и Марина. Марина рассказывала о Марии Валентиновне. У нее (Марии Валентиновны. — В. Д.) был очень хороший характер. Всегда умела вовремя смолчать, но умела и настоять на своем, сделать, как она хочет. На авеню Эйло у нее был пятиэтажный дом, который она сдавала (один этаж занимала семья). Марина уверяет, что она с мужем снимала у мамы квартиру. Потом Мария Валентиновна переехала в Италию (продав дом), но жила отдельно от детей».
…Траурный митинг на Новодевичьем кладбище состоялся 29 октября 1984 года. Его открыл первый секретарь правления Союза композиторов СССР Т. Хренников:
«Мы переживаем сейчас исторические минуты… Навсегда завершается путь скитаний, много лет назад выпавший на долю Шаляпина…» Выступавший поставил Шаляпина в один ряд с вернувшимися на родину в 1930-е годы композитором Сергеем Прокофьевым и писателем Александром Куприным. «Чувства сыновьего долга и творческих корней владели в последние годы жизни Рахманиновым и Стравинским, — подчеркнул оратор, — определили их патриотические поступки. Сегодня, после долгих лет разлуки, по доброй воле родных и близких с Отечеством своим соединяется Федор Иванович Шаляпин, соединяется, чтобы никогда больше не расставаться».
В эти же дни в Париже, на улице д’Эйло, состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски. У бывшего шаляпинского дома прошел митинг. Все родственники певца в Москве. Заместитель мэра шестнадцатого округа Парижа Ж. Месман отметил большой вклад Шаляпина в развитие традиционных культурных связей между Францией и Россией. С мемориальной доски спадает покрывало. Надпись гласит: «В этом доме жил и умер русский лирический певец Федор Шаляпин (1873–1938)».
Вскрытую могилу Шаляпина на кладбище Батиньоль привели в изначальный вид, ее, как и прежде, венчает темный мраморный крест. На новой могиле Шаляпина вместо креста — в вальяжной позе сам Шаляпин. Скульптурное изваяние, по замыслу его автора Алексея Елецкого, не предназначалось для надгробия, а оказалось здесь по воле сложившихся обстоятельств. Креста на могиле великого певца советская власть допустить, разумеется, не могла.
Но «процесс восстановления исторической справедливости» в отношении Шаляпина еще далеко не завершен. Из квартир артиста в Москве и Ленинграде выселяются жильцы — теперь в них открываются музеи. Однако что позволено в столицах, еще не принято в провинции. Когда в родной Казани в конце 1980-х годов задумали поставить памятник певцу, старые большевики, ветераны войны и труда дружно сплотились в патриотическом протесте, выступили в местной печати против увековечивания памяти «изменника Родины». Ветеран войны и труда В. К. Лапицкий в республиканской газете «Вечерняя Казань» гневно напоминал: «Советский народ отражал интервенцию, потом защищал страну от фашизма, а Шаляпин в это время (?! — В. Д.) развлекал офицеров-белогвардейцев и гестаповцев. Не должно быть этому прощения!» Ему вторил ветеран войны и труда М. Ш. Шарафутдинов: «Шаляпину не только памятник ставить, о нем и вспоминать не следует!»
Всё же сторонники возведения памятника — авторитетные литераторы, мастера искусств, общественные деятели — победили. Совет министров Татарии распоряжением от 25 февраля 1988 года объявил о начале работ по созданию памятника Ф. И. Шаляпину, и уже через два дня «Вечерняя Казань» поместила оптимистичную заметку «Помнят и любят»: «Сорок рублей собрали на памятник Шаляпину участники вечера, состоявшегося в Доме культуры им. Воровского».
Готовность переписать историю, безответственность и легкость, с которой плюс меняется на минус, а за сотворением кумиров неизбежно следует их низвержение и наоборот, всегда раздражали и угнетали Шаляпина. С горечью писал он о «том странном восторге, с которым русский человек развенчивает своих любимцев. Кажется, что ему доставляет сладострастное наслаждение унизить сегодня того самого человека, которого он только вчера возносил… Точно тяжело русскому человеку без внутренней досады признать заслугу, поклониться таланту… Почему это русская любовь так тиранически нетерпима?».
Понадобилось десятилетие, чтобы сменился государственный строй, ушли старые поколения, «общественное мнение» успокоилось и пришло к «консенсусу». 29 августа 1999 года в Казани у колокольни церкви Богоявления во внутреннем дворе отеля «Шаляпин-палас» открыли памятник Федору Ивановичу Шаляпину. Звучали восторженные речи, выступали вице-премьер российского правительства В. Матвиенко, внучка певца Ирина Борисовна…
В 1967 году фирма «Мелодия» выпустила первую серию пластинок Ф. И. Шаляпина, собрание произведений, напетых в 1901–1936 годах. На восьми пластинках представлен самый разнообразный репертуар певца. Журналист Том Емельянов в 1973 году подготовил цикл радиопередач о Шаляпине, вышло несколько книг о жизни и творчестве певца. В 1988 году журнал «Новый мир» миллионным тиражом в двух номерах публикует «крамольные главы». В 1989 году запрет с «Маски и души» снят — ее выпускают массовым тиражом сразу несколько центральных и периферийных издательств. Наконец, уже в условиях развернувшейся демократической перестройки 10 июня 1991 года Совет министров РСФСР решил: «Отменить Постановление Совнаркома РСФСР от 24 августа 1927 года „О лишении Ф. И. Шаляпина звания Народный артист“ как необоснованное».
Сам факт перезахоронения праха Ф. И. Шаляпина стал рискованным прецедентом. Тут же нашлись патриоты-энтузиасты, ратующие за перенесение останков отечественных деятелей культуры на родину — назывались имена И. А. Бунина, С. В. Рахманинова и многих других… Между тем и к истории с прахом Ф. И. Шаляпина отношение было разное. М. Ростропович опубликовал в Париже статью «Перевоз трупов», в которой резко осудил предпринятый акт как нарушение воли покойного (см.: Понфилли Р. де. Русские во Франции. Париж, 1990. С. 226, 227).
В 1989 году в газетах «Известия» (21 августа) и «Советская культура» (15 июля) обсуждается возможность переноса из США в СССР праха С. В. Рахманинова. Идея долго волновала воображение энтузиастов, пока уже в постсоветскую Россию не приехал внук композитора Александр Рахманинов и не дал газете «Московские новости» (1993. 28 февраля) исчерпывающий ответ.
— Некоторое время назад шла волна перезахоронения великих соотечественников. У вас не было мысли перевезти в Россию прах деда?
— У меня не было. Но меня все время атакуют по этому поводу. Мне звонил даже посол России из Вашингтона… То, что Рахманинов похоронен не в России, по-моему, подчеркивает международный характер этого музыканта. И вообще, когда человек скончался, нужно оставить его в покое.
ДЕТИ
К будущему дочерей и сыновей Шаляпин относился очень серьезно и взволнованно. Конечно, было бы странно, если бы в его семье искусство не стало главным увлечением детей, но вместе с тем Федор Иванович был убежден: художественный талант по наследству не передается и его развитие требует огромного повседневного труда. Дочери Ирине 14 января 1926 года Федор Иванович писал: «Признаться откровенно, я никогда не стоял за то, чтобы вы работали в театре, но мать этого очень хотела и, как ты заметила, весьма протежировала этому. А я был и есть такого мнения: „В Театре может быть (и то?) хорошо тому, кто имеет грандиозный, выходящий вон из рамок талант, — всё же другое обречено на унижения и страдания“ (курсив и кавычки Ф. И. Шаляпина. — В. Д.). Особенно, конечно, тяжело в театре женщине».
Лидия Федоровна Шаляпина (1901–1975) семнадцати лет пришла учиться в «шаляпинскую» студию. Решением Вс. Мейерхольда — он в ту пору руководил Театральным отделом Наркомпроса — студию назвали «Театр РСФСР-4». Мейерхольд-администратор решил начать упорядочение театрального дела с присвоения труппам порядковых номеров. Лидия училась актерскому мастерству у известных актеров мхатовской школы Л. М. Леонидова, О. В. Гзовской, А. П. Нелидова и других.
Летом 1918 года семья Шаляпиных жила на даче Н. Д. Телешова в подмосковной Малаховке, там же режиссер И. Н. Перестиани ставил кинофильм «Честное слово», Ирина и Лидия Шаляпины участвовали в съемках.
В 1921 году Лидия Шаляпина вышла замуж за Василия Антика и выехала за границу, в Берлин. Брак оказался непрочным, как считал Горький, из-за навязчивого вмешательства в жизнь молодых со стороны родителей Василия. В письме от 5 мая 1922 года Горький успокаивал Шаляпина: «Вероятно, Антики написали тебе о том, что Лидия ушла от них, и я уверен, что они оболгали ее. Они рассчитывали „сделать лицо“, спекульнув именем Шаляпина, эксплуатируя твою дочь, и Лидия поступила вполне разумно, что не позволила им этого. Трепать имя твое в предприятиях сомнительного характера — дело гадкое. За последнее время отношение молодого Антика к Лидии приняло характер пошлейшего издевательства… Разумеется, ей недешево досталась эта история, но ничего, она душевно здоровый человек. Не беспокойся о ней: в случае нужды какой-либо — она обратится ко мне».
Иосиф Дарский, публикатор книги Лидии Шаляпиной «Глазами дочери» (Нью-Йорк, 1997), приводит в предисловии фрагмент заметки из американского журнала «The Musical Leader» (апрель 1924 года): «Лидия Шаляпина, дочь выдающегося русского баса, выступила на концертной эстраде в Лондоне, и после концертов в Париже и Берлине предстоит ее встреча с отцом в Америке. Он надеется выступить с концертами в нашей стране».
Лидия увлекается концертной и сценической работой, участвует в спектаклях русского театра «Золотой петух», записывает на пластинки популярные песни той поры, выступает на эстрадах Парижа, Берлина, Рима. С помощью друга Ф. И. Шаляпина, известного импресарио Сола Юрока, Лидия Федоровна в 1930-х годах обосновалась в США. Там она открывает вокальную студию, преподает пение в Вестчестерской консерватории, выступает с сольными концертными программами.
В 1975 году Лидия Федоровна Шаляпина умерла. Спустя десять лет после ее кончины родственники обнаружили в архиве ее воспоминания. Сестра Татьяна Федоровна Шаляпина-Чернова передала их Иосифу Дарскому, он и издал в Нью-Йорке книгу Лидии Федоровны «Глазами дочери».
Борис Федорович Шаляпин (1904–1979) в детстве хотел быть певцом, но отец, рано распознав в сыне художественные наклонности, настоял на занятиях изобразительным искусством. С 1919 года Борис учился живописи у В. И. Шухаева в Петрограде, а с 1922-го — в Москве у А. Е. Архипова, Д. Н. Кардовского, в 1923 году поступил на скульптурное отделение Вхутемаса к С. Т. Конёнкову. С 1925 года Борис в Париже, в студии на Монмартре работает под руководством К. А. Коровина и Р. Н. Степанова.
Федор Иванович приобрел для сына студию и помог ему организовать в 1928 году в Театре Королевской оперы и Ковент-Гардене в Лондоне художественные выставки. В фойе театров, в холлах отелей во время гастролей Шаляпина экспонировались картины Бориса Федоровича: Ф. И. Шаляпин в ролях Бориса Годунова, Дон Кихота, Мельника, Галицкого, Дона Базилио.
Отец внимательно следил за профессиональным развитием сына. «Боря едва ли приедет нынче в деревню. Сейчас он поехал к Рахманинову писать его портрет и проживет у него на даче (под Парижем), наверное, с месяц. Потом он получил заказ от Титта Руффо написать его портрет в роли Гамлета и для этого должен будет ехать в Рим», — сообщает Федор Иванович Ирине 11 июля 1929 года. «Боря работает много, но, конечно, мог бы работать больше» — это из письма Ирине 12 июля 1931 года. Через год: «Боря работает весьма успешно». Отец рад: дела у сына пошли в гору. В 1934 году в Париже Б. Ф. Шаляпин награжден золотой медалью «за живопись в стиле ню».
Получив награду и приобретя популярность во Франции, Борис Федорович в 1935 году уезжает в Америку.
В Нью-Йорке в 1940–1941 годах Борис Федорович рисует артистов антрепризы Сола Юрока «Ballet Pusse Monte Carlo» и «Colonel de Basits Ballet Russe» — 40 портретов, в их числе балетные и театральные знаменитости: Джордж Баланчин, Антон Долин, Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Михаил Чехов, музыканты Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Сергей Кусевицкий, а также американский писатель Теодор Драйзер и другие.
С 1942 по 1970 год Борис Федорович Шаляпин — официальный иллюстратор еженедельного журнала «Time». За 30 лет сотрудничества художник выполнил для популярного массового издания более четырехсот обложек и своей энергичной деятельностью прочно вписался в американскую визуальную культуру. Как правило, в конце недели, обычно в пятницу, Б. Ф. Шаляпин получал заказ на обложку с портретом конкретного лица, ее надлежало оперативно представить в редакцию утром в понедельник. Среди известных персон, воспроизведенных Б. Ф. Шаляпиным в журнале, президент США Джон Кеннеди, его супруга Жаклин Кеннеди (1960), звезды экрана Мэрилин Монро (1956), Марлон Брандо (1952), музыкант Артур Рубинштейн (1966), королева Великобритании Елизавета II, принцесса Маргарет (1949), продюсер Оскар Хаммерштейн (1949), советские политические лидеры Андрей Громыко (1947), Иосиф Сталин (1953), Никита Хрущев (1961).
В апреле 1961 года Б. Ф. Шаляпин срочно воспроизвел с газетного снимка портрет космонавта Юрия Гагарина, и журнал «Time» одним из первых сообщил миру о сенсационном событии.
Не чурался Б. Ф. Шаляпин и сотрудничества с рекламным бизнесом — ему принадлежит множество броских плакатов: фирмы пишущих машинок «Ремингтон», известных банков, торговых домов и пр.
Творческие интересы Бориса Федоровича Шаляпина разнообразны, он создает живописные и скульптурные образы русских типов — купцов, бурлаков, цыган, народных бунтарей Пугачева, Разина, пишет пейзажи России, Франции, Швейцарии, Израиля, просторы американского Запада, оформляет декорации фильма «Дон Кихот» режиссера Г. Пабста, в котором заглавную роль играет Ф. И. Шаляпин.
В 1960 году художник побывал в Москве в порядке культурного обмена творческих делегаций США и СССР. В 1975 году в Доме дружбы с народами зарубежных стран открылась выставка Бориса Федоровича Шаляпина. Экспонировались картины: Рахманинов за роялем, портреты Сергея Прокофьева, Галины Улановой, Анри Труайя, Сергея Конёнкова. В 1977 году Борис Федорович выполнил карандашный рисунок солиста Большого театра И. С. Козловского. Московскому музею Ф. И. Шаляпина Борис Федорович передал сценические костюмы Бориса Годунова, Еремки, Кончака, Ивана Грозного, Олоферна, Демона. Художник предполагал осуществить в Москве еще одну большую выставку своих работ, но не успел: он умер в 1979 году. Спустя 30 лет, в июне 2009 года, Третьяковская галерея провела выставку «Американские художники в Российской империи», на которой были представлены и работы Бориса Федоровича.
…20 сентября 1905 года в Москве Валентин Серов в доме Шаляпиных рисовал портрет Иолы Игнатьевны. За чаем хозяйка пожаловалась, что неважно себя чувствует и должна уйти. Валентин Александрович схватил свой альбом и спешно ретировался, сказав, что до смерти боится подобных происшествий. Оно и случилось на следующее утро: в доме в 3-м Зачатьевском переулке появились на свет близнецы — Татьяна и Федор Шаляпины.
…В 1980–1990-х годах Федор и Татьяна после скитаний по миру обосновались в Риме, иногда бывали в Москве. Федор Федорович приехал по приглашению общества «Родина» в 1986 году, остановился в гостинице «Украина». Беспрестанно звонил телефон. «Одолевают журналисты, киношники, — сетовал Федор Федорович. — Я чувствую себя Хлестаковым. Ведь кто я, в сущности? Только сын знаменитого отца. Чем я могу быть интересен?»
В феврале 1991 года Федор Федорович прибыл в Москву не только в качестве сына Шаляпина, но и как артист: его пригласил на съемки режиссер А. С. Кончаловский, посчитавший, что никто лучше Шаляпина-младшего не сможет сыграть в его картине русского интеллигента 1930-х годов, но замысел не реализовался… За плечами 85-летнего артиста более семидесяти фильмов. Зрители разных поколений видели Ф. Ф. Шаляпина в роли Кашкина в фильме «По ком звонит колокол» (1943) по роману Э. Хемингуэя, в роли Хорхе де Бургаса в картине «Именем Розы» (1986) по роману Умберто Эко, в фильмах «Moonstruck» (1987), «Власть луны» (1987), «Собор» (1989), «Стенаг и Айрис» (1990). Одна из последних его работ — в картине «Ближний круг» (1991) о Советской России времен диктатуры Сталина. Снимался он и у Федерико Феллини в фильме «Рим» (1972). …Артисты разыгрывают сцену убийства Юлия Цезаря. В коротком эпизоде зритель видит усталого разгримировывающегося актера, исполнителя роли Цезаря. Он перекидывает через плечо длинный шарф, медленно закуривает сигарету. Это — Федор Федорович Шаляпин…
Федор Федорович — почетный член российского патриотического движения «Память». Когда его спрашивают о семье, он категорически отмежевывается от сводных братьев и сестер:
«Я буду говорить о законных, потому что у отца были еще три внебрачные дочери. Итак, первая и последняя жена Федора Ивановича, моя мама — итальянская балерина Иола Игнатьевна, которую Сергей Рахманинов называл Елочкой, — родила шестерых. Первый ребенок Игорь, умер в возрасте пяти лет. Потом пошли Ирина, Лидия… В 1904 году, к неописуемому восторгу отца, родился Борис, а на следующий год — я с Таней… Отец выехал в Париж со своим „незаконным“ семейством годом раньше, а потом и я, Борис и Ирина вместе с мамой отправились к нему…»
Киноактером Федор Федорович задумал стать еще в детстве, но освоил профессию далеко не сразу. У Федора Ивановича непоследовательность сына всегда вызывала тревогу. 14 августа он писал Ирине:
«Федьку отправляю учиться в агрикультурную школу. Жаль, мальчишка болтается без дела. Он парнишка хороший, добрый и сердечный, тоже неглупый, но российский мечтатель со многими идеями в голове, но с малой и даже ничтожной энергией насчет работы». Недовольство, раздражение и тревога прослушиваются и в письме Ирине из Нью-Йорка 3 мая 1926 года: «Ты, конечно, знаешь, что Борька в Париже, устроился (так сказать) у себя — нанял мастерскую и работает. Лида где-то в Скандинавии или в Фландрии — не знаю наверное. Танька играет в Риме, а Федька только недели две назад уехал в Лос-Анжелос, в Калифорнию, чтобы попробовать счастья в синема. Но по беспечности своей и по крайнему дурству с неделю назад слетел где-то с лестницы и порвал себе на ноге связки, да еще как — говорят, повредил и кость — вот теперь лежит в гипсе и успокаивает меня письменно, что все, мол, пройдет через три-четыре дня!!! Свинство!!»
Конечно, Федор Иванович жалеет детей и, разумеется, помогает им устроиться в жизни.
«От Федьки получил недавно письмо, — сообщает он Ирине из Австралии 29 августа 1926 года. — Тяжело ему — не может добиться попасть на работу в кинема… Н-да! Это не так легко, как кажется. Ну что ж, подождем, посмотрим. От Бори не имею писем. Он вообще ленивый парень, а уж насчет писем еще ленивее меня. Лида, кажется, в Париже. Тоже из театра ничего не выходит».
В то же время самих детей Шаляпина подчас тяготит зависимость от отцовской популярности и славы, хотя, конечно, она и открывала им многие двери «в мир искусства».
«Недавно получил письмо от Федора из Канады (?), — сообщает Федор Иванович Ирине 27 октября 1927 года и удивленно ставит большой вопросительный знак. — Пишет: „Папа, не беспокойся обо мне. Не сообщаю тебе моего адреса и не сообщу до тех пор, пока не устрою своих всех дел и не встану прочно на ноги“. Ну что ж?»
В Берлине летом 1929 года Федор Иванович встречается с сыном, который пристроился сниматься в малоизвестную кинофирму. «Он странный мечтатель, — размышляет отец, — но очень хороший, порядочный мальчишка. Если буду делать фильм — возьму его работать и посмотрю сам, на что он способен». Так и случилось на съемках «Дон Кихота». «Федька один из директоров фильма, — сообщает Федор Иванович Ирине и тут же огорченно добавляет: — Но… малый не так далек, как надо бы…»
В последующие годы Федор Федорович Шаляпин снимался в США, Германии, Италии, знаменитым, однако, не стал: в основном его занимали в эпизодических и второстепенных ролях.
В 1959 году Федор Федорович приобрел квартиру в Риме.
— Вас не тянет в Россию навсегда? — спрашивает московский журналист.
— Видите ли, с годами чувства притупляются. И для меня сейчас все равно где жить: в Риме, Москве, Нью-Йорке. Ведь я жил всюду, и душа моя стала интернациональной. Мой дом — весь мир.
— Что ж, вольному воля… — растерянно откликается разочарованный интервьюер; видимо, он ждал иного ответа, более «патриотичного»…
Федор Федорович передал много дорогих реликвий шаляпинскому дому в Москве, картины Серова и Коровина. Оружейной палате он завещал кольцо с бриллиантом, подаренное отцу императором Николаем II. Умер Федор Федорович Шаляпин в Риме. Корреспондент «Известий» М. Ильинский сообщал 22 сентября:
«Похоронили его скромно и тихо 21 сентября 1992 года у „первых ворот“ Рима с надеждой на перезахоронение в России. Но это, — печально сетует журналист, — как показывает практика, не так просто сделать». Еще бы… Впрочем, какие-либо собственные пожелания Федора Федоровича остались неведомы, кроме того, что в конце жизни он, как и отец, уверенно причислял себя к «гражданам мира».
В феврале 1993 года в Москве скончалась Татьяна Федоровна Шаляпина-Чернова.
В молодые годы Татьяна выступала в Париже в русской труппе Татьяны Павловой, вышла замуж за журналиста Эрметте Либерати, обозревателя художественной жизни в газетах «Моменто сера» и «Тровазо». Эрметте знал европейские языки, сочинял популярные песни, писал статьи и книги по искусству. Федору Ивановичу новый родственник был явно симпатичен, он брал веселого и ловкого итальянца в длительные гастроли в качестве секретаря-порученца и просто обаятельного собеседника.
Из Парижа в мае 1929 года Федор Иванович сообщает Ирине в Москву о домашних новостях и грядущих событиях:
«Получил я твои три письма третьего дня. Читали их совместно Лида, Таня, Борька и я. Радовались твоим успехам. Дай Бог! Мы все, слава богам, живем хорошо и здоровы. Борька работает довольно много. Таня все беременеет и беременеет. Скоро, кажется, будет родить… Таня, конечно, ждет с нетерпением маму. Конечно, если мама приедет, то Таня будет в сто раз спокойней, и родить ей будет, конечно, легче».
В 1930 году Шаляпин писал из Буэнос-Айреса: «У Таньки родилась чудная девица, зовут Лидкой и уже делает ручкой и орет тау (что означает Ciao!). Младшего сына назвали Франко».
13 марта 1938 года Татьяна навестила больного отца за месяц до его кончины.
«Милая Арина! — сообщает Федор Иванович в Москву семейные новости. — Это Таня под диктовку пишет тебе это письмо. Она случайно, проездом в Рим, приехала три дня тому назад и живет у меня пока… Марфушка приезжала в Париж, но Маринка увлекла ее в Рим, и она теперь рассматривает старинные памятники. Таня тоже скоро уезжает туда же, и я останусь пока только с Даськой. Все тебе любовно кланяются, а я тебя крепко целую».
Дети, да и то не все, соберутся теперь вместе на похоронах отца…
Во время войны Татьяна Федоровна жила в Европе, ее второй муж, немец-антифашист Н. Коннер, в годы оккупации заступился за еврея, был арестован и убит нацистами. Татьяна Федоровна уехала в США, в Нью-Йорк, некоторое время работала в Вашингтоне, в русском отделе радиостанции «Голос Америки». В Нью-Йорке вместе с третьим мужем, мелким коммерсантом Минасом Черновым, Татьяна открыла кондитерскую и магазин европейской еды. Овдовев в конце 1980-х годов, Татьяна Федоровна переехала в Стретфорд Стринг (Коннектикут) — здесь жили сын Франко (Федор) с семьей, внуки Гарри и Александр.
В 1988 году Татьяна Федоровна приехала в Москву на открытие Музея Шаляпина на Новинском бульваре, передала в дар ценные архивные материалы и вещи отца. Ее сопровождали внучка Федора Ивановича Ирина Борисовна и невестка — Хельча Осиповна Шаляпина, вторая жена Б. Ф. Шаляпина.
В 1993 году Татьяна Федоровна, больная, в инвалидном кресле, участвовала в праздновании 120-летия со дня рождения Ф. И. Шаляпина: зал Большого театра приветствовал мужественную женщину. Трудную поездку Татьяна Федоровна не пережила, в Москве она умерла, похоронили ее на Новодевичьем кладбище, рядом с отцом.
Дочь Татьяны Федоровны Лидия Либерати, внучка Федора Ивановича, родилась в Париже, ее крестили в соборе Парижской Богоматери, на крестинах присутствовал Шаляпин. Родители рано разошлись, мать уехала из Италии, дети — Лидия и младший брат Франко — остались с отцом. Только в 1970-х годах, когда Татьяна Федоровна вернулась из США в Рим, дети сблизились с матерью.
Лидия с любовью вспоминает о приезде из России в Милан своей бабушки Иолы Игнатьевны Торнаги: «…она называла нас с братом „мои дорогие мышата“. Когда бабушка в 1960 году окончательно переехала в Италию, ей было 87 лет, она тяжело болела и никого не узнавала».
В зрелые годы Франко Либерати стал врачом-кардиологом, Лидия Либерати служила фармацевтом и преподавала в школе математику.
В Россию Лидия Либерати впервые приезжала в 1990 году как туристка, потом много раз бывала в Москве, в Петербурге, ездила на Соловки. Она хотела встретиться с директором Кремлевского музея Е. Гагариной, узнать о судьбе переданных в фонд музея часов императора Николая II, подаренных отцу в 1903 году, но не была ею принята.
Лидию не раз приглашали на шаляпинские торжества. «Особенно мне запомнилось пребывание в Крыму вместе с Жоржем Соловьевым, внуком О. М. Соловьевой, у которой в 1916 году снимала дом семья Шаляпиных. На этом месте теперь располагается пионерский лагерь „Артек“. На скале, которая носит имя Пушкина, Шаляпин хотел построить замок искусств для молодых артистов, музыкантов, художников. Теперь установлена мемориальная доска с его словами: „Были замки у королей, рыцарей. Отчего не быть замку у артистов?“ Я была поражена тем, как ко мне отнеслись русские. Они обнимали и целовали меня, как будто я была их родственницей, некоторые просили оставить автограф прямо на паспорте, все хотели подарить мне что-нибудь. Имя Шаляпина до сих пор оказывает в России магическое действие».
Марфа Федоровна Шаляпина (дочь от Марии Валентиновны) — по первому мужу Гарднер де Нортон, по второму — Хандсон-Дэвис (1910–2003).
Ф. И. Шаляпин писал Горькому из Будапешта 12 декабря 1928 года:
«Спасибо тебе за поздравление — выдал еще одну дочуру замуж (Марфу. — В. Д). Хорошая она у меня была, и жаль мне, что ушла из дома». А спустя полтора года по пути в Южную Америку, в Буэнос-Айрес, в театр «Колон», Ф. И. Шаляпин сообщал Ирине: «Даська уже большая и начинает „острить“ — беру ее и Маринку с собой, благо за проезд платит дирекция театра. Едет со мной также и Эрметте — он славный парнишка, и мне очень полюбился. Танюша чувствует себя хорошо, и бебешка у нее превосходная. Боря работает много и несколько перестал лениться. Федька тоже работает в фильмовом деле. Лида живет все в том же положении. На днях у Марфы родится дите, да и у Борьки тоже скоро. Разрастаемся… плодимся… к хорошему ли, к плохому ли — кто знает».
Из Буэнос-Айреса Шаляпин писал Ирине 15 августа 1930 года:
«У Марфуньки 20 июня тоже родилась дочь Наташка и тоже, говорят, прелестное существо, а на днях родилась дочь у Борьки (имя еще не знаю). Одним словом, я дед, и еще под знаком „кругом шестнадцать!“, как говорит народ. Вот так изуродовали дочери и сыновья. Ну, я рад всему этому несказанно. Я так обожаю разных малышей, что от радости их иметь, видеть и мять им попохи готов петь петухом… Успех имею здесь исключительный, что, конечно, приятно. Со мной здесь Даська, Маринка и Эрметте. Мария, конечно, тоже. И несмотря на фамильный образ жизни, — все же скучаем здорово… Радуюсь, что ты все же работаешь».
Марфа Федоровна приезжала в Россию из Англии. На церемонии перезахоронения отца она познакомилась с Галиной Сергеевной Улановой и подружилась с ней. У Марфы Федоровны более десятка внуков (точнее она не помнит!) и восемь правнуков. Дочь Катя — Кэти Гарднер — внучка Ф. И. Шаляпина, врач и политическая деятельница, баллотировалась в Ливерпуле на парламентских выборах от коммунистов. Она училась в Коста-Рике, работает в «Университете мира». Марфа Федоровна умерла в Ливерпуле в 2003 году.
Марина Федоровна Шаляпина-Фредци (1912–2009), дочь Ф. И. Шаляпина и Марии Валентиновны, с девяти лет училась в балетных классах у бывшей примы Мариинского театра Матильды Кшесинской и Любови Егоровой. В Париже увлеклась дизайном и архитектурой. В 1931 году друзья Ф. И. Шаляпина И. А. Бунин, К. А. Коровин и А. И. Куприн уговорили восемнадцатилетнюю Марину выступить на конкурсе красоты в Париже. «Красивых женщин много, — напутствовал ее Бунин, — но прелестных своей милостью, как Марина, — очень мало!» На ежегодном конкурсе красоты среди русских девушек Марине присудили звание «Мисс Россия». Шаляпин отнесся к этому с веселой иронией.
В конце 1930-х годов Марина в Италии вышла замуж за Луиджи Фредди (1895–1977) — генерального директора кинематографического департамента Италии. Луиджи был близок с Муссолини и после крушения фашистского режима и казни дуче его арестовали, но по просьбе католических кардиналов вскоре освободили. Луиджи Фредди протежировал Федору Федоровичу Шаляпину, продюсировал фильмы, в которых снималась Марина: «Только для тебя, Лучия», «Старые времена», «Ничьи дети», помогал ей в экранизации балетов, в ту пору весьма популярного кинозрелища.
В течение семи лет Марина Федоровна служила в морском флоте Италии помощником капитана туристского лайнера по организации досуга пассажиров, знала пять иностранных языков. Последние годы жила в окрестностях Рима. Умерла в 2009 году.
Дочь Марины Анжела Фредди-Монтефорте, внучка Ф. И. Шаляпина, занимается коммерческой деятельностью, живет в Риме. Вместе с матерью она приезжала на церемонию перезахоронения праха Шаляпина в 1984 году. В качестве почетных гостей обе присутствовали на 3-м фестивале современного оперного искусства памяти Ф. И. Шаляпина в Крыму, в Судаке. Правнучка Федора Ивановича Наташа Фиерфильд живет в Стокгольме, бывала в России, посещала московский и петербургский музеи-квартиры Шаляпина.
Дасия (Дарья) Федоровна Шаляпина, в первом браке Робертсон, во втором — Шувалова (1921–1977), — младшая и самая любимая дочь Федора Ивановича. О Дасии отец с восторженным волнением постоянно сообщает всем своим корреспондентам — детям Ирине, Борису, Федору, С. В. Рахманинову, М. Горькому. На гастроли в Австралию в 1926 году певец отправляется с семьей. 29 августа он пишет Ирине Федоровне в Москву:
«Ты, наверное, знаешь, что я забрал с собой массу народу. Марфа, Марина, Стелла и маленькая Дасия здесь со мной. Я так долго живу совершенно один в Америке, что не хотелось терять мне вместе с летом и компанию девчонок. Маленькая доставляет мне столько радости, что и Австралия далекая кажется милой. Очень уж смешна и забавна эта самая Даська. Теперь танцует чарльстон (слыхали вы об этом танце?), умереть со смеху». Письмо Ирине из де Люз 11 июля 1929 года: «Даська по горло занята с собаками… Выросла она здорово. Нынче ей будет уже восемь лет… Играет на фортепиано, и это, нужно отдать справедливость, у ней выходит недурно…»
Письмо Ирине из Парижа 27 июня 1932 года:
«Конечно, если ты приедешь, это будет превосходно. К твоим услугам будет С. Ж. де Люсская дача, вся почти целиком. Ибо там будут нынче летом жить только Дася и Стелла… Даська стала большая, ей 10 лет. Уже играет Баха, Бетховена, Грига, Шопена и проч., а мне аккомпанирует иногда „Я не сержусь“ Шумана. Думаю, что способна и умна девица. Люблю ее, конечно, как всегда — весьма!»
Довольно примечательной представляется приписка к письму из Парижа 20 января 1934 года: «Р. S. Даська объявила: „Через четыре года (ей сейчас 12) выходит замуж за еврея“. Должно быть, протест против Гитлера». Отношение в семье к нарастающему в Европе фашизму достаточно красноречиво проявляется даже на уровне детских впечатлений.
Озабоченность судьбой младшей дочери Федор Иванович не скрывает. Он пишет Ирине из Парижа 7 января 1938 года:
«Ну конечно, Дася плохо и даже невозможно пишет и читает по-русски. Этот язык, к сожалению, она еще и не учила. Где же? Нужно было знать английский, а теперь французская школа. Потом сейчас увлечение испанцами. Достала кастаньеты, поет с гитарой и танцует. Конечно, русский язык учить некогда. Испанский сейчас затмевает все — что поделать с милой дурищей? Однако, конечно, скоро начнет учить русский, а так как девица очень способная, так я и не беспокоюсь… А учится она хорошо. Девка способная и талантливая».
Первый муж Дасии Федоровны — Джой Лов Робертсон. Их сын Хью Робертсон — музыкант, композитор. Второй муж — граф Петр Петрович Шувалов (1905–1978). Их дочь, Александра Петровна Шувалова, родилась 3 марта 1953 года.
Булат Окуджава в очерке «Письмо Шаляпина» рассказывал о своем увлечении певцом с юных лет, о написанном киносценарии о жизни Шаляпина, отвергнутом «Ленфильмом». В 1967 году Дасия побывала на концерте Б. Окуджавы в Париже в зале «Мютюалите», а через два года через искусствоведа И. С. Зильберштейна передала Окуджаве письмо и открытку с рисунками Шаляпина.
Дасия категорически возражала против переноса праха Шаляпина в Москву, и потому начатые инициаторами этого мероприятия переговоры возобновились только после ее кончины в 1977 году.
Дасия Познер, правнучка Ф. И. Шаляпина, внучатая племянница Бориса Федоровича, родилась в Париже, обучалась в балетном коллеже, затем приехала в Россию и училась в Школе-студии МХАТ, увлеклась режиссурой, потом театроведением. После защиты диссертации стажировалась в Центре русской и евразийской культуры при Гарвардском университете, работала переводчицей в Летней школе Станиславского в Кембридже. Дасия Познер — автор публикаций по истории русского и европейского театра, режиссуры и драматургии, преподавала в университете Коннектикута, заведовала литературной частью «Репертуарного театра», последние годы живет в Чикаго.
Живя в Париже, семья Федора Ивановича Шаляпина поддерживала добрые отношения с семьей Терезы Валентиновны Ушковой, сестры Марии Валентиновны. Первым мужем Терезы был богатый казанский купец Михайлов. Брак не был счастливым. Если верить семейной легенде, Константин Капитонович Ушков, будущий второй муж Терезы, выкупил у Михайлова Терезу за его разрешение на развод. Впоследствии Константин Капитонович обосновался в Москве, владел крупной чайной фирмой, состоял одним из директоров правления Филармонического общества. В его доме собирались артисты, художники, музыканты, бывали Шаляпин, Рахманинов, Кусевицкий. Мария Валентиновна после смерти мужа Эдуарда Петцольда в 1904 году переехала из Казани в Москву. На одном из музыкальных вечеров она и познакомилась с Федором Ивановичем Шаляпиным.
К. К. Ушков, человек широкий и гостеприимный, принимал московских и петербургских друзей в своих имениях на озере Туусула в Финляндии, в Крыму, в Форосе. Летом 1916 года там жил Горький, и вместе с Шаляпиным они сочиняли первую биографическую книгу певца «Страницы из моей жизни».
В 1918 году К. К. Ушков умер, а в 1921 году Тереза Валентиновна Ушкова с дочерью Еленой и своим третьим мужем юристом Дмитрием Васильевичем Печориным эмигрировала в Париж. Здесь Д. В. Печорин успешно занимался юридической практикой. Семьи Шаляпиных и Печориных дружили. В 1930 году Д. В. Печорин взял на себя защиту интересов Шаляпина в деле публикации «Страниц из моей жизни» в обновленном варианте.
Тереза Валентиновна была старше своей сестры, она умерла в 1931 году и похоронена на кладбище Батиньоль, на участке, приобретенном Шаляпиным для семейного захоронения.
Последние 13 лет Шаляпин прожил на улице д’Эйло. Он приобрел дом в 1925 году в подарок Марии Валентиновне. Семья занимала последний пятый этаж, остальные апартаменты сдавались внаем.
После смерти Федора Ивановича Мария Валентиновна вместе с дочерью Дасией уехала в Америку и вернулась в Париж уже после войны. Теперь она жила со своей подругой Кариной Карловной Зверинцевой. Однако содержать дом в надлежащем порядке оказалось ей обременительно; в начале 1960-х годов Мария Валентиновна продала его и поселилась в Риме, вблизи от дочери Марины Шаляпиной-Фредди.
В 1964 году Мария Валентиновна умерла, ее похоронили в Париже на кладбище Батиньоль рядом с Федором Ивановичем.
ВЕЛИКИЙ ПРАВДОЛЮБЕЦ
Где я? В русском театре?
Чтобы петь, надо дышать, а нет дыхания…
Ф. И. ШаляпинА. И. Герцен как-то сказал о русском актере М. С. Щепкине: он первым стал нетеатральным на театре. Спустя десятилетия К. С. Станиславский заметил: «Был Щепкин. Создал русскую школу, которой мы считаем себя продолжателями. Явился Шаляпин. Он тот же Щепкин, законодатель в оперном деле».
Федор Иванович Шаляпин стал художественным символом эпохи. Восприимчивая натура артиста вобрала в себя глубинный смысл художественных открытий во всех областях искусства. Его сценические образы несли в себе поистине шекспировскую мощь, и современники неслучайно связывали его с титанами Микеланджело. Многогранность великого артиста, его талантливость в различных областях искусства напоминали о людях эпохи Возрождения и великих его предшественниках. «Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый — Толстой», — писал Шаляпину Горький и добавлял: «В русском искусстве Шаляпин — эпоха как Пушкин». А композитор и музыковед Б. Асафьев называл певца «художником типа Гёте».
Да и сам Шаляпин не преуменьшал своей значимости в искусстве. В письме Ирине от 12 июля 1931 года артист выражает недовольство лондонской критикой:
«Они толкуют об игре, о пении, но, не будучи специалистами, не знают, что значит „отношения“ красок, то есть никаких „вздохов“ от света к тени и наоборот. Идя к концу моей карьеры, я начинаю думать (прости, что нескромно, и оставь между нами), что в моем искусстве я „РЕМБРАНДТ“. Никто и ничто кругом меня это не понимает, но многие начинают чувствовать, что тут есть что-то такое, что непохоже ни на прошлое театра (в опере, конечно!), ни на настоящее, а многие думают, что и в будущем это вопрос долгих десятков, а может быть, и сотен лет».
Имя Шаляпина стало нарицательным. Когда в 1927 году в «матче века» Александр Алёхин выиграл у великого шахматиста X. Р. Касабланки первенство мира, тот с удивлением воскликнул: «Господа! Я думаю, Алёхин — Шаляпин шахмат!» Другую, более весомую и яркую образную метафору гроссмейстеру подобрать было трудно. Как и Станиславскому, который, восхищаясь работами театральной художницы Н. П. Ламановой, восторженно восклицал: «Это второй Шаляпин в своем деле! Талант! Самородок!»
Понятия правды жизни и правды искусства для Шаляпина чрезвычайно близки, неразрывны. Жизненная правда — это непременная основа правды художественной, несущей в себе неотразимую силу образности, сценического обобщения, это главный постулат творчества.
«Никакая работа не может быть плодотворной, если в ее основе не лежит какой-либо идеальный принцип, — утверждал Шаляпин. — В основу моей работы над собою я положил борьбу с этими мамонтовскими „кукишками“ — с пустым блеском, заменяющим внутреннюю яркость, с надуманной сложностью, убивающей прекрасную простоту, с ходульной эффектностью, уродующей величие…
Можно по-разному понимать, что такое красота. Каждый может иметь на этот счет свое особое мнение. Но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя. Она очевидна и осязаема. Двух правд не бывает. Единственно правильным путем к красоте я поэтому избрал для себя правду».
Вс. Э. Мейерхольд, к театральным исканиям которого Шаляпин относился с настороженностью, тем не менее очень точно и глубоко определил природу шаляпинского понимания сценической правды:
«Он сумел удержаться как бы на гребне крыши с двумя уклонами, не падая ни в сторону уклона натурализма, ни в сторону уклона той оперной условности, которая пришла к нам из Италии XVIII века, когда для певца важно было в совершенстве показать искусство производить рулады, когда отсутствовала всякая связь между либретто и музыкой. В игре Шаляпина всегда правда, но не жизненная, а театральная правда. Она всегда приподнята над жизнью — это несколько разукрашенная правда искусства».
Огромный талант и высочайшее мастерство позволили Шаляпину стать артистом поистине синтетическим, обусловили его исключительную требовательность к художественному ансамблю в самом широком смысле этого понятия. Он представлял спектакль в художественной целостности и того же требовал от декораторов, балетмейстеров, режиссеров, дирижеров, артистов, костюмеров, осветителей, монтировщиков сцены. «Настоящий театр не только индивидуальное творчество, а и коллективное действие, требующее полной гармонии всех частей, — убежден Шаляпин. — Ведь для того, чтобы в опере Римского-Корсакова был до совершенства хороший Сальери, нужен до совершенства хороший партнер — Моцарт. Нельзя же считать хорошим спектаклем такой, в котором, скажем, превосходный Санчо Панса и убогий Дон Кихот». Но достичь желаемого ансамбля в реальности Шаляпину крайне трудно, если не недостижимо, ибо равных Шаляпину партнеров в отечественном и мировом театре практически не было.
Шаляпина раздражали как натуралистические, так и модернистские ухищрения на сцене. Искатель нового, он верил в животворную силу развивающихся традиций. «Я не представляю себе, — писал Шаляпин, — что в поэзии, например, может всецело одряхлеть традиция Пушкина, в живописи — традиция итальянского Ренессанса и Рембрандта, в музыке — традиция Баха, Моцарта и Бетховена. И уж никак не могу вообразить и признать, чтобы в театральном искусстве могла когда-нибудь одряхлеть та бессмертная традиция, которая в фокусе сцены ставит живую личность актера, душу актера и богоподобное слово. Между тем, к великому несчастью театра и театральной молодежи, поколеблена именно эта священная сценическая традиция. Поколеблена она людьми, которые силятся во что бы то ни стало придумать что-то новое, хотя бы для этого пришлось насиловать природу театра… Мусоргский — великий новатор, но никогда не был насильником. Станиславский, обновляя театральные представления, никуда не ушел от человеческого чувства и никогда не думал что-нибудь делать насильно только для того, чтобы быть новатором».
С тревогой размышлял Шаляпин о судьбе русской песни: «Народ, который страдал в темных глубинах жизни, пел страдальческие и до отчаяния веселые песни. Что случилось с ним, что он песни эти забыл и запел частушку, эту удручающую, эту невыносимую и бездарную пошлость? Уж не фабрика ли тут виновата? (Шаляпин имел в виду нашествие элементов городского быта и моды на массовую культурную продукцию. — В. Д.) Этого объяснить не берусь. Знаю только, что эта частушка — не песня, а сорока, и даже не натуральная, а похабно озорником раскрашенная».
Это написано 80 лет назад, но сегодня, в пору тотального информационного бума, когда воздействие стереотипов и шаблонов массовой культуры многократно возросло, тревога Шаляпина звучит актуально. Разве мы не знаем о вымирании вековечных культурных промыслов и традиций, об утере культуры пения в деревне и разрушающего воздействия модных атрибутов массовой культуры, влекущего за собой вымывание и исчезновение многих музыкальных и обрядовых традиций?
Когда-то Вл. И. Немирович-Данченко обмолвился: «Про Шаляпина кто-то сказал: когда Бог создавал его, то был в особенно хорошем настроении, создавая на радость всем».
Творческая свобода и независимость Шаляпина выражались в самых разных и подчас непредсказуемых художественных импровизациях. Шаляпин расширял, обогащал, преобразовывал окружающую жизнь вдохновением, настроением, жизнелюбием, правдой чувства, брызжущим талантом, веселым озорством. Природная радость бытия, свобода духовного порыва, самовыражения, интерес к жизни проявлялись по-разному.
Существует множество воспоминаний очевидцев о том, как Шаляпин легко театрализовывал любую житейскую ситуацию, превращая ее в увлекательное представление. Путешествуя с Коровиным по Волге, он колоритно изображал богатого купца, торговца дровами, и пассажирам парохода оставалось только удивляться поразительному внешнему сходству мрачного купца с известным артистом.
Мемуаристы рассказывают, как в 1931 году, решив развлечь своих спутников, Федор Иванович разыграл на парижской улице целый спектакль. Войдя в сговор с неудачливым уличным слепым певцом-гитаристом, Шаляпин решил помочь ему обогатиться.
«Шаляпин… вдруг выдернул одну руку из рукава своего пальто, сделав этим себя одноруким, и, сняв с головы кепку, опустил гривой на лоб волосы, надел на глаза солнечные очки, стал, пригнувшись, рядом со слепым и говорит:
— Начинайте!..
Люди, слушая слепых, приходили в изумление от их голосов и пения, не подозревая здесь Шаляпина. В кепку и шляпу посыпались мелкие монеты. Один француз, которому, как видно, очень понравилось пение, подходит к слепым и опускает пятифранковый билет сперва в шляпу, а потом перекладывает его в кепку, видя в Шаляпине более несчастного…
Поют. Поют еще лучше. Посыпались уже не только монеты, но и кредитки. Шаляпин взял, как видно, себе на память пятифранковый билет, взамен его в руку слепого сунул свой стофранковый. Потом, пересыпав в шляпу из своей кепки деньги, что-то слепому сказал и подал на прощанье руку. Слепой вцепился в руку Шаляпина, не отпускает его и все что-то взволнованно говорит. Шаляпин, съежившись от сильного рукопожатия, говорит слепому:
— Извини, коллега! Никак не могу. Очень занят, очень спешу.
И с силой вытягивает руку.
Громко рассмеявшись, подходит к своим спутникам, говоря:
— Перемял все косточки, не хотел отпустить, умолял работать вместе. Так что, — продолжил Шаляпин, — выгонят из оперы, не пропаду».
В 1901 году Шаляпин выступил в Милане на сцене театра «Ла Скала» в опере А. Бойто «Мефистофель». Триумфальный успех знаменовал выход русского артиста в европейское, а вскоре и мировое культурное пространство. Федор Иванович вошел в ряд знаменитых тогда оперных гастролеров, мировых звезд, таких как Маттиа Баттистини, Анджело Мазини, Мария Зембрих, Мария Гай, и вскоре опередил их в своей артистической славе. Россия стала Шаляпину тесна, и, чтобы сохранить его в труппе Большого и Мариинского театров, директору императорских театров В. А. Теляковскому оставалось только подстраиваться под насыщенный выступлениями гастрольный календарь певца. Для Шаляпина перестали существовать территориальные границы, он легко преодолевал культурные барьеры, утверждая своим творчеством национальную культуру, доказывая, что подлинный талант принадлежит не только своей стране, а всему миру, времени, эпохе.
Триумфальные гастроли Шаляпина прервала Первая мировая война, потом — большевистский переворот в России. Но очевидно: Шаляпин утвердил безусловное право Художника на свободу творчества, поставил его выше идеологии и национальной ограниченности, открыл дорогу отечественной культуре в современный мир. В 1920-х годах в мировой культуре утверждали себя Рахманинов, Дягилев, Анна Павлова, Михаил Чехов, Александр Вертинский, Владимир Горовиц и другие. Судьбы их складывались по-разному, ради освобождения от личностного и творческого закабаления они часто обрекали себя на скитальчество, бесприютность, нищету, но сохраняли достоинство Художника.
Шаляпин не мог принять жизненных стандартов Советской России. Трудно представить, как «вписался» бы артист в реальность 1930-х годов, если бы вдруг последовал совету Горького, Сталина и Ворошилова переселиться в СССР. Вполне вероятно, что его, как Горького и Алексея Толстого, поначалу облагодетельствовали бы апартаментами, дачами, машинами, званиями. Но как можно согласовать его творчество, скажем, с концепцией В. Маяковского, программно изложенной им по возвращении из заграничного путешествия в 1926 году, кстати, тогда же написавшего известное «Письмо Горькому»: «С моей точки зрения, лучшим поэтическим произведением будет то, которое написано по социальному заказу Коминтерна, имеющее целевую установку на победу пролетариата…»
В самом деле, как бы воспринял Шаляпин обязательные к исполнению разного рода руководящие «идеологические указания» 1920–1930-х годов? Если Маяковский и Горький сознательно шли навстречу «аппарату» и упаковывали свое творчество в смирительную рубашку циркуляров и постановлений ЦК ВКП(б), то Шаляпин такие «повороты событий» и аппаратные игры не мог бы принять ни при каких условиях.
Природная проницательность художника, жизненный опыт, высокое нравственное чувство помогали артисту ориентироваться в жизни глубже и тоньше, чем иным мыслителям и политикам. Прожив в Советской России почти пять лет, Шаляпин знал цену обещаниям и «гарантиям», которые время от времени доставляли ему «ходоки из Москвы», и имел все основания сомневаться в том, что, вернувшись на родину, не потеряет свободы и не попадет в Соловецкий лагерь как «враг народа». Дети певца Татьяна и Федор рассказывали, что отец не исключал и возможного «несчастного случая». Что ж, и этот домысел вполне обоснованный: вспомним, как в 1948 году был «ликвидирован» в спровоцированной автокатастрофе ставший неугодным великий режиссер С. М. Михоэлс, в ту пору народный артист СССР и лауреат сталинских и множества других премий.
Свободолюбивая и независимая натура Шаляпина не могла вписаться в шоры большевистского «образа жизни». Попытки «национализировать Шаляпина», вброшенный в возбужденную толпу погромный лозунг «талант нарушает равенство» породили у артиста сопротивление режиму, протест против тотального насилия: отъезд из Советской России стал неизбежным.
Осознание Художником своей значимости непременно предполагает его творческую реализацию, соответствующую масштабу его таланта. Отказ от такого намерения означает измену своему Призванию, Искусству, Судьбе. Приняв необходимость существования в условиях несвободы, Художник тем самым освобождается от ответственности за собственное творчество, отказывается от себя в угоду власти. Покидая Россию, Шаляпин искал не только свободу житейского существования, он выбирал свободу художественного и духовного самовыражения.
Из России Шаляпин уехал, когда ему исполнилось 49 лет. К этому времени он прочно вошел в мировую культуру не только сценическими шедеврами, но и своей неповторимой индивидуальностью, личностью, он стал выразителем настроений целых поколений, образом времени. Шаляпин обрел у отечественной и зарубежной публики репутацию Художника и Гражданина, воплощающего национальный характер в его неповторимом и универсальном выражении.
В 1991 году постановление Совета министров РСФСР о возвращении Шаляпину звания народного артиста восприняли в СССР с чувством глубокого удовлетворения, как торжество долгожданной справедливости. Но ведь неведомо, как бы сам Шаляпин, скажем, принял этот указ? Как долгожданную реабилитацию? Как вымоленное высочайшее прощение за совершенные некогда грехи? Или посмотрел бы на эти акции с высоты своего художественного авторитета и отверг эти шумные «аппаратные» мероприятия как пустую и ненужную суету? Характер, как известно, у Федора Ивановича был сложный, непредсказуемый, но среди прочих качеств достоинство Художника он ставил превыше других…
Духовная независимость, творческая свобода — это воздух, которым Шаляпин живет и дышит. Ему ненавистны стадное поклонение идеологическим фетишам, административный произвол, глумление над слабым и поверженным, презрение к человеку. Ему претят кичливая демонстрация классового превосходства, диктат социального неравенства, в каких бы формах это ни проявлялось.
Такая гражданская, этическая и художественная позиция великого артиста не могла остаться незамеченной публикой и творцами искусства. И в сознании советских поколений она явно или подспудно — «по умолчанию» — всегда присутствовала как высокий нравственный постулат.
1960-е годы в жизни России отразили смену идеологических приоритетов, обозначили новую шкалу поступков современного человека. Советская идеология, как известно, все «частное» рассматривала сквозь призму «общественной пользы». В противовес этой догме искусство, как и наука, подняло престиж личной воли, личного решения, действенного поступка. Проявлялось это по-разному. «Частный человек» начинает сопротивляться, прорывает блокаду официальных ценностей, защищает честь, достоинство, самосознание в своем приватном и социальном пространстве.
В 1968 году вышла и сразу исчезла с прилавков книга И. Кона «Социология личности». Автор, в противовес официозу, провозглашавшему основой свободы право личности на труд, утверждал: «…логической предпосылкой и необходимым историческим условием всех других свобод является свобода перемещения. Ограничение ее инстинктивно воспринимается и животными, и человеком как несвобода. Тюрьма определяется не столько наличием решеток или недостатком комфорта, сколько тем, что это место, в котором человека держат помимо его воли».
В 1960-х годах в жизнь входило молодое поколение родившихся после войны, возбужденное исповедальной смелостью, искренностью искусства послесталинской «оттепели». Меняются предпочтения публики и художественные ориентиры. В творческой среде этих лет с нарастающей энергией утверждается новый тип художника, осознающего свою значимость, готовность к поступку, к самоутверждению любой ценой, вплоть до подвижничества. Инакомыслие овладевает талантом, пробуждает совесть и индивидуальный разум, обостряет чувство моральной ответственности.
Это стремление со всей очевидностью выразилось в писательской среде, в кинематографе, изобразительном искусстве, в музыке, театре, оно настоятельно требовало выхода в широкое пространство. В реальности это оборачивалось добровольной или насильственной эмиграцией или жесткой дискриминацией на родине, вплоть до запрета на профессию. Здесь могут быть представлены художники самых разных масштабов и творческих направлений: в литературе — Виктор Некрасов, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Александр Солженицын, Василий Аксенов, Андрей Синявский, Владимир Войнович, Иосиф Бродский, в кинематографе — Андрей Тарковский, в изобразительном искусстве — Эрнст Неизвестный, Михаил Шемякин, Олег Целков, в музыке — Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Альфред Шнитке, в театре — Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, в балете — Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Наталья Макарова, чета Пановых и другие. Может быть, в балете оказалось больше отчаявшихся беглецов потому, что век публичного творчества здесь чрезвычайно короток и боязнь не успеть самоутвердиться в молодые годы ощущается особенно остро и даже трагически: талантливый премьер Мариинского театра Юрий Соловьев, осознав безысходность ситуации, невозможность выхода на мировую сцену, покончил жизнь самоубийством…
Должно было пройти время, кардинально измениться политическая атмосфера, чтобы в нынешнем отечественном сознании выход художника в мировое пространство перестал быть криминалом и не воспринимался властями и «общественным мнением» как дерзкий вызов, позорный факт «измены отечеству». Переосмысление шло медленно и трудно, и увидеть его сквозь призму сознания творческой личности, в смене исторической и художественной парадигмы оказалось возможным только в 1990-х годах, в пору очевидного исторического излома, краха советского режима.
Когда в 1987 году 25-летний солист Красноярского оперного театра Дмитрий Хворостовский получил в Москве первую премию на Всесоюзном конкурсе певцов имени М. И. Глинки, восторженная критика прочила ему в России блестящее будущее. Но слава настигла Хворостовского не только на родине, но и за ее пределами. Уже через год, в 1989 году, Хворостовский выступает в Кардиффе, в Англии, и на конкурсе «Лучший голос» получает звание «Певца мира». Триумфальный дебют в Нью-Йорке в 1990 году укрепил положение Хворостовского на мировой сцене и не помешал в 1995 году, в постсоветской уже России, стать народным артистом и лауреатом Госпремии. Хворостовский — признанная «звезда», его партнеры — Пласидо Доминго, Роландо Вильясон. Журнал «Тайм» в 2007 году — тот самый, который в течение многих лет оформлял Борис Федорович Шаляпин, — публикует «список самых влиятельных людей в мире, чья власть, талант и моральный пример изменяют мир» и включает в него имя Хворостовского. И приобретенное австрийское гражданство — не позор и не несчастье, оно не мешает Хворостовскому оставаться гордостью отечественного искусства, выступать в российских театрах, как не мешает французское гражданство певице Анне Нетребко, чья мировая известность началась в середине 1990-х годов с европейских и американских гастролей и сегодня достигла своих вершин.
В 1993 году Анна Нетребко получила первую премию в Смоленске на конкурсе имени М. И. Глинки, вскоре была принята в Мариинский театр, с 1994 года гастролирует в Финляндии, Германии, США, выступает в Метрополитен-опере, поет в России. Вокальный талант и редкое обаяние певицы отмечает пресса, в 2002 году на фестивале в Зальцбурге она произвела фурор в партии Доны Анны в опере Моцарта «Дон Жуан».
Перечень российских артистов-звезд можно продолжать, но важно помнить, что первым утвердился в этом высоком артистическом качестве Ф. И. Шаляпин, он проложил дорогу к мировому признанию отечественным талантам.
Федор Иванович горевал о том, что не создал своего театра, однако Б. А. Покровский — режиссер, долгие годы последовательно и успешно развивавший на сцене Большого театра «шаляпинские традиции», с ним категорически не согласился. Широко известно и то, что К. С. Станиславский писал «с Шаляпина» свою «систему», а Вс. Э. Мейерхольд постоянно брал его за образец. Если попытаться широко увидеть социальную и художественную ситуацию России XX века, то, следуя взглядам философа М. М. Бахтина, можно прийти к выводу: в эту пору наступила тотальная карнавализация публичной жизни, активно востребовалась идеологизация сознания, в ходе которой старая картина мира с присущей ей атрибутикой безусловно отвергалась и подчас насильственно, агрессивно внедрялась картина мира с новыми ценностями, стереотипами и наименованиями, с новыми символами веры. Шаляпин, как одна из самых ярких фигур, оказался вовлечен в диалог художественных, идеологических, политических сил и сам иногда оказывался носителем этого карнавализированного бытия, но сумел подняться над ним и утвердиться символом мировой культуры.
Шаляпин создавал свой неповторимый художественный и житейский мир, «свой дом и свою крепость». Как истинно великий художник, артист формировал психологию и мировоззрение своей широчайшей аудитории, сминал национальные границы и границы поколений. Чем был Театр для Шаляпина? Полем высшего духовного откровения, творческого созидания. Театр для Шаляпина — это в шекспировском понимании общее дело человечества, оно требует от Художника участия в совершенствовании жизни, в преобразовании мира, верности себе.
В Театре Шаляпина трагическое диалектически уравновешивалось и гармонически сочеталось с героическим, лирическим, комическим, его Театр будил в человеке веру в себя, в будущее. Шаляпин в Театре слышал пульс жизни и «частного человека», и всего человечества, он слышал весь мир, и мир слышал его, резонировал на его творчество.
Жизнь Федора Ивановича Шаляпина — это воплощение напряженного диалога, длящегося весь XX век, выплеснувшегося и в век XXI. Это диалог культур, диалог независимости, свободы и принуждения, личности и общества, это спор таланта и посредственности, Артиста и толпы, диалог ценностных смыслов, этических, эстетических и духовных идеалов, диалог, в котором Федор Иванович Шаляпин, как великий Художник и Человек, в конечном счете оказался победителем. Его творчество и мироощущение влияли на мир, откликались в сознании и чувствах множества людей. Казанским подростком Федор Иванович пришел в страну лицедеев, покорил своей художественной правдой человечество и остался с ним навсегда.
«Где я? В русском театре?» — последние слова Артиста…
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ф. И. ШАЛЯПИНА
1873, 1 февраля — в Казани, в семье помощника волостного писаря Ивана Яковлевича Шаляпина (1838–1901) и его жены Евдокии Михайловны, урожденной Прозоровой (1844–1891), родился сын Федор.
1875, 1 августа — родилась сестра Федора Евдокия.
1876, 10 ноября — родился брат Федора Николай.
1880, сентябрь — учеба в частной подготовительной школе В. С. Ведерниковой.
Декабрь — в рождественские праздники смотрит ярмарочные выступления «балаганного деда» Якова Ивановича Мамонова.
1881 — учится в 4-м городском приходском училище.
1882, июль — декабрь — обучается скорняжному, токарному и сапожному ремеслу.
31 августа — от скарлатины умер брат Николай.
7 сентября — от скарлатины и дифтерита умерла сестра Евдокия.
Сентябрь — учится в Шестом городском начальном училище; поет в церковном хоре регента И. О. Щербинина, осваивает нотную грамоту, учится играть на скрипке. Становится исполатчиком при архиерейском хоре Спасского монастыря.
1883, 17 мая — впервые в театре на дневном представлении пьесы П. П. Сухонина «Русская свадьба на исходе XVI века (драматическое представление из частной жизни наших предков)» — антреприза М. И. Писарева и В. Н. Андреева-Бурлака. Вечером слушает «Записки сумасшедшего» в исполнении В. Н. Андреева-Бурлака.
Май — оканчивает год учебы в Шестом городском начальном училище, помогает отцу в переписке служебных бумаг.
1884, 18 января — родился брат Василий.
Лето — прислуживает в церкви Спасо-Преображенского монастыря в Казанском соборе.
30 августа — смотрит спектакль «Жизнь за царя» в Казанском городском театре — антреприза П. М. Медведева.
1 сентября — продолжает учебу в Шестом городском начальном училище, учится пению у Н. В. Башмакова. Выступает в качестве статиста в спектаклях «Жизнь за царя», «Фауст», «Африканка».
1885, январь — февраль — смотрит спектакли в городском театре, служит статистом, поет в церковных службах и празднествах.
Конец, мая — оканчивает училище с похвальным листом. Служит писарем в ссудной кассе А. А. Печенкина.
Сентябрь — отправлен отцом в Арск, в училище обучается ремеслу столяра и переплетчика.
Декабрь — в связи с болезнью матери возвращается в Казань, поступает писцом в Казанскую уездную управу.
1886, январь — февраль — смотрит спектакли в городском театре, участвует статистом и хористом в опере Мейербера «Пророк».
14 апреля — родился брат Николай.
20 июня — поступает на службу писцом в Казанскую уездную земскую управу, помогает отцу переписывать бумаги.
1887, 13 мая — участвует в отпевании В. Н. Андреева-Бурлака.
Сентябрь — поступает статистом в драматическую труппу В. Б. Серебрякова.
1890, июнь — семья Шаляпиных в надежде на лучшую жизнь переезжает в Астрахань. Шаляпин поет в церковном хоре, поступает в антрепризу Г. М. Черкасова хористом. После ссоры с отцом уходит из семьи, служит грузчиком на баржах, ищет работу в Саратове, Самаре, Казани.
Июль — в Казани служит писцом в Духовной консистории. Посещает театральные спектакли гастрольных трупп.
Август — декабрь — в Уфе поступает хористом в опереточную труппу С. Я. Семенова-Самарского.
1891, январь — июнь — в Уфе выступает в партии Феррандо в опере Д. Верди «Трубадур», в роли Держиморды в «Ревизоре» Н. В. Гоголя; получает для бенефиса роль Неизвестного в опере А. Н. Верстовского «Аскольдова могила».
Май — в Уфе служит писцом в губернской управе.
Июнь — декабрь — уезжает из Уфы. С малороссийской труппой Г. Деркача выступает в Самаре, Астрахани, городах Средней Азии. В Баку поступает хористом в опереточную труппу Е. Лассаля.
1 ноября — в Самаре умерла мать, Евдокия Михайловна Шаляпина.
1892, январь — в связи с отъездом труппы Е. Лассаля остается без работы. Уезжает в Тифлис.
Февраль — май — в Тифлисе поступает в оперную труппу Р. Ключарева. На гастролях в Батуме и Кутаисе исполняет партии Оровезо в опере Д. Беллини «Норма», Кардинала в опере Ж. Галеви «Жидовка», Валентина в опере Ш. Гуно «Фауст».
Июль — август — служит писцом в управлении Закавказской железной дороги.
Сентябрь — начинает учиться у певца Д. А. Усатова, при его посредстве входит в Тифлисский музыкальный кружок, участвует в любительских драматических и оперных спектаклях.
1893, январь — декабрь — выступает в литературно-музыкальных концертах; газеты «Кавказ», «Тифлисский листок», «Новое обозрение» публикуют положительные отзывы. Вступает в труппу В. Любимова и В. Форкатти.
1894, январь — май — в операх «Фауст», «Миньона», «Бал-маскарад» исполняет партии на итальянском языке. Имеет успех в спектакле «Севильский цирюльник» (Дон Базилио) и концертных программах.
Май — август — вместе с певцом П. А. Агнивцевым приезжает в Москву.
18 июня — в Театральном агентстве Е. Н. Рассохиной заключает договор с антрепренером X. И. Петросяном на выступления в Петербурге в саду «Аркадия» в труппе М. В. Лентовского.
Август — сентябрь — вступает в Товарищество Панаевского театра. Октябрь — декабрь — знакомится с В. В. Андреевым, Ю. М. Юрьевым, М. В. Дальским, Э. Ф. Направником.
1895, 4 января — на музыкальном вечере в доме Т. И. Филиппова знакомится с актером И. Ф. Горбуновым, народной сказительницей Ориной Федосовой, сестрой М. И. Глинки Л. И. Шестаковой.
1 февраля — поет на закрытой пробе в Мариинском театре арии Руслана («Руслан и Людмила») и Сусанина («Жизнь за царя»). Подписывает контракт на три года.
Апрель — декабрь — выступает в Мариинском театре в трех дебютных спектаклях: «Фауст» (Мефистофель), «Руслан и Людмила» (Руслан), «Кармен» (Цунига). Выступает на благотворительных литературно-драматических вечерах.
1896, январь — выступает в спектаклях Мариинского театра, в концертах с ансамблем народных инструментов А. В. Андреева, в благотворительных концертах.
Май — август — выступает в Нижнем Новгороде в оперной труппе С. И. Мамонтова (антреприза К. С. Винтер); встречается с С. И. Мамонтовым, К. А. Коровиным, И. И. Торнаги.
22 сентября — дебютирует в Частной опере С. И. Мамонтова в роли Ивана Сусанина, получает одобрение в прессе.
12 декабря — премьера «Псковитянки» Н. А. Римского-Корсакова: Грозный — Ф. И. Шаляпин, дирижер — И. А. Труффи. Восторженный отзыв критика Н. Д. Кашкина в газете «Русские ведомости» от 17 декабря.
1897, март — май — гастрольные выступления в Нижнем Новгороде, Казани, Харькове, Полтаве, Воронеже, Киеве.
Май — август — первое заграничное путешествие: посещает Вену, Париж, Берлин, Дьеп, где встречается с С. И. Мамонтовым, К. А. Коровиным, Т. С. Любатович и др.
12 ноября — в Москве впервые выступает в партии Досифея в опере М. П. Мусоргского «Хованщина».
31 декабря — в Москве впервые выступает в партии Варяжского гостя в опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко».
1898, 27 января — Мельник в «Русалке», дирижер — С. В. Рахманинов. Начало дружбы с композитором.
Февраль — апрель — гастроли в Петербурге. Встречи с В. В. Стасовым, М. М. Антокольским, А. К. Глазуновым, А. К. Лядовым и др., посещение домашнего музыкального вечера у Н. А. Римского-Корсакова.
Июнь — июль — в Путятине — имении Т. С. Любатович. Венчание с Полой Торнаги. Работа с С. В. Рахманиновым над Борисом Годуновым, беседы с историком В. О. Ключевским.
Сентябрь — гастроли артистов Частной оперы С. И. Мамонтова в Крыму. Знакомство с А. П. Чеховым.
12 декабря — встречается с управляющим Конторой московских императорских театров В. А. Теляковским, подписывает контракт на работу в Большом театре с сентября 1899 года.
1899, 3 января — родился сын Игорь.
24–26 мая — в Петербурге встречается с Н. А. Римским-Корсаковым, участвует в юбилейных торжествах, посвященных столетию со дня рождения А. С. Пушкина.
Июнь — август — Одесса, Киев, Николаев, Кисловодск. Выступления в труппе В. Н. Любимова. Начало дружбы с Л. В. Собиновым.
6–21 сентября — Москва, последние спектакли в Русской частной опере.
24 сентября — первое выступление на сцене Большого театра в опере «Фауст» (Мефистофель). Восторженный прием публики и критики.
1900, 8 февраля — именины Шаляпина, в гостях С. В. Рахманинов, К. А. Коровин, В. О. Ключевский. В. А. Серов и др.
10 февраля — родилась дочь Ирина.
Март — апрель — гастроли в Тифлисе и Баку.
Май — получает приглашение театра «Ла Скала» спеть в марте 1901 года десять спектаклей «Мефистофеля» А. Бойто.
19 декабря — присутствует на юбилейном ужине в зале Большой Московской гостиницы в честь 35-летия творческой деятельности Н. А. Римского-Корсакова.
1901, 3 января — встреча с В. В. Стасовым на репетиции оперы Ц. А. Кюи «Анджело» в Большом театре.
4 января — принимает В. В. Стасова в своем доме; премьера оперы «Анджело» (Галеофа) в Большом театре.
Конец февраля — в Милане под руководством дирижера А. Тосканини репетирует партию Мефистофеля в одноименной опере А. Бойто.
16 марта — премьера «Мефистофеля». Триумфальный прием публики и критики.
13 июня — умер Иван Яковлевич Шаляпин, отец певца.
15 августа — посещает В. В. Стасова в Старожиловке. И. Е. Репин рисует портрет Шаляпина.
Август — сентябрь — в Нижнем Новгороде в Ярмарочном театре выступает в антрепризе А. Эйхенвальда.
30 августа — встречается с М. Горьким. Начало многолетней дружбы. В Москве родилась дочь Лидия.
8 ноября — в Подольске на вокзале приветствует Горького, следующего под полицейским надзором на лечение в Крым. Знакомится с писателями «Среды» И. А. Буниным, Л. Н. Андреевым, К. П. Пятницким, Н. Д. Телешовым.
1902, 19 февраля — участвует в музыкальном вечере на квартире у B. В. Стасова, присутствуют Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, А. К. Лядов, Ц. А. Кюи, М. Г. Савина и др.
Апрель — в Крыму навещает М. Горького, А. Н. Алексина, А. П. Чехова, встречается с Вл. И. Немировичем-Данченко, И. А. Буниным, C. Г. Скитальцем, артистами Художественного театра.
27 мая — в Москве в Бутырской тюрьме посещает С. И. Мамонтова. Июль — август — отдыхает на Рижском взморье.
Сентябрь — декабрь — присутствует на чтениях М. Горьким пьесы «На дне» в Художественном театре, на квартире Л. Н. Андреева, сам читает пьесу у В. А. Теляковского; выступает в Большом театре, в концертах симфонического собрания под управлением А. И. Зилоти.
5 ноября — вместе с М. Горьким, А. П. Чеховым, И. А. Буниным и другими присутствует в Художественном театре на премьере драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы».
3 декабря — в Москве впервые выступает в заглавной роли в опере A. Бойто «Мефистофель». На спектакле присутствуют М. Горький, B. О. Ключевский, Л. Н. Андреев, С. Г. Скиталец и др.
1903, 17 января — в Москве в Художественном театре присутствует на представлении пьесы М. Горького «На дне».
9 марта — апрель — в Одессе. С композитором М. А. Слоновым совершает морскую поездку на теплоходе «Царь», посещает Константинополь, Стамбул, Смирну, Пирей, остров Крит, Александрию, Каир, Асуан.
15 июня — после болезни умирает сын Игорь.
11–15 августа — Охотино Ярославской губернии. Вместе с М. Горьким гостит у К. А. Коровина, посещает Ростов.
17 августа — 6 сентября — в Нижнем Новгороде выступает в спектаклях и концертах в Большом Ярмарочном театре, дает благотворительный концерт в честь открытия Народного дома.
31 декабря — встречает Новый год в Художественном театре с М. Горьким, А. Чеховым и др.
1904, 16 января — в Большом театре впервые поет Демона в одноименной опере А. Г. Рубинштейна. Присутствовали М. Горький, Л. Н. Андреев, В. М. Дорошевич и др.
Февраль — апрель — в миланском Ла Скала и римском Оперном театре выступает в партии Мефистофеля в опере Ш. Гуно «Фауст» и в других спектаклях.
4 июня — уехал в Охотино на дачу Коровина, приобретает у него участок земли близ деревни Старово-Ратухино для постройки дома.
9 июля — в Москве вместе с М. Горьким присутствует на похоронах A. П. Чехова.
22 августа — посещает В. В. Стасова на даче в Старожиловке, встречается там с М. Горьким, А. К. Глазуновым, И. Е. Репиным и др.
22 сентября — родился сын Борис.
1905, 16 января — подписывает «Постановление московских композиторов и музыкантов» в защиту свободы художественного творчества. Февраль — март — выступления в антрепризе Р. Гинсбурга в Монте-Карло, в «Автомобиль-клубе» в Париже.
Апрель — май — в Харькове выступает с концертами и спектаклями.
Май — июнь — отдыхает в Охотине, Ратухине, с В. А. Серовым и К. А. Коровиным посещает приволжские достопримечательности.
20 июня — Ярославль. В деревне Старово приобретает 100 десятин земли — Овсянниковой пустоши (Ратухино).
1 июля — Отрадное. С К. А. Коровиным гостит у В. А. Теляковского.
Июль — гастролирует в Лондоне. В Оранже (Франция) выступает в опере А. Бойто «Мефистофель» на сцене античного театра.
23 сентября — родились близнецы Татьяна и Федор.
Сентябрь — октябрь — встречается с Горьким.
18 октября — в ресторане «Метрополь» поет «Марсельезу» и «Дубинушку» в связи с обнародованием Манифеста 17 октября, собирает деньги в пользу рабочих организаций.
26 ноября — в Большом театре поет «Дубинушку» вместе с залом.
1906, 16 января — присутствует на музыкальном вечере в квартире B. В. Стасова.
Февраль — март — выступления в Ницце, Монте-Карло.
29 апреля — в Киеве выступает в спектаклях и концертах в пользу рабочих организаций. Дает «Общедоступный народный концерт» в киевском цирке «Hippo Palace».
Май — фактически разрывает брачные отношения с И. И. Шаляпиной-Торнаги (формально развод будет оформлен в 1927 году). Выступления в антрепризах в Харькове, Москве, Петербурге.
3 сентября — с М. В. Петцольд посещает В. В. Стасова. Среди гостей Н. А. Римский-Корсаков, И. Гинцбург, Ф. Блуменфельд и др.
10 октября — умер В. В. Стасов.
25 ноября — участвует в симфоническом концерте, посвященном памяти В. В. Стасова.
26 ноября — поет на музыкальном вечере у Н. А. Римского-Корсакова, предлагает ему написать оперу на сюжет трагедии Софокла «Царь Эдип».
1907, 4 февраля — принимает у себя Н. А. Римского-Корсакова.
29 августа — Петербург. Обсуждает с В. А. Теляковским условия нового контракта с императорскими театрами.
1907, октябрь — 1908, февраль — Нью-Йорк. Филадельфия. Выступает в операх «Мефистофель», «Севильский цирюльник», «Фауст».
1908, май — Париж, Гранд-опера: в сезоне Русской оперы С. Дягилева поет в «Борисе Годунове».
6 мая — в газете «Матэн» публикует статью «Цветы моей родины».
17 мая — участвует в спектакле в пользу военных, раненых в Марокко, исполняет «Марсельезу».
22 мая — президентом Франции К. А. Фальером награжден званием кавалера ордена Почетного легиона. Записывает пластинки в фирме «Граммофон».
Июнь — август — Буэнос-Айрес, театр «Колон»: выступает в спектаклях «Мефистофель», «Севильский цирюльник», «Дон Жуан».
1909, январь — выступает в театре «Ла Скала», поет девять спектаклей «Бориса Годунова» на итальянском языке.
Февраль — в Монте-Карло исполняет партию Хана Асваба в опере Р. Гинсбурга «Старый орел» и партию Мельника в опере «Русалка» — на итальянском языке.
26 мая — в Париже в театре «Шатле» в антрепризе С. Дягилева выступает в операх «Псковитянка», «Руслан и Людмила», «Юдифь», «Старый орел».
Май — Ж. Массне знакомит Шаляпина со своей новой оперой «Дон Кихот».
13–16 сентября — Казань. Посещает памятные места детства, встречается с учителем Н. В. Башмаковым, с наставниками и друзьями детства.
19 сентября — Самара. Разыскивает могилу матери. Дает концерт в театре-цирке «Олимп».
1910, январь — март — в Монте-Карло поет в операх «Севильский цирюльник», «Русалка», «Старый орел».
1 февраля — родилась дочь Марфа.
6 февраля — в Монте-Карло впервые выступает в партии Дон Кихота в одноименной опере Ж. Массне на французском языке.
22 апреля — император Николай II пожаловал певцу звание Солиста его императорского величества.
1 мая — премьера «Дон Кихота» в Брюсселе.
8 мая — в Москве по поручению Ф. И. Шаляпина нотариальная контора П. А. Соколова оформляет договор о приобретении И. И. Шаляпиной дома на Новинском бульваре, с прилегающими к нему службами. Здесь Иола Игнатьевна и Ирина Федоровна Шаляпины проживут до 1947 года.
1911, 6 января — в Мариинском театре на премьере новой постановки «Бориса Годунова» (режиссер Вс. Мейерхольд) вслед за хором, исполняющим гимн «Боже, царя храни!», опускается на одно колено перед царской ложей.
8 января — уезжает в Монте-Карло. Спектакли «Дон Кихот», «Иван Грозный», «Русалка» в антрепризе Р. Гинсбурга.
Январь — Петербург, Москва. В прессе Ф. И. Шаляпина объявляют монархистом, В. А. Серов, В. М. Дорошевич, А. М. Амфитеатров демонстративно порывают с ним отношения.
7 ноября — в Мариинском театре премьера «Хованщины» в постановке Ф. И. Шаляпина, декорации К. А. Коровина. В роли Досифея — Ф. И. Шаляпин.
22 ноября — умер В. А. Серов.
1912, январь — июнь — выступает в Монте-Карло, Милане, Париже.
1–2 февраля — гостит у М. Горького на Капри.
1 марта — родилась дочь Марина.
24 апреля — награжден званием солиста Короля Итальянского.
6,13,17 мая — Париж, выступает в спектакле «Севильский цирюльник» в пользу семей погибших авиаторов и семей жертв гибели «Титаника».
3–7 сентября — Казань: с С. Г. Скитальцем посещает сапожника В. А. Андреева, учителя Н. В. Башмакова, Шестое начальное училище, беседует с учащимися, жертвует две тысячи рублей на стипендии, навещает больного артиста Ю. Ф. Закржевского.
1913, январь — февраль — выступает в Монте-Карло.
8–15 февраля — Италия. С Марией Валентиновной Петцольд навещает М. Горького на Капри. Поет на вечере для русской колонии в присутствии И. А. Бунина, А. С. Новикова-Прибоя и др.
Март — апрель — Петербург. Выступает в Мариинском театре, Народном доме, зале Дворянского собрания.
Май — июль — Париж и Лондон. Участвует в Русских сезонах С. Дягилева, выступает в «Борисе Годунове», «Хованщине», «Псковитянке».
Июль — август — отдыхает в Швейцарии.
Август — в Довиле (Франция) поет на французском языке в операх «Фауст», «Мефистофель», «Севильский цирюльник».
6 сентября — 10 октября — Крым, Гурзуф. Живет на даче К. А. Коровина, в Ялте посещает могилу Д. А. Усатова.
1914, январь — Петербург. Переселяется в дом 2–6 по Пермской улице. Здесь семья проживет до отъезда Шаляпина из России.
12–14 января — Мустамяки под Петербургом. Навещает М. Горького.
21 января — Петербург. Участвует в спектакле «Юдифь» в пользу фонда на сооружение образцового хорового дома имени А. Н. Серова, жертвует две тысячи рублей.
10–12 февраля, 23–24 марта — Куоккала. Навещает И. Е. Репина в его усадьбе «Пенаты», позирует ему для портрета.
25 февраля — посещает Убежище для престарелых артистов на Петровском острове, жертвует восемь тысяч рублей.
Май — июль — Лондон. В антрепризе С. Дягилева выступает в «Борисе Годунове», «Псковитянке», «Князе Игоре», «Хованщине».
Июль — сентябрь — приезжает в Париж. В связи с началом Первой мировой войны через Англию и Швецию возвращается в Петроград.
Сентябрь — декабрь — выступает в Мариинском и Большом театрах. Открывает лазареты для раненых солдат: в Москве во флигеле дома на Новинском бульваре, в Петрограде в доме 90 по Екатерининскому каналу. Организует благотворительные концерты.
Октябрь — посещает передовые позиции русских войск около Варшавы, в зале Варшавской филармонии дает концерт в пользу пострадавших польских семей.
31 декабря — Москва. Встречает Новый год с М. Горьким, М. М. Пришвиным и другими литераторами.
1915, 19 апреля — в Народном доме выступает в спектакле «Борис Годунов» в пользу рабочих, организованном по инициативе М. Горького. Присутствуют М. Горький, А. Серебров, В. Маяковский и др.
Апрель — май — выступает с концертами в Харькове, Екатеринославе, Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе.
Июль — август — концерты в Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске.
Август — сентябрь — Москва, Углич. Участвует в съемках кинофильма «Царь Иван Васильевич Грозный» («Дочь Пскова»).
22 октября — в Мариинском театре отмечается двадцатилетие службы Шаляпина на императорской сцене.
19 ноября — в Большом театре спектакль «Борис Годунов» в пользу Убежища для престарелых артистов.
1916, 20 марта — выступает в спектакле «Фауст» для петроградских рабочих в пользу фонда Народного университета им. Л. И. Лутугина.
Июнь — июль — Крым. В Форосе в имении К. К. Ушкова работает с М. Горьким над книгой «Страницы из моей жизни».
20 июля — Николай II, «снисходя на всеподданнейшее ходатайство солиста Нашего императорского величества», указом повелел Правительствующему сенату принять внебрачным дочерям Ф. И. Шаляпина Марфе и Марине фамилию отца и вступить во все права и обязанности детей усыновленных.
Август — Гурзуф, Севастополь. Встречается с К. А. Коровиным, в Суук-Су предполагает построить Замок искусств.
1 ноября — французское правительство присваивает Шаляпину звание командора ордена Почетного легиона за заслуги в области искусства.
1917, январь — петроградский журнал «Летопись» начинает публиковать «Автобиографию. Страницы из моей жизни» в редакции М. Горького.
Февраль — март — часто бывает у М. Горького в квартире на Кронверкском проспекте, участвует в работе Комитета по вопросам охраны художественных ценностей.
15 марта — заседание в Мариинском театре артистов, музыкантов, композиторов, посвященное программе торжественных спектаклей в связи с событиями Февральской революции. Ф. И. Шаляпин исполняет сочиненный им «Гимн революции» («Песня революции»).
26 марта — участвует в концерте-митинге Преображенского полка в Мариинском театре, исполняет с хором и оркестром «Песню революции» и «Марсельезу».
Май — сентябрь — отдыхает в Крыму (Суук-Су), в Кисловодске.
7 июля — выступает с концертом на Приморском бульваре в Севастополе, в матросской форме поет «Песню революции», «Дубинушку» и др.
Октябрь — декабрь — Петроград: спектакли в Народном доме.
25 октября — спектакль «Дон Карлос» в петроградском Народном доме сопровождался орудийной стрельбой революционных частей.
17 декабря — выступает с концертом в Кронштадте в помещении Морского манежа.
1918, 15 апреля — чествование Ф. И. Шаляпина в Мариинском театре в связи с его возвращением в труппу.
28 апреля — концерт в Народном доме в пользу образования первого национального театра в Палестине. Шаляпин исполняет произведения на иврите и идише («Хатиква» и др.).
18 мая — на квартире Ф. И. Шаляпина заседает Совет Государственной оперы с участием А. Я. Головина, Вс. Э. Мейерхольда, И. В. Ершова, А. М. Пазовского, М. М. Фокина и др.
2 июня — присутствует на общем собрании артистов оперной труппы Мариинского театра, соглашается исполнять обязанности арбитра.
7 августа — в Орехово-Зуеве выступает с концертом в пользу бесплатной столовой для рабочих и их детей.
24–29 августа — концерты в Павловске и Царском Селе.
19 октября — в Мариинском театре после спектакля «Севильский цирюльник» в честь мобилизованных матросов Красного флота нарком А. В. Луначарский объявляет о решении правительства Коммуны Северной области «даровать… звание народного артиста» Ф. И. Шаляпину. Певец исполняет «Дубинушку».
16 ноября — общее собрание артистов-солистов Мариинского театра награждает Ф. И. Шаляпина званием заслуженного артиста государственных театров.
29 декабря — присутствует на похоронах В. В. Андреева в Александре-Невской лавре.
30 декабря — заседает в Большом художественном совете Отдела театров и зрелищ, избирается в состав репертуарной комиссии вместе с М. Горьким, Ю. М. Юрьевым, А. В. Луначарским, Н. Ф. Монаховым и др.
1919, 3–4 марта — присутствует на заседании Большого художественного совета Отдела театров и зрелищ вместе с А. В. Луначарским, М. Ф. Андреевой, Ю. Юрьевым и другими, слушает доклад М. Горького.
7 мая — наряду с М. Горьким, А. В. Луначарским, М. Ф. Андреевой, А. Блоком, К. А. Петровым-Водкиным входит в жюри конкурса художественных произведений на тему «Великая русская революция».
9 мая — у себя на квартире принимает А. А. Блока и К. И. Чуковского в связи с планами издать книгу о М. Горьком.
19 июня — в Москве вместе с А. В. Луначарским и И. В. Экскузовичем принят В. И. Лениным в связи с разработкой проекта «Декрета об объединении театрального дела».
10 декабря — участвует в концерте в Большом театре для делегатов VII Всероссийского съезда Советов, заключает выступление «Дубинушкой», которую подхватывает зал.
31 декабря — участвует в концерте в Мариинском театре для делегатов Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов.
1920, апрель — с Д. Бедным и К. Б. Радеком в гостях у С. М. Буденного и К. Е. Ворошилова в вагоне Конармии на Киево-Воронежской железной дороге под Москвой.
Май — выезжает с концертами в Таллин (Ревель) и Псков.
27 мая — в Петрограде с М. Горьким присутствует на торжественном заседании ЦК Производственного союза рабочих стекольно-фарфоро-фаянсового производства. Выступает с речью и концертной программой.
19 июля — в Малаховке дает бесплатный концерт для рабочих Люберецкого завода.
28 июля — в Москве выступает в Колонном зале Дома союзов в честь делегатов Второго интернационала в присутствии В. И. Ленина.
30 сентября — присутствует в Доме искусств на обеде, организованном М. Горьким в честь приезда английского писателя Г. Уэллса.
23 октября — Петроград. Государственный театр оперы и балета (бывший Мариинский) дает оперу «Вражья сила» в пользу Западного фронта. Партия Еремки — последняя роль певца на отечественной сцене.
1921,17 января — в Москве участвует в концерте для заключенных Бутырской тюрьмы.
10 мая — Политбюро ЦК РКП(б) в присутствии В. И. Ленина обсуждает вопрос о разрешении Ф. И. Шаляпину выехать за границу.
15 июня — присутствует на венчании дочери Ирины и П. П. Пашкова в церкви Большого Вознесения.
22 июня — с Л. В. Собиновым и А. В. Неждановой участвует в концерте в Большом театре на открытии 3-го конгресса Коминтерна. В зале присутствует В. И. Ленин.
27 июля — родилась дочь Дасия.
31 декабря — Чикаго, встречает Новый год с Анной Павловой и другими артистами.
1921, август — 1922, март — гастроли в Латвии, Финляндии, Англии, США (Нью-Йорк, Чикаго, Кливленд, Филадельфия).
1922, март — возвращается из зарубежных гастролей.
Март — июнь — выступает в Петрограде (ГАТОБ) и Москве (Большой театр, Большой зал консерватории, Зал музыкальной драмы). 29 июня — прощальный дневной концерт в Большом зале Петроградской филармонии. Вечером на пароходе «Oberbürgermeister Hakken» отправляется на длительные заграничные гастроли.
19–30 декабря — в Чикаго с труппой Городской оперы выступает в пяти представлениях оперы А. Бойто «Мефистофель».
1923, январь — июнь — гастроли в США.
12 марта — на спектакле «Мефистофель» в Метрополитен-опере присутствует К. С. Станиславский.
Июнь — Локуст-Пойнт, штат Нью-Джерси. С актерами Московского Художественного театра гостит у С. В. Рахманинова.
Июнь — июль — выступления в Лондоне. Навещает дочерей Марфу и Марину в школе Батли, выступает перед учащимися.
Сентябрь — Париж. Сыновья Борис и Федор приезжают из России навестить семью.
Сентябрь — декабрь — выступления в США.
1924, январь — июль — продолжение гастролей в США, выступления в Лондоне.
26 июля — Париж: у Ф. И. Шаляпина гостит Зиновий Пешков, приемный сын М. Горького.
8 сентября — выступления в Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне.
Октябрь — декабрь — выступления в США.
1925, январь — май — продолжение гастролей в США.
2 марта — Париж, семья Ф. И. Шаляпина занимает апартаменты в приобретенном доме на улице д’Эйло, 22.
10 мая — Нью-Йорк, Метрополитен-опера: прощальный благотворительный концерт в пользу Реконструкционного фонда Общества распространения земледельческого и ремесленного труда среди евреев.
Май — июнь — Париж, четыре спектакля «Борис Годунов» в Грандопера.
Июнь — август — отдых и лечение в Пиренеях и Баден-Бадене.
Сентябрь — октябрь — выступления в Берлине, Дрездене, Мюнхене, Бреслау, Кёльне, Праге, Будапеште, Гамбурге, Париже, Лондоне, Бруклине, Балтиморе.
1926, январь — май — выступления в Лос-Анджелесе, Сарасоте, Нью-Йорке, Кливленде.
Май — выступления в Лондоне.
Июнь — декабрь — выступления в Мельбурне, Сиднее, Аделаиде, Окленде, Гонолулу, Монреале, Квебеке, Ричмонде, Провиденсе, Бостоне, Филадельфии, Индианаполисе, Бруклине, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Цинциннати, Нью-Йорке.
6 июня — Неаполь. Во время стоянки парохода встречается с М. Горьким.
28 июля — Мельбурн. В театре «Маджестик» встречается с балериной А. П. Павловой.
1927, январь — апрель — продолжение гастролей в США.
16 января — в Лос-Анджелесе встречается с Вл. И. Немировичем-Данченко.
15 апреля — Париж. Возвращение из гастрольной поездки.
11 мая — 19 июня — выступления в Будапеште, Вене, Лондоне.
17 мая — Париж. Газета «Возрождение» публикует «Письмо в редакцию» протоиерея Георгия Спасского с благодарностью Ф. И. Шаляпину за пожертвование пяти тысяч франков русским безработным.
31 мая — Москва. Журнал «Всерабис» публикует статью С. Симона «Свиты его величества — народный артист Республики» с требованием лишить Ф. И. Шаляпина звания народного артиста.
22 августа — постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о лишении Ф. И. Шаляпина звания народного артиста.
24 августа — постановление Совнаркома РСФСР о лишении Ф. И. Шаляпина звания народного артиста.
Октябрь — декабрь — выступления в Лондоне, Манчестере, Глазго, Вене, Бухаресте, Праге, Берлине, Амстердаме, Барселоне.
Ноябрь — официально оформлен развод с И. И. Шаляпиной-Торнаги.
22 ноября — Москва. Журнал «Рабис» (№ 45) публикует сообщение: «Президиум ВЦИК постановил лишить Ф. И. Шаляпина прав пользования усадьбой и домом во Владимирской области» (Ратухино).
31 декабря — Париж, встречает Новый год с семьей.
1928, январь — апрель — выступления в Филадельфии, Нью-Йорке, Бостоне, Бруклине, Балтиморе, Вашингтоне.
Май — июнь — выступления в Берлине, Лейпциге, Лондоне.
Июль — Париж, Сен-Жан-де-Люз. Из СССР приезжает на отдых Ирина Шаляпина.
Октябрь — декабрь — выступления в Лондоне, Эдинбурге, Бирмингеме, Ливерпуле, Бристоле, Женеве, Цюрихе. Будапеште, Праге.
31 декабря — Париж, встречает Новый год в кругу семьи.
1929, январь — март — гастроли в Нью-Йорке и Далласе.
18 апреля — Рим. Спектакль «Борис Годунов» в театре Королевской оперы. Последняя встреча с М. Горьким в ресторане «Библиотека».
Май — отдыхает и лечится в Виши. Встречается с С. В. Рахманиновым в Клерфонтене.
Июнь — июль — выступает в Лондоне.
Июль — сентябрь — отдыхает в Сен-Жан-де-Люз. Приезд С. В. Рахманинова.
Октябрь — декабрь — выступает в Барселоне, Лондоне, Кардиффе, Дублине, Белфасте, Будапеште.
1930, январь — отдыхает в Швейцарии.
Январь — октябрь — выступления в Бухаресте, Кишиневе, Милане, Лозанне, Вене, Белграде, Варшаве, Риге, Стокгольме, Праге, Генуе, Буэнос-Айресе, Монтевидео, Сантьяго.
13 ноября — Париж, режиссирует спектакль «Князь Игорь» в Театре Елисейских Полей.
15 ноября — выступает в спектакле «Князь Игорь».
Ноябрь — выступает в Лондоне, Ливерпуле, Манчестере, Эдинбурге, Глазго, Брайтоне и др.
21, 31 декабря — Париж. Выступает в «Русалке» в Театре Елисейских Полей в спектаклях «Русской частной оперы» А. А. Церетели.
1931, январь — февраль — Париж. Выступает в спектаклях «Русской частной оперы» А. Церетели.
Февраль — июнь — выступает в Милане, Монте-Карло, Берлине, Стокгольме, Риге, Берлине, Копенгагене, записывает грампластинки.
Июль — сентябрь — отдыхает в Яхимове близ Карлсбада, затем в Сен-Жан-де-Люз.
Август — Клерфонтен. Гостит у С. В. Рахманинова.
Сентябрь — Биарриц. Встречается с Ч. Чаплином. Ведет переговоры о съемках биографического фильма со своим участием по сценарию Ч. Чаплина.
4–25 декабря — Париж. Выступает в театре «Опера Комик» в операх «Дон Кихот» и «Севильский цирюльник».
1932, январь — Париж. Начинает работу над книгой «Маска и душа», выступает в Амстердаме, Тулузе, Бордо, Лионе, Руане, Париже, Праге, Брно.
Май — Париж. Выступает в спектаклях «Князь Игорь», «Моцарт и Сальери», «Борис Годунов».
Июль — лечится в Виши.
Август — ноябрь — Испания, Англия. Снимается в кинофильме «Дон Кихот» режиссера Г. Пабста.
Ноябрь — декабрь — гастроли в Нью-Йорке и Чикаго.
Ноябрь — Париж. В издательстве «Современные записки» выходит в свет книга «Маска и душа».
1933, январь — февраль — выступает в Каире, Иерусалиме, Париже, Лондоне, Риме, Монте-Карло, Амстердаме, Милане.
Июнь — декабрь — Париж. Выступает в оперных спектаклях.
1934, январь — Париж. Из СССР приезжала Иола Игнатьевна Шаляпина, была на спектакле «Севильский цирюльник», с Ф. И. Шаляпиным не встречалась.
Февраль — июнь — выступает в Монте-Карло, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Дрездене, Инсбруке, Будапеште, Братиславе, Каунасе, Праге, Лондоне.
Февраль — Ницца. Встречается с К. С. Станиславским. Лечится в Вене, отдыхает в Тироле.
Июнь — июль — Париж. Выступает в спектаклях «Русской частной оперы» А. А. Церетели.
Октябрь — декабрь — выступает в Софии, Клайпеде, Каунасе, Будапеште, Неаполе.
1935, январь — апрель — выступает в Канзас-Сити, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Ванкувере, Виннипеге, Чикаго.
Март — Нью-Йорк. Слушает А. Н. Вертинского на концерте в Таун-холле. Присутствует на открытии выставки картин Бориса Шаляпина в отеле «Плаца».
Июнь — из СССР приезжают Е. П. Пешкова, Н. А. Пешкова, художник П. Д. Корин, навещают Ф. И. Шаляпина дома на улице д’Эйло.
Сентябрь — гостит у С. В. Рахманинова в Гертенштейне на вилле Сенар.
Октябрь — Париж. Выступает в спектаклях «Борис Годунов», «Князь Игорь» в «Опера Комик».
Октябрь — декабрь — выступает в Белграде, Будапеште, Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене.
31 декабря — на борту парохода «Хаконе мару» встречает Новый год в кругу семьи и близких.
1936, январь — июнь — гастроли в Токио, Осаке, Шанхае, Тянь-Цзыне, Пекине, Харбине.
26 февраля — в Шанхае встречается с А. Н. Вертинским и группой русских художников, артистов, литераторов, музыкантов.
20 июня — Сан-Франциско. Отправляет в Москву Е. П. Пешковой телеграмму с соболезнованием в связи со смертью М. Горького.
Июнь — август — лечится в Вене, отдыхает в Брессаноне (Италия).
Ноябрь — декабрь — выступает в Варшаве, Берлине, Кёльне.
1937, январь — май — выступает в концертах и спектаклях в Париже, Бухаресте, Бремене, Праге, Лейпциге, Лондоне, Берлине, Вильнюсе.
3 марта — Монте-Карло. Выступает на открытии сезона в опере «Борис Годунов».
5 и 28 апреля, 6 мая — Варшава. Последние выступления на оперной сцене в спектакле «Борис Годунов».
18 июня — Париж. Концерт в зале «Плейель».
23 июня — Великобритания, Истборн. Последнее концертное выступление.
Июнь — Париж. Посещает советский павильон на Всемирной выставке.
Июнь — сентябрь — лечится и отдыхает в Эмсе, Зальцбурге, Аббаци, Татрах, Вене.
Октябрь — декабрь — Париж, домашнее лечение.
1938, январь — апрель — Париж. Врачи обнаруживают злокачественное белокровие. Шаляпина навещают С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, М. А. Алданов и др.
12 апреля — в 17 часов 10 минут Шаляпин скончался в своем доме на улице д’Эйло.
17 апреля — литургия и отпевание в Александро-Невском храме. Присутствуют члены правительства Франции, представители посольств.
18 апреля — отпевание в русской церкви на авеню Дарю, похороны на кладбище Батиньоль.
РЕПЕРТУАР Ф. И. ШАЛЯПИНА
1890. Стольник — «Галька» С. Монюшко.
1891. Феррандо — «Трубадур» Дж. Верди. Неизвестный — «Аскольдова могила» А. Верстовского. Петро — «Наталка Полтавка» Н. Лысенко.
1892. Валентин — «Фауст» Ш. Гуно. Оровезо — «Норма» Д. Беллини. Кардинал, Альберто — «Дочь кардинала» («Жидовка») Ф. Галеви. Сват — «Русалка» А. Даргомыжского.
1893. Рамфис — «Аида» Дж. Верди. Мефистофель — «Фауст» Ш. Гуно. Гудал — «Демон» А. Рубинштейна. Тонио — «Паяцы» Р. Леонкавалло. Монтероне — «Риголетто» Дж. Верди. Гремин — «Евгений Онегин» П. Чайковского. Сен-Бри — «Гугеноты» Д. Верди. Лотарио — «Миньон» А. Тома.
1894. Лорд Кокбург — «Фра-Дьяволо» Д. Обера. Мельник — «Русалка» А. Даргомыжского. Томский — «Пиковая дама» П. Чайковского. Дон Базилио — «Севильский цирюльник» Д. Россини. Миракль — «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Торе — «Набережная Санта-Лючия» Н. Таски. Бертрам — «Роберт-Дьявол» Д. Мейербера. Цунига — «Кармен» Ж. Бизе. Дон Педро — «Африканка» Д. Мейербера. Старый еврей — «Самсон и Далила» К. Сен-Санса.
1895. Иван Сусанин — «Жизнь за царя». Руслан — «Руслан и Людмила» М. Глинки. Граф Робинзон — «Тайный брак» Д. Чимарозы. Панас — «Ночь перед Рождеством» Н. Римского-Корсакова.
1896. Князь Верейский — «Дубровский» Э. Направника. Судья — «Вертер» Ж. Массне. Владимир Галицкий — «Князь Игорь» А. Бородина. Князь Владимир, Странник — «Рогнеда» А. Серова. Нилаканта — «Лакме» Л. Делиба. Иван Грозный — «Псковитянка» Н. Римского-Корсакова.
1897. Коллен — «Богема» Д. Пуччини. Князь Вязьминский — «Опричник» П. Чайковского. Досифей — «Хованщина» М. Мусоргского. Варяжский гость — «Садко» Н. Римского-Корсакова.
1898. Голова — «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова. Олоферн — «Юдифь» А. Серова. Сальери — «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова. Царь Борис — «Борис Годунов» М. Мусоргского.
1899. Варлаам — «Борис Годунов» М. Мусоргского. Илья — «Илья Муромец» В. Серовой. Алеко — «Алеко» С. Рахманинова. Андрей Дубровский — «Дубровский» Э. Направника.
1900. Бирон — «Ледяной дом» А. Корещенко.
1901. Галеофа — «Анджело» Ц. Кюи. Фарлаф — «Руслан и Людмила» М. Глинки. Мефистофель — «Мефистофель» А. Бойто. Священник — «Пир во время чумы» Ц. Кюи.
1902. Ерёмка — «Вражья сила» А. Серова.
1903. Добрыня — «Добрыня Никитич» А. Гречанинова.
1904. Демон — «Демон» А. Рубинштейна. Гаспар — «Корневильские колокола» Р. Планкетта. Онегин — «Евгений Онегин» П. Чайковского.
1906. Князь Игорь — «Князь Игорь» А. Бородина.
1907. Филипп II — «Дон Карлос» Д. Верди.
1908. Лепорелло — «Дон Жуан» В. Моцарта.
1909. Хан Асваб — «Старый Орел» Р. Гинсбурга.
1910. Дон Кихот — «Дон Кихот» Ж. Массне.
1911. Иван Грозный — «Иван Грозный» Р. Гинсбурга.
1914. Кончак — «Князь Игорь» А. Бородина.
Последние выступления Ф. И. Шаляпина на оперной сцене состоялись 30 марта 1937 года в Монте-Карло и 5, 28 апреля и 6 мая в Варшаве: артист выступил в опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов».
Концертный репертуар Ф. И. Шаляпина был чрезвычайно богат, певец выступал с ариями и ансамблями из опер, исполнял множество романсов и песен (около 150 названий). Наиболее часто звучали вокальные произведения С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Н. А. Римского-Корсакова, А. Г. Рубинштейна, А. С. Аренского, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, русские и украинские народные песни и др. Последний концерт Ф. И. Шаляпина состоялся 23 июня 1937 года в Истборне (Англия).
Первые записи на фонографе Ф. И. Шаляпин сделал в 1898 году, но остался крайне недоволен качеством звуковоспроизведения. Как сообщает И. Н. Боярский, новую попытку записать концертные номера певец предпринял только в 1902 году по предложению английской фирмы «Граммофон», но и на этот раз качество звучания певца не удовлетворило. Регулярно записывать пластинки Ф. И. Шаляпин начал с 1907 года, когда техника звукозаписи стала более совершенной. В дальнейшем певец сотрудничал со многими граммофонными фирмами и записал почти весь оперный и концертный репертуар.
Последние записи Ф. И. Шаляпин сделал в 1936 году во время гастролей в Токио: «Блоха» М. П. Мусоргского и русская народная песня «Эй, ухнем».
Выпущенные на Западе грампластинки дублировались в Советском Союзе и широко тиражировались в 1920–1930-х годах и после двадцатилетнего перерыва — с 1950-х годов.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Иван Яковлевич Шаляпин, отец певца. Конец 1890-х гг.
Федор Шаляпин. 1892 г.
Дом в деревне Ометово, где прошло детство Шаляпина
Ф. И. Шаляпин с отцом и братом Василием. Конец 1890-х гг.
Федор Шаляпин. 1892 г.
Казань, Духосошественская церковь, в церковном хоре которой пел Федор Шаляпин
С. Я. Семенов-Самарский, певец, режиссер, антрепренер
Ю. Ф. Закржевский, певец
В. Н. Андреев-Бурлак, актер, чтец, писатель
Д. А. Усатов, певец, педагог. 1900-е гг.
Дирижер И. А. Труффи
Петербург, Мариинский театр
В. В. Андреев, композитор, виртуоз-балалаечник
Композитор Э. Ф. Направник
Мамонт Дальский, актер
Петербург, Александринский театр
Ю. М. Юрьев, актер, театральный деятель
Шаляпин — Борис Годунов в одноименной опере М. П. Мусоргского. 1898 г.
Шаляпин — Иван Сусанин. 1896 г.
М. В. Дальский — Гамлет. Александринский театр, 1891 г.
Шаляпин — Варяжский гость. Н. А. Римский-Корсаков. «Садко». 1897 г.
Сальери. Н. А. Римский-Корсаков. «Моцарт и Сальери». 1900-е гг.
Досифей. М. П. Мусоргский. «Хованщина». 1897 г.
Федор Шаляпин и Иола Торнаги. 1896 г.
Иван Грозный. Н. А. Римский-Корсаков. «Псковитянка». 1897 г.
Иола Торнаги, балерина Русской частной оперы. 1896 г.
Москва, Солодовниковский театр
Шаляпин — Бирон. А. Я. Корещенко. «Ледяной дом». 1901 г.
Олоферн. А. Н. Серов. «Юдифь». 1898 г.
И. И. Шаляпина с детьми Игорем и Ириной. 1900-е гг.
Особняк в 3-м Зачатьевском переулке, где жила семья Шаляпиных
М. Горький и Ф. Шаляпин. 1903 г.
Вс. Э. Мейерхольд. Около 1911 г.
В. А. Гиляровский. 1902 г.
Иола Игнатьевна и Федор Иванович с детьми. 1910-е гг.
Федор Иванович Шаляпин
Ф. И. Шаляпин и А. И. Куприн. 1911 г.
Участники «Среды»: С. Г. Скиталец, Л. Н. Андреев, М. Горький, Н. Д. Телешов, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин, Е. Н. Чириков (стоит). 1902 г.
Ф. И. Шаляпин с детьми в Ратухине. 1912 г.
В. А. Теляковский, Ф. И. Шаляпин, К. А. Коровин. 1900-е гг.
А. И. Зилоти, пианист, дирижер
Л. Н. Андреев
М. А. Врубель
Ф. И. Шаляпин и В. И. Немирович-Данченко со студийцами 2-й студии МХТ. 1916 г.
Шаляпин — Яшка Турок. И. С. Тургенев. «Певцы». Инсценировка. Александрийский театр, 1918 г.
Мефистофель. 1910 г.
Дон Кихот в одноименной опере Ж. Массне. 1910 г.
Ф. И. Шаляпин позирует И. Е. Репину. Пенаты, 1915 г.
Слушает грамзапись. 1915 или 1916 г.
После концерта в лазарете для солдат. 1914 г.
Кабинет-гостиная Ф. И. Шаляпина в Петербурге. Экспозиция
И. М. Москвин и Ф. И. Шаляпин. 1916 г.
Ф. И. Шаляпин работает над своим скульптурным портретом. 1912 г.
Ф. И. Шаляпин и М. В. Петцольд. 1925 или 1926 г.
С дочерьми Марфой и Мариной. 1923 г.
С Дугласом Фэрбенксом в Лос-Анджелесе. 1928 г.
Ф. И. Шаляпин. 1930-е гг.
С Анной Павловой. 1926 г.
Ф. И. Шаляпин с М. Равелем и певицей Н. П. Кошиц. 1930-е гг.
Ф. Ф. Шаляпин, М. А. Чехов, Н. А. Рахманинова, Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахманинов. Клерфонтен, 1931 г.
С сыном Борисом у своего портрета. 1928 г.
С сыновьями Федором и Борисом. 1928 г.
Ф. И. Шаляпин. 1930-е гг.
На съемках фильма «Дон Кихот». 1933 г.
Ф. И. Шаляпин и Титта Руффо. 1930 г.
Похороны великого певца
Одна из последних фотографий Ф. И. Шаляпина
ЛИТЕРАТУРА
Шаляпин Ф. И. Воспоминания. Страницы из моей жизни. Маска и душа /Вступ. ст., сост., коммент. Е. Дмитриевской, В. Дмитриевского. М., 2000.
Федор Иванович Шаляпин //Литературное наследство: В 3 т. /Ред. — сост. Е. А. Грошева. М.: Искусство, 1976–1979.
Федор Иванович Шаляпин: Альбом /Сост. Р. В. Саркисян, авт. текста Е. Р. Дмитриевская. М.: Музыка, 1986.
Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина: В 2 кн. /Сост. Ю. Котляров, В. Гармаш. Л., 1989.
Амфитеатров А. В. Маски Мельпомены. М., 1910.
Андреев Л. Н. Собрание сочинений: В 17 т. СПб., 1910–1916.
Андреев В. В.: Материалы и документы. М., 1986.
[Андреева М. Ф.] Мария Федоровна Андреева: Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о Марии Федоровне Андреевой. М., 1961.
Андроников И. К музыке. М., 1975.
Арензон Е. Р. Савва Мамонтов. М., 1995.
Болотова Е. Г. Горький и театр. М., 1960.
Беляев Ю. Статьи о театре. СПб., 2003.
Бенуа Ал. Жизнь художника: Воспоминания. Нью-Йорк, 1955.
[Бенуа А.] Александр Бенуа размышляет… М., 1968.
Блок А. А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1960.
Богданович А. С. Страницы из жизни М. Горького. Минск, 1965.
Боголюбов Н. Н. Шестьдесят лет в оперном театре. М., 1967.
Большая цензура: Писатели и журналисты в стране советов. 1917–1956: Документы. М., 2005.
Боровский В. Московская опера С. И. Зимина. Л., 1977.
Бродский И. Мой творческий путь. Л.; М., 1940.
Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1969.
Быховцева Л. Горький в Италии. М., 1975.
Ваксберг А. Гибель Буревестника: М. Горький. Последние двадцать лет. М., 1998.
Варламов А. Н. Алексей Толстой. М., 2006.
Василенко С. Н. Страницы воспоминаний. М.; Л., 1948.
Веригина В. П. Воспоминания. Л., 1974.
Вертинский А. Н. За кулисами. М., 2011.
Виноградов-Мамонт Н. Т. Красноармейское чудо. Л., 1972.
Виноградская И. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись: В 4 ч. М.,2003.
Власть и художественная интеллигенция: Документы. 1917–1953. М., 2002.
Встречи с Мейерхольдом. М., 1967.
Встречи с прошлым: Сборник материалов ЦГАЛИ СССР. Вып. 1, 2. М., 1972, 1976.
Вуль Р. М. Горький в Крыму. Симферополь, 1961.
Гардин В. Р. Жизнь и труд артиста. М., 1960.
Георгиевич Н. Жизнь Федора Ивановича Шаляпина и его артистическая деятельность. Одесса, 1903.
Гиляровский В. А. Избранное собрание сочинений: В 3 т. М., 1960.
Гиппиус З. Живые лица: Стихотворения. Дневники. Тбилиси, 1991.
Глазунов А. К.: Исследования. Материалы. Публикации. Письма: В 2 т. Л., 1959.
Гнедич П. Книга жизни. М., 1929.
Головин А. Я. Встречи и впечатления. Л.; М., 1960.
Гольцман С. В. Ф. И. Шаляпин в Казани. Казань, 1986.
Гозенпуд А. А. Русский оперный театр на рубеже XIX–XX веков и Шаляпин. Л.: Музыка, 1974.
Гозенпуд А. А. Русский оперный театр между двух революций. 1905–1907. Л., 1975.
Гордость России: Максим Горький, Федор Шаляпин. Одесса, 1903.
[Горький М.] Архив А. М. Горького. Т. 4–14. М., 1954–1976.
Горький в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород, 1928.
Горький в эпоху революции 1905–1907 годов. М., 1960.
Горький и Чехов: Переписка, статьи, высказывания. М., 1951.
[Горький М.] Летопись жизни и творчества А. М. Горького: В 4 вып. М.,1958–1962.
Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М., 1990.
Горький М. Полное собрание сочинений: В 25 т. М., 1970–1976.
Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1956.
Грабарь И. Э. Письма. 1891–1917. М.,1974.
Грабарь И. Э. Репин. М., 1963.
Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства. М., 1974.
Дикий А. Д. Повесть о театральной юности. М., 1957.
Дмитриевская Е. Р., Дмитриевский В. Н. Шаляпин в Москве. М., 1986.
Дмитриевская Е. Р., Дмитриевский В. Н. Федор Шаляпин. Царь-бас Федор Иванович. М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998.
Дмитриевская Е. Р, Дмитриевский В. Н. Рахманинов в Москве. М., 1993.
Дмитриевский В. Н. Великий артист. Л., 1973.
Дмитриевский В. Н. Шаляпин и Горький. Л., 1981.
Дмитриевский В. Н., Катеринина Е. Р. Шаляпин в Петербурге — Петрограде. Л., 1976.
Дорошевич В. Старая театральная Москва. Пг., 1923.
[Дорошевич В.] Театральная критика Власа Дорошевича. Минск, 2004.
Дранков В. Природа таланта Шаляпина. Л., 1973.
[Ермолова М. Н.] Мария Николаевна Ермолова: Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников. М., 1955.
Елпатьевский С. Я. Воспоминания за 50 лет. Л., 1929.
Жаров М. И. Жизнь. Театр. Кино: Воспоминания. М., 1967.
Завадский Ю. Учителя и ученики. М., 1975.
[Зилоти А. И.] Александр Ильич Зилоти. 1863–1945: Воспоминания и письма. Л., 1963.
Зоркая Н. М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России. М., 1976.
Ивановский А. Воспоминания кинорежиссера. М., 1967.
Из архивов русских музыкантов. М., 1962.
Из истории кино. Вып. 8. М., 1971.
Ипполитов-Иванов М. М. 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях. М., 1934.
Искусство Артуро Тосканини: Воспоминания. Биографические материалы. Л., 1974.
Карабчиевский Н. Н. Что глаза мои видели. Л., 1927.
Каратыгин В. Избранные статьи. М., 1965.
Каренин В. Владимир Стасов: В 2 т. Л., 1927.
Кашкин Н. Д. Статьи о русской музыке и музыкантах. М., 1953.
Келдыш Ю. В. Рахманинов и его время. М., 1973.
Кнебель М. О. Вся жизнь. М., 1967.
Книппер-Чехова О. Л. Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым: В 2 ч. М., 1972.
Коллар В. 187 дней из жизни Ф. И. Шаляпина. Горький, 1967.
Комарденков В. П. Дни минувшие. М., 1972.
Комаровская Н. О Константине Коровине. Л., 1961.
[Комиссаржевская В. Ф.] Вера Федоровна Комиссаржевская: Письма актрисы, воспоминания о ней, материалы. Л., 1964.
[Коровин К. А.] Константин Коровин вспоминает… М., 1971.
Коровин К. А. Шаляпин. Встречи и впечатления. М., 1993.
Копшицер М. Валентин Серов. М.: Искусство, 1972.
Кристи Г. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
Куприн А. И. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1964.
Лебедева В. Борис Кустодиев. М., 1997.
Левик С. Ю. Четверть века в опере. М., 1970.
Ленин М. Ф. Пятьдесят лет в театре. М., 1957.
Леонидов Л. Д. Рампа и жизнь. Париж, 1955.
Леонидов Л. М. Воспоминания, статьи, беседы. М., 1960.
Лемешев С. Я. Путь к искусству. М., 1968.
Липаев Ив. Федор Иванович Шаляпин: Певец-художник. СПб., 1914.
Литературное наследство. Т. 68. А. П. Чехов и И. А. Бунин. М., 1960.
Литературное наследство. Т. 72. М. Горький и Л. Андреев. М., 1965.
Луначарский А. В. О театре и драматургии: В 2 т. М., 1958.
Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974.
Мейерхольд Вс. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
«Милая моя, родная Россия!»: Федор Шаляпин и русская провинция: Мемуарно-краеведческое издание. Ярославль, 2009.
Моргунова-Рудницкая Н. Виктор Михайлович Васнецов. М., 1962.
Монахов Н. Ф. Повесть о жизни. М., 1960.
Направник Э. Ф.: Автобиографические, творческие материалы, документы, письма. Л., 1959.
Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову: Сборник воспоминаний. СПб., 1910.
Нежданова А. Материалы и исследования. М., 1967.
Нельс С. Андреев-Бурлак. М., 1971.
Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. М., 1989.
Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: В 4 т. М., 2003.
Нестеров М. В. Давние дни. М., 1959.
Нечаев В. П. В поисках минувшего: Из жизни русского зарубежья. М., 2011.
Никулин Л. Федор Шаляпин: Очерк жизни и творчества. М., 1951.
Первая русская революция и театр. М., 1956.
Перестиани И. Н. 75 лет жизни в искусстве. М., 1962.
Пеняев Ив. Первые шаги Ф. И. Шаляпина на артистическом поприще. М., 1903.
Письма М. Н. Ермоловой. М., 1939.
Поленова Н. В. Абрамцево: Воспоминания. М., 1932.
Покровский Б. Об оперной режиссуре. М., 1973.
Попов А. Д. Воспоминания и размышления о театре. М., 1963.
Похитонов Д. И. Из прошлого русской оперы. Л., 1949.
Раскин А. Шаляпин и русские художники. Л., 1963.
Репин И. Е.: Избранные письма: В 2 т. Л., 1957.
Рахманинов С. В.: Воспоминания о Рахманинове: В 2 т. М., 1988.
Римский-Корсаков Н. А.: Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Л., 1982. Т. 8.
Рождественский Вс. Страницы жизни. М., 1974.
Русский провинциальный театр. М.; Л., 1937.
Россихина В. П. Оперный театр С. Мамонтова. М., 1965.
Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
Румянцев П. И. Станиславский и опера. М., 1969.
Русские классики и театр. Л.; М., 1940.
Русская музыка и XX век. М., 1997.
Русская художественная культура конца XIX — начала XX в. М., 1968.
Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. Л., 1971.
Серебров А. Время и люди. М., 1960.
Сивков П. М. Шаляпин. СПб., 1908.
Скиталец С. Г. Повести и рассказы. Воспоминания. М., 1960.
Серов Валентин в воспоминаниях, дневниках и переписке современников: В 2 т. /Ред. — сост. И. Я. Зильберштейн, В. А. Самков. М., 1971.
Собинов Леонид Витальевич: Статьи, речи, высказывания. Письма к Л. В. Собинову. Воспоминания о Л. В. Собинове. М., 1970.
Соколов Н. А. Поездка Ф. И. Шаляпина в Африку. М., 1914.
Старк Эдуард (Зигфрид). Шаляпин. Пг., 1915.
Станиславский К. С., Немирович-Данченко Вл. И. Об искусстве актера-певца. М., 1973.
Стасов В. В.: Письма к родным: В 3 т. М., 1962.
Стасов В. Избранные статьи о музыке. М., 1952.
Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России начала XX века. М., 1976.
Таиров А. Я. Записки режиссера: Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., 1970.
Телешов Н. Д. Избранные сочинения: В 3 т. М., 1956.
Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. Кн. 1. 1898–1901. Москва. М., 1998; Кн. 2. 1902–1903. Санкт-Петербург. М., 2000; Кн. 3. 1903–1906. Санкт-Петербург. М., 2006; Кн. 4. 1906–1909. Санкт-Петербург. М., 2011.
Теляковский В. А. Императорские театры и 1905 год. М., 1926.
Теляковский В. А. Мой сослуживец Шаляпин. Л., 1927.
Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. Париж, 1933.
Толстая Е. Ключи счастья: Алексей Толстой и литературный Петербург. М., 2013.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1929–1958.
У истоков режиссуры: Очерки из истории русской режиссуры конца XIX — начала XX века. Л., 1976.
Федотов Г. П. Судьба и грехи России: В 3 т. СПб., 1991.
Филиппов Б. Актеры без грима. М., 1967.
Фокин М. Против течения. М., 1962.
Ходотов Н. Близкое — далекое. М., 1962.
Черепнин Н. Н. Долгое странствие. М., 1999.
Черкасов Н. К. Записки советского актера. Л., 1953.
Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 1944–1951.
Чехов в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1923.
Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М., 1997.
Черток Б. М. Художник Борис Шаляпин. Л., 1972.
Чехов М. Жизнь в театре. Нью-Йорк, 1940.
Шаляпина Л. Глазами дочери: Воспоминания. Нью-Йорк, 1997.
Шкафер В. П. Сорок лет на сцене русской оперы: Воспоминания. 1890–1930. Л., 1936.
Щербакова И. Горький и А. Толстой в Берлине. 1921–1923 гг. Свердловск, 1951.
Щепкина-Куперник Т. Л. М. Н. Ермолова. М., 1972.
Энгель Ю. Д. Глазами современника. М., 1974.
Этот гений — Федор Шаляпин: Воспоминания. Статьи. М.: Государственный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки, 1995.
Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.
Янковский М. Шаляпин. Л., 1972.
Яремич С. Я. М. А. Врубель. М., 1911.
Ястребцев В. В. Николай Андреевич Римский-Корсаков: Воспоминания: В 2 т. Л., 1960.
Яхонтов А. Театр одного актера. М., 1958.
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Исследователи творчества Шаляпина — искусствоведы, историки, краеведы, сотрудники архивов, библиотек, музеев, частных собраний — за годы работы обнаружили немало документальных источников, мемуарных и эпистолярных свидетельств, разного рода ведомственных циркуляров. Незабываемые впечатления оставили личные встречи с родственниками Федора Ивановича, его бывшими коллегами, друзьями, знакомыми, страстными поклонниками. Всем им автор выражает искреннюю признательность за доброе сотрудничество. Особая благодарность Екатерине Романовне Дмитриевской за помощь в многолетнем изучении жизни и творчества великого артиста.
Примечания
1
Петровская И. Ф. За научное изучение истории. СПб., 2009. С. 203.
(обратно)2
Иван Павлович Ропет (настоящие имя, отчество и фамилия Иван Николаевич Петров, 1845–1908) — русский архитектор, оказавший большое влияние на формирование «псевдорусского стиля» в архитектуре и искусстве.
(обратно)3
Тенишева М. К. Впечатления о моей жизни. Л., 1991. С. 175, 176.
(обратно)

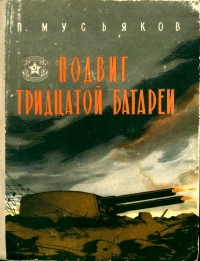




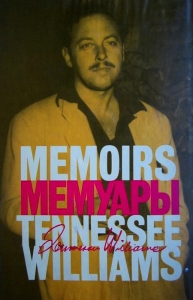
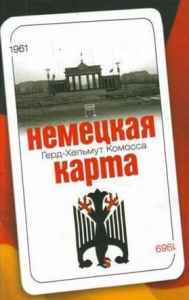

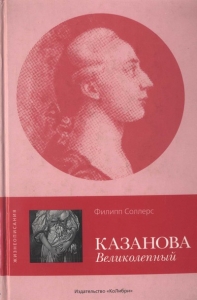
Комментарии к книге «Шаляпин», Виталий Николаевич Дмитриевский
Всего 0 комментариев