Барт Муйарт Братья Самый старший, самый тихий, самый настоящий, самый далекий, самый любимый, самый быстрый и я
Bart Moeyaert
Broere
Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с письменного согласия издательства.
© 2000 by Bart Moeyaert Amsterdam, Em Querido’s Kinderboeken Uitgeverij
© Михайлова И. М., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом “Самокат”», 2017
* * *
Посвящается Йосу, Марку, Рику, Яну, Пату, Паулю и покойному королю
От рожденья
Мы с братом лежали вдвоем на кровати и пытались найти правильную сторону тела. В эту ночь у нас никак не получалось заснуть, потому что головы были слишком переполнены. День был богат событиями, мы много всего делали, но мало думали и теперь перед сном хотели наверстать упущенное. В темноте мы переворачивались то так, то этак, то на спину, то на живот, то на бок, то на другой бок, как будто обжаривались со всех сторон на сковородке. Казалось, этому конца не будет, пока мой брат вдруг не спросил в темноте, знаю ли я, отчего у него иногда свистит в ухе.
– Я не знал, что у тебя иногда свистит в ухе, – сказал я. – Ни разу не слышал свиста у тебя в ухе, вернее, не помню.
Брат ответил, что это и не удивительно.
– Окружающим этот свист не слышен. Его слышу только я и всегда пугаюсь. Страшно же, когда кто-то пляшет на твоей будущей могиле.
Поскольку я лежал в это время на животе, зарывшись одним ухом в подушку, я расслышал только половину того, что говорил мой брат. Прошло порядочно времени, прежде чем у меня все выстроилось в одну цепочку. На будущей могиле? От ужаса я сел в кровати.
– Откуда ты узнал про могилу? – спросил я.
Я изо всех сил таращил глаза, но не мог разглядеть брата в темноте.
– Это не из таких вещей, которые можно узнать, – сказал он. – Это из таких вещей, которые знаешь от рожденья. Которые передаются по наследству: раз свистит в ухе, значит, кто-то пляшет на твоей будущей могиле.
– А почему тогда я этого не знаю? – спросил я.
Я откинул одеяло, на холодном линолеуме нащупал ногой тапки и на цыпочках пошел во вторую комнату, где спали другие братья. Оказалось, они тоже не могли уснуть. Услышав мои шаги, все сели в кроватях, включили ночник и спросили, что случилось. Они явно надеялись, что случилось много всего. Я спросил, свистит ли у них когда-нибудь в ушах и знают ли они, что это значит. Я думал, им понадобится время на размышление, но братья ответили с ходу. Они сказали, что у них часто свистит в ушах и, значит, в этот момент кто-то пляшет на их будущей могиле. И уставились на меня таким неподвижным взглядом, что я сразу понял, какой я маленький, даже очень маленький, вообще-то самый младший.
– Ты хочешь сказать, что у тебя никогда не свистело в ушах? – спросил брат.
– Никогда, – ответил я. – Вернее, не помню.
Братья переглянулись, потом посмотрели на мои уши и принялись выразительно двигать бровями.
Один из братьев поднял левую руку. И сказал:
– Подожди-ка. Ты же не станешь говорить, что у тебя никогда в жизни не чесалась левая ладонь?
– Или правая, – добавил другой брат.
Я помотал головой и пожал плечами.
– Когда чешется левая рука, это к деньгам, – сказал первый брат.
– А когда правая, то к потере денег, – сказал второй брат. – Слева – клёво, справа – подстава.
У меня перехватило дыхание. Я смотрел на свои руки, которые, кажется, до сих пор ни разу не чесались. Все сходилось: своих денег у меня никогда еще не было, но и терять их я тоже еще не терял.
– И вы все это просто так знаете, – сказал я. – Почему же мне этого никто не рассказал?
– О таких вещах не рассказывают, – сказали все братья разом. – Такие вещи заложены в генах. Их просто знаешь от рожденья.
– Точно так же все знают, что когда про тебя сплетничают, то в ушах гудит, – сказал один брат.
– А бывает, что уши от этого горят, – сказали другие братья. – Или трепыхаются. Это все равно: и то и то значит, что про тебя сплетничают.
Столько всего нового за один вечер я никогда еще не узнавал. Все, что я должен был знать от рожденья и даже еще раньше, вдруг начало происходить со мной одновременно. В ушах у меня засвистело, левая ладонь зачесалась, правая тоже, мои уши затрепыхались и запылали огнем. Я посмотрел на моих братьев: на самого старшего, на самого тихого, на самого настоящего, на самого далекого, на самого любимого и на самого быстрого. Они все сидели и чесали себе носы.
– Подождите, – сказал я. – Это тоже что-нибудь значит? Когда чешется нос?
– Да, – сказали братья. – Значит, кто-то про нас думает.
И точно. В эту минуту в комнату вошел папа. Он думал про нас, и он дал нам всем по хорошей оплеухе, так что в ушах загудело, а потом они у нас еще долго горели.
Трубка
У нашего папы была трубка, которая помогала ему думать. Трубка свисала у него из угла рта, всегда с одной и той же стороны, так что руки у него были свободны, и он мог держать стакан, или книгу, или авторучку. Из папиного рта и из трубки шел голубой дым, он окутывал папу со всех сторон, и получалось, будто папа сидит в отдельной комнатке.
Когда он курил, мы пробирались мимо его кресла, точно воры. Мы не подходили близко из-за табака, который норовил проникнуть нам в легкие, но еще больше оттого, что боялись папиного выражения лица во время курения. Глаза у него казались такими же дымчатыми, как и стены его комнатки. Взгляд был обращен куда-то внутрь.
Мама называла это «он занимается». Что-то изучает. Она просила нас как можно меньше ходить в это время по комнате и вообще вести себя как можно тише, потому что если мы нарушим течение папиных мыслей, то он потеряет нить, тогда ему придется начинать все заново и, может быть, он вообще не доберется до того места, на котором он сейчас.
Мы и сами знали по своему опыту, что мысли совершают иногда очень странные скачки, но у нас в голове не укладывалось, почему мама курение называет «изучением». Если бы кто-то другой просидел в кресле целый час с трубкой во рту, мама сказала бы, что он бездельничает. «Иди чем-нибудь займись», – сказала бы она.
– Но это правда, – говорила мама. – Трубка помогает папе размышлять. А размышлять для папы – то же самое, что изучать.
Мы смотрели из кухни через открытое окошечко для передачи пищи и видели, как наш папа сидит в гостиной и размышляет. Одним уголком рта он производил звук капающего крана. И с каждой «каплей» изо рта вырывалось облачко дыма. Мне казалось, что каждое такое облачко – это вылетевшая из головы мысль. Лишняя, которая уже не нужна голове.
Мы верили маме, но не до конца. Нам нужны были доказательства. Хотя надо признать, что папа никогда не сидел в своем кабинете из дыма дольше, чем требовалось на одну трубку. Потом он ложечкой вычищал пепел из трубки над пепельницей, стоявшей на столике у кресла, разок кашлял и, не сказав ни слова, уходил в свой настоящий кабинет. Там дымовой завесы не было, там была завеса тишины. До кухни доносилось поскрипывание колесиков офисного кресла у папиного письменного стола, и мы знали, что теперь долго ничего другого не услышим. Он будет дальше писать свой учебник для детей, которые пока еще ничего не знают о прошлом.
Нас с братьями все это очень беспокоило. Как-то раз мы все обступили пепельницу и осмотрели комок, который папа вынул ложечкой из трубки. С одной стороны этого комка был пепел, а с другой – непрогоревший табак. Один брат поднял голову и сказал, что у него в комнате есть несколько каштанов. Другой брат тоже поднял голову и сказал, что у него есть ножик, а третий сказал, что готов поделиться пустыми шариковыми ручками. Они посмотрели друг на друга, подвигали бровями и принялись шептаться и хихикать. Вытащили комок из пепельницы. Мы, остальные, вздохнули. Мы были не глупые и умели разгадывать загадки. И еще до того как все собрались в шалаше за сараем, мы поняли, что будет дальше.
– Сейчас мы исследуем этот вопрос, – сказал брат.
– Сейчас мы исследуем, что делает трубка с мозгом, – сказал другой брат.
С каждого каштана они срезали крышечку и вынули ядро, а с другой стороны скорлупы просверлили дырку и вставили пустую трубочку от шариковой ручки.
– Ничего страшного, что наши самодельные трубки некрасивые, – сказал брат. – В трубке главное, чтобы она хорошо курилась, потому что иначе будешь больше думать, как ее раскурить, чем следить за ходом своих мыслей. И тогда не узнаешь, правда ли человек благодаря трубке много узнает и начинает мыслить лучше.
Из семи сделанных нами трубок ему пришлось выбрать одну, потому что табака у нас было только на одну трубку.
– Могли бы раньше сообразить, – сказал брат.
– Пока не закуришь трубку, и не сообразишь, – сказал другой брат. – Давай, начинай исследование!
Брат провел исследование сразу, еще до ужина. Вставил трубку в угол рта, поднес спичку и через некоторое время стал издавать точно такие же звуки, как папа. Мы спрашивали его, как идет дело, но он только бурчал и постанывал, как человек, который полностью занят собственными мыслями. Было видно, что он узнаёт много нового, потому что глаза его все больше затуманивались, а стены его туманного кабинета становились все толще и толще. Он курил до тех пор, пока мама не позвала нас ужинать.
После этого брат неспешно вытряхнул пепел из каштана и кашлянул. Затем, ни слова не говоря, пошел куда-то в глубь сада. Мы смотрели ему вслед. Сейчас он был очень похож на папу. Мы знали, что во время ужина не увидим его за столом. Нам было ясно, что благодаря трубке он что-то узнал, что-то, что он – в точности как папа – должен непременно обдумать в одиночестве. В таком месте, где висит тишина.
Не спеша
Когда мы кончили обедать, мама сказала, что мы опять слишком быстро ели. И спросила: помним ли мы, что мы проглотили минуту назад? Мы испуганно посмотрели на маму, подняли с тарелок наши ножи и вилки, чтобы посмотреть, не осталось ли под ними какого-нибудь несъеденного кусочка. Нет, ни крошки. Тарелки были чистые, как вылизанные.
Один брат сказал, что мы ели сосиски… или нет, котлеты, и мы все стали высказывать разные предположения. Мама все выслушала про выдуманное нами мясо и сочиненные овощи и покачала головой. И сказала, что мы просто ужасные мальчишки. В наказание поставила перед нами чистые тарелки. Велела нам молча сидеть на своих местах, а сама принялась петь и ходить туда-сюда между кухней и столовой. Убрала обеденные приборы, разложила приборы для десерта, допела свою неспешную песенку.
– А теперь начинаем сначала, – сказала она, ставя на стол поднос с мисочками и тарелками. – Все заново и не спеша.
Кивнув, мама указала на поднос.
Мы стали рассматривать, что лежит в мисках и на тарелках. А на них лежало столько всего разного, что от удивления мы рты разинули. Один брат чуть не свалился со стула, другой, самый молчаливый, тихонько зажужжал. Мама была как волшебница. Она указывала на пирожок или на пирожное и говорила его название, которое, по-моему, тут же на месте и придумывала. Тыкала пальцем в сладкие гренки или в кексики и объявляла, что вот это – «болтунишки», а то – «толстячки», а вон то – «пока, братишки!». И все с таким видом, будто это чистая правда.
Мы мотали головами и говорили:
– Мама, мы все равно не запомним.
– Запомните, если будете есть не спеша, – сказала мама. – Надо постараться. Печенье и пирожные не поливают соусом и едят по одному. Важно не перепутать, что лежит у нас на тарелке. Каждый кусочек надо прожевать и только потом глотать, потому что иначе подавишься.
Мы все время оставались начеку. У нас с братьями было ощущение, что мама говорит совсем не то, что у нее на уме, но мы не понимали, к чему она ведет.
Она с довольным выражением лица обвела глазами весь стол, от старшего брата, сидевшего от нее с одной стороны, до меня, сидевшего от нее с другой стороны, протянула руку к блюду с теплыми гренками. Положила ломтик себе на тарелку, отрезала кусочек, отправила в рот и стала жевать.
Оттого что мы на нее смотрели, наши челюсти тоже невольно задвигались. Мы жевали свои языки и глотали слюнки, которыми наполнился рот. У мамы был такой счастливый вид, она так наслаждалась своим ломтиком, что и нам тоже захотелось попробовать.
Мы не задумываясь перегнулись через стол, запустили руки в миску с «болтунишками» и цапнули с тарелки по пригоршне «пока-братишек». Мама проглотила свой кусочек как раз вовремя, чтобы сказать, прежде чем мы успели набить рты:
– Не спе-ша!
А мы-то совсем забыли! Мы положили все, что успели нахватать, себе на тарелки и виновато на них уставились.
– Ради Бога, не торопитесь, – сказала мама.
Мы медленно, с достоинством кивнули и продолжали сидеть, глядя в свои тарелки. Привет, «болтунишка», думали мы. Привет, кексик «толстячок».
Мы ничего не запихивали в рот целиком. Отрезáли по кусочку от пирожного, отламывали по кусочку от печенья и по отдельности клали в рот. Глотали не сразу, сначала жевали и ощупывали языком. Кончик языка чувствовал сладость меда, на кисловатое варенье отзывались краешки языка, горечь кусалась в глубине рта, и все обволакивал вкус миндаля. Глотая, мы блаженно откидывались на спинку стула. Такого с нами никогда еще не бывало.
– Такого с нами никогда не бывало, – сказали мы маме.
– Рада за вас, – сказала мама.
– С сегодняшнего дня мы всегда будем есть не спеша, – пообещали мы. – Честное слово!
– Рада за вас, – сказала мама. – Не спеша всегда вкуснее.
Мы не спеша доедали кексики и печенье на тарелках и в мисках и думали, что вечно будем держать данное маме слово. Вечером мы дольше обычного наслаждались вкусом черного хлеба. На следующее утро мы осознали, как, оказывается, вкусно есть на завтрак вареное яйцо.
Но вскоре мы поняли, что мама нас перехитрила.
– Как я рада, что вы теперь едите не спеша, – сказала мама перед обедом и поставила на стол две кастрюли, от которых шел пар.
На всякий случай мы поблагодарили маму за то, что она нас похвалила.
– Не беспокойся, мама, – сказали мы. – Есть не спеша нам совсем не трудно.
После чего попытались улыбнуться с куском сухой свиной печенки за зубами и кочанчиком брюссельской капусты под языком. Едва мама отвернулась, мы проглотили то и другое целиком.
Нигде, ничего
Однажды ночью мой брат залез в постель холодный. Холод застрял у него в пижаме, и дыхание тоже было уличное.
– Где ты был? – спросил я, когда он наконец улегся.
– Нигде, – сказал он.
– Значит, там холодно, – сказал я и поежился.
Он не ответил.
Я ждал, что он сейчас отдышится и что-нибудь скажет, но он ничего не сказал. Он улегся на бок и затих, будто его вообще не было. Он не чесался, не тер ступни руками, чтобы согреться, не сворачивался калачиком. Я долго лежал, пытался расслышать хоть какой-нибудь звук, все равно какой, но все было тихо. Все спали: соседская собака, сами соседи, все машины в округе, ветер. Даже деревья за окном не шелестели. Ни вздоха, ни шороха.
Я как раз собирался снова спросить у брата, где он был, когда на лестнице послышались шаги. Скрипнула ступенька, которая всегда скрипит. А потом скрипнула дверь. Я сел в постели и в темноте увидел, как другой мой брат, пригнувшись, точно вор, пробирается к своей кровати. Он шел не на ощупь, а совершенно уверенно, и быстро юркнул в постель.
Я не ошибся: мой второй брат тоже принес с собой холод.
– Где ты был? – спросил я, когда он улегся.
– Нигде, – сказал он.
– Нигде, – повторил я и стал растирать ладонями свои плечи, чтобы прогнать мурашки. Я нарочно смотрел в сторону его кровати: сейчас он почувствует мой взгляд и скажет, где был, чтобы только от меня отвязаться. Но брат не почувствовал. Он молчал. Сначала он притворялся, что спит и даже вовсе не просыпался, а потом не разжимая губ сказал, что у меня слишком буйная фантазия и вообще винтиков не хватает.
Прошло много времени, прежде чем я сообразил, что давно уже не лежу, а сижу, сердце у меня колотится, я чего-то жду, но ничего не происходит, только в ушах шумит из-за того, что кругом так тихо. Наверное, уже середина ночи. Вот, значит, как выглядит ночная мгла. На другой стороне земного шара сейчас светло. Люди там надевают кроссовки и идут на работу, едят на завтрак бублики, вагоны метро с грохотом выезжают из-под земли. А тут, на этой стороне, все спит, а что не спит, то скрыто во мгле.
Я раскрыл глаза как можно шире. Оттого что я старался не думать о тех существах, которые прячутся у меня под кроватью или за занавесками, перед моими глазами начали появляться самые ужасные страшилища. Они сидели по всем углам. У них были когти, они ухмылялись, скалили зубы и двигались по-паучьи, боком. Еще минута – и я услышу топот восьми лап по линолеуму.
Я очень медленно лег. Вжал голову в подушку, чтобы ничего не слышать, потерся спиной о матрац, который защищал меня снизу, укрылся толстым одеялом и только через несколько секунд решился снова дышать. Спокойно, спокойно…
И тут лестница опять скрипнула.
В голове у меня тотчас распрямилась пружина, я снова сел и навострил уши: что там у двери? Услышал приглушенный смех двух братьев. Мне показалось, что от хохота они одной рукой держатся друг за друга, а второй зажимают друг другу рот, а если бы не зажимали, то расхохотались бы в голос.
Через приоткрытую дверь в комнату начал просачиваться холод.
Один брат спросил:
– Завтра опять?
– Да, завтра опять, – прошептали мои братья. Оказывается, они вовсе и не спали.
Я смотрел в темноте то на одного, то на другого.
Я спросил:
– Что «завтра опять»?
Стало тихо, как будто они удивились, что я еще жив.
– Ничего, – сказали они. – Ничего.
Никто ничего ни о чем не знает.
Весна
Когда приходило время раскрывать окна во всю ширь и вывешивать одеяла на весеннее солнышко, мы с братьями теряли покой. Каждый год в эту пору бабушка говорила, что зима – укромное время года: несколько месяцев жизни прошли невидно и неслышно, ни шатко ни валко, но прошли. Соседка каждый год уверяла, что этой зимой во сне поумирало много стариков, ну а нас самих через неделю-другую начинало преследовать неотступное желание выяснить наконец, правда ли, что крысы утаскивают утят под воду.
Зима миновала.
Настало время большой уборки. Мама с бабушкой уже отправились на рынок за замшевыми салфетками, резиновыми галошами и новыми фартуками. Мы знали, что скоро будет много пыли, мыльной пены и сквозняков. Целую неделю мы будем выслушивать мамино и бабушкино ворчание про то, откуда только берется столько хлама и какой стыд-позор, что в этом доме невозможно просто так подняться на чердак, а сначала надо перелезть через горы. И что мы за люди такие, что никогда ничего не выкидываем?
Чтобы не выслушивать все это до конца, мы сразу виновато опускали головы и соглашались, что мы именно такие люди.
«Но это только кажется, что это хлам, – говорили мы. – Вот это мешок с очень нужными пружинами, а тут очень ценные железяки, а тот ящик из-под апельсинов только кажется ящиком из-под апельсинов, а на самом деле это важная часть будущей конструкции. Скоро увидите».
И мы не врали. Во время большой уборки всегда наступал момент, когда мы, сидя в кроватях, рассуждали о том, что́ нам хотелось бы найти. Чаще всего мы мечтали о вещах, которые можно сразу взять и использовать, – вроде велосипеда, удочки или игрушечного поезда на батарейках. Просто протяни руку и возьми! Нет ничего невероятного в том, что в один прекрасный день нам попадется велосипед или удочка, ведь во время большой уборки все-все соседи освобождают свои подвалы и чердаки; они выставляют все ненужное у своей калитки или у стены дома, а потом по улице проезжает грузовик и все забирает. Никогда не знаешь, вдруг кому-то вздумается избавиться от велосипеда, или удочки, или поезда. А бывший владелец будет смотреть вслед грузовику с чувством удовлетворения, потому что теперь его дом пуст и можно начинать захламлять сначала.
Пока что такого не случалось. Мы еще ни разу не нашли среди выставленных после уборки вещей ни велосипеда, ни удочки, ни поезда. Но мечтать – занятие приятное, и разговаривать о своих мечтах тоже приятно, а чтобы заранее себя утешить, на случай если наши мечты все-таки не сбудутся, мы тут же заодно говорили о том, что́ мы найдем наверняка – уж это-то мы находили каждый год.
А бабушка с соседкой всегда нас успокаивали. Да, во сне поумирало много стариков, и да, зима – укромное время года. Жизнь идет дальше, пусть невидно и неслышно, ни шатко ни валко, но идет.
Мы сидели и прикидывали, кто из младенцев уже точно вырос из своей коляски и как мы найдем среди соседского хлама раму с колесами и сделаем из нее гоночный автомобиль.
– Класса люкс! – воскликнул один из братьев.
Когда мы оглянулись на него, он уже вскочил на ноги и сам стал гоночным автомобилем класса люкс, с пружинами вместо рессор и с ящиком из-под апельсинов вместо багажника. Мы тут же мысленно отыскали среди выставленной на улицу рухляди несколько досок, скрепили их при помощи ценных железяк, и еще нашли кресло без ножек и сделали из него широкое сиденье. И понеслись на нашем гоночном автомобиле по извилистой трассе на бешеной скорости. Ну и крутые же повороты! Это сразу слышно по визгу тормозов и скрипу шин.
– Вот это скорость! – кричал один из братьев. – Номер три красного цвета выходит на последний вираж!
Мы все скрипели и визжали и одновременно представляли, как мы находим полбанки красной краски и выводим на дверце нашей машины цифру 3, – и так продолжалось до тех пор, пока мой брат не врезался на полном ходу в дерево и не рухнул на кровать.
– Ого! – завопили мы и даже закашлялись от возбуждения.
– Вот это класс, отличная гонка!
– Вот так все и будет! – сказал один брат.
– Если повезет, – добавил другой брат.
Это замечание вернуло нас на землю.
– Посмотрим, – сказали мы, предвкушая. – Наверняка хоть один младенец вырос из своей коляски. Зима – укромное время года.
Мы улеглись на бок и спокойно заснули. Не найдем коляску – значит, найдем велосипед, или удочку, или поезд. В самом крайнем случае превратим наши железяки, мешок с пружинами и ящик из-под апельсинов обратно в хлам и вытащим его к калитке. Ничего страшного. Зато можно будет неделей раньше начать исследование вопроса об утятах и крысах. Весна несет с собой столько возможностей!
Это совсем не страшно
Папа привез нас в город, в котором мы никогда раньше не бывали. В машине он вслух рассуждал сам с собой о том, не малы ли мы для такой серьезной поездки. Город, куда мы ехали, был больше и выше всего, что мы видели в своей жизни, улицы в нем названы в честь разных стран и людей и такие широкие, что кое-где даже похожи на площади.
– Он очень большой, – предупредил папа.
Мы пожали плечами.
– Ну и что, что большой, – сказали мы сурово. – Это совсем не страшно.
– Гм… – сказал папа. – В кино – не страшно. А в жизни – другое дело. В жизни город очень шумный. Какой-нибудь трамвай мчится со звоном мимо, чуть тебя не задевает. Или вдруг за спиной сигналит автобус, весь набитый людьми. Или поезд метро несется в темный туннель, аж ветер свищет.
– А нам все равно не страшно, – сказали мы.
– Тогда все в порядке, – ответил папа. – Я просто хотел убедиться.
Он съехал со скоростной дороги. Вдали белело много домов, а еще дальше – еще больше домов.
– В городе столько камней, – изрек один мой брат.
Прозвучало смешно – как будто камни сейчас посыплются на нас сверху. Мы все посмеялись, но не очень искренне: мы понимали, что в городе на нас могут свалиться любые неожиданности.
Мы даже немножко сжались на заднем сиденье, но все равно вытянули шеи. Чтобы ничего не пропустить. Мы как раз проезжали между двумя высоченными домами, слева и справа от нас рядами мчались другие автомобили, и казалось, что папе вообще не надо вести машину, будто она катится сама по себе. Даже не катится, а скользит; и мы соскользнули в яму, оказавшуюся туннелем. Потом проскользили еще несколько поворотов и очутились в огромном подвале.
Пока папа припарковывался, мы с братьями поняли, что город – это такой лабиринт, о котором перед сном лучше не думать. Под землей тут все изрыто пещерами и пахнет бензином, а над землей – улочки-улочки-улочки, переходящие одна в другую, и конца им нет.
Мы держали в руках полиэтиленовые мешочки с завтраком, которые нам дала мама. В них было по бутылочке яблочного сока, по шоколадке с коровой на обертке и по бутерброду с яйцом. Большинство братьев уже съели свои шоколадки, и им тут же захотелось пить, так что они сразу открыли и сок.
Но несколько братьев, и я в том числе, были умнее. Наш завтрак оставался в целости-сохранности. Если мы вдруг заблудимся, то по крайней мере не умрем от голода и жажды. При мысли, что тут можно заблудиться, становилось не по себе. У папы не было семи рук, чтобы держать каждого из нас за руку. Поэтому мы путались у него под ногами, наступали на пятки и радовались, что он из-за этого ругался: ведь когда он ругается, мы слышим, что он рядом.
– Это самая красивая площадь в нашей стране, – сказал нам папа, когда мы пробирались сквозь огромную толпу. – Ее уровень сейчас на полтора метра выше, чем раньше. Звучит странно, но так оно и есть.
Это звучало не странно, а бесполезно. Мы хотя и находились на полтора метра выше, чем раньше, но все равно ничегошеньки не видели, потому что нас окружало много-много плащей, курток и длинных пальто. И все они норовили вклиниться между нами. Казалось, они хотят оттереть от нас папу. Они так напирали, что мы с братьями заволновались и начали выкрикивать:
– Папа!.. Папа!..
Как мы обрадовались, когда все в полном составе перебрались на противоположную сторону площади и смогли наконец отдышаться. В тот момент нам больше всего хотелось вернуться обратно к машине, запрыгнуть в нее и мчаться по скоростной дороге туда, где все маленькое, тихое и неторопливое.
Но тут мы увидели мышку. Не знаю, кто ее увидел первым, но мы, все семеро, разом погнались за ней с криками, рассыпавшись между плащами, пальто и куртками. Мышка металась из стороны в сторону, люди бросились врассыпную, а мы с братьями хохотали и улюлюкали, как всегда хохотали и улюлюкали, гоняясь за мышкой дома. По самой красивой площади в стране будто прокатилась волна, а мышка как неизвестно откуда появилась, так неизвестно куда спряталась.
Тут мы очень сильно сами себе удивились, потому что, когда подняли головы, мир оказался уже совсем другим. Папа-то был прежним, но вокруг нас было уже гораздо меньше пальто и плащей, а самая красивая площадь страны оказалась намного красивее, чем нам показалось сначала. И не такой большой. О чем мы друг другу и сообщили.
– Не такая уж она большая, эта площадь, – говорили мы, а сами украдкой посматривали на землю: не слышит ли нас мышка.
Земля
За тарелку брюссельской капусты мы купили кусочек земли. Земельный участок метр на метр за одну тарелку брюссельской капусты – выгодная сделка, но братья были от нее не в восторге. Земля их не особенно интересовала, да и капуста тоже. Меня интересовала, но я не в счет. Братья согласились только потому, что сделка – это что-то новенькое: ведь никогда не знаешь, что из чего получится.
– Выбирайте, – сказал папа. – Какую землю вы хотите за то, что съели капусту? С травой, с цветами или просто землю, без ничего?
Братья переглянулись, почмокали губами. И выбрали землю с цветами.
Я удивился. Почему не с травой? В траве мог бы жить кролик. И почему не просто землю? На ней можно вырастить что угодно: на половине – траву для кролика, а на другой половине – цветы для красоты, если уж им так хочется.
Но у братьев был нюх на выгодные сделки. Они нарисовали на клумбе квадрат и сказали:
– Вот этот кусок.
– Этот? – уточнил папа. – Договорились. Этот – значит, этот. Что над ним, что под ним – все ваше.
– Да, – сказали братья.
– Да, – сказал я, и мы пошли в дом, потому что уже опять проголодались.
Один брат сказал, что нам нужны ножницы, чтобы убрать урожай.
– Урожай? – переспросил я.
– Да, урожай, – сказали братья. – Плоды. – И еще закатили глаза, чтобы показать, что голова-то у меня большая, а мозгов в ней совсем нет.
Они срезали ромашки. Сложили в букетики по десять штук, обернули старыми газетами и пошли по домам продавать их соседям. Говорили, что деньги пойдут бедным детям, и это была чистая правда. Мы же бедные дети, у нас ведь нет собственных денег.
Последний букет мои братья продали Фоке. Это они здорово придумали – чтобы не бегать лишний раз туда-сюда. Они в любом случае должны были зайти к Фоке.
Жена Фоке достала из-за ящиков с овощами и фруктами коробку семян и разрешила братьям в ней порыться. Братья выбрали большой пакет, на котором был изображен ящик с кресс-салатом, и пакетик поменьше – с фотографией петрушки в корзинке.
– Хорошие семена, – похвалил Фоке. – Вырастут здоровые растения.
– Мы тоже надеемся, – ответили мои братья.
И мы пошли домой; вошли в дом через дверь со стороны улицы и сразу вышли через заднюю дверь в сад, к нашему клочку земли.
– Давайте сеять, – сказали братья.
Они взмахнули руками, будто нарисовали столб от земли до самого неба. Потом уронили руки резко вниз, будто хотели показать, как далеко простирается наш участок вглубь, под землю. Все-все под нами принадлежало нам, до самого огненного ядра Земли. И все у нас над головой принадлежало нам, целая бесконечность плюс еще один километр.
Я сказал, что никогда не думал, что вместе с квадратным метром поверхности приобретаешь столько земли и столько воздуха.
– Да-да, – сказали братья, – но семена можно сеять только посередине между тем и этим. Вот тут.
И они указали на наш кусочек земли метр на метр.
Они посеяли кресс-салат и петрушку, как будто посыпали землю сахарным песком, и вылили целую лейку воды.
Потом, сложив руки на груди, они стояли вокруг нашей земли и глядели, как вода постепенно впитывается. Из-под земли выходили пузырьки воздуха. Очень красиво.
Воздух поднимался из земли и проникал в ноздри. Пахло травой, древесиной и навозом. Я указал братьям на наш воздух, но они меня не поняли. Подумали, что я указываю на дождевого червяка, который из-за нас чуть не утонул.
– Во как извивается, – сказал один брат.
– Наверх хочет, на воздух, – сказал другой брат.
А первый брат сказал, что еще никогда не видел, чтобы дождевые черви летали по воздуху, и все засмеялись.
– Оп-ля! – воскликнули они.
А потом пошли играть в футбол. Потом они ловили рыбу, потом надували лягушку и делали еще много всего, что дает быстрый результат. И кричали мне издали: не взошло ли что-нибудь?
– Еще нет, – отвечал я. Но я не признавался, что уже слышу, как прорастает кресс-салат.
Я поглаживал землю маленькими граблями и время от времени наступал одной ногой на нашу землю, чтобы постоять в нашем собственном воздухе.
Конесайкáч
Однажды утром папа сказал, чтобы мы сходили в пекарню к Габи. Он заказал у нее для нас конесайкач, и за ночь она его как раз испекла, причем без изюма.
Мы посмотрели на папу с удивлением: зачем он это так подробно объясняет? Он покрутил рукой возле уха и улыбнулся одним уголком рта. Вы, говорит, наверняка не ели конесайкача с изюмом, иначе знали бы, что на вкус это еще противнее, чем ячменная каша. Зато без изюма – пища богов.
Мы расхохотались.
– Что смешного? – спросил папа.
Мы не ответили. Схватились за животы и крепко сжали губы, чтобы сдержать смех, потому что было первое апреля, и один из братьев уже успел связать под столом шнурки папиных ботинок. Папа ни о чем не подозревал, и мама с бабушкой тоже не догадывались, что мы еще в самом начале завтрака привязали их к стульям ленточками от их халатов.
– Ладно, мы пошли, – сказал мой брат с красным от возбуждения лицом.
– Ага, – сказали мы.
Выйдя на улицу, мы обнаружили, что почти не можем идти. Мы так хохотали, что руки и ноги нас не слушались. Мы наскакивали друг на друга и кричали: «С первым апреля! С первым апреля!» И представляли себе испуганные лица папы, мамы и бабушки, и уже договорились, что устроим еще несколько таких же веселых дней в году. Например, третьего мая или, скажем, двадцать первого июня.
На пороге пекарни мы притихли, потому что мы очень уважали Габи. По ее лицу было видно, что она мало спит. У нее были мешки под глазами и озабоченное лицо. По ночам она помогала мужу, которого мы всегда видели только за рулем их фургончика – он развозил хлеб. Габи с мужем-пекарем работали без передыха. У них ни минуты лишнего времени, тут не до болтовни.
– Что вам сегодня? – спросила Габи, когда увидела нас у прилавка.
– Конесайкач, который папа заказывал, – сказали мы.
– Как-как? – переспросила Габи.
– Конесайкач, – сказали мы. – Без изюма.
Один из братьев сказал, что папа не смог сам прийти за заказом, потому что мы ему связали шнурки. И засмеялся: «С первым апреля! С первым апреля!»
Мы опять принялись хохотать, ничего не могли с собой поделать. Даже Габи развеселилась, мы это заметили, потому что ее глаза на минутку посветлели.
– Да, правильно, – сказала она и прикусила губу, чтобы не рассмеяться. – Конесайкач, сейчас принесу.
Она вышла через дверь, за которой была еще одна дверь. Мы как раз разговаривали о ногах Габи – она всегда ступала так, будто нарочно выворачивала стопы, – когда из-за двух дверей, ближней и дальней, послышался громкий смех. Это веселились Габи с ее мужем-пекарем. Мы были очень довольны, что доставили им удовольствие. Вот как им понравилась наша шутка с папиными шнурками!
– С папой у нас здорово получилось, да! – сказали мы, когда Габи вернулась, все еще продолжая смеяться.
– Да, – сказала она. – Здорово!
И положила руку на свежий конесайкач, который был очень похож на обычную булку, только очень большую.
– Передайте папе, что он это здорово придумал, заказать конесайкач, – сказала Габи.
– Хорошо, передадим, – сказали мы. – Но он и сам знает. Говорит, конесайкач без изюма – это пища богов.
– Точно! – сказала Габи, завернула пищу богов в тонкую бумагу и положила на прилавок перед нами. – Пища богов!
– Да! Ура папе! – закричали мы наперебой. И попрощались с Габи, все по очереди.
На улице мы вдруг смолкли. Трудно сказать, почему, но мы все вдруг поняли, что надо идти как можно ближе к тому брату, который нес конесайкач. Мы принюхивались к запаху свежего хлеба, и у нас уже слюнки текли, так что приходилось вытирать уголки рта. Нас лишала покоя мысль о том, что не только папа, но и сама Габи назвала конесайкач без изюма пищей богов, а мы до сих пор не знаем, что это такое.
– Спорим, это просто-напросто булка, – сказал один мой брат.
– Но это же конесайкач, – сказал другой брат.
– Без изюма, – выдохнули мы все разом.
Как по команде мы встали кружком, склонив головы к находившемуся в центре конесайкачу.
– По верхней корке не видно, что он такой уж вкусный, – сказали мы.
– Можно попробовать снизу, – сказал один из братьев, надорвал снизу оберточную бумагу, чуть поднажал и оторвал кусочек пищи богов, который вскоре исчез у него во рту.
Мы затаили дыхание.
Брат еще не начал жевать, а лицо у него уже посветлело. Мы думали, что он засиял от божественного вкуса, что он вот-вот запоет ангельским голосом, но нет. Он затрясся от смеха и сказал с набитым ртом, что сегодня ведь первое апреля и что Габи молодец.
– Попробуйте: просто булка, – воскликнул он. – Здорово Габи надула папу!
И мы побежали домой с криками «С первым апреля! С первым апреля!». И ждали с нетерпением, кто еще нас надует. И потирали руки, ведь впереди был еще длинный день.
Главное – здоровье
Важно, какого сорта луковица. Серебристый лук мелковат, от лука-шалота никакого прока, а насчет красного вообще ничего не известно. Лучше всего – самый обычный лук, покрупнее, с каким мама тушит мясо и варит суп. Мы чистили его, пока не оставалась идеально белая гладкая луковка, и, прежде чем сунуть под мышку, прокалывали в ней дырочки.
– А дырочки зачем? – спросил один брат.
– Для запаха, – сказал другой.
– Для сока, – сказал третий.
– Для быстрого эффекта, – сказал я.
Наступила тишина, в которой все смотрели на меня, не ляпну ли я еще какую-нибудь глупость. Братья дали мне понять, что слышать от меня иностранные слова – очень странно. Они вращали глазами и выразительно пожимали плечами, хотя стояли руки по швам.
– Но ведь так и есть? – осторожно сказал я. – Мы же проделываем дырочки, чтобы получился быстрый эффект? А с дырочками запах и сок выделяются быстрее.
– Только послушайте, – сказал один из братьев. – Он высказывает свое мнение. Он все знает про дырочки в луке и высказывает свое мнение. Про эффект.
Другой брат сказал, что лучше бы я закрыл рот, а то из этой дыры выделяются очень глупые слова.
– Тебя никто не просил ничего высказывать, – сказал он. – Тебе-то не нужно болеть. А нам нужно. Нам нужно заболеть для нашего же блага.
– И даже для нашего здоровья, представь себе, – сказал другой брат.
– Пф-ф-ф, – сказал я. От злости я ничего больше не мог сказать. Мои братья так выделяли слова «мы», «нам», будто это самые главные слова на свете. Я еле сдерживался. Постарался дышать как можно глубже и не думать об этом, чтобы моя злость не выскочила наружу. Я хотел превратиться в другого человека. Я постарался вырасти выше моих братьев, и взглянуть на них с высоты, и увидеть, какие они глупые. Вот, смотри, сказал я себе. Смотри: завтра в школе им придется делать много всего, что им не хочется делать, и поэтому они сидят с луком под мышкой и ждут, чтобы у них поднялась температура.
Это мне помогло. Выглядели мои братья потрясающе. Все шестеро старались не шевелиться. Время от времени кто-нибудь подносил руку к носу, чтобы проверить, не потекло ли из него. Кроме лука они еще использовали метод мокрого полотенца. Если положить мокрое полотенце на шею, то появится насморк. И еще они набили себе ботинки картоном, потому что тогда обязательно начнет тошнить. И очень скоро появятся признаки обезвоживания. От полотенца начнется насморк, картон оттянет воду из организма, а от лука поднимется температура. И никакой даже самый лучший доктор не поймет, что это за болезнь.
Я поднял руки, так что обе луковицы упали на пол, отбросил мокрое полотенце, потом сел на корточки и стал снимать ботинки.
– Что ты делаешь? – спросили братья.
– Ничего, – сказал я. – Болейте себе вшестером. А мне надоело. Мне же завтра не надо в школу, значит, мне не нужны лук и полотенце. И картон в ботинках тоже… хотя меня уже начинает тошнить.
Братья посмотрели на меня, потом друг на друга, потом снова на меня и потрогали кончиками пальцев мои щеки.
– Тебя правда тошнит?
Скорее всего, меня начало подташнивать от обиды и злости на братьев, или это было случайно. Хотя кто знает, может, дырочки в луковицах все-таки дали быстрый эффект.
– Да, – сказал я, вытаскивая картон, уже чуть влажный, из одного ботинка, затем из другого. – А вы ничего не чувствуете?
Братья все разом посмотрели себе на ноги. По их ногам ничего нельзя было сказать. Я видел, как они шевелят пальцами ног внутри ботинок, видел, как подергивают плечами, чтобы проверить, не стекает ли по спине или груди капля пота, щупают себе уши – не стали ли они горячими.
– Вы старше, – сказал я. – И вы больше меня. Поэтому ждать эффекта вам придется дольше.
У двери я обернулся. Обида и злость почти прошли. Мне было жаль моих братьев.
– Удачи! – сказал я.
Но мое пожелание им не помогло.
Днем папа взял меня за руку и крикнул братьям наверх, не хочет ли кто-нибудь из них пойти с нами в супермаркет, где нам всегда перепадало что-нибудь вкусненькое. В четыре часа мама позвала всех есть блины с коричневым сахаром и с яблочками. А потом еще к нам в гости приехала знакомая, которая недавно купила дорогую машину, способную развивать большую скорость, и хотела всех нас покатать.
Братья пропустили все радости этого дня. Около пяти вечера я услышал, как над головой у меня попадали на пол двенадцать луковиц, как раз когда гостья рассуждала о том, что деньги и скорость – далеко не главное в жизни.
– Главное – здоровье, – сказала она и кивнула в сторону моих братьев, которые один за другим вошли в комнату; правда, они выглядели немного усталыми, но в целом абсолютно здоровыми.
Осторожно
Однажды, в такую погоду, когда хороший хозяин и собаку из дому не выгонит, нам пришлось выйти на улицу самим. Без этого было никак.
Еще до завтрака бабушка принялась ходить по дому от окна к окну и выглядывать то на улицу, то в сад за нашим домом. У каждого окна она прикладывала к глазам руки, как бинокль, и говорила, едва не касаясь губами стекла, что, похоже, этот всемирный потоп никогда не прекратится, конца ему не видно и что наш водосток не справляется.
На самом деле водосток справлялся, но не так хорошо, как обычно. С каждым часом он заглатывал все меньше и меньше воды. Вскоре мы с братьями тоже стали ходить от окна к окну вместе с бабушкой и всплескивать руками, как она. Мы проделывали в запотевших стеклах круглые маленькие окошечки и пытались через них что-нибудь разглядеть. На всем белом свете остались только ветер и вода. Скоро, говорили мы друг другу, мы промочим ноги.
Чтобы стало еще страшнее, мы прямо в доме надели резиновые сапоги и плащи, прицепили капюшоны и застегнулись на все пуговицы. Потому что лужа, образовавшаяся над нашим водостоком, вот-вот превратится в озеро.
Решетка водостока засорилась – в нее попал полиэтилен или еще какой-то мусор. Мы чувствовали, как там все бурлит и клокочет, и точно так же бурлило и клокотало внутри нас.
– Уже пора, – сказали мы бабушке.
– Нет, – ответила бабушка и прижала руки к груди, – слишком опасно.
– Но ты же не думаешь, что мы все утонем? – спросили мы и рассмеялись.
И принялись изображать, как тонем в озере над нашим водостоком, как нас затягивает в канализацию, как там все кипит и бушует.
– Нет уж, – сказала бабушка.
В небе непрерывно грохотало и ревело, будто тучи рычали друг на друга. Иногда небо разрезали одновременно две молнии.
Бабушка не ждала ничего хорошего.
– Сейчас начнется кошмар, – сказала она, сложила ладони в виде звериной пасти и похлопала ими в воздухе. – Я это костьми чую. Я слышу.
И бабушка указала на свои уши.
Мы тоже прислушивались, но не понимали, что́ именно надо услышать. И костьми мы ничего не чуяли. Пожалуй, стало чуть-чуть теплее, чем минуту назад. И, пожалуй, дождь чуть-чуть ослабел: теперь он лил не как из ведра, а как из кувшина. Так мы думали.
Но вдруг в вышине послышалась такая ругань, что мы уже не могли ничего думать. Небо разом хлынуло на землю. Все ангелы кубарем скатились по небесной лестнице. Мы застыли, точно пригвожденные к полу. Вдохнули и не могли выдохнуть. Нам вдруг стало очень жарко в плащах. Мы стояли, выпучив глаза и забывая моргать. Все, что мы наблюдали все утро, казалось теперь жалкой моросью. Просто облачка немножко прослезились. А вот сейчас начался настоящий дождь. Он обрушился на землю, словно из цистерны. Это была сплошная стена воды, и мы все молча стояли и смотрели на нее. Улица превратилась в реку. Вода булькала и плескалась. Тюльпаны прибило к земле, листья на деревьях перевернуло нижней стороной кверху, а хвойники сгибались все ниже и ниже.
Бабушка подошла к окну, выходившему в сад, и принялась молиться. Это был плохой знак. Потоки дождя струями стекали по стеклу. Потом она указала на порог. Вода уже заливала его. Бабушка издала что-то вроде клича, точно пришпоривая коня, и велела нам принести ее резиновые сапоги и плащ. Мы тут же всё принесли. Подали ей плащ, потом сапоги, чуть ли не сами завязали тесемки ее капюшона. Сердце у нас было в пятках, но грудь колесом. За спиной выросли крылья, глаза засверкали. Мы должны быть вместе с бабушкой, мы должны ей помочь!
– От меня не отходить! – сказала она и сосчитала до трех, но слова «три» мы не услышали, потому что на счет «три» бабушка открыла дверь, и мы оказались на улице, под проливным дождем. А бабушку едва не унесло порывом ветра.
– У-у-жас-но! – кричали мы друг другу, растягивая слоги, чтобы было еще ужасней.
– От меня не отходить! – снова сказала бабушка и, держа швабру наперевес, отважно ринулась против ветра – в направлении водостока. Мы преодолевали стихию вместе. Мы окружили бабушку точно крепостной стеной, мы помогали ей поднимать ноги. Озеро, образовавшееся над водостоком, уже залило дорожку у дома – медлить было нельзя.
– Осторожно! – крикнул один из братьев, и очень вовремя. Мы с братьями оглянулись и стали продвигаться вперед еще осторожнее, потому что никому не хотелось утонуть в озере. Мы держались за бабушкин плащ.
– А ну-ка помогите мне! – сказала она.
Дважды ей просить не пришлось. Мы все вместе крепко взялись за швабру и возили и шуровали ею по дну озера, пока не нашли решетку. Потом мы ухватились друг за друга и превратились в змейку из братьев, а бабушка была нашей головой. Она наклонилась, выудила со дна полиэтиленовый пакет и остальной мусор и вручила все это нам, как добычу. Мы ликовали, но осторожно.
– Берегись! – кричали мы, чтобы подольше было страшно.
По пути к дому мы уже описывали наше опасное приключение и благодарили друг друга за спасение. Один из братьев заметил плавающего в воде дохлого червяка, белого и распухшего. Вот, сказал брат, и для нас могло закончиться так же.
Юфрау Стевенс
Когда приходила юфрау[1] Стевенс, дом сжимался. Папа становился лилипутом, мама – пушинкой, а мы с братьями превращались в птенчиков.
Юфрау Стевенс пыталась спрятать свой рост, складывалась вдвое и ходила с полусогнутыми коленями, но это не очень помогало. Было видно, что она предпочла бы иметь такой же скелет, как у всех, вместо своих длиннющих костей. И входить в дверь, не сгибаясь в три погибели.
Мы очень жалели юфрау Стевенс. Когда она приходила, мы старались вовлечь ее в наши дела, но при этом отодвигались от нее как можно дальше: мы считали, что тогда меньше бросается в глаза, какие мы маленькие по сравнению с ней. Мама с папой спешили помочь ей снять ее огромное пальто и усаживали ее на самый низкий стул. Мы болтали без умолку, отчего она еще больше смущалась, подсовывали свои рисунки по четыре штуки разом и сами никогда не садились, чтобы юфрау Стевенс не чувствовала себя великаншей.
Она краснела до ушей и заглядывала нам в глаза, словно хотела убедиться, что мы над ней не смеемся. Кроме нас, ей никто не уделял столько внимания, и было заметно, что от этого она пугается. Мы долго думали, что юфрау Стевенс не умеет как следует говорить, потому что часто она произносила только половинки слов или отдельные звуки, но потом выяснилось, что мы сами были виноваты. Мы просто не давали ей договорить до конца, когда она пыталась что-то рассказать.
Мы с братьями старались изо всех сил. Услышав от мамы, что юфрау Стевенс – сирота и что на всем белом свете у нее нет ни единой родной души кроме Бога, мы прониклись к ней нежностью. Она была единственным взрослым человеком, ради которого мы готовы были хоть весь день торчать в гостиной на первом этаже. Сама она никаких захватывающих историй про себя не рассказывала, но от родителей мы знали, что юфрау Стевенс бывала в Африке, а однажды даже сидела в кабине спортивного самолета, что ей иногда бывает тоскливо, но все равно она не одинока, потому что у нее ведь есть Господь Бог.
Нам не очень-то верилось, что юфрау Стевенс никто, кроме Господа Бога, не нужен. Поэтому мы всемером садились на пол поближе к ее ногам и начинали строить ферму. Потом мы все вместе ползали вокруг этой фермы на четвереньках и доили коров, стригли овец, убирали свеклу или задавали вопросы, на которые сами никак не могли ответить.
Например, мы спрашивали:
– Интересно, а в Африке есть овцы?
Или:
– А правда, что коровы мычат во всем мире одинаково?
В ответ остальные братья пожимали плечами или говорили с намеком:
– Откуда я знаю? Спроси кого-нибудь другого, я же никогда не бывал так далеко.
И юфрау Стевенс всегда улавливала намек. Даже если за столом только что завязался интересный разговор, она извинялась перед нашими родителями и перебиралась со стула на пол. На нашей ферме сразу же становилось тесно. Нам требовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что у нас вдруг стало так много юфрау Стевенс. Мы смотрели на нее и улыбались во весь рот. Мы ее правда очень любили.
Ее зад висел над нашими сельскохозяйственными угодьями, точно небесное тело, а передней частью она летала, воркуя как лесной голубь, над домом и коровником. Взяв в руки корову, юфрау Стевенс мычала, как мычат все коровы на свете, а коз она неизвестно почему называла африканскими овцами.
Мы уже не задавали юфрау Стевенс никаких наводящих вопросов. Она и так вся горела внутренним огнем, он разбегался по ней, как пламя по еловым веткам, добегая до пальцев рук и ног. Она знала, как доят коров и убирают свеклу. Она ездила на тракторе ровно так, как надо, и, правильно рыча мотором, приезжала за сеном, которое мы с братьями перед этим сложили в стога. Заигравшись, она иногда вдруг хихикала и тогда поднимала на нас глаза – а мы на нее. Мы смеялись, но нам все равно было немного грустно. Мы то и дело поглядывали на серебряный крестик, приколотый к лацкану ее серого жакета. Нет, нам не верилось, что ей хватает Господа Бога. И, кажется, юфрау Стевенс понимала, о чем мы думали.
Мы никогда не знали, долго ли будет продолжаться наша игра. Огонь внутри юфрау Стевенс гас так же внезапно, как гаснет огонь в еловых ветках. Вдруг выяснялось, что на столе у нее осталась недопитая чашка кофе или что ей хочется попробовать песочное печенье вон из той вазочки.
Тут папа спрашивал, что это за звук был на чердаке, и посылал нас посмотреть, не упало ли там что-нибудь. А мама изображала звук падения – бум! – и советовала нам по дороге сунуть нос в жестяную коробку с печеньем.
– Ах, дети, дети! – говорила тогда юфрау Стевенс, и если в этот момент мы оборачивались на нее взглянуть, она уже не казалась нам такой большой.
Храни тебя Господь
Наша мама сохраняла все запахи. Когда она заходила перекрестить нас перед сном, а потом гладила по щеке, ее рука напоминала нам о прошедшем дне. Рука пахла очищенным луком, и от этого нам вспоминалось тушеное мясо на столе. Запах мастики для пола был тот самый, которым пропах весь дом, когда мы пришли из школы. Запах испанского мыла, которое ей всегда дарила одна и та же соседка и которое мама очень любила – хотя эту соседку мы все терпеть не могли, – напоминал о том, как вечером в кухне мы облепляли маму и прижимались к ней долго-долго, хотя все равно недостаточно долго.
А потом, когда нам уже пора было укладываться, а мама штопала наши носки и смотрела телевизор, добавлялся еще цветочный запах порошка, в котором эти носки стирались. Мамины руки будто говорили нам: все хорошо, ничего не изменилось.
– Храни тебя Господь! – Мама нежно проводила пальцем по лбу, изображая крестик[2]. Она знала, что мы долго будем чувствовать этот крестик и будем от этого слаще спать. Мы сворачивались под одеялом, как енотики, и вспоминали все мамины запахи.
Однажды, когда я уже засыпал, один из братьев сел в кровати, зажег ночник и сказал, что от папы всегда пахнет одинаково – табаком из синей пачки. Неужели мы не обращали на это внимания?
– Я знаю, – сказал другой брат, прикрываясь от света рукой, – что бывают люди, у которых нет своего запаха, и это не самые хорошие люди. Выключи свет.
– И ты можешь спать? – спросил первый брат.
Я продолжал лежать, свернувшись под одеялом, с закрытыми глазами и размышлял. Я знал, что когда-то жил такой граф, который ничем не пах, он был вампир и что у воскресших мертвецов бывает что-то не то с запахами, но мне не хотелось углубляться в мысли о том, не вампир ли наш папа и не воскрес ли он из мертвецов. Я срочно стал вспоминать: пахнет ли от папы чем-нибудь, кроме табака из синей пачки? В прошлое воскресенье я сидел, прижавшись к нему, а летом он нес меня на плечах, и я держался за его щеки. Я еще ткнулся носом в его кожаный жилет и нарочно долго-долго смеялся, чтобы подольше провисеть так, уткнувшись в папу.
И, когда я вспомнил про это, я сначала посмеялся про себя, а потом мне стало не до смеха. Я тоже сел в кровати и посмотрел на брата.
– От папы пахнет табаком, – сказал я. – Это раз. Иногда кожаным жилетом – два. И иногда бриолином – «подарком лучшим к именинам», как в песенке из телевизора.
– Это понятно, – сказал брат. – А чем еще?
– Ничем, – ответил я и испугался. Выходит, собственного запаха у папы нет? Я решил это срочно проверить, но так, чтобы папа ничего не заподозрил. Сам я волновался ужасно.
Я откинул одеяло и нашарил ногой тапки.
– Ты куда? – спросил брат.
– Понюхать, – сказал я и спустился вниз.
Мама с папой еще смотрели телевизор. Когда я вошел, папа громко пощелкал в воздухе двумя пальцами – он всегда так делал, если хотел, чтобы мы не шумели. Я на цыпочках подошел к нему, прижался к его груди, услышал, как там что-то сипит, и сказал, что он забыл перекрестить меня перед сном.
– Правда? – Папа засмеялся, да так, что от смеха расчихался громко-громко, и чихнул не один раз, а три раза, и от напряжения у него открылась еще одна дверца, про которую мама нам говорила, что это неприлично.
Потом папа перекрестил меня. Как всегда, его крестик был похож не на крестик, а на кружочек или петельку: большим пальцем он начертил эту петельку у меня на лбу, а остальными придерживал мою голову. И я, как всегда, всем черепом чувствовал, как его большой палец трет мне лоб.
– Храни тебя Господь.
– Ну и как? – спросил брат, когда я залез обратно в постель.
– По-моему, – сказал я, – мама сохраняет хорошие запахи, а папа – звуки. Но не волнуйся, свой собственный запах у него тоже есть.
Бассейн
Мы с братом нырнули и сделали по нескольку гребков. Из-под воды мир казался тихим и голубым. От умиротворения мы даже заулыбались и принялись напевать, но, когда вынырнули, оказалось, что все кругом охвачено волнением.
Остальные братья, только что загоравшие на полотенцах, повскакивали и стали подбирать свои одежки. Они натыкались друг на друга и кричали нам шепотом: «Скорей! Скорей!» И мы поняли, что надо срочно выбираться из воды и бежать не вытираясь – потому что некогда.
Мы с братом так и сделали. Мне даже показалось, что брат выпрыгнул из воды, хотя прямо так выпрыгнуть из глубины на край бассейна вроде бы невозможно, но он именно выпрыгнул – у меня на глазах. Потом и меня вытянул за руку и потащил в кусты. За нами гнался какой-то дядька. Он слал нам вслед ужасные ругательства, а когда увидел, что слова нас не задевают, принялся кидаться комьями земли и камнями. Мы бежали очень быстро, но комья и камни летели еще быстрее. Один ком попал брату в голову, и он крикнул другим братьям, чтобы его не ждали и что он погибнет один за всех. «Прыгайте! Вперед!»
Мы все семеро прыгнули сквозь изгородь из лавровишни и оказались на улице. Все были живы. Кожа у всех была в царапинах и каких-то букашках, мокрые волосы стояли торчком, а у одного брата кровоточило ухо, из-за этого он чувствовал себя еще бо́льшим героем, чем был на самом деле.
– Еще раз увижу кого-нибудь у себя в бассейне – утоплю! – кричал дядька сквозь лавровишню.
Мы сначала испугались, совсем немного, но потом переглянулись и точно по команде высунули языки и издали такой звук, как будто все разом пукнули. Получилось неплохо. Пусть дядька со своим бассейном знает, что плевать мы хотели на убийц вроде него. Он ругался и пыхтел, но наконец отстал от нас. Напоследок крикнул, что он знает наши имена, но они ему не нужны, все равно наши бандитские рожи скоро пропечатают в газете.
После этих слов мы с братьями на несколько секунд притихли, а потом так расхохотались, что повалились друг на друга и долго не могли одеться. Совали руки в штанины и надевали рубашки наизнанку, и от этого нам становилось еще веселее.
Мы кричали друг другу, что хватит, нельзя же так смеяться, уже просто невозможно терпеть, а потом обнаружили, что мы все стоим, зажав наши кранчики двумя пальцами, потому что не можем больше терпеть в прямом смысле. Тут мы снова притихли.
И переглянулись. Больше того: мы посмотрели друг другу в глаза и спросили себя, что же такого бандитского в наших рожах. И что дурного в том, чтобы купаться в бассейне, которым никто не пользуется, в глубине сада, по которому никто не гуляет? Мы не считали себя виноватыми.
Один брат сказал, что чувствует себя собакой, которую прогнали ни за что ни про что. Мы немножко испугались оттого, что он так себя чувствовал. Он добавил, что прогнанные собаки знают, как сладка может быть месть.
– Сладкая месть – это тихая месть, – сказал брат. – Тот, кто прогнал собаку, даже не заметит, что собака ему отомстила.
Мы все кивнули, потому что вдруг поняли, что он имеет в виду. Дыша по-собачьи часто и еще сильнее сжимая свои кранчики большим и указательным пальцами, мы двинулись вслед за братом. Он снова нырнул в лавровишню и пошел дальше прямо через кусты. Мы уже чуяли запах голубой воды в бассейне. Мы соревновались, кто дойдет до бассейна тише всех, потому что тот, кто прогнал собаку, не должен знать, что собака ему мстит. Сладкая месть – это тихая месть. Мы тихо сняли рубашки. Тихо расшнуровали ботинки. И стянули с себя брюки. И поддернули плавки.
Рябь на воде бассейна еще не успокоилась после всего, что тут произошло, но вода одобряла наш план. Не издала ни звука, когда мы в нее скользнули и выстроились рядком. Мы ждали команды брата. Когда вокруг столько воды, терпеть особенно трудно, но мы держались. И только когда брат кивнул, мы подняли руки вверх и дали себе волю. Вокруг наших ног расползлись желтые облака. Мы смотрели на них и ухмылялись, и рот наполнялся слюной от такой сладкой мести. Мы даже прикидывали, не нырнуть ли нам в воду, чтобы насладиться подводным миром, но не стали.
Это удовольствие мы приберегли для бассейна в городе. Не найдя способа пробраться в него бесплатно, мы купили входные билеты и плескались в воде, как щенята. От радости мы все семеро мычали под водой песни без слов – так громко, что было слышно даже над водой.
Изобретения
Мой брат указал на колеса своего велосипеда и сказал, что мы срочно должны сделать что-то важное, значительное. Мы ничего еще не достигли в жизни, о чем люди будут потом вспоминать, если мы завтра умрем. Он слышал про человека, который в нашем возрасте уже играл на клавесине песни собственного сочинения. А один мальчик лет двенадцати нарисовал целую картину на ящичке для сигар – и прославился. Брат сказал, что и нам надо сделать что-нибудь в таком духе.
«Не получится», – подумал я. Песни собственного сочинения нам приходится просто петь, потому что мы ведь не играем на музыкальных инструментах. А краской мы, конечно, можем что-нибудь покрасить, но не нарисовать картину. Мы пока ни в какой области не достигли особого мастерства и еще неизвестно, достигнем ли после долгих тренировок. Не сделали никаких открытий, ничего не изобрели. Я вспомнил, как мы несколько раз разбирали на части старые детские коляски, и еще старую стиральную машину, и сломанное радио, но нам ни разу потом не удавалось составить из деталей что-то значительное.
Так вот, мой брат указал на колеса своего велосипеда и сказал, что надо изобрести что-нибудь такое же важное, как колесо. Такое же полезное, как огонь, водопровод или электрическая лампочка. Только в этом случае мы станем значительными людьми.
– Ну и что тут трудного? – сказал другой брат. – Надо просто думать о вещах, которых еще нет, которые пока никто не изобрел. Ладно, может, это и не так легко, но попробовать же можно.
Полные веры в себя, братья легли рядом со своими велосипедами в траву. Сначала все смотрели друг на друга, особенно на первого брата. Но потом все равно оказалось, что все лежат на спине, подложив руки под голову, потому что именно в такой позе удобнее всего изобретать несуществующие вещи.
Я тоже лег.
– А долго мы будем изобретать? – спросил я.
– Смотря как пойдет, – ответили братья.
Несколько минут братья молчали, смотрели на низко бегущие облака. Никто не улыбался, а по их лбам было видно, что все напряженно думают. Они таращились на небо, и было ясно, что они изобретают летающие приспособления или что-то, что использует силу ветра. Я видел, как мои братья складывают губы трубочкой и надувают щеки. Потом они признались, что изобрели что-то вроде вертолета, но увы, что-то вроде вертолета уже изобретено.
Первый брат сказал, что необязательно взлетать так высоко, можно изобрести что-нибудь маленькое.
– Ты прав, – сказали другие братья. – Это еще труднее, но ты прав.
Я посмотрел на часы, потому что мне не терпелось ехать дальше, но, глянув на маленькую стрелку, задумался: правда ли думать о маленьких вещах труднее, чем о больших? Я не понимал, почему у моих братьев все так сложно.
Они лежали в траве, вздыхали, охали и мучительно придумывали то, чего еще нет на свете. Время от времени кто-нибудь хлопал себя по лбу, но тут же говорил вслух: «Нет, нет, нет». Я видел, что они загрустили и уже начали на себя злиться оттого, что так долго думают и до сих пор не придумали ничего значительного, хотя, казалось бы, протяни руку – и вот оно, изобретение.
Я скосил глаза и сразу понял, что надо изобрести что-нибудь, связанное с травой, потому что я на ней лежу. Или что-нибудь, связанное с муравьями, потому что у меня по руке ползет муравей. Еще я решил изобрести что-нибудь, связанное с запахами, потому что недалеко от нас бродят коровы, или связанное с очень тихими звуками, вроде стука сердца или гудения жука. И я почувствовал себя счастливым, ведь кругом было столько всего, что подкидывало мне идеи для изобретений. Я подумал, что надо изобрести что-нибудь похожее на ежевику, потому что мне захотелось сладкого, потом у меня зачесались пятки, и перед глазами запорхало изобретение с перышками, потому что в голове стало легко и приятно, а потом мне привиделось, что я что-то изобрел, и из-за этого все-все улыбаются, и мое изобретение вдруг выросло выше деревьев и оказалось больше нашего луга и больше окрестных лесов.
Братья уже не лежали, а сидели. У них получилось только два маленьких изобретения: одно ругательное слово и один вздох, и ни то, ни другое не принесло им удовлетворения. И они заворчали на первого брата.
– Все, мы поехали! А ты изобретай сам свое колесо, потом расскажешь. Или играй на клавесине, или расписывай ящички для сигар, нам все равно.
– Я не говорил, что мы должны изобрести что-то важное прямо сегодня, – сказал брат не совсем уверенно. – Можно и завтра. Или на следующей неделе.
Братья сели на велосипеды и поехали дальше, скучные и поникшие. Я ехал следом, а потом обогнал их и покатил впереди. Я один смотрел вокруг себя, делал открытия и насвистывал при этом песенку.
У нас побывал король
У нас побывал король. Он скоро ушел, потому что в машине его ждала королева, но он передал мне привет от ее величества и пожелал жить долго и счастливо.
– А он спел для меня деньрожденную песенку? – спросил я, сидя в кровати.
– М-м-да, – ответили братья.
– М-м-нет, – ответил папа.
– М-да… м-нет… вообще-то нет, – сказала мама. – Ему было некогда, иначе бы он точно спел.
– По-французски, – добавил один из братьев. – Потому что родной язык у него французский[3], это сразу слышно.
И они запели мне деньрожденную песенку по-французски, изображая произношение короля, – все братья, мама и папа. Они обступили мою кровать, а в конце вдруг все разом наклонились вперед, так что мне даже стало страшновато.
– С днем Rожденья! – воскликнули они с произношением, как у короля, и подхватили меня, и подбросили вверх, и еще, и еще – семь раз подряд, и я был рад, что мне исполнилось только семь лет, а не восемь.
Потом мне дали отдышаться.
Только тогда до меня дошло: у нас побывал король!
– Даже не верится, – сказал я.
– Да, невеRоятно, – сказали братья с королевским произношением.
– А он меня видел?
– Разумеется, – сказал папа. – И остался очень тобой доволен. Он сам это сказал. Я чRезвычайно гоRд, – закончил папа голосом короля.
Братья и мама рассмеялись, а потом сказали, что король не пожелал, чтобы меня ради него будили, потому что он видел, как я расту во сне.
– Мы гордимся, что он твой крестный, – сказали братья и посмотрели на меня немножко странно, будто они что-то недоговаривали или завидовали мне. И покосились на маму с папой, которые стояли в ногах моей кровати.
– Что такое? – спросил я.
– Сейчас узнаешь, – сказали братья.
– Вот, – сказал папа.
Он достал из-за спины и протянул мне шкатулку, обитую кожей, с золотым замочком, – сразу видно, что это королевский подарок.
– От него, – сказал я и поставил шкатулку себе на колени.
– Ты уже достаточно большой, – сказала мама, – и можешь теперь хранить это у себя в шкафу. Потому что он твой – подарок его королевского величества специально для тебя.
Братья дружно вздохнули и слегка пожали плечами. Но, когда я открыл шкатулку и невольно ахнул, они вытянули шеи и заахали вместе со мной.
– НевеRоятно, – сказали братья с королевским произношением.
Его величество подарил мне два предмета из дворца, из своего собственного буфета. В шкатулке на подушечке белого атласа лежали серебряная десертная ложка и серебряная чашечка с позолотой изнутри, и на ложке и на чашке была выгравирована первая буква имени короля, а над ней корона.
– Ух ты! – сказал я.
– Это только так говорится, – сказали братья, – что предметы из дворца. На самом деле это же первая буква твоего имени, и король приказал выгравировать ее на серебре специально для тебя, посмотри. Видишь, какие завитушки. И какая над ними корона! Он прямо сделал тебя принцем.
– Ну, ну, – сказала мама, – вы преувеличиваете.
– Разве он этого не говорил? – спросили братья, и я заметил, как они подмигнули папе с мамой.
– Нет, король такого не говорил, – сказал папа.
– Значит, мы приврали, – сказали братья.
– Вы всегда пRивиRаете, – сказал я и сам рассмеялся, потому что последнее слово я нечаянно произнес по-королевски.
А потом я спросил, во что он был одет, и что еще он сказал про меня, и не соскучилась ли королева в машине и не начала ли бибикать.
Засада
Лучшее место для засады – то, которое самое невозможное. Если там пахнет землей, и куст весь в шипах, и ветки сплетаются у земли густо-густо, если, пока ты сюда лез, тебе за пазуху насыпались веточки и листья, если ты уже не крадешься, а продираешься, если понимаешь, что назад дороги уже нет, – значит, ты нашел превосходное место для засады.
– Я тут, – сказал мой брат.
Я лежал рядом с ним на спине и от страха не мог пошевелиться. В кусте у меня над головой было старое гнездо. Я представлял себя дрозденком, который вывалился из гнезда и ожидает здесь внизу появления кошки.
– Это плохо кончится, – сказал я.
– Ничего не плохо, – сказал мой брат. – В крайнем случае – просто кончится, и все. Значит, так: я выскакиваю на дорогу, останавливаю фургон и спрашиваю пекаря: нет ли у него лишней буханки? А пока я задаю свой вопрос, вы хватаете яблочный пирог.
– Думаешь, он не заметит? – спросил я.
– Да ладно тебе, – сказал мой брат. – Он никогда подолгу не треплется, всегда спешит. Ему же надо хлеб развезти по домам, а потом опять поставить тесто. И вообще, его зеркальце слепит, когда светит солнце.
– Все будет в порядке, – сказал мой другой брат. – Отличное место для засады – это раз. Отличный план – два. И у нас будет яблочный пирог – три.
Он замолчал. Издалека уже доносился шум мотора. Фургончик останавливался – и ехал дальше, снова останавливался и снова ехал. При этом хлопала только одна дверца, потому что заднюю дверцу пекарь не закрывал – так быстрее. Хлеб в фургончике всегда лежал слева, иногда еще теплый, а торты и пироги – справа. За фургончиком всегда тянулся шлейф хлебного духа. Прямо хотелось откусить кусочек этого шлейфа.
Первый брат начал нервничать. Попытался выпрямиться во весь рост, изгибаясь среди веток.
– Ну, давай, – сказали ему братья. – Будь наготове.
– И вы тоже, – ответил брат. – Не прозевайте.
Фургончик показался из-за угла. Пекарь затормозил у дома ветеринара, крикнул что-то жене ветеринара, не выключая двигателя, и сразу захлопнул дверцу.
– Внимание! – сказал брат. – Он уже близко.
С дороги, наверное, было видно, что кусты шевелятся, даже наверняка. Сидя на корточках, братья подбадривали друг друга.
– Еще немножко, и у нас будет яблочный пирог, – шептали они. – Яблочный пирог! – И жались друг к другу, готовые вылететь из засады, как стрела из лука, чтобы на лету выхватить из фургончика яблочный пирог.
Я снова взглянул на гнездо и закрыл глаза.
«Это плохо кончится, это плохо кончится», – думал я. Я услышал, как фургончик отъехал от дома ветеринара. Мне казалось, что он едет от одного моего виска к другому, через мое сердце, которое сейчас выпрыгнет из груди.
– Пора! – шепнули братья.
– Да, – сказал брат и выскочил на дорогу, и в тот же миг заскрипели тормоза. Звук был короткий, но резкий и пронзительный.
Мы сразу поняли, что брат не успеет задать свой вопрос и тем более что-то крикнуть.
Да и пекарь бы все равно его не расслышал. От резкого торможения пекаря сначала бросило вперед, потом назад. И то же самое произошло с хлебом. Буханки посыпались вперед, потом назад, торты с пирогами тоже, и все они плавным движением опустились на мостовую.
– Ну вот и… э-э-э… кончилось, – сказал брат.
– Да, вот и кончилось, – сказали другие братья.
И мы поняли, что даже у самых лучших засад есть свои минусы, а потом я рассказал братьям про старое гнездо в кусте.
Пай-мальчики
Поскольку мы всемером сидели на одном и том же месте, прохожие спрашивали, что мы тут делаем. Мы отвечали, что скучаем. Это был хороший ответ. Услышав его, прохожие шли дальше. И правильно делали.
Когда очередной прохожий приветливо нам улыбнулся и даже подмигнул, мой брат подождал минутку и спросил, понимаем ли мы, в чем наша проблема.
– Вот подумайте, к каким-нибудь злодеям тоже все подходят поговорить? – спросил он, обводя нас по очереди взглядом. – Станет ли кто-нибудь приставать к злодею, чтобы спросить, что он делает и что задумал, да при этом еще подмигивать?
– Нет, – ответили мы разом. – Злодеям никто не мешает жить.
И все сразу же стало ясно. Мы пай-мальчики. У нас доброе имя. О нас все всё знают. Кто нас стрижет. И что мы носим шорты, которые раньше были брюками. Все знают, что у моего брата на икре родимое пятно, и всем известно, что у другого брата на спине есть шрамик – давно, уже много лет. И даже многие этот шрамик видели. У нас нет никаких тайн.
– Этому надо положить конец, – сказал тот из моих братьев, про которого все знали, что он однажды пытался жонглировать шваброй и половой щеткой и это закончилось не слишком удачно. И что зашивание дыры в его голове тоже прошло не слишком удачно, потому что он визжал, как поросенок. Это должно было остаться семейной тайной, но ведь на чужой роток бельевую прищепку не нацепишь, поэтому историю про поросенка люди пересказывали друг другу годами, пока ее не узнали все-все-все, а также их дети и будущие внуки.
– Хватит, с этим пора кончать, – сказали мы, словно собрались с этого момента стать очень крутыми – и в делах, и в словах.
– Да, пора с этим кончать, – сказал тот мой брат, который всегда только открывал рот, когда надо петь хором, и про это знала вся церковь. – Мы станем… э-э-э… беспощадными!
– Беспощадными? – переспросил я.
– Именно, – сказал брат. – Люди сразу заметят разницу. Они думают, что всё про нас знают, а мы вот возьмем и начнем вести себя по-новому. И тогда они побоятся спрашивать, что это мы тут делаем, и подмигивать!
Он встал, посмотрел на нас сверху вниз и поднял палец, показывая, что мы должны его выслушать.
Но все братья, включая меня, будто сговорились и принялись ворчать и бурчать, то есть вести себя по-новому. Вот еще, не будем мы его слушать, что он там о себе думает, а ну-ка пускай садится!
– Сядь, – сказал тот брат, который умел заталкивать ушные раковины себе в уши, и все часто его об этом просили. – И закрой свою пасть.
Он состроил кислую физиономию, сощурился и притворился, будто в упор не видит стоящего брата. Потом он спросил у нас: что мы думаем о детях, маленьких детях, прямо самых маленьких? Не надо ли их закапывать в землю, чтобы лучше росли? Или, наоборот, почаще спускать с лестницы? Или, скажете, молочка для них поискать? А то еще и хлебушком накормить, чтобы окрепли?
– Заткни свой фонтан, – вдруг сказал стоящий брат. – А моего кулака не хочешь? Сейчас как поддам, так и полетишь в чертополох!
Так мы ворчали и бурчали, и нам казалось, что у нас хорошо получается. Выяснилось, что, когда мы смотрим исподлобья и время от времени отвешиваем друг другу оплеухи, мы выглядим просто отвратительно.
Пробил церковный колокол – было время обеда, но мы и не думали идти домой. Сидели за чертополохом, пока мама нас не позвала.
А когда она нас позвала, мы только пригнулись пониже. Плевать мы хотели на этот обед, сказали мы и отвесили друг другу еще по оплеухе – шлеп, – пускай мама сама ест свою дурацкую еду – шлеп, шлеп. Мы старались не хихикать, потому что злодеи не хихикают, хотя сдерживаться было трудно.
Прохожие видели нас такими, как надо. На лицах у нас было написано, что мы, как и положено злодеям и головорезам, получаем удовольствие от самого худшего, что в нас есть. Если и дальше так пойдет, скоро никто уже не будет спрашивать, что это мы тут делаем, и подмигивать.
– Обедать! – крикнула мама еще раз.
– Блины! – сказал нам прохожий. – Сегодня суббота.
Мы умолкли. А потом сказали все вместе, хором:
– Хм-м-м…
Прохожий был прав – по субботам на обед у нас всегда были блины, и это знали все-все-все, а также их дети и будущие внуки.
Стая
Мы только что говорили о том, как надаем им затрещин. Врежем им как следует по морде, съездим по уху. А как эти бедолаги будут выглядеть после наших затрещин! Как они втянут головы в плечи, и какие у них будут кислые физиономии!.. Вот о чем мы только что говорили.
Но в следующий миг мы про них забыли.
Из-за деревьев на нас летело облако. Первым его увидел мой брат. Поднял руку и сказал: вот это да, елки-палки. Мы посмотрели, куда он указывал, и тоже сказали: елки-палки. Облако состояло из птиц. Столько птиц разом мы еще никогда не видели. Их были сотни, много сотен, они летели как пчелиный рой, от одного края неба до другого, и верещали. Казалось, будто они над нами смеются.
– Это скворцы, – сказал один из братьев, потому что кое-кто из нас решил, что это воробьи. И еще брат сказал, что эта стая не похожа на пчелиный рой, потому что пчелы меньше размером и летают по-другому, и не похожа на облако, потому что облака белые и не меняют форму так быстро.
– Они уже на деревьях, – сказал мой брат. – Гляньте!
И правда, один из скворцов устал и решил присесть. Не успел он подлететь к тополю, как остальным скворцам немедленно пришла в голову та же самая мысль, и они все расселись по веткам. А кому не хватило места, облепили соседний тополь. Так они сидели какое-то время и верещали, то есть разговаривали на своем языке: о том, какой вид открывается с дерева, о своих планах, а может, как знать, и о нас, которые вон там, вдали, – но договорить не успели, потому что кому-то из них вдруг взбрело в голову перелететь на другую сторону неба, и вся стая снялась и понеслась за ним – пока какой-то скворец опять не устал и не сел на дерево.
– Прямо чудо, – сказал мой брат.
– Ага, чудо, – сказал другой брат. – Ладно, мы говорили про затрещины, которые им надаем.
– М-м-мда, про затрещины. – Мы посмотрели в дальний конец луга, на краю которого мы сидели. Ходить по нему нам запрещалось: фермер злился, когда топтали его траву. Мы всматривались в куст бузины на той стороне луга: под ним было устроено что-то вроде шалаша. Мы решили, что это и есть шалаш, а самое большое отверстие в кусте – вход.
– Вон они, все трое, – сказал один брат. И точно, три фигурки по очереди ныряли в дыру с какими-то вещами под мышкой и выныривали оттуда без вещей.
– Белье они там, что ли, развешивают, – сказал другой брат.
– Смех на палочке, – сказали мы.
С этими мальчишками мы не были знакомы. Мы знали, как их зовут, но произносили их имена всегда так, будто сплевывали, и только старший брат однажды с ними поговорил, но разговор был коротким. Можно сказать, даже не разговор, а переругивание.
Про эту троицу рассказывали крутые истории. Некоторые истории были героические, например про таксу в водосточном желобе. Мы сами охотно пересказывали их дальше, причем так, будто все видели своими глазами. Но в основном эти истории сводились к рассказам о поджогах, разбитых стеклах и драках, так что мы по сравнению с ними были просто ангелы.
– С какой веревки они украли эти простыни? – спросил один брат.
– Они тащат все, что плохо лежит, – сказал другой брат.
– А за это полагается по морде, – сказали мы.
Мы встали с травы, отряхнули брюки от земли и сухих листочков и сжали кулаки, глядя на куст бузины. «А ну, выходите, – думали мы. – А ну, давайте!» Хотелось прокричать им хором, через луг, самые ужасные ругательства, какие вертелись на языке. Но мы сдержались.
Скворцы опять прилетели, нас обдало ветром от сотен пар крыльев. Небо над головой вскипело, и трава на лугу будто полегла от мелькающих теней.
– Осторожно, – предупредили братья. – Сейчас скворцы наедятся черешни до отвала, и с неба кое-что посыплется на землю. Причем не косточки и не горох. Ох-ох, вот бы это были деньги!
Мы расхохотались, а тут еще другой брат сказал: жалко, что скворцы не ослы. Мы прямо умирали со смеху, хлопали себя по бокам, представляли летящих по небу ослов, тыкали пальцами в бузину на той стороне луга и описывали, как эти ослы уделают шалаш.
Вдруг мы все разом умолкли. Потому что до нас донеслась ругань. Мы не верили своим ушам и глазам. По лугу, по траве, размахивая руками, к нам шли бедолаги. Они жестами показывали, что сейчас произойдет с нашими шеями, а словами описывали, какого цвета у нас будут лица и как изо рта вывалится язык.
Мы с братьями переглянулись. Чего это они?
– Завидуете! – крикнули бедолаги. – Завидуете нам!
– Завидуем? – переспросили мы, когда они все трое остановились перед нами.
– Еще как, – подтвердили они. – Думаете, мы не видели, как вы на нас пялитесь?
– Ха, – сказал один из моих братьев и прищелкнул языком. – Мы и думать не думаем на вас пялиться.
– Ах, не думаете? – сказали все трое бедолаг разом.
Они не боялись наших затрещин. Они прищелкнули языком так же, как мой брат, и сказали, что нечего, мол, за ними подглядывать, стройте, мол, свой собственный шалаш.
– С чего бы мы за вами подглядывали! – сказал брат и опять прищелкнул языком, в точности как в первый раз. – Мы смотрим только на важные вещи.
И мы с братьями все вместе принялись презрительно ухмыляться, а это, в сущности, то же самое, что надавать затрещин, тем более что наши ухмылки подкреплялись смехом целой стаи скворцов. Скворцы только что совершили налет на черешневый сад и съели там много-много черешен.
Повежливее
Летом мы жили над небольшим магазинчиком самообслуживания, в котором продавалось все на свете. Для мамы это было очень удобно, не надо далеко ходить за продуктами. Но почему-то родители не понимали, что снять детям такую дачу – все равно что привязать кота к колбасе. Потому что жить два месяца прямо над стеклянными шарами, заполненными конфетами, ловить всевозможные сладостные ароматы и не попробовать – это адская мука.
– Кто попадется, пусть пеняет на себя, – предупредила мама в самом начале каникул.
В первую неделю мы занимались разведкой местности к востоку и к западу от нашего дома. С одной стороны в пределах нашей досягаемости, как бы далеко мы ни ушли, тянулись дюны, а с другой – большие дома, где жили люди, одетые в костюмы для гольфа. На севере находилось море, а на юг нам запрещалось ходить, потому что там была дорога. На этой дороге, говорила нам мама, каждый год под трамвай попадает по ребенку, и будет очень некстати, если кто-нибудь из нас превратится в сообщение в газете.
– Кого увижу по ту сторону дороги, пусть пеняет на себя, – сказала мама.
В головах у нас была карта, на которой магазинчик был центром нашего летнего мира, а все остальное располагалось кругом. И в этом мире мы чувствовали себя как дома.
Но через неделю к нам неожиданно привезли Бааков – погостить. Мы смотрели на них, как на собачонок, которых нам подбросили из проезжающей машины. Для них тут не было места, на нашей карте были только мы сами – один брат посередине, остальные вокруг.
– У нас есть правила, – сказала Баакам наша мама. – Кто их нарушит…
– …пусть пеняет на себя, – закончили мы хором.
– Вот именно, – кивнула мама и пошла вниз – купить молока в магазинчике.
А мы остались все вместе в тесной комнате.
Грегори Баак вздохнул. По его лицу можно было прочитать, что ему уже скучно, он не ждет от нас ничего интересного и вообще предпочел бы жить один. Губы у него были плотно сжаты, а по глазам видно, что он всегда ищет приключений – и находит. А если приключений нет, то находит что-нибудь другое. Мы невзлюбили его с первой минуты. А Фелисити Баак вообще возненавидели. Это же девчонка!
– Не думай, что мы в восторге, что вы тут будете две недели сидеть у нас на шее, – произнес мой брат.
– Я как раз собирался сказать тебе то же самое, – ответил Грегори.
Мы рыскали по комнате, присматривали местечко, где брат с Грегори могли бы выяснить отношения.
– А давайте повежливее, – вдруг сказал брат, изображая рукой, как открывается и закрывается рот. – Как-никак господин Баак к нам только что приехал.
– Да, давайте повежливее, – тотчас откликнулся Грегори. – Господин Баак у вас долго не прогостит.
Мы прямо ахнули от удивления и задышали часто.
– Ладно, это было неудачное начало, – сказал брат. Обвел нас взглядом и заявил, что сейчас попробует начать по-хорошему. – Спокойно. Мама сказала, что ты можешь спуститься в магазин и взять себе горсть конфет. Но только при условии, если будешь есть их на той стороне дороги. Она сказала, так можно.
Брат, стоявший рядом со мной, фыркнул от смеха, но притворился, что чихает.
Грегори подбоченился. Кивнул на сестру, державшую в руке пакет с цветами из гофрированной бумаги.
– И с ней давайте поприветливее, – сказал он. – Покажите ей, где пляж. Ей нужен пляж. Она хочет устроить там свой магазин. Она надеялась, вы обрадуетесь, что к вам на две недели приехала девочка, но я ей объяснил, что такому никто не обрадуется. Так что она не будет к вам приставать. И ко мне тоже.
Грегори оттолкнул сестру и вышел из комнаты.
– Эй! – воскликнули мы. И начали спускаться вслед за ним по лестнице. – Ты куда?
– На разведку, – ответил он.
– Давай, – сказали мы тихонько. – И не забудь про конфеты.
– Не забуду, – сказал Грегори.
«Теньк!» – звякнул шар с молочными шоколадками, когда Грегори снял с него крышку. Наша мама, стоявшая в молочном отделе, тоже услышала этот звук. Мы видели, как она застыла, открыв рот. И как у нее округлились глаза, когда Грегори как ни в чем не бывало перешел через дорогу и уселся есть шоколадку.
Мы спустились вниз, отошли на приличное расстояние от дома и все вместе залегли на вершине дюны, откуда хорошо просматривалась та сторона дороги. И скоро мы увидели, как мама вышла из магазина, перешла дорогу и доходчиво объяснила Грегори, что скучать у нас ему уж точно не придется.
Редкость
Папа взял мою ладонь, заглянул в нее, да так и сел. Сказал, что глазам своим не верит. Что глаза, наверное, его обманывают. Неужто я сам это нашел?
Я сжал кулак. В кулаке была ракушка, и ракушка была моя.
– Ну-ка, – сказал папа, – признайся честно.
Он посадил меня к себе на колени и стал расспрашивать: не сам ли я ее сделал, вот эту штучечку, которая у меня в руке? А может, я ее взял у какого-нибудь другого мальчика на пляже? И знаю ли я, какая она ценная?
– Это ракушка, – сказал я.
– Это ракушка, – сказал папа, покачал головой, поднял вверх указательный палец и повторил то же самое еще раз, только очень медленно. Его слова были такие весомые и блестящие, что сама ракушка тут же стала тяжелее и значительнее.
На папин голос стали оборачиваться. Мои братья, уже давно слушавшие наш разговор растопырив уши, побросали совки с лопатками, окружили нас с папой и ждали, что будет дальше.
– Я нашел ракушку, – сказал я им.
– Покажи, – сказали они.
– Хотите посмотреть? – сказал папа, усмехнулся и даже понизил голос, чтобы нам стало немножко страшно.
Жизнь на пляже продолжалась, как всегда. Дети строили замки, мамы загорали, воздушные змеи трепыхались на ветру. А у меня в кулаке, вокруг которого столпились мои братья, находилась важная ракушка.
– Такие ракушки не встречаются почти никогда, – сказал папа. – Практически никогда. Насколько мне известно, крайне редко. Это – необычайная редкость.
Мы молчали. И смотрели на папу. Что такое «почти никогда»? Как часто бывает то, чего не бывает «практически никогда»? И что значит «необычайная редкость»? Раньше мы от папы таких слов не слышали.
– Как вам объяснить, – сказал он. – Такие ракушки попадаются, может… раз в десятилетие. Один раз в десятилетие! Невероятно, что ее нашел кто-то из нас.
– Да, вот он, – братья кивнули на меня.
Я затаил дыхание. Кулак горел. Минуту назад у меня в кулаке лежала просто ракушка. Теперь это было сокровище.
– Покажи! – снова попросили братья.
Я раскрыл ладонь, как ларец для драгоценностей.
– Смотрите, – сказал я.
Братья вытянули шеи.
На моей ладони, между подушечками, лежала ракушка. Блеклая, облезлая, но с волнистым рисунком и такой формы, какой я раньше никогда не видел, – будто ее кто-то покусал. Ракушка напоминала вязаную шапочку, точнее, вязаный колпачок, очень поношенный и потертый. Значит, такие колпачки встречаются необычайно редко. Практически никогда.
Я перестал улыбаться и вздохнул. Мысли у меня перемешались. Я просто хотел показать папе ракушку: смотри, папа, что я нашел, – и вдруг все переменилось, море и солнце отодвинулись куда-то вдаль. А теперь я размышлял исключительно о том, что такое «необычайная редкость», и что такое «почти никогда», и что только что миновало то самое десятилетие. Десятилетие, за которое такая ракушка ни разу никому не встретилась. Вокруг меня дети строили замки, мамы загорали, воздушные змеи кувыркались в вышине и начиналось новое десятилетие, когда такая ракушка опять никому не встретится.
Я сжал руку, оглянулся на то место, где нашел ракушку, и сел.
– Вот ведь как бывает, – сказал папа.
Толстушка Мéне
Когда Толстушка Мене ехала мимо на велосипеде, мы готовы были дать голову на отсечение, что рядом с нашим домом она снова чуть не врежется в дерево. Проезжая мимо нашего дома, она всегда привставала на педалях, чтобы увидеть нас хоть краешком глаза, потому что питала к нам всем слабость. Мы точно могли предсказать, когда она поднимется с седла и когда опять сядет, едва не врезавшись в дерево.
Однажды мы ее остановили. Соврали, что один из нас тоже к ней неравнодушен, мы ей не скажем, кто именно, но он уже давно хочет пойти с ней купаться.
– Кто же это? И почему он сам этого не скажет? – спросила Толстушка Мене.
– Потому что мы – люди дела, а не болтуны, – ответили мои братья.
Ответ был хороший, но произнесли они его неправильно: когда они говорили, то смотрели на ее грудь. Оттого что я младший и мне еще многому надо было учиться, очень-очень многому, я обращал внимание на все. Я видел грудь Толстушки Мене, и как мои братья на нее смотрят, и как они проводят языком по верхней губе. Думаю, Толстушка Мене тоже все это заметила, потому что меня она погладила по головке, а один из братьев получил оплеуху, которая предназначалась всем остальным.
– А вы все – одинаковые свиньи, – сказала Толстушка Мене, перекинула свои длинные волосы через плечо и покатила прочь. Проехала в миллиметре от того дерева, в которое всякий раз чуть не вреза́лась.
Братья сказали, что они знают по опыту: девчонки обязательно должны сначала пошуметь, а потом уже с ними можно целоваться. Они назовут тебя свиньей, а на следующий день спросят, не хочешь ли ты с ними прогуляться, сказали братья, но мне об этом рано знать, я еще мал, говорили они, слишком мал.
– Да, – говорил я радостно. – Я слишком мал.
На следующий день Толстушка Мене снова ехала на велосипеде мимо нашего дома как ни в чем не бывало. Она, как всегда, встала на педалях, но увидев нас, остановилась. И сказала:
– В пятницу я, пожалуй, пойду купаться.
И посмотрела на всех по очереди.
– Это хорошая мысль, – сказали мои братья.
И тут Толстушка Мене поступила совсем иначе, чем обычно. Подняла велосипед, развернула его и поехала туда, откуда приехала. Мы смотрели ей вслед и все как один качали головами.
– Сладенькая булочка, – сказали мои братья.
– Точно, – сказал я, потому что, глядя на Толстушку Мене сзади, я тоже не мог не думать о булках.
Всю неделю мы только и думали, что о купании.
Мои братья сказали, что они знают по опыту: от девчонок, которые любят целоваться, жди подвоха. Они будут с тобой заигрывать, заморочат тебе голову, а потом во время купания возьмут и притопят, но это мне тоже рано знать, для этого надо прожить на свете намного дольше, говорили они.
При этом они размахивали руками и говорили, что это невыносимо. Что им можно смотреть на что угодно, только не на грудь Толстушки Мене, а то это плохо кончится.
Когда я спросил своих братьев, почему они из свиней превратились в трусливых зайцев, они вдруг разом умолкли и смерили меня взглядом.
– А ты что, ее не боишься? – спросили они.
– Нет, – сказал я. – Меня же она не ударила. А даже наоборот.
– Что правда, то правда, – сказали братья.
Потом все долго молчали. Братья переглядывались, о чем-то глубоко задумывались, время от времени произносили шепотом какое-нибудь слово, чтобы удостовериться, что все думают об одном и том же.
– Хорошо, – сказали они в конце концов. – Мы признаём, что боимся ее. Она дерется, если кто-то на нее не так посмотрит. Так что мы решили: в пятницу мы на нее смотреть не будем, смотри ты за нас за всех. А потом расскажешь, что видел, договорились?
– Договорились, – сказал я и спросил, что мне за это будет.
– Чем больше подробностей, тем больше нуги и кислых леденчиков, – пообещали они.
Я с нетерпением ждал пятницы. Я всегда любил купаться, но раньше я купался вместе с братьями, а теперь я буду купаться и присматриваться к Толстушке Мене – это даже еще интереснее.
– Как хорошо, что вы идете вместе, – сказала мама перед нашим уходом и попросила Толстушку Мене за мной приглядеть.
– Возьми его с собой в кабинку для переодевания и проследи, чтобы он не надел плавки наизнанку.
Я посмотрел на братьев, у которых разом во рту пересохло, и заулыбался при мысли о горах нуги и мешках кислых леденцов.
Без движения
– Она потеет, – сказал один брат. – Ничего не делает и все равно потеет.
Мы кивнули и склонились еще ниже. Жаба, лежавшая на гальке, глянула на нас, шевельнула передними лапками, будто хотела сдвинуться с места, но передумала. Будто ей все равно – что двигаться, что сидеть на месте.
– Это не пот, а жир, – сказал другой брат.
– Слизь из бородавок, – сказал третий.
– Может, она просто мокрая? – спросил я.
– С чего ей быть мокрой? – сказали мои братья. – Жабы не плавают. Они же не лягушки.
Наша мама вышла из постирочной с корзиной мокрого белья. Направляясь к открытой веранде, чтобы его развесить, она посмотрела против солнца, что мы делаем.
– Занялись бы чем-нибудь! – крикнула мама. – У меня есть работа для мальчиков, которые томятся бездельем.
– Мама, мы не томимся бездельем, – ответили мы. – Мы очень заняты.
– Да уж вижу, – сказала мама. – Как всегда, полно идей, и все бурлят и пенятся. Ну-ну. – И посмотрела на нас так, будто мы – пена на пиве.
Мы с братьями переглянулись. Нас только что обругали лентяями, да мы и чувствовали себя лентяями, точно покрытые бородавками жабы, которые потеют, хотя ничего не делают. Мы что-то пробурчали про себя.
– Она думает, что мы бездельничаем… – сказал мой брат.
Он наклонился и тут же снова распрямился. Мы не ожидали, что он может наклониться так быстро. И не ожидали, что он подхватит жабу с земли. Мы смотрели то на его лицо с непроницаемым выражением, то на руку с жабой, и не понимали, что он собирается сделать. Может, стоит сначала обсудить? Чтобы головы побурлили идеями.
Брат так не считал. Он прищурился и сказал: это только кажется, будто мы бездельничаем, на самом деле мы очень заняты. Хорошенько размахнулся и бросил жабу в сторону веранды. Описав широкую дугу, жаба приземлилась на оцинкованную крышу веранды, точно комок земли. «Чпок», – услышали мы.
– Сейчас посмотрим, – сказал брат.
Мы немного помолчали, разинув рты, потом сказали:
– Да, сейчас мы исследуем этот вопрос.
Мы прислушались, сдвинули брови и приставили ладони козырьком ко лбу, чтобы смотреть против солнца. Мы смотрели на крышу: не прыгает ли наша жаба по раскаленному железу? Не лопнула ли она?
Мама показалась в дверях веранды.
– Что вы там стоите? – крикнула она.
– Мы не просто так стоим! – закричали мы в ответ.
– Чего-то ждете?
– Ничего не ждем, но мы очень заняты!
– Бездельем вы заняты, – сказала мама. – Ждете чуда. Или уж не знаю чего.
Мы сжали губы.
Наверху, прямо у мамы над головой или чуть левее, что-то медленно сползало к краю крыши. Издали это что-то казалось черным, как черный дрозд, но мы знали, что это не дрозд. Мы смотрели и смотрели. Нам хотелось увидеть, как жаба переползет через желоб и шлепнется вниз.
Мама заметила ее не сразу. Она увидела, как что-то упало рядом с ней, потом с удивлением посмотрела на землю. Потом в ужасе прикрыла рот рукой и вскинула голову – будто хотела увидеть облако, с которого свалилась жаба.
– Что там, мама? – спросил мой брат.
– Что там? – спрашивали мы. – Что?
Мы подошли к веранде.
– Нет, нет, – повторяла мама и отмахивалась от нас обеими руками.
В нескольких шагах от нее мы остановились.
– Нет… нет… – испуганно повторяли мы.
Перед нами на спине лежала жаба с черным сгоревшим животом.
– Жаба!
Мы долго стояли молча, не шевелясь. Вроде бы ничего не делали, но были очень заняты.
Бабушка
Как-то раз наша бабушка остановилась посередине комнаты, забыв, куда шла. Мой брат медленно обернулся к нам и посмотрел по очереди каждому в глаза. Затем кивнул, втянул щеки и через плечо сказал бабушке, что она шла наверх. Собиралась что-то поискать у себя в ящике, неужто она забыла?
– Да-да, – ответила бабушка, делая вид, будто все вспомнила, но по ее спине мы видели, что ей отчего-то не по себе. – Собиралась поискать для тебя стирательную резинку, ты же сам просил.
– Карандаш, бабушка, – поправил ее брат.
– Да-да, – сказала бабушка, – карандаш с резинкой.
Мы пошли следом за ней наверх. Поднявшись до середины лестницы, брат остановился и остановил нас. Поводил в воздухе раскрытыми ладонями, будто выставил перед собой стену.
– Сейчас начнется, – сказал он, убедившись, что бабушка нас не слышит. – Вы, может, ничего не замечаете, а я замечаю. За эту неделю она уже второй раз забывает, куда шла. Ничего особенного, конечно, прошлый раз она шла в переднюю, а сегодня – к себе в комнату, поискать что-то в ящике.
Мы с братьями переглянулись. Мы не знали, что думать. Мы слышали, как бабушка роется в ящике своей тумбочки, и будто даже чувствовали запах этого ящика. И совсем растерялись, потому что запах, казалось, говорил нам, что в мире ничего не изменилось. В бабушке мы не замечали ничего особенного, ничего, что бы вызывало беспокойство.
Мой брат убрал стену из воздуха и приложил руку к уху. Бабушка рылась в ящике. Мы тоже стали прислушиваться и кивать головами, в точности как брат. До нас доносилось металлическое позвякивание и деревянное постукивание, и бабушка бормотала что-то себе под нос. Время от времени в ящик падало какое-нибудь негромкое ругательное слово.
И только когда мой брат пожал плечами и повертел пальцем у виска, мы поняли, что тут что-то не так. Да, вот деревянное постукивание карандашей – их у бабушки в ящике целые завалы. Она подбирала в доме все мелочи, которые лежали не на месте, а это бывали и совершенно новые карандаши, и огрызочки, и карандаши с резинками на конце.
– Ищет и ищет, – сказал брат. – Видите, уже началось.
Вздохнул, собрался идти дальше наверх, но я его задержал.
– Что именно? – спросил я. – Что началось?
Братья все разом обернулись и посмотрели на меня строгим взглядом, который говорил, что я еще мал, слишком мал.
– Подумай сам, – сказал брат. – Что происходит с поездом, когда он подъезжает к станции?
– Да, – сказал другой брат. – Что происходит с будильником, когда в нем кончается завод?
– Или с креслом-качалкой, когда перестаешь его качать? – добавил брат, стоявший ко мне ближе всех. – Что происходит с креслом-качалкой?
– Они останавливаются! – сказали все мои братья хором.
Не дожидаясь моего ответа, братья двинулись дальше вверх по лестнице.
– Останавливаются? – закричал я им вслед и как раз успел схватить последнего за ремень на брюках, так что и ему пришлось схватиться за брата, который поднимался впереди него, и так далее, в итоге все братья замерли и опять обернулись посмотреть на меня.
– Вы говорите «уже началось», а когда я спрашиваю, что началось, не отвечаете, а говорите про какую-то там остановку, – сказал я как можно медленнее.
Братья посмотрели на меня сверху вниз – и кивнули.
– Вот остановка и началась, – сказали они.
В этот момент бабушка снова принялась ругать свою тумбочку. Послышался деревянный треск, и что-то со стуком упало на пол.
Взлетев по лестнице и вбежав в комнату, мы выдохнули с облегчением. Рядом с кроватью лежал ящик, опрокинутый вверх дном. Бабушка стояла, улыбаясь во весь рот, среди карандашей, скрепок, детских ножниц, круглых резиночек, пуговиц, игральных кубиков и фишек.
– Не волнуйтесь, – сказала она и показала, что у нее в руке. – Я ее все-таки нашла!
Двумя пальцами бабушка держала перед собой точилку для карандашей.
Мой брат сразу ссутулился и стал как будто меньше ростом.
– Молодец, бабушка, – сказал он тихонько.
– Ее ты и просил, да? – сказали остальные братья.
– Да, точилку! – сказала бабушка.
Она продолжала улыбаться, пока мышцы на лице не расслабились, и тогда, обессилев, бабушка села на кровать.
Дом в песке
Мама спросила: неужели мы уже захотели на тот свет? Раньше она у нас такого не спрашивала. Мы обернулись и показали ей: вот, пусть сама посмотрит. Мы вовсе не собираемся на тот свет, а наоборот, строим прекрасное будущее. Мы весь день провели здесь, в дюнах. Песчаный дом из двух комнат и проходом между ними в полминуты не выроешь, это нужно копать не меньше двух часов. Разве мама не видит, что все это время мы работали дружно и слаженно и совсем не ругались, потому у нас и получились такие чудные гладкие стены, осталось только подровнять пол.
– Вы хоть понимаете, что делаете? – спросила мама сверху.
Мы пожали плечами и ответили:
– Ровняем пол.
– Ровняете пол, – повторила мама.
– Да, ровняем пол, – сказали мы. – Вот подровняем – и тогда все будет готово.
– Все готово? Да вы тогда отправитесь на тот свет! – сказала мама и даже обхватила себя за шею и высунула язык, показывая, как мы задохнемся. – Немедленно вылезайте. Живо!
Мы уже шагнули в направлении лестницы, приставленной к стене, но брат нас остановил. Кивком головы указал на горку песка, которая росла на полу нашей комнаты. Подняв голову от горки вверх, мы увидели голову Фелисити. Конечно, можно было и так догадаться, что она где-то тут, рядом с мамой, но мы ее заметили только сейчас. Она держалась тише воды, ниже травы. Ябеда всегда помалкивает, зато в глазах торжество.
– Вылезайте! – снова крикнула мама. Она явно не шутила.
Бурча про себя, мы по очереди вылезли из ямы. Лопаты держали наготове, чтобы Фелисити видела: пусть только пикнет хоть слово лишнее – мы мигом спихнем ее в яму.
– Молодец, Фелисити, что сказала мне, – похвалила ее мама. – Эта яма опаснее трамвая и всех машин вместе взятых.
Она обхватила Фелисити за плечи, как будто обменяла нас всех на новую дочку, и велела нам немедленно закопать этот источник опасности, пока стены не обрушились и не похоронили кого-нибудь заживо.
– Но, мама… – начали мы. Но она даже слушать не хотела, качала головой, а потом и вовсе повернулась к нам спиной, чтобы нас не видеть.
Мы воткнули лопату в кучу песка с таким чувством, будто это чей-то живот или ягодица, и начали потихоньку закидывать плоды наших трудов. Про себя мы ворчали на маму, но не сильно, ведь это наша любимая мама.
А вот Фелисити нам никто, поэтому ее мы ругали на чем свет стоит. Придумывали, как ей отомстить и кого бы подговорить разорвать в клочья ее цветы из гофрированной бумаги, но чтобы на нас никто не подумал.
Благодаря таким мыслям о Фелисити работа двигалась гораздо быстрее, чем мы ожидали. Время от времени то там, то сям ровные песчаные стенки обрушивались сами собой, но мы делали вид, будто так и задумано.
– Во, отлично! – кричали мы при каждом обрушении.
Вернувшись домой, мы старались держаться подальше от Фелисити, но обеденный стол у нас не такой большой. Папа, сидевший во главе стола, спросил, как мы провели день. Фелисити ему улыбнулась и рассказала, что делала бумажные цветы, которые у нее сразу же раскупали. Папа одобрительно кивнул.
– А вы? – спросил он у нас.
Мы немного помялись, поерзали на сиденьях, словно не могли решить, с чего начать, и ответили, что играли в дюнах. Мы ждали, что Фелисити сейчас тоже что-нибудь скажет, но тут папа спросил:
– А твой брат, Фелисити? Куда он запропастился? Опять опоздал к обеду!
– Грегори всегда забывает смотреть на часы, – ответила Фелисити.
Мы с братьями сразу подумали об одном. Словно сговорившись, одновременно подняли глаза. Грегори не пришел к началу обеда. Запросто может не прийти до самой темноты. И что тогда? Мы посмотрели на Фелисити и улыбнулись. Мы повторили ее собственные слова. Что Грегори забывает смотреть на часы. На часы. Забывает. Всегда.
– Папа, мы вырыли яму, – сказал вдруг мой брат. – А потом зарыли ее обратно. Потому что это слишком опасно, стенки ведь могли обрушиться и засыпать кого-нибудь из нас.
– Кого-нибудь из нас или Грегори, – добавили мы.
Потом опять посмотрели на Фелисити, и улыбнулись ей, и дождались момента, когда она побледнела.
А мама спросила, подыгрывая нам:
– Да, куда же он все-таки запропастился?..
Вперед, только вперед
Мой брат сказал, что назад пути нет, и мне это показалось странным, ведь как-то же мы сюда пришли.
– Вперед, только вперед, – сказал он. – Не оборачиваться! Это не поможет. Единственный путь – вперед.
Я посмотрел на этот единственный путь и на спину брата, замедлившего шаг. Он шел пружинистой походкой, хотя сапоги были ему велики, и размахивал руками, словно поступил на службу в военно-морские силы. Другие братья и я лишних движений не делали, даже рта не раскрывали. Мы шли, стиснув зубы, все мускулы у нас были напряжены, потому что между нами покачивалась яхта, еще час назад принадлежавшая другому человеку.
Изнутри она была белой, снаружи красной. Мои братья радовались ей больше меня – я это не просто чувствовал, но видел глазами, потому что у братьев даже лица изменились. Час назад они вдруг начали вести себя по-новому, точно превратились в матросов, и ходить стали вразвалочку. Они упирали руки в боки и сплевывали на землю. И говорили они теперь грубыми голосами и очень громко, будто перекрикивали штормовой ветер.
Но сейчас мы молчали. Только мой брат, который шел впереди со свободными руками, отсчитывал: «Ать-два, левой-правой!» – чтобы мы не сбились с ритма.
Пока братья делали полтора шага, я делал два. Я думал о том, что купленная нами яхта не такая уж большая и что это даже не совсем яхта. И я высказал это свое мнение вслух.
Все братья впереди, сзади и сбоку от меня вдруг сбились с ритма. Передний брат зачем-то трижды подряд сказал «левой-левой», а потом несколько раз «правой-правой». Он поднял руки вверх и обернулся к нам. Яхта плавно опустилась на землю, качнулась туда-сюда, точно на волнах, а потом сразу с шести пар губ сорвался стон, и все замерло.
– Ты хоть понимаешь, что говоришь? – спросил брат. – Да будь эта яхта человеком… он бы на тебя смертельно обиделся. Ты это понимаешь? Ты хоть понимаешь, что́ мы получили в обмен на наши деньги? «Оптимиста»[4] с килем, с парусом и со всеми делами. Понимаешь ли ты, сколько бы он стоил, будь он новым, такой вот «Оптимист» с килем, и парусом, и всеми делами?
– «Не такая уж большая», – передразнил меня другой брат.
– «Не совсем яхта», – передразнил третий.
– Пф-ф-ф, – фыркнули они все вместе, давая понять, что мне еще многому надо учиться, очень-очень многому, всему на свете.
Но я остался при своем мнении. Оттого, что у лодки есть имя, более солидной она не стала. «Оптимист» с килем, и парусом, и всеми делами – это все равно обыкновенная никудышная лодка, пусть даже она называется «Оптимист».
Но вслух я всего этого не сказал. Только спросил, кто сядет в «Оптимиста» первым, потому что подумал, что больше одного человека в него не поместится.
– Тот, кто старше всех, разумеется, – сказал мой брат.
– А еще спроси, кто сядет в нее последним, – сказал другой брат, кивая в мою сторону.
Все расхохотались, громко, как морские волки, и принялись хлопать друг друга по плечам.
– Ладно, – сказал мой брат, который вот уже час как решил стать китобоем. – Пошли дальше. Хватит оглядываться. Дорога к каналу длинная и прямая; вперед, только вперед!
Братья дружно закивали, и я заметил, что лица у них стали еще радостнее. Они прямо светились счастьем. Ведь они – владельцы судна, на котором пройдут семь морей и, может, даже откроют восьмое.
Я взялся за ту часть лодки, за которую заплатил свои собственные деньги, и вместе с остальными понес их мечту дальше. Все время, пока мы шли вперед и только вперед, я молчал. Держал рот на замке. А братья всю дорогу пели в такт шагам. Они пели «ать-два, левой-правой» и продолжали петь, пока спускали лодку на воду и любовались, как она покачивается на воде, с килем и всеми делами.
Затем на нее взошел первый брат, потом второй брат, потом третий, строго по старшинству. Они уже поняли, что я прав, но не хотели сознаваться, что в лодке тесно. И с каждым братом становилось все теснее. Они продолжали говорить, что «Оптимист» – отличная большая яхта, но, когда на нее взошли все мои братья – самый старший, самый тихий, самый настоящий, самый далекий, самый любимый и самый быстрый, – им пришлось признать, что я уже не помещусь.
Я стоял на берегу и смотрел, как вода переливается через борт, едва кто-нибудь из них шевельнется. А потом мне вдруг показалось, что это не яхта и даже не лодка, а кирпич. И назад пути нет, только вперед – точнее, вниз.
В морских глубинах
Некогда есть торт, пора на дно морское! Мы не понимали, как наша мама может сидеть и пить кофе с подругой, пусть даже они давно не виделись, когда мы, ее родные сыновья, с ней попрощались и пошли раздеваться в капсулу для погружения – которую мы называли «Ванна».
Уходя, мы слышали, как подруга смеется. Потом она запела матросскую песню про море и волну под облака.
Мой брат уселся на высокую батарею центрального отопления, чтобы всех видеть, и произнес речь. Он говорил, что перед нами стоит важная задача, но мы справимся, сдюжим, хотя под водой маловато места. Но в конце рейса удача непременно нам улыбнется, вот о чем мы должны думать.
Он скосил глаза, чтобы посмотреть, не подслушивает ли его кто-нибудь, но мамина подруга, которую мы никогда раньше не видели и которой ни к чему было знать про наш опасный рейс, болтала и хихикала о чем-то с мамой и совершенно не интересовалась нашими приключениями. Они снова запели: «Ах, буря, буря в стакане молока».
Брат взошел на корабль первым. Он перелез через борт ванны и исчез под водой. Быстро погрузился на глубину и оттуда подавал нам знаки, чтобы мы тоже не медлили. Долго задерживать дыхание он не мог.
Мой брат был смелее меня. Он подал мне руку, а другой рукой постучал себе по лбу, как это делают моряки. Он что-то произнес на тайном языке, известном ему одному, и кивнул маме, которая зашла посмотреть, как у нас дела, и, держа в руке бутылку яичного ликера, пожелала нам счастливого плавания.
– Вы еще не все забрались? – спросила она.
Мы и правда немного припозднились. Из-за маминой подруги наш распорядок сбился. Надо было срочно начинать погружение.
– Мальчики уже отчаливают! – крикнула мама подруге через плечо. – Сейчас, уже скоро.
– Семь футов под килем! – крикнула подруга в ответ. – Молодцы!
Мой брат залез в ванну в тот момент, когда первый брат, отфыркиваясь, вынырнул на поверхность.
– Давайте, – сказал он, снимая с лица веточку водоросли. – Пора на поиски.
Он встал и намылился, чтобы надеть гидрокостюм на чистое тело. Другой брат тоже намыливался. Я перелез через стиральную машину и тоже забрался в ванну. Там уже осталось совсем мало места. На глубине мылились мои братья. Сесть было некуда, поэтому я стоял, пришлось даже немного свеситься за борт.
Я знал, что нас ждет непростой рейс. Рядом, в гостиной, мама с подругой хихикали и раскачивались на стульях туда-сюда. Может, лучше остаться дома, в безопасности, поближе к торту, яичному ликеру и к песенке, которую они пели?
– Ну как, помылся? – спросил мой брат, застегивая молнию на гидрокостюме. – Или ты не с нами?
– Нет, я с вами, – отозвался я, и мне дали мыло, а через две секунды я уже тоже быстро-быстро переодевался в гидрокостюм.
– Отлично, – сказал мой брат. – Начинаем!
И поднял кусок мыла вверх.
– Начинаем! – сказал другой брат.
– Начинаем! – сказал я с опозданием.
Мыло уже скользнуло на дно.
Братья нырнули за ним следом. Они рисковали жизнью. Тут или пан, или пропал. Тому, кто найдет сокровище, улыбнется счастье.
Едва братья погрузились под воду, как счастье само заглянуло к нам из гостиной.
Все то время, наверное целую минуту, пока попы моих братьев торчали из воды, мама с подругой, которую мы раньше никогда не видели, стояли около ванны, прикусив губу. Их щеки раскраснелись. Они показывали друг другу на две попы и с трудом сдерживали смех. Они изо всех сил старались не расхохотаться раньше времени, но это было трудно, потому что их переполняло счастье.
В темноте
Мама всегда тщательно заправляла края наших одеял под матрас, специально для того, чтобы внутри стало совсем темно, если спрятаться с головой. И там было хоть глаз выколи, особенно в ногах. И воздух туда проникал еле-еле, так что, когда я ложился под одеяло черепашкой, согнув колени и прижав руки к груди, становилось невыносимо душно.
Но в последний миг, когда я уже почти задыхался и готов был наделать в штаны от страха, что белого света мне уже не видать, на помощь приходили братья. Они с криками вбегали в комнату, запрыгивали на мою кровать и вытаскивали меня из-под одеяла со стороны подушки: я появлялся на свет как новорожденный и хватал ртом воздух.
– Еще жив, – обязательно говорил кто-нибудь из братьев. И я улыбался от уха до уха. Щеки мои горели от духоты и от неземного счастья. Все тело пощипывало, а душа ликовала, что я жив, и что братья живы, и что слышно, как мама возится на кухне – значит, тоже жива.
Тем временем братья устремлялись вон из спальни, стрекоча как пулеметы, а иногда и вовсе бабахая, как разрывающиеся одна за другой бомбы, и в несколько секунд учиняли разгром на лестничной площадке и в ближних к ней комнатах. Потом все шестеро падали как убитые и лежали неподвижно под опрокинувшимися на них стульями, а я хохотал во все горло.
Если мама не была чересчур занята, она, напевая, поднималась по лестнице, останавливалась на верхней ступеньке и очень правдоподобно пугалась при виде стольких трупов.
– Ой-ой-ой, – причитала она, хваталась за голову и восклицала, что сойдет с ума от горя, ведь она лишилась, ой-ой-ой, всех своих сыновей, но потом слышала мой смех, клала руку себе на грудь и вздыхала с облегчением.
– Хоть один сыночек остался в живых, – говорила она.
Мама всегда попадалась на удочку. И всякий раз громко ахала, когда братья разом вскакивали и кричали, что они восстали.
– Воскресли, – поправляла мама, но смысл был тот же, и ничто не могло омрачить радость. Мы радовались, что живы, и, чтобы выразить свое счастье, обхватывали маму за ноги, повисали друг на друге и щипали друг друга за руки и за ноги, потому что если тебе больно, то, значит, это не сон.
Но не всегда проходило гладко. Как-то раз в ноябре я забрался вечером под одеяло и съежился в самых ногах, предвкушая веселье. Они придут и спасут меня от смерти с радостными криками, причем как раз вовремя, когда я буду на грани «еще жив» и «уже нет». Я прислушивался к приглушенным звукам вокруг и к своему ужасу обнаружил, что сердце у меня колотится сильнее, чем обычно. Еще немного, и оно вообще выпрыгнет, я точно знал. Я слышал, как оно стучит у меня в ушах, а оттого что я лежал свернувшись, будто куколка бабочки, мне было слышно, как кровь толчками пробивается по моим сосудам. Мне стало душно, словно в преисподней. Меня прошиб пот, под мышками зачесалось, но я все равно лежал и ждал братьев, как договаривались. Я начал считать, но не в обратную сторону (как когда водишь в игре), а по-настоящему, от нуля и дальше. Но долго не выдержал, потому что темнота у меня перед глазами вдруг сделалась еще темнее, и мне стало не до арифметики. Зажмурившись, я обычно вижу молнии и оранжевое свечение, а сейчас не видел ни того, ни того. До меня не доносилось никаких звуков. Я слышал только собственные мысли. Например, я слышал, как думаю о том, что я уже за гранью обычной темноты. И тут я понял: это и есть кромешный мрак.
Быстро-быстро, словно меня ужалила пчела, я задом вылез из-под одеяла, открыл глаза и принялся хватать ртом воздух. Я бы рассмеялся оттого, что все еще жив, но кругом по-прежнему было темно, хоть глаз выколи, и у меня возникло ужасное чувство, что я живым перешагнул через грань обычной темноты и попал туда, куда попадают только мертвые. Я хотел было позвать братьев, но мрак уже проник в мои легкие, и все имена застряли у меня в горле. Меня окружали какие-то духи, я слышал, как они ухмыляются. Даже открыто смеются. Мне показалось, что на меня наступает дверь. И правда: по ее контурам пролегли три полоски света, и какое-то чудище напевало голосом нашей мамы. А потом дверь открылась.
– Я думала, вы все умерли, – сказала мама и с удивлением обвела взглядом комнату, в которой здесь и там сидели, стояли и висели братья.
Они все расхохотались до слез, и схватились за животики, и принялись тыкать пальцами в мою сторону, потому что больше не могли терпеть.
– Нет, нет, мы живы, – хотели они ответить маме хором, но от смеха у них не получилось.
– Почему вы тут сидите в темноте? – спросила мама.
Братья стали выдумывать ответ на мамин вопрос.
А я превратился в черепашку. Втянул голову в плечи и залез под одеяло, в темноту, чтобы умереть там от обиды и горя. Тому, кто захотел бы меня спасти, следовало спешить: в его распоряжении оставалось всего несколько минут.
Терпи
Мы видели, как Куммелинг приближается к нашему дому. Он тяжело навалился на руль своего велосипеда и ехал через мостик с трудом, виляя и покачиваясь. «Бедняга Куммелинг», – говорила всегда мама, потому что считала, что его скрючило от ревматизма.
А мы считали, что его перекосило от пьянства. Мы видели это по его лицу и чуяли по запаху. Он разговаривал предложениями вообще без глаголов, так что его никто не понимал, и постоянно чесался там, где чесалось. Под шапкой, или под одеждой, или в затылке, если о чем-то думал. Куммелинга все старались избегать, от встречи с ним во рту появлялся неприятный привкус.
Но ему повезло, у него был кролик. У него был единственный во всей округе кролик-самец, о котором было известно, что он отлично делает свое дело, да еще и с доставкой на дом. Все говорили, что имя кролика очень ему подходит: его звали Терпи.
За пользование кроликом Куммелинг спрашивал рюмку можжевеловой водки, а можно и две – это ведь ничто по сравнению с выводком крольчат, который появится на свет через месяц.
Когда Куммелинг еще издалека помахал нам рукой, мы принялись подталкивать друг друга в бок и во все горло кричать маме, чтобы она уже несла можжевеловую водку, а сами обогнули дом и побежали в сад за сараем, где были наши качели и песочница. Наделю назад папа поставил там же рядом буфет, в котором раньше хранился воскресный сервиз. Верх буфета папа обмазал варом, дверцы заменил окошками со стеклом, а в том отделении, где раньше стояла самая большая утятница, теперь сидела наша крольчиха на чистой соломе.
– По-моему, она догадывается, – сказал мой брат.
– Она догадывается, что́ сейчас будет, – сказал другой брат. – Гляди, как она смотрит.
Я не понял, что он такого увидел. По взгляду нашей крольчихи Веры я ничего не замечал. Глаза у нее были круглые, карие и милые, как всегда. Я не обнаружил в них никакой догадки или мечтательности, да и носик ее никакого желания не выражал.
Она сидела и ела солому.
И когда Куммелинг проехал на велосипеде по траве через весь сад до самых качелей, она продолжала сидеть, как сидела. Услышав, как Куммелинг ругнулся, потому что он чуть не упал с велосипеда, Вера приподняла уши и покрутила ими, но все равно продолжала жевать как ни в чем не бывало.
И только когда в корзине, привязанной к багажнику красной веревкой, началось бурное шевеление, Вера замерла и прекратила жевать. Носик у нее беспокойно задвигался, уши поднялись.
Нам стало за нее неловко. Ивовая корзина громко скрипела. Мы сразу догадались, что кролик своими когтищами может сломать ивовые прутья, и нам показалось, будто мы слышим его учащенное дыхание.
Мама, вышедшая из дома с бутылкой можжевеловой водки и рюмкой, спросила у Куммелинга, уверен ли он, что привез кролика, потому что с террасы ей показалось, что в корзине лев, ха-ха-ха, – такой он поднимает шум.
– Ха-ха-ха, лев! – сказали мы и отступили на шаг.
Куммелинг вынул из ивового кольца две палочки, крышка корзины мигом откинулась, и он одной рукой вытащил кролика. Держа его за шкирку, поднял у себя над головой.
– Терпи! – сказал он.
Кролик не шевелился, и мы увидели, какие у него сильные лапы и какие большие зубы, чтобы кусаться, если кто-нибудь протянет руку к его голове.
Куммелинг имел большой опыт. Он открыл дверцу буфета, бросил кролика в то отделение, где раньше стояла утятница, и снова закрыл дверцу.
Далее все происходило ровно так, как я сейчас опишу, и никак иначе. Куммелинг молниеносно выпил рюмку водки, так что мама не успела сказать ему «пожалуйста», а мы не успели и глазом моргнуть. Куммелинг попросил у мамы еще рюмку, опрокинул и ее, и в то же мгновение – мы все в этом абсолютно уверены – кролик снова взмыл в воздух: хозяин уже держал его за шкирку.
Братья уверяют, что успели увидеть то, что хотели увидеть. Что-то совсем простое, без обиняков. Что-то без глаголов и слегка покачивающееся, как сам Куммелинг.
– Жалко, что я это прозевал, – говорил я братьям весь следующий месяц, когда мы то и дело вместе подходили к Вере, чтобы ее утешить и успокоить.
– Потерпи еще немножко, – говорили мы ей, представляя себе, как внутри нее медленно-медленно растут маленькие крольчата.
Газ
– Надо было проверить газ, – сказал мой брат в темноте. – Надо было сказать: эй, смотрите все, я выключаю его, левой рукой, смотрите, вот погас огонек.
Он вздохнул. Мы не проверили, точно ли газ выключен. Мы думали, что его выключили, мы так думали, но, может, он продолжил гореть, и чайник со свистком уже расплавился, и вся кухня выгорела, и весь дом обрушился.
– Елки-палки, – сказали братья хором, – главное, вспомнили, как раз когда кино вот-вот начнется.
– Можно еще выйти из зала, – сказал я и сам испугался, какой у меня слабенький голосок.
– Выйти? – сказали братья. – Каким образом? Дверь уже закрыта.
Я невольно сглотнул.
– Да, – сказал я, обернувшись на дверь. Нигде не светилось даже узенькой щелочки. Хоть глаз выколи.
– А фильм все никак не начинается, – сказал другой брат.
Сидящие рядом шикнули на нас, чтобы мы не болтали, а то он не начнется еще дольше.
Мы замолчали. Думали о чайнике со свистком, о дырке, которая в нем, может быть, прогорела, о том, как огонь подберется сначала к кухонному полотенцу, потом к банке с деревянными ложками.
Мы пытались слушать музыку, звучавшую все громче, и сосредоточиться на первых кадрах, но в головах у нас шел фильм про мальчиков и про пожар. Мальчики входили в дом, сразу же бежали на кухню и все семеро склонялись над плитой. Фильм начинался словами «Вот видите», потому что мальчики к своему ужасу обнаруживали, что газ все еще горит, как они и думали.
Какой-то голос говорил о том, что ночь отвратительная, с ветром и дождем.
– Ох-ох-ох, – сказал брат. – Огонек ведь может задуть ветром. Если конфорка и правда включена.
Мы плохо его слышали, но мы и так знали, что́ он там говорит. Испуганно переглянулись. Огонек может задуть ветром, если конфорка включена. Потом мы решали, что хуже: если огонек задует ветром или если огонек раздует ветром.
Я считал, что первое хуже. В моем воображении огонек задуло сразу же, как мы закрыли за собой дверь и пошли в кино. Сейчас вернутся домой мама с папой. Они запросто не заметят запаха газа. Вот они снимают пальто. Надевают тапочки. Папе хочется покурить трубку.
– Где мои спички? – спрашивает он.
– Пожалуйста, не надо! – сказал я, тут же зажал себе рот рукой и посмотрел по сторонам – не слышат ли мои братья.
Брат, сидевший справа, пожал плечами и сказал:
– Это же только в кино!
На экране среди дождя и ветра как раз убили человека; там сверкали молнии и гремел гром, шум немыслимый, но все равно мы кому-то мешали. На нас опять шикнули:
– Тс-с-с-с!
Наверное, они нарочно изобразили шипенье газа, вырывающегося из конфорки.
Мы съежились от страха. И зажмурились от той картинки, которая нарисовалась у нас перед глазами. У газа выросла голова, а его тело разрасталось и разрасталось, оно заняло всю кухню, гостиную, все остальное. Оно заполнило все уголки дома и спряталось там от папы с мамой, которые пришли домой и не почуяли запаха. Они сняли пальто. Надели тапочки. Папе захотелось закурить трубку.
– Хочешь кофе? Я вскипячу воду, – сказала мама.
– Да, кофе, с удовольствием, – сказал папа.
Какой еще кофе, вдруг сообразил я. И наклонился вперед.
– Эй, – прошептал я в темноте. – Мы же не кипятили чайник. Мамы с папой сегодня нет дома, так что сегодня вообще никто не пил кофе и не кипятил чайник.
– Точно? – спросил брат.
– И правда! – воскликнули другие братья. – Мы же не пьем кофе. Мы только разогрели запеканку из овощей, а кто же ест запеканку с кофе!
– Конечно! – сказал я.
– Тс-с-с… – шикнули на нас соседи.
– Да-да, тс-с-с, – сказали мы и вздохнули с облегчением. Жестами показали соседям, что теперь-то уж точно замолчим, но поскольку их «с-с-с» продолжало звучать у нас в головах, нам вдруг вспомнилось: разогретую запеканку-то мы точно вынули из духовки, но не забыли ли выключить газ?
Какое-то время мы сидели тихо. Но потом брат опять заговорил в темноте.
– Надо было проверить газ, – сказал он.
Дедденоста
Среди ночи кто-то ломился в нашу дверь. Первым услышал папа. Спустился до середины лестницы и крикнул:
– Кто там?
Этот человек очень хотел попасть к нам в дом. Он что-то бормотал, обращаясь к входной двери, и стучал ладонью по деревянной поверхности.
– Кто там? – снова крикнул папа, еще громче, потому что совсем не хотел впускать в дом человека без имени.
Мы с братьями запахнули наши халатики и заняли безопасную позицию. Прижались боком к лестничным перилам; за спиной у каждого был либо брат, либо ступенька.
– Кто там? Гм… Кто там? – кричал папа, приложив руку рупором ко рту.
Ответа не последовало. За дверью стало тихо. Мы представили себе, что этот пьяница стоит, покачиваясь, руки по швам, у нашего порога, охваченный отчаянием. В дом никак не войти. Что ему теперь делать, куда податься?
На окне кладовки у нас над головами приподнялась шторка. Окно открылось, и мгновение спустя мы услышали мамин голос. Она кричала:
– Э-эй!
Немного подождала, закрыла окно и вышла на верхнюю площадку лестницы, качая головой.
– Это Берт, – сказала она и объяснила, что он принял наш дом за свой.
– Как так может быть? – сказал папа.
– Вот так и принял, – сказала мама, запахнула халат, на цыпочках спустилась по лестнице мимо братьев, меня и папы и подошла к двери.
– Берт, – сказала она, обращаясь к двери. – Берт!
С той стороны двери началось движение. По доносившимся звукам казалось, что у Берта четыре ноги. И два языка. Он выругался. Сказал, что хочет войти. Что он из своего кармана оплатил и дом, и цветочные горшки, и жалюзи, и все-все-все.
– Да-да, – сказала мама. – Но ваши жалюзи висят не здесь. А в другом доме.
– Они здесь, – сказал Берт. Он не вчера родился, и нечего ему зубы заговаривать. Он же оплатил для нее и этот дом, и цветочные горшки, и эти ее дурацкие жулюзи.
– Жалюзи, – сказали мы все хором.
– Да, – сказал Берт, и мы услышали, как он наваливается на дверь плечом.
Мама отступила на шаг. Папа разом взвился: не хватает только, чтобы этот выпивоха проломил нам дверь своей пьяной башкой! Еще немножко, и он ввалится к нам в переднюю.
– Берт, – сказал папа и попытался объяснить через дверь, что его дом дальше, что перед его домом стоят горшки с цветами. Большие дорогие горшки с георгинами.
Но для Берта это было слишком сложно. Он продолжал браниться, честил так и сяк своих жену, и ребенка, и дом, ругался, что она на него плюет и вечно думает только о себе и о ребенке, а на него плюет, его жена со своими гераргинами.
– Георгинами, – поправили мы.
– Да, – сказал Берт.
Тут уже маме надоело. Она подала нам с братьями знак, притянула нас к себе и поставила впереди себя. Мама дергала нас кого за воротник, кого за руку и крепко держала, словно загораживаясь нами. Затем попросила папу включить уличный свет и открыть дверь.
– Да-да, – сказал папа с улыбкой. И сделал, как попросила мама.
– Ну вот, – сказала мама Берту через открытую дверь.
– Ага, – сказал Берт, глядя на маму и на нас с братьями.
Держась за стену одной рукой, другой провел по лицу. Сказал, что у него двоится в глазах. Очень-очень двоится.
– М-мой дом н-номер дедденоста, – сказал он.
– А наш – дедденоста восемь, – ответили мы хором.
На заднем сиденье
Примеряя и прикидывая, папа уложил багаж в багажник. Все, что выпирало, он прижимал, что мешало – отодвигал, что слишком торчало – оставлял дома.
Захлопнув багажник, папа прислушался, не хрустнуло ли что-нибудь от нажима, но ничего не услышал. Лицо его прояснилось.
– А теперь вы залезайте, – сказал он.
– Если поместимся, – ответили мы.
Мы нервно хихикали, потому что никто из братьев не хотел оставаться дома, все горели желанием забраться в машину. Мы первый раз в жизни собирались поехать в лес, и все, что папа рассказывал о поездке, звучало потрясающе. Он рассказывал, что мы устроим пикник в самой высокой точке над уровнем моря и увидим родник, из которого бьет вода.
Мы все встали рядышком, как одинаковые чемоданчики.
Папа открыл дверцы и сказал:
– Сейчас посмотрим.
Мы один за другим стали забираться на заднее сиденье. Первым – самый старший брат, затем – самый далекий, а поверх них – еще один. Папа давал указания, куда поставить ногу и как держать руку, чтобы получилось компактно, повторял, что мы все поместимся, словно убеждая себя самого, и рассказывал историю про взрослого дядьку, который забрался в малипусенький ящичек, но все равно улыбался. Этакий гипноз.
– О-о-ох, – говорили мы.
Захлопнув обе задние дверцы, папа прислушался, не хрустнуло ли что-нибудь от нажима, но ничего не услышал.
Мы с братьями тупо смотрели перед собой. Затаили дыхание и сделали вид, что все в норме. Чувствовали себя, как тот дядька в ящичке. Были готовы съездить в лес, и обратно, и еще раз в лес и тогда только устроить пикник в самой высокой точке над уровнем моря, а по дороге поглядеть из машины на родник, из которого бьет вода.
Как только папа отвернулся, мы задышали. Принялись толкаться, высвобождать здесь ногу, там руку. Пока машина стояла на месте, мы могли немножко подвигаться в поисках более удобного положения. Мы дышали в четверть легких. Выдыхали, вдыхали, дышали по очереди, пока кое-как не приспособились.
Этакий гипноз. Ничего, протерпим, пока машина доедет до леса. Даже пока она доедет до самой высокой точки над уровнем моря. Наши голые ноги все перепутались, руки были плотно переплетены, но мы терпели, потому что хотели путешествовать все вместе, а если бы папа засомневался, то путешествие, может, вообще бы не состоялось. Сами подумайте: что было бы, если бы папа засомневался насчет безопасности поездки с переполненным задним сиденьем?
– Тому, кто пикнет, завтра кирдык, – сказал мой брат.
– Лучше бы ему вчера был кирдык, – сказал другой брат. – Было бы больше места.
Мы засмеялись, но сразу прекратили, потому что трястись от смеха было больно, к тому же в машине осталось мало воздуха.
– До свидания, дом, – сказали мама с папой, садясь на переднее сиденье.
– До свидания, дом, – закричали мы и попытались помахать на прощанье, но локти были слишком зажаты. На первом повороте наши тела совсем спрессовались. Мы слышали, как из брата, сидевшего у дверцы, вышло много-много воздуха.
– Ну, как там на заднем сиденье, все в порядке? – спросил папа у зеркала заднего вида.
– Да! – закричали мы. – В полном порядке!
Но только мы задыхались. Как тот человек в ящичке. Пока ехали до шоссе, машина поворачивала то в одну сторону, то в другую. У нас перехватывало дыхание. Сводило руки-ноги. На кончике языка вертелся вопрос, далеко ли еще до леса, а перед глазами маячил образ широкого-широкого сиденья, на котором много-много воздуха. Но когда мы выехали на шоссе и никакие повороты уже не нарушали равновесия, мы обнаружили, что у нас на заднем сиденье очень даже весело. Мы мерно дышали. Под колесами бежал асфальт. Мы, братья, не часто бывали так близки друг к другу. Мы даже начали напевать, точнее мурлыкать, а скоро придумали и слова для нашей песни. Мурлыкали тихо-тихо, но от этого забывались придавленные руки и зажатые ноги. Этакий гипноз.
– У меня затекла нога, – вдруг сказал мой брат.
– У меня тоже, – сказал другой брат.
– Ну и что, – сказал я. – Мы же поместились.
Хочу все знать
Как-то раз в августе к нам в дверь позвонил человек. С блестящими волосами и розовыми деснами, а под мышкой у него были разноцветные книги – разноцветней радуги.
Он спросил нас, хотим ли мы поумнеть. Он повторил вопрос дважды, и нам вдруг показалось, что мы глупые-преглупые и немного глуховатые.
Мы с братьями глаз не могли отвести от этого человека. Он весь светился. Глядя на него, ты невольно устремлялся мыслями туда, где парят ангелы и поет женский хор.
Подошел папа.
– Что вам надо? – спросил он.
Человек открыл рот. Мы увидели его белые зубы, и в глубине его глаз появилось сияние, так что мы решили, что под обычным лицом у него есть еще второе лицо.
Он произвел на нас с братьями неизгладимое впечатление. У нас даже дыхание перехватило. Мы толкали друг друга в бок. Этого человека надо было немедленно пригласить в дом. Мы очень хотели поумнеть, потому что скоро опять в школу, и если благодаря знаниям мы сможем выглядеть так же, как этот человек, то мы должны срочно все узнать. Мы побежали в гостиную, распахнули дверь и объяснили папе, что гостя надо усадить на стул. Сами мы поместились на диване и приготовились слушать во все уши, чтобы не пропустить ни слова.
Папа еще сомневался.
– Гм, м-да, – говорил он, проводя человека в гостиную. – Что вы продаете?
– Гм, нет, – сказал человек, от появления которого нашу гостиную точно залило солнцем. – Не продаю, а предлагаю.
– Это то же самое, – сказал папа.
– Не совсем. – Человек, потер друг о друга кончики большого и указательного пальца, изображая шелест банкнот, и вдруг улыбнулся такой заразительной улыбкой, что мы тоже заулыбались. – Знания – вещь бесценная.
– Бесценная, – согласился папа.
Улыбка слетела с наших лиц. Если нет цены, то обычно и толку нет. Книги, которые человек разложил веером на журнальном столике, были дорогущие, каждая стоила целое состояние, мы это поняли с первого взгляда. На столике лежало двадцать состояний.
– Это неправильная постановка вопроса. Важно не сколько стоят знания, а сколько они дают. Знания дают очень многое. Знания приносят радость.
Он обвел взглядом слева направо нас, сидящих на диване, улыбнулся нам и снова посмотрел на папу.
– Всё ли мы знаем? – спросил он. – Знаем ли мы – приведу просто несколько примеров – как держится на голове панама, почему наше тело – это атлас и где находятся Курилы, знаем ли мы это?
Мы с братьями испугались. Мы не знали ответов ни на один из этих вопросов. И сразу поняли, что знания приносят радость, потому что отсутствие знаний нас, наоборот, очень огорчило. Мы оглядывались друг на друга, на папу, искали ответы внутри своей головы и снаружи, даже мысленно переносились в сад, но нигде не находили ни панамы, ни атласа, ни Курил.
– Вот я и говорю, – произнес мужчина и воздел руки к небу. Вид у него был такой, будто ему живется куда проще, чем нам. Разумеется, благодаря книгам.
Мы уже представляли себе, как расхаживаем по дому с его книгами под мышкой и задаем друг другу труднейшие вопросы. «Сейчас посмотрю в энциклопедии “Хочу все знать”», – отвечаем мы друг другу, потому что так называются разноцветные книжки, и мало-помалу сами становимся похожи на этого человека с его обворожительной улыбкой, спокойными глазами и просветленным лицом, а в школе наши оценки становятся все лучше и лучше. Сейчас все зависело от папы, от того, захочет ли он, как и мы, все знать. И он захотел. Папа посмотрел на человека, потом посмотрел на нас и задал правильный вопрос, тот самый, с которого и надо начинать, чтобы все узнать:
– Где мой бумажник?
Что-что, а это мы знали. И тут же показали папе, какая полезная вещь знания. Мы принялись прыгать вокруг папы с его бумажником в руке, распевая «Хочу все знать!», а потом повисли на нем всей гурьбой.
Килька и потроха
Мы понимали: папа пережил войну, такую ужасную и долгую, что вспоминать ее можно было только по воскресеньям, а в другие дни – только если было очень много свободного времени. В той папиной войне люди всегда одевались тепло, теплее, чем сейчас. Солдаты ходили в сапогах, перепачканных землей, а однажды на папину школу упала бомба – к счастью, это случилось после уроков, иначе он бы погиб.
Мы слушали разинув рот и забывали о еде, которая остывала у нас в тарелках. Мы точно сами испытывали страдания тех, кто умирал за родину, и не пугались, когда папа, стрекоча как пулемет, падал со стула, потому что для нас он был солдат в сапогах, перепачканных землей, и его только что сразила пуля.
Благодаря рассказам о войне мы поняли, почему папа иногда покупает кильку и жирные потроха. И то и другое было ужасно, но мы понимали.
Для кильки папа разводил огонь в камине, разворачивал пакет с рыбешками и, высунув кончик языка, нанизывал их по штучке на вертел. Когда дрова прогорали и оставались только горячие угли, папа устанавливал над ними вертел, и довольно скоро с рыбок начинал капать жир и вспыхивать огоньками.
Папа садился со своей тарелкой за стол и гладил себя по животу.
– Праздник! – говорил он. – Килька – треска для бедняков!
Ну и хорошо, думали мы, и во время еды старались не слишком на него пялиться.
Он ел так, будто снова была война. Чтобы как следует насладиться килькой, он держал ее двумя руками; от жира его пальцы и подбородок блестели. Еще он облизывал губы и причмокивал – нам никогда не разрешали так делать.
Для жирных потрохов папа растапливал в сковородке крестьянское масло. Потроха уже были разрезаны на кусочки, это делал мясник в магазине. Но мы всякий раз думали, что помыть все эти кишки мясник забыл, потому что, когда папа клал их на сковородку, где они шипели и скворчали, из кухни шел такой смрад, что слетались все толстые мухи.
Жуть. Но мы стали лучше понимать папу после того раза, когда однажды мы не выдержали. В понедельник у папы была килька, а во вторник во всем доме опять воняло, уже от потрохов. Нам это показалось слишком.
Мы с братьями сели за стол, зажав пальцами носы, и старались жевать не дыша. Мы махали руками, подгоняя к себе свежий воздух, но свежий воздух тоже вонял. И тогда мы сказали папе:
– Ужасно, просто нет слов.
Это было неправдой.
У папы нашлось очень даже много слов. Он повысил голос. Сказал, что его родители во время войны отнюдь не жировали и видели говядину в основном издали, когда она паслась на лугу, а ни котлеток, ни печенки позволить себе не могли.
– Если нам и доставалось мясо, то только от какой-нибудь совсем завалящей коровы или очень жирные куски. Но жир на тарелке был нам не страшен, в нас-то самих не было и грамма лишнего. И мы подолгу держали во рту каждый кусочек, потому что не знали, через сколько недель нам посчастливится снова жевать мясо. Во время войны килька была треской бедняков, а потроха – бифштексом. Килька и потроха спасли мне жизнь, потому что однажды, когда мы с мамой и папой уже думали, что не дотянем до конца недели, один рыбак отсыпал нам килек, и один мясник дал нам потрохов. Это было счастье, и привалило оно как раз вовремя. Так что не желаю слышать от вас больше ни слова!
Мы поняли.
И каждый посмотрел в свою тарелку с остывшей едой и услышал, как колотится его сердце.
– Выходит, – сказал мой брат тихонько, – нас бы вообще не было, если бы не килька и потроха.
– Вот именно, – сказал папа.
– Вот именно, – сказали мы и с тех пор решили, что пусть папа ест что хочет. Хоть мозги и вымя.
Все как обычно
Надо мной шел совет. Совет Черных Брюк. О важности совета можно было судить по тишине за столом. Братья молчали, папа говорил шепотом. Стулья стояли ровными рядами вдоль четырех сторон стола, в комнате было полутемно. Дверь в кухню закрыта. На столе мерцала свеча, первая из четырех в венке. Сегодня начинался Адвент[5].
– Индейки не будет, – сказал папа.
«Индейки не будет», – подумал я. Лег на спину и раскинул руки и ноги. Я смотрел на столешницу снизу, немного наклонив голову к плечу, и отметки, которые столяр сделал на фанере толстым черным карандашом, были прямо передо мной. Значок «О» казался мне то буквой, то нулем, а «v» – иногда буквой, иногда просто галочкой. А иногда я видел солнце и рядом с ним птичку. Сегодня это были буквы. «О» и «v». Я беззвучно их произнес, одну букву большую и одну маленькую, и потом ощупал свои губы, чтобы понять, какую из них я больше люблю. Обе одинаково, потому что вообще много чего любишь, когда лежишь под столом и слушаешь жужжание голосов над головой.
– Торта не будет, – сказал папа.
«Торта не будет», – подумал я. По папиным ногам я понял, что он переходит к новой теме. Он убрал ноги под стул. Как по сигналу, мамины ноги и ноги братьев тоже пришли в движение. Многие братья подложили одну ногу под себя, так что из-под стола казалось, что у них только по одной ноге. Мама вытянула ноги вперед, чуть не наступила мне на руку. Только бабушкины ноги остались стоять там же, где стояли до сих пор. На полу, рядышком, две голубые тапочки с помпонами из страусиных перьев.
Под столом жизнь мамы и бабушки, папы и братьев была совсем другой, чем над столом. Во время обеда, когда я съедал все, что было у меня на тарелке, а разговор за столом продолжался и все говорили какие-то трудные слова длиной в четыре слога, я частенько соскальзывал со стула вниз, под скатерть. Иногда становился рыбой. Иногда оставался собой. Играл в игру: какой голос принадлежит каким ногам. Или не играл, а потихоньку подпевал жужжанию голосов наверху. Или просто лежал.
Сегодня я пытался увидеть сквозь стол брюки. Черные Брюки были расстелены на столе прямо у меня над головой, потому что так полагалось во время Совета Черных Брюк. Я представлял себе, что стол исчезает и брюки падают на меня, а вместе с ними – свечка и листы бумаги, на которых папа с братьями записывали важные решения.
– Елки не будет, – сказал папа.
«Елки не будет», – подумал я. Но тут же стал крутить головой влево-вправо, потому что стулья начали отодвигаться от стола, и братья, мама и папа встали и пошли в соседнюю комнату. Только бабушкины тапочки остались на месте.
– Не волнуйся, – сказала она мне через стол. – Они все пошли смотреть, где поставить в этом году елку, если у нас будет елка.
– Или ветка с ананасами, – сказал я. – В этом году все будет иначе, чем в прошлом.
До меня донесся бабушкин вздох. Одна ее тапочка приподнялась.
Она хотела сказать, что ничего не изменится. Мы каждый год говорили о том, что праздник будет совсем другой, чем в прошлом году. Без индейки. Без торта на десерт. Без елки, украшенной потускневшими от времени шарами. Но в конце Совета Черных Брюк братья и мама с папой всегда снова разворачивались в привычную сторону, как листики на деревьях. Неизменно. Все будет как прежде, говорили они.
– Тебе не холодно? – спросила бабушка.
– Нет, – ответил я, прислушиваясь к голосам в соседней комнате.
Перелег на бок и потер одной голой ногой другую.
– Осталось недолго, – сказала бабушка. – Скоро они закончат советоваться и отдадут тебе брюки. И все будет как обычно.
Кто раньше
Мы соревновались, кто дольше сможет не дышать. Победил мой брат. Он был старший, и у него были самые большие легкие и самый большой рот, но про это никто ничего не сказал. Им восхищались: он же победитель.
Поэтому за завтраком он мог выбирать, во что нам играть за столом. Он выбрал какую-то игру, которую тут же и придумал, но очень плохо объяснил правила, так что сам в нее и выиграл. Потом он выдумал игру под названием «Снег шел хлопьями»: он подкидывал вверх горсти кукурузных хлопьев, и они падали на стол. По-моему, это вообще не игра, но скатерть выглядела отлично.
А потом братьям пришло время идти в школу.
В передней стало очень тесно. Мама с бабушкой едва успевали снаряжать их всех в путь. Смотрели, не надето ли что-нибудь криво-косо и все ли пуговицы застегнуты. Они давали указания, здесь что-то застегивали, там что-то приглаживали и потихоньку направляли всех по очереди к двери. Братьям оставалось перешагнуть через порог, поцеловать маму с бабушкой и за десять минут доехать на велосипеде до школы; еще немного, и прозвонит звонок на урок.
– Будьте осторожны, – говорила бабушка, держась за грудь.
Об осторожности братья мгновенно забывали. Осторожность – не для тех, кто хочет выиграть соревнование.
Меня мама с бабушкой одевали последним. Мне было совсем близко: два шага, перейти через мостик, и я уже на месте. Воспитательница не сердилась, когда я опаздывал. Заходи-заходи, говорила она мне из-за ширмы кукольного театра или поднимая глаза от своего банджо, а потом улыбалась маме: мол, я все понимаю.
Я поцеловал бабушку. Услышал, как она тихонько застонала – оттого, что ко мне наклонилась, или оттого, что услышала, какой шум подняли братья там, вдали. Мы с ней вместе увидели, как они вшестером несутся наперегонки в самом конце улицы. Их велосипеды ходили под ними ходуном вправо-влево, как под гонщиками на финишной прямой. Может, финиш был уже близко. Наверное, выиграет один брат или другой, где-нибудь за поворотом, и тот, кто приедет первым, получит право выбрать, откуда и докуда будет следующая дистанция.
– Ох, мальчики, мальчики, – сказала бабушка.
Я смотрел братьям вслед, пока они не скрылись из виду. Оттого, что они были такие радостные, мне стало грустно. Никогда-то я не выигрываю, нигде и ни в чем я не буду первым, вот какие мысли меня посетили.
Мама умела видеть даже то, что незаметно.
Погладила меня по голове и сказала:
– Давай соревноваться, кто первый добежит до садика!
И сразу же побежала. У нее плохо получалось, потому что она была в домашних шлепанцах, еще она слишком громко смеялась и сбивалась с дыхания.
Я у нее выиграл, с легкостью.
– Ура! – сказала воспитательница.
– Браво! – сказала мама.
– Да, – только и ответил я, потому что мысли мои оставались грустными.
Я сел на свое место в игровой комнате и тупо уставился на банджо, пока воспитательница не принялась на нем играть и за мамой не закрылась дверь.
Днем, когда родители пришли за детьми, чтобы отвести их домой обедать, я обратил внимание, что почти все мамы и папы соревнуются со своими малышами в беге – специально, чтобы меня подразнить. Или они подкидывали своего ребенка выше других, чтобы он почувствовал себя первым и лучшим, или придумывали что-нибудь еще в том же духе.
Я старался не обращать внимания. Мысленно представлял себе, как сейчас приду домой. Громко хлопну дверью. С мрачным видом. Никого не стану целовать. Отмахнусь от всяких нежностей. Сяду за стол и буду смотреть в свою тарелку, пока братья не придут из школы, пока все тоже не сядут за стол. А когда мама поставит на стол еду, я ничего не буду есть – пусть остывает, даже если братья устроят соревнование, кто съест суп первым.
Когда я пришел домой по-настоящему и громко хлопнул дверью, никто не обратил на это внимания. К моему удивлению, из кухни вышла наша соседка, протянула ко мне руки, обняла, села со мной на руках в пустое бабушкино кресло. И сказала:
– Послушай. Успокойся, пожалуйста. Не пинайся. Случилось большое горе. Об этом еще никто не знает, ты первый, кому я рассказываю.
И она мне рассказала.
И спросила:
– Очень грустно, да?
И я ответил:
– Да. Грустно.
Но плакать мне не хотелось. Я слышал, как подъехали братья, слышал, как их велосипеды стукаются о дверь гаража. Очень странно, но я вдруг заметил, что мне уже немного веселее. Братья кричали наперебой, что они первые, но я пробормотал:
– Нет, не вы. Вы не первые.
Я побежал к двери в сад, открыл ее и вскинул руки. Закричал, что случилось большое горе и что я узнал об этом раньше всех, и, прыгая от радости, громко-громко рассказал, что произошло.
Но мной никто не подумал восхищаться. Никто не сказал, чтобы я выбирал, в какую игру нам играть. Ни в тот серый день, ни в следующий серый день. Да и потом, когда дни прояснились, никто об этом не заикнулся. Один брат выиграл в беге по лестнице, другой – в раскалывании орехов, а о том, что я первый узнал о бабушкиной смерти, никто и словом не обмолвился.
Один брат с длинным именем
Раз в году папа рано утром вставал на нижнюю ступеньку лестницы и выкрикивал, обращаясь к верхнему этажу, все наши имена на едином дыхании, как будто мы были один брат с длинным-предлинным именем. Это имя жалило нас, как слепень, всех семерых разом. Мы выскакивали из постелей, точно на пружинках, подтягивали пижамные штаны до подмышек и как один брат с четырнадцатью руками и четырнадцатью ногами неслись по лестнице вниз.
Мы знали, что в папином кабинете произошло чудо. Мы не могли просто по-обыкновенному смотреть на это чудо, мы должны были его созерцать – как распахнувшуюся перед нами сокровищницу. Здесь было столько всего интересного, что надо было сначала привыкнуть к общей картине, прежде чем приниматься за белые, желтые и розовые сласти или начинать разглядывать те подарки, которые блестели. На некоторые сокровища – такие как перчатки, копилки, коробки для хранения вещей – мы поначалу не обращали внимания, но позднее оказывалось, что внутри этих полезных предметов или под ними тоже было припрятано что-нибудь шоколадное – и мы задыхались от счастья.
Печенье в форме букв только что не лежало у нас под ногами, здесь и там блестели шоколадные медальки, в книжном шкафу и под ним, на кресле и под креслом мы находили детали строительного конструктора, и роликовые коньки, и рации, и крохотные упакованные в прозрачный пластик деревца и машинки. А мама тут же объясняла нам:
– Это приходил святой Николай[6]…
– …вместе со своей белой лошадью, – подхватывали мы и указывали на огромную марципанину с откушенным углом и отпечатком большущих зубов.
– Это… – начинал папа.
– …добрый святой заботится о вас, – заканчивала за него мама.
– Да, да, добрый святой, – говорили мы. – Спасибо, святой Николай!
Мы старались изобразить у себя на лице благодарное выражение. Не тянули руки к подаркам, а наоборот, прятали их за спину, чтобы святой Николай, который, наверное, смотрит на нас сверху, не подумал, что мы жадные или невоспитанные. Мы нарочно громко спрашивали, выпил ли Черный Пит кружку пива и съела ли лошадь после марципана свою брюкву и морковку.
Каждый садился рядом с теми игрушками, которые предназначались лично для него. Это всегда было именно то, о чем мы заранее просили святого Николая. Я нашел большущую коробку – вторую по величине из всех подарков – со строительным конструктором и набор печатника, на котором собирался напечатать собственную почтовую бумагу – я это давно придумал, еще когда рассматривал с лупой картинку в каталоге игрушек.
Мы вздыхали от счастья, и ощупывали собственные игрушки, и разглядывали игрушки других. Один брат уже пристегивал роликовые коньки, другой проверял, как вставляются батарейки в рацию, третий изображал звук тормозов у грузовика, объезжавшего горку зефирок. Время от времени какой-нибудь один брат спрашивал у другого, что ему подарил Николай.
– Рацию.
– Рацию!
– Ага, две штуки.
Тогда другой брат озабоченно смотрел себе на ноги и тут же вздыхал с облегчением – потому что ему Николай подарил роликовые коньки и их, к счастью, тоже было две штуки.
– Только полюбуйся, – говорила мама.
Она стояла, скрестив руки на груди и прислонившись к папе плечом. Было видно, что оба счастливы. В этом году Николай подарил всем подарков поровну, думали они. В этом году он не допустил ни одной ошибки.
Оставив нас в комнате с сокровищами, они шли завтракать. За завтраком разговаривали тихими голосами и ставили чашку кофе на блюдце почти беззвучно.
За окном начинало светать, и при свете дня чудо становилось меньше чудом. К нам с братьями возвращался дар речи. Мы тоже шли за стол, а подарки клали себе на колени или на стол рядом с тарелкой, и всем сразу становилось тесно. Мой брат поцапался из-за этого с тем братом, который сидел рядом с ним. Другой брат поссорился с братом из-за рации: он хотел нажать красную кнопку на первой рации, а это нельзя, так как от этого перегорит вторая.
– Неправда!
– Много ты знаешь!
Брат ткнул брата в бок и получил сдачи роликовым коньком по ноге.
Но вот папа встал и выкрикнул все наши имена на едином дыхании, как будто мы были один брат с длинным-предлинным именем. «Сейчас вас услышит святой Николай!» – крикнул он и добавил, что своей ссорой мы уже подпортили то чудо, которое должно произойти в будущем году.
Мы тотчас притихли. Мы очень старались сохранить ощущение, что мы все – один брат с длинным именем. Но во время обеда, поедая тушеную брюкву с сосисками, мы снова сидели за столом как семь отдельных братьев, и у каждого было свое собственное имя и свои собственные руки-ноги.
Да, нет
Если мы сейчас же не наденем пальто с шарфами и с быстротой молнии не выйдем на улицу, мама продаст нас первому попавшемуся прохожему, потому что она от нас устала, кошмар как устала от детей, которые вечно устраивают дома игры одна опаснее другой.
Не успели мы сунуть одну руку в рукав, как раздался звонок. Мы с братьями застыли. Во рту мигом пересохло. Мы посмотрели на маму: неужели она уже успела вызвать человека с грузовиком, который забирает непослушных детей?
Мама ничего не сказала. Но вид у нее был сердитый.
Мы все как стояли, так и сели кто у стены, кто у перил, кто у стула. В груди застучало: тук-тук-тук.
Когда дверь открылась, мы вздохнули с облегчением: это пришла молочница, приносившая нам раз в неделю молочные продукты. Она, как всегда, протянула маме брусок сливочного масла, а нам сказала: «Привет, мальчики». И спросила, знаем ли мы, что пожарная команда сегодня пойдет проверять лед. Конечно, наверняка ей это не известно, но уже пора, пора. Целую неделю стоит мороз, и похоже, что и на следующей неделе дров будет уходить не меньше.
– Пожарные должны проверить, достаточно ли прочен лед, – сказала молочница. – По льду хорошо кататься, это все знают, но провалиться под него можно в два счета. Такое не раз случалось.
– Это правда, – сказала мама. И минутку подождала, потому что у молочницы был такой вид, будто ей хочется рассказать что-то еще.
Но молочница ничего не говорила. В передней стало холодно, как на улице.
Мы переводили взгляд с мамы на молочницу, которая переминалась с ноги на ногу и уже почти повернулась уходить. Ей оставалось только сказать на прощанье, как она всегда говорила: «Хорошей вам погодки» и уйти. Но тут молочница неловко двинула локтем.
– Ну, до следующей недели? – сказала мама.
– До следующей недели, – ответила молочница.
Затем приложила рукавицу ко рту, будто проверяя, отрыт он или закрыт, и разом выпалила ту историю, которую пыталась удержать за зубами все это время: знает ли мама, что у нее, у молочницы, под лед провалилась ее любимая кошка, незадолго до трагедии с двумя старушками в прошлом году. Помните, как их нашли, когда лед стаял, старшую сестру и младшую, которая с придурью была, помните?
– Когда их нашли, они все еще держались за руки крест-накрест, как будто и под водой продолжали кататься на коньках. И, представляете, обе были в шапках!
– Да, я тоже слышала… – сказала мама, и мы заметили, что ее голос изменился, точно у нее горло заледенело. Шмыгнув носом, она закончила: – Но давайте лучше говорить о чем-то веселом.
– Да, – сказала молочница, – лед – оно, конечно, весело. Но уж нынешняя зима будет последняя.
Слушать, почему нынешняя зима будет последняя, мама уже не захотела.
– Спасибо, – сказала она, закрывая дверь. И осталась стоять в той же позе, словно продолжала смотреть сквозь дверь на молочницу.
Мы слышали, как мама дышит. Ее дыхание дрожало.
– Как я невежливо поступила, – сказала мама сама себе.
Казалось, она забыла, что мы все находимся тут же рядом. Мы решили напомнить ей о себе, тихонько кашлянув, – и кашлянули все одновременно.
Мама будто не слышала.
Наконец она обернулась и посмотрела на нас. Сказала еще раз, что поступила очень невежливо. Но все равно это просто невыносимо. Молочница уже десять лет подряд рассказывает про то, как в прошлом году провалилась под лед ее любимая кошка, и десять лет – про то, как в прошлом году утонули две старушки. И каждую зиму история обрастает новыми нелепыми подробностями.
– Обе в шапках! Откуда что берется?
– Да, – сказали мы и переглянулись. Мы снова встали, держась за перила, одернули свои пальто и надели шапки.
Когда мы задвигались, мама словно очнулась от сна. Она часто заморгала и вскинула голову.
– И куда же это мы собрались? – спросила она.
– На улицу. С быстротой молнии.
– На канал, не иначе? – спросила мама. – Так вот. Если вы с быстротой молнии не снимете пальто, не повесите шарфы на вешалку и не вернетесь на кухню, я закатаю вас в ковер и отдам шоферу грузовика. Потому что это просто кошмар, как вы умудряетесь устраивать на улице игры одна опаснее другой, – сказала мама.
Мы посмотрели на маму, не шутит ли она.
– Мы не собирались идти на канал, – сказали мы.
– Так я вам и поверила, – сказала мама. – Все, вперед.
Мама указывала на дверь кухни.
– Вот сюда, сюда и сюда, – сказала она и велела нам сесть на пол, и на кухонный стол, и на тумбочки, и на единственную табуретку и сидеть неподвижно. И нам пришлось молча смотреть, как она печет для нас блины, а спрашивать, почему она это делает в такое неожиданное время, не имело смысла, потому что ответа на этот вопрос не было.
Желтуха
Я сказал, что вижу, как с крыши больницы падает огонь, и тут же получил локтем по лбу.
– Ну как, больно? – спросил брат. – Больно?
– Нет, – сказал я, потирая лоб. – Нет.
И добавил, что незачем задавать один и тот же вопрос два раза, я не глухой. И не надо так сильно тыкать мне локтем в лицо, потому что я слышал, что некоторые люди ослепли, когда им двинули по лбу, а у некоторых даже мозг повредился.
– Короткое замыкание, – сказал я. – Они забыли все, что знали, и начали говорить странные вещи.
– Странные вещи, – сказал брат. – Короткое замыкание. Забывать тебе от короткого замыкания все равно почти нечего, а странные вещи ты и так говоришь.
Брат отвернулся от меня, наклонился вперед, повернул динамо-машинку, чтобы зажглась велосипедная фара, и вздохнул, прежде чем ехать дальше.
Я крепче вцепился обеими руками в бока его куртки, и, когда он рванул с места, меня откинуло назад. Плотно сжав губы, я стал смотреть в сторону и думать про огонь, который упал с крыши больницы, – ведь я видел его своими глазами.
– Прежде чем что-то сказать, поводи языком по нёбу, – бросил через плечо мой брат.
Он свернул за угол и покатил прямо к зданию больницы, которое до этого виднелось вдали и сбоку от нас.
– Поводи языком по нёбу, и поймешь, что если сначала подумать, то окажется, что и говорить незачем.
Я смотрел на его затылок. Брат сегодня злился с самого утра и явно не собирался к вечеру добреть. Когда утром он делал бутерброды нам на завтрак и подметал кухню, он вздыхал, в супермаркете он стонал, а когда играл со мной в «двадцать одно», страшно вращал глазами, хотя вообще-то он любил эту игру.
Он сказал, играть в «двадцать одно» вдвоем – все равно что что играть в пинг-понг с самим собой. Но разве я виноват, что дома больше никого не осталось?
– Это нечестно, – сказал я спине брата. – Я правда видел, как с крыши больницы падает огонь, а ты мне тычешь в лицо локтем.
Я сидел на багажнике у брата за спиной, так что, наверное, лучше было бы водить языком по нёбу, чем такое говорить. Он ругался сегодня на всех: на меня, потому что я принял разносчика из магазина за короля, на папу, потому что он до вечера ушел на работу, на маму, потому что она уже три дня лежала в больнице, и на остальных братьев, потому что доктора подозревали у них ту же инфекцию, но пока сомневались.
После моих слов брат опять выругался. Нажал на тормоз без предупреждения и остановился посреди велосипедной дорожки.
– А ну-ка прекрати! – заорал он. – Прекрати!
Обернулся ко мне и указал рукой на больницу в лучах вечернего солнца.
– И где же этот твой огонь? Ничего не горит. Крыша цела. Окна на месте. Пожарных сирен не слышно. Откуда взяться огню?
Он покачал головой и покрутил пальцем у виска.
– Может, и без толку тебе это говорить, – сказал он, – но я все-таки скажу. Человек заболевает желтухой от усталости. А я устал, да будет тебе известно. Скоро у меня тоже начнется желтуха, и ты единственный останешься здоровым.
– А-а-а… – только и сказал я, но обдумать его слова не успел, потому что мы услышали, что нас зовут откуда-то сверху, и подняли головы.
У окна на седьмом этаже стояла мама. На вид у нее было уже меньше желтухи, чем вчера, и она махала нам двумя руками сразу.
Мы с братом помахали ей в ответ. Но миг спустя наши руки так и замерли в воздухе.
Двумя этажами выше мамы у окна стояли наши братья. По ним было сразу видно, что пока неясно, есть у них желтуха или нет. Но они не очень-то переживали. Они махали нам, показывали рулоны туалетной бумаги и спичечный коробок, который где-то нашли.
Я поводил языком по нёбу. Еще и еще. А потом сказал очень умную вещь. Я сказал брату, что оставшееся расстояние до больницы я пройду пешком, тогда он меньше устанет.
Молчи
Она приезжала на малюсеньком фургончике, который был ей точно по размеру. Рядом с ней хватило бы места для ее мужа, если только муж был не слишком большой. А детей посадить было некуда. Сзади лежала ее сумка.
Она приезжала еще до семи утра, и едва вешала пальто на вешалку, как до нас долетали производимые ею шумы, всегда одни и те же и в одном и том же порядке, как будто она действовала по списку. Кофемолка, бойлер, водопроводный кран, чайник на огне, ведро из стенного шкафа. Строго по очереди.
Она никогда ничего не говорила. Да это и не требовалось, потому что все говорило само за себя. Когда мы спускались в столовую, стол уже был накрыт, на нем стояли правильные тарелки, у папиной тарелки лежала его любимая тяжелая ложка, у тарелки моего брата стояла кружка с медведем, которую он когда-то выиграл и никому не давал.
Ели мы молча. Так получалось само собой. Домработница говорила не словами, а телом. Даже братья, любившие повыступать, закрывали рот, стоило ей на них взглянуть. При этом она опускала на колени руки с носком, который в тот момент штопала, сдвигала брови и выжидала минуту. Иногда могла еще и скрестить руки на груди – это было как восклицательный знак в конце фразы.
Только когда из ванной комнаты выходил папа и, свежевыбритый, садился за стол, мы решались открыть рот. Но говорили совсем чуть-чуть, никогда не высказывая собственного мнения, потому что уже два раза домработница ясно давала нам понять, что свои соображения нам лучше держать при себе. Например, мой брат однажды сказал другому брату, что у мамы пройдет желтый оттенок, если она достаточно долго пролежит в горизонтальном положении. И что мама вернется домой, когда ее лицо будет нормального цвета.
– Через неделю-другую, – сказал мой брат.
Домработница решила, что хватит разговоров. Опустила руки с шитьем на колени, поставила восклицательный знак в виде вздоха, так что брат взглянул на нее испуганно и сразу забыл, что еще собирался сказать.
Мы решили, что домработница молчит не просто так. Молчит, потому что боится: вдруг она нечаянно скажет что-то, чего ей не хочется говорить. Например, что ей завидно. Что она не желает слушать, с какой нежностью мы разговариваем о маме, потому что сама бездетная. У нее нет мальчиков, для которых надо готовить завтрак или штопать носки. У нее нет мальчиков, которым неделя кажется бесконечно долгой, потому что они уже прожили без мамы две недели, и обе недели шли так медленно, словно каждый день был обут в альпинистские ботинки, которые ему велики. Так что домработница молчала на всякий случай – чтобы не сказать ничего лишнего.
Она не оставляла нам ни малейшей возможности убежать куда-нибудь бандитствовать после обеда. Как только посуда была убрана, на столе появлялись мешочек и коробка. «Чик-чик-чик», – говорили пальцы домработницы, и горе тому, кто отважился бы выполнять иные движения, чем она! Из мешочка она доставала семь пар ножниц и старые занавески, рубашки, брюки и наволочки, а также летний джемпер и кусок корсета, из которого были вытащены косточки. «Чик-чик-чик», – громко говорили ее пальцы, и она помахивала квадратиками картона, по форме которых мы должны были вырезать лоскутки из всех этих вещей.
Братья, обычно любившие пошуметь, даже не протестовали. Когда поздно вечером, лежа в кровати, я спрашивал почему, они отвечали, что молчат точно так же, как сама домработница: на всякий случай, чтобы не сказать лишнего.
Постепенно мы вообще перестали подавать голос. Мы считали каждый прожитый день. Исподлобья смотрели на домработницу и выражали своим телом, что о ней думаем. Мы опускали вниз уголки рта, сутулили спины, втягивали животы – вот что мы о ней думали.
И хорошо, что мы молчали и не успели сказать ничего лишнего. Потому что, когда домработница была у нас в последний раз, она пошла к своему фургончику и достала огромный пакет. Развернула бумагу и показала нам лоскутное одеяло. И даже произнесла несколько слов. Сказала, что сшила это одеяло сама. Что мы работали над ним все вместе, что это подарок маме к ее выздоровлению. Она указала на нас, а потом на кусочки занавесок, рубашек, брюк, наволочек и летнего джемпера, а также корсета, из которого были вытащены косточки.
Закатившиеся деньги
В ночь с воскресенья на понедельник наш дом снесли. Без подъемных кранов. Три человека с кувалдами поднялись на чердак и начали все крушить. Сбили черепицу, разломали стены, раскрошили двери в щепки. Все-все разлетелось на мелкие кусочки.
Сидя на шкафу, я смотрел, как они принялись за второй этаж: проделали дыру в полу спальни и стали ссыпать через эту дыру строительный мусор. Когда дошло до гостиной на первом этаже, над головами у нас уже было только голубое небо, и гостиной на самом деле уже не было, потому что там, где мы раньше сидели вокруг камина, теперь лежали балки и битый кирпич с остатками обоев из комнат второго этажа.
Я забрался на эту кучу мусора и спросил у рабочих: неужели им нравится такая работа? Они ответили:
– Нет, нет, это ужасная работа. Никто не любит ломать дома. Мы делаем это только ради кладов. Ради золота, спрятанного в водосточном желобе. Или ящика с драгоценностями в дымоходе. Или коробки, замурованной в нише. И в любом случае во всех домах есть закатившиеся деньги.
– Закатившиеся деньги?
– Монеты, которые люди годами роняли из карманов и не подбирали, а потом нечаянно замели под плинтус или в щель в полу. Знаешь, какая со временем набирается сумма?
– Понятия не имею! – сказал я и попытался представить.
Я видел, как мама подметает пол, а папа ходит по дому шаркающей походкой, и слышал, как под плинтус катятся монеты и там их собирается целая куча. От одной этой мысли у меня прямо дыхание перехватило. Я с трудом нащупал выключатель ночника.
Братья проснулись с ворчанием, захрюкали, как поросята, стали тереться лицом о подушку, как о теплую мамину грудь. Они не спрашивали, в чем дело и почему я среди ночи принялся искать тапочки. Мы все время от времени вылезали ночью из кроватей – в туалет или попить водички.
Я встал на четвереньки и прижался щекой к полу. Увидеть, что там под плинтусом, не получалось: глаза были слишком высоко, даже когда я распластался по полу. Я начал елозить по линолеуму, будто пол – это песок и мне надо в него зарыться.
Мой брат свесил голову с кровати.
– Чокнулся, что ли? – спросил он.
Краешком глаза я видел, как надо мной появляются лица остальных братьев. Все смотрели на меня и качали головами.
– Давно это с ним? – спросили они у брата.
Я перевернулся на спину и посмотрел вверх – ни на кого из них, просто вверх. Я сказал, что им наверняка неинтересно, что у меня было видение о закатившихся деньгах, но ведь им деньги не нужны.
– Что тут такого, – сказал я, пожал плечами, повернулся к братьям спиной и начал считать про себя до трех.
На счет два первые братья уже попадали на пол, как мешки с песком. Они так пыхтели от волнения, что какое-то время не могли сказать ни слова и только тыкали меня в бок, требуя объяснений.
– Что ты сказал? Повтори-ка!
Я молча улыбнулся братьям, поднял указательный палец вверх, затем указал на плинтус. Там, у самого моего носа, я только что обнаружил монетку. Монетка была медная, много на нее не купишь, но это было доказательство того, что я не чокнулся. Я вытащил монетку из-под плинтуса ногтем. Поднял ее вверх, запыленную и запачканную в чем-то черном.
– Да-да, – сказали братья.
– Да! – сказал я, радуясь, что они меня поняли.
Но братья меня не поняли. Покачали головами, не глядя на меня, и расползлись по своим кроватям. Они смеялись надо мной и говорили при этом по-английски и по-французски, чтобы подчеркнуть, что у них своя компания.
Ну и ладно. Я так и остался лежать на полу, пока братья не заснули. На следующий день нашел еще несколько монеток, которые могли стать началом миллионного состояния. Завернул монетки в бумажку и сунул за плинтус. И еще написал записку для тех рабочих, которые когда-нибудь придут сносить наш дом. Надеюсь, написал я, что они обрадуются находке. Потом я перебрался в другие комнаты и принялся сколачивать уже собственное состояние: нашел половинку почтовой марки, мамину шпильку для волос, кнопку, обрывок газеты с куском заголовка «ИПЛОМА», старую задубевшую жевательную резинку и несколько медных монеток.
Страшный зверь
Без нескольких минут семь, до того как в комнате у родителей прозвонил будильник, мы встали и тихо-тихо один за другим спустились по лестнице. Столпились в комнатушке размером два на два между кухней и дверью в подвал.
Мой брат велел нам вести себя еще тише.
– Главное – его не разбудить, – прошептал он.
Его – то есть папу. Мы все сразу смолкли. Плотно сжали губы и поняли, что еще немного – и мы покроемся холодным потом.
Брат осторожно открыл дверь. Первым делом убедился, что за ней никого нет. Потом обернулся и кивнул нам с серьезным видом. Спросил, чуем ли мы дыхание зверя, ощущаем ли его холод.
– Да, – ответили мы, потому что, разумеется, ощутили поток холодного воздуха и запах то ли дымка, то ли газа. От подвального воздуха наши мысли посерели, словно мозг перестал соображать.
– Осторожно на лестнице! – сказал брат.
Он первым шагнул в зияющую тьму подвала, и мы последовали за ним, нащупывая ногами ступеньки. Мы держали друг друга за пижамные куртки и пижамные брюки. От стены шел холод, с другой стороны – пусто, там даже перил не было.
Нашим глазам понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к темноте. Но и после этого мы почти ничего не увидели. Мы растерялись. До нас доносился запах домашнего варенья и компота из груш. И запах от полки с папиными старыми бумагами. Мы улавливали запах самого дальнего угла, где стоял тяжелый стол, накрытый пластиком. В этом углу было столько пыли, что у нас зачесалось в носу. Там сильнее всего пахло сладким и кислым. Под столом нам и предстояло спрятаться. Это самое безопасное место в подвале.
– Все, прекратили! – сказал мой брат, когда мы все уже сидели под столом.
Мы не знали, что именно он имеет в виду, поэтому прекратили делать все, что делали до этого. Чесаться, дрожать, дышать, бояться.
Брат сказал, что все вместе мы – сила, и услышать это было приятно. Ни один из нас поодиночке не чувствовал себя героем, но под столом мы все будто срослись друг с другом, сидели как один большой брат и, затаив дыхание, всматривались в темноту.
Мы услышали звон будильника у родителей в комнате и папины шаги. Мы знали, что одновременно с папой от будильника проснулся и страшный зверь в подвале. Он, как и мы, слышал, как папа обошел кровать и поднял штору. Сейчас папа наденет тапочки, и шлепанье босых ног по линолеуму превратится в тихое шарканье – едва уловимое, если не вслушиваться специально. И дальше будет только скрип ступенек на лестнице.
Мы все сжались и боялись дышать.
– Внимание! – шепнул брат.
Мы кивнули. Все смотрели вверх. Папино шарканье доносилось с лестничной площадки, прямо над нашей головой. Первые пять ступенек вниз, поворот, потом спуск по длинной части лестницы.
– Чур, не пугаться! – прошептал брат.
Мы замотали головами и попытались сосчитать папины шаги, сколько раз ему осталось ступить до двери гостиной. С бьющимся сердцем мы ждали. Секунда – и скрипнут петли и лязгнет движок пускателя: это будет тот самый щелчок, который мы слышали каждое утро в холодную погоду, когда папа выставлял термостат на двадцать один градус.
– Сейчас… – сказал брат.
Мы напряглись каждой мышцей. И вот в темноте подвала страшный зверь взвился с оглушительным лаем, потом бабахнуло, точно взорвалась пороховая бочка, единственный прямоугольный глаз зверя зажегся оранжевым пламенем, и весь подвал задрожал и затрясся. Нам казалось, что наступил конец света. Мы таращили глаза, боясь до смерти, что зверь бросится на нас, но он остался на месте, чтобы обогревать наш дом.
Мы радостно улыбнулись друг другу, мои братья и я. Наши лица зарумянились от огня в котле. Мы все знали, что нам сначала было здорово страшно, потом весело, а теперь хотелось хорошенько позавтракать.
Теплая девочка
Однажды родители нам объявили, что к нам приедет жить девочка. Папа сказал, что ее зовут Франсуаза. Мы сначала не поверили, что это ее имя. Мой брат подумал, что папа назвал ее так для ясности, ведь она умеет говорить только по-французски. Другой брат сказал: это чтобы у нее не было ностальгии, ведь ей придется две недели разговаривать с нами на нашем родном фламандском языке, а если она вдруг заскучает по своему французскому дому, то утешится французским именем.
Когда мама, папа и мы с братьями открыли ей дверь, она казалась немного растерянной. Стояла у нашего порога так, будто ее кто-то туда поставил, а потом быстренько убежал. Сразу же тихонько сказала, кто она такая:
– Франсуаза.
Значит, все-таки правда, подумали мы все и ответили, как нам велел папа:
– Добро пожаловать, Франсуаза.
Прозвучало это так, будто мы уже начали учить ее фламандскому языку, потому что мы попытались изобразить, что это значит, когда человеку говорят «добро пожаловать». Мой брат слегка наклонил голову набок и улыбнулся, другой брат захлопал в ладоши, остальные братья вытягивали руки в сторону гостиной, куда через открытую входную дверь уже пробрался холод.
Мама оказалась самой гостеприимной из всех. Затащила Франсуазу в переднюю и стала ее распаковывать, как подарок. Снимая с нее шапку, шарф, рукавицы и пальто, мама называла ей все наши имена, которые Франсуаза, разумеется, не могла запомнить.
Когда Франсуаза, уже распакованная, вошла в гостиную, мы все на несколько секунд притихли. Мы решили, что у нее очень много общего с нашей печкой. На ней были синие вязаные рейтузы, платье из толстой шерстяной ткани красного цвета, а на волосах – полоска с деревянными бусинами, наверное, тоже шерстяная, связанная крючком. Это была самая теплая девочка, какую мы видели в своей жизни.
– Франсуаза, – сказал папа и потер пальцем глаз.
Подошел к маме, обнял ее за плечи и сказал, как зовут маму. Потом снова потер глаз и взял за плечо старшего брата. Франсуаза кивнула, услышав его имя, но я видел, что она ничего не запоминает. Братья этого не видели. Они слишком старались ей понравиться. Когда папа называл имя, каждый выгибал грудь колесом и, если бы умел, обязательно засветился бы.
Франсуаза смотрела то на одного, то на другого, потом огляделась вокруг. Я сразу понял, что она подыскивает, что сказать. Наконец придумала.
– Bon, bon![7] – сказала она.
В общем, бонбон. Братья очень разволновались, подвели ее к нашей рождественской елке, на которой висели конфеты, и стали называть для Франсуазы по-фламадски все елочные игрушки, шары, и гирлянды, и шпиль наверху, ведь она хотела выучить наш язык. Они говорили подряд все слова, которые им вдруг показались важными, вроде «высокий», «звезда» и «праздник». Франсуаза ничего не понимала, поэтому я пожал плечами и решил убавить количество слов в комнате. Я нарисовал в воздухе мешок и сложил туда все слова моих братьев, а потом воскликнул просто-напросто: «Ура, елка!» Это же самое я воскликнул на прошлой неделе, когда елку у нас только-только поставили и все онемели от радости. А теперь просто повторил.
Папа, мама и мы с братьями смотрели на Франсуазу, которая смотрела на меня и улыбалась во весь рот.
– Ура, елка! – сказала она.
К моему удивлению, мама с папой захлопали в ладоши. Братья не хлопали, а наоборот, хмурились, уж не знаю почему.
И в следующие три дня я тоже не понял, почему они хмурились. Они из кожи вон лезли, чтобы научить Франсуазу нашему языку. Мой брат нарисовал для нее коньки, надписал, что как называется, и провел все нужные стрелочки, но она все равно никак не могла запомнить, например, слово «шнурок». Другой брат в один прекрасный день удалился на кухню и испек для нее кекс, надеясь научить ее таким образом словам «яйцо», «молоко» и «сахар». Но чем больше старались братья, тем меньше слов она запоминала.
После рождественского ужина с индейкой, во время которого то и дело возникали паузы в разговоре, я понял, в чем дело. Франсуазу надо было учить простым словам и произносить их очень-очень отчетливо. Я сел на диван как можно ближе к ней и обхватил себя ее горячими, как печка, руками.
– Ура, тепло! – сказал я.
Такие вещи она понимала.
– Ура, тепло! – повторила она.
Я кивнул и остался сидеть в том же положении, под завистливыми взглядами братьев, которые куда меньше меня преуспели в преподавании фламандского языка.
– Hourra, Noël[8], – вдруг сказала Франсуаза.
Я кивнул, хотя и думал сказать, что меня зовут иначе, но когда тебе так тепло и уютно, то не обязательно исправлять все ошибки.
Сноски
1
Юфрау (нид. juffrouw) – форма вежливого упоминания незамужней женщины, ср. в других языках: мадемуазель, мисс, фройляйн. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
Так принято крестить и креститься у католиков.
(обратно)3
Около 60 % населения Бельгии говорит по-фламандски (как здесь называют нидерландский язык) и около 40 % – по-французски.
(обратно)4
«Оптимист» – одноместный швертбот, то есть небольшая лодка с парусом. С 1960-х годов «Оптимисты» широко применяются во многих странах мира для обучения детей основам парусного спорта.
(обратно)5
Адвент – предрождественский период у католиков и у части протестантов, аналогичный периоду Рождественского поста в православии. Одной из наиболее известных традиций, касающихся Адвента, является «венок Адвента» – венок из еловых веток, в который вплетены четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе – две и так далее.
(обратно)6
День святого Николая широко отмечают в Нидерландах 5 декабря и в Бельгии 6 декабря (соответствует Николе Зимнему в православии). Святой Николай считается другом детей, потому что приносит им подарки и сладости, если они хорошо себя вели в течение года. Дети заранее составляют списки пожеланий и «передают» их Николаю через своих родителей. Святой Николай объезжает все дома на своей белой лошади (для которой принято оставлять у очага морковку или сено) в сопровождении слуги – Черного Пита.
(обратно)7
Хорошо, хорошо! (фр.)
(обратно)8
Ура, Рождество! (фр.) Кроме названия христианского праздника, Ноэль – это распространенное в Бельгии имя.
(обратно)



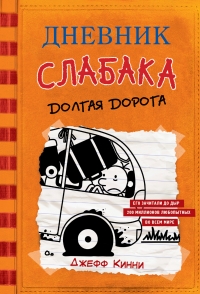






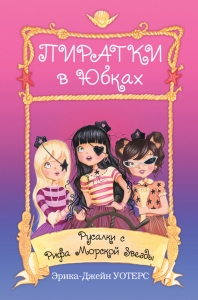
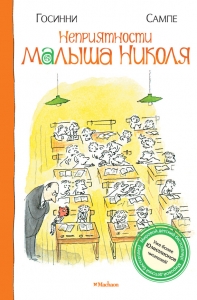
Комментарии к книге «Братья», Барт Муйарт
Всего 0 комментариев