Инна Тронина «Цинковая» свадьба
«Цинковая» свадьба празднуется спустя 6,5 лет после бракосочетания. Дарят друг другу цинковую утварь.
«Медная» свадьба – через семь лет. Супруги обмениваются медными монетами как залогом долгого счастья.
Я бросаю на еловые лапы медный пятак, которым уже не расплачиваются, и монетка теряется среди белых бутонов и черных лент. Бросаю и жду, когда ты кинешь мне такую же монетку. Жду, ибо ты должен это сделать. Сегодня, четвертого апреля девяносто четвертого года, в понедельник, день нашей «медной» свадьбы. Полгода назад, в такой тяжелый день, мы так и не успели справить «цинковую», хоть я и припасла ведро – звонкое, липкое, блестящее. Ты купил новенький, но давно уже вышедший из моды тазик для стирки. Устаревший, как и пятачок, он провалился вниз, в царство теней, в бесконечность.
Друзья тебя не забывают, как я вижу. Каждый день нахожу здесь венки, букеты, корзины с белыми гвоздиками и хризантемами. Гвоздики ты почему-то любил больше остальных цветов, любил почти всю жизнь. И только в последний день, когда мы с тобой и детьми убегали из дома, еще на что-то надеясь, забыв о своих цинковых подарках, оставшихся в кладовке, ты сказал мне страшные слова. Я натягивала на сына ползунки, но все равно вздрогнула и оторопела.
– Дарья, если со мной что-то сейчас случится, носи на кладбище только красные розы. Тогда я буду знать, что ты не забыла меня…
Я даже не имела времени на то, чтобы возмутиться из-за этих жестоких слов, потому что рядом топталась дочка, зараженная паникой, витающим в воздухе запахом дыма и погребальной хвои. Шестилетняя малышка плакала, хватала меня за полы плаща. Я же, изнемогая от тяжкой, совсем не осенней жары, плечом откинула волосы со лба и попыталась усмехнуться.
– Мне всегда казалось, что ты веришь в нашу любовь и без алых роз. Что-то тебя в последнее время на красное потянуло. Коммунистом решил стать, миллионер?
Ты взял на руки нашего сына и пожал плечами:
– Может быть. Не понимаю, что со мной… Нет, я уже сошел с ума… Я действительно стал другим. Не могу больше жить, как прежде. Я не с ними, Дарья, не с этими уродами. Я хочу уйти, понимаешь?
– Понимаю. Только кто же тебе даст уйти, Андрей?
Я задыхалась, почему-то отчаянно спешила, ради детей старалась успеть.
– Ты только не говори о кладбище. Погоди, вдруг пронесет?..
– Но в любом случае красный – цвет любви!
Ты произнес эту фразу не просто утвердительно, а настырно, как будто сомневался и хотел себя убедить. Я, засовывая дочкины руки в рукава ангорской кофточки яичного цвета, торопливо взглянула на вас с сыном. Ты держал младенца на руках, а он чесал колечком свои восемь зубиков. Ты торопил меня взглядом и мыслями, не говоря больше ни слова.
Я очень страдала тогда, потому что при всем желании не могла двигаться быстрее. Казалось, что даже мозг истекает едким потом. Глаза щипало, и мысли умирали, не успев родиться. Я хотела спросить, есть ли у тебя веские причины для беспокойства, или ты руководствуешься одними предположениями. Но язык не слушался меня, губы склеились. Я отвернулась, собирая в дорогу дочку, а ты держал на руках сына… Лучше бы не держал! Лучше бы и сам не ступал за порог, за бронированную дверь нашей квартиры в Кунцево; те замки не открыл бы киллер, их не поколебал бы даже выстрел из помпового ружья. В нашей квартире я не была ровно полгода. Нет сил видеть те стены, окна, вещи, вспоминать тебя и сына. Будь мы за дверью, наверное, спаслись бы, позвонили твоим охранникам. А так ты, безжалостно разделив между нами наших детей, взял свою долю и ушел с ней…
Теперь наш сынок, которому сейчас было бы один год четыре месяца и двадцать дней, лежит рядом с тобой под остро пахнущей хвоей, под венками и букетами, под плитой из зелено-синеватого лабрадора, на которой золотом выбиты ваши имена. Потом я поставлю вам памятник; такого не будет ни у кого во всем мире. Потерпи немного, Андрей, ведь года еще не прошло. Только не думай, что я тебя забыла. Пожалуйста, не думай так!
Если бы ты знал, как хочется мне сейчас разбросать эту гору венков и ветвей, руками разрыть землю, потому что я мучительно, до слез, хочу видеть сына. Мне так жалко, так не хватает его! Он единственный по-настоящему ни в чем не виноват. Ему не довелось прожить даже года, Андрей, а тебе все-таки было уже почти тридцать два. Ты свою судьбу выбрал сам, а наш мальчик навсегда останется трогательной и невинной жертвой отвратительных разборок взрослых крутых мужиков. Андрей, мне кажется, что сын не пошел бы с тобой тогда, потому что еще не жил. Не видел, как осень сменяется зимой, не катался на санках, не кидал снежки, не грыз сосульки, не пускал по мутным весенним ручьям бумажные кораблики. Он не видел ни неба, ни солнца, ни звезд. А ты все-таки прожил свои неполные тридцать два года. Ты намного богаче и счастливее его, Андрей…
Я заливаюсь горькими слезами. Щеки, шея, воротник мокрые, и пальцы в горячей соленой влаге. Мои губы, перекосившись, дрожат, и в зеркале я вижу страшную гримасу безумия. Закрываясь руками от самой себя, я против воли шепчу слова песни группы «Квартал». Эту песню я пою каждый вечер нашему сыну, как колыбельную: «Падать не надо, не надо…Плакать… не надо… не надо…»
Ты песню не знаешь, я ее услышала уже после нашего расставания. «Птичка, кыш… Киска, брысь… Научись ходить, мой малыш…» или как-то иначе. По ночам мне чудится, что звездная колыбель нашего мальчика качается высоко-высоко, между Землей и небом. И ему там хорошо, спокойно, тепло. «Раз шажок, два шажок, жёлтый лист упал на песок… День пройдёт, год пройдёт, жёлтый лист к ногам упадёт…»
Мы хотели показать ребенку весь мир, а не успели ни разу окунуть его в Черное море, в Москву-реку. Он лишь два раза побарахтался в закрытом элитном бассейне. Я помню, как ты, забавляясь и подшучивая, надевал на головку мальчика надувную малиновую шапочку. Надо отогнать это сладкое и страшное видение, иначе я умру, не выдержав адской душевной боли.
Свернувшись ночью в дрожащий клубок страдающей плоти, я воображаю, как наш сын мчится по лесной тропинке на велосипеде. Поначалу он падает, царапает локти и коленки о выступающие из земли корни. Я мажу ссадины йодом, дую на них и успокаиваю: «Ничего, заживет, а в жизни без шишек не обойдешься…» Я сейчас согласилась бы на все. Пусть у нас с сыном не сложились бы отношения, пусть он вырос бы хулиганом и пьяницей, привел омерзительную невестку, но все-таки жил бы, рос.
Ты знаешь, я до сих пор покупаю мальчишеские вещички – трусики, маечки, бейсболки. Выпросила у своей соседки по палате рогатку, грязные бутылочные стеклышки, мотки проволоки, стреляные гильзы, какие-то винтики, гайки, спичечные коробки и мятые пачки из-под американских сигарет. У нее два сына, и она с удовольствием отдала мне все то, что в разное время обнаружила в их карманах и отобрала, награждая детей подзатыльниками. Другая психически больная пациентка подарила мне брызгалку своего внука, сделанную из пластикового флакона, в котором раньше был шампунь. Обе они удивлялись, недоумевали, зачем мне все это потребовалось. А я была такая счастливая, гладила вещички, улыбалась. Я не пожалела бы денег на то, чтобы купить все это у них, а не то что взять даром.
Я раскладываю почти каждый день эти вещички на своих коленях, на больничной койке, на столе и стульях, на сидении в машине. Раскладываю и думаю: это принадлежит моему сыну. Он вырос, убежал на улицу. Скоро, к ужину, вернется. Это – его богатство. Я ни за что не стану ругать ребенка из-за каких-то там железок под подушкой, из-за синяка под глазом. Дуры бабы, у них живые дети, а они смеют бранить их, даже бить…
Нет, я все не то говорю. Но я сумасшедшая, мне можно. Ты хочешь возразить? Не возражай. Прости меня, пожалей. Ты – мужик. Ты – сильный. А я – эгоистка. Мол, лежи здесь один, тоскуй, а дети пусть радуют только меня. Ты оставил мне дочку, а я не виделась с ней уже две недели. С тех пор, как меня опять положили в больницу, а потом выпустили под расписку моей мамы. Дочка живет у нее и сейчас меня ждет. Но я должна еще побыть здесь, с вами…
Ты за что-то сердишься на меня, я знаю. Может быть, из-за дочери. Ты считаешь, что я слишком мало уделяю ей внимания, совершенно не занимаюсь ее воспитанием. Но для чего ребенку такая мать – постаревшая, истощенная, вся в черном; с жуткими глазами, ввалившимися глубоко под лоб? Кажется, после твоей гибели меня кололи сульфазином. По крайней мере, температура поднялась до сорока градусов, и страшно болели мышцы. Я металась в беспамятстве, но твой образ не исчезал. Ты все время был со мной.
А наша дочка Эрика помнит меня красивой. Перед тем, как мне опять пришлось лечь в клинику, она упросила меня покрасить волосы «Веллой». Эрика очень переживает, хочет сделать меня той, прежней. И не знает, что уже на второй день после вашей гибели я уже пробовала покончить с собой. Выпила гору снотворного, но, черт побери, не умерла! Милый, ты меня прости! Ты думал, что я сильнее. Но теперь я безумна, медицина это подтвердит. И мне ничего не стыдно. Вот сейчас я стою и жду, что ты бросишь мне медную монетку. Откуда бросишь? С неба? Из-под земли? Или из пустоты? Ты ведь где-то существуешь, я знаю! Где ты, Андрей? Я так хочу верить в то, что ты не пропал навечно, и мы когда-нибудь встретимся…
Ты боялся, что я разлюблю тебя. А я хожу к тебе почти каждый день, и специально для тебя выкрасила волосы в тон «красное дерево». Три дня назад, первого апреля, мне исполнилось тридцать лет. Поздравь меня, Андрей! Телеграммой, по телефону, по электронной почте… или просто словами. Шепни мне их, и я обязательно услышу. Меня никто не поздравил, кроме мамы и Эрики. А ты, наверное, помнишь, сколько желающих было засвидетельствовать мне свое почтение. Между прочим, Татьяна Леонидовна, твоя мать, меня тихо ненавидит, хоть и пытается скрыть свои чувства под маской скорбного равнодушия. Считает, наверное, что я тебя не сохранила, а, может быть, на что-то и подбила. Неужели она так плохо знает своего сына, что думает, будто какая-то там баба против твоей воли может спровоцировать тебя или уберечь? Да никогда в жизни! Я ведь и полюбила тебя за то, что не могла представить под своим каблучком.
Ты-то меня знаешь еще ту – энергичную, деловую, быструю, хваткую. А теперь я все время то пьяная, то наколотая транквилизаторами. Андрей, никто, даже ты, не может лишить меня права принимать наркоз, когда боль доводит до крика, до обморока. Я просто хочу жить, жить ради дочери, и потому каждое утро возвращаюсь из забытья, из-за черты, которая полгода назад рассекла мою жизнь на две части – светлую и темную.
Помнишь, как мы впервые вместе были в Большом театре? Я ужасно волновалась и поэтому вызывающе себя вела. За мной такое водится – ненавижу демонстрировать слабость любого рода, в том числе и смущение. Я надела платье из черного тюля, с открытой спиной, и лишь в последний момент, уже убегая из дома, набросила на плечи шелковую шаль. Уговорила мама – она пришла в ужас от мысли о том, что меня, девственницу, примут за гулящую. К тому же эта шаль, перешедшая маме по наследству, очень шла к моему жемчужному ожерелью. Я уступила маме, потому что сама понимала – делаю что-то не то, сильно рискую и ничего не выигрываю. Мама вызвала такси – не хотела, чтобы я ехала на метро, в толпе.
Я была подругой сестры твоего сокурсника по «Бауманке» Дмитрия Липая – Аллочки. Мы с ней вместе кончали исторический факультет МГУ. Андрей, у тебя сейчас есть много времени на воспоминания об ушедшей жизни, правда? И у меня его тоже много. Я еще не знаю, что буду делать, как и чем жить. Материально я обеспечена надолго, если не навсегда; но ведь есть еще и другое – душа. Пока я мечусь, бестолково бросаюсь то в одну, то в другую сторону, и каждый раз понимаю, что в любом новом месте мне так же мучительно, невыносимо, тоскливо, как и в предыдущем. Пока я сделаю вот что – куплю в ларьке у метро бутылку водки «Петрофф», и мы с тобой отметим наш «медный» юбилей.
Мы с Аллой тем вечером намеревались пойти в кино, но ее братец в последний момент вручил мне билет в Большой театр на традиционное «Лебединое озеро». Сказал, что другой билет, на место рядом с моим, будет у его друга, отличного парня, с которым мне надо непременно познакомиться. Димка Липай тогда поссорился со своей девушкой, Алла заменить ее не смогла, и билеты решили вручить нам с тобой. Почему-то и подруги, и их братья, и более взрослые знакомые всегда рвались устраивать мою судьбу; думали, наверное, что без их помощи я никогда не поборю гордость и не сделаю первый шаг навстречу своему счастью. А, может, Димкой Липаем руководило Провидение, и он сам не понял, почему не продал эти билеты, а подарил их Андрею Ходза и Дарье Морсуновой…
А на следующий вечер мы с тобой оказались на Красной площади. Как раз сменялся почетный караул, все ринулись к Мавзолею, защелкали фотоаппаратами. Мы с тобой вдвоем остались посередине пустого пространства – на брусчатке, теплой после долгого весеннего дня. Где-то неподалеку цвела сирень, и у тебя в руках тоже был букет белой сирени. Тогда ты еще не мог подарить мне букет под названием «Любовь кавказца», несмотря на то, что был профессорским сыном. И я с удивлением узнала в тот вечер, что Татьяна Леонидовна Козина, которая читала у нас на факультете историю средних веков, – твоя мать. Твой отец уже давно развелся с ней, жил в Минске, но в Москве бывал часто, и вы с ним очень дружили. Татьяна Леонидовна не хотела, чтобы ты женился, по крайней мере, в ближайшем будущем. Климентий Борисович, напротив, предлагал тебе одну невесту за другой, включая дочь контр-адмирала из Мурманска и какую-то иностранку – кажется, чешку. Ты сказал отцу, что выберешь себе жену сам. И выразительно взглянул на меня, давая понять, что решение уже принял.
Но я сделала вид, что не понимаю намека, хотя уже тогда видела: мы созданы друг для друга. Именно тогда я поверила, что любовь может поразить, «как молния, как финский нож». Ты не знал тогда и не знаешь сейчас, что в те дни я как раз читала роман «Мастер и Маргарита». Читала и завидовала тем влюбленным, не подозревая, что страсть и трагедия пойдут за мной по пятам…
Я не верила в то, что твое чувство ко мне серьезно; слишком шикарным женихом ты был даже тогда. Я сразу же почувствовала, поняла, что ты совершенно не такой, как остальные, и обязательно чем-нибудь выделишься. Славой, смелостью, умом – чем угодно. Но даже не это влекло меня к тебе. Скажи кто-нибудь, что нам суждено быть бродягами, я все равно пошла бы за тобой. Это был восемьдесят шестой год, жаркая жадная весна, время нетерпеливых ожиданий и радужных надежд. Вспомни, Андрей, тот наш вечер! Вспомни и пожалей то время. Лучше него уже не будет никакого другого. Все наше хорошее было еще впереди, а о плохом мы не смели и думать. Мне было двадцать два года, тебе – двадцать четыре с половиной. Звенели куранты, часы на Спасской башне били семь раз. И в этом звоне, в этом бое слышался голос Судьбы. Пришел мой час, и я охотно покорилась неизбежному.
Ты был очень красив – темно-каштановые волосы, голубые глаза, прекрасно вычерченные брови и длинные ресницы. Я раньше никогда не видела у мужчин таких губ, таких ноздрей – передо мной стояло само совершенство. Мне, светловолосой и кареглазой, очень нравился именно такой тип мужчин. Точнее, такая масть – темные волосы и светлые глаза. До тебя, Андрей, никто не сумел понравиться мне. И после тебя тоже не понравится никто. Тогда ты был стройный, даже худой, высокий, плечистый. Потом, с возрастом, ты немного заматерел, стал солиднее. Но смуглое лицо и плоские твердые щеки остались теми же. И сейчас я, улыбаясь сквозь слезы, думаю, что старым, больным, морщинистым, подслеповатым ты не станешь уже никогда. Ты всегда будешь молодым, ослепительным, горячим и властным. Единственным, кто сумел покорить меня.
Тогда в женской моде были колготки «рыбачья сеть», лакированные туфельки на крошечном каблучке и черные юбки-мини. Под твоим взглядом я стушевалась, ощутила себя буквально голой, но все-таки сумела справиться со смущением. А ты снова вогнал меня в краску, усмехнувшись и удивившись.
– Странно все-таки, что тебя зовут Дарьей…
– В день моего рождения празднуются именины Дарии. Родители сочли нужным передать меня под высокое покровительство, – пошутила я, втайне досадуя и на родительскую неразборчивость, и на твою бесцеремонность. – Меня, к сожалению, не спросили.
– Значит, ты первого апреля родилась? Должно быть, девочка веселая. Только вот вопрос, для меня не праздный, – а можно ли верить твоим словам?..
Помнишь тот вечер? Да? А мне уже пора домой. Кладбище скоро закроется. Я бы осталась здесь, с вами. Решено – ночую в машине неподалеку. Я давно уже ничего не боюсь. Мне все равно, что произойдет со мной ночью. Все самое страшное уже случилось тем вечером, и не на кладбище, а на лестничной площадке фешенебельного дома. Тогда там расстреляли вместе с вами и меня прежнюю; сейчас у ограды стоит уже другой человек.
Я часто провожу ночи здесь. Ставлю машину где-нибудь на Звенигородском шоссе или около рынка, и сплю, если приходит сон. Андрей, сейчас я быстро съезжу к ларьку и вернусь. Кроме водки куплю «Твикс», «сладкую парочку». Ты мне всегда приносил «Твикс», и мы с тобой съедали по одной палочке печенья в шоколаде. Это был наш талисман. А еще мы пили бренди «Солнечный берег». А дальше до одурения, как молодожены, целовались. А Эрика из дверей детской смотрела на нас и грызла свое любимое печенье. Когда она стала постарше, один раз вбежала к нам и закричала, чтобы ты меня не душил… Глупышка! Я отдала бы все, что имею, только за то, чтобы ты обнял меня сейчас!..
Ты дал мне все, что мужчина может дать женщине. Не смог лишь сделать наше счастье долгим. Да, нужно было ожидать чего-то подобного – в спорте ты всегда был спринтером, а не стайером. Мы с тобой схожи и в этом. Я тоже всегда делаю мощный рывок, а после падаю без сил, особенно если попытка оказывается неудачной. И сейчас я опять упала. Наверное, мне больше не удастся встать и сделать шаг навстречу будущему. Это преступно, жестоко – то, что сделала с нами судьба. Но, как говорится, хорошенького понемножку…
Я еду к метро, к круглому павильону. Там я была вчера, и перед тем много-много раз. Я слышу, как плачет сын, потому что мама оставила его в земле, ночью. Я вижу, как ты хмуришься и хочешь сказать мне, что тогда нельзя было поступить иначе. Я и сама знаю, что иного выхода не было. События развивались так, что ты попался в невидимые силки, друг мой и муж. Я еду по Звенигородскому шоссе от Ваганьковского кладбища, где тебя великодушно похоронили вместе с сыном, хоть ты и был уничтожен за отступничество. Тебя сначала убили, а потом простили. Даже спрашивали меня, не нужна ли нам с дочерью какая-нибудь помощь. Я промолчала, давая этим понять, что не принимаю их подачку, не смиряюсь и буду мстить…
Я еду и удивляюсь – дома те же, что и всегда. Серое вечернее небо, весенняя грязь, урны, мусор, ларьки, голые деревья, людская толчея. К вечеру мне становится легче, потому что тучи лиловеют, и в окнах тяжеловесных пресненских домов зажигаются огоньки. Мне удивительно вспоминать, что здесь еще совсем недавно стреляли, улицы заволокло дымом пожарищ, а по асфальту текла кровь. Нет, это кошмарный сон. Я сейчас вернусь домой и увижу там тебя… Я знаю, Андрей, что это невозможно. Именно потому, что вы с сыном лежите в земле, я верю, что ОНО было…
А те, ради кого ты пошел на смерть, живы и свободны. Для них наступила весна. Они обняли своих жен и детей. В их домах сейчас уютный апрельский вечер, мир и покой. Ты же, враждебно-нейтральный, не связанный с ними никакими обещаниями, вдруг ринулся в самую гущу той заварухи, и мне уже тогда стало жутко.
Я чувствовала, что ты не владеешь собой, находишься как будто под гипнозом, под гнетом чужой, более сильной, чем твоя, воли. За несколько дней до гибели ты уже не принадлежал себе. Мое сердце рвалось в «Белый Дом» за тобой, и первый раз мы там были вместе. А во второй раз ты уехал потихоньку. Когда вернулся, я уже знала – самое страшное случилось. Я имею в виду не выстрелы, нет. Ты там совершил то, за что убивают. Переступил черту, за которую обратно шагнуть нельзя. Ты уже не мог покаяться и взять свои слова, свои дела обратно; но ты и не собирался это делать. Я так и не поняла толком, что тебе нужно было за кольцом оцепления, за «спиралью Бруно» и армейскими грузовиками, в огромном мертвом доме с темными провалами окон. Ты хотел поговорить со мною обо всем подробно, но не успел, потому что зазвонил телефон. Твой приятель успел сказать, что к нам в Кунцево по твою душу выехал киллер с подстраховщиками, и у них имеется на твой счет четкий приказ.
Странно, что убийца пощадил нас с Эрикой; должно быть, испугался возможных осложнений из-за комендантского часа. А потом я узнала, что тот парень, который звонил тебе, был убит спустя два дня…
Я подъезжаю к круглому павильону, паркую машину, выхожу. Продавцы в ларьке меня знают, радостно приветствуют. Несколько раз я ночевала здесь с девчонками-продавщицами, и они были довольны – все-таки с лишним человеком не так страшно в темноте. Я ничего не боюсь и вселяю в них уверенность. Но сегодняшнюю ночь я проведу у ограды кладбища, потому что нынче наш с тобой «медный» праздник. Правильно, что медь снится к слезам. А «цинковая» свадьба оказалась поистине роковой, хоть и не запаивали тебя в цинк, а хоронили в гробу из полированного дуба. Ты лежал такой красивый на белой атласной подушке, под кружевным покрывалом, весь в цветах и венках. Слово это – цинковая – жжет мне сердце. Я часто вижу тебя во сне – бледного, гладко причесанного, очень мертвого. Крахмальный воротник сорочки – под горло, губы совсем серые; черты лица заострились, щеки запали. Я знаю, что на твоей голове два искусно замаскированных гримом пулевых отверстия, а еще два – под пиджаком, на груди.
А рядом с большим сияющим ящиком стоит маленький, как кукольная коробка. И там лежит крошечный человечек в красивом чепчике. Он похож на спящего; только ротик его плотно сжат, как у взрослого. Я наклоняюсь и целую родное личико; и на моих губах навечно остается холод. Три дня назад это было детское, нежное, сладкое тепло…
Итак, в руках у меня бутылка водки и «Твикс». Мне обязательно надо выпить, Андрей, иначе сердце разорвется. Фонари над моей головой светят неярко, размыто, как ТЕ фары. Заляпанные камуфляжными пятнами военные грузовики ползут и ползут прямо на меня, и я беззвучно кричу – каждую ночь, просыпаясь в холодном поту. И сейчас вспоминаю ТЕ фары, от света которых слезились глаза, когда мы пробирались между колесами и кузовами в «Белый Дом». Знать бы тогда, чем все закончится… Трупом надо было лечь, но не пропускать тебя. Но тогда мне самой очень хотелось там побывать, самой понять, что происходит. Мы с тобой слышали множество взаимоисключающих мнений, а нам хотелось иметь свое собственное.
Я ощущала себя в первую очередь историком, и поэтому пошла туда. Тогда я была историком. А сейчас я психически больная женщина, неуклонно сползающая к алкоголизму, потому что охотно опохмеляюсь по утрам. Я не верила, что такое может случиться со мной, а сама спилась быстро, как все бабы.
Я открываю бутылку и припадаю к горлышку. Меня никто не видит, я сижу в машине, и поэтому не стесняюсь. Перевожу дыхание, откусываю половину палочки «Твикса». Через минуту мне становится тепло, и боль стихает. Я рву ворот кожаной куртки, потому что не могу дышать; и тут же ком уходит из горла вместе со слезами. Я пью опять, сама презирая себя за это. Еще немножко, и порядок. Ты не сердись, Андрей, я еще не совсем…
Видишь, мое обручальное кольцо на левой руке. Твое – у меня на шее, вместо креста. Почему небо оказалось столь немилосердно к нам и одновременно благосклонно к погубителям? В нагрудном кармане у меня лежит соска-пустышка нашего сына. Когда ты всего одну секунду, прошитый автоматной очередью, стоял с ребенком на руках, пустышка откатилась в угол. Я сразу же бросилась туда, сжала соску в кулаке – резина и пластмасса еще хранили тепло, запах, память. Нашему мальчику насквозь пробило голову, и рану едва удалось закрыть чепцом.
Вот наконец-то внутри разливается сладкий жар. Спирт с шоколадом – единственное, что мне еще приносит облегчение. Я расстегиваю куртку, из внутреннего кармана достаю крошечный пистолетик «Беретта», твой подарок. Глажу его, целую табличку на рукоятке: «Дарии побеждающей». Это я – Виктория по-латински, Ника – по-гречески. Мое имя, русифицированное, огрубленное, но изначально красивое, персидское – Дария, потом тебе понравилось. Спасибо за подарок! Этот пистолет несколько раз выручал меня, когда я коротала ночи с продавцами в ларьках, и здесь, в автомобиле. Ты оформил для меня разрешение на оружие, все предусмотрел. Ко мне никто не посмеет безнаказанно пристать ночью. Я вооружена, и поэтому неуязвима. Ты-то меня поймешь. Мы с тобой всегда понимали друг друга. Ближе тебя у меня не было никого за всю жизнь; даже с родителями мне не было так легко, интересно, спокойно.
Почему-то мне каждую ночь снятся собачьи бои, на которых мы присутствовали, когда тебе нужно было «перетереть» очередное дело с дружками-бандитами. Визг, рычание, песья кровавая слюна до сих пор заставляют меня содрогаться от ужаса и отвращения. Когда ты погиб, лежал весь в крови, запрокинув голову, я вспоминала тех несчастных собак. Наверное, грызущиеся между собой люди ничем от них не отличаются, разве что величиной ставок – у вас они были выше, чем у питбультерьеров.
Андрей, я больше не работаю – не могу и не хочу. Та частная гимназия, где я преподавала историю, обанкротилась. Я живу сейчас в своей машине, сиреневой «Классик Шевроле-Каприс». Около руля ты прикрепил стереофотографию моста «Золотые ворота», что в Сан-Франциско. Мы с тобой там так и не успели побывать. Эрике лучше сейчас пожить с бабушкой. Согласись, что мать не всегда положительно влияет на ребенка; по крайней мере, я так считаю. Иногда и Татьяна Леонидовна снисходит до того, чтобы побыть немного с внучкой, но делает это с таким видом, что я готова провалиться сквозь землю.
Первое время я ждала, что она заговорит со мной о наследстве. Потом поняла, что ты давно уже обсудил этот вопрос со своей матерью. Вообще-то ты часто повторял, что уже написал завещание, и потому скандалов, в случае чего, в твоей семье не будет. «Средний век бизнесмена – три с половиной года, по максимуму – семь лет. Надо, чтобы твоя гибель в любом случае не стала катастрофой для близких. Нас убивают постоянно и безжалостно, и потому семья должна быть готова к этому…»
Все верно, все правильно, Андрюшенька. Несмотря на совсем еще молодые годы, ты был влиятельным, с детства – умным и волевым. Перспективнейший бизнесмен, делец и «авторитет», ты вдруг сделался подростком-максималистом. Забыл, что у тебя есть жена, дети, родители. Ты повел себя как шпана-детдомовец, которому нечего терять, хотя знал, на что шел. Я упрекаю тебя и одновременно обожаю за этот поступок. Лично я не рискнула бы сделать это. Кстати, ты в те дни все время держался за лоб. Наверное, у тебя сильно болела голова, но ты, как всегда, скрывал свои страдания.
Помнишь эквадорский кофе «Голден мокка»? Он ассоциируется у меня только с тобой. Я вчера пила его здесь, в нагретом весенним солнцем салоне «Шевроле». Сидела на обтянутом мягкой кожей заднем диване и слушала радио, какой-то концерт. Ты прости, но я еще раз глотну водки. Не бойся, Андрей, я сумею прекратить, когда придет время. Помоги мне собраться с силами для того, чтобы продолжить жить. Я знаю – ты существуешь. Ты меня слышишь.
Так вот, вчера по улице прошли молчаливые люди. Они двигались колоннами и несли знамена, цветы, иконы, портреты погибших тогда, в октябре, одновременно с тобой. Я смотрела на них и плакала. Слезы падали в чашку с горячим кофе, на дорожную сумку с моим имуществом, которую я постоянно вожу с собой, как бомжиха.
Молодые, совсем живые лица; черные ленты в углах портретов. А еще страшнее было, когда мимо проплывали пустые, без лиц, прямоугольники с такими же лентами на углах. На кусках картона я читала фамилии, имена, количество прожитых лет. Двадцать один, восемнадцать, шестнадцать, четырнадцать… Мне казалось, что я схожу с ума, и на этот раз окончательно, бесповоротно. Но в этой скорбной веренице не было ваших с сыном фотографий, и я сочла сей факт величайшей в мире несправедливостью.
Самая младшая жертва той бойни – наш Артур, моложе него никого не было. Мне хотелось рыдать вместе с этими людьми, и я поехала следом за процессией к «Белому Дому». Там вышла из машины, прицепив на кожаную куртку ваши фотопортреты, и встала у бетонного забора. Слушала, как называют фамилии и имена, поют заунывные молитвы. За что они погибли? Я даже не пыталась вытирать слезы и чувствовала, как тяжесть спадает с сердца, выходит наружу вместе с обжигающей, но чистой и соленой влагой.
Многие родственники убитых так же страдали, почти ничего не говоря. К чему слова? Все ясно и так. Но были там и другие – завсегдатаи уличных сборищ. Те самые – непорочные, принципиальные, «в стоптанных сапогах и пыльных пальтишках». Не верю, что у них кто-то погиб тогда. Такие не подставляют грудь под пули, а, напротив, очень дорожат своей собачьей жизнью. Но зато после, когда бойня кончается, эта мразь выползает в людное место и начинает, крестясь, рыдать, колотиться лбом об асфальт. При этом краем глаза они посматривают по сторонам – а не подаст ли кто-нибудь из родственников погибших за надрывное причитание, не поблагодарит ли по-христиански?
Вчера они сразу же заметили меня. Незнакомые лица всегда привлекают их внимание, особенно если новенькая в кожанке, лосинах, высоких лакированных сапогах с кисточками и с черным бархатным бантом в волосах. Я не понравилась им с первого взгляда. Заплывшие, бесцветные глазки загорелись при виде моих золотых колец и серег с бриллиантами. Косметика, раскисшая от слез, но импортная, дорогая, лишила меня права скорбеть по погибшим, своим и чужим.
Такие старухи и тетки часто встречаются в церквях; гоняют всех, кто не покрылся платком, нечаянно сунул руку в карман или просто не склонил голову перед иконами. Так они отвращают от того, к чему пытаются вызвать любовь. «Услужливый дурак опаснее врага!» – это как раз о них, агрессивных, трусливых и недалеких. Тот, кто может хоть один раз в жизни согнуть шею, согнет ее тысячекратно. Но ты не сгибал…
Бабки и тетки со свечками в толстых отмороженных пальцах молились и кланялись демонстративно; ревели, перекосив рты. Работали на публику, оскорбляли каждого, кто отличался от них – был моложе, красивее, немного лучше одет. Потом я поняла, как правильно поступила, припарковав машину поодаль – иначе «Шевроле» мог пострадать. Я с ужасом смотрела на собравшихся и думала – неужели ты мог думать одинаково с ними, и чувствовать то же?! И вы вместе боролись за что-то общее? Как у тебя, пусть на мгновение, возникло единое с ними дело? Вот с этими – безумными, крикливыми, грязными… Они, должно быть, оттолкнули тех людей из нашего круга, которые хотели помочь осажденным в «Белом Доме». Ведь не раз и не два тебе звонили приятели, просто знакомые и по-человечески сочувствовали людям, страдающим без тепла и света. Но вставать на сторону «ограбленного народа», «простых русских женщин», которые вчера плевали на святом месте мне в лицо, не захотели.
Те, кто вопил, видели приколотые к моей куртке фотографии молодого мужчины и грудного ребенка. Но их взбесило то, что «полароидные» изображения были четкими, качественными, глянцевыми. И упитаны-то вы чересчур, и зубы-то у тебя слишком белые, и глаза блестящие; а на ребенке надет памперс с картинкой! Такого их детям и внукам никогда не видать!..
Андрей, зачем ты перешел на их сторону? Твой жест не был оценен. Быдло ненавидит благородных. Особенно если эти благородные не бьют их по морде, а жалеют и сочувствуют. Ты остался чужим для них, а для своих превратился в изменника. Тогда я не до конца понимала всю трагичность твоего шага. Окончательно осознала все вчера, у стены стадиона «Асмарал», когда шеренга оборванцев теснила меня в кусты, в канаву. Они потрясали кулаками и изрыгали проклятия – и мне, и тебе, и всем буржуям-кровососам, извергам и паразитам…
Особенно мне запомнилась одна бабка – седые космы из-под платка, на который сверху натянута вязаная шапка. В черной дырке впалого рта ведьмы я разглядела редкие металлические зубы. На желтоватом языке кипела обильная слюна.
– Воровка! Блядь! Чего здесь торчишь, радуешься, да?! Иди к своим – к ублюдкам, к бейтаровцам, которые наших, русских людей здесь убивали! Проваливай отсюда, не погань… – Солнце светило ей прямо в рот.
Толпа распалялась, сочувственно кивая старухе, Прижавшись спиной к исписанной громадными кривыми буквами стене стадиона, я растерянно смотрела на них, не понимая, чем вызвана эта звериная злоба. Собравшиеся галдели, пытаясь достать меня древками флагов и палками от плакатов.
Поборов растерянность и апатию, я сорвала с куртки твой портрет и высоко подняла его над головой. Куча пьяного народа притихла, потому что обличители не ждали от меня решительного выпада. Думали, что я испугаюсь их, убегу или начну просить пощады.
– Мой муж доставлял в Дом радиотелефоны, пейджеры! Он помогал прорывать информационную блокаду! Он… он продукты для них покупал, солярку… И еще много что переправлял через оцепление, из своего кармана платил за это… Он добра, мира хотел для вас, гады!
Я опять стала такой, как прежде. И двинулась прямо на толпу, которая шарахнулась назад, к поминальному кресту, засыпанному цветами.
– Не все богатые были за Ельцина! И очень многие бедные хлопали в ладоши при каждом танковом выстреле! Потому что купить вас – проще пареной репы! Дай сейчас каждому по сотне – и вы совсем другие слова орать станете! Вот, смотрите на моего мужа, пусть вам стыдно будет!
Я совала снимки в лица старухам, небритым дядькам, каким-то парням в камуфляже.
– Он не дал деньги на подавление восстания и погиб… Нашему ребенку не было и одиннадцати месяцев… Памперсу его позавидовали! Вот вы, суки старые, сколько лет землю топчете?.. А мой сынок ни шажка еще по ней не сделал! И не сделает уже никогда… А ваши-то ведь живы – дышат, бегают!.. Вы их обнять можете, поцеловать! Моему мужу ничего не нужно было. Он все имел, и погиб за вас… Думал, что люди вы!..
Я резко повернулась и со всех ног бросилась к «Шевроле», выскочила прямо из-под палки, нырнула в салон. Двигатель не успел остыть и завелся сразу. Я вырвалась на набережную, потом оказалась за городом. Как проскочила массу оживленных магистралей, не поняла сама.
Должно быть, в воскресенье транспорта становится меньше, и я сумела вывести автомобиль за Кольцевую без приключений, хотя уже не жалела ни себя, ни «тачку». Опомнилась только на шоссе, тщательно вытерла слезы, закурила, жадно вдыхая медовый дым сигареты. Левой рукой я убрала в «бардачок» ваши фотографии, вылезла из «Шевроле» и, заперев дверцы, вышла в весенний, еще не просохший лес. Но очень быстро вернулась обратно – поняла, что в своих лакированных сапожках на каблучках завязну в нерастаявшем снегу, в грязи и буреломе.
Усевшись за руль, я долго ревела, и никак не могла успокоиться. Воскресенье, апрель, весна. Синее небо, березки, ручейки в канавах, первая травка. По Можайскому шоссе потоком несутся автомобили, автобусы, мотоциклы, Все, как прежде, только тебя нет. И некому рассказать о том, что произошло на Пресне. Неужели эта свора действительно стояла за закон, за Конституцию? А потом я все поняла, когда всласть выплакалась, насухо вытерла лицо и включила зажигание, чтобы до темноты вернуться в Москву…
Я поняла, что виной всему элементарная зависть. Они завидовали мне из-за кожанки и лосин; завидовали тебе, тем, кто был при власти. Андрей, такой умный и такой глупенький мой мальчик, – нищий не может быть героем! Он довольствуется черствой коркой, и в то же время мечтает о власти, о деньгах, о славе; мечтает вполне серьезно, словно все это для него доступно. Бедняки ненавидят тебя, даже мертвого, не за то, что ты воровал, а оттого лишь, что сами они лишены такой возможности…
А сейчас темно, и фонарь над крышей машины почему-то погас. Кругом тишина, и только вдали, у метро, слышатся крики; там даже вроде бьют стекла. Наверное, опять бандитский налет, или ОМОН пожаловал с проверкой. Мимо проскочил запоздалый трамвай, прошуршали шинами две иномарки. Моей «Шевроле» пока никто не интересуется, я сижу в тепле и покое, уронив голову на руль, Я опять плачу и разговариваю с тобой…
Тогда, четвертого октября, ты не рассказал мне, что произошло с тобой днем. Приказал собирать детей, вещи и бежать к машине, ожидающей нас во дворе. У тебя был пропуск для проезда по Москве во время действия комендантского часа; ты его оперативно выправил несколько дней назад. Да что пропуск, тебя и так не задержали бы – любой патруль любит «дублоны». Мы непременно вырвались бы из города. Ты сказал, что нужно ехать в Рублево-Успенское, и мы доехали бы. А оттуда собирались в Минск, к твоему отцу Климентию Борисовичу.
Тебя ведь не военные убили, не омоновцы, не солдаты внутренних войск. Даже не шпана, нагнанная в Москву из тюрем и колоний, а нанятый твоими же друзьями киллер. Бывшими друзьями… Никого из них уже нет в живых. Слышишь, Андрей?! Никого, никого, никого! Их было восемь еще полгода назад. Ты можешь спать спокойно, мой муж, потому что ты отмщен. Я сделала это. Вернее, это сделали мы. Те, кто имел претензии к твоим убийцам. Честно говоря, я хотела уничтожить всю группировку в течение года, но потребовалась лишь половина этого срока…
Между прочим, Андрей, те старухи оказались правы. Получается, что ты погиб просто в разборке. Мне так и заявили: «К событиям сентября-октября гибель вашего мужа никакого отношения не имеет. Вероятно, все произошло по каким-то иным скорее всего, чисто экономическим причинам». Да, конечно, по экономическим, кто спорит… Без твоего взноса сумма, предназначенная для оплаты работы армии и внутренних войск, сильно усохла. Пока искали недостающие средства в другом месте, потеряли время. Возможно, кто-то в эти часы еще успел спастись.
– Оплакивай своего бандита со своими – с сытыми, с пьяными! А нам оставь наше горе! Смотреть на тебя противно – на рожу твою накрашенную, на твои бирюльки, когда сам давно уже досыта не ел…
Все делят, мерзавцы. – даже трагедию, даже слезы. Привыкли скандалить в очередях и на рынках, обязательно все делить. Не дай Бог мимо рта пронесут кусочек… Как им всем хорошо на этой земле, как они страстно хотят жить, несмотря на свою нищету! А я не хочу, слышите?!! Берите мою молодость, мои миллионы долларов, жизнь мою берите! Да почему, почему именно мой муж погиб, именно мой сын?..
Когда вышел тот самый злополучный указ под номером тысяча четыреста, ты особенно не огорчился, даже не заинтересовался. Считал, что дело давно двигалось к развязке, и нужно было еще весной проводить новые выборы, чтобы выйти из конституционного кризиса. Болтовня тебя всегда раздражала, особенно та – в Доме, у микрофонов. А потом что-то произошло, и ты бросился на помощь, положил за этих самых депутатов свою жизнь. А ведь из них-то никто не погиб. Снова дерут глотки, теперь уже в Государственной Думе, прогуливаются по фойе, тычут пальцами в кнопки для голосования. А тебя нет. Нет на свете, нет в их памяти. Многие из них даже не знают, что существовал такой Андрей Климентьевич Ходза…
Первый раз ты съездил к «Белому Дому» утром двадцать второго сентября, в среду. Вернулся довольно быстро и, расстегивая пряжку плаща, с презрением заявил из прихожей: «Одно старичье с красными знаменами. Нардепы, следовательно, в безопасности. Уж эти костьми лягут, а Советскую власть отстоят, ископаемые. Помнишь, как все в девяносто первом было? Разве та картина? Тогда Дом символизировал будущее, а сейчас – прошлое. От него за версту несет нафталином. Думаю, что старички устанут и разбредутся. Можешь не волноваться, Дашка, – через день-два все будет кончено…»
Я занималась детьми, как всегда по утрам. Няньку мы приглашали редко, главным образом тогда, когда нам нужно было уехать из квартиры вдвоем, а моя мама не могла выручить. Эрика чиркала в альбоме новыми фломастерами, которые назывались «Секретный агент». Наша дочка горделиво собиралась в школу; она пошла шести лет и уже отучилась почти месяц. Я меняла простынку в кроватке сына, и перед моими глазами возник «Белый Дом» двухлетней давности – весь в иллюминации, окруженный скорее веселыми, чем грозными баррикадами. Вокруг шаталась молодежь с гитарами и банками пива в руках. На танках сидели растерянные солдатики в шлемофонах, которых хотелось потрепать по стриженым головам и угостить мороженым.
– Старики? – удивилась я, бросая в кроватку подушку и одеяльце.
– Да. Кому еще нужно сейчас там торчать?..
Это были твои слова, Андрей.
Сколько же у меня слез, муж мой милый? Столько горя, что за шесть месяцев не выплакать… Потом был другой день, вернее, вечер. Я вспоминаю сначала черный кафель на стенах нашей ванной комнаты в Кунцево, а потом – зеркало в серебристой раме, бутылку шампанского на мраморном столике. Ты откуда-то притащил дурацкую привычку обмывать благородным напитком черную итальянскую сантехнику, в том числе и унитаз, Я никак не могла отучить тебя от этого дикого обычая; скорее всего, так было принято в том кругу, где ты тогда вращался.
Я только что уложила детей, проверив у Эрики уроки. Хотела выпить кофе и немного посмотреть телевизор, потому что в Москве уже больше недели творилось что-то невообразимое. К тому же Эрика училась в Центре, водитель каждое утро возил ее в гимназию и обратно с превеликими трудами. Я хотела поговорить с тобой, предложить пока подержать дочку на домашнем обучении. Ты приехал, как обычно, в десять вечера – на своем служебном «Кадиллаке» с посеребренным дном. Лимузин почему-то не уехал в гараж, а остался у подъезда; я увидела его из кухонного окна и удивилась. Значит, ты собираешься еще куда-то, но почему же ни утром, ни днем не говорил мне об этом? Мы ведь в обед разговаривали по телефону…
Еще больше я удивилась, увидев тебя в камуфляжной форме; так ты еще никогда не одевался. Ни слова не говоря, ты схватил меня за локоть, поднял с диванчика-уголка, увел в ванную и включил воду. Сначала ты вымыл лицо и руки, причесался и закурил. Я помню даже пачку твоих любимых сигарет «Давыдофф» и платиновую зажигалку.
Сейчас мне пришло в голову, что зря ты так муштровал персонал в своих офисах. Ты не терпел даже запаха спиртного, пачками увольнял людей даже при малейшем подозрении в склонности к рюмке. Курить ты разрешал только под вытяжкой в туалете. Жесточайшие требования к дисциплине, интеллекту, внешнему виду сотрудников, непрерывные тесты на служебное соответствие здорово портили людям кровь. Подчиненные боялись тебя и, возможно, ненавидели. Хотя, конечно, никакая народная любовь не спасла бы тебя в тот вечер от приехавшего на джипе палача. Тебя в фирме звали «Дуче», и, безусловно, уважали, потому что подлецом, «разводчиком» ты не слыл никогда.
Твой головной офис помещался за бетонным забором и бронированными воротами. Его стерегли автоматчики; по верху забора, по воротам проходила проволока под током. Дома было немногим свободнее, и я сполна испытала на себе твой суровый нрав. Но как бы я хотела сейчас увидеть тебя любого – бешеного, задумчивого, безразличного! Я, дура, так мало любила тебя, почти никогда не говорила с тобой о чувствах. Думала – успеется. Теперь слушай…
Глядя на побледневшую горбинку твоего носа, я встревоженно поинтересовалась, в чем дело. Смаргивая капли воды с ресниц, ты невнятно произнес: «Дашка, ты давно уже знаешь, где что лежит. На всякий случай я должен тебя предупредить, прежде чем ехать туда…» «Куда?! Ты что?..». Я уже догадалась, что ты имеешь в виду. «В «Белый Дом». У меня есть разрешение, и через оцепление меня пропустят. Но если что со мной в дороге произойдет, не теряй головы…»
Я тогда не запаниковала. Напротив, тело внезапно стало легким, а мысли – ясными. Я моментально приняла решение идти с тобой, потому что во мне проснулся историк. Кроме того, я понимала, что долго не выдержу здесь – одна, в тревоге, в смятении, рядом со спящими детьми.
– Ты когда едешь? Прямо сейчас? – Я в радостном возбуждении принялась стаскивать с себя халат.
– Да, сейчас. Через пять минут я должен выехать, чтобы успеть к назначенному времени. Хочу выяснить, действительно ли в Доме уйма вооруженных бандитов, как говорят и пишут. С меня требуют взнос в фонд ликвидации мятежа, и я должен знать, на что даю деньги. Процент-то немалый, сама понимаешь. Как говорится, лучше один раз увидеть…
– Я не пущу тебя одного. Едем вместе! – Я рванулась в гардеробную.
– Не дури! С кем детей оставишь? Эрика проснется и испугается…
– Маме позвоню. У нее ключ есть, приедет и откроет.
– Ну, ты рехнулась совсем! Одиннадцатый час вечера, в городе неспокойно. Галина Николаевна уже спать легла, наверное…
– Все равно не пущу тебя, и точка! Мама недалеко живет, может такси взять, мы оплатим… Да и вообще, какие могут быть вопросы? Я должна сейчас быть рядом с тобой. Если нас убьют, то вместе…
– Балда! – Ты никогда не отличался излишней церемонностью, но я уже давно не обращала на это внимания. – Черт с тобой, звони маме. Только быстрее, меня там долго ждать не будут.
Мама моментально все поняла, примчалась на такси через десять минут. Ума не приложу, как она сумела так быстро собраться и поймать «тачку». Ты понял, что меня не отговорить, и принялся куда-то названивать, чтобы немного отодвинуть встречу с руководством Верховного Совета.
А я далеко зашвырнула купальный халат, натянула джинсы, водолазку, куртку и кроссовки. Мы спустились на грузовом лифте, потому что пассажирский был занят, и умчались на ярко освещенном «Кадиллаке». Всю дорогу мы с тобой молчали, глядя в затылок водителю Сереже.
Я и сейчас вспоминаю осеннюю ночь, мокрый снег перед лобовым стеклом лимузина, желтые листья на тротуарах. В центре города улицы были плотно перекрыты, но нас пропускали. Меня знобило от волнения. Почему-то казалось, что в этом Доме нас непременно прибьют, раз уж туда наехало столько уголовников. Тебя могут узнать какие-нибудь лидеры оппозиции. Ты для них – враг, расхититель общенародной собственности и наймит мирового империализма.
Уже на Пресне нам пришлось вылезти из машины, и какой-то милиционер в высоком чине лично повел нас к «Белому Дому». Сверху валил мокрый снег, внизу чавкала грязь, и на меня напал удушающий кашель. Снег в конце сентября – это, по меньшей мере, странно, думала я, цепляясь за твой рукав. И вспоминала другой снегопад – зимой восемьдесят седьмого года, когда ты прилетел из Японии. В «Шереметьево-2» той холодной ночью мы ёжились под порывами ветра, под дождем и снегом, и ждали такси. Меня тошнило и трясло, с волос текло за ворот, и очень трудно было стоять. Но я все равно светилась от счастья, потому что наконец-то дождалась тебя из длительного турне. Сначала ты уехал в Сингапур, потом – в Южную Корею и на Тайвань, а после – в Японию. В этой длительной командировке ты отпраздновал свое двадцатипятилетие; это случилось в последний день ноября. Через месяц я поздравила тебя с Новым годом и получила ответ – суховатый, деловой, неэмоциональный. Три месяца тебя не было, и я, уже зная о своей беременности, тихо обмирала от ужаса, представляя, что ты меня непременно бросишь.
Но после, под ветром и снегом, ты сделал мне предложение и тем самым моментально согрел. Я сразу забыла о печали, скуке, страхах; стала спрашивать, как ты провел столько времени вдали от дома, семьи друзей. Ты рассказал, как заболел какой-то жуткой экзотической лихорадкой, и в свой день рождения едва не скончался. Спасли тебя супруги-американцы, мистер и миссис Ламсден. Звали их Артур и Эрика, они были электронщиками, твоими коллегами. Ты поклялся назвать их именами своих будущих детей, о чем и сообщил мне. Я с радостью согласилась.
Свадебного путешествия у нас не получилось – я не желала совершать его с огромным животом. Расписавшись в районном ЗАГСе, мы устроили веселое торжество в нашей с мамой квартире. Мы проштудировали массу литературы, выписали в блокнот сведения о свадебных обрядах различных народов планеты, и некоторые из них исполнили к немалому удовольствию гостей.
Ты позвонил другу в Крым, и тот привез листья мирты, которые я приколола к своей фате. Потом мы, подражая новобрачным из индийского племени, жевали с двух сторон какой-то сочный кислый лист; когда наши губы встречались, мы надолго сливались в поцелуе. В этот момент под аплодисменты нас провозглашали мужем и женой. Кроме того, нас осторожно стукали лбами; мы мочили ладони в чернилах и шлепали отпечатки на стену. У меня до сих пор хранится кусочек тех обоев. Мы договорились отложить «медовый месяц» до рождения первенца, а в свадебное путешествие решили ехать уже втроем.
Эрика родилась двадцать восьмого июля. Той душной ночью я почти сразу же позвонила тебе, дотянувшись с каталки до телефона-автомата. Помнишь, сколько раз мы разговаривали по видеотелефону? Ты так хотел поскорее увидеть новорожденную! У детей получились карие глаза – в меня. Теперь я жалею об этом. Будь Эрика твоей копией, я смотрела бы на нее непрерывно. А так… Я почему-то чувствовала, что мое оглушительное счастье скоро кончится.
А ты хохотал над моими страхами и возил меня по свету. «Ситцевую» свадьбу мы отмечали в Дубае, два года – в Александрии Египетской, три – в Таиланде, четыре – в Индии. Пять лет, «деревянная» свадьба – и мы в Марокко. Были на Мальте, на Канарах, в Италии и Испании. Ты торопился, нервничал, волок меня по свету за руку, будто боялся не успеть, что-то упустить, не оправдать моих ожиданий.
Наш Артур родился в круизе, где-то у побережья Дании, наделав на лайнере переполох и подняв на ноги всех имеющихся там медиков. Сейчас я думаю, что нам нужно было просто пожить в Москве, дома, на даче, без спешки и постоянных банкетов. Получается, что я больше смотрела на пальмы, купола, минареты, на верблюдов и жирафов, чем на тебя. Я сказала тебе, что грешно забывать матушку-Москву, и ты торжественно поклялся «цинковую» свадьбу справить на даче. Ты собирался принести в цинковом ведре воды из колодца, а я должна была в таком же тазике выстирать твою сорочку и свое платье. Мы поженились в начале апреля, и день нашей «цинковой» свадьбы пришелся на четвертое октября…
… Я стирала над ванной, согнувшись в три погибели, ту самую тряпку, которой смывала с пола вашу кровь. Там же сушился твой костюм-сафари; ты привез его из ЮАР, где был без меня и катался по саванне в обществе коллег-бизнесменов. Белая рубашка с несколькими дырочками, слипшимися и обгорелыми, сейчас совсем рядом, в машине, под сидением, в сумке. Я ее вожу с собой и часто разворачиваю на коленях, чтобы прикоснуться к малой частице твоего тела. Наша венчальная фотография лежит в «бардачке», и я понимаю, что ошибалась тогда, стоя у алтаря. Верила ведь, искренне верила, что проживем мы с тобой долго, и плакала счастливыми слезами. Другой такой же снимок я положила под атласную подушку, и он ушел вместе с тобой под землю. О, если бы ты погиб в те времена, когда действительно нарушал законы, проматывал деньги, кутил, «делал лохов» и уничтожал конкурентов, я поняла бы все! Чтобы занять твой пост в фирме, прибрать к рукам фонды и пакеты акций, нужно было совершить недозволенного.
Но ты погиб именно после того, как стал отдавать, а не брать; жалеть, а не презирать. Ты был очень красивым человеком, который не может долго заниматься грязными делами. И вот такого, прозревшего, нового, тебя убили! Вместе с невинным младенцем расстреляли в упор одной автоматной очередью. Автомат Калашникова с укороченным стволом потом нашли в кабине лифта – профессионал оставил клеймо качества. И Бог доволен. Он дал силы убийце. Не заклинило у мерзавца ствол, не перевернулся по дороге его джип…
Сейчас я смотрю на голые ветки кладбищенских ив, на фонари. И вижу другую ночь – холодную, не по-сентябрьски снежную. Под треск и вяканье раций мы, как дети, схватившись за руки, пробираемся к Дому. Страха в моей душе нет – ведь ты рядом. Я точно откуда-то знаю, что нас не убьют. Я шепчу в твое озябшее ухо: «Обязательно дам в гимназии урок новейшей истории. Только мне надо выработать собственную позицию, потому что иначе я не смогу говорить убежденно, доносить правду до других людей. Старшеклассники обязательно должны знать современность во всех подробностях, без пропаганды и перекосов. Интересно, как у меня получится?»
Ты молча киваешь, думая о другом. Я знаю, что ты Президента Ельцина не чтил даже тогда, в девяносто первом, когда стотысячные толпы на площадях ревели его имя. Просто ты опасался, что победят красные, и нам придется бежать за границу или идти по этапу. И в конце сентября девяносто третьего ты продолжал опасаться, убеждая себя и меня в правильности Указа о роспуске Верховного Совета России и Съезда народных депутатов.
Когда мы наконец-то оказались около восьмого подъезда, ты с несвойственной тебе нерешительностью пробормотал, что из всех правил бывают исключения. И сейчас, кажется, дело обстоит не так просто. До последнего времени ты считал, что сидящие в Доме просто не хотят терять огромную власть, нажитое имущество, неограниченное влияние. А теперь понял, что это не так. По крайней мере, не совсем так.
– Я против них – это несомненно. Но мне необходимо выяснить, есть ли в здании бандиты, о чем постоянно твердят в прессе. Одно дело – дискутировать цивилизованно, и совсем другое – поднимать мятеж. У меня есть ты и дети, поэтому я не хочу ничьей крови. Поехал сюда исключительно для того, чтобы уговорить их сдаться. «Сидельцы» все равно обречены – против них армия, внутренние войска, спецслужбы, вся государственная машина. Но, самое главное, народ тоже против них, как это ни парадоксально звучит. Не люди нашего круга, не лавочники, не уголовники, а именно НАРОД, который якобы обобрали и лишили всего. Народ, который ждет обещанную сладкую конфетку, грезит о сытой праздной жизни, желает тем, кто в Доме, самой жуткой участи. Ветер дует не в их паруса – вот что я хочу объяснить руководству парламента. Мы ведь знакомы со спикером – он и мой отец частенько оказывались во время праздников в одной профессорско-академической тусовке. Очень надеюсь, что он не выгонит меня, как дерзкого мальчишку, а выслушает. В первую очередь это нужно именно ему, а не мне. Народ убежден в том, что «красно-коричневые», в число которых, разумеется, входит и спикер, мешают двигаться в светлое будущее капитализма, не дают Ельцину реализовать смелые замыслы реформаторов. И переубедить, пот крайней мере сейчас, подсевшую на этот наркотик толпу невозможно. Люди согласны терпеть, причем терпеть очень долго, не получая взамен ничего, кроме очередной порции обещаний…»
С нами были твои приятели, и среди них – Владимир Золотов, впоследствии занявший твой пост в фирме. Вы вместе создали одну из первых компаний, поставлявших в Россию компьютеры и прочую современную технику. Золотов схватил тебя за плечо, что-то прошептал на ухо. Я пыталась сформулировать свой ответ тебе, но никак не могла. Мысли разбегались, как ртутные шарики по полу, и происходящее казалось тяжким сном. Но это происходило наяву, потому что кругом воняло – соляркой, кирзой, потом, мокрым шинельным сукном.
Со всех сторон светили автомобильные фары; и каски солдат, стоящих в оцеплении, отражали потусторонний, страшный свет. Меня колотило так, что я боялась прокусить язык или губы. Почему-то все очень тяжело дышали, и мы с тобой в том числе. Казалось, что неведомое, сверхмощное поле словно магнитом тянет нас туда, к восьмому подъезду. Мне тоже очень хотелось поскорее уйти с промозглой улицы, оказаться под крышей. Ты изумленно взглянул на Золотова, потом – на часы, и быстро вошел в подъезд.
– Значит, он хочет видеть меня сейчас же?
– Да, очень ждет. Да понятно же, «сидельцы» не хотят рвать с нами, то есть с «третьей силой». Мы, по их мнению, можем послужить парламентерами, как-то смягчить ситуацию…
– Андрей, куда мы сейчас? – Я лязгаю зубами и буквально висну на твоем плече.
– Я, как и собирался, встречаюсь со спикером. А насчет тебя договоренности не было, так что посиди в коридоре. Это в любом случае недолго. Я до полуночи решу, с кем идти дальше.
– Ты разве еще не решил? – Я очень удивилась тогда.
– Нет. Я – деловой человек, и наспех такие решения не принимаю. Мало ли, кто и что болтает, сообразуясь со своими интересами. А у меня может сложиться совершенно иное мнение, и это нормально. Деньги требуют с меня, а не с тех, кто круглые сутки трещит о собравшихся в Доме боевиках…
Золотов нетерпеливо поторопил нас, и мы ускорили шаг. Лифты в здании не работали, и мы поднимались на пятый этаж по лестнице. Мужчина с депутатским значком на лацкане пиджака провожал нас, освещая ступеньки фонарем. На каждом этаже стояли посты, и ты предъявлял ряженым казакам бумагу с печатью. Еще в подъезде меня оглушили возбужденные голоса, обескуражила жестокая давка.
Неизвестно как попавшие в охраняемое здание мужчины в очках, возбужденные женщины в кожаных потертых пальто, старухи и подростки, с хозяйской уверенностью разгуливающие по холлам, привели меня в замешательство. Самонадеянные и бесполезные здесь ветераны с орденскими планками выкрикивали лозунги времен войны и призывали стоять за Родину до конца, до последнего вздоха, как они когда-то стояли под Москвой.
Взад-вперед сновали еще не похудевшие депутаты; они косились на нас, собираясь кучами, перешептывались, расходились. Мне бы тогда и задержать тебя, Андрей! Но я думала, что ты в любом случае останешься при своем мнении. Как я, оказывается, плохо знала тебя, муж мой, любовь моя! Тебе надоело быть «Дуче», захотелось подчиниться кому-то, более старшему и опытному. Своеобразный мазохизм рано преуспевшего человека сыграл с тобой злую шутку. Даже в казино ты всегда выигрывал, и потому не научился ценить свое счастье…
А сейчас мне душно, страшно. Я включу кондиционер и закурю. Я редко курю, ты знаешь, но сейчас очень хочется. Я покупаю теперь только твои любимые – «Давыдофф».
– Андрей, а разве нельзя держать нейтралитет? Ты ведь всегда был индивидуалистом… – Я еще пробовала, пыталась остановить тебя, повинуясь чувству безотчетной тревоги.
– Эх ты, историчка Дарья Юрьевна, раскрой глаза, пойми – это же революция! Такие времена не каждому суждено пережить. Нужно буквально впитывать в себя все, что происходит вокруг. Любой нейтралитет сейчас – проявление трусости. Но я знаю, что меня все равно или растопчут, или согнут. Запоминай все, что увидишь здесь, С людьми пообщайся. Это в любом случае необыкновенные люди, раз пришли сюда, а не сидят дома и не слизывают отраву с экранов телевизоров. Потом детям расскажешь, когда они вырастут…
Ты кивнул мне и оставил меня на попечение еще одного своего приятеля, имени которого я не знала. Ему в карманы пиджака насовали патриотических газет и листовок. Несчастный бизнесмен не знал, как ему избавиться от всего этого богатства до выхода из Дома, чтобы не иметь потом неприятностей. А я стояла и смотрела, как ты уходишь по длинному коридору, застланному вишневой ковровой дорожкой. Роскошь «Белого Дома» выглядела уже погребальной. Я только теперь поняла, что такое революция; оказывается, страшнее ничего нет. Ты прав – историк обязан интересоваться происходящими вокруг него событиями. Но до чего же тяжела эта ноша – быть историком и спокойно фиксировать весь этот кошмар!..
Ты ушел от меня тогда. Как оказалось, ушел навсегда. Впрочем, в тот вечер ты вернулся. Мы еще виделись, даже занимались любовью, но это была лишь краткая отсрочка, подаренная нам перед разлукой.
В холле народу было тоже много; спали и на диванах, и в креслах, и на полу. Люди выглядели одновременно возбужденными и растерянными, испуганными и озлобленными. Мне хотелось плакать от звуков гитары, доносящихся откуда-то из-за угла. Моя голова разболелась от распоряжений, передаваемых по внутренней трансляции. Я не хочу вспоминать, не хочу! А оно вспоминается.
Мимо меня протискивались бомжи, старухи; как я успела заметить, они с аппетитом хлебали суп у походных столовых. Отодвигаясь от них подальше, я недоумевала, зачем на эту дрянь переводят драгоценные продукты, которых остро не хватает депутатам и обслуживающему персоналу «Белого Дома»? Провиант приходится доставлять за кольцо оцепления с превеликими трудами, и здесь он исчезает в чавкающих, вонючих ртах. Неужели попрошаек привечают здесь для того, чтобы заслужить благоволение небес? Ведь толку от сирых и убогих все равно не будет, а обходится ненужная благотворительность очень дорого…
Я подошла к окну, протерла запотевшее стекло и увидела, как внизу, у костра, копошатся ребятишки, а женщина тут же кормит младенца грудью. Меня затошнило, несмотря на то, что я и сама тогда изредка давала сыну грудь перед сном. Я отшатнулась от окна и услышала совсем рядом жеребячий гогот молодых парней в камуфляже – таком же, как у тебя. Они курили, ругались, травили байки, не обращая внимания на дам. Я совершенно растерялась; все лица закрутились передо мной, будто на карусели.
И вдруг я увидела среди серой массы миловидную женщину с девушкой. Первая была, видимо, работницей из столовой или буфета – в крахмальной наколке на волосах, в передничке; на ногах – гетры-«дольчики» и замшевые туфли. Черноглазая стройная брюнетка лет сорока смотрела на меня нежно, тепло, по-матерински, сложив руки под полной грудью. Даже здесь, в осажденном Доме, эта женщина тщательно следила за собой; ее макияжу могла позавидовать кинозвезда. Рядом с женщиной стояла девушка с темно-рыжими локонами ниже пояса, высокая, гибкая. Глаза ее загадочно мерцали в полумраке.
– Что-то я вас, миленькая моя, раньше здесь не видела! – высоким певучим голосом произнесла женщина и улыбнулась мне. – Вы, никак, плачете? Обидел вас кто-нибудь? Наши ребята, бывает, выражаются…
– Нет, что вы! Никто меня не обижал, все в порядке. – Я поправила волосы, пробежала пальцами по кнопкам своей куртки.
– А как вас звать? – Женщина пытливо смотрела мне в глаза.
– Дарья Ходза. Мой муж сейчас у вашего начальства, приехал по делам. Он очень хорошо умеет решать сложные проблемы…
Я заговорила искренне, горячо, стараясь как можно скорее объяснить все этим двум особам, чтобы меня не приняли за шпионку. Но женщине, как оказалось, мои объяснения были совершенно не нужны.
– Я – Октябрина Михайловна. А это – Оксана, дочка. Дашенька, – Октябрина внезапно перешла на «ты», – кушать не хочешь? Бледненькая такая, усталая. Может быть, долго ждать придется, так надо бы перекусить. У нас есть котлеты и капустный салат, только вот сок холодный. Мы же в блокаде который день… – Октябрина Михайловна говорила обстоятельно, неторопливо, напевно.
Мне тогда было не до еды; да и не попрошайка я, чтобы отнимать у осажденных последнее. Вместе с тем мне не хотелось обижать добрую женщину, и потому я почувствовала себя неловко.
– Спасибо вам, огромное спасибо, но я сыта! Мне ничего не нужно…
– А яблочка, антоновки? Не хотите? Мальчики мешок притащили сначала в кабинет Ачалова, а потом – в зал заседаний… Ксюта, донька, сбегай!..
Девушка, одетая в джинсы и в камуфляжную куртку, умчалась, взмахнув роскошными волосами. Я проводила ее туманным взглядом и отметила, что по коридорам действительно шатается много сомнительных личностей. Среди них есть милиционеры с «калашами» и в бронежилетах; встречаются парни, тоже при автоматах, в полевой форме и в разноцветных беретах. Бандиты они или нет, не мне судить. Скорее всего, это ветераны «горячих точек» и военнослужащие запаса, по каким-то причинам недовольные политикой президента и правительства.
Потом ты скажешь мне так: «Эти люди защищают свое право быть именно людьми, а не скотом. Вот это я четко понял как раз тем самым вечером. И решил, что сам на их месте поступил бы точно так же. «Спираль Бруно» даже фашисты в концлагерях не применяли. Еще в тридцатых годах такая «колючка» была запрещена международными конвенциями. А эти – в Москве, против своих же сограждан, развернули весь карательный арсенал! Даже если я раньше старался стоять в стороне от этих событий, пытался спрятаться, отсидеться, отмахнуться, то теперь этого не будет. Теперь я знаю, что не власти и не денег хотят те, кто остался в Доме. И первое, и второе получают не через конфликт, не через страдания и лишения, а через лесть и угодничество. Те, кому действительно нужны только деньги, давно взяли бы у Ельцина все, что он предлагал в обмен на лояльность, на одобрение государственного переворота…»
Но все это я услышала от тебя немного позже. А тогда взяла у красавицы Оксаны несколько яблок – прохладных, тяжелых, душистых. И сразу вспомнила, что за окнами осень. Мне так захотелось на дачу – за стены, за оцепление, за военные грузовики, за Кольцевую дорогу. Я готова была бежать из Дома в лес, в стылое поле. Подумала, что завтра будет пятница, а послезавтра – суббота. Может быть, ты выкроишь время, и мы с детьми съездим в Рублево-Успенское. А в понедельник – наша «цинковая» свадьба, поэтому нам нужно остаться на даче и сделать все, что положено…
Несмотря на то, что «Белый Дом» временами напоминал цыганский табор, дисциплина в коридорах и холлах поддерживалась строгая. Женщины из обслуги, среди которых была и прекрасная ведьмочка Оксана, при мне просасывали паласы и поливали многочисленные цветы. Электроэнергию, должно быть, брали от автономного движка, для которого ты потом покупал солярку.
Где же они теперь, Октябрина Михайловна и Оксана? Живы ли? Я не нашла времени поговорить с ними, не успела даже попрощаться; только поспешно поблагодарила за яблоки. Ты возник, будто из воздуха, сказал по комплименту маме с дочкой, и, взяв меня за руку, потащил к выходу на лестницу. Я протянула тебе огромное яблоко, и ты откусил сразу чуть ли не Половину. Жевал яростно, с хрустом, не жалея ни зубов, ни челюстей. Я чувствовала, что весь в смятении, тебе нужно поговорить со мной, но ты не хочешь делать это в Доме.
По опыту общения с тобой я знала, что заговорить должен ты сам, иначе я ничего не добьюсь, Оглянувшись, я поискала глазами Октябрину и Оксану, но вместо них увидела каких-то казаков с бородами, с лампасами, с крестами на кителях. Из-за голенищ их сияющих сапог торчали нагайки. Я с трудом поспевала за тобой в тот раз, хотя обычно хожу быстро и неплохо бегаю.
Золотов дожидался нас на площади Свободной России, где бренчали гитары, и пиликали гармошки. Вокруг костров собрались люди, по большей чести молодые. К радости своей, я не обнаружила в этом секторе ни одной старушки, от которых меня уже давно тошнило. Под полиэтиленовой пленкой я различила икону Владимирской Божьей матери; это была очень хорошая копия с печально прославившегося оригинала. Тогда я не знала, что всего несколько дней спустя многие из собравшихся погибнут или будут ранены. И даже детей не пожалеет Чудотворная, такая добрая, такая манящая сейчас среди теплящихся огоньков свечей…
А я шла рядом с тобой и Золотовым по скользкому асфальту, думала о пустяках. Например, о том, что нужно поздравить с Днем ангела двоюродную сестру Людмилу. Вчера нее был праздник, а я совсем забыла. Снова я увидела вокруг мигалки, облупившиеся щиты омоновцев, поливальные машины и колючую проволоку. И ты был рядом со мной. Но, в то же время, этот высокий человек в камуфляже, без шапки, с катающимися желваками на щеках, хмурый и сосредоточенный, казался мне чужим. Я вздрагивала и сквозь слезы, сквозь тающий снег смотрела на тебя, пытаясь понять, что же произошло в моё отсутствие.
Ты отослал водителя Сергея с Золотовым, а сам сел за руль «Кадиллака», Рванул по Кутузовскому проспекту, потом – по Можайскому шоссе. По той же дороге, где гнала я вчера, третьего апреля, бессознательно повторяя тот наш путь, когда в моей жизни все перевернулось. Ты не хотел ехать домой, не хотел откровенничать со мной в машине, даже наедине, без Сергея. Мимо кемпингов ты вывел лимузин за Кольцевую дорогу и остановился неподалеку от облетевшей рощицы. Выровнял дыхание, швырнул в канаву огрызок яблока и долго смотрел, как с мутного неба летит мокрый снег. Ветер трепал мокрые березки, а в стороне Москвы вспыхивали зловещие электрические зарницы. Я стояла рядом и ждала, судорожно втягивая дым сигареты; ждала и боялась, что ты заговоришь…
– Дарья, выслушай меня внимательно, хорошо? Только без истерик, даже без вопросов… Мне самому сейчас нелегко говорить. И скрывать от себя не считаю нужным, потому что мои дела касаются тебя напрямую. От родителей спокойно все скрою, а ты должна знать. Короче, я не стану платить, и пусть поищут средства в других местах. Желающие показать свою преданность всегда найдутся. «Банан» – «папик» самый сладкий, он без спонсоров не останется. Но на моей совести этого не будет…
Я слушала тебя и не верила своим ушам. То, о чем ты говорил, означало скорую смерть, и не только для тебя одного. Как при фотовспышке я увидела головки наших детей на подушках, склонившуюся над их кроватками маму. Даже Татьяну Леонидовну представила себе – всю в черном. И замерла от ужаса, поняв, что вижу будущее…
– Андрюшка, они же тебя сожрут! Не обостряй! Ты слишком долго жил по «понятиям», и сейчас для них «сукой» будешь! Изменником, понимаешь?!
– Да молчи ты, баба! Сказал – будет так, значит, будет!
Ты стоял передо мной – бешеный, с горящими глазами, чуть наклонившись вперед, как будто хотел ударить.
Я шарахнулась от тебя, еле удержавшись на ногах – так дрожали колени. Я не узнавала своего мужа; ты был похож на бьющегося в падучей фанатика. Смотрел на меня, как на врага, которого надо уничтожить.
И вдруг ты внезапно успокоился, примирительно улыбнулся, чем окончательно обескуражил меня. Я видела каждую черточку твоего свежего молодого лица, твои бездонные глаза, твой изящно очерченный рот, тень отрастающих усов на верхней губе.
Я задохнулась от страха и от изумления, когда в зыбком мраке увидела свечение над твоей головой, по контуру плеч. И в следующую секунду отвернулась, не в силах выдержать это видение…
– Я много сделал зла в своей жизни, но никогда не поступался внутренней свободой. Сейчас я должен перешагнуть через шкурные страхи, чтобы потом не презирать себя всю жизнь. Прости, Дарья, но ты сейчас можешь говорить мне все, что угодно, приводить любые доводы. Я все равно ничего не услышу. Он убедил меня в том, что правда там, в Доме…
– Кто убедил?.. – Я без сил опустилась на уголок заднего сидения машины.
– Спикер.
Я обмерла, сжала пульсирующую голову ледяными ладонями. А в следующий момент ясно представила себе маленького человека в черной, с белой полоской, рубашке, и с такими же черными глазами на совершенно белом лице.
– Получается, ты отправился уговаривать его сдаться, а он уговорил тебя сопротивляться. Конечно, твои возможности доставлять продукты и средства связи для него интересны. Наверное, он надеется на ходатайство видных бизнесменов перед властями… Но не нужно жертвовать собой, семьей из-за человека, которому ты, в принципе, безразличен…
– Важно, что он не безразличен мне.
Ты закурил, но не сразу погасил зажигалку, а долго смотрел на синеватый язычок пламени, трепетавший на пронзительном ветру.
– Я же говорил тебе, что мы были знакомы. Отец кое-что рассказывал. А сейчас я понял, из-за чего они сидят в этом Доме – без света, без воды, без пищи…
– Никогда не думала, что тебя можно так быстро перевоспитать. – Я попробовала усмехнуться, но лишь жалко скривила озябшие губы, с которых давно слезла помада. – Ты пробыл там не больше часа…
– Возможно, даже меньше, но ведь не во времени дело. Не знаю, как других, но меня нужно убеждать не словами, а делами. Главное, что я именно сегодня в нем оценил, – непокорность, готовность идти до конца. Заметь, Дарья, что так поступает человек, перенесший в детстве и юности много невзгод. Это не богатенький «сынок», который не знает цену деньгам. Не безумец, не прекраснодушный мечтатель. Не неудачник, которому нечего терять. Человек упорно шел к высшей точке своей карьеры и достиг ее в возрасте сорока восьми лет. Впереди еще много времени, пост сулит блестящие перспективы. Дух захватывает от той высоты, на которую его вознес случай. Но в жизни ничего случайного не бывает. Значит. Это – Судьба! С должности заведующего кафедрой института, пусть известного и престижного, человек возносится в кресло руководителя государства. Согласись, что это – суперкарьера. И редко кто сможет, оказавшись на властном Олимпе, вести себя так, как он… Погоди, я все объясню, чтобы ты меня понимала. Мне очень важна именно твоя поддержка. Такой счастливый билет вытягивают единицы. И если это случается, человек перестает быть собой. Даже если раньше он имел совесть, то впоследствии уже считает ее химерой. Итак, позади трудная молодость, ссылка, нищета, необходимость самостоятельно пробиваться в жизни, потому что отец давно погиб… Да, он – не ангел. А кто ангел? Кто хоть чего-то добился, никого не ущемив, не обидев, не подставив? Интриги строят многие, в том числе и ученые. Я от отца много слышал о склоках, о невероятной подлости внешне интеллигентных мужчин и женщин. Сейчас речь не о том, Дарья. Ты послушай меня немного, потому что вряд ли нам удастся еще раз так поговорить… Спикер вполне мог, заняв второй по важности пост в государстве, ни о чем, кроме своих удовольствий, не думать. Мог ездить по миру, принимать почести, обедать с президентами и королями, наверстывать упущенное, осыпая себя и свою семью всевозможными благами. Мог откладывать громадные суммы на счета в иностранных банках, покупать недвижимость на фешенебельных курортах. Много чего мог делать – не тебе рассказывать, ты в теме. Но тогда его никто бы не осудил, вот в чем дело! Он должен был, дабы сохранить и преумножить свое богатство, власть и влияние, ни в коем случае не возражать Президенту. Напротив, нужно было штамповать в парламенте решения, принятые в Кремле под коврами, придавать им силу законов. Нужно было одобрять происходящее в стране, а не думать о том, что страну хотят разрезать, растащить, распродать, присвоить жирные куски общенародной собственности… Зачем думать об этом, если свою долю от сделки ты всегда получишь, если будешь паинькой? Почти сто процентов пробравшихся ко второму по значимости креслу в стране так и поступили бы. Говорили бы правильные слова, не обратили бы внимания на вал писем от граждан, затопивший Верховный Совет. Не стали бы обострять отношения с молодыми реформаторами типа Гайдара. Ничего опасного не стали бы делать, потому что это ни к чему. Сейчас рассказывают бредовые истории относительно желания спикера занять президентское кресло. Ну, во-первых, с такой фамилией, как у него, в России Президентом не станешь. А, во-вторых, в таком случае не нужно было обострять отношения с нынешним главой государства. Следовало ластиться к нему, заглядывать в рот, подставлять под удары то одну, то другую щеку. И ждать, жать! Ждать, когда с патроном что-нибудь случится! Нынешние события преподносят как борьбу реформаторов с консерваторами, русских с чеченцами. Многое говорят, только не правду. А правда такова, что Верховный Совет, Съезд народных депутатов России с имеющимися у них ныне полномочиями Президенту Ельцину и правительству совершенно не нужны. Контролирующий орган хотят уничтожить, сбросить с шахматной доски, заменив другим, бесправным парламентом, депутаты которого вечно будут помнить об участи непокорных предшественников. И тогда они станут молчать, что бы ни происходило в стране, как бы ни грабили, ни унижали ее! И еще они будут помнить о том, что народ, который в письмах плачется о своей нищете, о безысходности, о бесправии, тут же способен перевернуться на сто восемьдесят градусов. Надо только прокрутить несколько «правильных» сюжетов по телевидению. У большинства людей нет НИКАКИХ убеждений. Они верят прессе, начальству, и поступают соответственно. Все зависит от пастуха, а не от стада. Сегодня какой-нибудь Иван Иванович писал жалобу депутату, а завтра проголосует за продолжение осточертевших реформ, потому что к этому его призвала эстрадная звезда десятого сорта!
Ты смотрел мне прямо в глаза, и я видела в твоих зрачках блеск запредельной, потусторонней энергии. Этим взглядом ты давил на меня, пронзал мое тело, терзал душу. Ты заставлял мое сознание постигать твою правду, которую ты сам постиг совсем недавно, в холодном темном доме на Краснопресненской набережной.
– Я хотел доказать спикеру, что его борьба не только безнадежна, но и напрасна. Он возразил: да, безнадежна на данный момент, но отнюдь не напрасна. Надо спасать честь нации, чтобы потом не было стыдно. Вроде бы все просто и в то же время очень сложно, очень важно. Если все безропотно покорятся сейчас, получат в кассе «отступные», и в конвертах – еще больший транш, расползутся, разбредутся, оставив негодяев торжествующими, – конец. Недруги России, тайные и явные, внешние и внутренние, навсегда запомнят, что с ЭТОЙ СТРАНОЙ можно делать все. Надо только впрыснуть сколько-то там миллионов долларов, и одурманенная держава захрапит у их ног. Ее можно будет обворовать, ограбить, даже убить, Она не шелохнется. И, представляешь, Дарья, я вдруг почувствовал себя не осторожным, не благоразумным, а элементарно «опущенным». Если я сейчас спрячусь и отсижусь, то потом всю жизнь буду считать себя «петушком». Пассивные «педики» в зоне могут жить сыто, комфортно, не ходить на работу, пользоваться благами, недоступными для большинства заключенных. Но от этого они не перестают считаться отверженными, опозоренными. Таким стану и я, если не воспротивлюсь сейчас, если подставлю им свою ж…
Над нашими головами неслись белые тучи, зияло черное небо, Мерцали далекие, равнодушные звезды, Мы с тобой взялись за руки и стояли так около роскошного автомобиля, одни в огромном, враждебном, настороженном мире. И ты, миллионер, преуспевающий делец, надежда «новой России», на моих глазах отрекался от самого себя, от своих убеждений.
– Я подробно объяснил спикеру, чем могу быть полезен осажденным. Сказал, что могу поставить в «Белый Дом» любые марки сотовых телефонов, мини-АТС, радиостанции «Сайлекс» – хоть автомобильные, хоть базовые, Я предложил текстовые пейджеры «Моторола», у которых достаточный радиус действия – вся Москва и Шереметьево. Сказал, что располагаю самыми лучшими и дорогими моделями пейджеров, которые в сложившейся ситуации могут пригодиться для связи со сторонниками парламента, оставшимися за кольцом оцепления. Крошечный приборчик просто висит на поясе, и по его экрану ползут строчки. Радиотелефон не идет ни в какое сравнение, ведь пейджинг – это конфиденциальная связь. Никто не прослушает и не вычислит. Потом мы решили, что «Панасоники» удобнее в нынешних условиях. Модели 4301 и 3861 будут у меня завтра. Кроме того, я обещал закупить продукты, нанять транспорт, выделить деньги на взятки, в том числе командирам из оцепления. Они пропустят этот груз – ребята дали гарантию. А вот от оружия спикер отказался. Я хотел подарить им спецназовские новинки. В Москве будет бой, и оружие пригодилось бы им. Нет, не принимают, несмотря на то, что я передал свои данные, поручился за их достоверность. Их собираются всех… – Ты не договорил, рубанул воздух ребром ладони. – Я сначала не хотел сообщать об этом, но потом сказал. Существует негласное распоряжение при штурме, вернее, после штурма «Белого Дома» разыграть омерзительный спектакль. С теми, кто до того времени не удерет, расправится толпа, вооруженная бейсбольными битами, которую никто не станет сдерживать…
Я вздрогнула, как от сильного удара, вырвала свои руки из твоих. Мне стало страшно, так, как никогда до этого; в следующую секунду мой рот наполнился горечью.
– Андрей, тебя ведь тоже… Ты с ума сошел! Надо было не только о себе и своих эмоциях думать, но и о детях! Именно о них! Пусть я, отец, мать – побоку! Но ведь вся твоя семья пострадает, твой бизнес… Те люди, что зависят от тебя… А тех, кто в Доме, все равно убьют, раз приняли такое решение. Ты их не защитишь, только погубишь нас – и все! Опомнись, пока не поздно, я тебя умоляю!! Мы не в ответе за мир и страну, но мы уж точно в ответе за Эрику и Артура!
– А что ты предлагаешь, Дарья? Я не могу просто замолчать и умыть руки, не могу отсиживаться в офисе или уехать в командировку. Не такие мне даны варианты, доходит это до тебя или нет? Существуют лишь две дороги – дать деньги на расстрел, на подкуп карателей, или не дать. И всё! Никакого третьего пути, никакой лазейки! Если я даю эти деньги, проклятье падает и на меня, и на детей. На моих руках, на НАШИХ руках будет кровь тех, кто погибнет там, И ты думаешь, что мы после этого сможем спокойно, благополучно жить? Что тени не станут преследовать нас по ночам? Там ведь не одни старухи-побирушки или бомжи, там много молодежи. Как раз тех парней и девчонок, которые не «Пепси» выбрали, а что-то совсем другое… Назовём это законностью, справедливостью, жизнью по совести. Конечно, руководство Верховного Совета часто поступает неправильно. Например, я никогда не стал бы привечать нищих, старух, всяких подонков, которые хотят просто пожрать на дармовщинку, и тем самым дискредитировать идею сопротивления произволу. Получается, правы те, кто называет парламент прибежищем разного сброда. И многие, даже из наших, пошли бы туда, не валяйся там на полу эти… – Ты не договорил. – Не знаю, против чего выступают старушки, но лично я сегодня наблюдал такую сцену. Одна из попрошаек получила в столовой два бутерброда, вышла на улицу и стала предлагать перекусить солдатам, стоящим в оцеплении! Этим щенкам, которые людей голодом морят! Тем, кто издевается над невинными согражданами, бабка заботливо совала бутерброды… Купленные, между прочим, на чужие деньги, сделанные чужими руками! Из продуктов, с таким трудом протащенных в «Белый Дом»! Между прочим, двое солдат взяли, запихали в рот. Но, спорю на любую сумму, душевного порыва бабульки они не оценят и скоро расплатятся. Ладно, если бы с ней, а то с другими!..
– Да, я тоже видела, что из дома выносят провизию и пытаются задобрить военных. Вряд ли у них что-то получится. Будет приказ – и начнут стрелять. К тому времени забудут, что голодные, замерзшие люди их ни в чем не обвиняли и даже кормили…
Ты усмехнулся – хищно, удовлетворённо; видимо, представил, какое разочарование ожидает добреньких старушек. Потом опустил ресницы и зажёг очередную, уже шестую сигарету.
– Знаешь, я всё вспоминал тебя… Когда там был, оглядывался по сторонам, прислушивался к доносящимся с улицы звукам… Да, те люди в Доме прекрасно понимают, сколь мощные силы двинуты на разгром. Но всё равно держат последнюю, безнадёжную оборону. Держат при том условии, что у них до сих пор есть выход, альтернативный вариант поведения. В любой момент можно пойти на компромисс, признать свою неправоту, попросить прощения, повиниться, покаяться. Мы никогда с тобой об этом не говорили, но в детстве я жалел, что опоздал родиться. Я жил спокойно, скучно, теряя самое главное. А сегодня мне довелось побывать разом в Брестской крепости, в Севастополе, в Сарагосе и в древнем Козельске. Ты понимаешь, что я имею в виду. Им всё время предлагают сдаться, обещают деньги, хорошее обращение и возможность участвовать в предстоящих выборах. И во все времена осаждённых не только морили голодом и холодом, но и соблазняли, пытались расслабить, завлечь, понравиться им. Старый, как мир, метод кнута и пряника. У Дома «Жёлтый Геббельс», передвижной громкоговоритель, всё время орёт – и днём, и ночью. Когда мы были там, он тоже орал. Обещал, обещал, обещал… Но материально ощущаемая вера в свою правоту, в своё высокое предназначение не позволяет сделать самый разумный, казалось бы, выбор. Получить деньги и уйти, а не быть растерзанными пьяной толпой. И плевать на честь, на совесть – из них шубу не сошьёшь. Я в Доме потерял чувство реальности. Не знаю, как всё это тебе объяснить…
Ты никогда не любил высоких слов, замолк и на сей раз. Долго стоял, затягиваясь сигаретным дымом, смахивая ладонью капли дождя с блестящего бока лимузина. Мимо нас, к Москве и в область, проносились автомобили, и среди них было много военных. Многие водители удивлённо косились в нашу сторону, но не тормозили, проезжали мимо. Над Можайским шоссе висел плотный смог, и почти уже не пахло ни землёй, ни прелой листвой.
– И что же мы будем делать? – жалобно спросила я, понимая, что ты, раз приняв решение, уже не пойдёшь на попятный.
– Давай не скулить, Дашка. Я тебе передам дела, когда вернёмся домой. Думаю, ОНИ на сей раз ещё позволят мне вернуться. Если сочтёшь нужным, объяснишь всё моей матери, возможно, и отцу. Я постараюсь выбрать время и написать ему в Минск. С ним мне всегда было легче общаться, мы лучше понимали друг друга. А мать сначала кричать начнёт, потом заплачет. У меня нет сил всё это видеть и слышать. Детям, умоляю, расскажи обо мне, когда вырастут. Постарайся доказать, что иначе поступить я не мог. У тебя всё получится – ты же специалист.
Я вновь увидела твою светлую, грустную, обречённую улыбку. И опять вздрогнула, потому что не знала, как остановить тебя и уберечь…
Андрей, когда Эрика спрашивает о тебе, я ей отвечаю, что папа погиб на войне. Сейчас так много войн идёт вокруг, что объяснение не выглядит нелепым. Дочка кивает, уходит в свою комнату, но потом возвращается, И спрашивает: «А папа правда убит?» Она как будто помешалась, позабыла, что видела вас с Артуром мёртвыми. Доченька держала на руках нашего кота, медноглазого «перса» Криса, а вы лежали у её ножек, Я не верю, что Эрика, развитая смышлёная шестилетняя девочка, не запомнила тот кошмарный вечер. Скорее всего, она очень хочет понять, почему так получилось. Потом я ей всё объясню, но сейчас не детский язык сей сюжет не перевести…
Через четыре дня после памятного разговора на Можайском шоссе наступил день нашей «цинковой» свадьбы. Я только что выключила кофеварку и услышала, что ты сильно хлопнул входной дверью. Я не слышала танковой стрельбы, не могла включить телевизор; но ощущала её каждой клеточкой своего тела. Стреляли на Пресне, а страдала я в Кунцево.
Я знала, что ты обязательно должен быть там. Если не в самом Доме, то где-то поблизости. Ведь ты ещё раз навестил «сидельцев», уже без меня. Вернулся молчаливый и умиротворённый, и я чувствовала, что с твоей души упал тяжкий груз. Ты принял последнее и самое важное в своей жизни решение – не финансировать бойню в Москве. Не помогать проходимцам всех мастей руками Президента-самодура расправляться с демократически избранным парламентом…
В ночь на третье октября ты в последний раз спал со мной. Я чувствовала, что этот раз действительно последний. Волновалась тогда больше, чем в первую ношу ночь летом восемьдесят шестого, а ведь тогда я стала женщиной. Ты был, есть и будешь единственным мужчиной в моей жизни. Без клятв, без букетов, без прочих сиропных признаний ты должен понять, что я навеки останусь Дарьей Ходза, твоей вдовой. Ничьей женой и любовницей я никогда не стану, не изменю тебе ни душой, ни телом. И поэтому говорю тебе сейчас – той октябрьской ночью я, двадцатидевятилетняя мать двоих детей, тогда ещё ДВОИХ, в последний раз спала с мужчиной.
Утром тебе позвонили. Торопливо накинув халат, ты ушёл в свой кабинет и долго говорил по телефону. Оказывается, в то утро тебя предупреждали об ответственности за отказ от сотрудничества с властями и работающими на них бандитами. Ты ответил. Что, если сумеют, пусть убивают, но решения своего ты не изменишь. Моя мама, твоя любимая тёща Галина Николаевна Морсунова, утром четвёртого октября уехала на наш скромный участок, полученный ещё моим дедом близ реки Пахры, потому что не могла больше находиться в Москве.
Интеллигентнейшая библиотекарша приходила в ужас от одной мысли, что в самом центре Москвы танки прямой наводкой бьют по своим, и поэтому решила на несколько дней скрыться. Мама поступила правильно, иначе ей пришлось бы увидеть всё то, что произошло в Кунцево в понедельник вечером. Мама ничего не видела, но всё равно оказалась в больнице, которую покинула только для того, чтобы сидеть с Эрикой, да ещё возить мне передачи в психиатрическую…
Ты вошёл на кухню, и я удивилась, что на тебе чёрный с зелёным отливом банкетный костюм; на шею ты повязал галстук из изумрудно-голубого китайского шёлка. Ты стоял на фоне красного кафеля стен, около золотистых шкафчиков и столиков. И твоё лицо резко выделялось бледным, меловым пятном среди сочных, кричащих красок. Я радостно вскрикнула, увидев, что ты жив и здоров, бросилась к тебе, но ты не дал мне произнести ни слова.
– Кончено, Дарья… – Ты тяжело, как старик, опустился на табуретку, уронил голову на стол. Я заметила, что у тебя непривычно растрёпанные волосы, кривой пробор, небритые щёки. – Всё…
– Что, «Белый Дом» взяли? – Я упала перед тобой на колени. – Прости, я не слушала радио, не смотрела телевизор. Занималась с детьми… И боялась, что ты пострадаешь там. – Я смотрела в твои воспалённые глаза и видела в них своё отражение. – Что же теперь будет?
– Не знаю. Уже хорошо, что первоначальный сценарий не сработал. Бойцы «Альфы» помешали пьяной толпе совершить бессудную расправу с руководителями парламента и их сторонниками. Я видел, как они выходили из посольского подъезда, садились в автобус. Стоял неподалёку, буквально в двух шагах. У меня возникла шальная мысль – попроситься в тюрьму, чтобы разделить их участь. Но потом вспомнил, что ты ждёшь меня, и промолчал. Вполне вероятно, что их расстреляют после блиц-процесса. Генеральным прокурором будет человек Ельцина Алексей Казанник, который сделает всё так, как ему скажут. Соответствующий приговор можно вынести хотя бы по семьдесят седьмой статье – «Бандитизм»…
Яркий электрический свет резал мне глаза, и я повернулась к окну, за которым сгущалась осенняя темнота. Во дворе кричали, кажется, даже смеялись; и я боялась, что ты услышишь этот смех…
– Честно говоря, я ожидал, что их уничтожат по пути в «Лефортово». Понимаешь, когда арестованных выводили из Дома, у меня в ушах словно гремел барабан. Но уже по пути домой, в машине я услышал новости. Узнал, что их всех доставили в изолятор живыми. Да, конечно, ведь Ельцин очень дорожит мнением Запада, и постарается по мере возможности соблюдать законность. Кстати, я до последнего надеялся, что им удастся уйти по подземным коммуникациям. Многие из Дома действительно так и ушли…
Ты смотрел на меня, но ничего не видел. Мы оба рыдали, не стесняясь друг друга, забыв о детях, о самих себе, обо всём на свете.
– Я вижу длинный тёмный коридор, дуло пистолета, вспышку выстрела. Не знаю, что это… Боюсь, но всё равно вижу. Неужели и сейчас не прозреют, холуи, быдло, народ-богоносец?! Ведь люди только что в жертву себя принесли, хотя могли веселиться до старости. На их век привилегий хватило бы с лихвой. А они высшую власть променяли на тюрьму, на позор. Возможно, что и на смерть. А ради кого, чёрт побери?! Ради этих амёб?..
Андрей, ты был тогда невменяемым, и я заразилась от тебя безумием. Ты совершенно позабыл о том, что тебя самого уже приговорили. Разумеется, не за пейджеры и радиотелефоны, не за солярку и продукты. Они страховались на дальнейшее. Они боялись, что у них будет такой мощный, богатый, умный противник. И, кроме того, они хотели показать другим, чем заканчиваются сомнения в их правоте. Одного только не знали твои палачи, которые раньше частенько сидели с тобой за столиком в ресторане, за столом переговоров в фирме – в этот день они приговорили и себя. Затикал механизм взрывного устройства, энергия которого смела их в небытие. Теперь ты знаешь, что победил их. Вы погибли все. Только ты ушёл героем, а они – сбродом.
– Дарья, запомни, что я тебе скажу. Мы с тобой несколько дней назад были на московской Голгофе, где одни люди искупили грехи других людишек. Тех, кто радуется сейчас в своих убогих жилищах перед телевизорами. И тех, что жрали пирожки на набережной, пили пиво, наблюдая за расстрелом. Случилось грандиозное событие, значение которого будет понято много позже. Ты увидишь своими глазами, как скажется на ходе дальнейших событий это искупление – добровольное, осознанное, великое. Я могу сказать только одно – будущее нынешнего Президента незавидно. Он никогда не будет счастлив, он будет проклят навеки, на него обрушатся страдания и болезни. Он хочет остаться в истории реформатором и самодержцем, великим правителем. А на самом деле останется жалким посмешищем, разрушителем, безумцем, Геростратом. Он стрелял по своим, пасуя перед чужими; этим всё сказано. Я вспоминаю сейчас первое свидание со спикером в его кабинете. Вижу икебану, великолепную мебель из ореха, свечу на столе, потому что в Доме нет электричества. Я ощущаю холод, который сковывает меня, мешает думать, воспринимать обращённые ко мне слова. Почему-то создалось впечатление, что мы находимся в пещере. Всё происходит тысячи лет назад, и не существует никакого электричества. Вот такие слова: «Это жестокая беспринципная банда, живущая по законам уголовного мира. От неё веет смертью, тьмой… Штурм Дома Советов, насилие, кровь…Наше оружие – закон, политическая воля, бесстрашие… Нас не запугать и не подкупить…» Не-е-ет!!!
Ты закричал диким, нечеловеческим голосом, схватил глиняный горшок с полки и бросил его на пол. Потом опустился на колени, взял в руки острые черепки и принялся ломать их. Твои пальцы были в крови, и я, как завороженная, смотрела на эту кровь. На первую кровь, пролившуюся этим вечером в нашем доме.
Я случайно оглянулась и увидела Эрику, которая стояла в дверях кухни, в ночной кофточке и в панталончиках; она вопросительно смотрела то на тебя, то на меня.
– Я знаю законы уголовного мира и уважаю тех, кто не гнётся. Жить не хочу после того, что случилось сегодня. Я отвезу вас в Минск и вернусь в Москву. Пусть меня здесь убьют, если так угодно судьбе. Скрываться от них не стану. Просить прощения – тем более. Дарья, немедленно собирай детей. Я отвезу вас сначала в Рублёво-Успенское, потом – в Белоруссию, к моему отцу. Не волнуйся, твоей маме сообщим, где находимся. Раз она сейчас на Пахре, то в первые дни нас не хватится. А потом, устроив вас в Минске или в дальнем зарубежье, я вернусь в Москву. На свете нет справедливости, но всё же я очень боюсь, что вы из-за меня пострадаете. Если меня не уничтожат сразу, обретут в моём лице заклятого врага. Я пойду на всё. И на вооружённую борьбу в том числа! Я брошу свои средства на террор, на что угодно, но не прощу… Погибло столько людей – самых лучших, которым не было всё равно! По парням, по девчонкам, по детишкам стреляли эти выродки, отрабатывали свои премии, квартиры в Москве, внеочередные звёздочки на погоны… И это та армия, о которой мы слышали только хорошее! Им плевать, с какой целью расстреляли парламент. Нет никакого дела до того, что это – только первый пункт плана уничтожения и разграбления страны. Кажется, я должен быть заинтересован в том, чтобы в этой кровавой суматохе прибрать к рукам кусок пожирнее. Но я не хочу ТАК жить, понимаешь? Я – не опарыш, не трупный червь, чтобы паразитировать на разлагающемся организме. А они, те, у кого «жизнь удалась», – именно опарыши! Спикер назвал их червями. Да, это так, и их банковские счета ничего не стоят. Меня никто не сможет упрекнуть в том, что я так говорю от зависти. Я богаче их всех, и поэтому смело могу судить, не вызывая подозрений в каких-то низменных чувствах. Наверное, ты сейчас осуждаешь меня за то, что я не проявляю мудрость и сдержанность. Но я в конце концов застрелюсь сам или сойду с ума, если хоть чем-то стану похож на этих… Знаешь, мне сегодня довелось случайно услышать диалог двух благообразных москвичек. Я выскочил из машины за сигаретами, когда ехал сейчас к тебе. Так вот, тётушки, сложив губки бантиком, «перетирали» главную сегодняшнюю тему. «Эти депутаты погубили маму Ельцина, и он им за это отомстил…» – Ты резко встал с табуретки, подхватил на руки Эрику. – Старухе было почти восемьдесят пять лет. Она умерла во сне – тихо, без мучений. Депутаты не имели к этому никакого отношения. Но оказалось, что народ устраивает именно такая постановка вопроса. Мстил за маму – и граждане утирают слёзки… – Ты внезапно изменил тему. – Дарья, сейчас же собери самое необходимое и спускайся с детьми к джипу. Остальное можно купить в Минске. Времени очень мало, надо спешить…
Из детской донёсся плач сына, и я заметалась по нашей огромной квартире, бестолково хватая вещи, запихивая их в сумки и чемоданы. Ты почти не помогал мне, только сидел и курил, а потом сунул в карман пиджака пистолет. Немного подумав, открыл дверь кладовки. Долго смотрел на тазик и ведро из цинка, будто не понимая, откуда они взялись.
А потом ты взял у меня из рук Артура и вышел на лестничную площадку. Ребёнок уже не плакал, а улыбался, глядя через твоё плечо. Я до сих пор вспоминаю восемь зубов в его розовом ротике, круглые карие глазёнки, то самое пластмассовое колечко в руке. Ясная младенческая улыбка, среди горя, страха, злобы вспыхнула в последний раз – и погасла.
Я даже не успела проститься с вами. Думала, что впереди ещё много времени. Что в десять часов Артура придётся кормить прямо в джипе, потому что мы как раз будем на пути к Рублёвке. Скорее всего, там лучше не останавливаться. Я хотела предложить тебе снять номер в подмосковном пансионате, где нас никто не станет искать, но не успела произнести ни слова. Эрика бросилась ловить нашего Криса, полезла под диван. Зверь оставался в квартире один, и мы о нём совсем забыли. Я держала в руках две сумки. Эрика тащила перепуганного кота. Ты мне что-то сказал, но я не разобрала, что именно. А потом ты с сыном на руках шагнул через порог…
Я закричала, но голоса своего не услышала. Мне казалось, что я больше не смогу жить ни одной минуты. Автоматная очередь рассекла мне мозг, оглушила, ослепила, обездвижила. Бесшумный лифт сослужил плохую службу; ты не услышал, что кабина поднимается к нашему этажу. Киллер выстрелил сразу же после того, как открылись двери, – по тебе и по сынульке, прильнувшему к твоему плечу. Нас с Эрикой спас кот Крис. Если бы он не полез прятаться под диван в гостиной, мы вышли бы из квартиры вместе. Обманули или тебя, или тех, кто тебя информировал. Киллер приехал на десять минут раньше того времени, которое назвал в телефонном разговоре твой доброжелатель.
Я выбежала из квартиры, не думая о том, что меня тоже может скосить автоматная очередь. Сразу же увидела соску-пустышку в углу. Потом твои туфли – дорогие, не стоптанные, со светлыми подошвами. Чёрные шёлковые носки. Золотое кольцо, Зажигалку от Кардена.
Наш сынок лежал рядом с тобой, как порванная резиновая кукла; кровь пузырилась на том месте, где раньше был родничок. Я потом долго лежала у лифта в луже крови, обняв тельце ребёнка и уронив голове тебе на грудь. Я вела себя не лучшим образом в те минуты, но покажите мне того, кто, испытывая страшную боль, не будет причитать и проклинать убийц! Ханжеские слова о терпении и смирении произносят те, кто никогда никого не терял. Я в тот вечер готова была прослыть любой мразью и шкурой, лишь бы вы с сыном были живы…
Андрей, ты думал, что «сидельцев» из Дома Советов непременно расстреляют. А их амнистировали постановлением Государственной думы. Хотели замять дело о тех страшных событиях, не вытаскивать подробности бойни на суд, всё предать забвению. Гнойник зашили, не вычистив, не обработав лекарствами. Значит, когда-нибудь он воспалится снова.
Генеральный прокурор Казанник, который первоначально планировался на роль современного Вышинского, распахнул перед заключёнными двери тюрьмы, а сам ушёл в отставку. Когда я услышала об амнистии, об отставке генерального прокурора, а ещё раньше – о результатах выборов в Думу, когда идеологи расстрела потерпели поражение, ещё раз пожалела, что в тот вечер мы не сумели вырваться из Москвы. Впрочем, человеческие судьбы начертаны на каких-то невидимых небесных скрижалях. Если ты должен был погибнуть тогда, это всё равно произошло бы…
Твоему убийце хватило тех секунд, в течение которых была открыта дверь лифта. Потом киллер спокойно нажал кнопку, спустился на первый этаж и отбыл восвояси. Через некоторое время до меня дошёл слух, что «стрелка» к тебе послали дорогого, «одиночку» из афганского спецназа, майора, и он за всё взял сто пятьдесят тысяч «зелёных».
Киллер сделал контрольный выстрел, но подхалтурил. Наверное, торопился поскорее скрыться. Ты ещё полминуты был жив, и я успела услышать твои последние слова. Я склонилась над тобой, плача и умоляя тебя не умирать. А ты прошептал, обращаясь к своей уже почти вдове с последним, ужасным наказом: «Не отпевайте…»
Потом я поняла, что ты не самоубийцей себя считал, как думали многие. Чудотворная благословила расстрел, и ты даже мёртвым не пожелал оказаться в церкви. Я исполнила твою волю, и сама никогда с тех пор не бывала там. У дорогих мне гробов я не пожелала видеть крестящихся кликуш, и сам этот жест стал мне противен.
Вот, Андрей, бутылка пуста, а я не опьянела. Я только ощутила непреодолимое отвращение к жизни. С сегодняшнего дня я не смогу видеть даже ночное пасмурное небо, под которым раньше обретала покой. Мне кажется, что когда взойдёт солнце, мои глаза лопнут и слизью потекут по щекам. Андрей, я не могу больше без тебя, слышишь?! Говорят, что на том свете самоубийц к добропорядочным людям не пускают, и только страх навеки расстаться с тобой удерживал меня от рокового шага.
До тех пор, пока я не отомстила за тебя, я не могла закончить жизнь. Но теперь я буду выглядеть не психопаткой, а верной женой, до конца выполнившей свой долг. Я нашла человека, у которого были свои претензии к твоим убийцам. И тот человек протянул мне руку, согласившись действовать сообща. Мы вместе долго работали для того, чтобы заставить заказчиков той «ликвидации» плакать кровавыми слезами – по вам с Артуром, по тем людям, за которых мстил мой сообщник. Теперь мы оба спокойны, и я ухожу к тебе.
За Эрику я не переживаю, потому что она богата. У неё есть две бабушки и очень хороший дедушка. Девочку вырастят и без меня. Ты пошёл под пули, не подумав о ней. И я поставлю точку, стараясь не вспоминать о том, что мне дорого в этом мире. Знаю, что здесь, на Ваганьковском кладбище, покоится женщина, застрелившаяся на могиле поэта. Возможно, я стану второй, и обо мне тоже будут говорить здешние экскурсоводы.
Я достаю свою «Беретту», взвожу курок и улыбаюсь. Вижу твои смеющиеся, с озорными искорками, глаза, пластмассовое колечко в пухлом кулачке нашего сына. По утрам в Москве собирают много трупов, и пятого апреля один из них будет мой. Я не стану писать записку – моя визитка здесь, паспорт – тоже. Установив личность, люди поймут, что довело меня до такого шага. И тот факт, что самоубийца состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, реабилитирует меня. Я так хочу туда, к вам, под еловые лапы и гвоздики! Там же лежит мой букет, красные розы, как ты хотел. Получается, что я принесла эти цветы и на свою могилу.
Мне совсем не страшно. Я уверена, что боли не будет. Я отвожу от виска прядь влажных спутанных волос, прижимаю дуло к горячей щеке и в последний раз оглядываюсь вокруг. Ограда кладбища, голые ивы, трамвайные рельсы, спящие дома…
Больше я ни о чём не думаю, никого не вспоминаю. В день нашей «цинковой» свадьбы ушёл ты. День «медной» свадьбы – мой.
Уверенная в том, что живу последний миг, я спускаю курок. Сердце прыгает в горло, кровь колотиться в висках, глаза широко раскрываются, ловя последний луч света. Потом я крепко зажмуриваюсь и роняю пистолет на колени.
Сухой щелчок. Осечка. Первая с того времени, как ты подарил мне «Беретту». Выстрела не получилось, и я осталась жить. Проверила предохранитель – он был снят. Я не пыталась обмануть судьбу. Патрон в патроннике, и в обойме ещё шесть. Я должна была умереть, но почему-то осталась в живых; а повторить попытку уже не смогу.
Да, я – слабачка, слизь, улитка. От нервного потрясения хмель вылетел из моей головы. Я глубоко вздохнула, поняв, что сейчас в моей жизни произошло невероятно важное событие. Я поняла, что на роль мученицы не подхожу. Моя смерть бессмысленна и никому не нужна. Так, значит, нужна моя жизнь? Не ты ли помещал мне, Андрей? Ведь я же прекрасно стреляю! Пока училась, израсходовала несколько коробок фирменных патронов, и часто попадала в «десятку».
Время нашей встречи ещё не пришло. Моя судьба какая-то иная, и изменить её мне не дано. Я сумела отомстить за вас семерым убийцам. Восьмого кто-то обнулил раньше – через несколько дней после твоей гибели. Но, получается, ещё не все долги отданы. Значит, ходит по земле нелюдь из числа тех, кто отнял у меня вас с Артуром…
Кто бы сказал сейчас, насколько долог путь, который мне суждено пройти, прежде чем мы вновь увидим друг друга?..
Андрей, помни, знай, – я ещё много раз приду сюда. И даже если когда-нибудь не смогу сделать это, мысленно всегда буду склонять голову перед тобой. Я не только люблю, я ещё и уважаю тебя!
Четвёртого апреля девяносто седьмого года, в день нашей «розовой» свадьбы, я осыплю вашу с сыном могилу розами. К тому времени на Ваганьковском уже будет стоять памятник. На нём я попрошу выбить дату моего рождения, чёрточку и надпись: «Жди меня, мой родной и любимый!»
1994 год, Санкт-Петербург Дополнения внесены в, 2014 и в 2016 г.г. г.г., пос. Смолячково, С.-Пб.(Продолжение – см. «Красный понедельник»)
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
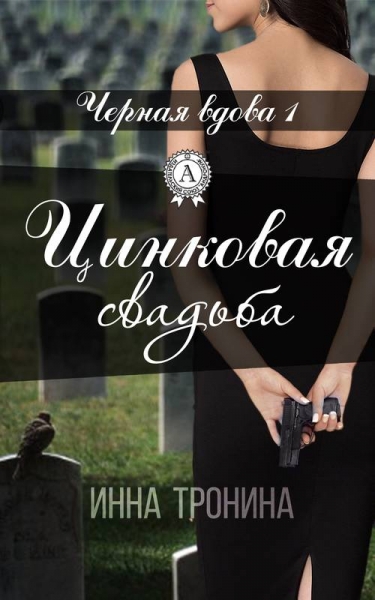


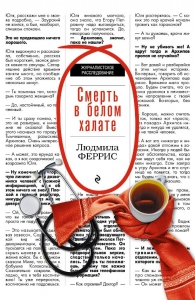






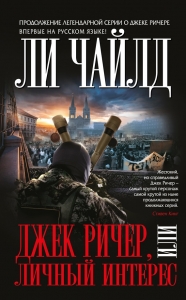
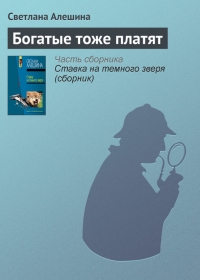

Комментарии к книге «Цинковая свадьба», Инна Сергеевна Тронина
Всего 0 комментариев