Марк ВИЛЕНСКИЙ Шумим, братцы, шумим…
Будем «ледями»
Все бегут, все стоят. Бегут, чтобы стоять в очереди. За тем, за этим, за пятым, десятым. Пятое еще было в пятницу, но кончилось в субботу, десятого еще было навалом одиннадцатого, но кончилось двенадцатого.
Все бегут, все стоят. «Кто последний? Я — за вами. Вас здесь не стояло!» И все тащат, тащат пачками, охапками, чемоданами.
По нонешним временам лучшая жена — это которая хваткая, как обезьяна, и грузоподъемная, как КамАЗ.
— Моя-то тридцать пачек взяла! Недаром я ей когда-то стихи писал и ландыши дарил.
— Да, у тебя женщина-мечта! А моя два часа отстояла, и только последние три пачки достались. Вся в слезах пришла…
— Подумаешь, два часа! Моя позавчера пять часов отстояла, в полдвенадцатого вечера домой вернулась с пустыми руками, — говорит: перед самым носом кончилось. И ничего, — смеется.
— Да, загадочна женская натура. А моя на днях стирать стала, а порошок не мылится. Она вторую пачку в корыто сыплет, а пены нет. Оказалось, соль. От той паники еще осталась.
— У нас хуже было. Борщ едим, а у всех пена на губах — жена борщ стиральным порошком посолила. Тоже весь дефицит в одну кучу валит.
Все бегут, все стоят, все хотят купить все, но всех много, а всего мало. И все ругают вышестоящие инстанции: «Куда они там смотрят со своей колокольни! Доперестраивались. Сплошные дефициты».
Это верно. Подзапутались наши перестройщики. Но и мы с вами, друзья, тоже хороши. Уж один-то дефицит на нашей с вами совести. Дефицит выдержки. Давайте-ка перед тем, как, вооружившись мешками да авоськами, бежать в магазин, заглянем на дорожку в зеркало. Нет, это не примета, плевать через левое плечо необязательно. Мы ведь хотели увидеть разжигателя покупательской паники? Вот и полюбуемся на него, вон он, в зеркале, крупным планом…
В заключение я вам случай интересный расскажу.
Стоит очередь за яйцами или лапшой, не важно. Шумят, волнуются, отпихивают друг друга. И вдруг одна женщина влезает на пустой ящик и толкает такую речь:
— Гражданочки! Бабоньки! Послушайте меня! Я недавно из-за границы вернулась — мой муж там в нашем посольстве работал сантехником. Так вот, в той стране одни леди и джентльмены живут — все вежливые, не пихаются, никто по двадцать пачек в одни руки не берет. И вот я прошу вас, бабоньки, давайте тоже будем ледями!
А ведь в принципе права она, эта магазинная ораторша. Ну, ледями или ледьми, может, и необязательно быть. А вот людьми выдержанными, разумными оставаться желательно. Даже, как говорится, в условиях временных дефицитов.
Митинг
Мы митинговали.
— До-лой хим-за-вод! До-лой хим-за-вод! — скандировали мы и хлопали в такт, поднимая ладони высоко над головой.
Верховодил нами Паша Клюшкин, дамский парикмахер. Еще вчера никто, включая самого Пашу, не знал, не ведал, какой в нем скрывается выдающийся неформальный лидер, вожак масс. А сегодня Паша взгромоздился на садовую скамейку и, ритмично размахивая кулаками, дирижировал толпой, заполнившей городской сквер.
— До-лой хим-за-вод! — рубили мы, постепенно заводясь и балдея.
Такой скандеж, доложу я вам, — изумительная штука, особенно когда на чистом воздухе, за правое дело и вместо работы.
В секунду легкого просветления я наклонился к уху соседа и быстренько осведомился:
— Какой химзавод долой?
— А шут его знает, — отозвался сосед. — Где-то строят…
И мы снова со всеми:
— До-лой хим-за-вод!
И хлопали в ладоши.
Вдруг Паша Клюшкин жестом приказал нам умолкнуть и сказал:
— Стоп, братья, стоп! Тут вот просит слова представитель министерства из Москвы товарищ Бурцев…
На скамейку рядом с Пашей влез хорошо подстриженный седой дядя в очках.
— Товарищи! — начал он. — Клянусь вам: завод будет экологически чистый. Закуплены японские фильтры и английские дымоуловители, так что…
— Бурцев бюрократ! — крикнул кто-то из толпы.
И весь сквер подхватил мощно:
— Бур-цев бю-ро-крат! Бур-цев бю-ро-крат!
Министерский бюрократ Бурцев вытянул шею, как петух, готовящийся прокукарекать, и выкрикнул:
— Товарищи, послушайте — завод будет выпускать пластмассу для пуговиц! Страна остро нуждается в пуго…
Но мы не дали ему договорить.
— До-лой хим-за-вод! — дружно рявкнул сквер, и министерский чиновник убрался с лавки.
И мы победили. Говорят, стройку прикрыли.
А через некоторое время мы снова собрались в сквере. Поводом было решение агропрома построить рядом с городом свинокомплекс.
— Свинокомплекс к чертям! Свинокомплекс к чертям! — грозно чеканила тысячеустая толпа под управлением Паши Клюшкина.
Но в ладоши над головой мы на этот раз не били, а только поднимали в такт один кулак. И Паша дирижировал одной рукой. Дело в том, что из-за отсутствия в стране пуговиц каждый манифестант другой рукой поддерживал брюки.
Шумим, братцы, шумим[1]
Город Козлобородск бурлил, как борщ, забытый на раскаленной конфорке. Бесконечный митинг пузырился на Думитрашкинской площади.
— Все, баста! Есть предел терпению народному! — надсаживался студент-двоечник Петя Плюхин, балансируя на цоколе памятника зарубежному коммунисту Думитрашку. Одной рукой Петя держался за бронзовое колено памятника, другой — молотил воздух, выкрикивая в толпу огневые, духоподъемные слова:
— Каждый козлобородец, в котором еще бьется сердце патриота города, не допустит продажи Черри!
— Ни-в-жисть! Ни-в-жисть! Ни-в-жисть! — дружно скандировала в ответ распаленная толпа.
Но пора сообщить, из-за чего разгулялись страсти.
Месяц назад два матроса в штатском пожаловали в местный зоопарк и предложили директору тов. Н. Н. Тюфтелину купить у них за четвертной тигродога — собакоподобное млекопитающее с тигровой генетической поведенческой программой. По словам матросов, они отловили редкое животное в бразильской сельве и с риском для жизни доставили в родной город, не богатый раритетами. Пока матросы рассказывали, зверь пребывал в завязанном бечевкой брезентовом мешке. Мешок жутко рычал и подскакивал на паркете директорского кабинета. Сделка состоялась — директор выплатил двадцать пять рублей наличными. С превеликими предосторожностями экзотический экспонат был выпущен в вольер. Зверя легко было принять за вульгарного белого двор-терьера, если бы не сатанинская злоба, пышущая из его пасти, ноздрей и выпученных глаз, да невиданные у простых псов коричневые полосы, обручами опоясывавшие белое гладкошерстное туловище.
Для начала заокеанский хищник отхватил палец у кормача, чем наглядно подтвердил свою репутацию грозы бразильской сельвы. По ночам Черри выл так, что слоны дрожали крупной дрожью, а волки, поджав хвосты, забивались в угол клетки.
Посещаемость зоопарка поднялась, однако всего ничего — хвост у билетной кассы был немногим длиннее хвоста Черри — именно так окрестила администрация зоопарка свое ценное приобретение.
И вдруг из газеты "Столичные новости", невесть как залетевшей в Козлобородск, горожане узнали, что западный немец Эдмонд фон Кильштейн, хозяин дюссельдорфского зоопарка имени Гагенбека, изъявил желание приобрести за 50 тысяч дойче марок козлобородского тигродога, на что Н. Н. Тюфтелин дал полное свое согласие, и сделка на мази.
Тут-то все и началось. Козлобородск заколобродил. Местная газета "Козлобородское знамя" дала гневную отповедь беспринципным коммерсантам из ФРГ, наивно полагающим, что за свой грязный чистоган они могут купить гордость древнего града. Досталось и московским внешнеторговым организациям, открывшим зеленую улицу закордонным гешефтмахерам.
Из толщи городских патриотов быстро вылупился "Народный Союз борьбы за тигродога". Возглавил его упомянутой Петя Плюхин. Честно говоря, на тигродога студенту-двоечнику было наплевать с самой высокой реставрированной колокольни города. Но, осознав, что за одну ночь перед экзаменом прогрызть учебник сопромата — дело дохлое, Петя решил прикрыть академическую свою несостоятельность бурной общественной деятельностью. И с начертанным на куске ватмана лозунгом "Руки прочь от тигродога!" полез на цоколь памятника Думитрашку.
Пенсионеры, вышедшие подышать, потянулись к памятнику — послушать. Примкнули мамы с колясками. Загустили толпу лица неопределенных профессий с ненормированным рабочим днем, а также бомжи. И, наконец, к манифестантам примкнули очереданты. На Думитрашкинскую площадь смотрели два магазина — продовольственный и винный. Первой переломилась очередь за сахаром. Хвост отделился от головы и побежал к памятнику, предварительно намарав на ладонях шариковыми ручками номера. Водочная очередь в первый день не дрогнула, считая, что все на свете, окромя бутылки, — демагогия. Однако же на второй день митингов часть водочников тоже влилась в митингующий котел. Неверно, что джинны вылетают из бутылки — порою они вырываются на свободу как раз из-за отсутствия бутылки.
Люди с радостным изумлением обнаруживали в себе клокочущие гейзеры общественного темперамента. Слова, когда-то застывшие на морозе безгласности, теперь громко полились, словно из оттаявшего почтового рожка Мюнхгаузена.
Самовозгоранию толпы немало споспешествовала многодетная мать-одиночка Алевтина Шпулькина. Бледнолицая женщина оседлала колено зарубежного марксиста и возбужденно витийствовала из-под его простертой руки. Петя на время ее речей почтительно замолкал.
Последний муж Алевтины, распутный и безответственный стрекозел, бежал в Москву с певичкой из заезжей рок-группы "Парфяне". Серебряные брючки, обтягивавшие певичкины ягодички, околдовали сердце скромного инженера козлобородского горгаза, и он с головой ринулся в омут красивой любви.
Всю боль уязвленной женской души вложила Алевтина Шпулькина в свои пламенные речи на Думитрашкинской площади. (Между прочим, все предшествующие годы Шпулькина звалась Аллой, но в эти великие, судьбоносные дни не могла не вернуться к исконному своему прозванию — Алевтина.)
— Долой централизованный диктат Москвы, попирающей нашу городскую гордость! — разорялась Алла-Алевтина. — Не отдадим меньшого нашего брата Черри! Не видать фээргэшникам нашего мужественного, любимого, красивого, темпераментного, нежного, неутомимого тигродога. Святынями не торгуем!
Лишь тонкий психоаналитик фрейдистского толка, посвященный к тому же в семейную драму Алевтины, смекнул бы, какие тайные страсти питают ее неприязнь к Москве и какие подавленные влечения кроются за ее восхищением отменными самцовскими статями Черри. Но психоаналитика в толпе не было, и народ принимал Алевтинины филиппики за святой гражданский гнев.
На третий день с утра площадь снова заполнили толпы членов неформального "Народного Союза борьбы за тигродога". Трамваи и троллейбусы увязли в плотных слоях манифестантов. Лояльные трезвомыслящие трудящиеся не смогли попасть вовремя к рабочим местам. В городе работали только кооператоры-лоточники. Они шныряли в толпе, предлагая митингующим подкрепиться бубликами по шестьдесят копеек за штуку (шесть коп. — за тесто, пятьдесят четыре — за дырку).
На цоколь памятника вскарабкался тучник с рачьими глазами и гуцульскими усами. Его подсаживали под зад два бородатых телохранителя в синих майках с изображением желтого барабана на груди.
Скрещенные под барабаном палочки подозрительно смахивали на берцовые кости.
— Соотчичи! — хрипло возопил тучник. — Никакой этот немец не Эдмонд фон Кильштейн! И не немец он вовсе, а Моня Финкельштейн. Масоны хотят выкупить тигродога и выпускать по ночам на улицу, чтоб он кусал православных. Операция запланирована три тысячи лет назад царем Соломоном и является частью международного заговора.
Бородатые синемаечники похлопали в ладоши и помогли своему фюреру спуститься на землю.
Подражая телодвижениями ящерице, Алевтина Шпулькина проворно поползла вверх по мрамору и бронзе к своему привычному месту — на думитрашкину коленку. Пока она взбиралась, из водочной очереди прибежал гонец.
— Пахомыч! — закричал он в толпу. — Твой номер подходит!
Но Пахомыч уже захмелел иной, возвышенною брагой.
— Хрен с ей! — отмахнулся Пахомыч и, воздев кулак над головой, забасил истово: — Руки прочь от родимого тигродога!
Рядом с Пахомычем стоял некто Ф. X. Кислицер — худосочный, с желтоватым лицом человечек. Утром он отправился из дома в ОВИР подавать документы на отъезд в город Ерушалаим. Брел Кислицер, согнувшись, как запятая, жестоко страдая от язвенной грызи в правом подреберье, а также от мировой скорби, лекарства от которой нет еще ни на каких широтах и долготах. Шум на площади привлек Ф. X. Кислицера, и он свернул со скорбного своего пути. Теперь, находясь близ могучего красноносого Пахомыча, Ф. X. Кислицер дребезжащим дискантом тоже стал скандировать: "Ру-ки-прочь-от-ти-гро-дога!", словно оттеняя малым подголоском грозное гудение вечевого колокола. Но самое поразительное, что у Кислицера прошло нытье в животе. Абсолютно! Отпустило, как не бывало! Упругая волна народного энтузиазма подхватила его, подняла к вершинам духа и… исцелила! "Все! Остаюсь! — сказал он себе. — Только пошляк может бросить родину в ее минуты роковые. К черту Ерушалаим!"
Наконец встреченная овацией Алевтина — она уже стала душой народного протеста — умостилась на бронзовом колене и пошла-поехала: — Сограждане! Это что ж такое деется?! Мало того, что столица жрет половниками наш сахар, а мы тут с талона на талон перебиваемся, так они еще восхотели лишить наш старинный град его исконного тигродога! Ну, нет, номер не пройдет!
Последний раз на Руси только Марфа Посадница с такой яростью обличала гегемонизм белокаменной. От упоминания сахара толпа сдетонировала, взорвалась ревом и возжаждала безотлагательно линчевать директора зоопарка черрипродавца Н. Н. Тюфтелина. Батальон внутренних войск изготовился к остужению горячих голов ручным способом.
Неизвестно, уцелел бы директор зоосада Н. Н. Тюфтелин, если бы обстановка внезапно не разрядилась. Но не штатные райкомовские идеологи и не златоусты из общества "Знание" потушили страсти. Сделала это бабушка Лукерья. Она тоже решила полюбоваться чудо-зверем и отправилась в зоопарк. Изумление бабушки Лукерьи при виде тигродога было равносильно радости тигродога, увидевшего свою хозяйку.
— Господи, — охнула Лукерья. — Шарик ты мой бедный! Да кто ж тебе бока-то раскрасил и в клетку засунул?!
Тигродог жалобно заскулил, завилял хвостом и бросился на железную сетку, норовя просунуть язык сквозь ячею, чтобы оказать хозяйке искреннюю свою нежность.
Примчавшимся в зоосад милицейским следователям бабушка Лукерья сообщила следующее:
— Два шаромыжника у меня свели Шарика. Нёделю отирались у забора, все к теплице моей гладиолусной приглядывались, разграбить, видать, целились. Гладиолусы-то нынче в цене. А Шарик им мешал. Он к чужим злой, как аспид. Уж как они его стреножили и охомутали, ума не приложу, сонную отраву небось подбросили. А теплицу обворовать им все равно не удалось — я заместо Шарика ночами караулила.
Были сняты показания и с Н. Н. Тюфтелина.
— С чего вы взяли, что продавцы тигродога были матросами в штатском?
— Потому что они были в штатском.
— Но почему вы решили, что они матросы?
— А по походке. Они качались.
Давая показания, Тюфтелин был совершенно спокоен. Типичный непотопляемый номенклатурный резервист (брошенный на зверей с банно-прачечного треста, а до того — директор филармонии), он твердо знал, что в самом худшем случае его пересадят на компьютерный центр. Ну и что? Выдюжим! Слово "компьютер" он уже выговаривал почти без запинки, а это для руководителя главное.
Сенсационное разоблачение тигродога Черри было трижды оглашено на всю площадь Думитрашку через репродуктор машины ГАИ. Толпа недовольно забурчала, но все же стала расползаться по переулкам и улицам. Ожили, задвигались освобожденные трамваи и троллейбусы.
Согнувшись запятой, кривя от боли землисто-желтое лицо, поплелся в ОВИР Ф.Х.Кислицер — сдавать документы на выезд в Ерушалаим.
— Что значит не стоял, мать вашу?! — грохотал Пахомыч, пропихиваясь к прилавку винного. — Я за правду стоял! На митинге за этого сукиного сына глотку драл и очередь свою вам, падлам, дарить не собираюсь!
— Лукерью масоны купили с потрохами. Ясно как день, — раздраженно бубнил доморощенный фюрер, шагая промеж двух своих синемаечников. — И тигродога Шариком подменили тоже они. Для усыпления бдительности патриотов.
Студент Петя Илюхин помог Алевтине Шпулькиной спуститься с бронзы на асфальт. Жизни их разом померкли. Перед Петей замаячил, как призрак гильотины, экзамен по сопромату. Алевтину ждала дома четверка сопливых, занехаянных детей, кухонная плита, корыто, а в цехе — стрекот сотни швейных машинок. Да, одно дело взмывать утром с постели, как на крыльях, зная, что идешь на битву за Великие Принципы, и совсем другое — натягивать штопаные колготки, когда впереди — обрыдлые будни…
Петя провожал Алевтину до дома. Борьба за правое дело сблизила их.
— Ты где живешь-то? — спросил он.
— Да вот в этом самом переулке, по которому идем.
— Как он называется?
— Кухлянский, — устало ответила женщина.
— Это в честь чего же такое странное название?
— А я почем знаю… Может, тут эскимосы бегали в кухлянках. Шубы у них такие меховые.
— Чушь! Откуда в Козлобородске взяться эскимосам? Кухля, Кюх-ля… Кюхля! Вот оно что! Так Пушкин называл Кюхельбекера! Значит, в этом переулке останавливался Кюхельбекер! Ежу понятно. Ой, смотри, Алевтина, — дом ломают! Не тот ли самый, а?
Меж невзрачных домов громоздились раздолбанные шар-бабой останки оштукатуренного бревенчатого строения. Над руинами торчала решетчатая шея стенобитного орудия на гусеничном ходу. Шар-баба на вялом тросе отдыхала до утра на земле.
Нога Вильгельма Кюхельбекера никогда не ступала на ухабистые мостовые Козлобородска. Но если ужасно хочется митинговать и бороться, такие мелочи роли не играют. Из Пети уже забили фонтаном завтрашние лозунги.
— Кощунство! — взревел Петя тоном, более подходящим для "Караул! Грабят!". — Корни культуры своей выкорчевываем! Все, как один, на защиту дома Кюхельбекера!
Алевтина прижалась к соратнику. Он обнял сподвижницу за плечо. Их сердца бились в унисон.
— Пойдем ко мне, — прошептала Алевтина, — и будем до утра…
— Писать манифест "К гражданам Козлобородска!" — согласился Петя.
И, взявшись за руки, они пошли навстречу лучезарному завтра. Шумим, братцы, шумим…
Там, куда мышь не проскочит
В проходную военного завода вошла с улицы старушка с узелком.
— Пропуск! — потребовал вахтер.
— Нет у меня пропуска, голубчик. Я внуку своему Андрюше принесла обед.
— Да вы что, бабуля! У нас совершенно секретное предприятие. Вам, чтоб пройти, надо пять анкет заполнить, указать, чем занимались ваши предки до битвы на Куликовом поле. Сюда мышь не проскочит без проверки всех ее подпольных родственников до седьмого колена.
— Андрюшенька-то мой — сирота. Без родителей рос, я его вынянчила, на ноги поставила. А вот теперь язвой желудка заболел. Больничный у него, а тут сам директор утром позвонил и вызвал: "Нужен ты, говорит, сегодня на заводе позарез". Ну он и побежал, бедняга, даже не поевши. А я ему супчик овсяный сварила да котлетки паровые сделала. Все тепленькое. Может, кто-нибудь отнесет в конструкторское бюро инженеру Никишеву Андрею Петровичу.
— Чудная вы, бабушка! Вам про Фому, вы про Ерему. У нас оборонное предприятие высшей категории секретности, поймите! Ваши кастрюльки надо просветить рентгеном, котлеты заново через мясорубку провернуть, суп лазерным лучом прозондировать. Может быть, у вас там какие-нибудь микрорадиопередатчики запрятаны.
— В супе-то?! Ты что, милый…
— Наш принцип, бабушка, простой: доверяй, но проверяй. У нас воробей над объектом без визы ПВО не пролетит, ясно?
— Ну, ладно, тогда вызови Андрюшеньку моего на проходную. Пусть он хоть здесь поест, пока все теплое. Я и ложечку принесла. А то ведь у вас в столовой диеты нет, он мне жаловался.
— Ой, бабушка, ну и надоели вы мне, честно говоря. Обождите.
Вахтер позвонил заместителю директора по режиму и изложил суть бабушкиной просьбы.
— Передайте ей трубку, — распорядился начальник. — Здравствуйте, бабушка! Не волнуйтесь, Андрей Петрович поел картофельного пюре в столовой, запил молоком и чувствует себя вполне прилично. Но выйти к вам он сейчас не может, потому что знакомит с работой предприятия группу экспертов из Пентагона.
Баклуши на экспорт
В связи с известной неоднозначной ситуацией, сложившейся на уборке урожая, мы решили взять интервью у Главного начальника Департамента Уборочных Работ. ГлавначДУР принял нас в своем кабинете и откровенно, в духе гласности, рассказал следующее:
— Человек я в этом кресле сравнительно новый. До этого возглавлял битье баклуш, то есть производство деревянных расписных ложек — для экспорта в США и Канаду. Поэтому, не скрою, я еще не вполне овладел уборочной ситуацией.
Весной этого года я ужасно удивился, когда мне доложили, что начался… этот, ну, как его… из трех букв… да, спасибо, — сев. Подумайте, какая редкая бесхозяйственность — вместо того чтобы отправить зерно прямо в пекарни для испечения булок, его разбрасывают по полям!
Только я успокоился, вдруг, к лету ближе, из земли повсеместно повылазила, представляете, какая-то непонятная высокая золотистая трава с метелками на концах. Референт докладывает: "Урожай созрел". Откуда, спрашиваю, какими ветрами? "Так ведь сеяли", — отвечает. Но послушайте, я вот сам, лично, этими руками посеял в прошлом году серебряный рубль на пляже в Сочи. И что же? В этом году специально ездил, искал на том же месте, и, представьте, даже медной полушки не взошло. А тут почему-то, как снег на голову этот самый, как его… да, урожай. И начинают со всех сторон меня теребить: "Где горючее, почему не запасли бензин, где бензин?" Но, товарищи дорогие, я же вам не экстрасенс какой-нибудь ясновидящий, чтобы все заранее предвидеть. Тем более что и шофер моей персональной машины ни словом не обмолвился о трудностях с горючим. Машину подает вовремя — мне, жене и теще.
Но я не вижу поводов для уныния. Дело поправимое — купим опять хлеб, как говорят в народе, за бугром, на доллары, заработанные благодаря экспорту баклуш, ну, помните, которые я бил на прошлой работе. Кстати, я сам и съезжу в США и Канаду — заключу договор.
И в заключение — маленький секрет: я твердо решил будущей весной вообще отказаться от сева. А зачем он нужен? Давайте поразмыслим по-новому, сбросив шоры стереотипов старого мышления. Прежде всего мы сэкономим на этом прорву горючего. Весь бензин продадим полякам за конвертируемый злотый или — в Африку в обмен на бананы. Отличная будет бартерная сделка! Затем бананы экспортируем в Монголию и на живые тугрики закупим у американцев удвоенное количество зерна. Здорово? Не зря я на прошлой работе баклуши бил!
Иные времена, иные песни
Времена меняются, а вместе с ними меняются и люди, — тонко подметили древние. Хорошо, если люди меняются в лучшую сторону — добреют, мудреют. А то ведь некоторые только надевают маски нового; модного сегодня фасона и цвета, а в душе по-прежнему остаются приспособленцами и лицемерами. Другие же с течением времени раскрывают свои ранее потаенные и отнюдь не самые светлые грани души. Поэтому очень интересно сопоставить, что они говорили прежде, с тем, что они же глаголят сегодня.
Метаморфозы Терпсихоры
Фуэте для Родины
(Тогда)
Всем лучшим, что мне удалось создать на балетной сцене, я обязана моему дорогому учителю, выдающемуся хореографу современности Г. И. Фигуровичу. Он помог мне раскрыть поэтический образ Жизели и передать в танце жгучий темперамент Кармен. Любимый педагог твердил мне: "Душой, Наташа, танцуй, душой, и ноги сами найдут правильную позицию". И когда в "Лебедином" я делаю тридцать два фуэте, я меньше всего думаю о технике, я творю души исполненный полет, я лечу, как пух от уст Эола, и сам собою складывается образ юной феи, впервые познавшей таинственный зов пробуждающейся весны… О божественные чары искусства, о романтика хореографии, о поэзия танца и волшебство музыки! О, Гелиотроп Иванович Фигурович! Вы, только вы приобщили меня, раскрыли меня, ввели меня, выпестовали, вылепили! О, Родина-мать, твои истоки и корни напитали меня, навсегда, неразрывно и неразъемно! О, если б навеки! И т. д.
Цена вдохновения
(Сегодня)
Фигурович убил во мне балерину, и я вынуждена была бежать от его мертвящей опеки в Поццо-дель-Мадейра. Здесь наконец я смогла реализоваться как балерина и раскрыть свой творческий потенциал, поскольку за партию Жизели я получаю пять тысяч крузейро в вечер, за Одиллию — шесть, за Одетту — восемь и за Кармен — одиннадцать тысяч крузейро (1 доллар равен 4,76 крузейро). Кроме того, учитывая, что я сильно потею, исполняя фуэте, фирма "Ла пуэнта", с которой у меня контракт на три года, оплачивает мне дезодорант для ног и отдельно для подмышек в размере соответственно трех и четырех тысяч франков в год (1 франк равен 2,13 динара). В России я для сохранения фигуры была вынуждена голодать. На Западе все поставлено умнее и практичнее. Ешь в три горла, но принимай слабительное, что я и делаю. Оно тоже (семь фунтов стерлингов за упаковку или 10,5 канадск. долл.) приобретается для меня за счет фирмы, как и туалетная бумага (пять рулонов в месяц по 1,30 финской марки за рулон).
Что касается моих планов возвращения в Россию, то таких планов в настоящее время нет, поскольку мои выступления расписаны до 1997 года, но в сердце я, конечно, остаюсь русской. Надеюсь, что к моему возвращению окончательно победит рыночная экономика и наконец-то из театра будет убран Фигурович, жалкий прихвостень партократии, могильщик русского балета.
Один день из жизни П. П. Мазилова
Незабываемый день
(Тогда)
Накануне выставки молодых художников ко мне домой приехал сам товарищ И.И.Веснухин из Идеологического отдела ЦК. Заботливо и вдумчиво он помог мне отобрать произведения для выставки. Особого одобрения Ивана Ивановича удостоилась картина "Уборка репы на колхозном поле". На небольшом по размеру полотне я постарался выразить всю свою любовь к малой родине, родным моему сердцу людям и полям Серпуховщины.
И вот настал день открытия вернисажа.
К моему стенду приближается сам Никандр Лаврентьевич Брущев. Среди сопровождавших его лиц я увидел тов. И. И. Веснухина, который доброжелательно мне улыбнулся.
— Репа— это хорошо, — сказал Никандр Лаврентьевич. — С детства люблю этот корнеплод. — И он обаятельно, с детской открытостью улыбнулся. Казалось, в зале стало светлее от отеческой улыбки руководителя партии и правительства.
— А почему картина невелика по размеру? — осведомился товарищ Брущев. — Полотна на такие темы надо рисовать масштабно, во всю стену.
Я объяснил, что работаю в маленькой комнате, где не развернешься.
Никандр Лаврентьевич тут же дал указание тов. И. И. Веснухину предоставить мне студию. Указание вождя было выполнено буквально на следующий день. Я даже во сне не мог мечтать, что, получу такой двухэтажный дворец, где три стены кирпичные, а через третью стену, сплошь стеклянную, льются потоки света.
Клянусь, что не пожалею сил и умения и на заботу о молодых художниках отвечу партии, правительству и лично дорогому и любимому Никандру Лаврентьевичу новыми шедеврами, прославляющими трудовые подвиги народа.
Черный день
(Сегодня)
Накануне выставки молодых ко мне домой заявился Веснухин, известный идеологический цербер времен застоя. Перед его приходом я едва успел снять с подрамника и спрятать в чулане полотно — "Ночь в ГУЛАГе", над которым я тайно работал уже много лет.
— Что будете выставлять? — рявкнул Веснухин и пригрозил — Учтите, что разные модернистские фигли-мигли не пройдут.
И тут меня осенило: я показал ему написанную мною по заказу соседнего овощного магазина халтуру "Уборка репы". Профан-аппаратчик пришел в неописуемый восторг: "Это то, что надо!" Я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться ему в лицо.
И вот настал день открытия вернисажа.
Презрительно скривив рот, ко мне подошел Брущев. Его сопровождала толпа подобострастных аппаратчиков. Веснухин свирепо посматривал на меня из-за спины самого.
При виде моей картины Брущев хищно ощерился. Мне стало страшно. Я боялся, что он откусит мне нос.
— Это что они выкапывают? — сурово спросил он. Я ответил, что репу.
— Почему такая маленькая? — прорычал он.
Я не понял, что он имел в виду — картину или репу, и на всякий случай ответил, что пишу картины в маленькой комнате, где большие полотна не помещаются.
— Дать ему! — скомандовал он одному из сопровождавших его холуев.
Я решил, что мне дадут лет десять Колымы. Но действительность оказалась еще страшнее. Мне дали так называемую "студию" — каменный мешок с одной стеклянной стеной, через которую круглый год нещадно палит солнце. А ведь Брущев не мог не знать из досье КГБ, что я гипертоник, страдаю ишемической болезнью и астмой и жара для меня—.смерть. Я убежден, что мне дали этот двухэтажный аквариум умышленно, чтобы уничтожить в моем лице частицу культурного генофонда страны.
Только чудом я выжил и теперь с ужасом вспоминаю мрачные времена застоя.
К черту лак, даешь чернуху!
Васильковое небо
(Тогда)
Несколько лет назад один писатель принес одну повесть в один журнал.
— Ну-с, снимем пробу, как говорится, — сказал редактор, благодушно улыбаясь.
Он наугад раскрыл рукопись и забормотал, читая страницу 148-ю.
"Мягкие хлопья снега тихо падали с серого неба… Агриппина Митрофановна готовила ужин… Хлопнула дверь, ворвались сыновья — пэтэушник Сережка привел из детского сада братишку Витюшку.
— Мать! Лопать давай! — крикнул Сережка и замасленной пятерней с чернотой под ногтями цапнул горбушку со стола.
— Помой руки сначала! И траур из-под ногтей вычисти, — крикнула мать.
— А где папа? — поинтересовался маленький Витюшка.
— Папа пошел в магазин переводные картинки тебе покупать — за хорошее поведение.
— Ура! — закричал Витюшка".
Редактор кончил бормотать и сказал:
— Увы, не пойдет. Не то, голубь мой, типичное не то.
— Да вы же не… — запузырился было автор.
— Понимаю: прочитал только полстраницы, вы хотите сказать. Но еще древние говорили: "Чтобы промочить ноги, необязательно входить в реку по пояс". Один этот эпизод свидетельствует со всей полнотой, что вы очернитель. Да-да, и не смотрите на меня глазами бешеного волка. Серое небо! Да разве это типично для наших мест? Вы что, зяблик мой, в депрессию, что ли, хотите вогнать нашего читателя? Не позволим! Небо надо дать синим, васильковым, с розовыми перьями редких облаков, подсвеченных заходящим за кремовые громады новостроек румяным и ласковым солнцем. Я не навязываю, конечно, а просто задаю вам нужную, мажорную тональность. А грязные руки с траурными ногтями? Да как у вас перо только повернулось?! Пишете о молодой смене нашего рабочего класса, словно это жертва потогонной системы где-нибудь у "Даймлер-Бенца"! Да он еще и "лопать" просит! Будто в училище они* не получают калорийную пищу. И выраженьице какое-то люмпеновское подцепили — "лопать"! Не дадим засорять наш язык вульгаризмами, не дадим. Сын должен обнять мать сильными, чистыми руками и сразу же предложить ей свою помощь. К примеру: "Хочешь, родная, к сейчас побелю потолки или отциклюю пол в гостиной?" И, наконец, отец. За переводными картинками он, видите ли, пошел. Курам на смех! Где размах, где ширь души, где благосостояние, наконец) Отец должен купить младшенькому электрическую железную дорогу, гоночный велосипед и полное собрание сочинений братьев Гримм: Как минимум. Можно Сергея Михалкова вместо братьев Гримм, я не сковываю вашу творческую фантазию. Но тональность вам понятна? Вот идите и работайте.
— Вы это все серьезно?.. — прошептал автор.
— Абсолютно! Наш журнал очернением действительности заниматься не намерен.
Гнев и слезы сверкнули в глазах автора. Он завязал тесемки папки, сунул рукопись под мышку и ушел, согбенный.
Черные тучи
(Сегодня)
Прошло несколько лет. Тот же автор принес тот же журнал ту же рукопись. Не изменив запятой. В кресле сидел тот же редактор.
— Здрасьте, — сказал несколько полысевший автор. — Вот принес вам опять ту самую повестушку. Надеюсь, теперь-то вы мне ярлык "очернителя" не привесите. Припоминаете?..
— Вас помню, а повесть, извините, запамятовал, — ответил несколько поседевший редактор. — Сами понимаете, какой бумажный конвейер через голову пропускаю. Позвольте попробовать на зуб, так сказать.
Редактор листанул рукопись и — надо же! — опять оказался на той же злополучной сто сорок восьмой.
— А-а… — протянул он, — теперь узнаю. Мягкие хлопья снега, серое небо, "дай лопать, мать!", детсадовец Витюшенька, папа, переводные картинки. Слушайте, а вам самому-то не стыдно? Это же детский лепет, манная каша какая-то со сливовым джемом. Все от первого до последнего слова — беспардонная, сусальная лакировка действительности!
— Лакировка?! — ахнул автор. — А как надо?
— Ну, я не писатель, я всего лишь редактор. Но приблизительную тональность и колорит могу задать. Так сказать, щелкнуть по камертону. Пейзаж за окном — мрачные черные тучи тяжело нависли над городом, словно желая вдавить его в осеннюю жижу. Злобно каркают мокрые вороны. Входит сын Сергей — мутные глаза, зеленоватые прыщавые щеки, одет в отрепья. "Опять под балдой? — спрашивает Агриппина. — Кололся или нанюхался?" "Не твое дело, карга!" Грязно выругавшись, сын падает на продавленную тахту. Бледная рука, вся словно засиженная мухами — в точках от уколов, свесилась до грязного, давно не метенного пола. "Витюшка где?" — спрашивает мать. "Не гнусавь! В полной сохранности твой пащенок". Сергей нашаривает под тахтой флакон из-под лосьона. "Опять без меня все высосала?" Запускает флакон в голову матери. Попадает в висок. В это время входит участковый Сушкин — можно Ложкин, Чашкин, я вашу творческую фантазию не насилую, — и ведет за руку зареванного Витюшку. Сушкин сообщает, что ребенок был засунут старшим братом в клетушку автоматической камеры хранения на вокзале. Пришлось резать дверцу автогеном. Милиционер приказывает Сергею следовать за ним. Агриппина голосит: "Прости его, батюшка! Я — мать, зла не держу на кровиночку свою. Первенький он ведь у меня, Сереженька, дитятко мое!" Ну, и в таком ключе дальше, — завершил довольный собою редактор.
— А папа? Ну который несет Витюшеньке переводные картинки? — заикаясь, спросил потрясенный автор.
— Папашки уже нет. Этот алкоголик-деградант убил топором сторожа винно-водочного склада и получил вышку. Вам понятно?
— Нет! — выпрямился автор. — Мне категорически непонятно, почему я должен писать о редкостных подонках, патологических личностях и деградантах? Пусть ими занимаются милиция и наркологи. Я не намерен марать читательские души и умы этой гнусью. Беллетристика, к вашему сведению, — это бель летр, изящная словесность. Она призвана облагораживать, возвышать человека…
— Не кипятитесь, жаворонок вы мой. Поймите и нас — мы не желаем, чтобы наш журнал прослыл консервативным, старомодным и трусливым изданием. Мы тоже хотим прорваться в ранее не исследованные пласты жизни.
— Чирей тоже хочет прорваться, — грубо съязвил автор, отступив от дорогих его сердцу принципов бель летр.
И схватив папку в охапку, писатель вышел. Гнев и слезы сверкали в глазах его
Я тоже так могу (Пародия на М. Жванецкого)
Жванецкий, Жванецкий… Я тоже так могу, как Жванецкий. По измятым листочкам из портфельчика, одесской скороговорочкой, с московскими намеками.
Раньше он жил в Одессе. Но невыездной. Но вот с таким гребешком, которым он расчесывал буйную шевелюру. Свою. Но невыездной. А теперь он живет в Москве; Но лысый. Но выездной. А гребешком он теперь расчесывает пыжиковую ушанку, купленную в Москве. Но на доллары. Которые ему подарил в Нью-Йорке Фима, наш бывший соотечественник из Одессы. Теперь Фима работает на Уолл-стрите. Но в парикмахерской. Но в Америке.
А Михал Михалыч нас спрашивает: нет, ну, почему вы думаете, что советская власть вас должна? Ну, почему вы думаете, что она вас обязана? Поить, кормить, обслуживать и развлекать? Вы ждете, а она не снабжает, вы злитесь, а она не завезла. Колбасу, масло, дрожжи не завезла. А когда нет дрожжей, начинается брожение… умов. Или завезла, но не то. Или то, но не туда. Вместо Калуги в Кабул. В Кабул вместо Калуги завезли — мясо, колбасу, масло. Перепутали. А в Калуге из крупного рогатого скота остались только автобусы "Икарус", чтобы трудящийся мог в любое время сесть и поехать в город-герой на экскурсию. Ну конечно, Москва — город-герой, если она ежедневно кормит тысячи любознательных из других городов, где из крупного рогатого скота размножаются почему-то только "Икарусы".
Значит, надо охотиться. А для охоты нужны собаки. А что? Французы едят лягушек и — ничего! Уловили мысль? Поймали… собаку? Если поймали, жарьте шашлык. Прямо на улице. Холодно? Натяните ушанку. Из меха, в котором еще недавно лаял ваш шашлык. Безотходное производство. Мечта академика Аганбегяна.
А клыки нанижите на ниточку и продайте в одну из развивающихся стран Африки. Не одной же нефтью нам торговать на внешних рынках. Сколько можно…
Так что приятного аппетита! Бон аппетит, как говорили у нас на Дерибасовской, когда я еще был маленьким и не всегда сухим. Не всегда Сухим выходил из воды… Черного моря.
Так что видите, я тоже могу, как Жванецкий, Но мне страшно. Поэтому я могу, но дома. Под одеялом. В подушку жены. Кода она уже с вечера уехала. За сосисками. За границу. В Литву. А он не боится прямо с эстрады. Потому что он выражает смелые, мысли от лица народа. Хотя лицо у народа немного другое. Не такое круглое лицо у народа, как у Михал Михалыча, но мысли те же. Особенно после того, как народ послушает Жванецкого.
Вот я его послушал, сел в танк и прокатился по Центральному рынку. И крикнул через дуло: "Бандиты! Снижайте цены на гранаты! И курагу!" И этим я выполнил свой интернациональный долг, не выезжая за пределы Центрального рынка.
По дороге к рынку
Началось с того, что я надумал нос утереть этому хваленому "Макдоналдсу". Скорее даже из патриотического порыва, а не профита ради. Подумаешь, думаю, супермен какой нашелся — заманивает публику какой-то булкой с котлетой. А я вот кулебякой потчевать честной люд буду — посмотрим, кто кого. Возьму вот и разорю этого "Макдоналдса", без штанов его по миру пущу.
Ну, дал мне райисполком один подвальчик. Вывел я там тараканов, клопов поморил, полы вымыл. Еще кулебякой и не пахнет, а уже рэкетиры являются.
— Гони, — говорят, — тридцать тысяч, кооперативная морда.
— Братцы, да откуда они у меня? — взмолился я. — Вот он, весь мой первоначальный капитал. — И показываю свои руки с закатанными выше локтя рукавами.
Разложили они меня на полу и давай электроутюгом по спине возить и ниже. Кошмар! Кричать "спасите!" — бесполезно, никто не откликнется. Поэтому я как заору: "Пожар!" И ведь в некотором роде это правда, потому что дым от прожженных трусиков клубами валил. Вскоре прибежали жильцы с ведрами и залили водой меня несчастного, торговца частного. А рэкетиры удалились с матюками и пообещали вскоре еще "разок навестить.
Ну, месяц отлежал я в больнице, на животе. После выписки отправился в райсовет на прием к мудрому нашему председателю — товарищу Голубчикову.
— Что же это, — говорю, — делается, Антуан Сидорыч? — спрашиваю. — Призываете к разгулу свободного предпринимательства, а пока что мы имеем разгул рэкетиров.
— Да вы садитесь, — предлагает он.
— Сидеть мне пока еще не на чем, — отвечаю. — У меня там еще новая кожа не вполне наросла. Поэтому объявляю стоячую забастовку — не буду печь кулебяку, пока вы мне не гарантируете защиту от рэкетиров.
— Не переживайте, голубчик, — утешает меня Антуан Сидорович. — Взгляните на дело философски. Рэкет — неизбежный спутник бизнеса в период первоначального имущественного расслоения общества на путях к рыночной экономике. Так что наберитесь терпения и мужества, и я уверен, что ваша кулебяка уложит "Макдоналдса" на обе лопатки, а вы будете разъезжать в собственном "мерседесе".
Ладно, подумал я, жизнь продолжается, еще не вечер. Поковылял к своему подвалу — монтировать духовку на кухне. Подхожу — вот те сюрприз! — занят мой подвал новыми хозяевами. На двери табличка — "Редакция журнала "Лимпопо"" и нарисованы два целующихся петушка.
— Это еще что за новости? — спрашиваю у знакомой старушки из этого двора.
— А тут, значит, обосновались, — отвечает, — какие-то педиатры, что ли.
— Я, — говорю, — к педиатрам, детским врачам то есть, отношусь с симпатией, но самовольно занимать мою производственную территорию никому не позволю.
Вхожу и вижу — сидят вокруг стола какие-то странные мужики — волосы до плеч, пахнет духами. Один отбросил так кокетливо локон со лба и говорит лирическим тенорком:
— Предлагаю для рубрики "Шевели мозговой извилиной" загадку: "На какую часть человеческого тела нет вида спереди, а может быть только вид сзади?" Все зааплодировали и принялись взасос целовать автора загадки, как футболисты лобызают автора гола.
— Эй, — говорю, — что тут происходит?
— Здесь происходит заседание редколлегии журнала "Лимпопо" — первого в стране органа сексуальных меньшинств.
Перепутала, значит, бабка насчет педиатров. Звучит похоже, да не одно и то же.
— Ну так вот что, — повышаю я голос, — от имени сексуального большинства я требую, чтобы вы отсюда убрались. Подвал мой — он мне дан для выпечки кулебяки методом свободного предпринимательства.
Тогда встает один усач, жгучий брюнет, и говорит:
— Я как почетный член редколлегии торжественно заявляю, что помещение передано нам.
— А я заявляю — вон отсюда!
— Ах, так, — сказал тогда с чарующей улыбкой почетный член. — Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей.
И тут они на меня все набросились и такое стали со мной делать, что я заорал хуже, чем под утюгом рэкетиров… Едва доковылял я после этого до райсовета и, отодвинув рукой секретаршу, вошел в кабинет к Голубчикову.
Антуан Сидорович выслушал меня и, как человек тактичный, уже не предлагал сесть.
— Отнеситесь к случившемуся философски и стоически, — сказал он раздумчиво. — Очевидно, произошло маленькое недоразумение — пока вы лежали в больнице, мой зам отдал им ваш подвал как пустующий. Не волнуйтесь, мы все переиграем и для "Лимпопо" подберем другое помещение.
— Да вообще, что за стыдобища такая — орган сексуального меньшинства! До чего мы докатились!
— Ну, это вы напрасно, — поблескивая умными глазками-бусинками, отвечает Антуан Сидорович. — Взгляните на вещи шире, с философской точки зрения. В период перехода к рынку нам важно показать населению, что все табу сняты. Вы вспомните — наших людей семьдесят лет держали в ежовых рукавицах всяческих запретов. Поэтому сегодня необходимо создать атмосферу раскованности, раскрепощенности, без которой невозможно свободное предпринимательство. Когда люди увидят, что даже "Лимпопо" не возбраняется, они начнут смело открывать частные фабрики и магазины, и мы быстро перегоним Швецию по уровню жизни.
Действительно, подвал мне вскоре вернули, и я снова стал готовиться к посрамлению "Макдоналдса".
И вот, когда моя жена и дочь уже месили тесто для кулебяки, вдруг загрохотали кованые каблуки на лестнице, и в подвал ввалились ребята в пыльных буденновских шлемах, кожаных куртках и с наганами в руках.
— А ну, слазьте, которые тут частники, кончилось ваше время! Давай мотай отсюда, кровосос-эксплуататор! — Это они мне, значит, командуют.
— Да кто вы такие?! — взвизгнул я.
— Мы члены партии диктатуры пролетариата, — отвечает один в красных галифе.
Этим-то, думаю, зачем мой подвал потребовался?
— Наша партия победила на вчерашних альтернативных выборах в райсовет, — объявляет галифе. — Голубчиков свергнут, как агент мировой буржуазии. К власти пришел сын народа Гвоздарев Кузьма Митрофанович. Обжорку твою экспроприируем, плиту национализируем, тестомешалку разрушим до основания, а затем откроем здесь красный уголок. Ясно, контра? Пока мы тебя к стенке не поставили, эмигрируй в другой район. Понял, буржуй недорезанный?
Подхватились мы с женой и дочкой и, как были, обсыпанные мукой, дали деру.
И вот я вам так скажу, граждане: мне не жаль упущенных прибылей, потому что я их и не понюхал, а следовательно, и привыкнуть к ним не успел. Что мы живем в стране неограниченных возможностей, в том смысле, что здесь в любой миг возможен любой перелом курса, — это для нас тоже не новость. Обидно только, что я во имя светлого рыночного будущего вытерпел такую муку сначала от рэкетиров, а потом от членов редколлегии "Лимпопо". А вот будет ли оно, это будущее?
Полицейские свободы
— Вы свободны.
— Спасибо, сеньор.
— Вы свободны.
— Спасибо, сеньор.
— Вы совершенно свободны и можете идти куда угодно и говорить что угодно.
— Большое спасибо, сеньор.
— Почему же вы не говорите все что угодно?
— Я уже сказал.
— Что вы сказали? Когда? Я еще ничего не слышал.
— Я сказал: "Большое спасибо".
— Этого мало. Вы можете идти куда угодно, пританцовывая и подпрыгивая от радости, в связи с тем, что вы можете говорить все что угодно.
— Я пританцовываю.
— Низко пританцовываете. Вы имеете полное право высоко подпрыгивать на одной ножке. Вот так. Это уже лучше, это уже прыгучистее.
— Скажите, пожалуйста, сеньор, а я могу ненадолго перестать пританцовывать от радости и перейти на шаг? А то я немножко запыхался.
Минуточку. Я должен заглянуть в инструкцию. Так, примечание к статье шестой: "От радостного пританцовывания освобождаются лица, страдающие остаточными явлениями перенесенного в детстве полиомиелита".
— Спасибо, большое спасибо, сеньор. Хоть дух переведу…
— Не смейте переходить на шаг — вы еще не представили справку о наличии остаточного полиомиелита.
— Простите, сеньор, я не знаю, как к вам обращаться…
— Я инструктор по обучению населения пользованию безграничной свободой.
— Спасибо, большое спасибо. А скажите, гражданин инструктор по обучению пользованию, я могу…
— Не можете. Не отвлекайтесь. Подпрыгивайте от радости. Выше, выше, прыгучистее.
В прениях выступили
Наш начальник товарищ Хризантемов созвал нас на собрание и сказал:
— Товарищи! Вы знаете, что в эти дни весь мир отмечает 224-ю годовщину со дня рождения баснописца Крылова Ивана Андреевича. В связи с этим мы должны трудиться еще лучше. Какие будут мнения, товарищи?
Первым выступил плановик Малоподвижнер Б. У. Он, в частности, сказал:
— Товарищи! Великий баснописец, чью годовщину мы отмечаем, бессмертно выразился: "А воз и ныне там!". Я тоже, товарищи, часто произношу эти слова в связи с форточкой. Когда мы переезжали в эту стеклянно-бетонную коробку, вспомните, что нам говорили: "Горный воздух, принудительная вентиляция, эркондишн!" А на самом деле что? Лично я задыхаюсь. От кислородного голодания у меня сонливость. Который год прошу администрацию: "Прорубите форточку". Обещают, а воз и ныне там. К тому же еще белобоковская кошка добавляет амбре. Сколько раз мы просили конструктора Белобокову не носить кошку на работу. "А Васька слушает, да ест!"
Тут вскочила вдова Белобокова, вся в багровых пятнах по лицу, и сказала:
— Товарищи! В эти радостные дни, когда народы мира отмечают юбилей нашего любимого Ивана Андреевича, я не желаю слушать выдумки Малоподвижнера. Базиля я приношу не потому, что животное якобы скучает дома от одиночества, нет, товарищи, а чтобы хоть как-то одомашнить эти бездушные служебные интерьеры. Кошка способствует гу-ма-ни-за-ции учреждения. А что касается "слушает, да ест", то и здесь Малоподвижнер искажает, как всегда. Ест Базиль плохо, ненаучно, ему не хватает кальция. А кошкам кальций необходим. Об этом даже "Наука и жизнь" писала. Местком мог бы выделить хотя бы полтинник в день на кальций для Базиля по статье "Культмассовая работа".
Затем слово взял чертежник Чухов.
— Товарищи! Я вот слушаю, что тут нагородили, извините, навыступали Малоподвижнер и Белобокова, и просто диву даюсь! Какая-то кошка, форточка!.. В такие дни, когда весь мир отмечает юбилей великого баснописца, говорить о такой ерунде! Просто стыдно, по-моему. Работать надо лучше, как очень верно сказал товарищ Хризантемов, вот что сейчас главное! А что значит лучше работать? Это значит больше чертить и чище стирать. И тут опять во весь рост встает проблема ластика. У завканца есть только жесткие, как наждак, ими только дырки в ватмане протирать. А мягкие резинки приходится на черном рынке покупать, отрывая от семьи. Но это так, к слову. А вообще-то да здравствует Иван Андреевич Крылов! Я кончил.
Через месяц наш начальник товарищ Хризантемов снова окликнул нас на собрание.
— Товарищи) — сказал товарищ Хризантемов. — Весь мир радостно взволнован и рукоплещет нашим космонавтам, которые высадились на планете Юпитер. В связи с этим мы должны работать еще лучше. Кто хочет выступить?
Первым поднял руку плановик Малоподвижнер Б. У.
— Разрешите мне, Иван Иванович. Я вот о чем хотел. Ведь подумайте — люди отважились прорубить окно в космос. А мы тут не решаемся прорубить в нашей стекляшке одну паршивую форточку! Это же парадокс какой-то — они там на Юпитере в своих скафандрах дышат чистым воздухом полной грудью, а я тут клюю носом от кислородного голодания, простите за выражение, куняю над калькулятором.
Затем в прениях выступила вдова Белобокова.
— Товарищи) Просто стыдно в такой радостный день слушать брюзжание Малоподвижнера. Ему давно на пенсию пора, вот он и куняет над калькулятором. Но я хотела не об этом. Как радостно от сознания того, что наши ходят по Юпитеру! А вспомните, с чего начиналось? Первыми в космос полетели наши маленькие четвероногие друзья — собачки Белка и Стрелка. И недалек тот день, когда в космос к далеким планетам полетит кошка. Никто так не одомашнит космос, как кошка. Не вижу ничего смешного, товарищи, не понимаю, над чем вы хихикаете. И я с нетерпением жду того дня, когда на экране телевизора появится мой Базиль в состоянии невесомости. Я уверена, что уж там, в отряде космонавтов, он будет получать кальция столько, сколько надо по науке. А здесь, товарищи, наш местком до сих пор не может выделить для кальцинирования Базиля всего-то, смешно сказать, полтинник в день…
Слово берет чертежник Чухов.
— Товарищи) Как правильно здесь отметил товарищ Хризантемов, высадка на Юпитере — это огромный шаг вперед. Подумайте только, какой колоссальный труд чертежников стоит за всем этим) Сколько точных линий на ватмане проведено и сколько неточных стерто. А стирали-то, надо думать, не наждаком, вроде того, что наш завканц выдает, а мягонькой резиночкой. И не на черном рынке, надо полагать, из-под полы покупали! А мы… А у нас, товарищи? Нет, надо решать этот вопрос, товарищи! У меня все.
Прошел еще месяц, и товарищ Хризантемов опять собрал собрание. На этот раз по случаю жуткого извержения вулкана Какапулько в Гвалапупии.
— Товарищи! — сказал Хризантемов. — Все вы, конечно, читали про извержение Какапулько. Есть предложение, Товарищи, отработать одну субботу в фонд помощи гвалапупцам, виноват, гвалапупянам, пострадавшим от пепла и лавы.
Первым в прениях взял слово плановик Малоподвижнер Б. У.
— Товарищи! Я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что мы всей душой соболезнуем бездомным гвалапупянам. Конечно, мы отработаем субботу в фонд помощи — о чем разговор! Но суббота солидарности была бы в сто раз эффективнее, если бы руководство прорезало, наконец, человеческую форточку вместо этой фиктивной эркондиции.
— Товарищи! — сказала вдова Белобокова, и по лицу ее, и по шее, и по развилке грудей, что видна была в треугольном вырезе платья, пошли вишневые пятна. — В это тревожное время мы всей душой с жертвами вулкана Конопулька.
— Какапулько, — поправил Хризантемов.
— Я и говорю, Кунополько. Но, к моему величайшему огорчению, я в эту субботу прийти не смогу. Мы с Базилем на эту субботу записаны к ветеринару. От недостатка кальция у Базиля образовались проплешины на хвосте, в чем каждый из вас может лично убедиться. А я, между прочим, давно предупреждала местком — коту необходимо, кальцинированное питание. И вот результат, товарищи!
Затем выступил чертежник Чухов.
— Помочь гвалапупёнцам — наш долг, товарищи, тут и толковать нечего! Придем в субботу, как штыки. Я даже мягкий ластик куплю для такого случая. На черном рынке из-под полы. Потому что от наждака, который завканц выдает вместо мягкой резинки, только дырки в ватмане получаются. У меня все, товарищи.
И так всю жизнь — до пенсии…
Экспедиция инженера Крымова
Он удивился, когда выбрали его. Инженер Крымов был человек непьющий, тихий. На роль выбивали дефицитных деталей он категорически не годился, ну, по всем; что называется, параметрам. Со своей потертой седоватой внешностью он вряд ли смог бы очаровать даже самую непритязательную секретаршу нужного начальника.
Об этой своей непригодности к роли толкача он и сказал Перфильеву, начальнику отдела снабжения.
— Водку я не пью — здоровье не позволяет. И сувениры совать тоже не мастак — краснею, заикаюсь, ахинею несу, потом ночь не сплю — корячит от отвращения к самому себе.
— Вот именно! — воскликнул Перфильев. — Именно ваша совесть — самый драгоценный таран. Найдете там на комбинате таких же совестливых, порядочных людей, как вы, и объясните им, что из-за отсутствия копеечной резиновой муфточки размером с ноготь у нас заводской двор забит недоукомплектованными комбайнами, рабочие не получают прогрессивку, а главное — жатва на носу, сельскому хозяйству позарез необходима уборочная техника. Одним словом" честно обрисуете весь драматизм положения и выцарапаете эти чертовы муфты.
И Крымов полетел за полторы тысячи километров. В почти пустом объемистом чемодане лежал свернутый рюкзак — в случае успеха миссии эти багажные емкости предстояло набить вожделенными муфточками и срочно лично доставить на завод.
В гостинице Крымову повезло — достался уютный одноместный номер. Крымов с симпатией посмотрел на кровать, застеленную болотного цвета скользким блестящим покрывалом с выпукло вытканными лилиями. Он отвернул покрывало и увидел пару белоснежных, незамятых подушек, целинно свежий край пододеяльника, голубой угол подсунутого под подушку накрахмаленного полотенца. Крымов представил себе, как он сладко, блаженно выспится в этой благодати. Он почувствовал соблазн прямо сейчас соснуть часика два. Но он не имел права терять ни минуты — был четверг, час дня, выбить муфты было необходимо сегодня или, самое позднее, в пятницу, потому что в субботу, как известно, ни до какого начальства не доаукаешься.
В приемной у начальника отдела сбыта Жмакина, человека, от которого все зависело, пришлось подождать. Крымов сидел и рассматривал секретаршу Жмакина, молоденькую, весьма высокомерную особу. Спирально закрученные кудряшки — итог упорной ежеутренней работы перед зеркалом — падали ей на лоб, тяжелая, латунного отлива коса, переброшенная через плечо, сползала на грудь. Что-то старомодно-романтическое, из литературы прошлого века было во внешности этой девицы. При взгляде на нее из пыльных, школьных припасов памяти сами собой выплывали слова "тургеневская девушка" и "не давать поцелуя без любви".
Наконец, некто тусклый с картонной папкой вышел из кабинета, и секретарша буркнула:
— Можете войти.
Жмакин оказался веселым коротышкой, говоруном, живчиком. Слушая скорбный монолог Крымова, он, как ребенок, крутился во вращающемся кресле, хохотал, потирал руки, иногда оказывался почти спиной к Крымову и от этого веселился еще пуще.
— Цех стоит? Урожай под угрозой? Ух ты, мать честная! И все из-за наших малепусеньких муфточек! Жуткое дело. А номер у вас одноместный?
— Как? — переспросил Крымов.
— В гостинице вы один в номере?
— Да.
— А вы не прочь погулять вечерком, подышать свежим воздухом, пока я у вас в номере выясню отношения с одной фрау?
— А… то есть?.. — смешался Крымов.
— Ну, одним словом, человек — не камень, живого к живому тянет, чего тут не понимать. Есть с кем, но негде. Ага?
"А муфты мне за это будут?" — хотел спросить Крымов, но постеснялся. Жмакин, словно прочитав мысли Крымова, добавил:
— А в пятницу утром придете сюда же, я вас загружу муфтами под завязку. Слажено? Склепано?
— Ладно, — выговорил Крымов, стараясь ни лицом, ни интонацией не выдать гадливости.
Вечером Крымов заказал пропуск в гостиницу для гостей и сидел в номере, дожидаясь Жмакина Б. И. и Божанскую Н. Н. Сидел и волновался. Он заранее презирал неведомую Н. Н. Божанскую, но в то же время тянуло взглянуть на нее. Когда в дверь постучали, сердце его сладко екнуло, словно он вдруг вернулся в ту, другую свою, молодую жизнь.
— Да-да! — громко сказал Крымов. — Заходите, не заперто.
Вошли, улыбаясь до ушей, бодрячок Жмакин с пакетом под мышкой и стройная девица в красном плаще и косынке. Два-три локона латунными пружинками вылезали из-под косынки на лоб. Лицо ее показалось Крымову знакомым. А когда она сняла косынку и Жмакин принял у неё плащ, Крымов увидел длинную косу и с ужасом подумал: "Вот вам и тургеневская девушка, вот тебе и поцелуй без любви в натуральном виде". И тут же вспомнил дочь. Она была в том же возрасте, что и эта секретутка. "Неужели моя Фаинка тоже, вот так — по номерам…" Он люто возненавидел Жмакина с его девкой. Но, чтобы сразу не сорвать операцию "Муфта", ударился в гнусное лицедейство.
— А-а, старые знакомые! — слащаво протянул он. — Заходите, заходите, весьма рад.
— Да вот, зашли на огонек к доброму дяде погреться у камелька в непогоду, — заверещал Жмакин. — Располагайся, Натик, как дома, — дядя добрый.
— Добрый-то добрый, а вот к приему гостей не подготовился, надо признаться честно и самокритично, — тараторил Крымов, ужасаясь собственной фальши. — Позор на мою седую голову. Но я свой позор сумею искупить. Вы тут посидите, друзья, а я выйду за тортом. А потом и чайку сварганим.
— Прогрессивная идея! — восторженно хохотнул Жмакин. — Кто за? — И сам поднял обе руки. — Кто против, кто воздержался? Принято единогласно.
Девица Натик не подняла руку ни за, ни против. Она сидела на диване и с надменным лицом разглядывала висящую на противоположной стене картину в золоченой раме, изображавшую заснеженную деревушку. Губы ее застыли в презрительной усмешке, но кого она презирала — Жмакина, Крымова или всю эту ситуацию с фальшивой болтовней, было неясно. А может быть, считала картину на стене бездарной мазней, и только.
Крымов оделся и вышел из номера. Он молил судьбу, чтобы дежурной по этажу не оказалось на месте, но она была на посту. Пластмассовые сиреневые звезды, прицепленные к мочкам ушей, подведенные глаза, грубо наложенный румянец не могли сделать эту злую, пожилую женщину молодой и привлекательной. А ей этого, вероятно, хотелось. Иначе зачем бы она приложила столько дьявольских косметических усилий? Зрачки ее, как два снайперских черных дула, уставились в упор на Крымова. И когда он приблизился к ней на два шага, выстрел грянул:
— Что же вы гостей своих покинули?
Конечно, она все поняла. Ситуация была достаточно стандартной, чтоб не сказать, пошлой.
— А я на минутку. За тортом.
— Ну, раз за тортом, значит, действительно на минутку. Торты свежие, только что завезли внизу в "Кулинарию". Рядом со входом в гостиницу.
— Да? — глуповато осведомился Крымов.
— Да, — с издевкой подтвердила дежурная. — И народу почти никого. Вот как вам повезло.
— Это хорошо, спасибо, — сникшим голосом сказал Крымов и пошел к лифту.
Тортов и вправду было множество — блестяще-коричневых шоколадных, и раскудрявленных кофейных, и пышных, белых, с застывшей сахарной пеной, похожих на подвенечное платье.
Крымов купил торт за три сорок и вышел на промозглую улицу чужого города. Перспектива бродить с тортом два часа по улице не радовала. Вечер был хмурый, дул ветер, мелкие дождевые капли покалывали щеки Крымова. Куда-то надо было деваться.
"И какая наглая невозмутимость, — с горечью думал он. — Для них это не падение, а норма жизни. С косой она что делает, интересно? Расплетает и распускает по подушке по просьбе клиента? А этот колобок похотливый тоже хорош, пошляк…" Его передернуло при мысли, что послали его, как порядочного человека, а он с ходу вмазался по самые ноздри…
Он спросил у встречного прохожего, где ближайшее кино.
В помпезном сооружении со ступенями и колоннами шла "Агония" — двухсерийный фильм о Гришке Распутине. Крымов обрадовался, но фильм начался пять минут назад и билетов в кассе не осталось.
Крымов стал упрашивать контролершу, однако неказистая старушка была непреклонна. И тут его осенило.
— Вот вам торт, возьмите, пожалуйста. Попейте чайку, пока идет фильм. — Он поставил торт на прикрытое подушечкой сиденье стула у двери.
Крепость пала.
— Марья Васильевна! — крикнула контролерша через фойе своей коллеге и ровеснице, охранявшей вход в зал. — Посади гражданина, а потом мы с тобой чайку с тортом попьем.
Когда фильм кончился и Крымов двинулся с толпой к выходу, он вспомнил, что торт или хотя бы пустая коробка необходимы ему как некое вещественное доказательство для предъявления дежурной по этажу. Поэтому, выйдя со всеми через боковую дверь во двор, он обогнул здание, поднялся с новыми зрителями по ступеням к центральному входу и поинтересовался у контролерши, хорош ли был торт.
— Спасибо, спасибо, — тепло, как племяннику, заулыбалась старушка.
— Если коробочку не выкинули, я хотел бы ее захватить.
— Коробку из-под торта? Да она же сладкая. Вы в нее ничего не положите.
— Не важно. Долго объяснять. Если не выкинули, отдайте.
Контролерша нахмурилась и крикнула в глубь фойе:
— Марья Васильевна, верни гражданину остатки сладки.
Появилась ее напарница с коробкой, в которой еще оставалось полторта.
— А веревочка не сохранилась? — поинтересовался Крымов.
— Некогда нам ваши веревочки искать, гражданин. — Теперь голос билетерши был сух и зол. — Отойдите в сторону, мешаете билеты проверять.
"За жмота приняла", — горестно подумал Крымов, взял коробку и пошел в гостиницу.
Нести полупустую, перевешивающую на один бок да еще незавязанную коробку было непросто, требовались обе руки. Тем не менее он приспособился и, шагая, стал думать о фильме, о том, от кого и от чего порою зависят судьбы отечества. Припомнилась страшная, косматая морда Гришки Распутина, и вдруг прояснилось некое внутреннее тождество между Гришкой и Жмакиным. В чем же? Да очень просто, ответил себе Крымов. Оба прохиндеи, бабники, люди нечистые и нечестные, несущие порчу государственному делу, в которое влезли. При всем миллионе различий, масштабов, ролей, все равно — родственнички, из одного теста…
Дежурная по этажу не упустила случая попить крымовской кровушки. С издевательской вежливостью, сверля Крымова глазами, сообщила:
— А ваши друзья ушли, не дождавшись торта. Вот жалость-то.
— Ну, что же, — спокойно сказал Крымов. — Значит, нам с вами больше достанется.
Он снял крышку.
— Где же это вы успели половину отъесть? — злорадно засмеялась дежурная.
— Тетю встретил. Родную. Сто лет не виделись. Я знал, что она здесь живет, но собрался только в субботу ей нанести визит. И вдруг, представляете, гляжу — идет. Ну, и, естественно, пожалте в гости.
Крымов плохо продумал легенду. Противник немедленно нанес удар по слабому пункту.
— Посидели с тетей, попили чайку, а недоедки с собой унесли? Хорош племянничек. Добрая душа. Не зря тетя ждала всю жизнь.
Он поспешил залатать слабое вранье прочной ложью и отчеканил:
— У тети диабет, она сама попросила меня забрать торт — от соблазна подальше. Вам понятно?
— Да, понятно, что придется доложить администратору. А он сообщит по месту работы о вашем поведении.
— О каком поведении?
— О таком. Об аморальном. Что вы свой номер превратили в дом свиданий.
— Валяйте, сообщайте.
Он все-таки оставил ей торт и пошел к себе.
В номере, торопливо щелкнув выключателем, увидел на столе пустую бутылку из-под сухого, стакан, пепельницу, полную, через край апельсиновых корок. Отвернул покрывало с лилиями. Постель была не тронута, подушки не смяты, из-под них так же, как утром, торчал голубой угол наглаженного полотенца. Крымов с брезгливостью перевел взгляд на диван и сел на стул. Едкая досада на эту, с косой, свербила в его душе. Дома ей мать ужин оставила. "Почему так поздно, доченька?" А доченька или наврет про вечерние занятия, или рявкнет: "Мое дело!" А, в общем, это действительно ее дело. Черт с ними, весь мир не перевоспитаешь. И, сбросив с себя бремя ответственности за нравственность человечества, Крымов почувствовал облегчение. И тут же распространил это новообретенное приятное безразличие и на свою дочь, которая потихоньку стала взрослой, отвечающей за свою судьбу женщиной. "Шут с ними, им жить", — подумал он, разбирая постель.
Утром в пятницу Крымов с пустым чемоданом и рюкзаком отправился на завод. Из проходной он позвонил Жмакину, чтобы тот заказал ему пропуск.
Трубку подняла Наталья.
— Доброе утро. Это Наташа? — почти родственным тоном осведомился Крымов. Он считал, что после вчерашнего имеет право на некоторую фамильярность.
— Наталья Николаевна, — холодно поправила секретарша.
— Наталья Николаевна, — не стал спорить Крымов, — это Крымов говорит, ваш вчерашний гостеприимный хозяин. Который ушел за тортом. Которого вы не дождались.
— Жмакина сегодня не будет. Он уехал в командировку. — Тепла в ее голосе было не больше, чем в январе в районе Верхоянска.
— То есть как это в командировку?! — закричал Крымов. — А мне он что-нибудь оставил?
— Да. Письмо. Сейчас курьер вынесет на проходную.
"Сучка, дрянь", — подумал Крымов.
Нескоро, чуть ли не через полчаса появилась морщинистая курьерша в синем халате и суконных ботах и, осведомившись: "Крымов хто?", протянула конверт.
Крымов вытаскивал листок, как игрок в очко открывает третью карту, когда на кон поставлена вся зарплата, которую дома ждет многодетное семейство.
Записка гласила: "Муфты будут отгружены адрес Вашего предприятия общем порядке согласно утвержденного графика. Мне вчера тоже ничего не выдали".
Господи, от чего порою зависит судьба урожая!
О любви не говори
"Ирина. Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и в Москву…
Ольга. Да! Скорее в Москву. (Чебутыкин и Тузенбах смеются)".
А. П.Чехов. "ТРИ СЕСТРЫ".Как вы думаете, милый читатель, почему рассмеялись Тузенбах и Чебутыкин?
Ответ, будем надеяться, выкристаллизуется сам собою к концу нашего повествования…
А пока чуть-чуть поднапряжем внимание м усвоим расстановку действующих лиц в нижеследующей поучительной истории.
Лет этак сорок назад подружились в Москве две студентки — Тоня и Зина. Пришел срок, обе вышли замуж. Зина — за Жору Коршунова, Тоня — за Борю Тиханова. Характерами мужья соответствовали фамилиям. Тиханов — тихий, Коршунов — цепкий, востроглазый, своего не упустит. И должность он в министерстве занимал неплохую, влиятельную. Семьи дружили между собою, и, когда у Тихановых родилась Наденька, а V Коршуновых — Лидочка, девочки тоже стали подружками. Сначала обе девочки шли по жизненному кругу, что называется, ноздря в ноздрю, но потом Лидочка на полкорпуса обошла Надю — первой вышла замуж. Да еще как удачно! Лева Мышкин хоть иногородний, из Кемерова, но зато выездной! Леве с Лидой предстояла длительная загранкомандировка — Коршунов подсобил зятьку.
На Лидиной свадьбе Надя вместе со всеми кричала молодым "горько!", а глаза ели горючие слезинки зависти.
Наденькина мама — Антонина Гавриловна Тиханова понимала дочкино состояние, гладила под столом по руке, шептала: "Ничего, доченька, и тебе счастье будет, найдем хорошего человека". И подкладывала салат. Вообще мама обходилась с двадцативосьмилетней Надеждой, как с пятилетним дитем, и Надю вполне устраивало бесхлопотное житье маминой головой и матушкиными заботами.
Зинаида Трифоновна Коршунова глянула в сторону старой подруги и ее дочки и прочитала, как в открытой книге, их настроение. Она ободряюще им подмигнула и подошла к мужу. Георгий Николаевич в это время, сняв пиджак и оставшись при подтяжках, витийствовал перед гостями. В одной руке он держал хрустальную рюмку, а в другой — бутылку "Вани-ходока", в просторечии именуемого "Джонни Уокер".
— Жорик, а тут ведь у нас еще одна невеста заждалась — Надюша, — сказала Зинаида Трифоновна. — Надо бы девочку пристроить.
— Нет проблемы, сделаем, — сказал сильный человек Георгий Николаевич, упиваясь не столько шотландским виски, сколько ощущением своих безграничных умственных способностей и должностных возможностей.
И ведь сделал, черт возьми! Сильная личность, право слово!
Коршунов решил ввести в игру брата своего зятя Левы — Игоря Мышкина, безвестно инженерившего в Кемерове. Так гроссмейстер, замыслив изящную победную комбинацию, достойную двух восклицательных в скобках, вводит в игру ладью, доселе дремавшую в уголке доски.
— А ну, вызывай скорее в Москву брательника! — приказал Коршунов зятю Леве. — Будет и ему кофий и какава — московская жена и загранка.
Получив в Кемерове вызывную депешу, Игорь Мышкин затрясся, как лайнер на старте, когда турбины ревут, а тормоза намертво держат колеса и не дают им сорваться с места. В груди Игоря произошла сшибка чувств. Честолюбие и корысть сшиблись с любовью. Последняя-то и была тормозом, прижимавшим Игоря к кемеровской земле. Он любил хорошую девушку Нину, была она ему близкой и желанной. Дело шло к браку. За Нину приходилось биться всерьез, обороняя ее от притязаний напористого конкурента, некоего Кости. Не женишься — тут же Нину подхватит Костя. И вдруг это письмо из столицы, от старшего брата — Левы… Игорь Мышкин все взвесил на своих бракованных нравственных весах, и груз корыстных и честолюбивых соображений перетянул… Игорь Мышкин бросил Нину и рванул в столицу.
Надя и Игорь с первого взгляда не понравились друг другу. С десятого тоже. А на одиннадцатый день знакомства, не успев съесть даже шестнадцати граммов соли, отправились бракосочетаться. Но в загсе ведь браки только регистрируются, заключаются они, как известно, на небесах. На сей раз в роли бога Гименея выступил лично тов. Г. Н. Коршунов. И рек божественный дядя Жора: "Стерпится-слюбится! Плодитесь, размножайтесь!" И все уверовали, что будет так. И Надя поверила, и ее мама, и Игорь. И сам Коршунов верил, что делает доброе, взаимовыгодное дело.
Надо сказать, что по части извлечения выгод Коршунов — большой мастак. Он гроссмейстер игры в живые шахматы. Думаешь, ты его друг, а на самом деле ты его пешка. А хочешь выбраться в ферзи — плати. Изюминка разработанной Коршуновым многоходовки состояла в том, что в благодарность за московскую прописку и загранкомандировку Игорь Мышкин из своих валютных доходов оплатит первый взнос на двухкомнатную кооперативную квартиру для Георгия Николаевича и Зинаиды Трифоновны, а нынешняя трехкомнатная квартира Коршуновых останется их дочке Лиде с ее мужем Левой. Блистательно, не правда ли?
Игорь Мышкин подсчитал расходы и доходы и согласился на такой брачный контракт.
Даже супруге своей, Зинаиде Трифоновне, Коршунов выкроил из этой сделки скромный сувенирчик — не за свой, естественно, счет, иначе какой бы он был гроссмейстер по живым, человеческим шахматам!
— Ну, как, Тонечка, — спросил Коршунов Надину маму перед свадьбой Нади и Игоря, — хорошего мы тебе зятька спроворили, а?
— Спасибо вам, Георгий Николаевич!
— Спасибо, Тоня, на ухо не навесишь. А подруга твоя Зина как раз, между прочим, присмотрела себе скромненькие, за двести пятьдесят пять рублей, сережки[2].
Антонина Гавриловна испугалась, как бы дочкино счастье не расстроилось, и отвезла Коршуновым 255 рублей. Взяли, не поморщились.
Свадьбу сыграли. Было все, что положено: сладкие поцелуи под "горько!", шампанское рекой, подарки. Правда, жених малость смурной сидел, все ему кемеровская Нина под фатой рядом чудилась, но он гнал видения прочь — ведь сказал же сам Георгий Николаевич, что стерпится-слюбится, значит, так тому и быть. "Жираф большой, ему видней" — бард знал, что пел.
Молодые отбыли в Африку. И здесь в желтой, жаркой Африке, в центральной ее части, действительно случилось несчастье. Надежда поняла, что не слюбится и даже не стерпится. Грустные весточки полетели в Москву: "Дорогая мамочка! Тетя Зина нас обманула. Она говорила, что Игорь — добрый, душевный, мягкохарактерный, а он оказался жестоким, хмурым, бездушным, говорит о разводе, критикует мою внешность".
Надежда выросла в твердой уверенности, что муж — это нечто среднее между любовником и мамой. Привыкшая жить за маминой спиной, она была нерешительна и непрактична, куксилась и хныкала. Она свысока относилась к товарищам мужа — ей, столичной музыкантше, его друзья — геологи и экскаваторщики казались неотесанными мужланами. Муж еще пуще невзлюбил ее за капризы, она его — за неуважение к ним. К тому же вкус губ кемеровской Нины, ее голос, объятия преследовали Игоря как наваждение. Он думал, что там у нее сейчас происходит с Костей в Кемерове, и от этого сосватанная ему делягой Коршуновым жена казалась еще более постылой.
Через несколько месяцев они вернулись на родину. Он съездил в Кемерово на пепелище старой любви. Нина действительно вышла замуж за Костю. Она сказала Мышкину по телефону лишь одно, но весьма выразительное слово: "Подлец" — и бросила трубку. Он вернулся в Москву и отправился с Надеждой в Сочи, — а вдруг под рокот своей черноморской, а не заграничной атлантической волны все-таки стерпится-слюбится? Нет, сердцу не прикажешь…
Возвратились из Сочи совсем чужими людьми. Он подал на развод, и суд развел их. Игорь Григорьевич Мышкин получил право на одну из двух комнат в квартире в старинном московском Стремянном переулке.
— Брачный аферист! — вскричала Надежда, и это обвинение, как боевой клич, уже который месяц подряд звенит в судебных залах, парткомах, редакционных кабинетах.
Сначала порог переступает статная, фигуристая Надежда. Черты ее гладкого, правильного лица искажены скорбью, перемежаемой вспышками ярости. За ней, как буксирчик, двигающий баржу методом толкания, следует сухонькая мама — Надин верный адвокат, утешитель, консультант.
— Брак был с его стороны фиктивный! Недействительный! — гремит Надежда, и глаза ее сверкают. — Жилплощадь ему не отдадим. Пусть катится в свое Кемерово! У него не было намерения создать семью! Не было!
Но городской суд поддержал решение районного о расторжении этого, увы, вполне фактического брака и, следовательно, подтвердил право Игоря Мышкина на часть жилья. И Верховный суд РСФСР поддержал решение городского.
Наде все ясно как божий день!
— Районного судью Мышкин и Коршунов купили. Городской не вник, а Верховный блюдет честь мундира.
Надя убежденно считает себя жертвой преступной коммерческой сделки.
— Коварные Коршуновы продали меня Мышкину за кооператив. Они так задумали с самого начала. Продали! Продали!
Надежда путает: с самого начала она была не жертвой, а заинтересованной участницей брачной сделки. Жертвой она стала потом, когда убедилась, что не любима, не желанна, не нужна… Брак был действительным, реальным, с общей постелью и кастрюлями, но он был несчастливым, потому что с самого начала был безнравственным. Коварства не было, все искренне желали друг другу импортного барахла и квадратных метров. Но и любви не было в помине. А брак без любви не только аморален, но и непрочен, как несвязанный сноп. Вместо встречного влечения двух сердец были взаимные мещанские расчеты. Все хороши в этой истории, все персонажи друг друга стоят. И Надежда, и ее мама, и Игорь Мышкин поначалу жили не своим умом и чувствами, а доверились хитромудрому Коршунову.
Но и великий брачный" комбинатор Георгий Николаевич тоже грубо просчитался. Его многоходовка оказалась некорректной, а эндшпиль — проигранным. В итоге все потерпели поражение. Самого Коршунова попросили уйти из министерства, когда обнаружилось, с какими намерениями порадел он И. Мышкину. Игорев взнос на кооперативную квартиру для Коршуновых не понадобился по трагической причине: брат Игоря, Лев Мышкин, погиб в автомобильной катастрофе, и его вдова Лида осталась жить вместе с Коршуновыми на старой их квартире. Игорь Мышкин ютится по чужим углам — Надин брат, дюжий таксист Максим, держит оборону в Стремянном переулке и методично спускает с лестницы малогабаритного Мышкина, приговаривая при этом любимую сестрину присказку: "У-у, брачный аферист! Мотай в свое Кемерово!" Надежда с мамой не знают ни сна ни отдыха — жажда мести испепеляет их мозги и души.
Два года назад Надя не могла дождаться часа, когда вместе с Игорем отправится в загранкомандировку. Теперь она ждет не дождется минуты, когда Игорь в одиночку отбудет в Кемерово. Игорь же требует лишь соблюдения законного принципа квартирного дележа: Тихановым — тиханово, Мышкину — мышкиново. А что ему еще остается делать? Куда податься? Из Кемерова он давно выписался, бывшая его комнатенка в кемеровском общежитии гостиничного типа, естественно, занята…
А от столичной жизни он, право же, особой радости не получает. Ездит на работу с тремя пересадками — полтора часа в одну сторону и тем же манером обратно. В министры не выбился, трудится инженером в райжилуправлении. Аллу Пугачеву видит по-прежнему только на телеэкране — в гости она его почему-то не приглашает.
Однажды месткомовский культорг дал Мышкину билет на спектакль "Три сестры". После реплики Ольги: "Скорее в Москву" засмеялись не только Тузенбах и Чебутыкин. В третьем ряду амфитеатра грустно улыбнулся Игорь Григорьевич Мышкин…
Все свое несу с собой
Я пришел в больницу навестить друга.
В гардеробе снял шапку.
— Шапочки не принимаем. С собой.
Я снял перчатки.
— Перчаточки тоже с собой. Не берем.
Я размотал шарф.
— Шарфики не принимаем. С собой.
Я снял пальто.
— Пальтушечки с собой. Не берем.
Спорить — себе дороже. Прижал все барахло к пузу и пошел. Вслед слышу:
— Гражданин, номерок возьмите.
— Какой номерок? За что же номерок?
— Чтоб мы знали, сколько народу обслужили. Для отчету. Мы ведь на сдельщине работаем.
Такой трудный, но хороший день
Зрелый я человек, мудрый. Осмотрительный. Выхожу на работу собранный, глаза сузив. Жизнь прожить — минное поле перейти. Бдительность прежде всего.
Итак, переступаю порог любимой конторы. Внимание!
Встречаю в коридоре Орлика. Седой хищник, хитрюга и анонимщик. В последней подлянке и меня обдал грязью — за компанию. Его авторство вычислено однозначно. Не здороваться? Плюнуть в физиономию? Незрело. Непрактичное донкихотство. Еще одну катанет и уж обмажет не краем, а плеснет навозной жижей целенаправленно, в лоб. Улыбаюсь, протягиваю руку. Рукопожатие. Мудро. Очко набрано. Очко домашнего спокойствия. Очко сладкого сна.
Навстречу — Митя Тихацкий. Вчера назначен заведующим отделом нетканой пряжи. Митя знает, что мы знаем, что он ничего не знает о пряже, любой — тканой, нетканой. И он сам знает, что ничего не знает. Он пришел к нам из рок-группы. Он там щипал электрогитару. В музыке Митя разбирается тоже, как таракан в гидравлике. Группу разогнали по причине профнепригодности и идейной опустошенности. И тогда Митина теща пошла к одному хорошему большому человеку, который в юности дружил с тещиным папой, и большой хороший позвонил в нашу контору, и плохого электрогитариста Митю сделали никудышным заведующим отделом нетканой пряжи.
И вот этот самый Митя идет мне навстречу. Он смотрит виновато. Ему уже сытно, но еще стыдно. Отвернуться и пройти мимо? Презрительной гримасой осудить кумовство и синекуру? Но вдруг Митя скажет теще, что Зайчиков (это я) казнит его, Митю, презрением? А теща возьмет да и пойдет к большому хорошему другу юности ее папы. И тогда может быть пиф-паф ой-ой-ой, вылетает Зайчиков мой. Внимание! Включаем мудрость и осмотрительность. Ласково кланяюсь Мите Тихацкому. И даже дружески-ободрительно ему киваю: "Ничего, мол, Митя! Не тушуйся. Войдешь в курс, притрешься к коллективу, нащупаешь рычаги".
Митин взгляд теплеет. Он благодарен за моральную поддержку. Он ведь чувствует, что его немножко бойкотируют, а тут вроде прорыв блокады. Придет домой, скажет теще: "Есть у нас там милый человек, некий Зайчиков".
И я иду дальше. Довольный. Еще одно очечко заработано. Очко душевного покоя. Что значит зрелость, осмотрительность, дальновидность!
В пять собрание. Речь мысленно составлена. Глаголом буду жечь сердца людей. Поднимусь в прениях и рубану. Скажу то, что все в конторе знают. К директору с дельным предложением не прорвешься. Два заместителя и два секретаря-референта мешают друг другу. Хватило бы любой пары из двух. Четыре визы никогда не совпадут. Все хотят свою ученость показать, пишут резолюции вразнотык, крадут время, теряют документы. Контора пробуксовывает, кпд ниже паровозного.
Но на собрание приезжает наш министерский куратор. "Эге, — срабатывает мой соображометр, — перед лицом внешних сил нужно демонстрировать монолитность конторских рядов. Не гадить же в родном, гнезде".
В прениях встаю и говорю:
— Товарищи! У нас нет ни малейших оснований для нытья и брюзжания. Позвольте сказать откровенно, без этой, знаете ли, дипломатии: работаем мы слаженно и продуктивно. Отдел нетканой пряжи возглавил молодой перспективный специалист. И мы можем с гордостью…
И дальше в том же духе. В метро подбиваю итоги дня— не наследил, не подорвался, врагов не нажил. Бикфордовы шнуры с бегущими огоньками за мной не тянутся? Не тянутся. И ведь ничью кровь не пустил, ничью судьбу не поломал. Трудный, но хороший был день.
Дома переодеваюсь в мягкое, мятое, домашнее. Ужинаю. Врубаю цветной. Заваливаюсь на тахту. Рядом на журнальном столике — бутылка "Жигулевского" и стакан. Играет "Спартак". Федя Черенков забивает два гола-красавца. Что еще человеку надо? Блаженство! Рай! А все потому, что зрелый я, мудрый, выдержанный. Чего и вам желаю!..
Анекдот с собакой
Какая только публика не захаживает в редакцию юмористического журнала! И все обязательно несут что-нибудь смешное. На их взгляд, конечно…
Недавно, например, заявился старичок с болонкой на руках. Протянул мне листик бумаги и сказал:
— Вот, хе-хе, принес для вас преуморительный анекдотец. Не взглянете?
На листочке аккуратным почерком было написано:
"Сэр Джон пришел в гости к сэру Уильяму и обнаружил, что тот играет в шахматы со своим пуделем.
— Да это же чудо! — воскликнул пораженный сэр Джон.
— Какое там чудо, — поморщился сэр Уильям. — Пудель — круглый дурак. Имеет лишнюю пешку в ладейном эндшпиле и не может выиграть".
— К сожалению, — сказал я, разводя руками, — очень похожий анекдот мы опубликовали на прошлой неделе. Там бульдог играл в шашки и не мог провести лишнюю шашку в дамки.
— Но, простите, — заупрямился старичок, — шахматы и шашки — это далеко не одно и то же! И потом, вы сами говорите — там был бульдог, а у меня пудель.
Болонка на его коленях зарычала. Старик погладил ее, успокаивая.
— Извините, мы напрасно спорим, — сказал я, поднимаясь со стула. — Приносите что-нибудь свеженькое, тогда посмотрим.
Через день старик с болонкой снова просеменил в мой кабинет.
— Вот, — сказал он, — совсем новенький анекдотик, — и рукой, дрожащей от неподдельного волнения, протянул мне листок.
Я прочитал:
"Сэр Джон пришел к сэру Уильяму и еще из передней услышал чарующие звуки скрипки. Войдя в гостиную, сэр Джон с удивлением обнаружил, что на скрипке играет пудель.
— Чудо! — воскликнул сэр Джон.
— Э-э, какое уж тут чудо, — поморщился сэр Уильям. — Надо играть аллегро, а он дует адажио…"
— Слушайте, — сказал я, — неужели вы не понимаете, что это повторение старой истории с шахматами?
— При чем тут шахматы?! — чуть не плача воскликнул старик. — Пудель теперь играет на скрипке, а не в шахматы! Ну как же вы не улавливаете разницы, голубчик?
— Дорогой мой, я все улавливаю, — как можно любезнее ответил я. — Но согласитесь, что схема-то всех ваших собачьих анекдотов одинаковая — владелец пса сэр Уильям так привык к человеческим талантам своей собаки, что давно им не удивляется, а сэр Джон удивляется.
— Нет, вы придираетесь! — заспорил старик.
Болонка на его коленях заерзала и тявкнула.
Я встал.
— Извините, я очень занят.
Старик уныло качнул серебряным нимбом и ушел, неся свою псину, как грудное дитя.
Прошла неделя, и старик с болонкой опять посетили меня. На этот раз лицо старика дышало несокрушимой верой в победу.
— Вот! — протянул он мне листок. — На сей раз совсем из другой оперы, тут уж вы ничего…
Я прочитал:
"Сэр Джон стоял на перекрестке перед красным светом. Вдруг рядом затормозил мотоцикл. За рулем сидел пудель, а на заднем сиденье — сэр Уильям.
— Чудо! — воскликнул сэр Джон.
— Э-э, какое там чудо, — поморщился сэр Уильям. — Мой мохнатый обормот засмотрелся на какую-то сучку, и мы проскочили левый поворот".
— Увы, — вздохнул я. — Опять то же самое, мой дорогой. Все тот же слегка переиначенный анекдот.
— Как это "тот же"?! — взвизгнул старец. — По-вашему, играть на скрипке то же самое, что водить мотоцикл?
В этот миг болонка, покоившаяся на коленях старика, мотнула мордой, отбрасывая с глаз грязно-белую челку, и произнесла фальцетом:
— Если вы р-р-решительно, по-мужски, не пошлете моего старр-р-рого дурака к чертовой бабушке, он будет к вам каждый день шляться со своими глупыми анекдотами.
— Это кто сказал?! — спросил я, не веря своим ушам.
— Она, — печально подтвердил старик.
— Кому?
— Вам.
Старик наподдал псине по мохнатому заду, а собачка в отместку цапнула его за палец.
— Послушайте! — закричал я. — Да чего вы зря время-то теряете, ходите по редакциям! Рысью в цирк! У вас же аттракцион века! Международные гастроли — Нью-Йорк, Токио!
— А-а… — безнадежно махнул старик рукой. — С чем тут выступать? На рояле она не играет, в шахматах ни бельмеса не смыслит. Единственное, на что эта тварь способна, дак это поносить меня при посторонних нехорошими словами. А руганью сейчас кого удивишь?
Он тяжело поднялся, подхватил собачку под живот и поплелся к двери.
Мне было искренне жаль его.
Интервью со стариком
— Что вы испытываете, глядя на молодых женщин?
— Удовольствие и педаль. Удовольствие от того, что уже не надо тратить время, силы и деньги на ухаживание за ними. И печаль от сознания, что их красота тоже промчится и они превратятся в скучных морщинистых кикимор.
— С каким чувством вы смотрите на детей?
— С чувством великой радости. Радуюсь, что в отличие от детей мне уже не нужно делать уроки.
— Как вы относитесь к собакам и кошкам?
— С завистью: они не знают, сколько им лет.
— Есть ли преимущества у старости?
— Еще какие! Больше не нужно страдать от несоответствия ожиданиям начальства, надеждам семейства, аппетитам красоток и вообще от несоответствия своих скромных достижений честолюбивым мечтам собственной юности. Все позади, от всего свобода! А уж своей тахте, на которой я сплю ночью и дремлю днем с газетой в вялых пальцах, я всегда соответствую.
— Печалит ли вас быстротечность жизни?
— Ничуть. Ведь сегодня мы моложе, чем завтра, а сегодня — всегда!
* * *
27 лет 8 месяцев и три дня ухитрился отработать Марк Виленский в редакции "Крокодила". На радостях по случаю его перехода на вольную, творческую работу было решено учинить роскошный банкет с подачей 1 кг пряников и распитием трех бутылок "Пепси". Но поскольку пряников не достали, а "Пепси" не завезли, редакционный треугольник решил как-нибудь иначе отблагодарить ветерана за все, что он натворил. В итоге мучительных раздумий постановили: выпустить в. свет очередной сборник произведений М. Виленского.
Ветеран лицемерно вздохнул:
— Жаль, конечно. Так хотелось пожевать месткомовского пряничка…
— Ничего не попишешь, — разки! руками Треугольник и… ошибся. Из кругов, близких к ветерану, стало известно, что Марк Виленский намерен еще, ох, много чего пописать.
Примечания
1
Митинги, малые и большие, стали настолько характерной чертой периода перестройки, что, надеюсь, читатель не посетует на автора за второй рассказ на ту же тему.
(обратно)2
Дело происходило в 1983 году.
(обратно)


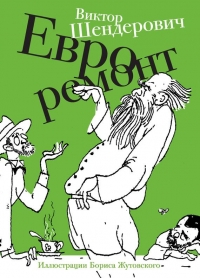



Комментарии к книге «Шумим, братцы, шумим...», Марк Эзрович Виленский
Всего 0 комментариев