Алекс Тарн Протоколы Сионских Мудрецов
Часть первая
1
На выходе из самолета Бэрл протянул руку хорошенькой стюардессе и широко улыбнулся. «Не плачь, Клава, — сказал он по-русски. — Еще увидимся». Девушка не врубилась в непонятный текст, отчего ее профессиональная улыбка вышла несколько растерянной. Сложенная лодочкой робкая голландская ладошка потонула в необъятной бэрловой лапище.
«Цель визита?» — «Бизнес». Чиновник шлепнул печать, и Бэрл ступил в кондиционированные чертоги Схипольского аэропорта. Бутылка «Мартеля», предусмотрительно запасенная в Бен Гурионе и безвозвратно иссякшая где-то над Альпами, не улучшила его настроения — пасмурного, в тон февральской северо-европейской погоде. Сидя в поезде, мчавшем его в направлении амстердамского вокзала, Бэрл спрашивал себя: в чем, собственно, дело? В чем, собственно, дело, парень, какого хрена свинячьего ты куксишься?
Задача выглядела ясной на все сто, и в то же время оставляла столь любимую Бэрлом свободу маневра. Место? Бэрлу нравился Амстердам, беспечная, праздничная однообразность его разноцветных домов, концентрические полукружия его каналов, темные полукружия под глазами его веселых, безразличных, обкуренных обитателей. Время? Время, конечно, можно было бы подобрать получше. Например, июнь с его шумными фестивалями, живописной космополитической толпой и бесстыжими парочками всех комбинаций на многострадальной траве Вондель-парка. Или, скажем, сентябрь — цветочные парады, утомленное пресыщение ранней осени, желтизна первых листьев на воде каналов. А февраль… что февраль? — дождь и все тут; даже газоны Вондель-парка закрыты на просушку — то ли от дождя, то ли от спермы, щедро пролитой на них за отвязное лето… С другой стороны, дома зима выдалась на удивление сухой, так что Бэрл определенно соскучился по дождю.
И тем не менее какое-то неприятное предчувствие не покидало его, назойливо копошась где-то в затылке, занудно поднывая в самом низу живота. Что за ерунда! На вокзале Бэрл прямиком проследовал в камеры хранения. Небольшой, но тяжелый чемодан ждал его в условленном месте. Пошарив во внешнем кармашке, Бэрл извлек оттуда пластиковую карточку-ключ в конвертике отеля «Мемфис». «Ну вот, дурочка, — сказал он сам себе. — ??????????…». Настроение и впрямь пошло на поправку, и, весело насвистывая, дабы поддержать положительную тенденцию, Бэрл вышел на засеянную мелким зимним дождиком привокзальную площадь веселого города Амстердама.
Он отпустил такси на Музейной площади, не доезжая нескольких кварталов до отеля. На его счастье, лобби «Мемфиса» было забито ордой азиатских туристов: не то корейцы, не то китайцы в одинаковых двуцветных куртках, обвешанные тоннами кино-фото-видео-аппаратуры, сварливо распределялись по номерам. Швейцар-суринамец, портье и чемоданные мальчики уже давно перешагнули порог чувствительности и теперь пережидали азиатов как стихийное бедствие, уйдя в себя и уставясь в пространство с выражением безграничной покорности судьбе. Не привлекая в этой суете ничьего внимания, Бэрл поднялся на второй этаж и открыл дверь своего номера.
Острый запах опасности ударил в его ноздри еще до того, как рука с пистолетом, как кобра, взметнулась ему навстречу. Шестым чувством просчитав чье-то присутствие сзади, он успел присесть одновременно с чудовищным ударом, обрушившимся на затылок, нейтрализовав таким образом большую часть его фатальной разрушительной силы. Следуя инерции падения, Бэрл отпустил чемодан и, стараясь производить как можно больще грохота, всей своей стадесятикилограммовой массой рухнул в закуток между столом и комодом. И затих, оценивая ситуацию сквозь прикрытые веки.
Бэрл рассчитывал на то, что шум от их совместного с чемоданом падения собьет противника с ритма, и это позволит ему выиграть столь необходимые секунды. И впрямь, нападавшие замерли, напряженно прислушиваясь и на время выключив Бэрла из зоны первоочередного внимания. Их было двое, худощавых бородатых парней не оставляющей никаких сомнений наружности.
«Только куфии не хватает, — подумал Бэрл. — Суки драные…» Он ощущал странное, даже веселое спокойствие. В этой комнате ему уже повезло дважды. Во-первых, его не убили сразу, а значит, будут дополнительные шансы. Во-вторых, ему удалось с наименьшими потерями сымитировать тяжелую отключку, что сулило просто-таки блистательные перспективы, тем более, что парни отнюдь не выглядели профессионалами.
Выйдя из первого оцепенения, они наконец обрели дар речи. Арабской речи… «Идиот, — придушенно прошипел первый, высокий араб с десятком золотых цепочек под расстегнутым воротом белой шелковой рубашки. — Это называется «тихо»? Ты же уверял, что сделаешь его без лишнего шума…»
«Да ладно тебе, Махмуд, — нервно хихикнул второй, в джинсах и футболке «Аякса». — Ничего страшного. От китаезов такой гвалт, что хоть бомбу взрывай — никто не дернется. Зато смотри, как я этого бегемота вырубил!» Он гордо взмахнул здоровенной бейсбольной битой.
«Еще как повезло…» — радостно отметил про себя Бэрл.
Махмуд подошел к телефону и набрал номер. Теперь он говорил по-английски. «Брат? Мы встретили гостя… Да, все в порядке. Как у тебя? Тихо? Ладно, оставайся пока там.»
Он подошел к Бэрлу и присел перед ним на корточки, уткнув пистолетный ствол с глушителем под тяжелую бэрлову челюсть. «Эй ты, жидяра, — прошипел он, на этот раз на иврите. — Просыпайся, мать твою!»
«Э, да парень, оказывается, полиглот,» — подумал Бэрл, но глаз не открыл.
«Принеси-ка водички, — не оборачиваясь, сказал Махмуд. — Говорят, бегемоты только в воде разговаривают.»
Бросив биту на кровать, парень в джинсах отправился в ванную. На спине его футболки красовалось знаменитое «Гуллит».
«Собака, — подумал Бэрл. — Какое имя марает…» Затем Бэрл думать перестал, ибо Махмуд наконец-то повернулся к нему виском, провожая взглядом уходящего «Гуллита». Самое время было воскресать. Сокрушительный удар лбом обрушился на махмудову височную кость. Так великий Гуллит бодал мячи, загоняя их в сетки ворот соперников мимо отваливших удивленные челюсти вратарей. Махмуд не стал исключением — он тоже отвалил челюсть, закатил глаза и обмяк.
Бэрл поднял пистолет, как раз чтобы приветствовать вышедшего из ванной «Гуллита».
«Поставь стакан на стол, мразь, — сказал он по-арабски. — Разольется, паркет жалко.»
«Гуллит» икнул и поставил стакан. Бэрл выстрелил дважды. Затем он повернулся к бесчувственному Махмуду.
«Ты, я помню, водички просил, братан? — Бэрл аккуратно выплеснул на Махмуда принесенную покойным «Гуллитом» воду. — Пей, дорогой.»
Махмуд дернулся и открыл глаза. Его явно мутило, он с трудом сфокусировал взгляд на приветливой бэрловой физиономии. Левой рукой Бэрл сгреб его за рубашку вместе с бесчисленными цепками и встряхнул. «Говори,» — только и сказал он и приготовился слушать.
Подгонять Махмуда не требовалось. Он говорил, косясь на две ровные симметричные дырочки во лбу привалившегося к стене «Гуллита», он тараторил, захлебываясь от честного непреодолимого желания рассказать все, даже самые мельчайшие подробности, так что Бэрлу приходилось время от времени ласково, но твердо останавливать эти потоки информации, когда они разливались на совсем уж неинтересных направлениях. Оба они знали, что Махмуд умрет, как только ему нечего будет больше сказать, и это знание наполняло махмудову душу острой сосущей тоской, ужасом и неутолимой потребностью говорить, говорить, говорить — без конца.
«Погоди-ка секундочку, — сказал Бэрл, будто вспомнив что-то. — Позвони-ка своему человеку вниз. Скажи, чтоб поднимался.»
Махмуд с готовностью схватил трубку. Он говорил вполне естественно, даже подмигнул Бэрлу — мол, смотри, как мы с тобой его разыгрываем… Бэрл кивнул. Положив трубку на рычаг, он протянул руку и погладил Махмуда по голове.
«Молодец, братан, так держать.»
Махмуд ободренно улыбнулся, и Бэрл, протянув вторую руку, резким движением сломал ему шею. Он сделал это так быстро, что бедняга даже не успел понять, что произошло, так и оставшись сидеть с приклееной жалкой улыбкой на твердеющем лице, с безумной и робкой надеждой, застывшей в остекленевших глазах, отразивших последний акт драмы — короткую возню у двери и еще одну смерть, смерть преданного им товарища.
* * *
Бэрл запер входную дверь и, сделав глубокий вдох, заглянул в ванную. Девушка была там. Она стояла так, как мерзавцы пристроили ее стоять — наперевес через край ванны, на коленях, со связанными ногами, с кляпом во рту, с руками, прикрученными к вентильному кронштейну на противоположной стене. Тут же был кусок двужильного оголенного на концах провода, воткнутый в розетку для электробритвы. На белой, бессильно провисшей спине пламенели язвы сигаретных ожогов… Девушка мотнула слипшейся каштановой гривой и замычала. Это вывело Бэрла из оцепенения.
Развязывая узлы и осторожно перетаскивая на кровать бесчувственное тело, Бэрл не переставал напряженно просчитывать варианты. Судя по всему, девица была из группы обеспечения. Скорее всего, ее задача ограничивалась съемом этого номера и передачей ключа другому помощнику, тому, что оставил для Бэрла чемодан в камере хранения. Передав ключ, она должна была исчезнуть на пару-тройку дней. Ни у нее, ни у ее напарника не было и тени понятия о смысле и целях этих действий. Они не знали и не могли знать Бэрла, как, собственно, и он не знал их. Так что подонки зря мучали девочку — при всем желании ей было нечего им рассказать.
Непонятно другое — где произошла засветка? Предсмертная исповедь Махмуда об этом умалчивала. Да и что мог он знать, Махмуд, мелкая сошка… Небось, кайфует сейчас в своем мусульманском раю, пускает слюни, взгромоздившись на первую из положенных ему семидесяти девственниц, царапает ее в кровь своими золотыми цацками… Впрочем, кое чем он все-таки помог. Во-первых, сказал имя босса, того, кто посадил в засаду махмудову группу. Абу Айяд — старый знакомый, матерый волчара… Во-вторых — рассказал о другой группе, ушедшей за девушкиным напарником. Это наводило на грустные мысли не только о его судьбе, но и о чемодане. Бэрл готов был поклясться, что слежки за ним не было ни на вокзале, ни на пути в отель. С другой стороны, навряд ли они отпустили бы его просто так, без всякого сопровождения, полагаясь лишь на его непременный приход в «Мемфис». Следовательно, сопровождение находилось в чемодане, пластиковое такое сопровождение, все в разноцветных красивых проводочках… Помимо всего прочего, молчание Махмуда должно бы уже обеспокоить его революционное начальство. По всему выходило, что надо было сматывать удочки и поскорее.
Бэрл открыл минибар и удовлетворенно хмыкнул. Весь ассортимент был в наличии. Хоть чем-то вы хороши, братья-мусульмане — выпивку никогда не расходуете! Коньяки были представлены «Мартелем» — уже третье по счету бэрлово везение. Ох, надолго ли? Бэрл принял коньяк залпом, как лекарство и, захватив две другие бутылочки, подошел к девушке.
«Эй, подружка, — он осторожно потряс ее за плечо. — Кончай ты с этим пляжным настроением, так ведь и совсем обгореть недолго». Бэрл открыл второй «мерзавчик» и аккуратно влил его в запекшийся полуоткрытый рот. Девушка дернулась и, рывком приподнявшись, вперилась в Бэрла диким взглядом загнанной лисицы.
«Шалом, сестричка, — быстро сказал он на иврите. — Поехали домой. Все кончилось. Домой.»
Он повторял слово «домой», как заведенный, на все лады и со всеми интонациями, пока она не кивнула.
«Ну вот и хорошо, вот и ладно… Только сначала мы должны заняться твоей спиной. А нет ли у тебя тут крема какого?»
Неожиданно она снова кивнула: «Есть… от загара… в сумочке…»
«От загара?!» Бэрл хрюкнул, подавляя приступ неуместного смеха, но тщетно — неимоверное напряжение последней четверти часа неудержимо рвалось из него наружу лавиной гомерического хохота, и уже не сопротивляясь ему, он рухнул на пол между безучастными «Гуллитом» и Махмудом и заржал, захлебываясь и повизгивая, так, как не ржал еще никогда за всю свою непростую тридцатилетнюю жизнь. Она смотрела на него, катающегося по полу между трупами ее мучителей, и страх сменялся в ней недоумением, затем — обидой и, наконец, подхваченная вулканическими извержениями бэрлового гогота, она засмеялась сама, неуверенным, маленьким, целебным смехом.
С трудом овладев собой, Бэрл делал помогающий в таких случаях глубокий вдох, когда она крикнула ему с кровати: «Что ты ржешь, идиот? Что ты видишь смешного во всем этом, кретин?»
По сути она, конечно, была более чем права, учитывая ситуацию с тремя еще теплыми трупами, адской машиной в чемодане и Абу Айядом на подходе, не говоря уже об исчезнувшем напарнике и сожженной сигаретными окурками спине. Все это вместе и даже каждая деталь по отдельности не располагали к веселому настроению. Тем не менее, Бэрл, уже совсем было справившийся со смехом, зашелся по-новой.
«Дура… — задушенно выдавил он. — От загара… в феврале… в Амстердаме… зачем, мать твою? в феврале…»
И снова он накатывал тяжело-груженные эшелоны смеха, впрочем, все более и более замедлявшие ход, пока, наконец, дробный стук их колес не сменился предвещающим близкую остановку медленным дра-бад-даном с оттяжкой.
И пока он, все еще похрюкивая, вытирал мокрые от слез глаза, она вдруг осознала свою наготу, полную наготу, в чем мать родила двадцать один год тому, в чем оставили ее два этих подонка, гадские педики, педики, фаготы сраные, они даже изнасиловать ее не смогли, бздуны, не встал, и они мстили ей за это, туша об нее окурки и тыча в пятки электрическим проводом. Забытая на кровати бейсбольная бита легла ей в руку легко и удобно. Первым ударом она выбила Махмуду нижнюю челюсть. Это было классно. Наотмашь — хрясть… И еще… и еще разочек… Она ощущала, как веселая истерическая сила рождается в ней с каждым ударом, пузырится, растет… хрясть… падлы…
Бэрл, сидя на полу, с серьезным и сочувственным выражением наблюдал за процессом обезличивания борцов за свободу Палестины. К этому примешивалось новое чувство — он вдруг осознал, что любуется ею, дикой, неистовой, голой, ладно скроенной Валькирией, или как там — Брунхильдой, или… а черт, что за дребедень… время-то, время-то уходит… Он привстал, счастливо миновав молодецкий отмах биты, и ухватил Валькирию за плечи: «Ну все, все… эк ты раздухарилась… отдохни, чуток.»
Она выронила биту и, разом обмякнув, повисла у него на руках. Она всхлипнула — раз, другой, как первые капли ливня, потом — чаще и чаще, сплошным захлебывающимся заговором и — зарыдала-заплакала, по-детски захватывая воздух, лепеча, жалуясь, повизгивая, скуля, как придавивший лапу щенок. Бэрл повернул ее к себе и гладил по голове, приговаривая что-то невразумительно-шипящее: «ну что-ты… что-ты… что-ты…»
Она и перестала плакать, как ливень — разом, с редкими судорожными всхлипами тут и там.
«Что? — спросил он, поняв наконец, что она говорит какой-то осмысленный текст, а вовсе не всхлипывает, как это ему казалось по инерции. — Что ты сказала?»
«Крем в сумочке… Ты хотел крем… от загара…» И они оба рассмеялись почти счастливым смехом, легким, как смех влюбленных.
«Ложись на живот,» — сказал он неожиданно севшим голосом. Она медленно отстранилась от него и подошла к кровати. Не глядя на Бэрла, она ощущала на своих бедрах и ягодицах его потяжелевший взгляд. Этот взгляд, как грубая горячая ладонь, ложился на ее тело, гладя и обжигая, и саднящая боль от сигаретных ожогов, казалось, только усиливала эту нарастающую тягучую ласку.
Бэрл откупорил третьего «мерзавчика». Он вылил водку в горсть и, помедлив, выплеснул ее на распростертую перед ним, напряженно ожидающую спину.
«А-ах…» Оба знали, что в этом стоне было меньше боли, чем наслаждения. Бэрл выдавил крем на обе ладони и возложил их на бушующую перед ним стихию. Он знал, что каждая лишняя минута, проведенная в этой комнате, может оказаться смертельной; он почти физически слышал тиканье механизма в валяющемся под столом чемодане; он представлял себе Абу Айяда с десятком молодцов, подъезжающих на двух мерседесах; кровавые маски мертвых арабов скалились на него с пола — но он также знал, что другая, намного более мощная сила подчиняет его себе в эту минуту, управляет его руками, распирает его чресла.
Она выскользнула из-под его ладоней, как волна из-под борта лодки, опрокинула его на спину, выплеснулась на грудь, затопила лицо в омуте волос. Он чувствовал ручьи ее рук, текущие по его телу — везде сразу, вытягивающие его навстречу этому сладкому и вихрящемуся водовороту, и он весь потянулся туда, навстречу и пропал и пропал и пропал…
А она соскальзывала вверх по крутой спирали через невероятную череду взрывов и судорог к последнему ослепительному пику, сияющему в ее черно-белом, мерно раскачивающемся мозгу. Уже почти добравшись до него, она вдруг изогнулась дугой и, обернувшись, поймала глазами остекляневший махмудовский взгляд. И тогда уже, как будто получив последний толчок от глазеющего на нее мертвеца, она наконец зашлась, забилась в бесконечой пульсирующей вибрации, сотрясающей оба их истекающих любовью тела.
* * *
«Как тебя зовут, валькирия?» — спросил Бэрл, когда комната перестала качаться и плыть перед глазами, и вещи мира медленно но верно начали возвращаться на свои места.
«Ноа, — соврала она. — А тебя?»
«Моше, — соврал он, по кусочкам собирая себя. — Надо бы нам сматываться, Ноа. Странно, что мы еще живы…»
Пока она одевалась, собирая уцелевшие вещи, Бэрл колдовал над чемоданом. Телефон зазвонил, когда, вооружившись полотенцами, они обходили номер, тщательно стирая возможные отпечатки.
«Все, — сказал Бэрл. — Уходим. У нас есть не более минуты.»
Перед тем, как захлопнуть дверь, он пристроил к ней нехитрую конструкцию из стула, поясных ремней и чемодана.
Спустившись по служебной лестнице, они оказались на улице и быстро двинули в сторону парка. Они уже садились в такси, когда эхо сильного взрыва донеслось со стороны отеля.
«Что такое, бижу? — удивленно обратился Бэрл к водителю-африканцу. — Страдаете газами? Еще бы, глючные грибы — тяжелая пища…»
На набережной Амстеля Бэрл нашел телефонную будку и набрал номер. «Красный код,» — сказал он по-английски в безмолвную трубку. Долгое молчание было ему ответом. Затем мужской голос спросил: «Где?» Бэрл ответил и отсоединился.
Через десять часов они сходили с трапа лондонского рейса в аэропорту Бен Гурион. На выходе из самолета Бэрл задержался около стюардессы.
«Что ты ей сказал?» — спросила «Ноа», поджидавшая его внизу.
«Чтоб не плакала,» — ответил Бэрл и ухмыльнулся.
2
«…и ух-мыль-нул-ся.» Точка! Вот оно как, государи вы мои милостивые… Еще одну главу отбуцкал, отстругал, отбомбил. Еще семьсот зеленых американских тугриков в бездонную прорву моего дырявого кармана. Спасибо тебе, Бэрл, лапочка, детище мое ненаглядное, за хлеб, за башли. И подружке твоей безымянной спасибо отдельное, и Махмуду, и даже быстро продырявленному «Гуллиту»… Надо бы выпить по этому поводу. Шломо сунул ноги с раздолбанные тапки и зашлепал на кухню.
Дважды в месяц он отсылал по электронной почте несколько страничек приключений своего несгибаемого Бэрла. Кому отсылал? А черт его знает… Черт его знает, кто скрывался под безличной комбинацией цифр и знаков этого интернетовского адреса. Да и кому какая разница, если ровно через два дня на шломин перегруженный овердрафтом счет капали благословенные доллары. Капали, как капли воды в пересохшее горло. Как валерьянка сердечнику. Как водка алкоголику. В общем — кайф.
Если уж начинать с самого начала, то примерно год тому назад Шломо получил первое и пока единственное послание от своего неизвестного благодетеля. Скорее всего, получил его не только Шломо, но и сотни других мелких литработников из бесчисленных русскоязычных изданий, рассеянных сейчас, слава Богу, по всему свету. Послание содержало простое и понятное предложение — текст в обмен на деньги. Конечно, если текст окажется Благодетелю по вкусу.
Видимо, эта необычная для подобных писем простота и заставила его отнестись к предложению более-менее серьезно. Как правило, ведь получаешь по два-три раза на дню всякие красочные многословные простыни с идиотскими заголовками типа «Ваше будущее — в ваших руках» или «Сделайте ваш первый миллион» или еще чего в том же духе. Только, мол, вышлите нам рупь-два или шекель-три, а еще лучше — доллар-четыре в качестве вступительного взноса…
Нет, никакого такого жульничества в письме Благодетеля не содержалось. Текст в обмен на бабки, да и только. Ну разве что еще одно небольшое условие: полный, решительный и бесповоротный отказ от любых авторских прав. Как с дитем от донорской мамаши: родила, отдала, забыла. И пусть его ходит-гуляет дите где-то по белу свету — сначала в коляске, потом своими ножками, а то и в белом лимузине с лазурными занавесками — чур не искать, справок не наводить… Да может, и помер он уже, ребеночек, на втором месяце от дифтерита — кто знает? Кому надо, тот и знает, только не мамаша-донор. Этой — заказано.
Тяжело, а? Мамаше-то, может, и тяжело, а вот Шломо — нисколечки. Потому как свои претензии на мировую славу он похоронил давно, не помнил даже когда. Скорее всего, и не было у него таких претензий с самого рождения. Точно, не было. Не в его это характере. Как есть он мелкий журналюга… да, в общем, и не журналюга даже, скорее — корректор, невеликая такая, легкозаменяемая техническая деталька в невеликом, легкозаменяемом механизме мелкой русскоязычной газетенки. В общем, не было у Шломо проблем с этим условием. Хотя иногда смерть как хотелось узнать — что с ним происходит, с Бэрлушкой ненаглядным, там — на другом конце провода? Небось, тискают его из номера в номер в каком-нибудь «Урюпинском Вестнике» или в «Питтсбургском Русачке», а то и в «Русопятом Новозеландце» или еще в какой параше… Бог весть, и слава Богу.
Так рассуждал себе Шломо, да и, по совести говоря, выбора у него не было — уж больно он тогда с деньгами зашился. Думал даже сменить свою работу в редакции на что-нибудь более денежное и менее вонючее — скажем, на должность уборщика в общественном туалете. Катька тогда снова потеряла работу, доченька дорогая как раз демобилизовалась и бредила путешествием в Латинскую Америку, машина сломалась, чеки возвращались, с потолка и из носа текло… короче, жизнь раем не казалась. Вот и схватился Шломо за благодетелево предложение, как пьяная шалава за соломинку. Так родился Бэрл. Вышел он молодцом на загляденье, просто вылитый Джеймс Бонд, в аккурат для Урюпинска. Причем, чем гаже тогда было автору, тем круче мочил Бэрлушка своих супостатов. Такая вот интересная закономерность.
В общем, отправил он тогда Благодетелю первую порцию. А через пару дней пришел перевод. Так все и закрутилось.
* * *
Шломо в задумчивости стоял на кухне, прикидывая варианты. Для виски было еше рановато, не говоря уже о коньяке. Водка?.. джин?.. текила?.. в девять утра все это решительно не канало. По-собачьи клонив голову набок, Шломо тщательно вслушался в себя… нет, даже портвейн не подходил. Оставалось пиво. Но пива как раз таки не было! Вздохнув, он полез в холодильник за кефиром.
Шломо Бельский проживал в земном пупе — Золотом Иерусалиме, а точнее — в одной из самых потных складок пупа, известной под названием «Мерказуха». Этот памятник архитектуры победившего сионизма более всего походил бы на муравейник, когда бы Великий Бог Зданий, смягчив свое каменное сердце, даровал ему чуть больше порядка и чуть меньше суеты, крикливой и бестолковой. Мерказуха была построена в новом иерусалимском квартале Гило в конце 70-х с благородной целью приема и первоначальной абсорбции репатриантов. Подойдя к делу вполне идеологически, авторы проекта решили воплотить идею Алии чисто архитектурными средствами. Прежде всего, они трактовали алию как сугубо индивидуальное в духовном плане дело, что отразилось в наличии отдельного выхода на улицу для каждой репатриантской семьи. Понятно, что реализация этого принципа в условиях большого четырехэтажного здания требовала огромного количества внешних лестниц. Но это не пугало вдохновенных архитекторов, тем более, что обилие устремленных в синь иерусалимского неба ступенек прямо ассоциировалось с идеей алии как восхождения, а для особо образованных в еврейском вопросе порождало глухую, но многозначительную внутреннюю перекличку со знаменитой лестницей Иакова. В итоге получилось, что и говорить, кучеряво. Как известно, главным строителем древнего Израиля был царь Ирод. Возможно поэтому многие жители Мерказухи именовали создателей своего жилища емким словом «ироды»…
Пока Мерказуха была молода, ей многое прощалось — и лестницы в том числе. Да и не предназначалась она для постоянного обитания. Слегка оперившись и научившись худо-бедно чирикать на иврите, репатриантские семьи выпархивали из нее, как из гнезда, навстречу своему светлому сионистскому будущему. А затем и вообще, как сказал поэт, «грянули всякие хренации». Русские вошли в Афганистан, мир, пожимая плечами, учил нелепые слова «баб-рак», «кар-маль»… кончилась репатриация. Опустела Мерказуха, обветшали, осыпались бетонные ступеньки знаменитых лестниц, заржавели железные перила, зашуршали мышки под задыбевшим линолеумом пустых комнат; только зимние ливни навещали их через прохудившуюся крышу, да нахальный западный ветер стучал в окно полуотвалившейся трисой. Прошла жизнь, отшумела, как крепдешиновое платье последней москвички, и поникла бедная Мерказуха, как нестарая еще вдова в безмужнем военном захолустье.
И когда казалось, что уже все — конец бедняжке, уже загорелые строительные подрядчики причмокивали толстыми губами на хороший участок, уже здоровенный амбал-бульдозер точил на нее свой хищный нож на соседнем пустыре — как — оп… вновь крутанулось над нами непонятное колесо, дернулись приводные ремни, скрипнули шестеренки, кто-то качнул лысым, чертом меченым лбом, кто-то начал, по-ставропольски упирая на первый слог, процесс, и процесс пошел, и пошел, и пошел… Началась Большая Алия 90-х. Мерказуху подремонтировали на скорую руку, залатали видимые миру раны, и загудела она пуще прежнего.
В числе прочих прибыл туда и Слава Бельский с женой Катей и десятилетней дочерью Женькой. Впрочем, к моменту прибытия в Мерказуху его уже звали Шломо. Произошло это по причине пересыхания горла у чиновника министерства абсорбции, заполнявшего в аэропорту бланки славиных документов. Чиновник был лыс, прокурен и сер от бессменных ночных вахт — олимовские рейсы прибывали тогда с головокружительной частотой. Мучительно отпершиваясь, он потянулся к стоявшей перед ним чашке остывшего кофе и, глотнув разок-другой, откинулся на спинку стула, позволяя себе минутное расслабление. Теперь, после того, как он отключил свой канцелярский автопилот, в нем даже появилось что-то человеческое.
«Значит, Вячеслав Бельский, — протянул он, насмешливо глядя на Славу. — Ты что, из бояр? Это твой дедок с Иваном Грозным переписывался?».
«Нет, — жалобно ответил ему совершенно измученный и оттого также находившийся на автопилоте Слава. — Нет. Из Бельц мы, оттого и Бельские. А с Грозным Курбский переписывался… Курбский, а не Бельский.»
«О'кей, — прервал его израильтянин и вернул чашку на место. — Не переписывался и ладно. Да если и переписывался — не мое это дело. Максимум — ШАБАК спросит.» Он улыбнулся. «Пусть будет Бельский. Но «Слава» — это уже чересчур, особенно в сочетании с Бельским. Давай запишем тебя «Шломо», а? Самое то, по-моему… Ну?»
Рука его зависла над бланком. Слава мучительно соображал. Неясные клочки мыслей прыгали в его гудящей голове по полотну огромного плаката, на котором аршинными буквами значилось: «ХОЧУ СПАТЬ!!»
«Ну что, решайте! — нетерпеливо подогнал его чиновник, переходя отчего-то на «вы». — Люди ждут». Знакомая формула вывела Славу из ступора, и он послушно кивнул. Ручка коршуном упала на бланк. Новоиспеченный Шломо дурак-дураком вышел к жене и дочке. Сначала он комплексовал: как, мол, друзьям сказаться, то да се… А потом привык. Какая, в общем, разница? Хоть горшком назови, только в печь не ставь.
В печь — не в печь, а в Мерказуху-то он угодил. Да так в ней и остался. Все как-то недосуг было съезжать на съемную квартиру, да и денег лишних не наблюдалось. А как пошла на убыль Большая Волна, и цены на жилье подскочили чуть ли не втрое, тут и подкатились власти к уцелевшим обитателям Мерказухи с заманчивым предложением. Мол, не купить ли вам, люди добрые, занимаемые вами квартирки, да по бросовой цене? Подумал Шломо, подумал, да и согласился. И то — какая ни есть конура, а своя. Да и прижились они тут как-то, все вокруг привычное, каждый угол знакомой собакой пахнет. Люди вокруг все свои, родные — Софья Марковна, Гриша с Ксюшей, Сеня… да мало ли…
Шломо допил свой кефир и стал собираться.
* * *
Час пик уже миновал, дети загнаны на школьные лавки, но утро еще держалось на пустых улицах Гило во всей своей зимней прозрачной иерусалимской свежести. Шломо кивнул знакомому шоферу и сел у окошка. Пришепетывая пневматикой и припадая на передние колеса, автобус спускался с крутой гиловской горы в сторону Пата. Черный поджарый BMW-кабриолет, торопясь «украсть» светофор, резко обогнал их справа, срезал угол, взвизгнул, хлопнул и, накатив на перекресток в последнее желтое мгновение, исчез в направлении Малхи.
«Видал этого придурка? — сказал шофер, призывая Шломо в свидетели. — Совсем сдурели, ездят, как хотят. И полиции нет на него, обрати внимание. Стоят где-нибудь, маньяки, втюхивают почем зря рапорты честной шоферне…»
И досадливо замолчал, вспомнив сокровенное.
3
Бэрл торопился на встречу. На спуске с Гило какая-то дура тормозила его по левому ряду. Пришлось обгонять автобус справа. Срезав угол, он успел проскочить светофор почти вовремя и погнал дальше, в направлении Малхи.
Прошло уже почти 14 часов с момента его возвращения после амстердамского провала. Как и было предусмотрено чрезвычайной инструкцией, он расстался с «Ноа» до паспортного контроля, намеренно задержавшись, чтобы исключить любую возможность зрительного контакта со встречавшими ее людьми. Самого Бэрла не встречали. Взяв такси до Центрального Автовокзала в Тель-Авиве, он погулял там с четверть часа и рейсовым автобусом вернулся в Иерусалим. Когда он добрался, наконец, до своей постели в доме на улице Шамир, сил у него осталось ровно на то, чтобы скинуть ботинки. Он заснул, не раздеваясь, ему снилась вывороченная шея Махмуда, голая «Ноа» с бейсбольной битой в руке и незнакомый утопленник на дне амстердамского канала.
* * *
Мудрец позвонил в половине девятого.
«Шалом, Бэрл, — сказал он, сильно картавя и растягивая гласные. — Как Ваша голова?»
«Не страшно, Хаим, — ответил Бэрл. — Мальчишки всегда набивают шишки. Но вы не волнуйтесь: мамочка прикладывает к моим синякам холодные пятаки и жалеет своего бедного крошку.»
Мудрец хмыкнул: «Я так понимаю, что большую порцию жалости вы получили еще там.»
Бэрл промолчал. С другого конца провода донесся неприятный смешок: «Э-э, да дело, видимо, серьезнее, чем я полагал…»
«Послушайте, Хаим, — сказал Бэрл, слегка выведенный из равновесия. — У меня нет ни малейшего понятия, о чем именно вы сейчас говорите. Этот факт, вкупе с некоторыми другими недавними событиями, наводит меня на мысль о том, что не вредно было бы нам с Вами потолковать о том — о сем… и как можно скорее.»
«Конечно, конечно, Бэреле, — заторопился Мудрец. — собственно, затем-то я и звоню…»
«Тогда какого же болта ты мне сейчас мозги компостируешь, старый ты мудозвон?!» — мысленно заорал Бэрл, но вовремя сдержался. Нет уж, жирно будет, такого удовольствия старому хрену он не доставит…
Он перевел дыхание и спросил: «Через час вас устроит?»
«Договорились,» — ответил Мудрец несколько разочарованно.
Когда Бэрл подъехал к террасе ресторанчика в промышленной зоне на Хар-ха-Хоцвим, Мудрец уже сидел там, меланхолически двигая по столу стакан тыквенного сока. Бэрл сел и заказал «Хейникен». Рассказ его занял не более десяти минут. Закончив, он залпом допил пиво и махнул повторить.
Мудрец молчал, изредка смачивая губы в своем стакане, маленький плюгавый старичок лет семидесяти, с венчиком пегих волос, окаймляющих обширную лысину. На седловине мясистого кривоватого носа плотно сидели массивные очки с неправдоподобно толстыми стеклами. Стекла были какие-то особенные, фигурные, с дополнительными накладками, и оттого спрятанные за ними глаза Мудреца превращались в далекие неуловимые точки, прыгающие туда-сюда в рамке роговой оправы.
«Вы знаете, Бэрл, — сказал он наконец. — Мы-таки имеем не маленькую проблему. Вас в Амстердаме ждали, а это означает, что кто-то дал им информацию. Это во-первых.»
Мудрец снял очки и потер переносицу. Обнаружились карие глаза навыкате. Лишенные многослойной стеклянной брони, они выглядели по-детски беззащитными.
«Во-вторых, — продолжил Мудрец, — Вас не убили сразу, значит, рассчитывали вытрясти из вас кое-что новое. О чем это говорит?»
Он вернул очки на привычную позицию, и теперь его зрачки снова суетились, как две сумасшедшие белки. Бэрл молчал. Он вообще предпочитал не отвечать на дурацкие вопросы. Общение с Мудрецами требовало немалого терпения и выдержки, прежде всего из-за их преклонного возраста. Бэрл вздохнул и присосался к горлышку бутылки, всем своим видом показывая, что сотрудничать он не намерен. Не дождавшись ответа, Мудрец с неудовольствием хмыкнул.
«Я скажу вам, молодой человек, о чем это говорит. Это говорит о том, что утечка произошла во внешнем круге. Разумеется, возможно, затронуто и внутреннее кольцо, но вероятность этого невелика. Иначе вы бы уже плавали в Амстеле лицом вниз.» Последнюю фразу старик произнес с видимым удовольствием.
«Фу, как мелко,» — подумал Бэрл. Он зевнул и посмотрел на небо. «К вечеру дождь обещали, — рассеянно заметил он. — У вас как — кости не ломит? Я слышал, что к девяноста годам старики чувствуют изменение погоды лучше любого барометра…»
«Боюсь, что вам не суждено удостовериться в этом на личном опыте, — парировал Мудрец и обиженно нахохлился. — Вы и до моих-то шестидесяти семи не дотянете.»
«Врет, собака, — подумал Бэрл. — наверняка ему под семьдесят пять.» Внезапно ему стало смешно — нашел с кем заводиться. Он примиряюще улыбнулся. «Ладно, Хаим, не будем ссориться. Давайте-ка лучше прямо к делу, чего там петлять вокруг да около.»
Мудрец погрустнел еще больше. «Видите ли, Бэрл, — произнес он, потупившись и глядя в сторону. — Дело и в самом деле неприятное. С одной стороны, вовлечено не так уж много людей. Во внешнем круге операция касалась всего пятерых, из них двое — исполнители…»
«Кстати, что со вторым?» — прервал его Бэрл.
«Мертв, как и следовало ожидать, — кивнул старик. — Сегодня утром полиция обнаружила тело.»
Он вздохнул и выложил на стол дискетку. «Вот досье на всех пятерых.»
Бэрл молча сунул дискетку во внутренний карман куртки.
«Поверь, Бэреле, — продолжил Мудрец, переходя на «ты», что случалось с ним только в самые исключительные моменты, — мне крайне неприятно возлагать на тебя эту грязную работу, но обстоятельства не позволяют использовать кого-нибудь другого. Ты уже засвечен в этом деле, тебе и разгребать.»
«Полномочия?» — спросил Бэрл, ощущая непонятный подъем, не вязавшийся с похоронным настроением Мудреца.
Старик вздохнул. «Я вижу, ты не совсем меня понял. У нас нет времени на выяснение вопроса — кто именно из пятерых является источником. Поэтому Совет не будет возражать против любого решения, даже если пострадают невиновные.»
«Секундочку, — сказал Бэрл, не веря своим ушам. — Вы хотите, чтобы я убрал всех четверых? Даже если они свои в доску?»
Мудрец поднял голову и распрямился. Теперь его прыгающие зрачки скакали прямо по бэрловому лицу. «Да, — сказал он твердо. — Да. Именно так, уважаемый Бэрл. Если вы хотите видеть Протокол, я могу вам его представить.»
Некоторое время оба молчали. Затем Мудрец протянул руку и вынул газету из висящей на спинке стула сумки. Он развернул ее на нужном месте и протянул Бэрлу.
«Не знаю, успели ли вы просмотреть сегодняшние газеты… взгляните…»
Бегло просматривая газетный лист, Бэрл не сразу обратил внимание на маленький заголовок в углу. «Смерть в Амстердаме». Ну-ка ну-ка…
«Вчера, около семи часов вечера, французский финансовый магнат Жак Фредж был доставлен в больницу с тяжелым инфарктом. Сообщается, что он умер, не приходя в сознание. Ливанец по происхождению, Фредж приобрел скандальную известность своими связями с торговлей оружием и открытым финансированием террористических организаций. Обвиняли его и в причастности к отмыванию исламских наркоденег из Афганистана, Ливана и Сирии.»
Бэрл вопросительно посмотрел на Мудреца. Тот кивнул.
«Ваш клиент. В Амстердаме у вас был дублер, как всегда. Вы же знаете, мы никогда не кладем все яйца в одну корзину. Нельзя было позволить Фреджу заключить эту сделку…»
Это не было для Бэрла особенной новостью. Он и сам нередко исполнял роль дублера, не зная об этом до самой последней минуты. Итак, дело сделано. И слава Богу. Он испытывал смешанное чувство ревности и облегчения от сознания того, что его личный провал не повлиял, в конечном счете, на результат.
Мудрец смущенно кашлянул, выводя его из раздумья.
«Я только хотел напомнить тебе об этом, Бэреле. У тебя всегда есть дублер. Всегда. И в этом деле — тоже.» Он ткнул пальцем в направлении кармана бэрловой куртки, где лежала дискета.
«Сделай то, что надо и побыстрее, иначе это сделают за тебя. Мы не можем рисковать.» Мудрец встал.
Бэрл лихорадочно соображал. «Подождите, Хаим, — остановил он старика. — Я могу попросить вас об одном одолжении? Дайте мне неделю. Всего лишь одну неделю.»
«Зачем тебе неделя, ингеле? — мягко спросил Мудрец. — Что ты успеешь, один, за эту неделю?»
«Если я найду вам источник, не надо будет убирать остальных, — сказал Бэрл, глядя в сторону. — Зачем вам лишняя кровь?»
«Остальных… — эхом отозвался Мудрец. — И ее, в первую очередь…»
Он покачал головой и взял сумку.
«Три дня. Я даю тебе три дня. Поверь мне, и это — чересчур. Ты ведь прекрасно знаешь, во что обходятся нарушения Протокола… Но имей в виду — на четвертый день в дело включается дублер.»
Подшаркивая, он обошел стол и погладил Бэрла по плечу. «До свидания, ингеле. Постарайся не совершать глупостей.»
* * *
Бэрл остался сидеть на террасе, задумчиво крутя в руке пустую пивную бутылку. Наконец он поднялся, положил на стол банкноту и медленно пошел к выходу. Бармен окликнул его изнутри: «Эй, приятель!»
Бэрл обернулся. «Не грусти, все образуется,» — крикнул бармен и жизнерадостно заржал.
Бэрл покрутил головой. Видать, и впрямь, дело — не фонтан. Он вошел внутрь кафе и сел у стойки. Бармен, ухмыляясь, глядел на него. Кафе было пусто в этот неопределенный час между завтраком и ланчем.
«А есть ли у тебя «Мартель», бижу? — спросил Бэрл. — налей-ка мне порцайку.»
«Квартиру у него покупаешь? — осведомился бармен, наливая коньяк в широкий низкий бокал. — Не стоит. Я у этого деда даже пердячий газ покупать бы не стал, хотя это, вроде, единственный качественный продукт, который он может предложить.»
И он снова заржал, по-лошадиному качая головой и постукивая по стойке короткопалыми верхними конечностями.
«Это почему же?» — спросил Бэрл, пересиливая раздражение.
«Да ведь сразу видно — жук он! — сказал бармен, отсмеявшись. — Жучила, каких мало. Ты бы у него под пальтом проверил — у него ведь там, небось, панцырь, как у скарабея. А глазки-то, глазки, — так и бегают… и каждый сам по себе. Жук, одно слово.»
Бэрл молча допил коньяк и потянулся за салфеткой. Так же молча он сложил салфетку вдвое и широким жестом припечатал ее к стойке прямо перед барменом. «Получи, бижу, — сказал он, вставая со стула и направляясь к выходу. — Сдачи не надо.»
«Эй, приятель, — завопил бармен, опомнившись. — А кто платить будет?»
«Ты что, сдурел? — нахмурился Бэрл. — А это что?» Он указал на салфетку.
«Это ты шутишь так, да? Это же не деньги!»
Бэрл вразвалку вернулся к стойке и взял бармена за локоть.
«Послушай, бижу, — сказал он почти ласково. — Я согласен, что это не деньги. Но и то, что ты налил мне в стакан, тоже трудно назвать «Мартелем». Посмотри мне в глаза, бижу, и скажи, что я не прав. Ну? Что же ты молчишь, большеротый?»
Бармен и в самом деле не находил слов, разевая рот, но не издавая ни звука. Доводы Бэрла звучали достаточно веско, но еще убедительнее была железная хватка бэрловых пальцев на нервных узлах локтевого сустава.
«Надеюсь, ты не обидишься, бижу, если я истолкую твое молчание как знак согласия?» — спросил Бэрл и ослабил хватку. Бармен поспешно кивнул.
«Вот и славно, — заключил Бэрл, отпуская барменский локоть. — Но предупреждаю тебя на будущее, бижу. Если ты еще раз нальешь мне местную бурду вместо «Мартеля», это меня очень разочарует. Очень. Будь здоров.»
Бармен молча смотрел ему вслед. Он видел как Бэрл пересек террасу, спустился по ступенькам на улицу, сел в свой кабриолет, как он тронул и, педантично остановившись на «стопе», вырулил на главную дорогу. Лишь после того, как черный задок машины окончательно скрылся из виду, бармен взял оставленный Бэрлом бокал и задумчиво взвесил его в руке. Потом он облизнул губы и тихо сказал одно только слово: «дерьмо».
Потом он подумал и добавил еще тише: «Тебя бы на мое место, дерьмо, со всеми этими сраными налогами, дерьмо, посмотрел бы я, как ты крутился бы. Дерьмо.»
* * *
Вернувшись домой, Бэрл включил компьютер. Ее звали Дафна, эту «Ноа». Дафна Шахар, 21 год, город Ашдод; два года службы в пограничных войсках; учится на подготовительных курсах в Тель-Авивском университете.
Ее напарник, Гай Царфати, 26 лет, житель Лода, демобилизованный лейтенант «Голани»; после армии больше года болтался по Латинской Америке; в настоящее время — без определенных занятий. Был без определенных занятий…
Оба они, Дафна и Гай, подрабатывали в частной сыскной конторе «Стена». Владельцами «Стены» числились два других героя досье — Ави Коэн, 37 лет и Арик Зисман, 42, оба — выходцы элитных боевых частей, у обоих — по нескольку лет работы в израильской полиции, Зисман к тому же в течение трех лет подвизался в качестве военного советника в Нигерии.
Пятый, Исраэль Лейбович, 69, уроженец Польши, чудом уцелевший в Катастрофе, проживал в Хайфе на скромную пенсию бывшего кладовщика Электрической Компании.
Покончив с досье, Бэрл плеснул себе коньяку и вышел на балкон. Грея бокал в руках, он обмозговывал ситуацию. Как и следовало ожидать, схема была простой и эффективной. Лейбович получал задание от Мудрецов, скорее всего, не напрямую, а через одного или двух посредников. Затем он передавал детали агентству «Стена». Ави и Арик задействовали своих дешевых агентов. Учитывая простоту задачи — тут снять гостиничный номер, там оставить конверт в камере хранения, все выглядело достаточно невинно, и не вызывало никаких опасений у будущей студентки и ее несчастливого напарника. Скорее всего, хозяева «Стены» толкали им какую-нибудь ляльку о слежке за обманщицей-женой… Бэрл покачал головой, представив себе изумление Дафны при виде вломившихся в комнату арабов…
Впрочем, и Ави с Ариком знали не многим больше. Правда, в отличие от Дафны и Гая, они могли догадываться об истинных целях операций. Постфактум, по сообщениям газет, типа сегодняшней «Смерти в Амстердаме»… Бэрл вздрогнул. Вот оно! Для Исраэля, Арика и Ави операция прошла успешно. Они не должны были знать, что, на самом деле, задачу выполнила дублирующая группа. Нельзя ли сыграть на этом?
Бэрл опустил лицо к бокалу. Теплая щекочущая виноградная волна хлынула в его ноздри. Он закрыл глаза. План уже наклевывался у него в голове, как первый стук робкого мягкого клюва по внутренней поверхности яйца.
4
Шломо ждал Сашку Либермана на углу Кошачьей прощади. Они договорились пообедать в расположенном неподалеку грузинском ресторанчике. Сашка опаздывал, и Шломо нервничал, поминутно поглядывая на часы. Обеденный перерыв подходил к концу. Обычно такие мелочи мало волновали работников «Иерусалимского Вестника», но неделю назад в газете сменился очередной редактор — пятый за последние два года, и это естественным образом вызвало прилив дисциплинарной активности. Шломо вздохнул. С другой стороны, договариваясь с Сашкой, смешно было рассчитывать на какие-то временные рамки, так что — кончай мохать, парень, лучше покорись судьбе, целее будешь. Шломо еще раз вздохнул и покорился. И действительно, сразу как-то полегчало. Он еще раз прошелся по маленькой площади, разглядывая молодую веселую тусовку вокруг лотков с бусами, браслетами и прочей культовой молодежной бранзулеткой.
Ему вдруг вспомнился Питер семидесятых и дымный «Сайгон», где прошла их с Сашкой прекрасная юность; подружек с болгарскими сигаретками «Родопи» на отлете изящного одри-хэпбернского жеста; их самих, небрежно перекатывающих по углам презрительного рта круто заломленную «Беломорину»; крашеные джинсы-самопалы, битлов, сухое вино, белые ночи, кухонные споры, самиздат, дикие молодые пьянки с приключениями… «Эй, Славик!» — окликнул его сашкин голос, окликнул оттуда, из щемящих глубин тридцатилетней давности, с угла Невского и Владимирского.
«Эй, Славик!» — Шломо вздрогнул и обернулся. Конечно… какой, к черту, угол Невского… Вот он Сашка, собственной персоной, во плоти и крови, поспешает вниз по улице Йоэль Мойше Соломон, вот он выкатывается на Кошачью площадь, пыхтя и виновато разводя руками, издали бормоча пока не слышные Шломо слова оправдательной речи по поводу своего получасового опоздания.«…крыли все движение на Яффо… очередной подозрительный предмет… пришлось пешком, даже бежал три квартала… Ну привет, чувак…» Они расцеловались.
Как это происходило всегда, при виде Сашки шломина злость стыдливо скукожилась и убежала прятаться. Их знакомство началось лет тридцать тому назад, в восьмом классе сосново-полянской школы, куда Сашка пришел, переехав вместе с родителями из коммуналки на Герцена. Единственные евреи в классе, они быстро сошлись, но вехой, отмечающей начало их настоящей дружбы, оба считали драку осенью 73-го, когда на перекуре в школьном дворе Мишка Соболев сказал им с растяжкой, через слово сплевывая сквозь редко поставленные зубы: «Ну что, жиды, пригорюнились? Щас-то вам болты ваши обрезанные поотрывают…» И все вокруг засмеялись, включая девочек. В Земле Израиля грохотала Война Судного Дня, и советская пресса радостно хоронила «сионистское государство».
Сашка полез в драку, не раздумывая. Шломо присоединился к нему вторым номером, не очень, впрочем, понимая, зачем он совершает столь безрассудное, ввиду явного неравенства сил, действие. Как и следовало ожидать, их побили, не сильно, но унизительно, на глазах у всей школы. Когда они отмывали в туалете грязь, кровь и сопли с разбитых лиц, Сашка сказал глухо: «У меня там сейчас старший брат. Танкист.» И снова сунул под кран свою кактусообразную курчавую голову. Так в шломину жизнь вошел Израиль, страна, существование которой он никогда до того не связывал с собой лично.
Потом они поступили в один и тот же технический ВУЗ на избранную из практических родительских соображений специальность, не имевшую никакого отношения ни к уму ни к сердцу обоих. На последнем году, как раз перед дипломом, Шломо женился по беспамятной любви на красавице Кате Блейхман, со второго курса факультета машин и приборов. Женился еще и потому, что проект под названием «Женька», свет очей и радость жизни, уже наклюнулся в недрах неосмотрительного Катькиного живота.
Потом пошла обычная безысходная советская бодяга: жилищный вопрос, безденежье, тупое и бесплодное инженерство, безденежье, мучительные перемещения в потном набитом метро, безденежье, летние халтуры, тяжкий и выматывающий быт. На этом этапе пути друзей несколько разошлись. Холостой Сашка ударился в религиозный сионизм, бегал от КГБ, учил иврит, щеголял в не снимаемой ни при каких обстоятельствах кепочке и демонстративно отказывался от пива в Песах. Шломо же было как-то не до того. Слушая друга с подобающим уважением и даже время от времени кивая, он тем не менее в принципе не мог представить себе обстоятельств, оправдывающих добровольный отказ от пива.
Смешно, но в Израиле Шломо оказался прежде Сашки. Решение об отъезде он принял, по своему обыкновению, рывком, не отвлекаясь на долгие раздумья и взвешивания. Так он в свое время женился, так, еще раньше, прыгнул на Мишку Соболева в той приснопамятной драке. «Есть решения, к которым идешь всю жизнь, — так объяснял Шломо свою преступную легкомысленность. — Что уж тут обдумывать — и так все ясно.» Все смотрели на него, как на идиота. В самом деле, кто ж едет в Израиль без мотоцикла? без пианино, на худой конец…
В противоположность своему легковесному другу, Сашка готовился к отъезду долго и обстоятельно. Главной причиной задержки была необходимость жениться. Все в один голос утверждали, что ехать в Израиль одному совершенно не с руки. И хотя в свои тридцать три года был Сашка парень хоть куда, трудно жениться закоренелому холостяку. К тому же дело сильно осложнялось тем, что, в дополнение к обычным параметрам, невеста должна была иметь хотя бы минимальное понятие об иудейских религиозных обычаях. Помыкавшись около года, Сашка, наконец, женился. Дорога на Землю Предков была открыта.
В аэропорту Бен Гурион его встречал родной Славка с чужим именем, чужой старший брат с именем родным и команда старых безымянных знакомцев по родным подпольным кружкам, все в кипах и при прежнем сионистском задоре. Сашка почувствовал себя витязем на распутье. Он пожил с месяцок у брата в Кфар Сабе, кернул как следует со Шломо в Мерказухе, да и перебрался к своим кружковцам, в дальнее поселение Долев, на территориях к северу от Рамаллы, навстречу новой неизведанной жизни, ставшей, тем не менее, логическим продолжением прежнего диссидентства.
С тех пор они виделись нечасто. Когда Сашка, шумный, загорелый, кипастый, в клетчатой поселенческой рубахе навыпуск и с потертым «Узи» через плечо заявлялся к старому другу в Мерказуху, вслед за ним в железные двери мерказушного апартамента заскакивали непрошенные, незнакомые прежде недоразумения, отчего-то катастрофически мешавшие нормальному общению. Прежний отказ от пива в Песах трансформировался у нового Сашки в кашрут по всей форме. Так что застолья не получалось. А много ли пообщаешься без бутылька с закусоном? Ездить же в Долев — еще двадцать раз подумаешь… Путь неблизкий, да и страшновато как-то с непривычки. В те времена машины еще не обстреливали, но камни уже кидали, а то и бутылку с зажигательной смесью схлопочешь. Неприятно. Да и, честно говоря, Сашкина боевая подруга не очень-то Бельским показалась. Чужая какая-то… и губы на них, некошерных, поджимает. В общем, в гости не ходили, больше перезванивались.
Разве что шломина газетенка с грехом пополам удерживала этот почти развязавшийся узел. Дело в том, что Сашка пописывал. Забросив, как и Шломо, свою совковую инженерность, он прилепился к какому-то религиозно-сионистскому издательству, редактируя и издавая на американские спонсорские деньги всевозможные брошюрки и книжки, подобные тем, что передавались в свое время из рук в руки в подпольных еврейских кружках советского периода. Параллельно с этим он состоял внештатным корреспондентом сразу нескольких «русских» газет, сея разумное, доброе, вечное на их обильно удобренных антигеморройной рекламой страницах. Сашкины статьи были напряженно-патриотичны. Он ругал правительство, причем, если левому доставалось по определению, то правому — за недостаточную правость; он разоблачал лживость и двуличие; он грозно клеймил, он едко высмеивал, он остро полемизировал; не было такой маски во всем политическом израильском балаганчике, которую бы не сорвала его безжалостная рука… Короче говоря, Сашка был типичным русскоязычным израильским публицистом правого толка.
Шломино участие в политической полемике ограничивалось областью грамматики и синтаксиса. По многолетней привычке он относился к общественным процессам, как к погоде, со спокойным, наблюдающим фатализмом. Процесс выборов всегда был для него мучителен — в самом деле, имеет ли смысл голосовать за дождь? или за солнце? В итоге он, как правило, голосовал за тех, кто обещал меньше всего решительных перемен к лучшему. Правя сашкины статьи для «Иерусалимского Вестника», он особо не вникал в их привычное содержание. На вопросы — как понравилось — отвечал обычно, что да, понравилось, только вот на его, шломин, вкус, следовало бы смягчить излишнюю резкость высказываний, чему, впрочем, Сашка не следовал никогда.
Так они и жили, пока, наконец, поток сашкиных опусов не оборвался резко и необъяснимо. Поначалу Шломо, не читавший никаких газет, полагал, что Сашка отдает предпочтение другим изданиям, обходя «Вестник» по каким-то своим, одному ему известным соображениям. Лишь много позже, когда общие знакомые стали недоуменно осведомляться, куда это запропал Саша Либерман, он понял, что происходит какой-то нестандарт и позвонил Сашке. В ответ на заданный в лоб вопрос Сашка, помолчав, ответил: «Кризис жанра. Потом расскажу.» и перевел на другое.
И вот сегодняшним утром, придя в редакцию и включив компьютер, Шломо обнаружил почту от Сашки. Почта содержала файл со статьей и короткий сопроводительный текст в три слова: «Позвони когда прочтешь».
Прочтя статью, Шломо не стал звонить. Он поискал сигареты и, не найдя их на привычном месте, пошел стрелять у выпускающего редактора. «Что, опять? — удивился выпускающий. — Ты ж уже год как бросил…»
«И в самом деле…» — вспомнил Шломо и вернулся к своему компьютеру. Избегая смотреть на экран, он начал наводить тщательный флотский порядок на вверенном ему столе.
«Шломо! — звенящим шепотом сказала секретарша Леночка. — Шломо! Что случилось?» Шломо не реагировал. Впервые за шесть лет работы он убирал свой стол, ставший притчей во языцех именно по причине своей принципиальной, уникальной, фантастической никогда-не-убираемости. Леночка смотрела на него с ужасом, как на инопланетянина. Закончив уборку, Шломо сел за стол и произвел последние взаимные перестановки калькулятора, словаря и стаканчика для ручек. Потом немного подумал и переставил их еще раз, в обратном порядке. Потом он затих и просто посидел минуту-другую, глядя на пустую поверхность стола, как тяжелоатлет, ухватившийся за гриф штанги и собирающий всего себя в единый комок воли перед последним, решающим штурмом. Затем, неимоверным физическим усилием оторвав взгляд от помоста, он вытолкнул его на экран монитора, где по-прежнему красовалась статья его лучшего друга Сашки Либермана.
Он прочитал текст еще дважды и позвонил. Сашка снял трубку. «Славик? — угадал он. — Славик? Ну не молчи, говори что-нибудь.»
И впрямь, подумал Шломо, надо бы что сказать. Как-никак.
Он сказал: «Ты…«…потом сделал паузу и прибавил нецензурный глагол.
Сашка несколько нервно рассмеялся: «Эк тебя проняло!»
«Да уж… — дар речи медленно возвращался к Бельскому. — Да уж…»
«Послушай, чувак, какой-то ты заторможенный сегодня — сказал Сашка, беря инициативу. — Давай-ка пообедаем вместе? В «Кенгуру». Что скажешь? В два, на Кошачьей площади. А? Обещаю ответить на все вопросы…»
«Да уж, — сказал Шломо. — В два.»
* * *
Иерусалимские кафе переживали не лучшие времена. После серии терактов на центральных улицах люди предпочитали сидеть дома. Шломо и Сашка были единственными посетителями в этом популярном некогда ресторанчике. Они уже переговорили о здоровье, о женах, детях, перемыли косточки общим знакомым, посетовали на экономический спад… Оставалось поговорить о погоде. Нетерпеливый Сашка сломался первым.
«О'кей, Славик, — сказал он, будто отодвигая занавеску. — Давай не будем о погоде… Что ты думаешь о статье?»
«Не знаю, — сразу ответил Шломо. — Я просто не знаю, что мне об этом думать. Если все это, конечно, не шутка. Если это не хитроумная пародия на левую публицистику. Мол, смотрите, до какого абсурда можно дойти…»
«Что же показалось тебе абсурдным?» — сашкин взгляд знакомо взъерошился, как всегда перед началом принципиального, по его мнению, спора.
«Ну как… — протянул Шломо, сосредотачиваясь — Возможно, слово «абсурд» тут действительно не подходит, но по крайней мере о полном выпаде из консенсуса можно говорить точно. Смотри — сейчас даже многие арабы не приравнивают сионизм к расизму. А по-твоему выходит, что это — близнецы-братья…»
Сашка тряхнул головой: «Конечно, Славочка, а как же иначе? Это ведь как дважды два! Расизм — это разделение по расовому признаку, так? Это — раз. Сионизм — это государство только для евреев, а чтоб другие — ни-ни, так? Это — два. Что получается? — Расизм в чистом виде! Разве не так? Ну скажи, разве не так?»
Шломо мучительно скривился и пожал плечами.
«Что же ты молчишь? — возбужденно додавливал его Сашка. — Разве за это мы боролись в совке? Мы там за права человеческие боролись, а не за «евреи — прямо, арабы-налево»… Ну?»
«Не знаю, — ответил Шломо. — Это ты тогда за права боролся. Я боролся за существование. Я тогда выживал, Катьке с Женькой молоко таскал в клювике…»
«Неважно,» — перебил Сашка, но Шломо остановил его:
«Отчего же неважно? Может, в этом-то и дело, Сашок? В выживании? Видишь ли, с точки зрения выживания все эти высокие материи как-то не канают. Нет, я тебя, конечно, понимаю — права личности и все такое… Но это все как-то умозрительно, а кровь — она вот, живая, наощупь — липкая…»
«Что ты такое говоришь! — всплеснул руками Сашка. — Ты сам-то слышишь, что ты несешь? Права личности и все такое? Да как ты можешь? Да если хочешь знать, нет ничего важнее…»
Его понесло. Запрокинув лоб и тыча в пространство указательным пальцем, он говорил о светлых, истинных ценностях, о слезинке ребенка, о стихийном людском братстве; он вопрошал: по ком звонит колокол? и, разумеется, отвечал; он клеймил низких, равнодушных филистеров, с чьего молчаливого согласия… и еще, и еще — все дальше и дальше от Шломо, вниз по широкой реке красноречия, плавно и сильно текущей в кисельных берегах его возбужденного воображения. Шломо смотрел на друга, не слушая уже, а только впитывая его всей силой набухающего в сердце сострадания.
«Боже мой, — думал он. — Боже мой, что же будет… Что же с ним будет… Что будет…»
Вдруг он осознал, что Сашка уже давно молчит и смотрит на него выжидающе, видимо ожидая ответа на какой-то безнадежно пропущенный, прослушанный вопрос. Глядя в сторону, чтобы скрыть подступающие слезы, Шломо сказал:
«Ну ладно, Бог с ним, с сионизмом. Но как ты дошел до того, что иудаизм — религия фашистов? Ты, верующий человек, с кипой на голове? Ну не дикость ли?» Он поднял взгляд на Сашку и осекся. Тот сидел напротив, улыбаясь с видом фокусника, демонстрирующего публике загаданного туза. Сашка снял свою вечную кепочку и, держа ее в одной руке, другою указывал на свою курчавую шевелюру. Кипы на его голове не было. Шломо застонал и закрыл глаза.
«Как же ты не понимаешь… — продолжал Сашка, улыбаясь светлее солнца. — Тут нельзя наполовину. Видишь ли, я сравнил иудаизм с фашизмом по основным параметрам. И что ты думаешь? Результаты просто поразительные. Они практически совпадают, даже в малом. Смотри: фашизм мистичен, апеллирует к древней традиции, культивирует вождизм, национализм и ксенофобию, не терпит критики, подавляет плюрализм. То же самое, в точности, можно сказать и об иудаизме! Ну ты ведь читал, в статье все это раскрыто подробно. Разве не убедительно?»
«Если честно, то — нет, не убедительно, — устало ответил Шломо. — Можно возразить тебе многое по каждому пункту в отдельности. Даже мне, профану в этих делах, видны натяжки и преувеличения. Что уж говорить о специалистах — дай им только в руки этот текст, и они камня на камне не оставят от всей твоей аргументации, пункт за пунктом. По-моему, ты просто увлекся…»
Сашка молчал, насупившись. Шломо вздохнул. «Ты твердо намерен это публиковать?» Сашка кивнул. Он сидел, зажав в кулаке свою кепочку — упрямый обиженный сорокапятилетний ребенок. Шломо встал и пошел к стойке. Когда он вернулся с графинчиком чачи и двумя стопками, Сашка сидел все в той же позе, упрямо и вызывающе уставившись в стену напротив. Шломо налил. «Не думаю, что это кошерно, — сказал он шутливо. — Ну да тебе теперь ведь все равно.» Сашка не улыбнулся. Они выпили, как было заведено у них издавна — по две, вагон с прицепом. Помолчали. Шломо налил еще.
«Я вот чего не понимаю, — сказал он. — Разъясни ты мне, дураку. Как ты дальше жить собираешься? У тебя же все приводные ремни к этому делу присобачены: работа, дом, друзья, семья наконец… Куда ты теперь пойдешь, горе ты мое луковое? Ты с женой уже разговаривал?»
Сашка мотнул отрицательно.
«Ну вот. Она же тебя выпрет, дурака, как пса паршивого. У тебя же двое детей малых, Саня… Ну что ты киваешь, как китайский болванчик? Скажи что-нибудь…»
Сашка вдруг быстро выпил, налил и выпил. Раз-два, вагон с прицепом. Потом он обратил к Шломо невидящее, мокрое от слез лицо и судорожно вздохнул.
«Эх, Славик, ты думаешь, я всего этого не знаю? Я просто не могу больше, понимаешь? Я просто не могу.» Он сгреб салфетку и высморкался. Графинчик кончился.
* * *
Самолет опаздывал. Катя, хотя и знала об этом, приехала в аэропорт намного раньше времени, как будто рассчитывая приблизить тем самым долгожданную встречу с Женькой. Она загнала свой старенький «Уно» на полупустую стоянку Бен-Гуриона. Еще два-три года назад здесь приходилось ездить кругами, ожидая, когда уже кто-нибудь освободит тебе место. Война решила проблему парковки кардинально.
Шломо должен был подъехать на автобусе из Иерусалима, и Катя, держа остановку в поле зрения, пристроилась с книжкой на свободной скамейке. Подошел автобус. Шломо вышел последним и огляделся, крутясь вокруг собственной оси, подобно собирающейся улечься собаке.
«Эй! — крикнула Катя. — Эй!.. Слава!» Он еще немного подергал головой и наконец сфокусировался в ее направлении.
«Ничего себе, — подумала Катя, глядя на приближающегося преувеличенно твердой походкой мужа. — Это в честь чего же мы так набрались?»
Подойдя вплотную, Шломо церемонно кивнул, поцеловал ее руку бережным мокрым поцелуем и лишь после этого плюхнулся на скамейку.
«Катенька, — объявил он решительно. — Если б ты знала, как я тебя люблю!»
«Я знаю, Славик, — сказала она и погладила его по щеке, — Что случилось, ласточка? Где это ты так нагрузился?»
«Сашка. — сказал он. — Ты себе не представляешь… Просто катастрофа…» Он замолчал, крутя головой из стороны в сторону с каким-то особенно безнадежным выражением. «Нет. Я тебе потом все расскажу. Давай лучше Женечку встретим, — он беспокойно оглянулся, ища часы. — А чего это мы здесь сидим-то? Разве не пора?»
«Сиди уже, — рассмеялась она. — Алкаш ты мой ненаглядный. Рейс опаздывает на два с половиной часа. Так что давай, выкладывай — чего это там с Сашкой твоим произошло.»
Шломо вздохнул и начал выкладывать. Катя слушала, кивая головой.
«Ты знаешь, меня все это почему-то не удивляет, — отрезала она сердито. — Я всегда знала, что мудак он, твой Саша. И сволочь.» В отличие от аполитичного Шломо, Катя имела о происходящем вполне определенное мнение.
«Подожди, Катя, — сказал Шломо, страдая. — Почему ты отказываешь ему в праве на инакомыслие? Почему сразу — сволочь?»
«Почему? Ты еще спрашиваешь почему? Да потому что нас взрывают на улицах! Потому что Гило, в котором, между прочим, живет твоя собственная семья, обстреливают из Бейт Джаллы наобум святых из крупнокалиберных пулеметов! Потому что твоя собственная дочь подвергается ежедневной опасности, надевая армейскую форму! Подлец он и предатель…»
«Катя, Катя, подожди, — прервал ее Шломо. — При чем тут наша дочь? Она демобилизовалась год тому назад.»
«Ну и что? Ты забыл, как мы ночами не спали, как ждали ее звонков из этого чертового Бейт Эля? Как нас в дрожь бросало от шагов на лестнице? Какая сволочь!»
Шломо понял, что спорить бесполезно. «Хорошо, — сказал он. — Будь по-твоему. Хотя я по-прежнему не вижу никакой связи между обстрелами Гило и сашкиными взглядами на сущность сионизма. Оставим их, эти взгляды. Речь идет о моем старинном друге, который вот-вот окажется на улице без всяких средств к существованию. Это ты понимаешь?»
«Погоди-ка… — вдруг поняла Катя. — Ты хочешь притащить его к нам жить? В наши две с половиной комнаты? Именно сейчас, когда Женечка возвращается? Ты что — сбрендил?» Она даже встала и прошлась туда-сюда параллельно скамейке с уронившим голову на руки мужем.
«Уму непостижимо…» Она сердито всплеснула руками и села. Шломо молчал. Катя вздохнула. «Ладно, Бельский, что уж с тобой сделаешь. Все равно ты мне плешь проешь с этим идиотом… Пусть приходит. Но знай — руки я ему не подам, перерожденцу.»
Шломо кивнул. «Спасибо, Катюня. И за что мне такое счастье с женой выпало? Другой такой как ты нету».
«Это верно, — печально согласилась она. — Такую дуру еще поискать. Пойдем хоть кофе попьем…»
Потом, когда они уже стояли в зале прибытия, нетерпеливо и радостно высматривая Женьку, к ним подошла высокая худая очкастая женщина в элегантном брючном костюме и с огромным количеством дутых золотых браслетов.
«Прошу прощения, — сказала она церемонно. — Вы, видимо, родители Жени?» Она произнесла «Дженьи».
«Да, — догадливо ответила Катя. — А вы, конечно, мама Гиля? Очень приятно познакомиться.»
Гиль был Женькиным бой-френдом, с которым она тусовалась вот уже два года, включая эту поездку по Латинской Америке. Шломо улыбчиво закивал, мучительно соображая, что бы такое сказать, как вдруг новая знакомая сама вывела его из затруднения. «Вот они, вот они… выходят!» — воскликнула она и рванула навстречу умопомрачительно молодой, сногсшибательно красивой и неправдоподобно загорелой паре, враскачку вплывающей в зал во всем великолепии своих разноцветных косичек, деревянных индейских бус, костяных гребней и где только не рваных джинсов. Не добежав двух шагов, гилева мамаша раскинула руки, отчего ее браслеты издали согласный, торжественно-фанфарный звон, и театрально воскликнула на весь зал: «Добро пожаловать в ад!».
Шломо изумился и пошел целовать Женьку.
5
Машину он брал в занюханном прокатном бюро в Ришоне. Клерк скользнул взглядом по предъявленным Бэрлом водительским правам на имя Шимона Барталя и попросил кредитную карточку. Бэрл замялся.
«Послушай, бижу, — смущенно сказал он. — У меня нет кредитки.»
«Сожалею, — сказал клерк, напрягшись. — Мы выдаем машины только по предъявлению кредитной карточки.»
Бэрл покашлял, демонстрируя полное замешательство: «Видишь ли, бижу, я не могу позволить себе кредитку. Я — игрок. Сам понимаешь, кто же заходит в казино с кредиткой в кармане…»
В глазах клерка мелькнуло сочувственное понимание. «О'кей, — сказал он. — Но и вы должны понять нас, господин Барталь. Нам тоже нужен какой-нибудь залог на тот или иной пожарный случай…»
«Нет проблем, — сказал Бэрл, широко улыбнувшись. — Я внесу залог наличными. Десять тысяч вас устроят?»
Клерк моргнул. «Послушай, бижу, — сказал Бэрл. — Кончай ты с этим триллером. Я всего-то хочу доехать до Эйлата со своей несчастной подружкой, просадить всю свою наличку и мирно вернуться в Тель-Авив. Назови свою цену или я просто уйду.»
«Подождите секундочку, пожалуйста,» — сказал клерк и ушел советоваться за занавеску.
«Пятнадцать,» — объявил он, вернувшись.
Бэрл обиделся. «Борзеть-то не надо, да? Что я вам, — фраер? Не хотите, как хотите…» Он сгреб свои документы со стола.
«Подождите…» — остановил его клерк.
Спустя полчаса Бэрл уже выезжал на перекресток Бейт-Даган в слегка раздолбанном, но еще живом «Опель Вектра». Ленивый послеполуденный траффик выплюнул его с Аялона в районе бульвара Роках. Проехав еще пару светофоров, Бэрл припарковался напротив задних ворот Тель-Авивского университета.
Она вышла около четырех, одна и направилась к автобусной остановке. Бэрл тронул машину. Подъехав к остановке, он открыл правую дверь и спросил, обращаясь в пространство: «Кто-нибудь может объяснить мне, как проехать в Пардес Кац?»
«А стоит ли, приятель? — улыбнулся бойкий паренек с волосами до плеч. — Пардес Кац — поганое местечко. Езжай лучше в Кфар Шмерияху.»
«Погоди, Галь, — прервал его другой. — Человек серьезно спрашивает, а ты…» Он начал долго и обстоятельно объяснять, перечисляя светофоры, повороты и ориентиры. Бэрл, не слушая, кивал. Он покосился на молчащую Дафну и едва заметно подмигнул. Это вывело ее из ступора.
«Мне как раз туда надо, — сказала она, подходя к двери. — Если хочешь, я могу показать дорогу.»
«Слава Богу, проснулась,» — подумал Бэрл.
Они выбрались на Аялон и теперь медленно продвигались на север в обычной для этого часа пробке. Оба молчали, глядя прямо перед собой, поглощенные острым чувством взаимоприсутствия.
«Говори уже что-нибудь, — хрипло сказала она наконец. — Например, куда ты меня везешь? Не то чтобы это имело какое-то значение…»
«Как твоя спина?» — спросил он, игнорируя ее вопрос.
«Заживает. Хотя с рюкзачком придется повременить неделю-другую.»
«Я надеюсь, что с кремом для загара нет проблем,» — сказал он и искоса взглянул на нее — впервые с того момента, как она села в машину.
Они расхохотались, празднуя исчезновение этого невыносимого, звенящего напряжения, заложившего уши и затруднявшего дыхание, когда каждое движение выглядело невозможным в своей чрезмерной интимности.
«Что ты привязался к этому крему? Он просто остался там с лета. Неужели трудно понять — у какой женщины есть время перебирать свою сумочку ежедневно?»
«Ежедневно? — ухмыльнулся Бэрл. — На дворе февраль, дорогая.»
«Дорогая? — изумилась она. — Дорогая? Послушайте, уважаемый. Я не отрицаю, что позавчера трахнула вас с определенным, даже, как мне показалось, взаимным удовольствием. Последнее обстоятельство, — я имею в виду взаимность — видимо, не позволяет вам подать на меня в полицию жалобу за изнасилование. Но с чего вы взяли, что имеете право обращаться ко мне, как будто мы уже двадцать лет женаты? Дорогая… Подумать только!» Она возмущенно фыркнула и отвернулась к окну, глядя счастливыми невидящими глазами на проплывающие мимо зеленые пустыри, домики, изгороди, на весь этот прекрасный и ласковый мир, танцующий медленное болеро в такт ее светлой раскачивающейся радости.
Бэрл смутился, поняв, что взял не ту ноту. «Ну насчет двадцати лет — это ты, пожалуй, хватила, — сказал он, пытаясь отшутиться. — Двадцать лет назад тебя еще грудью кормили.»
«Сукин ты сын, — думала Дафна, уткнувшись в свое окно. — Сукин ты сын. Сегодня кормление грудью предстоит тебе. Уж я об этом позабочусь… Господи, что я несу?» Она ужаснулась откровенной непристойности своих мыслей. Но это был какой-то веселый, даже радостный ужас. Вслух она спросила: «Нам еще долго?»
«Почти приехали,» — ответил Бэрл. Как и Дафна, он чувствовал мощный, оглушающий резонанс их тяжелого притяжения, темную, засасывающую воронку, в которой, медленно кружась и искривляясь, исчезало шоссе с разноцветными коробками машин, придорожные столбы, ясные, педантичные линии его прежней жизни. Теперь, при помощи какой-то чудом уцелевшей часть сознания глядя сверху на эту воронку, на себя самого, бесповоротно и сладко тонущего в ее властном неотвратимом кружении, он понимал, что единственным движущим мотивом всех его последних действий было желание увидеть ее, коснуться ее, спрятать, укрыть, защитить. Это было неправильно, преступно, против всех правил.
У Бэрла никогда не было недостатка в женщинах. Фактурная внешность, щедрость и бойко подвешенный язык без особого труда поставляли ему короткие, ни к чему не обязывающие связи, в которых обе стороны с той или иной степенью откровенности использовали друг друга для столь необходимой время от времени разрядки. Помимо разрядки, это даже доставляло удовольствие, вполне сравнимое с гурманским обедом или трансляцией хорошего футбольного матча.
Что же произошло на этот раз? Отчего он видит ее, эту совершенно незнакомую девчонку, видит, даже не глядя в ее сторону, каким-то особым звериным периферическим зрением, нюхом, физическим осязанием окружающей ее ауры? Почему именно этот острый локоть, это ломкое запястье, этот темный каштановый завиток над упрямой скулой рождают в нем тянущее, щекочущее, влекущее чувство, эту тяжесть в паху, это сладкое сверление в сердце? Такое происходило с ним впервые в жизни.
«Со мной такое впервые в жизни, — вдруг сказала она, обращаясь к окну. — А ты наверно думаешь, что я нимфоманка. Ну и черт с тобой, думай что хочешь. Кто ты мне? — никто. Я даже не знаю, как тебя зовут…»
Бэрл взял ее руку и поцеловал в ладонь. Они съехали с трассы и продолжили по проселку. На указателе «Бейт-Нехемия» Бэрл свернул и затормозил у шлагбаума. Сонный сторож с древним карабином через плечо обошел машину и сунулся к бэрлову окошку.
«Привет, бижу, — сказал Бэрл. — Где тут у вас циммеры?» Сорож махнул рукой.
* * *
Потом они лежали неподвижно, прислушиваясь к затихающему рыку и топоту зверя, временно оставившего их в покое.
«Кто ты? — прошептала она в его подмышку. — Почему?»
«Слушай меня внимательно, девочка, — сказал Бэрл. — ты поживешь здесь с недельку. Может, меньше. Пока я не устрою наши дела.» Она кивнула.
«Нет, — сказал Бэрл. — Я хочу быть уверенным, что ты поняла.» Он вытащил ее голову из подмышки и посмотрел в неожиданно глубокие колодца зрачков под припухшими веками. «Тебе угрожает большая опасность, слышишь?» Она опять кивнула. «Ты должна сидеть тут безвылазно, никаких звонков, ничего. Ферштейн?»
Дафна снова кивнула и спросила шепотом: «А ты? Ты будешь здесь?»
«Нет. Говорю тебе, я должен уладить кое-что. А ты пока тихонечко посидишь тут, хорошо?»
Она с сомнением качнула головой: «Прямо не знаю, как справлюсь. Ты меня так разогнал, что мне придется завести любовника.»
Бэрл рассмеялся. «Ладно. Я приведу тебе стадо козлов. Только смотри, не затрахай их до смерти.»
«Ах ты, кобелина, — возмущенно воскликнула Дафна. — Соблазнил бедную девушку, а теперь в кусты? Козлами думаешь отделаться?»
«Кто… кого… соблазнил, — выкрикивал Бэрл, задыхаясь от смеха и безуспешно пытаясь заслониться от сыпящегося на него града ударов. — Кто… кого…»
Зверь возвращался, топоча кровью в их пульсирующих висках, обжигая своим жарким дыханием их ищущие друг друга губы…
* * *
В Тель-Авив Бэрл вернулся в десятом часу вечера. Уже совсем стемнело, и нервозный деловой трафик сменился другими, ленивыми, разгульными, опасными ритмами ночного средиземноморского города. Частное сыскное агентство «Стена» помещалось в даунтауне Рамат-Гана, на шестнадцатом этаже одного из больших офисных зданий за алмазной биржей.
Днем этот район кишит клерками в красных галстуках, длинноногими секретаршами, длиннопейсными алмазными дилерами, посыльными, студентами мелких колледжей и прочим сверхзанятым служилым людом. Ближе к ночи вся эта публика бесследно исчезает, разъезжаясь по домам, поближе к зануде-телевизору, домашним тапкам и теплому супружескому боку. Запираются двери кондиционированных офисов, гаснут стеклянные стены небоскребов, замирает дневная жизнь даунтауна. Какие-нибудь час-другой опустевшие улицы еще притворяются, что, мол, вот и замерло все до рассвета… но не тут-то было. Вместе со сгущающимися сумерками из неприметных полуподвалов выползает наружу другая, нагловатая в своей бесстыжей откровенности реальность.
А может, слово «другая» здесь как раз-таки не к месту? Может, следует просто говорить «реальность», или еше лучше — «истинная реальность», в противоположность надуманной, лживой, фальшивой маске дневной галстучной благопристойности… Как бы то ни было, тут и там загораются разноцветные рекламы пип-шоу и бинго-клубов; с веселым скрежетом поднимаются железные трисы бильярдных; красные фонарики ночные запевают свою качающуюся песню над дверьми массажных кабинетов; равнодушные громилы занимают места перед стальными решетками подпольных игорных домов…
И вот уже — шур-р-р — выпорхнула из такси первая ночная бабочка, тут же заплатив таксисту натурой; остановилась на минутку подправить помаду на губах трудового рта, одернула — не вниз — вверх — короткую кожаную юбку, вскинула голову в презрительном развороте и пошла, пошла, поплыла особенной, медленной, тянущейся походкой, моментально превращающей прозаический дневной тротуар в сверкающую грехом ночную панель. А вот и местная гиена — гнойноглазый сутенер, в умопомрачительном пиджаке и сверкающих кожаных полусапожках, натянутый как струна, с выкидным ножом в рукаве.
Все вроде в сборе… нет, кого-то не хватает… Ба, да вот и они — полицейский патруль, крутя чоколакой, проезжает по улицам, тщательно избегая темных тупиков, все в том же общем медленном ритме менуэта, перебрасываясь шутками со знакомыми девочками, шугая чужих, следя за своими — чтоб не борзели.
Ну и, понятно — клиент… Хотя клиент, он клиент и есть, ничего особенного: кто просто глазеет, а кто и покупает. Покупают тоже, как в супермаркете — кто выбирает товар, приценивается, семь раз отмеряет, хотя, казалось бы — что тут на хрен мерить? — а кто хватает, как окунь — быстро, жадно, лишь бы хапнуть…
Шуршит по даунтауну ночная жизнь, свивается кольцами, блестит тусклой змеиной чешуей — до утра, до первого света.
Под утро гаснут разноцветные гирлянды, грохоча, опускаются железные ставни, закрываются витринные окна полуподвалов. Последние одиночные гуляки вываливаются из стрип-клубов, карточные игроки с опрокинутыми лицами щурятся навстречу ненужному новому дню, бледные ошалевшие тинэйджеры выблевывают под забором последствия сигаретного отравления… и все ловят такси — скорее, домой, к подушке… эй, шеф, куда же ты? Но шеф-то знает куда, вон она, его клиентка, ночная ударница, вусмерть уставшая, до ушей затраханная, вон она на углу, ждет его, качается на шестидюймовых шпильках… ахалан, Моти, братишка, вези скорей домой, сил нету. А дома — шприц — и в койку, до вечера…
Зевающий патруль проезжает последний раз по затихшим улицам, сгоняя с углов неконвенциональных сверхурочниц, и — вовремя, как раз вовремя — вон, смотрите, уже побежал первый клерк, размахивая кожаным портфельчиком, бодрый, как пионер; за ним — еще и еще, галстук вьется по ветру… а вон и посыльный на тустусе… и адвокат на «Вольво»… Еще какие-нибудь полчаса, и зашумит-забегает деловой даунтаун, как вчера, как завтра, как всегда. А ночного удавищи — как не бывало. Эй, змей, откликнись, ты где, горыныч? — молчит, и нет ни следа, ни чешуйки… Разве что рассеянный бородач в лапсердаке и черной шляпе, выходя с подземной стоянки, поскользнется на присохшем к ступенькам презервативе, оглянется посмотреть, да и сплюнет с возмущением. Тьфу… прости Господи… И то — пакость-то ведь какая.
* * *
Бэрл неторопливо вошел в пустое лобби, кивнул ночному сторожу и направился прямо к почтовым ящикам на противоположной стене. Спиной чувствуя взгляд охранника, он вынул связку ключей и сунул подходящую отмычку в замочную скважину первой же попавшейся ячейки. Как он и предполагал, смешной замочек имел скорее декоративное назначение. Бэрл вытащил пачку счетов и рекламных флайеров, с полминуты постоял, разглядывая их и озабоченно покачивая головой и лишь затем направился к лифтам. Старик-сторож продолжал есть его глазами.
«Эй, бижу, ты так во мне дырку просверлишь, — улыбнулся Бэрл. — Я новый помощник адвоката Яари.» Он протянул старику руку: «Шимон. Очень приятно.»
Старик кивнул: «Добрый вечер, господин Шимон. Вы ожидаете кого-нибудь? Я хотел бы запереть входную дверь.»
«Нет проблем, бижу, — разрешил Бэрл. — Я ненадолго — вот только разберу пару писем. Сколько можно вкалывать, правда? Жить-то когда будем?»
С французским замком во входной двери частного агентства «Стена» не пришлось возиться многим дольше, чем с почтовой ячейкой адвоката Яари. Это был маленький двухкомнатный офис с крохотной прихожей. Ребята и в самом деле работали вдвоем, даже без секретарши. Бэрл прошелся по ящикам столов, быстро прочесал картотеку, наугад дернул несколько папок из небольшого стеллажа. Все выглядело вполне невинно. Бэрл и сам не знал, что именно он рассчитывал обнаружить — просто так, абы-что, какую-никакую зацепку, кочку на ровной, как стол, поверхности его тотального, бесследного неведения.
Компьютер был только у младшего, Ави. Экран засветился и послушно распахнул перед Бэрлом все небогатое содержимое единственного диска — без паролей, без криптованных файлов и прочей необязательной чепухи. Положительно, ребятам было нечего скрывать. Впрочем, одна деталь как раз привлекала внимание — по крайней мере наполовину диск был забит всевозможными карточными игровыми программами. Десятки вариантов одного только «Блэк Джека»… Ави и впрямь мог считаться истинным любителем карт.
Бэрл открыл браузер и просмотрел историю последних подключений к Интернету. Гм… недлинный список на девяносто процентов содержал сайты интернетовских букмекеров и казино. Это явно становилось интересным. Бэрл выключил компьютер. Он уже собирался уходить, когда взгляд его упал на скомканный рекламный флайер со следами губной помады. Бэрл развернул бумажку. На лицевой стороне крупными буквами было написано: «Клуб стриптизерш МУЛЕН РУЖ!»… лучшие… зажигательные… участие зрителей… и так далее. На обороте флайера русскими буквами, неровно выведенными яркой фосфоресцирующей помадой, значилось: «ЖАННА».
* * *
Стриптиз-клуб помещался в трех кварталах от офиса. Представление еще не началось, клуб был пуст, билетер и бармен перекуривали у входа.
«Вам двадцадки поменять?» — осведомился билетер, продавая Бэрлу билет.
«Зачем?» — удивился Бэрл. Билетер с барменом переглянулись.
«Вы у нас еще не были? — спросил бармен, улыбаясь. — Тогда просто поверьте мне на слово — двадцатки вам весьма пригодятся…»
Бэрл пожал плечами и разменял пару сотенных. «Кому же еще верить, как не тебе, бижу, — ласково сказал он бармену. — А как насчет того, чтобы плеснуть мне коньячку на донышко?»
Бармен почесал в затылке. «Могу предложить только паршивый бренди, — сказал он честно. — Но мой тебе совет — возьми лучше пиво. Мы тут по части выпивки слабоваты. Мы тут как-то все больше по сиськам.»
Они подошли к стойке, где уже стояли две девицы в купальных халатах.
«Познакомься, — сказал бармен. — Жанна. Джессика.»
Жанна была высокой шатенкой с огромной грудью и неправильным прикусом. Она мило улыбнулась и кивнула, загребая воздух передними зубами.
«Счастлив встрече, — сказал Бэрл, залезая на табурет. — Выпьете что-нибудь, девочки?»
«Спасибо, не сейчас, — ответила Джессика, окидывая Бэрла профессионально оценивающим взглядом. — Нам выступать скоро.»
«Пойдем, Ирка, — сказала она по-русски, обращаясь к «Жанне». — Я еще не вмазала…»
Бэрл взял свое пиво и сел за столик у стены.
Зал понемногу наполнялся. Ввалилась шумная компания развязных юнцов человек в двадцать — праздновать чей-то уход в армию. Бочком-бочком просочилась и тесно пристроилась у самой сцены бригада мрачных, придавленных румын-гастарбайтеров. Прочие рассаживались маленькими группами — по двое, по трое. Были и одиночки, один из них — парень явно арабской внешности, обысканный на входе с пристрастием.
Ударила оглушающая музыка, и на сцену, покачивая бедрами, стали выходить «артистки» — шесть девушек в бикини. Представление началось. Бэрлу быстро стало скучно — он не находил ничего интересного в страстных обвиваниях шеста и художественном раздвигании нижних конечностей. Вдобавок у него начала болеть голова от духоты и табачного дыма. Он вышел на улицу подышать. Билетер клевал носом на стуле у входа.
«Ну как, нравится? — приветствовал он Бэрла. — Наше шоу — лучшее на Ближнем Востоке. Приезжают аж из Иордании!»
«Что сказать тебе, бижу? — ответил Бэрл. — Это и в самом деле нечто. Я сам себе завидую. Вот вышел немного поостыть — боюсь обмочиться от возбуждения.»
Он сделал несколько шагов по направлению к углу здания и скорее почувствовал, чем услышал приглушенную арабскую речь. Силуэты двоих мужчин угадывались в темноте тупика, за мусорными баками.
«Эге… — подумал Бэрл. — Это что ж за каша тут заваривается?» Он вернулся в зал. Первая часть представления закончилась, девушки спустились в зал и расхаживали между столиками. Бэрл не успел занять свое место, как подошедшая сзади Джессика решительно плюхнулась ему на колени.
«Это что ж такое, Джессика? — спросил он, предугадывая, впрочем, развитие событий. — Ты что, на мне ездить собралась? Я что тебе, лошадь?»
Джессика жестоко улыбнулась и расстегнула лифчик. «Двадцать шекелей,» — сказала она, борцовской хваткой вцепляясь в Бэрлову шею. Бэрл беспомощно оглянулся. Он был не единственной жертвой. Все полуголые «артистки» уже оседлали своих избранников из публики и интенсивно отрабатывали номер. Он поискал глазами Жанну. Она была рядом, за соседним столиком. Утопив голову маленького пожилого мужчинки в своих необъятных прелестях, Жанна плотоядно утюжила его от коленок к животу и обратно.
«Смертоубийство… — ужаснулся Бэрл. — Она ж его задушит на хрен…»
Джессика дернула его за шею, требуя внимания. «Послушай, красивая, — сказал Бэрл, стараясь звучать мужественно. — Я дам тебе сорок, только слезь с меня, ради Бога.»
«Ты что, гомо?» — разочарованно протянула Джессика.
«Да как-то не по мне вся эта гимнастика, — сказал Бэрл. — Я больше танцы люблю.»
«Можно и танцы, — оживилась Джессика. — Персональный танец в кабинете — сто шекелей. Только предупреждаю сразу — у нас не трахаются. Это на гражданке: «потрогал — женись», а у нас тут все наоборот — трогать можешь, а жениться — ни-ни…» Она рассмеялась. «Ну что, пошли?»
Бэрл смущенно кашлянул. «Э-э… Во-первых, вот тебе твой сороковник, — сказал он, вынимая из кармана две смятые бумажки. — Во-вторых, нельзя ли мне как-нибудь Жанну заполучить?»
«Жанну… Чем же я-то тебе не приглянулась? — обиженно сказала Джессика. — Я и танцую лучше. Ладно, ладно, не объясняй, понимаю… ты, видно, из тех, что на вымя западают. Давай еще двадцатку — устрою тебе Жанну, так и быть.»
Она соскочила с Бэрла и, засовывая деньги в сапог, пошла к Жанне. Та уже оставила свою первую жертву и теперь орлиным взором высматривала нового претендента. Пошептавшись с Джессикой, она махнула Бэрлу рукой, указывая в сторону боковой двери.
«Кабинет» представлял собою крохотный закуток с единственным стулом и магнитофоном на полке. Жанна усадила Бэрла на стул и начала возиться с кассетой.
«Послушай, Ирочка, — сказал Бэрл. — Ты, случаем, не из Днепропетровска?»
«С чего это ты взял? — удивилась она. — Вот ведь сучки! Ну никогда кассету назад не отмотают!»
«Вот такой я проницательный. Это у меня профессиональное. Я ведь, если хочешь знать, сыщик. Частный, конечно.»
«Хреновый из тебя сыщик, — усмехнулась Жанна и включила музыку. — С Харькова я.» Она начала неуклюже раскачиваться в такт Джо Дассену.
«Откуда ты знаешь, какие сыщики бывают? Из кино разве что,» — поддразнил ее Бэрл.
«Прямо уж… — сказала она, закатывая глаза, чтобы лучше войти в ритм. — Вас тут как собак нерезанных. У меня даже постоянный клиент есть — сыщик. Сыщики-хренищики… Как ни ищи, других таких титек все равно не сыщешь.»
Обеими руками она приподняла свои сокровища и шумно задышала, имитируя страсть.
«Тут ты права, — подтвердил Бэрл. — А что это значит — «постоянный клиент», Ируня? Он что тут, каждую ночь околачивается?»
«Когда деньги есть, — простонала Жанна, водя руками по своему широкому украинскому телу. По задумке, эти движения должны были носить эротический характер. В революционной жанниной интерпретации они более походили на ловлю блох. — Он ведь в карты играет, мудило, тут недалеко, на соседней улице. Как часам к трем просадится вчистую, так сюда идет — мол, пожалей, Жанночка, дурную мою голову. Вот я и жалею-ю-ю…» Она перешла на следующую ступень страсти, включающую стоны и подвывания.
Несмотря на известную нестандартность жанниного спектакля, Бэрл выглядел совершенно удовлетворенным. Расплачиваясь, он сказал: «Мой тебе совет, Ируня — смени ты имя. Почему именно Жанна? Айседора тебе куда больше подходит.»
* * *
Ави Коэн вошел в зал около двух. Все выдавало в нем завсегдатая: он похлопал по плечу бармена, сунул голову в служебку, подарил звучный шлепок ягодицам пробегавшей мимо «артистки», обнял соскочившую с очередного клиента Жанну… Но не это привлекло главное внимание Бэрла. Следуя многолетней привычке никогда не забывать о ситуации в целом, даже сосредотачиваясь на отдельном ее фрагменте, он обнаружил интересную вещь. Помимо него, в зале находился еще кто-то, не спускавший с Коэна глаз — это был тот самый, давешний араб, с понтом обысканный в самом начале вечера. Вот он встал со своего места и, пройдя через зал, тронул Коэна за плечо. Вот Коэн обернулся, с видимым неудовольствием оторвавшись от ощупывания пышных форм Иры-Жанны-Айседоры. Вот араб сказал ему что-то на ухо… Коэн кивнул и снова повернулся к Жанне. Араб пошел к выходу.
Бэрл быстро поднялся и прошел в туалет. Задвинув щеколду, он встал на унитаз и приблизил голову к приоткрытой фрамуге, выходящей в тупик сбоку от здания. По его расчетам, там в настоящий момент должны были находиться не только мусорные баки.
«Сейчас выйдет, — говорили по-арабски. — Спрячьтесь и не высовывайтесь. И нож, Зияд, дай мне мой нож…»
Бэрл вынул из наплечной кобуры пистолет и навернул глушитель. Он услышал звук приближающихся шагов.
«Что случилось, Надир? — это был, видимо, Ави Коэн. — Я же говорил, я сам тебя найду, когда будет что-нибудь новенькое. Пока — нет. Но если ты уже здесь, не одолжишь ли мне тысчонку-другую в счет будущего?»
«Я здесь, чтобы кое-что выяснить, Ави, — ответил прежний голос с тяжелым арабским акцентом. — Разве ты не читаешь газет?»
Коэн выругался с явно наигранным удивлением: «Так это был все-таки ваш клиент, этот банкир? Искренне сожалею.» В его голосе было услышать все, что угодно, только не сожаление… «Но я-то тут при чем? Мне вы платили за что? — за двух курьеров. Их и получили — какие претензии?»
«Там была засада, Ави. Мы потеряли пятерых. Абу Айяд чудом остался жив. Что ты скажешь на это?»
В дверь туалета постучали. Бэрл после секундного колебания спрыгнул на пол и пошел открывать. В конце концов, он уже слышал более чем достаточно. Его начал бить охотничий азарт. На улице он сказал билетеру-охраннику: «Кто-то заперся там в сортире и не хочет выходить. Ты бы, чем спать тут…» Он не успел закончить фразу, как билетер был уже внутри. Бэрл в два прыжка оказался у входа в тупик. Открывшаяся ему картина, в общем, выглядела вполне подходящей — Ави Коэн булькал на земле перерезанным горлом, один из арабов сидел рядом с ним на корточках, вытирая нож, двое других стояли вблизи. Тем не менее, Бэрл немедленно вскинул пистолет и приступил к еще большему улучшению ситуации. Спустя несколько секунд двое арабов стремительно догоняли Коэна по дороге в преисподнюю; третий лежал в глубокой отключке. Времени на раздумье не было — билетер вот-вот должен был вернуться. Бэрл взвалил на плечи бесчувственное тело и бегом ринулся к своему «Опелю». Он успел захлопнуть багажник как раз вовремя.
1
Под утро прошел наконец долгожданный дождь, и теперь процеженный через его сито зимний иерусалимский воздух был особенно вкусен. Шломо добил очередную главу и вышел на лестницу. Время подъезжало к часу, так что с известной степенью осторожности можно было предположить, что Сеня — сосед Бельских сверху — уже проснулся после своих ночных компьютерных бдений. В настоящий момент Сеня жил один и пробавлялся случайными заработками программиста-надомника. По личным причинам, усугубленным общим экономическим кризисом, он с трудом сводил концы с концами, и Шломо лелеял надежду пристроить Сашку к нему на временное жительство.
Дверь в сенину квартиру была приоткрыта. Сам хозяин в махровом халате сидел на диване, поджав под себя ногу и курил, бессмысленно щурясь на выключенный телевизор.
«Сеня, привет. Проснулся? К тебе можно?» — спросил Шломо и, не дожидаясь ответа, уселся между телевизором и Сеней, рассчитывая таким образом пересечь воображаемую линию его взгляда. Сеня промычал что-то нечленораздельное и мучительно закашлялся.
Шломо прикинул свои шансы. По опыту он знал, что многоступенчатый процесс сениного пробуждения занимает от часа до полутора. Процесс этот обычно начинался с момента, когда, не отрывая головы от подушки и даже не продирая глаз, Сеня протягивал руку за первой сигаретой «Нельсон», игравшей в данном случае роль кислородной подушки. Вдохнув живительного дыма, он садился на кровати и некоторое время курил, вслушиваясь в себя и поджидая первый приступ кашля.
Кашель подкатывал с мощью грузового поезда. Эту вроде бы неуправляемую враждебную энергию Сеня, в полном соответствии с рекомендациями восточных школ единоборств, рационально использовал в полезном направлении. Так, с помощью кашля он продирал глаза — если уж так или иначе они вылезали из орбит… С помощью кашля он сбрасывал с кровати ноги — улучив момент, когда все тело начинало сотрясаться в едином кашляющем резонансе. Наконец, кашель способствовал первичному умыванию лица посредством обильного слезоточения. С какой стороны ни посмотри — ничего, кроме пользы, от кашля не было, так что временами Сеня с ужасом думал, что же произойдет, если в одно прекрасное утро кашель вдруг откажется служить…
Затем Сеня, используя преимущество открытых глаз, находил пепельницу, гасил уже давно обжигающую пальцы сигарету и немедленно закуривал новую. Переход на следующий этап, будь то возврат ко сну или прогулка к унитазу, требовал осознанного физического усилия, на что Сеня, как правило, был в этот момент еще совершенно не способен. Это вынуждало его снова ждать внешнего толчка, который обычно приходил в виде властного зова мочевого пузыря.
И снова Сеня использовал враждебную энергию в мирных целях. Он боролся с пузырем до последнего, доводя себя до необходимости направляться в туалет бегом. Это заменяло ему утреннюю пробежку и таким образом экономило время. Помимо всего прочего, невыразимое чувство облегчения поставляло ему положительный ответ на вопрос — а надо ли было, в принципе, просыпаться? не напрасны ли все эти адовы муки? Вот видишь, — говорил он сам себе, поглаживая живот, где затихал в благодарном трансе страдалец-пузырь, — вот видишь? А не встал бы с постели — хрен бы получил такое огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение…
Приободренный первыми успехами, Сеня выбрасывал в унитаз сигарету, закуривал новую и отправлялся на диван. Там разворачивалось главное сражение. В истории оно проходило под названием «дайте-мне-придти-в-себя», ибо таковы были единственные слова, которые он мог в эти моменты поизносить, да и то лишь ближе к промежуточному финишу. Какие именно тектонические процессы протекали на этом этапе в сенином организме, обмякшем на поджатой левой ноге, не мог бы сказать никто, включая самого Сеню. Просто он вдруг обнаруживал, что язык начинает повиноваться, доказательством чего служит первое внятное «дайте мне придти в себя», что картинка перед глазами стабилизируется, как будто повинуясь отвертке настройщика, что ноги носят, а руки в состоянии держать не только сигарету, но и, скажем, ложку. А значит, можно было вставать, делать кофе, принимать душ, звонить по телефону, начинать жить.
Тщательно прослушав сенино мычание, Шломо попытался определить степень его близости к знаменитой формуле. Судя по последнему, вполне четко различимому «бя», ждать уже было не долго. Шломо включил телевизор, дабы что-то раздражало бессмысленный сенин взгляд, и отправился на кухню делать кофе. Чайник уже закипал, когда с дивана донеслось долгожданное «Дайте мне придти в себя!», и почти годный к употреблению Сеня прошлепал мимо него в ванную.
В прошлом году Сене исполнилось шестьдесят. Рожденный в блокадном Ленинграде смертельным декабрем 41-го, он каким-то невероятным образом пережил ту войну, включая прямое попадание авиабомбы в их дом, как раз в момент, когда мать сунула ему грудь с немногими каплями молока. Бездна разверзлась посередине комнаты, пол накренился, и, одной рукой прижимая к груди ребенка, а другой — вцепившись в спинку кровати, она аккуратно съехала с третьего этажа вместе с остатками того, что прежде звалось номером 4 по улице Гоголя, угол Кирпичного, там, где пивной ларек — всякий знает.
Скорее всего, именно эта история сыграла решающую роль в формировании сениной личности. Во-первых, с той поры он всегда ел быстро и жадно, как будто и в самом деле опасаясь внезапной бомбежки. Во-вторых, завидев любую женскую грудь, он испытывал непреодолимую потребность вцепиться в нее как можно крепче. И если первая странность была вполне простительной, да, собственно говоря, и странностью-то в те трудные годы не считалась, то второе обстоятельство выглядело серьезной помехой для стандартного жизненного пути семейного человека. Едва достигнув подросткового возраста, Сенечка превратился в полового гангстера, неутомимого охотника за грудями. Свой первый успех он отпраздновал в средней группе пионерлагеря, на зависть старшим слюнтяям трахнув собственную пионервожатую, и с тех пор не останавливался ни на минуту.
Невзрачный, маленького росточка, с кудлатой головой философа и сатира, он обладал той таинственной и редкой повадкой Казановы, заставляющей любую красавицу по первому требованию сдавать свои бастионы, вернее, свои груди в простертые руки неумолимого победителя. До семьи ли тут, скажите на милость? Впрочем, по молодости лет Сеня женился, родил дочку, но брак этот не просуществовал и года. Еще бы — мог ли наш индеец удовлетвориться двумя вдоль и поперек изученными супружескими грудями, в то время как вокруг, почти без охраны, только руку протяни — парами расхаживали десятки, сотни, тысячи вожделенных объектов всех форм и размеров? И он снова вышел на тропу свободной охоты.
Даже возраст, казалось, был не властен над неутомимым Чингачгуком. Каких только грудей не перебывало в его неказистой мерказушной квартирке! Некоторые их обладательницы годились Сене во внучки… И все же… То ли кончилась мера, отмеренная ему Верховным Весовщиком, то ли еще что, только, еще не перевалив через шестьдесят, он вдруг разом потерял интерес к любимому занятию. И не то что пошли на спад его прославленные половые параметры — нет, с этим как раз таки все обстояло не хуже, чем прежде. А вот интерес — пропал. Сеня покрутился еще с полгода — чисто по инерции, а потом плюнул, отправил восвояси последнюю пару грудей и зажил один, не считая телевизора.
Третьим и главным последствием сениного падения на развалины знаменитого пивного ларька стало четкое осознание того факта, что жизнью своей он обязан невероятной случайности, описываемой миллионными долями процента. Собственно говоря, он должен был принять смерть еще тогда, в нежном возрасте мягких черепных костей, не от бомбы, так от потолочной балки, от случайного кирпича, от удара, вызванного свободным падением с десятиметровой высоты, да мало ли от чего… подумайте… ну что тут объяснять…
И тем не менее, он жил, ходил в школу, отвечал у доски, дрался на переменках с Колькой Балуевым, быстро и жадно ел пустую картошку и, подкравшись сзади, дергал за сиськи старших дворовых девчонок. Все эти действия можно было рассматривать как случайные, неучтенные, даже в некотором смысле незаконные, в отличие от солидных, практически обоснованных платформ бытия других детей, того же, скажем, Кольки. Его, Сени, не должно было тут быть, ходить, драться, есть, дергать за сиськи. Он был призраком — вот оно, правильное слово. Призраком.
И как призрак, он никому ничего не был должен. Вот так. Третьеклассником он бесстрашно хамил ужасному завучу 210-й школы, завучу, перед которым плакали, а то и мочились в штаны самые отъявленные сорвиголовы из старших классов. А когда пришла пора джаза, стиляг и пластинок «на костях», то именно у него были самые узкие брюки, самые толстые подошвы и самый напомаженный кок во всей компании, что хиляла тогда по Броду.
В институте и позже, на работе, он жил, как хотел — легкий, веселый, остроумный — центр любой компании, ничем и никому не обязанный. К советскому инженерству тех времен глагол «работать» подходил весьма приблизительно. Слово «служить» выглядело намного точнее при описании того уникального бытия от восьми до четырех тридцати, заполненного долгими перекурами, бурными служебными романами, дикими пьянками по любому поводу и вовсе без повода, обменом культурными впечатлениями, беготней по окрестным магазинам, игрой в шахматы, в домино, в карты — всем, чем угодно, только не «работой». В этой непростой, совершенно неформальной среде Сеня был бесспорным лидером. Именно таким, блестящим и таинственным неформалом, увидели его впервые желторотые Славка и Сашка, по воле судьбы распределенные в сенину контору после защиты диплома.
А потом, как известно, все развалилось. Особых причин уезжать у Сени не было. С другой стороны, почти все друзья и близкие, а значит — привычная среда обитания — либо уже разъехались, либо уже собирались. Поневоле собрался и Сеня. Несмотря на то, что тогда еще можно было выбирать, он выбрал Израиль, а не Штаты — Америка пугала его именно своей непривычной и всеобъемлющей формализированностью, в то время как Страна Евреев оставляла некоторые надежды на сохранение прежнего образа жизни.
С тех пор, в течение всех своих тринадцати израильских лет, он упорно отказывался от любых формальных рамок, тут и там навязываемых ему новой жизнью — к примеру, здесь требовалось «работать», а не «служить», что уже накладывало неприемлемые ограничения на его свободную, никому ничего не обязанную личность. Эта упорная, неравная, непрекращающаяся борьба с хамской недружелюбной действительностью заслуживала подлинного уважения, тем более, что пока в этой борьбе побеждал Сеня. Он ухитрялся существовать, перебиваясь случайными программистскими халтурками и чтением лекций на курсах компьютерного ликбеза. Впрочем, действительность не отчаивалась, твердо зная, что поражений у нее может быть сколько угодно, в то время как Сеня не в состоянии позволить себе ни одного…
«Сеня! — крикнул Шломо в закрытую дверь ванной. — Кофе готов, вылезай уже, сколько можно.»
«Дайте мне придти в себя,» — невнятно донеслось из-за двери. Шломо насторожился, пытаясь определить причину подозрительной невнятности. Иногда процесс Сениного пробуждения впадал в деградацию, вплоть до возврата в постель. К счастью, на сей раз причины были другими — дверь распахнулась, и бодрый Сеня появился на пороге, интенсивно вытирая полотенцем свою бизонью кудлатую башку.
«Ну, — сказал он, усаживаясь на диван и закуривая. — Кто-то что-то говорил про кофе?» Шломо беспрекословно подал.
«Сенечка, — начал он вкрадчиво. — У меня есть к тебе маленькая просьба.»
«Ум-м-м?» — донеслось с дивана.
«Видишь ли, у Сашки могут возникнуть некоторые проблемы с жильем, причем в самое ближайшее время.»
«Еще бы, — хмыкнул Сеня. — После вчерашней статьи в «Вестнике» лично я выпер бы его с этой планеты, не то что — с квартиры…» Жмурясь и гримасничая, он начал расчесывать бородатую щеку. «Ты завтракал?»
«Ты же знаешь, я — ранняя пташка,» — ответил Шломо.
«Тогда сделай мне яичницу, — сказал Сеня. — Из трех яиц.»
Шломо распахнул холодильник. «Тут нет яиц, Сеня!»
Сеня почесал живот. «И бутерброд с маслом,» — сказал он, немного подумал и добавил: «И с сыром!»
Шломо вздохнул и выбежал наружу. Торопливо спустившись к себе, он быстро сварганил яичницу с колбасой, намазал пару бутербродов и, загрузив все на поднос, вернулся наверх. Сеня, поджав ногу, сидел на диване перед чашкой остывшего кофе и курил, щурясь на телевизор. Шломо поставил поднос на журнальный столик.
«На стол,» — поправил его Сеня, не отрываясь от телевизора. На экране жизнерадостная тетка в сарафане объясняла по-немецки кулинарные рецепты.
«Сеня, — сказал Шломо спокойно. — Пошел ты на…»
«Ты груб,» — констатировал Сеня. Кряхтя, он сполз с дивана, погасил сигарету и, взяв поднос с яичницей, пошел к столу. На полпути он остановился и спросил, обращаясь к тетке в сарафане: «Разве я просил яичницу с колбасой? И почему бутерброды без сыра?» Тетка молча шинковала сочную немецкую капусту. Шломо улыбался. Не дождавшись ответа, Сеня сел за стол и начал есть, быстро и жадно.
Заглотив последний кусок, он откинулся на спинку стула и закурил, поставив оба локтя на стол и задумчиво глядя сквозь приоткрытую дверь на умытые горней росой кварталы Иерусалима. Шломо ждал. Сеня докурил сигарету до самого фильтра и сказал: «Вчера смотрел фильм, не помню названия. Шкодный такой фильмец, с Умой Турман. Так вот, она там…»
«Сеня, падла, — сказал Шломо беззлобно. — Сашке жить негде.»
«Что значит — негде? — удивился Сеня. — Я же тебе десять раз говорил — пусть живет у меня. Так вот, Ума Турман…» Он закурил и начал пересказывать виденный вчера фильм. Шломо смотрел на него, не слушая, а просто любя до слез, как любят только домашних собак и самых близких людей.
7
«Вы знаете, Бэрл, — сказал Мудрец задумчиво. — С годами учишься находить Бога в самых малых вещах. В глотке воды или воздуха. В мокром листе. В чьем-нибудь взгляде. Даже в пластмассовой игрушке.» Он рассмеялся дробным мелким смешком.
«Знавал я одного юродивого — из тех косматых оборванных существ, что ходили в Польше из деревни в деревню, круглый год босиком — по камням, по снегу, по осенней грязи — куда там йогам… Так вот, отчего-то он терпеть не мог пластмассовых игрушек. Бывало, как увидит, что ребенок в песочнице с пластмассовой формочкой возится, так подбежит, схватит формочку-то, да и забросит куда подальше. Ребенок, конечно — в плач, мамаши — в крик, папаши — в тычки, а он, бедняга, им всем объясняет: мол, люди добрые, нету Бога в пластмассовой игрушке; в этом вот железном совочке — есть, и в кубике этом деревянном — тоже есть, а вот в том синеньком ведерке — нет, и не ищите…»
Они медленно шли по мокрой после недавнего дождя тель-авивской набережной по направлению к Яффо. Бэрл напряженно молчал. Ему были хорошо знакомы эти отвлеченные философствования Мудреца, скрывающие за собой аналитическую мыслительную работу совершенно в другом направлении. Полчаса тому назад, за столиком в кафе Капульского Бэрл завершил свой рассказ об агентстве «Стена», о скурвившемся Ави Коэне и о сильно помятом, но пока еще живом связнике Надире, ждущем своего часа в подвале дома на улице Шамир. Путешествие в циммеры кибуца Бейт-Нехемия он опустил как не относящееся к делу. Выслушав, Мудрец помолчал, а затем предложил подышать свежим воздухом. С тех пор он говорил только о Боге и погоде. Они уже подходили к «Дельфинарию», а Бэрл все еще не услышал от своего собеседника ничего путного. Это слегка беспокоило его, но он не вмешивался в пустые разглагольствования Мудреца, зная, что это может только отдалить результат.
«К сожалению, это знание приходит только с годами, — уныло сказал Мудрец. — Вам, молодой человек, мои слова наверняка кажутся пустым разглагольствованием…»
«Отчего же, — язвительно ответил Бэрл. — Ваш юродивый, несомненно, предвидел грядущую зависимость Европы от арабской нефти и старался втолковать это именно детям, как будущим аналитикам свободного мира.»
Старик вздохнул. «Вот видите… Вы знаете, Бэрл, в чем ваша проблема? — В излишней эмоциональной вовлеченности. И дело не только в том, что эмоциональная вовлеченность мешает почувствовать Бога маленьких вещей. Она просто мешает жить. Мешает видеть. Куда вы спрятали вашу мейделе?»
Бэрл встал, как вкопанный. Удар был нанесен настолько внезапно, что пробил все заранее заготовленные редуты. Мудрец тоже остановился и смотрел на него в упор, скача сумасшедшими зрачками по растерянному бэрлову лицу.
«Я так полагаю, Хаим, — произнес Бэрл, собравшись, — что вы спрашиваете об этом из чистого любопытства. Теперь, когда картина ясна, нет никакой необходимости следовать прежней программе. Коэн мертв, а остальных можно оставить в покое.»
«Вы так полагаете? — резко прервал его старик. Его голос приобрел неприятную скрипучесть. — Откуда такая уверенность, что второй парень из «Стены» не замешан? А старик из Хайфы? Даже если он чист, как бело-голубой талит, где гарантии, что на него не выйдут новые друзья Ави Коэна? Поймите: все, чего касался Коэн — трефа, сколько бы вы не пытались навести на это кошер. Все, включая вашу Дафну.»
Бэрл молчал, подавленный очевидной и непререкаемой правотой Мудреца.
«Послушайте, Хаим, — сказал он наконец. — Видимо, вы правы насчет моей эмоциональной вовлеченности. Проблема в том, что в данном, конкретном, случае вы требуете от меня слишком многого. Война есть война, и вы не можете сказать, что я когда-нибудь позволял себе забыть об этом. Я никогда и не о чем не просил вас. Никогда. А сейчас — прошу. Оставьте девушку в покое. Я ее вам не отдам.»
Старик взял его под руку. «Не городи чепуху, мой мальчик. Ты не сможешь прятать ее вечно. Да и кроме того — разве дело в нас? Мы ищем ее только затем, чтобы она не попалась головорезам Абу Айяда. Вот уж кто действительно начнет охотиться за нею через неделю-другую. Особенно после того, как узнает о смерти владельцев «Стены» и об исчезновении Надира…»
«Владельцев? — остановил его Бэрл. — Второй компаньон, скорее всего, ни в чем не замешан. Жив-здоров, чего и вам желает…»
«Погиб… — скорбно прервал его Мудрец. — Погиб в автокатастрофе сегодня утром. Упал со своим «Харлеем» на спуске с Арада к Мертвому морю.»
Бэрл молчал.
«Предупреждая ваш вопрос относительно вашего нового знакомого из Хайфы, — продолжил старик все так же скорбно, — Господин Исраэль Лейбович умер сегодня ночью в своей постели от тяжелого инсульта. Как видите, смерть не выбирает — косит и старых и молодых, во сне и на мотоцикле…»
Бэрл молчал.
«Я признаю, что обещал вам три дня. Но, во-первых, они истекли сегодня утром; во-вторых, если быть до конца честным, вы просили их только для вашей Дафны, в-третьих — и в-главных — Протоколы обязательны к исполнению…»
Мудрец беспокойно покосился на молчащего Бэрла. «Слушайте, Бэрл, — сказал он с нотками раздражения в голосе. — Вам прекрасно известны правила. Никто из входящих во внутренний круг, включая членов Совета, не вправе позволять себе подобных историй. Ни у кого из нас нет семей, чересчур близких друзей, чересчур любимых женщин. Мы обречены на одиночество. Мы на войне. Мы солдаты. Почему же вы ведете себя подобно обиженному ребенку?»
Бэрл молчал.
Замолчал и старик. Они уже почти дошли до Яффо; слева показались обветшалые постройки турецкого периода; ветер доносил запахи рыбы, дыма и горелого мусора.
«Пожалуй, мне пора,» — сказал Бэрл.
«Вам будет пора, когда я сочту это необходимым, молодой человек,» — сварливо ответил Мудрец. Еще немного помолчав, он, как будто решившись, махнул рукой и продолжил: «Ладно, черт с вами. Вот вам единственный вариант разрешения страданий молодого Вертера. Во-первых, вы достаете мне Абу Айяда. Живым. После этого вы объясняете вашей девушке ситуацию и отдаете ее нам. Мы прячем ее на два года от всего мира, включая, естественно, вас. Я бы даже сказал — от вас в первую очередь… Прячем, инсценировав смерть, так что родителям придется плакать так или иначе. Вы, со своей стороны, обещаете не искать с ней контакта в течение этих двух лет. Ни под каким видом.»
«А потом?» — глупо спросил Бэрл.
Мудрец воздел руки к небу: «Боже милосердный!.. Сначала проживите их, эти два года, вы, влюбленный баран! А потом поговорим. Впрочем, я искренне надеюсь, что вы к тому времени поумнеете. Шарики в штанах обладают короткой памятью, хотя размерами и больше шариков в голове.»
Бэрл кивнул. «Спасибо вам, Хаим. Это щедрое предложение. Я согласен.»
«Подождите радоваться, — проворчал старик. — Я должен еще получить согласие Совета на изменение Протокола. Но это уже моя головная боль. Давайте пока поговорим об Абу Айяде.»
Они повернули назад, в сторону Тель-Авива.
* * *
Бэрл выехал из Офарима в полной темноте. Поселение уже спало в этот поздний час; охранник на выезде, не глядя, открыл ворота. Бэрл свернул налево, в направлении Халамиша. На расстоянии нескольких километров от Офарима помещалась Шукба — большая враждебная деревня, один из знаменитых центров угона и «художественной разделки» на запчасти краденых израильских автомобилей. Вади справа от изрытого колдобинами шоссе было усеяно ржавыми скелетами машин. Бэрл остановил «Опель», не доезжая нескольких сотен метров до первых домов. С заднего сиденья он достал небольшой складной велосипед и быстро привел его в рабочее состояние. Затем он открыл багажник. Замотанный клейкой лентой Надир лежал на своем уже ставшем привычным месте. Впрочем, в ленте особой надобности не было — араб еще парил на радужных героиновых крыльях в райских садах своего мусульманского рая. На всякий случай Бэрл сделал еще один укол и только потом снял веревки и кляп. Легко вынув из багажника обмякшее тело, он переместил его на место водителя. Надир тихонько замычал. На лице его расплылась блаженная улыбка. «Прощай, сучара, — сказал ему Бэрл и открыл канистру. — Из грязи вышел, в грязь и возвращайся. Нефиг по Европам разъезжать…»
Через минуту он уже крутил педали, быстро спускаясь к шоссе. «Опель» полыхал на дне вади. BMW ждал Бэрла на стоянке рядом с армейским блокпостом. Когда, выруливая между бетонадами, Бэрл проезжал пост, пожилой резервист в каске наклонился к его окошку.
«Ты что, сюда из Офарима на велосипеде прикатил? И не страшно?»
«Чего не сделаешь ради похудания, бижу, — улыбнулся Бэрл. — Зато смотри, в какой я форме…» Он нажал на газ.
Глядя на быстро удаляющиеся задние огни кабриолета, резервист покачал головой. «Видал? Что ты на это скажешь? Чумовые они, эти поселенцы…»
«Ясно, чумовые, — согласился его напарник, дремлющий на стуле около пулемета. — Выселить их всех к ядрене фене и дело с концами. Мы тут, как фраера, на бронированном джипе патрулируем, а этот маньяк, видите ли, на велосипеде разъезжает…»
Он сплюнул и закурил. «А тачка тоже не слабая. Упакован, видать, по самые уши.»
«Еще бы, — отозвался первый милуимник. — На них-то наше сраное правительство денег не жалеет. Нет чтобы…» И они углубились в животрепещущую тему раздачи общественных слонов.
* * *
Дафна смотрела на него сбоку, приподнявшись на локте. Колеблющийся свет луны бродил по комнате, присаживаясь на постель, прислоняясь к шкафу, подбирая разбросанную в беспорядке одежду. Бэрл приехал поздно, и тем не менее она проснулась еще до того, как услышала шум машины, почувствовав его приближение издалека каким-то особенным звериным чутьем. Она выскочила к нему навстречу под моросящий ночной дождик, босиком, в одной рубашке, просясь на руки, как ребенок, изнывая от клубящегося в низу живота желания. И снова они плыли по тягучей и темной, искрящейся под руками воде; они сами были этой водой, медленно вливающейся в глохнущие раковины ушей; они были тянущим, пьющим, мягкогубым ртом, ортом и миртом, гуртом и топотом; вцепившись друг в друга, как в лодку, они взрывались в дробной, вихрящейся пене водопада…
«Что?» — переспросил он. «Бензин,» — повторила она. Это были первые слова, которыми они обменялись.
«От тебя пахнет бензином. Ты работаешь на бензоколонке?»
«Нет. Я заправляюсь бензином как трактор. На обычном человеческом топливе с тобою не справиться.»
«Напрасные старания, милый. Сегодня тебе это не поможет. Я высосу тебя без остатка, как паучиха. Где ты был? Каждый день я знала, что умру, если ты не приедешь. Я умирала каждый день, и теперь я полна своими смертями. Ты должен выдолбить их из меня, слышишь?»
И снова мерцающий лунный свет бродил по комнате, гладил их сплетающиеся руки, их впечатанные друг в друга бедра, их приклеенные друг к другу животы; скользил по их блестящим от сладкого пота спинам, дрожал в серебрянном отливе спутанных каштановых волос.
«Дафна. Я должен тебе что-то сказать.»
«Нет. Потом. Утром. А сейчас мы будем спать. Молчи.»
Они уснули, отказываясь разлучиться и во сне, этом самом одиноком после смерти состоянии человека.
Бэрл проснулся от звука закрываемой трисы. Дафна стояла у окна спиной к нему и осторожно тянула за ремень, изо всех сил стараясь не шуметь.
«Зачем нам день? — сказала Дафна, кожею почувствовав его взгляд. — Давай притворимся, что еще ночь. Что нам стоит?»
И они снова занялись любовью, утренней, спелой, сытой и медленной, как осень.
«Дафна.»
«Нет, давай не сейчас, потом…»
Он ласково, но твердо убрал ее защищающуюся ладонь со своих губ.
«Послушай, девочка, это очень важно. Тебе придется уехать из страны. Года на два. Твои родители, друзья… все-все-все будут думать, что ты умерла. Это необходимо, иначе тебе придется умирать по-настоящему.»
«Но почему? Ты же их всех перебил?»
Он горько усмехнулся: «Как видишь, не всех. Осталось более чем достаточно. И учти — они хотят тебя найти. Потому что ты теперь для них — единственное существо, которое еще может что-либо прояснить.»
Она нахмурилась. «А как же Ави и Арик? Гай? Или их тоже прячут?»
«Конечно, — сказал Бэрл, отворачиваясь. — Они уже спрятаны… да так, что надежней не спрячешься.»
Речь вползала между ними, растекалась кривыми извилистыми протоками лжи, колыхалась отстойной, болотной зыбью недоверия. Оба чувствовали это, с тоской возвращаясь в серые декорации обыденности из дикого тропического сада близости, из их частного, немого мира на двоих.
«Я даже не знаю, как тебя зовут, — вдруг вспомнила Дафна. — Я даже не знаю, кто ты… Кто ты? Ты ведь не просто убийца? Я видела, как ты убиваешь. Ты наверняка профессионал… Кто ты — наемный киллер?» Она начала всхлипывать. Бэрл молчал. Он вдруг осознал, что все что ни скажешь сейчас, прозвучит безнадежно плохо, запутает их еще больше, разведет еще дальше. Дафна тихо плакала, сидя на краю кровати, маленькая, испуганная, беспомощная девочка. Все также молча он обнял ее за плечи, притянул к себе, губами отодвинул каштановый завиток с мокрой щеки. «Шш-ш… — шипел он ей на ухо. — Ш-шш…» Странным образом она начала успокаиваться. И вдруг сами собой пришли слова, такие же ничего не значащие, бессмысленные, как и предшествовавшее им шипение и в то же время наполненные каким-то неведомым, целебным и очень нужным им обоим содержанием.
«Никому ни за что не отдам, — шептал он. — Ты моя девочка, ты моя… никому… ни за что…»
* * *
Вообще-то Зал заседаний Великого Синедриона помещался, как и положено, на горе Сион, за неприметной, ведущей в полуподвал железной дверью в слепом, загаженном ослами и туристами переулке, между Гробницей Давида и домом Каифы. Но Большой Совет в полном составе собирался нечасто, даже в это, легкое на подъем время. До эпохи воздухоплавания избрание в Синедрион означало обязательное переселение в Иерусалим, иначе собрать необходимый для важных решений кворум было бы просто невозможно.
Теперь Мудрецы слетались со всех концов планеты, не реже двух раз в год — на Суккот и на Песах. Да и в этом, честно говоря, не было особой необходимости, учитывая современные средства связи. Впрочем, кто думает о таких мелочах, как необходимость, когда речь заходит о традиции. А паломничество в Иерусалим в святые дни этих двух праздников почиталось непременной обязанностью для каждого из семидесяти членов Синедриона.
Из года в год, три тысячи лет они собирались там, в тесном каменном подвале, при свете смоляных факелов, масляных ламп, неоновых светильников, старые, мучимые подагрой и ревматизмом люди, управляющие этим миром. Отсюда вершились судьбы народов, тут создавались и рушились империи, возводились на престол и низвергались великие владыки, падали и взлетали биржи, развязывались войны, разрешались казавшиеся вечными конфликты.
Мудрецы вели этот мир по загадочной, заранее предопределенной, явно указанной в Книге Книг дороге. Но даже среди них, семидесяти избранных, только семеро умели прочесть непонятные для непосвященных таинственные дорожные знаки. Умирая, они передавали свое Знание следующим, из уст в уши, из века в век. Невидимые и всесильные, мудрые и жестокие, они всегда простирали над миром свою морщинистую властную длань. Всегда. И в эту минуту — тоже…
* * *
Хаим отпустил такси около мельницы. День был труден, и он устал. Освещенные множеством прожекторов стены Золотого Иерусалима возвышались напротив. Справа светилась гора Сион. Старик обратился к ней и вознес молитву. Он просил дать ему силы; он знал, что в этом будет ему отказано. Спустившись от мельницы по блестящей от дождя лестнице, он повернул налево и позвонил около одной из дверей. «Открыто!» — раздался скрипучий голос. Мудрец толкнул дверь и вошел.
Большая комната была жарко натоплена. Книжные стеллажи до потолка окаймляли ее с трех сторон. Четвертая стена представляла собою огромное окно, обращенное к Сионской горе. Тяжелые портьеры были раздвинуты, и Гора сияла во всем великолепии ночной подсветки под искрящимся ореолом дождя. Посреди комнаты возвышался огромный резной стол темного дерева; несколько жестких стульев с высокими спинками и два тяжелых кресла дополняли меблировку.
«Проходите, Хаим, садитесь, — произнес сидящий за столом старик, указывая в сторону кресел. — Я сейчас освобожусь. Минутку…»
Он с видимым раздражением тыкал указательным пальцем в клавиатуру своего ноутбука: «Ну вот, что опять случилось? Вы знаете, Хаим, эти компьютеры просто выводят меня из равновесия. Стоит нажать на что-нибудь не то — и пожалуйста, будьте добры начать все сначала. Они называют это «перезапускать»… Временами я снова скучаю по старой доброй пишущей машинке. Она, по крайней мере, не нуждалась в перезапусках семь раз на дню…»
Несмотря на жару, старик был одет в теплый клетчатый домашний пиджак и байковые бесформенные брюки на подтяжках. Высокий, худой, костлявый, с тонкими угловатыми руками, огромным крючковатым носом и длинными седыми прядями, зачесанными назад с высокого лысого лба, он походил на старую птицу-секретаря.
В определенном смысле, это сходство было не случайным — Гавриэль Каган, один из семи столпов Большого Совета, исполнял деликатные обязанности «секретаря по нестандартным операциям». Не то чтобы прочие действия Сионских Мудрецов были такими уж стандартными; созданная ими на протяжении веков мощная структура существовала параллельно, а зачастую — вопреки законным механизмам общества; она прочно вросла во властные слои правительств, парламентов, судов; она проникла в армейские штабы, в профсоюзы, в банковскую систему; она контролировала прессу и телевидение, колледжи и университеты. Но даже на фоне этой сложнейшей, незримой для непосвященного, тайной работы, операции Гавриэля Кагана выглядели не вполне обычными… Его сеть занималась физическим устранением препятствий, проще говоря — ликвидациями и диверсиями.
Каган еще несколько раз раздраженно ткнул пальцем в клавиатуру и наконец, сдавшись, захлопнул крышку компьютера.
«Черт знает что такое…» — пробурчал он и встал из-за стола. Раскачиваясь на длинных ломких ногах, как на ходулях, он переместился в кресло напротив Хаима. Каждое его движение сопровождалось сухими щелчками коленных и локтевых суставов.
«Я вас слушаю, Хаим, — сказал он, ерзая в кресле, чтобы устроиться поудобнее. — Что за срочность такая?»
«Габи, я сожалею, о том, что отнимаю ваше время, — начал Хаим. — Это касается все того же амстердамского дела. У нас появилась возможность поймать Абу Айяда.»
Старший Мудрец вопросительно поднял кустистые брови.
«Это резидент арафатовской контрразведки в Европе, — поспешно пояснил Хаим. — Держит в руках много нитей. Сотни агентов. Попортил нам немало крови…»
«Ну так что? — нетерпеливо прервал его Каган. — Поймать так поймать… И за этим вы пришли сюда? Хаим, если из-за каждого абу-бубу вы будете отвлекать меня от работы, мы далеко не продвинемся… У вас есть достаточно полномочий, чтобы решить этот вопрос самостоятельно.»
«Габи, конечно же, я пришел не за этим. Дело в том, что я вынужден просить об изменении в Протоколе.»
Каган, щелкнув суставами, наклонился вперед. «Я надеюсь, что у вас есть серьезные основания. Протокол не изменяют каждый день…»
«Мне это известно не хуже, чем вам, Габи, — ответил Хаим с достоинством. — Поверьте, я бы не просил, если бы не полагал это необходимым. Речь идет о Протоколе заседания Малого Совета по поводу чистки внешнего круга, связанного с амстердамским провалом. Собственно, решение уже исполнено по всем участникам, за исключением одного, вернее одной. Относительно нее я и прошу изменения.»
«Причины?» — сухо выстрелил Каган.
Хаим помедлил, собираясь с мыслями. Наступал решительный момент объяснения. Он заговорил, стараясь держаться максимально бесстрастно.
«Причины — чисто практического порядка. Один из моих ребят оказался вовлечен эмоционально. Исполнение решение по девушке означает для меня потерю этого солдата. А без него нам не взять Абу Айяда.»
«Почему — без него — не взять?»
Хаим чертыхнулся про себя. Это был прокол. Он продолжил так же бесстрастно: «Извините, Габи. Я имел в виду — без него взятие Абу Айяда обойдется нам дороже и с меньшими шансами на успех.»
Каган кивнул: «Понятно.» Он помолчал.
«Что ж, обманите своего солдата. Я не вижу необходимости изменять Протокол.»
Хаим опустил глаза. Он знал, что должен ответить согласием, что никакие возражения уже не помогут, что его молчание говорит против него самого — и не мог заставить себя открыть рот.
«Послушайте, Хаим, — сухо сказал Мудрец. — Мне кажется, что эмоциональная вовлеченность в данном случае не ограничивается вашим солдатом. Я вынужден напомнить вам, что для нас подобные соображения должны быть категорически исключены. Давайте посмотрим на дело трезво. Ваш парень влип, что уже ставит под сомнение его личную надежность. Вы обещали ему спасти его девицу, поместив ее в карантин. Тем самым вы сохранили солдата по крайней мере на время этого карантина. До этого момента вы действовали правильно. Но на этом мои похвалы заканчиваются. Не было никакой причины приходить ко мне с просьбой об изменении Протокола. Вы могли просто продолжить его исполнение, не извещая об этом вашего солдата. Мне странно, что я должен объяснять вам столь очевидные вещи.»
Хаим молча кивнул. Старший Мудрец встал и подошел к окну. Какое-то время он стоял там, слегка раскачиваясь на своих ходулях, затем сделал Хаиму знак подойти.
«Посмотрите, — сказал он, взяв одной рукой за плечо своего собеседника, а другой указывая на Гору напротив. — Видите, там, над Горой?» Он посмотрел на Хаима, напряженно и беспомощно уставившегося в танцующий над Городом дождь и горько усмехнулся:
«Вы не видите… Вы пока не видите… Но это не значит, что там ничего нет. Пока вы просто должны поверить мне. Мы с вами солдаты, Хаим. Мы — солдаты нерушимого, стройного и ясного плана, направляющего этот мир, не дающего ему свихнуться в тартарары. Этот план трудно понять, временами он противоречит всему нашему душевному строю, опыту, убеждениям; он ведом немногим, возможно, — всего лишь Семерым Мудрецам, семерым из пяти миллиардов. Но это не значит, что его нету. Он есть, и мы, его солдаты, не можем позволить себе жалость ни к ни в чем не повинной девушке, ни к чудом выжившему в Катастрофе старику, ни к вашему влюбленному солдату. И хотя в самой этой, такой понятной и такой человеческой жалости нет ничего преступного, она не должна, не имеет права, мешать торжеству Плана…»
Каган снял руку с хаимова плеча и снова повернулся к Горе.
«И уж конечно, она не должна мешать исполнению Протокола, — закончил он сухо. — Идите, Хаим. Идите и исполняйте.»
Мудрец молча поклонился и пошел к выходу. У двери он обернулся. Гавриэль Каган по-прежнему стоял к нему спиной, неподвижно глядя в окно, как будто забыв о своем госте. Хаим вышел под дождь. Он испытывал странное чувство облегчения, как будто какая-то тяжесть упала с его плеч. «Упала ли? — поправил он сам себя. — Скорее, ее просто взял на плечи кто-то другой…» Так или иначе, он уже не чувствовал себя таким разбитым, как час тому назад. Быстрой семенящей походкой он спустился к Синематеке и взял такси. Каган же еще долго стоял у окна, обратив к Горе свое бледное, высоколобое, залитое слезами лицо.
8
Не слишком ли перемудрил? Шломо перечитал последнюю главку. Черт его знает… Надо сказать, что подобные сомнения посещали его нечасто, а когда все-таки посещали, то он быстро гасил их решительным напоминанием самому себе, что речь-то, в конце концов, идет о пошлой литературной поденщине, о тексте, измеряемом не качеством прозы, но погонными метрами. Зачем выеживаться? — для Урюпинска сойдет… Тем более, что пока ему еще не приходилось видеть свою бэрлиаду где-либо напечатанной, так что и сантиментов особенных он к ней не испытывал. Деньги идут, и слава Богу…
С другой стороны, не слишком ли круто он завернул с Сионскими Мудрецами? Уж больно скользкая тема, и не хочешь, а заденешь — того за локоток, этого — за задницу… Не обидеть бы Благодетеля — если он еврей, конечно… Хотя, по сути, — отчего тут еврею обижаться? Скорее, гордиться бы надо, раздувать, почем духу хватает, нелепую эту легенду — мол, смотрите все, какие мы, евреи, сильные ребята — весь мир за яйца держим! Не замайте! Берегитесь! Шломо остановился перед зеркалом и погрозил туда кулаком для пущей убедительности. Погрозил, да и засмеялся — уж больно смешон был этот чудак в зеркале — длинный такой, унылый еврей на пятом десятке, в махровом халате и стоптанных тапочках… такому грозить — смех да и только.
«В общем, кончай дурить, Шломо, — сказал он сам себе решительно. — Для Урюпинска сойдет.»
Отправив главу, он выключил компьютер и пошел посмотреть, как там Женька. Женька, понятное дело, дрыхла. Вот уже несколько недель после возвращения из Бразилии она пропадала без дела, болтаясь по бесконечным вечеринкам, дискотекам, кафе, уходя из дому в десять-одиннадцать вечера и возвращаясь под утро. На робкие родительские возражения отвечала решительным указанием на собственную взрослую самостоятельность и необходимость «найти себя».
«Может и впрямь права девчонка? — говорил жене Шломо после того, как Женька уносилась в ночь, во всеоружии своего латиноамериканского загара, чуть сдобренного французским марафетом и эйлатскими фенечками на шее и на запястьях. — Может и впрямь, так и надо? Ну не знает она, чего хочет, ну не знает; что ж ты — убьешь ее за это? Дай ребенку осмотреться, еще успеет ярмо надеть…»
«Ребенку… — фыркала Катя. — Двадцать два года балбеске. Хоть бы на курсы какие записалась…»
Так или иначе, в настоящую минуту Женька, разметав по подушке выбеленные бразильским солнцем волосья, «искала себя» в неглубокой лагуне праведно-младенческого сна. Шломо постоял в дверях, глядя на нее и вследствие странного дефекта зрения видя не взрослую красивую спящую женщину, а двухлетнего ребенка, которого жалко, но надо будить и быстро-быстро одевать, натягивать платье, кофту, штаны и тащить еще сонную, теплую, сладко и недовольно зевающую — в детский садик на соседнем дворе и, скрепя сердце, оставлять там, в пропахшем горелой манной кашей вестибюле, стоящую с отвисшими на коленках пузырями колготок и тоскливо глядящую вслед уходящему папе; кто теперь от кого уходит, девочка?.. Шломо наклонился и тихонько поцеловал Женьку в висок.
«Не пора ли тебе вставать, красивая? Второй час как-никак…»
Женька недовольно заурчала и повернулась на другой бок. Шломо не стал настаивать — пускай ребенок поспит…
Он открыл банку пива и вышел на лестницу. Март катился к раннему в этом году весеннему празднику Песах, и иерусалимская природа, видимо предпочитающая лунный еврейский календарь солнечному европейскому, послушно сворачивала свои зимние порядки. Миндаль уже отцвел, на углу Мерказухи вовсю зеленело большое гранатовое дерево, а из жухлых запущенных газонов буйно перла молодая веселая трава. Ну чем не жизнь, а, Шломо? Вот стоишь ты, чистый и радостный, под весенним небом Пупа Земного, с банкой холодного пива в твердой руке, с любимым ребенком, безмятежно дрыхнущим за спиной, с бесценной женой на работе, за которую ей, вроде, наконец-то — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить — удалось зацепиться, с очередным, только что законченным Бэрлом в компе; и все, слава Богу, здоровы, и долгов немного, и жизнь прекрасна, чудесна, лэхаим, жизнь, за тебя! Он глотнул пива и повернулся спиной к Иерусалиму, не в силах больше встречать грудью волны счастья, накатывающиеся на него из Города, как из моря.
Жаль, что расслабленное сознание даже в такой торжественный момент все-таки подкидывало ему всякие неприятные напоминания, мусор, щепки, выгоревший ветхий плавник мелочных бытовых забот. К примеру, вчера Катя твердо сообщила ему, что они званы всей семьей на пасхальный седер к ее начальнику, и отказаться невозможно.
«Катягорически?» — жалобно спросил Шломо. «Категорически,» — рассмеялась она. И повернувшись к стоящей у зеркала Женьке добавила: «Кстати, к вам, красавица, это тоже относится.»
Женька напряглась, но затем, взвесив материнскую интонацию, почла за благо не перечить. Она все же закинула пробное и вялое «ну маа-ама…», однако Катя подавила ее робкое сопротивление в самом зародыше.
«Без всяких «ма-ама» и без всяких «ка-атя», — сказала она решительно. — Вы, надеюсь, не хотите, чтобы я снова осталась без работы? И потом, это просто неудобно — для них это так много значит; не будем же мы обижать людей…»
Теперь надо было переться в далекую Нетанию, сидеть там в кругу незнакомых людей, слушать, кивать, улыбаться, что-то говорить самому, распевать вместе со всеми непонятные слова Агады, ждать, когда наконец будет дозволено есть, и в итоге с трудом выбираться из-за стола, сверх всякой меры обожравшись разными вкусностями… тоска… Шломо вздохнул и снова повернулся к Иерусалиму, надеясь вернуть прежнее ощущение ничем не замутненного счастья. Дудки. Город молча смотрел на него исподлобья своих холмов, видимо обиженный шломиным отношением к одному из самых святых его праздников. «Ладно тебе кукситься, — улыбнулся Шломо. — Я же в конце концов еду. Причем со всей семьей.» Иерусалим подумал и сменил гнев на милость.
* * *
Перед тем, как отправляться в редакцию, Шломо решил забежать к Сене с Сашкой. Сашка жил там вот уже четвертую неделю, изгнанный, как и следовало ожидать, со всех своих прежних пастбищ. В издательстве ему показали на дверь уже на следующий день после публикации памятной статьи. В семье он продержался несколько дольше. Нельзя сказать, чтобы жена не сомневалась вовсе, но общественное давление все-таки возобладало. С нею перестали здороваться на улице и в лавке. Дети приходили из школы в слезах — одноклассники вдруг стали дразнить их «дегенератами» — по созвучию с незнакомым и непонятным словом «ренегат». Либерманы — семья дегенератов… В общем, через пару недель такой веселой жизни супруги сели на кухне, поговорили спокойно, без слез и пришли к очевидному решению. Сашка собрал чемодан, поцеловал насупленных детей и отбыл в гостеприимную Мерказуху, на скудные сенины харчи.
В первый же вечер друзья отметили новоселье рекордным даже по прежним временам количеством выпитой водки. Пили втроем — Катя отказалась присоединиться по принципиальным соображениям. Больше всех крушение сашкиной жизни переживал Шломо. Он даже всплакнул по этому поводу, открывая третью по счету бутылку «Голда».
«Не плачь, Славик, — успокоил его Сашка. — Это не последняя. У Сени в морозилке еще два «Кеглевича», а в буфете — «Балантайнс» заныкан. Правда, Симеон? Я все вижу…» И он погрозил пространству совершенно пьяным пальцем. До «Кеглевичей» дело, впрочем, не дошло, потому что почуявшая недоброе Катя разогнала компанию, забрав домой мужа и затолкав в постель Сашку. Сеня лечь отказался, заявив, что он еще будет рр-раб-ботать, и действительно, сел за компьютер, где незамедлительно заснул, положив щеку на клавиатуру.
Так ознаменовалось начало нового этапа в Сашкиной жизни, который, при ближайшем рассмотрении, оказался вовсе не таким трагичным, как это виделось верному Шломо. «Русские» газеты печатали его даже с большей охотой, чем прежде, обретя в новоявленном «леваке» столь милый сердцу редакторов «баланс мнений» — ведь обличительный антисионистский пыл «нового» Сашки в известной степени уравновешивал общий правый уклон русскоязычной израильской прессы. В дополнение к этому у Саши Либермана появились новые друзья.
Прежде всего, шум специфически-«русского» скандала докатился и до погруженного в собственные сытые дрязги общеизраильского ивритоязычного истеблишмента. Для них история сашкиного «изгнания» из лагеря ненавистных поселенцев пришлась как нельзя кстати. Крупная израильская газета опубликовала большой материал под броским заглавием «Изгой». Особый упор в статье делался на беспардонную нетерпимость правых, без колебаний разрушивших семью и выкинувших человека на улицу только за то, что он осмелился бросить им в лицо горькую правду. Фотография Сашки с детьми красовалась на развороте субботнего приложения. Подпись гласила: «Увидит ли он теперь своих детей?» Изобразительный ряд статьи венчался комбинацией из двух других фотографий. На первой, с надписью «здесь он жил в разладе с собственной совестью…» была представлена роскошная вилла, долженствующая, видимо, изображать дом среднего поселенца, ибо ничего общего с конкретным сашкиным домиком в Долеве у нее не было. Второй снимок с похвальной реалистичностью отображал запущенную мерказушную сенину берлогу с заросшей окурками пепельницей на переднем плане. Текст под фото перекликался с предыдущим: «…а теперь он живет здесь, но совесть его чиста!»
Сеня, прочитав, рассмеялся: «На свободу — с чистой совестью…» Потом, отсмеявшись, добавил: «Знаешь, Сашка, не будь я с тобой знаком, я бы подумал — ну и сука… Но поскольку я с тобой знаком, то и думаю я иначе. Ты не сука, ты — просто мудак…»
На Сеню обижаться было не принято, Сашка и не обиделся. В эти недели он жил в каком-то исступленном опьянении своей новой жизнью, новыми знакомствами, новыми возможностями. Его стали приглашать на телевидение, брать интервью, спрашивать его ученое мнение по всевозможным поводам; он определенно становился величиной всеизраильского значения.
«Вот видишь, как просто стать звездой, — язвительно говорила мужу Катя. — Достаточно всего-лишь ссучиться. Погоди, его еще и на хлебную должность пристроят, попомни мое слово.»
«Ты несправедлива, Катюня, — возражал Шломо. — Можно утверждать, что Сашка заблуждается. Можно сомневаться в правильности его логики. Одно для меня несомненно — он искренен. Да, он поменял свои убеждения. Ну и что? Разве это преступление? Человеку свойственно ошибаться, верно? Значит, человеку свойственно менять свои убеждения. Разве не так? Во всяком случае, я уверен, что Сашка сделал это в результате мучительного внутреннего развития, а вовсе не для всех этих коврижек.»
«Не смеши меня Славик, — отвечала Катя. — Футы-нуты — мучительное внутреннее развитие… Я щас прямо заплачу… Кризис переходного возраста у твоего Сашеньки. Помноженный на общую природную мудаковатость. Прибавь к этому бабу его страшную, которую он и не любил-то никогда. Конечно, не любил — что ты за голову хватаешься… Он тогда программу отъезда выполнял, если ты помнишь: покупал пианино, стоял в очереди на мотоцикл, учился вождению и искал жену.»
«Ради Бога, Катя, — стонал Шломо. — При чем тут жена и мотоцикл?»
«Конечно, — уверенно продолжала Катя, гремя посудой в раковине. — Конечно. И вообще, знаешь, что я тебе скажу?» Она решительно поворачивалась к мужу, вытирая руки кухонным полотенцем с петухами:
«Просто за время своего диссидентства он привык мелькать в центре событий. Эмиссары из-за бугра, топтуны под окнами, видики на продажу, запретлит пачками, шубы с сапогами, адреналин — ведрами… Он на эту жизнь подсел, как на иглу. Он с тех пор нормально жить не может, инвалид хренов. Жертва диссидентства.»
«Как ты можешь так говорить? — Шломо пускал в ход последний козырь. — Если бы не героические усилия таких, как Сашка, мы бы еще сидели с тобой в тоталитарном Союзе. Это они разрушили Систему, такие вот сашки…»
«Сам-то ты в эту чушь веришь? — презрительно парировала Катя. — Бодались телята с дубом, а теперь говорят, мол, это мы его завалили… Смех, да и только.»
«Что ж, по-твоему, он сам упал, этот дуб?»
«А может и сам… А может, ему снизу корни съели. Кто съел? — а черт его знает. Может, мы с тобой, Славик, и съели. В одном я уверена — телята эти бодливые тут не при чем. Какой с мудаков прок?»
Шломо смолкал, подавленный катиным напором. За всю их долгую совместную жизнь ему удалось победить в споре с Катей лишь однажды, когда, еще до свадьбы, он убеждал ее не делать аборт. Да и то, если говорить честно, большой его заслуги в том не было — скорее всего, она тогда сама, вполне сознательно, дала себя уговорить…
* * *
Шломо услышал спор еще с лестничной площадки. Кричал, конечно, Сашка; Сеня отвечал ему вполголоса, лениво растягивая предложения и интенсивно расчесывая правой рукой левую щеку.
«Промывка мозгов? — возмущенно вопрошал Сашка. — А у нас мозги не промыты? У него, — он ткнул пальцем в кстати подвернувшегося Шломо. — У него мозги не промыты? Мы, выпускники сталинско-брежневских университетов, как же мы любим похваляться нашим иммунитетом к промывке мозгов! Мол, мы-то стреляные воробьи, нас-то на мякине не проведешь… Только лажа это все, вранье. Конечно, насчет «партия наш рулевой» или, скажем, — он пощелкал пальцами, подыскивая пример. — Скажем…»
«Слава КПСС! — пришел к нему на помощь Шломо. — Все на уборку урожая! Генетика — продажная девка империализьма! Из всех искусств важ…»
«Во-во, — прервал его Сашка. — На все это дерьмо у нас, конечно, иммунитет имеется, кто же спорит. Но, тем не менее, мозги у нас промыты плотно и основательно. Вот ты скажи, — обратился он к улыбающемуся Шломо. — Как насчет защиты Отечества, подвига во имя Родины… Это все как — хорошо? Плохо? Нет, ты скажи, не стесняйся…»
«Да не стесняюсь я, что ты, право, как петух какой-то на меня наскакиваешь, — отодвинул его Шломо, все еще улыбаясь. — Конечно, защита Отечества — это хорошо. Только при чем тут промывка…»
«Ага! — торжествующе вскричал Сашка, как будто поймав его на чем-то. — Ага! Ты видишь, Сенечка? Промыты мозги, промыты… Десятилетия советской пропаганды не прошли даром! Не зря все эти падлы, все эти ждановы-сусловы работали; вот тебе результат! Отечество-хренечество… родина-уродина… Хрень это все, поймите. Одна есть в этом мире ценность — человек. Все остальное — чушь, шелуха, газетный блеф; всем остальным можно подтереться, если, конечно, не боитесь жопу запачкать…»
«Возможно и так, — лениво ответил Сеня и потянулся за сигаретой. — Возможно и так… Только пропаганда этой твоей позиции — тоже промывка мозгов. Хотя и в противоположном направлении. Мол, гуманизм, свобода личности, самореализация, геи с лесбиянками, все люди братья… Впрочем, «все люди — братья» звучит как-то по-шовинистски, правда? Ладно, не тушуйся, брат, давай заменим это на «все негры — сестры»… Что, тоже плохо? Ну не знаю…»
«Хорошо, — согласился Сашка. — Насчет промывки я с тобой согласен. Только промывка промывке рознь. Мы противопоставляем фашистскому ура-патриотическому засиранию мозгов свою спасительную гуманистическую промывку. Мы ж вас спасаем, дураков…»
«Мы — это ты со Слизняком?» — насмешливо осведомился Сеня и пустил в потолок струю дыма.
«А хоть бы и так, — с вызовом ответил Сашка. — И, кстати, у этого вполне достойного человека есть фамилия, так что ни к чему называть его этим мерзким прозвищем, в особенности, когда он не может тебе ответить.»
Шломо насторожился: «При чем тут Слизняк, Сеня?»
Так на их внутреннем жаргоне именовался некий депутат кнессета левой ориентации, создавший несколько лет тому назад организацию под скромным названием Институт Демократического Плюрализма. Прозвище «Слизняк» ему дала Катя на заре его не слишком долгой парламентской карьеры, когда политические пристрастия новоиспеченного депутата еще не вполне просматривались.
«За что ты его так невзлюбила, Катя? — удивлялся тогда Шломо. — Он выглядит не хуже других «русских». Зато как на иврите чешет!»
«Скользкий он какой-то, — уверенно отвечала Катя. — ты только на рыло его масляное глянь. Иуда-иудой…»
Шломо ухмылялся: «Катюня, Иуда — весьма распространенное еврейское имя…»
Зато потом, когда выяснились источники финансирования слизнячного Института, катиному торжеству не было предела. Слизняк брал бабки у вполне определенных людей из Европейского Союза, не скрывавших своих откровенно-проарабских настроений. Более того, документированной задачей финансирования было целенаправленное влияние на «русскую» общину Израиля в «нужном», с точки зрения европейцев, направлении. Из того же кармана шли деньги другим израильским левым организациям и, в основном, — арафатовской автономии.
«Нет, ну ты видишь, как я его раскусила? — торжествовала Катя. — Сволочь гадкая… Он только что террористам патроны не покупает…»
«При чем тут террористы, Катя? — урезонивал ее Шломо. — Если Европа хочет пропагандировать в Стране определенную точку зрения, в этом нет ничего противозаконного.»
«Как же! Ничего противозаконного! А то они не знают, что на их деньги закупается оружие и пластиковая взрывчатка! Ты видел арабские учебники, где Израиля нет на карте? — Они печатаются в Европе и за европейские бабки! И твой Слизняк подъедается из того же корыта. Что за пакость… тьфу! Иуда, Иуда и есть…»
В те дни Женька еще служила в армии, частенько бывала под обстрелом, и оттого катина горячность была в определенной степени оправдана.
«В самом деле, при чем тут Слизняк, Саша? — невинно осведомился Сеня. — Расскажи другу дорогому…»
Сашка молча развел руками, хрюкнул, начал что-то говорить, передумал и нервно прошелся по комнате. «Расскажи, расскажи, что ты стесняешься, — издевательски подначивал его Сеня. — Спой, светик, не стыдись.»
«А мне стесняться нечего, — вызывающе сказал Сашка. — Нашлись моралисты на мою голову.» Он еще раз прошелся по комнате и наконец остановился перед Шломо. «Видишь ли, Славик, — неловко начал он, глядя в угол. — Мне предложили читать курс лекций в Институте Плюрализма. По теме «Нравственный выбор журналиста»…» Он замолчал.
«И?… — подтолкнул его с дивана Сеня. — И?… Заканчивай, чего уж там.»
«И… я согласился.»
Кто-то вдруг хлопнул ладонями в шломиной голове, притопнул и, высоко вскидывая колени, запел: «подружка моя, ты не сомневайся…»
«Эй, Славик, что ты молчишь, скажи что-нибудь, — позвал его Сеня. — Ты смотри, Саш, как его тряхануло… Впечатлительный ты наш.»
Шломо и в самом деле молчал, не к месту улыбаясь и тщетно пытаясь справиться со внутренним своим топотуном, на высокой ноте выводящим: «…я пойду его встречать, а ты одевайся!» Сашка по-прежнему стоял истуканом; потом, так и не дождавшись шломиной реакции, развел руками и начал кружить по комнате.
«Смотри, Александр, — солидно сказал Сеня, закуривая. — Оставляя в стороне твое присоединение к Слизняку, которое и в самом деле выглядит несколько… э-э-э… чрезмерным даже на фоне твоих нынешних духовных исканий, я должен заметить, что твои рассуждения по поводу промывки мозгов все же не вполне корректны. Ты говоришь: «либо — либо». Либо промывка националистическая, либо промывка гуманистическая. Надо только выбрать — которая из них лучше. Так?» Сашка кивнул.
«А если я, к примеру, не хочу никакой промывки? — продолжил Сеня. — Ни-ка-кой. Если мне в равной степени наплевать и на идеалы сионистского Отечества и на прекрасные идеалы гуманизма? Для меня — высшая ценность — Я Сам. Разве плохо? Шкурно, зато честно. Чем не вариант?»
«Подружка моя, ты не сомневайся…» — задумчиво пропел Шломо.
«О! — радостно подхватил Сеня. — Вот и царь Шломо прорезался. Скажи уже что-нибудь, порадуй нас откровениями верного мужа и друга.»
«Где уж мне с моими промытыми мозгами, — все так же задумчиво отозвался Шломо. — Хотя, знаете… Вот вам несколько наблюдений моего филистерского сознания. Во-первых, твой, Сеня, вариант — совсем не третий, потому что Сашкин гуманизм в итоге сваливается именно к провозглашенному тобой шкурничеству. А как же иначе? Все человечество любить — это уж больно неконкретно, сплошной туман. А собственная шкура — вот она, родная, всегда под рукой. Так что себялюбие — это гуманизм на практике.
Во-вторых, если уж выбирать между двумя промывками… Я не вижу ничего плохого в защите своего дома, семьи, друзей, Отечества, коли на то пошло. Да и при чем тут промывка мозгов? Разве не естественно защищать группу, к которой принадлежишь? Волки дерутся за свою стаю, муравьи — защищают свой муравейник. До смерти, заметьте, защищают. У них что — тоже мозги промыты?»
Сашка в отчаянии хлопнул себя руками по бедрам: «Но ты-то не муравей, не волк! Ты человек, тебе затем разум и даден, чтобы изжить в себе психологию стаи!»
«С чего ты взял? А может, — как раз таки затем, чтобы эту стаю получше организовать, защитить? Ты пел что-то о самореализации. Но настоящая самореализация бывает только в рамках группы. Или во имя группы. Если, конечно, не брать нашего Сенечку в качестве обратного примера… Он-то реализовался в полной мере, не так ли, Сеня?»
В комнате наступило молчание. Потом Сеня погасил сигарету и, прищурившись, посмотрел на Шломо: «Спасибо тебе, Славик, на добром слове. Чаю хочешь?»
«Не за что, — смущенно ответил Шломо. — Сам напросился. А чаю не надо, я уже на работу опаздываю. Так что мы с подружкой пойдем.»
«С какой подружкой?»
«Да есть тут одна приставучая…» — и он вышел, напевая накрепко привязавшуюся «подружку».
«Подружка моя, ты не сомневайся — я пойду его встречать, а ты одевайся. Или — раздевайся? Черт его знает… Подружка моя…» В голове его было пусто и звонко, и не хотелось ни о чем думать.
9
В Барселоне Бэрл остановился в неприметном отеле «Сити Парк», в десяти минутах ходьбы от вокзала «Сантс». На этот раз сюрпризов не было. Чемодан ждал его в платяном шкафу. Вытряхнув на кровать незатейливое содержимое верхнего отделения, Бэрл щелкнул потайным замочком второго дна и приступил к осмотру своего арсенала. Помимо обычной «беретты» с глушителем и спецпатронами, чемодан содержал недурной набор штурмового оружия — гранаты, укороченный десантный «узи» и девятимиллиметровый «йерихо» с обычным снаряжением. Бэрл остался доволен. «Беретта», незаменимая в быстрых контактных ликвидациях, мало чего стоила в открытом бою. Тут Бэрл предпочитал оружие израильского производства.
С членами своей группы он встречался в маленьком открытом кафе, там, где кривая Авенида де Мадрид, побыв какое-то время короткой и куцей Авенидой де Берлин, окончательно превращалась в Авениду де Париж — прямую, длинную и ухоженную. Бэрл пришел на встречу заранее, но оба парня уже были на месте, поджидая его за крайним столиком.
«Привет, ребята, — улыбнулся он, присаживаясь. — Меня зовут Бен. Кто на этот раз вы?»
Они уже встречались несколько раз по разным поводам, в разном составе и под разными именами. Все трое принадлежали к внутреннему кругу и нередко дублировали друг друга, иногда даже не подозревая об этом.
«Стив». «Джеки».
«Сойдет, — согласно кивнул Бэрл. — Надо бы выпить за знакомство. Что вы такое глушите? Пиво? В такое-то время дня и года? Кто вас только обучал…» Он махнул рукой официанту: «Эй, бижу! Принеси-ка мне Мартель и эспрессо.»
«Не у всех есть русские корни, Бен, — саркастически заметил Джеки, ладно сложенный, жилистый парень восточной наружности. — Есть и такие, что этот французский клопомор на дух не переносят…»
«…предпочитая зашариваться травкой,» — жизнерадостно закончил за него Бэрл. Все трое расхохотались.
«Ладно, ребята, — сказал Бэрл, пригубив коньяку. — Давайте переходить к делу. Прежде всего — у всех все в порядке? Все штатно?» Его собеседники кивнули.
«Отлично. Персонаж — Абу Айяд, живой, по мере возможности. Думаю, я не должен объяснять вам, кто он… Вот и славно. Сюжет — завтра вечером он ждет своего приятеля на ферме около Гироны. Помимо него, там может быть до шести грязных. Установка на них — обычная. Я подбираю вас на железнодорожной станции Гироны в шестнадцать сорок. И не забудьте захватить с собой свои игрушки. Вопросы?»
«Источник сюжета?» — спросил Стив. Бэрл помолчал. Вообще говоря, он не обязан был отвечать на этот вопрос. Но и тихарить особой причины не было.
«Источник — тот самый приятель, которого Абу Айяд ждет на ферме. В настоящее время горит себе — не сгорает в адовом серном пламени. Чего и другу своему желает.» Бэрл помрачнел, вспомнив свои ночные бдения с нагероиненым Надиром в подвале на улице Шамир.
«Итак, до завтра, — он допил коньяк и встал. — Постарайтесь не слишком надуваться пивом. Замедляет реакцию.»
* * *
Назавтра, около девяти утра Бэрл вышел из здания гиронского вокзала. Машина ждала его на близлежащей стоянке. Это был обычный для здешних мест пикап «Пежо», с маленьким кузовом и двойной кабиной. Почти не сверяясь с картой, Бэрл выехал из города в северном направлении и свернул налево, к невысоким зубцам Пирренейских предгорий. Узкое шоссе петляло между разрозненными хуторами и маленькими деревеньками, ощутимо забираясь наверх, в горы Сьерра-де-лас-Медас. Проехав с полчаса, Бэрл увидел нужный ему указатель. Еще несколько километров узких горных долин, и вот наконец справа, в сотне метров от грязной грунтовой дороги, перед ним возникла небольшая, ничем не примечательная усадьба, отгороженная от чужих глаз прямоугольником пыльных кипарисов.
Бэрл проехал мимо, не замедляя хода. Пока он не мог пожаловаться на точность описаний, данных ему покойным Надиром. Дай-то Бог, чтоб и дальше так… Лощина вильнула вправо и начала сужаться. Лучше не придумаешь, — порадовался за себя Бэрл. Он свернул с дороги на еле заметный проселок, забиравший вверх по крутому склону невысокого лесистого отрога, окаймлявшего лощину с севера. Проселок закончился небольшой лужайкой; дальше ехать было невозможно. Бэрл приткнул пикап под деревом, вышел и осмотрелся. Как он и предполагал, по гребню хребта, между густыми зарослями дикого кустарника, вилась вполне утоптанная тропинка. Пройдя по ней несколько сот метров, Бэрл увидел сквозь путаницу веток знакомые очертания кипарисного каре. Он был у цели. Усадьба лежала перед ним, как на ладони. Бэрл устроился поудобнее и вынул бинокль из рюкзака.
Двор был пуст, не считая двух машин — раздолбанного пикапа и пыльной белой «тойоты-королла». Вся усадьба состояла из каменного двухэтажного беленого дома с плоской крышей и бревенчатого гумна на высоком кирпичном цоколе. Никакой живности Бэрл не заметил; в особенности его порадовало отсутствие собаки. Отчасти это уже характеризовало нынешних хозяев усадьбы — все знакомые Бэрлу арабы испытывали стойкую неприязнь к собачьему племени; впрочем, собаки платили им тем же.
Ближе к полудню из дома, потягиваясь, вышел высокий парень в куртке, сел в «тойоту» и завел двигатель. Потом показался второй, повозился у двери с замком и присоединился к первому. «Тойота», переваливаясь на колдобинах, выбралась на грунтовку и укатила в сторону Гироны. Это выглядело настоящим приглашением. Бэрл поразмыслил и решил не отказываться. Он осторожно спустился со склона, расчищая путь от сухого валежника и шатких камней, помечая удобные места и обозначая обход естественных препятствий. Спустившись до самого низа, он недовольно покачал головой, вернулся наверх по своим следам и снова отрепетировал спуск. Он проделал эту операцию четырежды, прежде чем остался доволен результатом. Теперь можно было заняться домом.
Бэрл посмотрел на часы. По его расчетам, до возвращения хозяев оставалось не более двадцати минут. Надо было поторапливаться. В несколько прыжков он преодолел травянистый выгон, отделявший край зарослей от заднего ряда кипарисов. Дом высился перед ним, неожиданно большой, защищенный мощными решетками на окнах подвала и первого этажа. Задняя дверь, прежде незамеченная Бэрлом, была заперта изнутри. Он поднял голову. Окно наверху было приоткрыто, и сквознячок выдувал наружу белую занавеску, словно сам дом сигнализировал о добровольной сдаче невероятному бэрлову везению. Думать было некогда. Бэрл решительно вскарабкался к окну, влез внутрь, и, не медля ни секунды, понесся по дому, фотографируя сознанием расположение комнат, мебели, размеры простреливаемых пространств и расстояния между углами.
Наконец он очутился в кухне, с внутренней стороны заднего входа. Опять удача! Дверь не закрывалась на засов — только на большой врезной внутренний замок. Теперь оставалось найти ключ. Твердо веря в свою звезду, Бэрл выдвинул ближайший к двери ящик кухонного буфета. Бинго! Он торжествующе вставил ключ в замочную скважину, дважды повернул и распахнул дверь настежь. И замер.
Прямо перед ним стоял молодой араб в бейсбольной шапочке и с глуповатой улыбкой, застывшей на безбородом, окаменевшем от неожиданности лице. «Ты кто?» — спросил он Бэрла и полез рукой за спину. «Моше Даян,» — ответил Бэрл шепотом, на втором слоге ударяя парня по ушам обеими руками, отчего, вероятно, тому не привелось расслышать фамилию героического израильского полководца. Бэрл подхватил обмякшее тело араба и втащил его в дом. Откуда он тут взялся, черт его забери? Спал на гумне? Больше неоткуда — к дому точно никто не подъезжал, Бэрл бы услышал… Он выругал себя за идиотскую непредусмотрительность — надо же, полезть в дом, забыв проверить гумно! Так и надо дураку — раскатал губу от невиданной прухи, так лезущей на него с самого утра…
Кляня себя за детскую ошибку, Бэрл волочил араба в гостиную. Не давая ему придти в себя, он взгромоздил его на стул и, близко глядя в глаза, зашептал горячим шепотом: «Я — твоя смерть, бижу, понял? Смерть, понял? Понял?»
Араб кивнул в ужасе, не в силах отвести расширенных зрачков от душного бэрловского взгляда.
«Меня слушать надо, понял? На, пиши, пиши же, ну…» — Бэрл придвинул лежащий на столе блокнот и сунул ручку в дрожащие пальцы парня.
«Пиши: «уехали жрать, а меня бросили?» Вопросительный знак поставь, быстро. Теперь дальше: «скоро вернусь». Молодец. Теперь напиши свое имя. Как тебя зовут? Халед… Приятно познакомиться, Халед.» И на этой оптимистической ноте Бэрл свернул ему шею.
Подняв тело, он отнес его на заднее сиденье стоящего во дворе пикапа. Времени уже совсем не оставалось. Бегом Бэрл вернулся на кухню. Схватив со стола бутылку масла, он аккуратно смазал петли, замочную скважину и ключ. Вытер масло рукавом куртки. Закрыл дверь на ключ снаружи. Сунул ключ в карман. Поднял с земли пистолет и кепи Халеда. Бегом — к пикапу. Выезжая на грунтовую дорогу, Бэрл с беспокойством посмотрел в зеркало заднего обзора. Дорога на Гирону была пуста. Он дал газу в противоположном направлении.
На свой наблюдательный пункт Бэрл вернулся через полчаса. Белая «королла» уже стояла во дворе. Один из арабов, раскорячившись посреди двора, громко звал Халеда, сложив руки рупором и обратясь к лесистому хребту. Казалось, он смотрел прямо на Бэрла. «Хале-ед! — кричал араб. — Йа Хале-е-ед!»
«Что ты вопишь, кретин, — чертыхнулся Бэрл. — Спит он, твой Халед. Скоро и ты уснешь, недолго уже осталось…»
Второй араб вышел из дома, держа в руках блокнот. Они еще постояли там какое-то время, оживленно жестикулируя и очевидно осуждая недисциплинированного соратника. Бэрлу стало скучно. Он вдруг обнаружил, что зверски проголодался. Вернувшись к своему пикапу, он выбрался на шоссе и поехал в сторону, противоположную усадьбе, рассчитывая вернуться в Гирону кружным путем через Амер. Не стоило лишний раз искушать судьбу, мелькая туда-сюда перед окнами дома. Там ведь, небось, скучая по Халеду, все глаза проглядели, на дорожку-то глядючи.
* * *
«Каталонский экспресс» из Барселоны прибыл в Гирону точно по расписанию. Бэрл подъехал к выходу из вокзала как раз когда первые пассажиры начали выходить в город. Он остановился около Стива, прикуривающего сигарету и, перегнувшись через сиденье, распахнул дверцу: «Поехали, Стивви. И брось ты эту соску. Ты ведь уже большой мальчик. А где твой приятель?»
«Сейчас выйдет, — хладнокровно ответил Стив, затягиваясь. — Попросился в туалет, по-маленькому. Я пустил.»
«Молодец, — одобрил Бэрл. — Забота о личном составе украшает командира. А вот и Джеки. Говорил я тебе вчера, сынок, — не надувайся пивом…»
«Что за люди, — сокрушенно заметил Джеки, забираясь в кабину. — Пописать не дадут последний раз в жизни…»
Бэрл и Стив суеверно переглянулись. Эта шутка была, на их вкус, совершенно лишней.
Выехав из города, Бэрл остановился. На листе бумаги он нарисовал план дома и подробно описал его. Стив и Джеки внимательно слушали. Остальное он договаривал по ходу движения — Бэрл надеялся успеть вернуться на место до приезда главного действующего лица. Возвращался он тем же кружным путем, в объезд усадьбы. Халедов пикап стоял там, где Бэрл оставил его — на лужайке, в конце тупикового проселка. Свою машину Бэрл снова припарковал под деревом, капотом в направлении выезда.
«Стив, Джеки, — сказал он, глуша мотор. — очистите от падали вторую тачку. Только снимите с него куртку. Она нам сегодня еще пригодится.»
Был уже седьмой час, когда они оказались на наблюдательном пункте. В сгущавшихся сумерках Бэрл сразу различил джип «террано», уткнувшийся своим тупым носом в кипарисы рядом с «короллой». В гостиной на первом этаже горел свет. В доме явно были новые гости. Вопрос — сколько?
«О'кей, — сказал Бэрл. — Действуем как договорились. Скорее всего, их в доме шестеро, включая Айяда. Стив, после того, как войдем, бери левую часть гостиной. Джеки, въезжай вальяжно, не торопясь. Перед поворотом с шоссе просигналь дважды — пусть знают, что хозяин едет. Помни, по комплекции ты почти неотличим от Халеда, плюс куртка и кепи, плюс темнота. Проблем быть не должно. К тебе выйдут, скорее всего, двое. Оба твои. Кончай с ними, проверь гумно, только быстро, и — к нам через главный вход. Дальше — по обстановке. Напоминаю еще раз — Айяд нам нужен живым. Так что постарайтесь не попортить продукт. В крайнем случае — по ногам и в плечи. Остальные — мусор. Ферштейн?»
Быстро темнело. Они подождали еще с час. Наконец Бэрл кивнул: «Джеки, братишка, давай вперед, с Богом. Куртка и кепи в пикапе. И ты это… не очень-то прыгай. Побереги связки, чтобы не было как тогда, в Дортмунде…»
Джеки улыбнулся: «Не нервничай, Бен, все будет в порядке. Увидимся.» Он бесшумно исчез в темноте. Бэрл сделал знак Стиву, и они начали осторожный спуск по размеченному маршруту. Через пять минут они стояли, прижавшись к стене у задней двери. С шоссе донесся шум неторопливо приближающейся машины. Бэрл переложил «узи» в левую руку и достал ключ. Он отчетливо слышал, как кто-то протопал по лестнице наверх. Пикап свернул на подъездную дорожку и просигналил дважды. Бэрл повернул ключ в замке почти синхронно со вторым сигналом. Щелчок замка хлестнул их по натянутым нервам. Они прислушались. В доме были, видимо, поглощены приближающимся пикапом.
«Ну? — громко спросил кто-то из гостиной. — Что там?»
«Халед, собака, — ответили сверху. — Ну я ему шею намылю, маньяку…»
Бэрл услышал, как отворилась входная дверь, и кто-то вышел навстречу паркующейся машине. Двое. Укороченная М-16 у каждого; они несли винтовки как чемоданы, в опущенной правой руке. Бэрл видел их со спины, приближающихся к пикапу, к Джеки, который, не торопясь, вылез с противоположной стороны кабины и теперь, опустив голову, делал вид, что возится с чем-то на заднем сиденье.
«Халед, йа маньяк! — сердито позвал его один из арабов, подойдя к машине метров на пять. — Кто ж так делает, собака ты этакая?»
Джеки выпрямился и вышел из-за машины. В каждой руке он держал по «узи». «Зачем же так ругаться? — удивленно и мягко спросил Джеки на чистом иврите. — За это вас папа сейчас отшлепает…» И открыл частый огонь одиночными с двух рук.
В следующую секунду Стив с Бэрлом уже стояли на пороге гостиной. С этой стороны их там явно не ждали. «Стоять! — крикнул Бэрл. — Бросай оружие!» Трое арабов, уже собиравшихся выскочить из комнаты в сторону входного холла, ошарашенно обернулись. Моментально идентифицировав Абу Айада, Бэрл прыгнул на него, полностью полагаясь на Стива, который в этот момент шпиговал рваными кусочками свинца двух других обитателей гостиной. Они даже не успели поднять автоматы. Абу Айяд быстро пришел в себя и бешено сопротивлялся, но Бэрл был сильнее. Он уже оседлал противника и заламывал ему назад руки, когда сверху раздалась пулеметная очередь. «Черт! — вспомнил Бэрл. — Наверху…» Он оглянулся на Стива. Тот бежал вверх по лестнице, выдергивая зубами гранатную чеку. Бэрл прижал айядову голову к полу и, высвободив руку, надавил на сонную артерию. Араб отключился. Наверху с короткими промежутками прогремели три взрыва. С потолка посыпалась штукатурка. Бэрл вытащил из кармана моток клейкой ленты и начал вязать Абу Айяда. Локти. Кисти рук. Сверху с бешеной скоростью скатился Стив и бегом бросился во двор. Ноги в коленях. Щиколотки. Рот. Бэрл поднялся с пола и, подобрав «узи», осмотрел первый этаж. Никого. На двери, ведущей в подвал, висел амбарный замок. Черт с вами… Он вернулся в гостиную. Со второго этажа по лестнице валил дым — там явно начинался пожар. Бэрл поднял за ремень спеленутого Абу Айяда: «Пойдем, бижу… Не дай Бог угоришь. Ты у нас теперь на вес золота.» Он вдруг понял, почему всеми своими подсознательными силами оттягивал момент выхода во двор. Джеки…
Джеки лежал у входа в гумно, там, где его застигла пулеметная очередь. Хватало одного взгляда на его развороченный крупным калибром живот, чтобы понять, что жизни в нем осталось немного. Стив подложил ему что-то под голову и теперь сидел рядом, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Бэрл подошел, волоча за собой Абу Айяда. Он поднял его повыше, так чтобы Джеки видел и с силой швырнул на землю, искрене надеясь сломать ему при этом позвоночник. Затем он наклонился над умирающим. «Видел, Джеки-бой? — спросил он. — Вот он, этот кусок дерьма. Стоит ли он грязного ногтя с твоего мизинца?»
«Бен, — прошептал парень, выдувая кровавые пузыри углами ссохшегося рта. — Бен, я не Джеки. Меня зовут…»
«Шш-ш… — прервал его Бэрл. — Не говори. Меньше трепешься — здоровее будешь…»
Джеки улыбнулся. «Не ко мне, бижу. Я — уже не буду.» Он вдруг начал смеяться, мучительно морщась и булькая растерзанными внутренностями: «Я ж вам говорил… последний раз… я тогда и в самом деле последний раз пописал… говорил… а вы… мать вашу…»
«Еврейский юмор,» — сказал Бэрл без улыбки. Джеки еще раз булькнул, дернулся и умер.
Бэрл обернулся на дом. Верхний этаж уже уже полыхал вовсю. «Стив, — сказал он, дергая напарника за руку. — Эй, Стив! Быстро, «тойоту» к гумну…» Подняв мычащего и дергающегося Абу Айяда, он перетащил его на заднее сиденье пикапа и вернулся к Стиву:
«Давай, парень, шустрее… Джеки уже не вернешь. Ну-ка помоги…» Вдвоем они осторожно положили Джеки на капот «тойоты» и загнали ее в сарай. Отвинчивая крышку бензобака, Бэрл окинул взглядом помещение и присвистнул:
«Э, да тут целый арсенал!» И в самом деле, стеллажи вдоль стен были уставлены ящиками явно оружейного содержания. Но времени разбираться с этим подробно не было. Хотя усадьба и стояла на отшибе, нашумели они изрядно. Звуки боя наверняка были слышны в близлежащих деревнях. Требовалось сматываться и побыстрее. Стив чиркнул зажигалкой, и они выскочили из гумна. Через минуту их пикап выехал на дорогу, оставляя за собой пылающую усадьбу.
Местная полиция поворачивалась не быстро. Бэрл со Стивом успели сменить халедов пикап на бэрлов, успокоив при этом Абу Айяда хорошим уколом снотворного и плотно запаковав его под задним сиденьем, а дорога оставалась такой же пустынной, какой и была полчаса тому назад, когда все, за исключением Халеда, были еще живы. Они уже проехали Амер, когда до них донеслось эхо далекого взрыва. «Ого, — сказал Бэрл. — Взрывчаткой они запаслись на пять фатхов и десять хамасов… То-то шуму будет в завтрашних газетах; бьюсь об заклад, что все спишут на басков. Стив, да не молчи ты, скажи хоть слово, я так с ума сойду.»
«Я с ним в одном взводе служил, — сказал Стив глухо. — В «Голани». Вместе Ливан прошли. Три года в одной палатке… И вот — даже не похоронил. Сжег, как собаку…»
«Знаешь что, — сказал Бэрл. — Лучше уж молчи.»
* * *
Проехав Англес, они еще раз поменяли машину, переложив свой груз в багажник «пассата». Груз мычал, но в целом вел себя смирно. Через час за окнами замелькали огни отелей и кемпингов Коста Брава. Севернее Бланеса Бэрл свернул к берегу и припарковался возле одинокого красного «мондео». Море перед ними сияло огоньками далеких и близких яхт. Бэрл трижды мигнул фарами. Одна из яхт, стоявшая не более чем в миле от берега, мигнула в ответ. Бэрл вздохнул: «Ну вот и все, Стив. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся.»
Стив молча кивнул.
«Жаль, что Джеки так не повезло, — продолжил Бэрл. — Я понимаю, что это плохое утешение, но все мы когда-нибудь так кончим… Возьми отпуск, мой тебе совет. Отдохни.» Стив снова кивнул.
От яхты отвалил катер и стал приближаться к берегу. «Нам пора,» — сказал Бэрл. Они пересели в «мондео». Ключ торчал в замке зажигания. Бэрл развернул машину и погнал в сторону барселонского аэропорта. В кармане у него был билет на ночной рейс в Цюрих. Стив летел во Франкфурт.
10
«Сколько можно собираться? — недовольно сказал Шломо. — Теперь мы точно опоздаем. Неудобно…»
Он сидел в кресле, вытянув ноги перед включенным на русский канал телевизором и беспомощно наблюдал за Катей и Женькой, которые вот уже битый час метались между единственным семейным платяным шкафом, стоящим в спальне и единственным большим зеркалом, висящим в салоне. Они успели уже дважды перемерить все свои туалеты и теперь пошли по третьему кругу, оживленно обсуждая при этом каждую перемену одежды.
«Ах, папа, — досадливо бросила ему Женька, проносясь мимо в направлении спальни. — Когда ты наконец привыкнешь? В Израиле не опаздывают только фраера.»
«А я и есть фраер, — упрямо отвечал Шломо. — Поздно мне на урку переучиваться.»
«Славик, подбери ноги… — это уже Катя, бегущая противоположным курсом. — Я все время об тебя спотыкаюсь, неужели непонятно?»
Шломо обиженно подобрал под себя ноги. Телевизор талдычил про Чечню. Потом перешли на погоду. В Питере шел дождь.
Подскочила Женька: «Папа, застегни мне браслет… Да не так… Вот эту штучку — сюда…» Шломо, старательно сопя, склонился над ее рукой.
«А сам-то ты когда одеваться думаешь? — спросила Катя из ванной. — Нас подгоняешь, а у самого еще конь не валялся.»
«Ну вот, начинается, — подумал Шломо. — Похоже, теперь они и по мою душу освободились.»
Он вцепился в подлокотники кресла и сказал с фальшивым металлом в голосе: «Я уже давно одет.»
«Папа, ты что, с ума сошел? — фыркнула Женька и, встав перед зеркалом, изогнулась невообразимой дугой, отыскивая на себе еще не вполне исследованные места. — Нельзя же идти в этом на пасхальный седер!» Она развела руками, следя за траекторией браслета. «Мама, ты слышала? Скажи ему.»
Катя высунулась из ванной. «Слава, прекрати эти глупости. Идти в этом совершенно невозможно.» Они произносили это свое «в этом» таким тоном, как будто Шломо был одет не в обычные свои брюки со свитером, а в ирокезский наряд с перьями и боевой раскраской. Сопротивляться было бессмысленно.
«Что же я, по-вашему, должен надеть?»
«Как будто тебе надеть нечего! — возмутилась Катя, ловя щеточкой норовившие ускользнуть ресницы. — Пожалуйста, не строй из себя несчастного!»
Шломо ненавидел собираться в гости.
«Надень голубую рубашку с ромбиками — ту, что я купила тебе в «Полгате», помнишь?.. и жакет,» — смилостивилась Катя. Шломо, кряхтя, встал с кресла и пошел переодеваться.
Когда он вернулся в салон, его встретили две ослепительные улыбки. Покончив с обычным зеркалом, Катя и Женька нуждались в живом отражении их безусловной и победительной красоты. Шломина реакция на этом этапе играла роль живого зеркала. Эту роль он знал назубок, исполняя ее мастерски и с удовольствием. Главное условие тут заключалось в том, чтобы не жалеть красок. Чем грубее и чудовищней выглядела лесть, тем довольнее оставались его самодержавные властительницы. В конечном счете это положительно сказывалось на самом Шломо. А потому, увидев знакомые вопрошающие улыбки, он немедленно включил программу выполнения социального заказа, то есть, пошатнулся и заслонил глаза ладонью с растопыренными пальцами, щурясь, как от нестерпимо яркого света.
«Вау! — воскликнул он сдавленным голосом. — Вау! И еще раз вау! На этот раз это просто невыносимо. Нельзя быть столь подавляюще красивыми! Вас обеих нужно бросить в тюрьму! Хотя и это не поможет — вы расплавите камни и решетки вашей громокипящей прелестью!»
Гм… неплохо, неплохо… Ему самому понравился лихо закрученный комплимент. Тем не менее, проверив сквозь растопыренные пальцы реакцию своих женщин, он обнаружил, что чего-то все-таки не хватает. Что ж, приходилось вновь прибегать к ненавистному штампу.
«Все мужики там будут ваши!» — воскликнул Шломо, недоумевая, отчего столь затертый и, если говорить честно, идиотский текст пользуется у публики столь неизменным успехом. Наградой ему стали сияющие глаза его ненаглядных повелительниц.
«Ну, — спросил он робко. — Теперь уже поехали? Раньше сядем — раньше выйдем…»
«Даже не надейся, — сурово ответила Катя. — Пока «Хад Гадья» не споешь — не выйдешь.»
* * *
Они отъехали от Мерказухи в начале шестого. Движение было почти как в час пик — накрашенный и разодетый Народ Израиля торопился на Пасхальный Седер. На проспекте Бегина Катя, вместо того, чтобы свернуть направо, к выезду на первое шоссе, продолжила прямо, в сторону Рамота.
«Смотри, Катюня, перестреляют нас на этой дороге, — сказал Шломо. — Хотя, если уж погибать, то лучше всем вместе…»
Бейт-хоронское шоссе, спускающееся от Иерусалима параллельно главной дороге на Тель-Авив, было в последние месяцы неспокойно. Арабы обстреливали автомашины, несколько человек погибло. ЦАХАЛ усилил патрулирование в районе близлежащих деревень, и пару недель тому назад ликвидировал банду, как крыс. Но в точности, как крысы, они могли вдруг проклюнуться на другом, а то и на том же участке. По этой самой причине в последнее время шоссе пустовало, даже днем.
«Да, мама, — недовольно заметила Женька. — Зачем лезть на рожон? Мне лично умирать не хочется, даже когда все вместе.»
«Перестаньте скулить, бобики, — весело ответила Катя. — Охота вам в пробку лезть? Сами ведь говорили, что опаздываем. А тут мы с ветерком доедем, вот увидите…»
Еще бы — полицейские радары на бейт-хоронском шоссе не водились…
Начался дождь, несильный, но уверенный в своей основательности, из тех, что приходят на несколько часов, а если повезет, то и на всю ночь. «Хорошо бы так,» — подумал Шломо. От сильных ливней проку было мало — в течение получаса они обрушивали на измученную засухой страну океаны бестолковой воды, которая тут же выплескивалась в сытое Средиземное море, прихватив с собой полдесятка автомобилей и затопив по дороге пару-тройку тель-авивских или ашдодских кварталов. Этот же долгоиграющий неторопливый дождяра поил, а не топил, насыщая водой трудный, ссохшийся глинозем Земли Обетованной, просачиваясь в подземные резервуары, а главное — наполняя совсем обмелевший за последние годы Кинерет.
Хотя, если честно, трудно представить себе что-либо более мощное и значительное, чем гроза с ливнем в Иерусалиме. Шломо прикрыл глаза, вспомнив одно из самых ярких своих впечатлений, когда буря застигла его поздним вечером, почти ночью, в квартале Нахлаот. Он вспомнил потоки воды, несущиеся по узким горбатым улочкам в желтом свете испуганных фонарей; водопады, низвергающиеся из боковых переулков; вихрящиеся водовороты площадей; черно-золотые стены притихших домов; тускло мерцающую под слоем воды мостовую. И яростный скорпион молнии, серебрянный на черном, растопыривший на полнеба свои острые члены, грозящий миру смертоносным жалящим хвостом. И гром, оглушительный до треска в ушах, гром-грохот, гром-молот, заслоняющий своей черной великанской тушей даже эту ужасную молнию, вызвавшую его к жизни из невозможных вулканических подземелий… И восторг, ни с чем не сравнимый восторг, размером с этот ливень, с эту молнию, с этот гром; пьянящее чувство равновеликости буре и никакого, ну просто никакого страха — потому что тут, в Его Доме, тут, в Месте, где живет Хозяин, не может случиться ничего плохого…
Он открыл глаза оттого, что машина остановилась. Последний светофор на выезде из Гиват Зэева.
«Проснулся, дорогой? — приветствовала его Катя. Она миновала поворот на Рамаллу и резко увеличила скорость. — Ты лучше спи дальше, а то ведь начнешь сейчас нудеть под руку.»
«Как же, уснешь тут, когда ты фигачишь под сто сорок, — сказал Шломо. — Пожалей хоть машинку, она ведь вот-вот развалится.»
Их старенький «уно» и впрямь уже не подходил для таких нагрузок. Он стонал всеми своими сочленениями, звенел клапанами, скрипел рессорами и вообще протестовал как мог.
«Катя. Ну Катя.» Бесполезно. Ничто не могло ослабить безжалостного давления катиной правой ноги, утопившей педаль газа в полу несчастного «фиатика».
«Мама, — поддержала отца Женька. — Может и впрямь не надо? Дождь все-таки…»
«Какие вы все-таки зануды,» — вздохнула Катя и слегка отпустила педаль. «Уно» радостно хрюкнул, поняв, что есть шанс выжить и попытался сползти на сто десять. Но не тут-то было.
Катя пустила в ход последний аргумент.
«На высокой скорости в машину труднее попасть, — заметила она тоном штабного стратега. — А если будем еле-еле тащиться, то нас только ленивый не подстрелит.»
И она снова пришпорила свою несчастную клячу. Через десять минут они уже подъезжали к бетонадам блокпоста «Маккабим». Ровно месяц тому назад на этом самом месте взорвался очередной террорист-самоубийца. На счастье, тогда обошлось всего тремя ранеными.
Блокпост знаменовал собой пересечение «зеленой черты». Опасный участок шоссе закончился, и Шломо вздохнул свободнее.
«Слава Богу, — сказал он с облегчением. — Теперь хоть поедем нормально.»
«Перестань, Славик, — отозвалась Катя. — Не так уж это и страшно. Там уже пару месяцев как не стреляют. Взрыв на блокпосте не в счет.»
«Да при чем тут стрельба! — ответил Шломо. — Арабская стрельба меня волнует меньше, чем наш водила. И когда у тебя, наконец, права отнимут…»
Катя рассмеялась. Она любила машину, скорость, легкое и затягивающее чувство дороги. Шломо тоже водил, но, когда они ехали куда-нибудь вдвоем, вопроса о том, кому рулить, не стояло.
«Кстати, по поводу прав, — вспомнила Катя. — Сегодня утром слышала по радио, как Слизняк распространялся насчет прав арабского народа Палестины. Так он там вскользь так упомянул твоего друга сердечного Сашеньку. Мол, работает у него в гадкой его кормушке… ну, институт этот опереточный, помнишь?»
Шломо неохотно кивнул. «Помню.»
Катя выдержала паузу. «И это все? — спросила она, не дождавшись продолжения. — Вся твоя реакция? «Госдепартамент отказался опровергнуть или подтвердить…»? Скажи уже что-нибудь. Наверняка ты об этом знаешь.»
«Знаю.»
«И до сих пор ему руку подаешь? Водку вместе выпиваешь? О судьбах человечества с ним трепешься? Смотрите, господин Шломо Бельский, как бы не замараться. Так ведь к нам приличные люди ходить перестанут.»
«Как ты не можешь понять, — сказал Шломо. — Саша — мой ближайший друг. Я не могу засунуть собаке под хвост все, что связывало нас в прошлом, только из-за того, что его политические убеждения отличаются от твоих.»
«Ну вот, опять я во всем виновата! Даже в том, что твой друг скурвился…»
«Перестаньте ссориться,» — жалобно попросила Женька с заднего сиденья.
«Да и вообще, при чем тут мои убеждения? — возмущенно сказала Катя. — Разве непонятно, что эти подонки открыто помогают врагу во время войны? Как можно задавить террор, когда такие вот слизняки и саши морально подпитывают террористов? Ты помнишь этого гада, неделю назад, на Кинг Джордж? Того, что взорвал женщину на пятом месяце беременности? Чтобы сделать такую вещь, одной бомбы мало, нужно еще и сознание моральной правоты. Разве не так? Бомба и мораль, мораль и бомба, и еще неизвестно, что тут важнее… Твой Саша, конечно, бомбы не подкладывает. У них разделение труда, у гадов. Он по части морали работает, дружок твой хренов.»
«Катя, — устало сказал Шломо. — Ну что ты меня мучаешь? Ну не могу я ним расплеваться, не могу. В особенности сейчас, когда он у Сени из милости подъедается, безо всяких средств к существованию. Сама подумай…»
«А вот не жалко мне его, — зло процедила она, вцепившись в руль. — Не жалко. Женщину ту молодую — жалко. И ребенка ее не родившегося. И мужа ее, вместе с ней погибшего. И двоих малолеток, что дома с бэбиситтером остались, пока папа свезет маму на ультрасаунд… Их вот мне жалко. А Сашу твоего — нет. Ничего с ним не случится — дерьмо не тонет. Вот и джоб себе отхватил — все, как я тебе говорила…»
В глазах у нее стояли слезы. Шломо погладил ее по руке: «Ну не надо, Катюня, ну что ты? Все ведь хорошо… Вот, на праздник едем…»
Женька предостерегающе подключилась сзади: «Мама, прекрати немедленно, у тебя сейчас глаза потекут.»
Катя вдруг как-то беспомощно всхлипнула: «Я боюсь… Я так боюсь, что с нами что-нибудь случится… Все эти взрывы и выстрелы, и все это каждый день, каждый божий день…»
«Ну вот, — нравоучительно отметила Женька. — Потекли. Я же предупреждала.»
Они проехали Глилот и свернули на Приморское шоссе. Дождь продолжал идти, размеренно и мощно, как чемпион по спортивной ходьбе.
«Ладно, хватит о грустном, — решительно объявил Шломо. — Давайте лучше о чем-нибудь другом. К примеру, что это за дом, куда мы едем?»
Катя поперхнулась, перестала хлюпать носом и, наконец, улыбнулась мужу самой очаровательной из арсенала своих улыбок.
«Славик, ты только не сердись, — сказала она преувеличенно бодро. — Я все хотела тебе сказать, да как-то к слову не приходилось. Это вовсе не дом. Мы едем в ресторан. Рафи заказал там места на всю нашу контору.»
«Ну знаешь, — возмутился Шломо. — Это просто… это просто…» Он не находил слов.
«Но почему? Какая тебе разница, где сидеть — в чьем-то доме или в ресторане?»
«Да при чем тут это? Знай я, что речь идет о ресторане, где, кроме нас, будет еще пара сотен людей, я бы ни за что не пошел. Но ты ведь мне пела о смертельной обиде семейному седеру твоего босса! Знаешь, что это, дорогая моя? — Гнусный обман и больше ничего!»
«Славочка, во-первых, контора у нас маленькая, так что седер действительно как бы семейный. Во-вторых, я и впрямь немного схитрила, но ведь иначе тебя было не вытащить. А мы и так никогда не ходим на их бесконечные празднества. Я вот тебе не говорю, а там чуть не каждую неделю то брит, то свадьба, то бар-мицва, то похороны. Сил нету. И на все надо ходить. И все бабы с мужьями ходят, только я все время одна, как безмужняя. Неудобно. Тем более, у меня муж во-он какой хороший… Ведь хороший? Хороший?»
Шломо упрямо мотнул головой, уклоняясь от ее руки. Но улыбка уже дергалась в складке его губ. Он был органически неспособен сердиться на свою жену более нескольких минут, и она пользовалась этим без всякого зазрения совести в течение всей их долгой и счастливой совместной жизни.
«Правильно Женька говорит — фраер я ушастый, — сказал Шломо. — Вертишь ты мною, как хочешь. И всегда вертела.»
«Папа, я чего ты так переживаешь? — вмешалась Женька. — Тебе же лучше. В большой компании сачкануть легче. Скажешь пару раз «амен» и дело с концами.»
Бельские въехали в Нетанию и теперь медленно продвигались по направлению к морю. Ресторан, по словам Кати, был расположен возле самой площади Независимости. Этот район города кишел гостиницами, ресторанами и кафе; каждое заведение предлагало свои услуги по празднованию Песаха, и поэтому все прилегающие к площади улицы представляли собой одну сплошную автомобильную пробку. Надо было подумать и о стоянке. Катя и Женя с негодованием отвергли шломину идею поставить машину где-нибудь в отдалении и пройти пешком. И в самом деле, дождь угрожал свести на нет все их труды по наведению марафета. Твердо веря в свою шоферскую звезду, Катя искусно лавировала между машинами, гудками и веселыми водительскими перебранками, метр за метром продвигаясь к цели. Наконец, они достигли площади.
«Забудь слово «стоянка» всяк сюда въезжающий… — мрачно сказал Шломо. — Говорил я вам…»
«Слава, перестань нудеть под руку, — жестко оборвала его Катя, огибая кафе «Йотвата» и зорким взглядом обозревая окрестности. — Вот! Вот! Что я вам говорила!» И она коршуном рванулась на свободное место справа от дороги.
«Катя, — простонал Шломо. — Но это же въезд во двор. Мы не можем тут парковаться…»
«Еще как можем, — уверенно ответила Катя. — Все уже сидят по домам, так что мы тут никого не блокируем. Максимум — оставим им записку с телефоном под ветровым стеклом. Позвонят — ты выйдешь и дашь проехать. Вон наша дверь — почти напротив.» Она указала на ярко освещенный вход под длинным, далеко выдающимся на улицу козырьком.
«Как же они позвонят, когда праздник? — Это был последний, но сильный аргумент. — Религиозные по праздникам не звонят.»
«Ха! — с легкостью парировала Катя. — Религиозные по праздникам и не ездят!»
Шломо понял, что карта его бита. Угроза полицейского рапорта легко отметалась очевидным «кто же пишет рапорты по праздникам?» Он вздохнул и покорился неизбежному.
* * *
Странно, но в итоге они почти не опоздали. Ресторан был при небольшой гостинице; маленькое, но уютное лобби с синими мягкими креслами, стойка справа, неназойливый охранник при входе, улыбчивый метрдотель… Зал, человек на двести, был почти полон к их приходу. Катя махнула кому-то рукой, в ответ из-за стола в самой середине зала выскочил шустрый человек в кипе и тараканьими глазами навыкате.
«Катья, — закричал он, распахивая объятия. — Как я рад! Ты себе просто не представляешь… Наконец-то… Шломо, я безумно счастлив с тобой познакомиться; я — Рафи… так много наслышан… мы еще поговорим… О! А это — молодая леди? Прямо из джунглей Амазонии? Где же твой попугай?..»
При всей очевидной преувеличенности его реакции, она не выглядела фальшивой; возможно, оттого, что преувеличенность эта была бескорыстной, простой данью торжественности праздника, искренним желанием сказать гостям что-то доброе, красивое, приличествующее масштабу грандиозного события, именуемого «Песах». Помимо всего прочего, это были его, рафины, персональные гости; это он, заплатив немалые деньги, пригласил их сюда, за эти пять столов в роскошном пятизвездочном отеле; это был его, крохотный, но личный вклад в звенящую святость столь значимого для него события. И теперь он просто хотел, чтобы всем было хорошо, чтобы все радовались, потому что эта радость свидетельствовала в пользу того, что его личный вклад был не напрасен, что его малая жертва была милостиво принята тем большим и страшным Хозяином, что праздновал сегодня один из главных Своих праздников.
Шломо кивал и улыбался ему в ответ, говорил ничего сами по себе не значащие ритуальные слова и думал про себя, какой славный, в конце концов, этот Рафи, при всей его прижимистости; как искренен и, видимо, угоден Богу его простой и безыскусный порыв, как это, в сущности, правильно и справедливо — радоваться всем вместе тому давнему символическому событию, нашему общему освобождению из рабства, именно сейчас, когда эти сволочи бомбят нас на каждом углу, безотносительно к тому, что бомбят, безотносительно к чему бы то ни было, радоваться, потому что в этом наша связь с нашим Богом, с нашими основами и с воздухом в наших легких. Ему даже стало стыдно за свою давешнюю капризность, и он извиняюще сжал катин локоть, и она ответила ему веселым и свободным, в такт Песаху, взглядом.
Не переставая говорить, Рафи усадил их за один из своих столов. Катя представила мужу соседей. Давид и Анат, бывшие кибуцники, застигнутые в середине земного пути таинственным звоном дальнего колокольчика и теперь живущие в поселении Нахлиэль к северу от Рамаллы, он — с кипой на голове, она — в платке и с длинной юбкой. Меир — бывший марокканец, житель Тель-Авива, маленький, шебутной, круглоглазый, с такой же шустрой, как и он, крашеной в блондинку женой. Арик, бывший мошавник, высокий усатый вдовец лет шестидесяти из Хадеры. Собрание бывших… В этом смысле семья Бельских дополняла картину с пугающим совершенством.
«Конечно, — сказал Меир, продолжая разговор после того, как все отвесили друг другу положенное количество кивков, улыбок и реверансов. — Конечно. Всех их, сук, выбросить отсюда, раз и навсегда. Ты, Арик, не знаешь, что такое араб. Я — знаю. И Малка вот знает…правда, Малуш? — жена его кивнула крашеной головой. — Араб, он, падла, врун. Он врет как дышит. Ты его можешь тридцать лет с руки кормить, и каждый день все эти тридцать лет он на тебя молиться будет, вслух и при свидетелях… а на первый день тридцать первого года всадит в тебя нож и еще попрыгает, радостный, на теле твоем фраерном. Мол, опаньки, смотрите, как перехитрил я глупого еврея… Я-то знаю, я с ними, с этими Фатьмами и Ахмадами, все детство мячик во дворе гонял. У них это называется «военная хитрость», за доблесть почитается.»
«Ты, Меир, расист, — отвечал ему Арик. — И насчет того, кто такие арабы, ты меня не учи. Моя семья тут испокон веков живет, бок о бок с этими самыми арабами, мы в местных турецких книгах с шестнадцатого века записаны. Я, можно сказать, палестинец в двадцать третьем поколении, а может и больше. И вот что я тебе скажу. Они тоже люди, и жить с ними можно. С некоторыми мерами предосторожности, но можно. И жить, и дела делать. Лишь бы мир был.»
«Как же, — сказала Малка. — Мир… В жопу они тебе вставят мир твой… Астронавт ты хренов…»
«Малуш… — примирительно шепнул Меир. — Зря ты так… Дети…» Он указал глазами на Женьку.
«Ага, — стояла на своем Малка. — Именно дети. Мы-то ладно, мы-то пожили… А вот детей — жалко.»
На поясе у Шломо завибрировал сотовый телефон. Шломо нажал на кнопку и сказал «алло».
«Наглец! — ответила трубка женским голосом. — Я сейчас вызову полицию! Совсем обалдели! Закрыть въезд во двор!»
«Я уже выхожу, — сказал Шломо. — Извините.»
Он улыбнулся Кате, упорно глядящей в другую сторону, подмигнул Женьке и пошел к выходу.
«Не задерживайся, Шломо, — сказал ему вслед Давид. — Седер вот-вот начнется.» Шломо кивнул.
В лобби он почти столкнулся с длинноволосым смуглым парнем в длинном черном плаще и затененных очках в золотой оправе. Парень слепо ткнулся в его плечо, отпрянул и прижался к стене, пропуская Шломо к закрытой из-за дождя входной двери. На мгновение Шломо увидел дикое, странное выражение его остановившихся, невидящих глаз. «Надо же, как обкурился, бедняга,» — подумал он и вышел на улицу, под навес. Шломо успел сделать всего один шаг под дождь, в направлении белого задка их маленького «уно», столь ясно видимого слева, как кто-то грубо и сильно толкнул его в спину.
* * *
Толчок был настолько сильным, что он упал ничком, едва успев подставить руки, чтобы не разбить лицо об асфальт мостовой. Уже лежа на земле, Шломо вдруг понял, что слышал страшной силы хлопок, не хлопок даже, а взрыв… конечно, это был взрыв… что же до толчка, то… И связав наконец два этих события упорно отказывающимся связывать их мозгом, он осознал, что произошло нечто ужасное, ужасное настолько, что, может быть, даже не следует вставать с этого мокрого асфальта и уж во всяком случае не следует оборачиваться назад, смотреть туда, откуда он только что вышел, оставив там самое дорогое, что у него было, есть и когда-либо будет. Он встал, обернулся и посмотрел.
Там, где еще минуту тому назад сверкал огнями и хрусталем роскошный праздничный зал, теперь зияла безобразная черная дыра, чреватая страшно шевелящейся, ворочающейся, стонущей темнотой. Шломо сделал шаг, другой и затем побежал внутрь, скрежеща подошвами туфель по битому стеклу. Он бежал поразительно долго, как во сне, мучительно преодолевая эти кажущиеся бесконечными пятнадцать метров. Навстречу ему из темноты начали выходить, выпадать люди.
Наступившая сразу после взрыва неправдоподобная тишина вдруг прорезалась криками, стонами, мольбами о помощи, плачем, сотнями голосов. Люди внутри искали своих, находили их — живыми, мертвыми, раненными, умирающими, оглушенными. Со всех сторон сбегались на помощь, началась бестолковая растерянная толчея; уже слышны были раскачивающиеся сирены полиции и амбулансов, пробивающихся сюда, к отелю «Парк», на кровавое пиршество нечеловеческого арабского террора.
Уже зазвенели репортерские пейджеры, уже бросились к телефонам их обладатели… и вот — по всей Стране — вы слышали?.. не может быть… есть убитые?.. говорят, много… включайте скорее радио… и по CNN уже сказали… позвони скорее Хане — они куда-то собирались… я звонила — никто не отвечает… ладно, не сходи с ума, ты же знаешь — телефоны отключаются… ой нам!.. ой нам!.. ой нам!.. подонки… сволочи… Страна сжимает кулаки, баюкает злой царапающий гнев со скорбью пополам.
А там, на другой стороне, разрастается радость, праздник. В Рамалле, Шхеме, Дженине выходят на улицы, обнимаются, поздравляют друг друга с победой, звучит веселая музыка, женщины танцуют на крышах домов. На стенах расклеивают листовки; хамас, фатх, джихад скандалят между собой — кто именно возьмет на себя ответственность за взрыв, за убийство? Хочется всем: я!.. нет, я!.. — чуть не до стрельбы доходит. Но стрельба эта скорее потешная — ворон ворону… В Газе начинается спонтанная радостная демонстрация, опять стрельба в воздух, как на свадьбе, парад шахидов-самоубийц, трехлетние дети в камуфляже с пластмассовыми автоматами — мерзкий арабский карнавал. Кто же герой? Кто же покрыл неувядаемой славой свою семью, свой народ и всю исламскую «умму»? Все население Тулькарема стекается к его дому — здесь эпицентр радости. Счастливые братья и отец героя-шахида раздают конфеты с огромных подносов… Их поздравляют, им завидуют.
Радость-то вам какая, людоеды… Крови-то вам сколько, вурдалаки…
В темноте Шломо пробирался к середине зала, где когда-то стоял их столик. Он шел большими шагами, высоко поднимая ноги, чтобы не наступать на тела. Его хватали снизу, умоляя о помощи, но он высвобождался — ему нужно было туда, к Женьке и Кате. Все вокруг было залито водой, вода лилась и сверху — очевидно, где-то прорвало трубу.
«Вот теперь точно потечет их косметика,» — подумал Шломо автоматически. Он уже дошел до места, но не видел ничего из-за темноты. «Катя! — крикнул он. — Женя!» Крик его утонул в сотнях таких же, в шуме льющейся воды, в скрежете стекла под ногами, в завывании сирен подъехавших машин. Шломо нагнулся и начал ощупывать место вслепую, в кровь режа руки острыми стеклянными осколками.
Снаружи включили прожектора; в зал вносили лампы на треногах; стало видно. Зал был разрушен полностью. Обшивочные плиты с потолка рухнули вниз, обнажив электропроводку, трубы и жестяные рукава воздуховодов. Всюду валялись обломки гипсовых панелей, вперемежку с ошметками человеческого тела, битым стеклом и разбросанной взрывом мебелью. Белыми пятнистыми комьями топорщились накрахмаленные скатерти. На полу стояли лужи чудовищного коктейля из красного пасхального вина, крови и воды. И под всем этим, вместе со всем этим шевелилась стонущая человеческая масса, живые с мертвыми пополам.
Руку с браслетом он увидел сразу же, как дали свет. Руку его девочки, с тем самым браслетом, над которым он сопел еще сегодня вечером. Шломо отбросил в сторону стул… панель обшивки… Она была там, внизу, зажатая между мертвым телом Меира и колонной, живая, с ослепшим, изуродованным до неузнаваемости лицом. Живая…
«Женечка, — простонал Шломо, беря ее за плечи. — Женечка…»
«Папа… — пробормотала она. — Папа… Я ничего не вижу… Папа…»
Она вцепилась в него обеими руками, как в детстве, твердо зная, что теперь-то все будет хорошо, теперь-то ее не дадут в обиду этой требовательной, мягкой, но страшной темноте, неотвратимо затягивающей ее в свою дальнюю безвозвратную берлогу. Шломо попытался взять ее на руки — бесполезно; она крепко-накрепко держала его, как будто знала, что это — ее единственная связь с жизнью, единственная защита от темного ласкового существа, медленно протягивающего свои щупальца вверх по плечам, по запястьям, к пальцам, крепко вцепившимся в отцовские руки, к слабеющим, к слабеющим пальцам. И уже поняв, что удержаться не получится, просто не выйдет, она подумала об отце, о том, как он будет переживать, что вот — не удержал, и она улыбнулась ему улыбкой, которую он не увидел, и сказала слова утешения, которых он не услышал. А потом она просто разжала пальцы и соскользнула в смерть.
«Сюда! — закричал Шломо. — Эй! Сюда! Помогите!» Воспользовавшись тем, что Женька отпустила его, он попробовал взять ее на руки. Кто-то схватил его сзади за плечи:
«Что ты делаешь?! Так нельзя — только на носилках.» Подбежали двое с импровизированными носилками, наспех сооруженными из столешниц.
«Давай, осторожно.» Они положили Женьку на носилки и понесли к выходу. Шломо шел рядом, держа свою девочку за руку. В лобби остановились. «Почему встали? — не понял Шломо. — Скорее, в амбуланс!»
«Подожди, парень, — сказал один из людей. — Сначала парамедик. Первая помощь.»
Подошел парамедик, в желтом светящемся жилете с магендавидом. Посмотрел. «Вы ей кто?» — «Отец».
«Имя?.. Ее имя… Возраст?» Записал.
Потом сказал, обращаясь к носильщикам: «На газон.»
Они понесли. Шломо шел за носилками, не выпуская Женькину руку. Вышли под дождь и свернули направо. Там, на травяном газоне, под выбитыми окнами раскуроченного зала, были уложены в ряд несколько тел в белых, наглухо застегнутых пластиковых мешках. Носильщики остановились рядом с крайним мешком. «Опускай.»
Только тут Шломо понял.
«Вы что, сдурели? — закричал он. — Она ж живая! Я с ней минуту назад разговаривал! Несите ее в амбуланс, немедленно. Где врач?!»
Кто-то взял его сзади за плечи, развернул, потряс, прижал к мокрому пластиковому жилету. «Все, человек. Перестань. Она мертва, слышишь? Мертва. Все кончено.»
«Все кончено, — повторил Шломо. — Все кончено.» И потерял сознание.
А дождь все шел, так же размеренно и мощно, как и час тому назад, когда еще ничего этого не было, или было, но не здесь, не с этими конкретными людьми, а где-то там, в телевизионном абстрактном далеке, где есть лишь цифры, имена и многоязыкая репортерская скороговорка.
Репортеры, впрочем, были уже на месте, расставляли свет, тянули кабели телекамер, заботливо оборачивали полиэтиленом аппаратуру, скандалили с выставленным полицией оцеплением, совали микрофоны в лицо потрясенным, оглушенным людям. Здесь испекался сейчас горячий хлеб новостей, замешанный на крови и слезах, и каждая телесеть жаждала отхватить для себя краюху побольше. И это было частью процедуры, стандартного исполнительского процесса, заранее утвержденного соответствующей комиссией, расписанного по пунктам, по должностям, с указанием ответственных и заместителей. И в этом не было ничего плохого; скорее, именно наличие этой абстрактной безличной процедуры позволяло людям отодвинуть, вытеснить из сознания невыносимую, нестерпимейшую реальность, переселить себя в разграфленный мир протокола и просто делать. Делать необходимую работу.
Первоначальная неразбериха уступила место деловитой, целенаправленной, рабочей суете. Подъезжали и отваливали амбулансы, увозя раненых в соответствующие больницы — сообразно виду и тяжести ранения. Специалисты по тыловой защите брали всевозможные пробы — от воинов джихада всегда можно было ожидать самого худшего, в том числе и применения биологического оружия. Саперы обшаривали окрестности в поисках дополнительных «подарков» — заминированного автомобиля, бомбы в мусорном ящике, «забытой» на автобусной остановке сумки, начиненной взрывчаткой с гвоздями пополам… Бригада людей в черных кипах и с пейсами начала свою печальную работу по сбору фрагментов человеческих тел с полу, со стен, с окрестных деревьев — ибо все должно быть предано земле из уважения к Тому, по чьему подобию сотворен человек…
Прямо на мостовой, недалеко от входа в «Парк» стояла детская коляска на двоих, их тех, что делаются специально на близнецов. Они и сидели в коляске, эти близнецы, мальчик и девочка, не более года, в праздничной кружевной одежде, одни — среди занятых своим жутким делом взрослых. Видимо, их вынесли из зала в самом начале, да так и забыли здесь, под дождем. Бог весть, что случилось с родителями — факт, что малышей никто не искал.
Они сидели молча, и это было страшнее всего. Маленькие дети — одни, без мамы, под дождем, холодно — ???????????????… Эти же были тихи и неподвижны, как две куклы. Вокруг крутились синие и красные мигалки; с воем подъезжали и отъезжали амбулансы, несли раненых; плакали и кричали люди, ища и оплакивая своих. А эти сидели себе, в своих мокрых кружевах, среди всего этого воющего, рыдающего, кричащего балагана — молча, отдельные в своей нездешней, какой-то даже безмятежной отрешенности. Пока наконец кто-то, оттолкнув нацелившегося в них камерой оператора, не увез коляску в гостиницу «Максим» напротив, где разместился импровизированный полицейский штаб.
В гостинице «Максим» составляли списки пострадавших, собирали свидетельские показания, пытались опознать безымянных. Трудно было ожидать, что у людей, севших за стол пасхального седера в нетанской гостинице, будут документы в карманах. У большинства их и не было. Поэтому погибшие оставались неопознанными дольше обычного. Обычного… В жестокой реальности этой войны за выживание уже успело сложиться понятие «обычного» терракта. Взрыв в гостинице «Парк» во многом вылезал за границы обыденного — и по количеству жертв, в основном, женщин и стариков, и по особой, изощренной кощунственности, с которой были выбраны время и место для совершения этого массового убийства…
Шломо пришел в себя, когда его, лежащего на насилках, загружали в амбуланс, где уже сидели двое пострадавших от контузии стариков. Секунду-другую он фокусировал сознание и вдруг разом все вспомнил.
Надо найти Катю. Надо найти Катю… Он вырвался от удерживавших его санитаров, выскочил из машины и огляделся. Вокруг повсюду, под непрекращающимся дождем, вели и несли на носилках раненых. Поперек входа в «Парк» была натянута желтая пластиковая лента. Шломо подошел к полицейскому у дверей.
«Мне нужно туда, — сказал он, указывая внутрь. — У меня там жена.»
Полицейский осторожно протянул руку и взял его за плечо. «Тебе туда не нужно, брат, — сказал он сочувственно. — Там пусто. Одни саперы. Всех уже вынесли.»
«Где же моя жена? — спросил Шломо беспомощно. — Я обязан ее найти…»
«Поищи там, — полицейский указал на гостиницу «Максим». — Там наверняка знают. И… знаешь что, брат?… Возьми себя в руки. Все будет в порядке, вот увидишь…» Шломо кивнул, повернулся и шаткой походкой направился к «Максиму». Полицейский смотрел ему вслед, качая головой.
«Фамилия, имя? — человек за столом проверил списки. Дойдя до конца, он проверил еще раз с самого начала и отрицательно покачал головой. — Нет, среди эвакуированных в больницы она не значится… Подождите секунду… Давид!»
Подошел бородатый парень в дубоне.
«Давид, возьми его к вещам. Авось там что прояснится…»
Прошли «к вещам» — маленькой кучке дамских сумочек, бумажников и кошельков, сваленных на соседнем столе.
«Вот она, — сказал Шломо, указывая на катину сумочку и не зная, радоваться этому или наоборот. — Это сумочка моей жены. Что это значит?»
«Вы можете взять ее, — остановил его бородач. — И, пожалуйста, идите за мной.»
Они снова вышли под дождь, направляясь через дорогу к газону слева от гостиницы «Парк», туда, где Шломо незадолго до этого оставил Женьку. Где незадолго до этого Женька оставила Шломо. Теперь там был длинный ряд белых пластиковых мешков. На газон выходила боковая часть зала, бывшая когда-то сплошной стеклянной стеной. Взрыв вдребезги разнес стекла, искорежил рамы переплетов, выдавил наружу декоративные карнизы, и белые полотнища занавесей, уцелевшие по причине своей легкости, колыхались теперь над газоном, над страшными пластиковыми мешками, над Женькой в одном из этих мешков — как ресницы на ее ослепшем лице, как крылья огромных птиц, как прощальные взмахи платков вослед навсегда ушедшим.
Бородач остановился напротив одного из мешков.
«Как вас зовут? — спросил он. — Шломо Бельский… Послушайте, господин Бельский. Скорее всего, у меня нет для вас хороших новостей. Я прошу вас приготовиться к самому худшему. По нашим данным, ваша жена погибла, и я прошу вас опознать ее тело.»
Он наклонился и расстегнул мешок. Шломо увидел слипшиеся от крови волосы, катино платье, знакомое тонкое запястье, памятное только им обоим серебряное колечко грузинской чеканки… Он закрыл глаза.
Бородач спросил жестко: «Она?»
«Она… — ответил Шломо, не открывая глаз. — Закройте… дождь все-таки…»
* * *
Он шел, не разбирая дороги, сопровождаемый равнодушным, равномерным, как маятник, дождем. На площади ветер с моря ударил его по щеке, грубо толкнул в плечо и уже больше не отставал, приплясывая вокруг, воя и задираясь. И это было хорошо, потому что хоть чуть-чуть отвлекало от дикого визга циркульной пилы, перемалывающей его мозг, царапающей изнутри воспаленную подкорку. Если бы это было возможно, он снял бы голову с плеч и нес бы ее в руках, лишь бы отделить от себя этот пульсирующий, визжащий сгусток боли. Он давно уже вымок до нитки, но не чувствовал этого. Он видел перед собой только чередующиеся плиты набережной, равномерные, как дождь, как боль, как обороты пилы.
Набережная вела его на юг, уводя прочь от страшного места, где одним махом разбилась вся его жизнь, лопнули основы его бытия, распались скрепы смысла его существования, разогнулись скобы его души. Кусты шушукались ему вслед; деревья отшатывались от аллеи при его приближении; стойки забора над обрывом судорожно вцеплялись в железные перекладины. Набережная была безлюдна в это время и в эту погоду; один во всем мире, он шел, переступая от плиты к плите, и фонари, истекающие дождем, провожали его рассеянным светом.
Аллея уперлась в забор, он повернул налево, затем снова направо, бессознательно следуя древнему правилу ищущих выход из лабиринта. Пила в голове продолжала визжать, и он сжал виски руками, стараясь уменьшить мучительную вибрацию. Дорога тем временем пошла вниз, поворачивая на север, спускаясь к берегу моря, к песчаным нетанским пляжам. Не видя всего этого, он просто шел, обходя препятствие справа, и если прежде этим препятствием было ограждение над обрывом, затем забор и дома, то теперь — высокая песчаная стена или каменная круча, а море шумно дышало слева… теперь-то он заметил… да, вот оно, море, слева.
Длинный пологий спуск вывел его к нелепому бетонному замку на песке — беспорядочное нагромождение ни с чем не связанных стенок, странных, замкнутых на себя лестниц, разомкнутых арок, ворот, распахнутых в никуда. Внутри этого бедлама гнездились несколько кафе, душевые, раздевалки, офисы береговых властей. Сейчас все это было пусто, закрыто; он был один на огромном пляже, не считая дождя и ветра, один на один с темной махиной моря, встающей перед ним во весь свой гигантский рост.
Он увидел море и пошел к нему, интуитивно зная, что наконец-то нашел что-то соразмерное его боли, похожее на нее по размаху и силе, а потому — способное победить ее, эту боль, или хотя бы немного уменьшить. Море ворочалось перед ним, старое, ворчливое море, много повидавшее на своем долгом веку. Оно смотрело на вошедшего в него человека, поворачивая его так и эдак, как будто прикидывая, что же с ним делать. Оно умело забирать людей, это море, выхватывать у них дно из-под ног, закручивать их до беспамятства водоворотами в десяти метрах от берега, втягивать их в себя мощной струей, швырять с размаху на камни волнорезов… И теперь оно лениво качало этого человека на ладони, взвешивая, как с ним поступить — взять себе или выбросить вон, на мокрый береговой песок.
А он просто лежал на этой ладони, лежал и смотрел вверх, на равномерно падающий дождь, на беспроглядную вечную темноту, чувствуя, как стихает, смолкает, гаснет пылающая в голове боль, радуясь этому, готовый на все, кроме возврата на землю, забравшую у него двух его девочек.
Часть вторая
11
«Я тебе что скажу, Шломо. В любой армии самое главное — справедливость, — назидательно говорит Яшка. — Это я тебе свидетельствую, как человек, служивший и тут и там. Давай, закурим, что ли…»
Они закуривают шломиного «Марлборо». Майское солнце припекает, и хотя здесь, в тени от заброшенного каравана на самом краю обрыва, относительно прохладно, двигаться категорически не хочется. «Катягорически»… Шломо, не глядя, нащупывает камешек справа от себя и запускает его в безупречно голубое небо между ними и Рамаллой. Камень неохотно взмывает вверх и тут же торопливо ныряет назад, в свою привычную пыльную жизнь в кустарнике на склоне вади.
«Закон есть закон, — продолжает Яшка. — Но и борзеть тоже не надо. Ты ведь меня понимаешь?» Кивать лень, поэтому Шломо просто мигает ближним к Яшке глазом.
«Нас — пятеро, вас — трое, так? — говорит Яшка, загибая пальцы. — Получается восемь, так?» На это Шломо не реагирует по причине очевидности.
«Делить на два — это четыре смены, так? — Яшка сжимает пальцы в кулаки. — Какого же беса твой Менахем требует с нас пять? Это ли не борзость? Нет, ну ты скажи, скажи…»
Шломо пожимает плечами. «Да мне-то — пофиг дым, Яша, — говорит он врастяжку. — Чихать я хотел на все эти несуразности. У меня с математикой никогда не ладилось. И потом — вы тут милуимники, а я — за бабки… так чего же ты от меня хочешь, мил человек?..»
Яшка кивает понимающе — мол, ясное дело, что с тебя взять… и затягивается, щурясь на нестерпимое самарийское лето.
«Так-то оно так, — отвечает он, снимая свою армейскую панаму и вытирая ею пот с лица и шеи. — Так-то оно так, только борзеть-то тоже не надо.»
«Это верно, — соглашается Шломо. — Борзеть не надо.»
Они охраняют маленькое поселение к северу от Рамаллы — пятеро пожилых резервистов, призванных экстренным приказом Генштаба ввиду особой ситуации. Пятерых мало, но больше армия не дает. Поэтому сами поселенцы вынуждены дежурить в очередь, закрывая три дополнительных «человеко-ружья». Кто и впрямь дежурит собственной персоной, а кто и покупает услуги «платных сторожей», таких, как Шломо. Второй вариант встречается чаще, ибо всех устраивает самым замечательным образом. Для работающего поселенца отгул на работе стоит, как ни крути, дороже тех двухсот шекелей, что приходится платить «наемнику». Для самого Шломо, хотя деньги и невеликие, но на хлеб-водку хватает; харчи, опять же, наполовину казенные, армейские, да и жилье, считай, бесплатное — чего еще одинокому человеку надо?
Да и для равшаца Менахема, каждый день заново ломающего голову — как прикрыть ветхой заплаткой из пяти изношенных солдатиков и троих разношерстных ополченцев круглосуточную оборону драного во многих местах забора, отгораживающего поселение от нависшей над ним Рамаллы, да от четырех враждебных деревень, да от заезжих воров-гастролеров… и для него, Менахема, постоянный «наемник» Шломо куда предпочтительней что ни день меняющихся поселенцев. Тем более, что человек он, вроде, надежный, во всяком случае, пока не подводил…
* * *
«Шиву» Шломо отсидел нечувствительно. Он вообще мало что помнил из прошедшей пасхальной недели. К примеру, как оказался дома, в Мерказухе, на попечении у Сени с Сашкой. Правда же заключалась в том, что его, полубессознательного, вытащили из воды и сдали на руки нетанской полиции случайные люди, уверенные, что имеют дело с незадачливым самоубийцей. Да и можно ли было подумать иначе о человеке, настойчиво и слепо бредущем прямо в пасть бурлящему морю-людоеду? Тем более, что само море, по странной людоедской прихоти, отчего-то раз за разом отвергало идущую ему в руки добычу, упрямо выплевывая человека на берег, как пророка Иону много сотен лет назад.
Спасению Шломо не сопротивлялся, хотя на вопросы не отвечал и вообще в контакт не входил. В кармане вязаного жакета полиция обнаружила мокрые, но все еще читабельные документы, на поясе — ключи от машины и, проявив редкую сообразительность, связала явление «пророка Ионы» со взрывом в гостинице «Парк». Шломо перевезли в местную больницу и госпитализировали с диагнозом «тяжелая форма шока». К концу второго дня он начал разговаривать, односложно и безразлично. В связи с этим лечение было признано успешно завершенным, и пациента отпустили домой. Забирали его Сашка с Сеней; они же протащили Шломо через необходимую процедуру опознания в Абу-Кабире. Ловкий в бюрократических делах Сеня выправил нужные бумаги. Сашка читал кадиш на похоронах. В течение всего этого времени Шломо вел себя спокойно и отрешенно, с готовностью марионетки исполняя требуемые от него несложные действия. Потом его, наконец, оставили в покое, в мерказушной квартирке, уложив в постель, где он и провел, почти не вставая, следующие трое суток, лежа попеременно то с закрытыми, то с открытыми, но равно невидящими глазами. Сашка не отходил от друга, ночуя там же и время от времени пытаясь впихнуть в него еду, которую Шломо брал или отвергал одинаково безразлично.
Утром четвертого дня Сашка проснулся от звяканья тарелок на кухне. Шломо, гладко выбритый и одетый, мыл накопившуюся за неделю грязную посуду.
«Ну и слава Богу, — сказал Сашка. — Наконец-то встать соизволили. Ты уже завтракал?»
«Нет еще, — ответил Шломо, не оборачиваясь. Он поставил в сушилку последнюю тарелку и, вытирая руки кухонным полотенцем, подошел к сашкиному дивану. — Саша, ты меня извини, но я хочу тебя кое о чем попросить.»
«Конечно, конечно, — с готовностью откликнулся верный Сашка, спуская ноги на пол. — Какие извинения, Славик, ты что, с ума сошел?»
«Я очень ценю то, что вы с Сеней для меня сделали, — все так же спокойно продолжил Шломо. — Но ты не можешь тут больше оставаться. Возвращайся, пожалуйста, к Сене. Я теперь и один управлюсь. Большое тебе спасибо за все.»
«Э-э… — озадаченно протянул Сашка. — Ты уверен? Если ты за меня беспокоишься, то — зря. У меня уйма времени, я на работе отпуск взял, неделю. Так что мы тут с тобой еще погудим. Как когда-то…» Он заговорщицки подмигнул.
Шломо на подмигивание не ответил. Напротив, его интонация стала еще более официальной. «Ты меня не понял, Саша, — сказал он. — Твой отгул тут совсем не при чем. Просто Катя не хочет, чтобы ты у нас бывал. Уж извини. Придется нам видеться на нейтральной территории. Я зайду к Сене. Позднее. А пока что, будь добр…» Он сделал рукой движение в направлении двери.
Сашка ошалело смотрел на старого друга. Перед ним стоял какой-то новый Бельский, сухой, безразличный, даже неприязненный.
«Эк тебя стукнуло, бедняга… — подумал он, бессознательно принимая самую благоприятную для себя трактовку происходящего. — Ну ничего, пройдет. Время все лечит…»
«Хорошо, Славик, — сказал он вслух преувеличенно бодро. — Как скажешь. Но хотя бы в сортир сбегать ты мне разрешишь, на прощанье?»
«Конечно, — без улыбки ответил Шломо. — Только постарайся не задерживаться.» Он вернулся к раковине — домывать вилки.
С тех пор они особо не разговаривали. Иногда Шломо заходил к Сене, но общался при этом только с ним, практически игнорируя Сашку.
«Что ты на это скажешь? — жаловался Сене Сашка. — Я все понимаю, трагедия и все такое прочее… но я-то тут при чем? Как будто я виноват в том, что произошло…»
«Не хочется тебя расстраивать, Сашуня, — отвечал ему Сеня, стряхивая пепел с сигареты. — Но, скорее всего, именно тебя он и винит — не прямо, так косвенно.»
Сашка пожимал плечами. «Что я тут делаю, в этом гадюшной Мерказухе? — спрашивал он сам себя, бегая по комнате под насмешливым сениным взглядом. — Давно пора переселяться в Тель Авив. И к работе ближе…»
Сашкина политическая деятельность к тому времени вступила в солидную упорядоченную фазу. К чтению лекций в слизняковом Институте Плюрализма прибавилась должность пресс-секретаря слизняковой же партии. Теперь он был идеологическим функционером на зарплате; организовывал митинги против оккупации арабских земель и в защиту угнетенного палестинского народа; пел на площади Царей Израиля песню мира вместе с тысячами кибуцников, свезенных ради такого случая со всей страны специально нанятыми автобусами; участвовал в вульгарных шествиях геев и лесбиянок — в защиту прав сексуальных меньшинств; ездил в Рамаллу брататься с осажденным Арафатом; оплевывал солдат на блок-постах, протестуя против унизительной практики обыска палестинцев; шпионил за поселенцами — не поставили ли под шумок еще одну халупу, еще один караванишко, не передвинули ли ночью заборчик еще на два метра… А уж если-таки передвинули… о-о-о… тут вообще работы невпроворот — треба бежать сразу по нескольким направлениям: и европейцам пожаловаться, и американцам ябеду закинуть, и всем корреспондентам, особенно зарубежным, сообщения на пейджеры разослать, и, главное, — в суд, в полицию, в прокуратуру — чтоб по рогам, по рогам их, зарвавшихся фашистов.
В общем, хватает забот у левого деятеля. Зато и денег тоже хватает. И то — такой труд, да чтобы неоплаченным оставался? Откуда ж деньжата? Ну, это-то не проблема. Тут вам и Европейский Союз, и евреи-толстосумы с жирными финансовыми интересами в Ливане, Египте, Сирии, и всякие другие нефтью пахнущие гуманисты… Так что желающих помочь хватает. Короче, завелись деньги у Саши Либермана, впервые в жизни, можно сказать, завелись. Разъезжал он теперь на казенной «мазде» и как-то естественно перешел с «голда» на «абсолют». Сеня, впервые увидев «мазду», насмешливо прищурился: «Вот это да… Смотри, Сашок, какая интересная закономерность. Пока ты был поганым националистом, то чуть ли не с голоду помирал. А как гуманистом-плюралистом заделался, так прямо как сыр в масле катаешься. О чем это говорит? — О том, что база у тебя теперь — все прогрессивное человечество, а не мелкая горстка еврейских скупердяев. А ведь давно замечено: чем база ширше, тем морда толще… Так что — правильной дорогой идете, товарищи!»
Насмешки насмешками, но от «абсолюта» Сеня не отказывался. Хотя и сашкины попытки обратить его в новую веру отвергал — мол, стар я, Сашуня, для этой суеты… разве что в лесбияны гожусь — по причине необъяснимой тяги к женскому полу… да и это, честно говоря, уже в прошлом. И все же Сашку не покидало ощущение, что сенино отношение к нему как-то неуловимо изменилось… какой-то оттенок странный появился… презрительный, что ли? Да нет, навряд ли; откуда?.. почему?.. быть такого не может, чтобы на аполитичного пофигиста Сеню как-то влияли его, сашкины, идейные метания. Уж кому-кому, а Сене все эти дела всегда были до самой далекой лампочки. И тем не менее, какая-то едва различимая брезгливость мерещилась Сашке в насмешливом сенином взгляде за качающейся струйкой сигаретного дыма. В общем, надо переезжать. И побыстрее.
* * *
Шломо же тем временем пытался собрать воедино разлетевшиеся обломки собственного бытия. Прежняя, реальная и надежная картина жизни вдруг распалась, как разом обветшавшая панорама; казавшийся таким глубоким и многозначительно туманным рисунок заднего плана прорвался, обнаружив грубую искусственность грунтованного холста и неструганные доски каркаса; ближние фигуры выглядели топорно сработанными, неумело раскрашенными муляжами, и тусклое ничто сквозило сквозь дыры в размалеванных небесах. Он чувствовал себя единственным живым существом на смотровой площадке этого кишащего манекенами полуразвалившегося балагана. Его знобило от сквозняков, мутило от чужих запахов, и он тщетно искал выход, не видя и боясь обнаружить его.
На работу в редакции «Вестника» Шломо так и не вернулся; в то же время и дома он оставаться не мог. Незримое, но почти физически осязаемое присутствие Кати и Женьки не давало ему дышать. Каждая вещь, каждая выбоина на полу, каждое пятно на стене глядели на него женькиными глазами, обращались к нему катиным голосом. Сначала это даже радовало его, хотя и сбивало с толку в исполнении повинности повседневного существования. Потом — стало мешать; он понял, что еще немного и — рехнется окончательно, что так нельзя, что, если уж черт знает по чьей воле он остался жив, если уж был он выплюнут на берег по странной прихоти людоеда, то надо как-то соответствовать… хотя, собственно говоря, почему?.. — да потому что иначе лишалось смысла все, включая и гибель его девочек. А так… авось и выпадет ему понять, откуда ноги растут, в чем он, дальний этот смысл; ведь иначе — зачем же он тут оставлен?
Он стал уходить из дому, изнуряя себя дальними прогулками, спускаясь с гиловской горы к Пату и затем следуя дальше, в направлении тихой Рехавии и городского центра. Он шел, захватив с собою бутылку воды и пару ломтей хлеба, равно безразличный к огнедышащему зною первых весенних хамсинов и к пронизывающей свежести последних весенних ночей. Он шел, чуть подавшись вперед, глядя в землю, в асфальт, в мощеный тротуар, просто переходя от плитки к плитке, от трещины к трещине, от ямки к ямке, напряженно ища в этой монотонно меняющейся неизменности столь необходимую ему сейчас подсказку, знак, указатель. И Город с беспомощной жалостью смотрел на ползущего по нему муравья, точно зная, что он, Город, не сможет ему помочь, не сможет дать ему ничего, кроме смерти или сумасшествия.
Иерусалим, Ерушалаим, Ир Шалем — особенный город. Он не блещет архитектурными ансамблями, музеи его бедны, дома стандартны. Нет в нем романтических набережных, да, собственно, и реки-то нету. А город без реки — это уже, почитай, рангом ниже, на первый сорт не потянет. Старая часть, обнесенная опереточной стеною, скучна и грязновата. Ветхие турецкие постройки, убогие церквы и мечети, колониальные бараки времен британского мандата — воистину, жалкий, презренный сор. На всем, что создано здесь человеческими руками, лежит неистребимый отпечаток временности. В этом-то все и дело, во временности. Люди чувствуют себя здесь, как жильцы на съемной квартире. Кто же будет вкладывать собственные средства в застройку арендованного дома? Вот и кладется заплата на заплату — тут башенка, там чердак, здесь занавеска… — а ну как завтра придет Хозяин и прикажет все немедленно снять и выметаться к чертовой матери?
Все это так, только временность жильцов к самому Городу не относится. Если и впрямь мы, люди, уберемся с этих холмов вместе с нашими дурацкими стенами, крестами и полумесяцами, Иерусалим останется, не сгинет, как сгинули прочие вавилоны. Ибо он населен и без нас. Присутствие Хозяина в этом месте ощущается сильно и явственно. Невозможно спутать ни с чем другим происхождение того необычного праздника, который рождается в сердце, когда, перевалив через Бет-Хоронский перевал и поднимаясь от Гивоны в сторону могилы пророка Самуила, вдруг замечаешь далеко внизу, с правой стороны шоссе, мелькающие между придорожными кустами белые кварталы Города, где Живет Бог.
Это Город неба, прозрачного настолько, что сквозь дрожащую голубизну его можно увидеть самые дальние смыслы и сути. Это Город земли, горькой на вкус и заскорузлой наощупь, сухой и строгой, как вдова в черном платке. Он зовется Ир Шалем — Город Цельного, и из сотен имен, данных ему людьми, это — самое верное. Оттого нет лучше места на Земле для цельного сердца, для цельной души. Оттого нет страшнее, опаснее места для людей с расщепленной душою и смятенным сознанием. В мощное поле его тяготения нельзя попадать в разобранном виде…
* * *
В один из апрельских вечеров Шломо обнаружил себя на пешеходной улице Бен Егуда, в праздном, прогулочном сердце города. Был тот переходной, тревожащий душу час, когда ранние сумерки шелковыми складками спускаются с медленно чернеющего свода, и электрический свет уличных фонарей выглядит особенно беспомощным и неуместным в странном колеблющемся полумраке. Но делать нечего — когда-то ведь надо их зажигать. Подождите еще с полчасика… и вот уже лживые сумерки уступают место честной уверенной ночи, и приунывшие было фонари обретают наконец то, чего им так не хватало — темноту.
Устав от дневных скитаний по городу, Шломо присел на каменную скамью и огляделся. Мерцающая мостовая из бело-розового иерусалимского камня была уставлена столиками кафе; двери ярко освещенных лавок широко распахнуты, нарядная веселая толпа лениво слонялась взад-вперед, клубясь и завихряясь вокруг лотков, артистов и музыкантов. На свободном пятачке крутили сальто уличные акробаты; блестящие ромбики на их трико мелькали, как разноцветные стекляшки в детском калейдоскопе. Жонглеры перебрасывались пылающими булавами; мрачный шпагоглотатель сосредоточенно вдвигал длинное сверкающее лезвие в страдальчески раззявленный рот; застывшие на импровизированных постаментах статуи оживали, склоняясь в галантном поклоне в ответ на серебрянную монетку, брошенную к их мраморным туфлям.
Отовсюду звучала музыка; квакающий свинг приткнувшегося неподалеку саксофониста нервно напрыгивал на безразличную «умца-умцу» транса, тумкающую из жонглерских магнитофонов; даа-а-ро-гой длинною, да ночью лунною летел аккордеон толстого массовика-затейника на углу, а в десяти метрах от него тонко плакала скрипка, прижавшись к плечу очкастой девицы, плакала, умоляя купить, наконец, эту папиросу, вот уже век как безуспешно продаваемую на всех перекрестках мира…
Но похоже, что и здесь, в разноголосой праздничной суете, никому дела не было до старой идишской папиросы… переходи на травку, скрипачка! А еще лучше — на жратву какую или питье; только глянь — вся толпа вокруг жует… или пьет… или курит. Как будто только попробовав на язык, откусив, проглотив, затянувшись, можно ощутить вкус этой странной, ускользающей, мимо бегущей жизни, захватить ее внутрь, сохранить, запастись впрок.
Солидняки ковыряли лобстеров в дорогих ресторанах; народ попроще жевал стейки, запивая их красненьким; за столиками уличных кафе дули пиво и уминали салаты; девушки сосредоточенно сгребали ложкой сливочную шапку с огромных, похожих на бригантины, капучинных вазонов; их суровые пятнадцатилетние капитаны многозначительно курили, посасывая горлышко «хейникена» и глядя вдаль нахмуренным взором. Любители фалафеля нагружали килограммы съестного в разинутые зевы пит, чтобы затем вцепиться в это сочащееся всеми земными соками сооружение и насыщаться, урча и разбрызгивая вокруг себя струи соусов, стручки перца, огрызки соленых огурцов и ошметки красной капусты. Брезгливые интеллектуалы, отодвинувшись подальше от фалафельщиков, вели умную беседу за чашечкой «эспрессо», зажав фарфоровыми зубами эбонитовые мундштуки своих вересковых трубок.
Даже армейские патрули, стоявшие ближе к площади Сиона во всеоружии своих пыльных джипов, хрипящих переговорных устройств и готовых к немедленному бою автоматов, даже они, угрожающее прищуриваясь в окружающее гульбище, лузгали при этом семечки, мастерски сплевывая шелуху так, чтобы она ложилась ровным красивым слоем, без куч и проплешин. Даже карманники, шнырявшие тут и там и по роду работы обязанные держать руки свободными, даже карманники — и те перемалывали челюстями терпеливую жевательную резинку.
Кто же польстится на твою дряхлую папиросу в этом жующем и глотающем мире, дорогая скрипачка?
Шломо достал из сумки свой хлеб и присоединился к жующим. Он ел, поглядывая по сторонам, остро желая быть как все, жевать в такт — как маршировать — левой, левой, левой… Увы, старания были напрасны — кусок не лез в него, раскорячившись в сухом горле, как запихиваемый в «воронок» пьяница. Хуже того — он вдруг почувствовал, как мягкий душный комок отчаяния подкатывает с противоположной стороны, снизу, с юго-востока, откуда-то из подсердечной области. Стало трудно дышать, и он всхлипнул, хватая воздух ртом и руками. Парочка голопузых лолит, жующих на ходу чипсы из пакетика, со смехом шарахнулась в сторону. Шломо попробовал взять себя в руки… и не смог. Это Город наконец-таки принялся за него всерьез.
Город давно следил за ним, сначала с жалостью, затем со все возрастающим раздражением, а в последнее время так и просто с откровенной неприязнью. Как лес отвергает больное животное, как степь посылает волчью стаю по следу хромой лошади, отбившейся от табуна, так и Город пытался избавиться от бесцельно кружащего по нему муравья, нарушающего своим беспорядочным перемещением стройную осмысленность прочих движений. Тротуарные плиты топорщились под его спотыкающимися ногами; канавы преграждали ему путь; тяжелые двери подстерегали его, чтобы поразить неожиданным распахом; куски арматуры, выползая из стен, цепляли его своими ржавыми щупальцами; автобусы, хищно припадая на передние лапы, подкрадывались к нему на переходах. Но упрямец не понимал намеков. И вот теперь он забрался сюда, расселся в самом сердце светлого городского праздника, отравляя воздух зловонным дыханием своей беды, пугая веселую толпу гноем своих незаживающих ран. Это было уже чересчур. Город протянул руку к скорчившемуся на каменной скамье человеку, взял рукой его сердце и сдавил.
Шломо понял, что умирает. Он оглянулся, ища подмоги, продираясь сквозь давящую боль в груди и застилающие глаза слезы. Он не хотел умирать; это было бы неправильно, потому что тогда лишалось смысла все, включая и… Он поднял себя со скамьи и качнулся к телефонной стойке.
На счастье, Сеня сразу взял трубку. «Где ты? — спросил он, не дослушав шломиного полузадушенного хрипа. — Стой там, никуда не уходи, я сейчас приеду. Никуда не уходи!»
Он выскочил их дома в чем был, заклиная Бога и судьбу как можно скорее послать ему редкое в этих местах такси. Машина стояла прямо у спуска из Мерказухи, как будто ожидая его. Они рванули в центр по необычно пустым улицам, и светофоры встречали их немигающими зелеными глазами на протяжении всего пути от Гило до Бен Егуды. Шофер без звука согласился ждать, пока Сеня найдет и приведет товарища.
На обратном пути Шломо молчал, обессиленно откинувшись на сиденье, вслушиваясь в уходящую, отпускающую его боль.
«Всегда бы так, — заметил таксист, сворачивая налево на Пате. — Ни одного красного светофора за всю поездку! Что они, все разом поломались, что ли?»
«Мне надо уехать, Сеня, — сказал Шломо, глядя на вырастающие перед ними отвесные стены Гило. — Хотя бы ненадолго. Недалеко и ненадолго. Иначе я совсем с катушек слечу.»
Сеня хмыкнул, разминая сигарету и неодобрительно косясь на развешанные по салону запреты курить. «Не боись, Славочка. Сейчас чего-нибудь придумаем. Сегодня ты у меня ночуешь, хорошо? Мудачок-то наш съехал вчера — нашел себе квартиру в Тель Авиве. А я уже привык, что у меня перед глазами кто-нибудь маячит… скучно как-то одному. Ты уж уважь старика, хоть на одну ночь, идет?»
«Идет…» — Шломо улыбнулся: слишком многие сенины подружки пали жертвами коронной просьбы «уважить старика на одну ночь»… Эта улыбка была первой с той мартовской ночи в Нетании.
Дома Сеня открыл холодильник и достал початую бутылку «абсолюта».
«Ну вот, — сказал он, разливая. — Кончаются богатые денечки. Придется возвращаться на «голдовку». Вот только добьем это порождение плюрализма…»
Затем он уселся, поджав ногу, на диван, закурил и придвинул к себе телефон.
«Кстати о нашем яром плюралисте — есть у меня одна идейка. Авось поможет по старой дружбе.» Он набрал сашкин номер.
Сенина идея была проста и красива — пристроить Шломо на временное жительство в одно из поселений к северу от Рамаллы, в часе — полутора езды от Иерусалима. Обычно в таких местах всегда можно было снять пустующий караван — за ничтожные деньги, а то и совсем бесплатно. Кроме того, по нынешним временам, когда профессия сторожа снова стала супер-дефицитной, Шломо мог с легкостью добывать себе пропитание, наемничая на охране поселения. Это даже превращало его в желанного гостя с точки зрения «равшаца» — ответственного за безопасность. Для реализации плана требовалось задействовать старые сашкины связи доплюралистического периода. И снова все прошло на удивление гладко, как будто и тут действовало давешнее явление «зеленых светофоров». Назавтра, ближе к вечеру, Шломо уже въезжал на своем «фиате» в ворота поселения Тальмон, расположенного в древней еврейской области Беньямин, на территории, которую теперь Сашка вслед за своими новыми друзьями именовал «оккупированной».
12
После ночных дежурств Шломо просыпается в полдень. В принципе, можно бы поспать и подольше, но к двенадцати асбестовый караван раскаляется до невозможности. Формально Шломо делит жилище с пятью милуимниками, но фактически они тут почти не бывают, предпочитая ночевать дома и наезжая в Тальмон только на время дежурств. Тем не менее, с точки зрения армии, все пятеро стоят на полном довольствии, так что голодать Шломо не приходится. Койка, матрац со спальником, кофе, чайник, да полный холодильник — что еще надо человеку?
Проснувшись, Шломо заваривает кофе и выходит наружу, в ярко-голубой простор самарийского полдня. Он садится на землю, привалившись спиной к стене, так, чтобы максимально захватить скупой клочок тени, ставит рядом с собой чашку, закуривает и погружается в покой и ясную целесообразность раскинувшегося перед ним мира. Плавные линии холмов, прихотливые извивы шоссе, заросшие курчавым кустарником вади, неприхотливые прямоугольники оливковых рощ и виноградников, красная черепица домов на соседней вершине… И над всем этим — сияющее полотнище неба, расшитое слепящими солнцами по бело-голубому полю.
Шломин караван стоит высоко, на вершине Хореши — самой высокой горы Беньямина; к западу от него ясно видна прибрежная равнина, взлетно-посадочная полоса аэропорта Бен Гурион, небоскребы Большого Тель-Авива, и далее, на север — кварталы Петах-Тиквы, пляжи Нетании, высокие трубы Хадерской электростанции. А с другой стороны, на юго-востоке — Рамалла, бандитское гнездо, запертый в шакальем своем логове Арафат, враждебные пригороды и деревни — Эль-Бире, Бетуния, Мазра-эль-Кабалия, Эйн-Киния… Два мира. И Шломо — прямо между ними, со своим раскаленным караваном, чашкой остывшего кофе и третьей за это утро сигаретой. Прозрачный ветерок гуляет по Хореше, на небе ни облачка, и дивным светом залита наша благословенная Земля, с запада на восток, и с севера на юг, и так, и эдак, и с поворотом наискосок — как ни посмотри. И цепь наших поселений, от Долева до Халамиша, плывет в этом световом океане, на вершинах холмов, как на воздушных подушках, дразня ярко-красными крышами невыносимую синеву неба.
Тальмон стоит, как Рим, на семи холмах. Домов в нем, правда, поменьше, но ведь и Рим не сразу строился… Шломо смотрит на соседнюю гору. Где-то там ходит сейчас его новый приятель Вилли, топчет чахлый газончик вокруг детского сада. Днем детские сады — главная забота сторожей, лакомый кусочек для гиен из Хамаса, для шакалов из Фатха, для крыс из Исламского Джихада. Четыре часа Вилли уже отбомбил, осталось еще два, потом Шломо меняет его на боевом посту. Жарко. Вилли останавливается, пьет воду из фляжки, вытирает пот со лба и продолжает свое добросовестное кружение.
Другой бы сел себе в тенечек, вытянул ноги, отдохнул… другой, но только не Вилли. Потому что Вилли — немец. То есть натуральный немец, белобрысый и курносый. Его полное имя — Рейнхардт Мюллер, и происходит он из немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия. Там он себе и жил, шнапс-пиво пил, белыми сосисками закусывал и знать не ведал о дальнем клочке земли, полыхающем хамсинами, зноем и ненавистью. И все было бы в его жизни хорошо, когда б не выпала невозможная комбинация у верховного тевтонского бога Вотана. Уж не знаю, кости ли он бросал, пасьянс ли раскладывал или за рычаг «однорукого бандита» дергал… только познакомился юный Рейнхардт с курчавым существом женского пола в драных джинсах и мятой футболке. Познакомился и пропал.
Была она художницей, звали ее Рива, и приехала она в город Дюссельдорф по своим малярным делам — изучать немецкую живопись в собрании Вестфальского музея. Немцев Рива не любила априори, объясняя это исторической памятью, хотя какая, к черту, историческая память на немцев может быть у израильтянки йеменского происхождения? В общем — чистый снобизм, типичная заносчивость молодых, сильных и красивых израильских сабр, свято уверенных, что весь мир именно им и принадлежит. Впрочем, Германия Риве нравилась, хотя и не так, как родная Рош-ха-Айн. Один Рейн чего стоил… и тихие летние вечера над рекой, и виртуозные роллеры на набережной, и столики кафе со светлым «кельшем» в красивом бокале, и дивные кафедральные соборы Кельна и Аахена, и веселая космополитическая толпа на Маркетплац… погоди-ка… где-то я этого парня уже видела… А потом она вдруг поняла, что «этот парень» ходит за нею уже неделю, неотвязно, как голодный пес за хозяйкой.
Следуя проверенной армейской методике решать проблемы немедленно в момент их возникновения, Рива подозвала Рейнхардта к себе и спросила, какого, собственно, беса?.. Парень, запинаясь, но на вполне гладком английском объяснил ей, что он не может без нее жить, а потому просит выйти за него замуж. «Щас, прямо, — ответила ему Рива. — Щас прямо все брошу и выйду…» Парень просиял от счастья, и она поняла, что так просто этот фильм не закончится.
Рейнхардт осаждал ее с наследственным германским упорством, закаленным в горниле многих войн, включая Тридцатилетнюю. И хотя что-то подсказывало ему, что на этот раз тридцати лет не понадобится, морально он был готов и на большее. Медленный Рейн пел им свои песни, нежная Лорелея мыла длинные волосы в его ласковых водах, призрак великого Гейне обнимал за плечи влюбленные парочки на Кенигсаллее. Победительная любовь молодого Мюллера простерла соловьиные крылья над Дюссельдорфом… И Рива сдалась. Впрочем, вручая ключи от крепости счастливому победителю, она выговорила почетные условия капитуляции. Во-первых, о проживании в Германии не могло быть и речи. Закончив практику в музее, она возвращалась в Израиль. Точка. Если уж Рейнхардту так приспичило, что он готов следовать за нею на край света — пожалуйста. Пусть сворачивает тут свои дела и приезжает.
Во-вторых, как патриотка и сионистка, она не потерпит мужа-чужака в родной ей среде. Рейнхардт должен был стать своим в Стране. И кратчайший путь к этому лежал через Армию Обороны Израиля. Проще говоря, от немецкого гражданина Рейнхардта Мюллера, не знавшего ни слова на иврите, требовалось пойти добровольцем в ЦАХАЛ… Излагая все это своему неистовому поклоннику, Рива рассчитывала привести его в понятное замешательство. Как бы не так! Улыбка Рейнхардта стала только еще шире. Он много наслышан о легендарной эффективности израильской армии и будет счастлив отдать ей какие-то жалкие несколько месяцев — в знак бесконечной благодарности стране, взрастившей такое неимоверное чудо, как Рива. Что же касается дел, то сворачивать ничего не придется — он готов уехать хоть завтра… Рива пожала плечами, поняв, что, как ни бейся, а от судьбы не уйдешь.
Что может быть дальше от зеленых лугов, дубовых рощ и прохладных перелесков родной Германии, чем раскаленный плац в сердце пыльной пустыни Негев, в разгар августовского хамсина? А ведь именно там, на плацу, ровно через год новоиспеченный доброволец ЦАХАЛа рядовой Рейнхардт Мюллер ел глазами грозного старшину из породы садистов. Старшина сразу выделил его невинную физиономию в строю тертых калачей израильского производства, возвращавших старшине его грозный взор с привычной сабровской наглостью, хотя и несколько смягченной страхом потери субботнего отпуска. «Имя?» — спросил он, остановившись перед странным новичком. Рейнхардт сказал. «Как, как?» Рейнхардт повторил.
«Знаешь что…как тебя там… — сказал старшина задумчиво. — Так не пойдет. Своим именем ты ставишь в тупик командира. А в тупике командиру находиться нельзя…»
«А если он зашел туда сделать пи-пи?» — спросил кто-то из дальнего конца третьего ряда. «Шараби, — сказал старшина, не оборачиваясь. — На эту субботу ты не выходишь… А тебе, солдат, придется придумать какую-нибудь кликуху полегче…» Лицо его исказилось непривычным выражением мыслительного усилия. Из строя посыпались подсказки и предложения: «Капут… Чайник… Гитлер… Ганс… Кабан…»
Старшина вдруг просветлел. «Молчать!» — прикрикнул он на взвод. Все дружно заткнулись. Рейнхардт покорно ждал своей участи. «Вилли! — сказал старшина. — Ты будешь теперь Вилли.» Все посмотрели на бывшего Рейнхардта и удивились — а ведь и впрямь — Вилли! Как это они раньше не распознали?.. Вот ведь старшина… вот ведь мастер… как припечатает, так на всю жизнь.
Армейские клички прилипчивы. С тех пор Вилли слышал имя «Рейнхардт» только от собственной жены, да и то лишь в случае особо торжественных ссор. Недлинную свою трехмесячную службу он прошел с легкостью, хотя так и не смог до конца привыкнуть к царящим в ЦАХАЛе порядкам. Его педантичная немецкая сущность не переставала поражаться той странной смеси бесшабашного бардака, чудовищной бюрократии и совершенно неожиданной, причудливой, уверенной инициативы, которую представляла собой израильская армия, да, собственно говоря, и вся израильская жизнь. Но деваться было некуда, и, покряхтев да поворочавшись на непривычно просторном ложе, Вилли как-то приспособился.
Сначала он учительствовал, преподавая немецкий в средней школе, затем закончил курсы экскурсоводов и стал открывать своим бывшим соотечественникам красоты Земли Израиля. Это ему нравилось и приносило неплохой заработок; но вот началась война, и туристы кончились. Пришлось возвращаться в школу. Школу Вилли не любил, так что призыв в милуим воспринял с радостью и уже дважды добровольно продлевал свой срок. Шломо, выслушав виллину историю во время одного из длинных совместных ночных дежурств, сразу почувствовал в нем родственную душу. Они оба принадлежали к одному и тому же клубу потерявших свое прежнее имя.
* * *
Менахем подъехал к каравану без трех минут два. Шломо забрался в джип, пристроил между коленями длинную М-16 с магазином внутри. Строгие армейские правила запрещают ходить по населенному, мирному месту со вставленным внутрь автомата магазином. Таким образом, магазин в положении «внутри» был как бы признанием военного, опасного статуса места. И это признание парадоксальным образом сочеталось со спокойным и приветливым бытием поселения, с хозяйками, развешивающими белье в ухоженных палисадниках, со стуканьем мяча на баскетбольной площадке, с двумя мамашами, сцепившими языки на углу Цветочной и Масличной улиц, автоматически катая при этом взад-вперед видавшие виды коляски с дрыгающимися и агукающими малышами.
«Как жизнь, человече? — спросил Менахем и улыбнулся. — Еще не наскучило тебе у нас?»
«Да мне-то не наскучило, — в тон ему ответил Шломо. — Вопрос — не слишком ли я вам надоел…» Оба рассмеялись.
«Послушай, Шломо, приходи к нам в эту субботу. Ярдена обещала приготовить сногсшибательную, неземную рыбу.»
«Спасибо Менахем. Но я уже обещал Эльдаду — этот шабат я у него. И передай Ярдене, что хотя и любая рыба — неземная, ее — неземная в особенности.»
Они подъехали к Вилли, угрюмо переминающемуся с ноги на ногу у входа в детский сад.
«Хей, мальчуган, — приветливо сказал Менахем, останавливая джип. — За что тебя выгнали из садика? Написал в штанишки? Ай-я-яй… Такой большой мальчик…»
Вилли виртуозно выругался, грамотно комбинируя арабский мат с ивритскими замечаниями относительно моральных качеств воображаемой хромой сестры обобщенной матери собеседников. «Вы опоздали на две с половиной минуты!»
«Брось, Вилли, — Шломо похлопал его по плечу. — У тебя часы спешат.»
«Ага… — мрачно заметил Вилли. — Они у меня уже четырнадцать лет спешат. С тех пор, как как я в Израиле. А мне еще мясо замачивать…»
Он покрутил своей круглой головой и сменил, наконец, гнев на милость: «Ладно, я поехал. Шломо, только, ради Бога, не опаздывайте. Как закончите с Яковом — сразу ко мне. О’кей? Менахем, ты тоже присоединяйся…»
Художественное жарение мяса на мангале было одной из главных виллиных страстей. Он влюбился в это чисто израильское времяпрепровождение, как в Риву, — без остатка и с первого взгляда. Как и в случае с Ривой, загадочные истоки этой страсти терялись где-то в дебрях его германской души, подобно истокам лесного ручья, поблескивающего в буреломе шварцвальдской чащи. И подобно воде из этого ручья, чиста была виллина страсть. Сказать, что он был гурманом, так нет. По правде говоря, ему всегда было решительно все равно, чем, как и где питаться. В мангальном деле его интересовал процесс, возведенный в ранг высокого мастерства. Это было искусство ради искусства, в чистейшем и бескорыстнейшем его варианте.
За углями Вилли ездил в дальнюю арабскую деревню Умм Цафа, ибо, по его глубокому убеждению, хороший результат достигался исключительно на базе угля из местных древесных пород с труднопроизносимыми арабскими названиями. Породы эти произрастали, как уверял Вилли, только в старом лесу рядом с Умм Цафой, так что, следуя этой логике, настоящий мангальный стейк или шашлык был принципиально невозможен где-либо за пределами Израиля, разве что жители деревни наладят экспорт своего уникального угля за границу, поняв наконец, на каком сокровище они, дураки, сидят. Лес и в самом деле был стар, красив и, видимо, помнил еще царя Давида. Одна беда — с началом войны ездить в Умм Цафу стало небезопасно, даже учитывая то, что персональный Виллин араб-угольщик считался у Мюллеров чуть ли не другом семьи. Поэтому Рива взяла с Вилли слово, что поездки за углем прекратятся — до лучших времен. Слово-то Вилли дал, но ездить к угольщику продолжал, тайком, хотя и не так часто, как раньше. Конечно… не жарить же на магазинном… его и углем-то назвать язык не поворачивается… профанация какая-то… Нет, позволить себе такой мерзости Вилли не мог.
Виллин мангал представлял собою чудо мангального ремесла. Нет, в нем не было новомодных электронных наворотов с искусственными турбоподдувами и прочей дребеденью, о которой Вилли говорил с презрительной усмешкой старого гитарного мастера, глядящего на выставленный в витрине провинциального магазина грубый электрический ширпотреб. Линии этого мангала были просты и благородны, как скрипка Страдивари; тяга сильна и естественна, как дыхание атлета. Ни один, даже самый безответственный ветерок, не пролетал мимо виллиного мангала, не заскочив в него хотя бы на минутку. Излишне говорить, что мангал был сделан на заказ, по точным виллиным чертежам, плоду многомесячных библиотечных исследований; кованое железо деталей Вилли привез из глухой турецкой глубинки, из-под молота усатого деревенского кузнеца, так что получившийся продукт был не просто уникальным; это был продукт, сработанный на сто процентов вручную, ни в коей своей части не оскверненный прикосновением промышленных домен, прокатных станов, электрических резаков и прочих многотиражных производителей дешевки. Эта была сугубо штучная вещь, штучная, как любое высокое искусство, как Кельнский собор, как рисунок Дюрера, как фуга Баха. Как Мангал Вилли.
Понятно, что о Вилли и его Мангале ходили легенды. Другой бы делал на этом деньги… другой, но не Вилли. Не такой он был дурак, этот немец, чтобы повесить на святыню ценник, тем самым обесценив ее. На этот праздник души он приглашал только друзей, полагая их присутствие необходимой частью общего действа, подпитывая собственное сознание значительности происходящего их поначалу любопытным, затем — почтительным, а под конец — благоговейным вниманием к священнодействию Верховного Жреца. Конечно, находились злопыхатели, уверявшие, что получают не худшие шашлыки на обычном жестяном мангале, раздувая электровентилятором магазинные угли по десять шекелей пакет… Что ж… Не каждому дано понять разницу между «Мадонной с цветком» и Мадонной с микрофоном. Вилли жалел таких завистников-ненавистников. Он, например, точно знал, что чувство вкуса находится не на языке, а в голове. А коли так, то можно ли распробовать нежнейший стейк, когда голова гудит от черной и горькой зависти?
Сегодня вечером Вилли планировал ввести в в свой храм нового друга — Шломо. Совместными усилиями они подгадали дежурства таким образом, чтобы Яков и Шломо, закончив смену, могли прибыть прямо к алтарю. После трапезы все трое должны были вернуться в Тальмон для ночной вахты. Как это происходило всегда в дни Мангала, Вилли начал морально готовиться с самого утра, исподволь подготавляя душу к встрече с прекрасным. Поэтому даже малейшие неувязки, типа двухминутного опоздания, раздражали его, ибо указывали на некоторое несовершенство мира, абсолютно неуместное ввиду существования в нем Мангала.
Менахем досадливо прищелкнул языком. «Спасибо, Вилли. Ты не представляешь, как бы мне хотелось посидеть с вами. Да разве ж тут выберешься…»
«Ты в кровать-то хоть иногда заворачиваешь? — сочувственно спросил Вилли. — Смотри, жена скоро из дому выгонит… Ей ведь муж нужен, а не кентавр.»
Менахем мрачно кивнул. Он и впрямь почти сросся со своим джипом. Последние месяцы были переполнены событиями; он забыл, когда в последний раз спал более четырех часов кряду — даже если удавалось добраться до постели, подмигивающая в изголовье рация могла в любой момент выдернуть его из-под одеяла. Да и насчет жены Вилли попал в самую точку — Ярдена уже давно требовала от него уйти с этой сумасшедшей, опасной, семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки, работы. Или хотя бы вытребовать себе отпуск… Он посмотрел в сторону Рамаллы и вздохнул.
«Ладно, не вздыхай, — рассмеялся Вилли. — Вот как повесим Арафата, я тебе каждую неделю шашлыки буду жарить. Обещаю.» Он хлопнул Менахема по плечу и пошел к своему старому «кадету».
«Эй, Вилли… — остановил его равшац. — Погоди-ка… Ты как домой едешь? Через «почту» или через Нахлиэль? Если через «почту», то езжай осторожней. Там вроде опять банда завелась. Вчера ночью машину из Долева обстреляли. Слава Богу, все целы…»
Вилли и Яков жили в поселении, расположенном ближе к Тель-Авиву. Из Тальмона туда можно было попасть двумя дорогами. Первая, более короткая, через Нахлиэль, проходила только по «территориям» и занимала не более получаса. Вторая, в объезд, через перекресток, именуемый на местном жаргоне «почта», была на четверть часа дольше. Перед каждой поездкой из дома в Тальмон и обратно Вилли и Яков прикидывали, каким путем ехать на этот раз. Объездная дорога имела несколько меньшую протяженность неприятных участков. Тем не менее, она не во всех случаях считалась безопаснее короткого пути. Все тут зависело от конкретной утренней или вечерней сводки.
Как правило, шоссе на «территориях» относительно безопасны: ну, бросят камушек тут и там, разбросают гвоздиков на повороте или выставят на асфальт полуметровые глыбы… короче — мелочи, традиционные арабские народные забавы. Но время от времени на том или ином участке заводится банда. Заводится, как вши, как парша. Начинают они обычно скромно — бутылка с зажигательной смесью, дальняя одиночная очередь по автобусу. В этот момент важно не запустить, в точности, как со вшами. Иначе насекомые размножаются, наглеют, и тут уже хлопот не оберешься. Армия устраивает засады, подключается разведка и служба безопасности… глядишь — и вывели заразу. Гниды, конечно, остаются, но все же наступает некоторое спокойствие — до появления новой банды.
Вот и сейчас, ночной обстрел долевской машины знаменовал наступление беспокойного периода на «почтовом» направлении. Интересно, — подумал Шломо, — Менахем не говорит определенно: мол, езжай, Вилли, через Нахлиэль. И это тоже характерно для поселенческой жизни. Потому что, если подстрелят Вилли на нахлиэльской дороге, будет у Менахема причина казнить себя за роковой совет. Оттого и рекомендация дается в условном наклонении — если, мол, решишь ехать так, то «езжай осторожнее»… Хотя, откровенно говоря, как может тут помочь осторожность, если вдарят по тебе с двадцатиметрового обрыва, да с трех «калачей», да по пристрелянной точке? Один расчет на везение…
Менахем и Вилли уехали. Шломо закинул за спину автомат и неторопливо двинул по привычной патрульной тропинке. Рация хрипела на разные голоса из кармашка на поясе; дети щебетали в песочнице детского сада; солнце палило вовсю, джип Менахема мелькал между холмов… в общем, все было в точности, как всегда, с самого основания мира.
* * *
Стейки были, как и положено, великолепны. Мангал высился на умеренно продуваемом месте, в глубине небольшого палисадника. Вилли произвел последнюю, овощную загрузку, разложив над уже затухающими углями ломтики баклажанов и помидоров. Пускай подвялятся. Он озабоченно покосился на опустевший угольный пакет. На следующую жарку уже не хватит. Надо звонить Нидалю.
«Вилли! — позвала его Рива. — Хватит уже кочегарить. Иди к столу.»
«Вот-вот, — присоединился к ней Яшка. — Иди сюда, давай выпьем.» Он плеснул водку в стаканы.
Тишайший вечер стоял над ними, держа в горсти пригоршню придорожных фонарей. Душная дневная жара ушла, и пряный горьковатый запах самарийской земли беспрепятственно поднимался к луне, смешиваясь с ароматами виллиных воскурений. Летучие мыши неслышно носились вокруг, резко сворачивая и виртуозно выхватывая из рассеянного лунного света ночных мотыльков и прочую глупую мошкару. Далеко внизу на дорогу вышла лиса, принюхалась к вечеру и потрусила по своим делам, по-дворняжьи посовываясь вперед левым плечом.
Наконец Вилли подсел к столу. «Лехаим!» Все дружно выпили.
«Шломо, — напомнил Яшка. — Скажи уже что-нибудь. А то хозяин подумает, что тебе не понравилось.»
Шломо набрал в грудь воздуху. «Дорогой Вилли! — торжественно начал он. — Дорогой Вилли! Я думал, что меня ожидает тут мясо, стейки и шашлыки. Я был неправ, Вилли. К мясо все это не имеет никакого отношения. Высокое искусство — вот это что. И ты, Вилли, большой художник. И слов у меня нету. Не потому, заметь, что мой ивритский словарный запас ограничен, нет. На русском, коим я владею вполне профессионально, мне было бы так же трудно выразить свои чувства. Потому что об искусстве не говорят. Искусством живут. Дай я пожму твою руку.» Они расцеловались, шумно и с чувством.
Яшка снова разлил. «За такую речь надо выпить.»
«Не слишком ли вам много будет, господа сторожа? — насмешливо спросила Рива. — Вам же еще служить сегодня, помните?»
«А водка службе не мешает, — уверенно сказал Яшка. — Вот помню, в Ливане был у нас случай. Стоим мы, значит, недалеко от Триполи, — наш танковый батальон и рота автоматчиков из «Голани». Стоим прямо так; в чистом поле палатки поставили, да колючкой обнесли, да пару вышек соорудили. Зима, дождь, грязюка непролазная, холодрыга, особенно по ночам. А сторожить надо, потому как вокруг всякого дерьма понамешано — видимо-невидимо. И «амаль», и «шмамаль», и «хизбалла», и арабоны всех оттенков. И все так и норовят нам карачун устроить. Шломо, давай закурим твоих.»
Яшка закурил и продолжил: «Легко сказать — сторожить… А посиди-ка ночку на вышке, да в дождь, да в штормовой ветер, да в холод собачий… бр-р-р… Как вспомню, так мороз по коже. Добавь к этому, что днем мы тоже не бездельничали. Бывало, привезут снаряды — давайте, хлопцы, разгружайте… А каждая такая дура весит… мало никому не покажется. И вот побегаешь так до вечера — руки отваливаются, ноги не носят, весь в грязи, как чушка поганая, дождь льет, холод… Тут бы побыстрее душ горячий принять, да в койку, в спальничек родимый на рыбьем меху, под все одеяла, куртки и дубоны, что ты в состоянии найти и на себя нагрузить. Авось согреться удастся… Ан нет, солдатик, не видать тебе всего этого коечного рая. Бери теперь, как есть, ружо и дуй, сердечный, во-он на ту вышку, сторожить.
«Как так?! Очередь-то, вроде, не моя? Мне ж только утром заступать… А командир тебе: Очередь-то, может, и не твоя, да вот Мики заболел. Апендицит. Увезли час назад на вертолете. Так что кончай эти разговорчики в строю и — вперед. Тебя сменят. — Когда сменят? — А когда сменят — тогда и сменят… Вот так. И ползешь, делать нечего, на сраную эту вышку, и сидишь там, полумертвый от усталости и от холода, не зная даже примерно, когда же этот ад кончится. До сторожения ли тут, скажите на милость? Тут бы дожить до пересменки…
«В общем, впадаешь в такое безразличие, что все тебе — до балды, включая самого себя. Глаза сами закрываются. Накажут — пусть; в тюрьме, на нарах такого мучения не предвидится. Убьют — черт с ним, нехай убивают, чем так жить. Страха нет никакого. Если б только о моей жизни речь шла, дрых бы я на каждом дежурстве, как миленький. Одна лишь мысль о ребятах как-то удерживает. Спят они там, в палатках, под горой одеял, и ты вроде как их бережешь, охраняешь от сучих этих выползков. Как представишь себе, что заходят арабоны в палатку и режут ребят тепленькими, в спальниках — так и сон вроде улетучивается.
Но все равно есть предел силам человеческим. Неизбежно наступает момент, когда даже ребята не помогают. И тут-то хорошо, коли есть у тебя последний, самый надежный, самый верный друг и помощник. Водка. Достаешь из кармана заветную фляжечку… понюхаешь… экий дерибас! аж передергивает. И чего это она такая теплая на таком-то холоду?… Короче, поначалу недружелюбное у него лицо, у последнего твоего помощника. Но как зальешь его внутрь, да выдохнешь дикий его выхлоп, да прислушаешься… О-о… Тут-то и начинается. Вот он, побежал, побежал по душе босыми ножками. Вот потекли по жилам огненные ручейки… Глядишь, и вроде веселее стало, а что теплее, так это точно. И мокрая темень вокруг уже не так темна, и ветер уже не так сильно лупит тебя по мордам, и смена вот-вот придет, и, главное, есть у тебя еще пол-фляжки… А ну-ка… — точно, булькает. Короче, жить еще можно. Великая это вещь, водка, доложу я вам. Давайте-ка выпьем водки за водку…»
Вилли охотно разлил водку по стаканам. Выпили. Яшка задумчиво хрустел соленым огурцом. «Все, что ли?» — спросил Шломо.
«Какое там «все», — отозвался Вилли. — Я эту историю про Фимку-пулеметчика уже в пятый раз слушаю.»
«А ты не слушай, коли неинтересно — сказал Яшка. — Вон, Шломо ни разу не слышал. Я ему и рассказываю. Ты тут так, сбоку припека…
«В общем, Шломо, — продолжил Яшка, подчеркнуто игнорируя бестактного Вилли. — В общем, был там среди «голанчиков» некто Фима Гольдин, земляк наш из Риги. Случай, надо сказать, редкий — нашего брата тогда все больше в танковые части посылали или в артиллеристы. Как этот Фима в боевую пехоту попал — одному Богу известно. Может, оттого, что здоров был, как конь. Так или иначе, его там все любили, даже прощали ему маленькие его странности. Например, Фима травку не курил, даже гашиш не уважал, а уж этого в Ливане было прямо-таки навалом. Зато вот выпить он был непрочь при любых обстоятельствах. Все нормальные люди косяк потолще забили и сидят, дымят, а Фимка — знай себе водку из фляжки хлещет. Ребята поудивлялись, поудивлялись, да и привыкли. Пойми их, «русских»…
«Удивлялись-то они летом, а как зима пришла, так и удивляться перестали. Ведь косяк, он хоть и пускает душу по облакам, но греть ее, как водка, не может. Не та калорийность… Вот тут-то и пришлась ко двору фимина фляжка. И чем хуже была погода, тем популярнее становился среди «голанчиков» наш, советский образ жизни. Короче, где-то к Пуриму споил наш Фимка всю свою родную роту, включая офицерский состав. На травку уже никто не смотрел; как в патруль идти или на вышку лезть — так все дружно по сто грамм ищут… только и слышишь «буль-буль» да «дзынь-дзынь» по всему лагерю.
«А тут и Пурим подоспел, светлый праздник освобожденного еврейства. А в Пурим, как известно, обычай требует напиваться. Причем в стельку. Ну ладно, не в стельку, но, по крайней мере, так, чтобы не отличить злодея Амана от праведника Мордехая. То есть, все-таки, — в стельку. Надо сказать, что к этому моменту рота была уже на сто процентов готова к выполнению боевой задачи. Интенсивные фимины тренировки не прошли даром. Конечно, многие навыки пока отсутствовали — далеко не все еще научились разливать «по булькам», вслепую; «провести» стакан на неподвижном кадыке умели лишь особо способные; обилие еды мешало отточить сложную технику «занюхивания». Тем не менее, было ясно, что рота способна встретить праздник на вполне достойном уровне.
«Так оно и случилось. Конечно, праздник — праздником, а дело — делом. Кому-то выпал несчастный жребий патрулировать или сторожить. Эти выпили свои сто грамм и ушли в дождливую ночь. Зато остальные оттянулись по полной программе. Фима старался больше всех. Как главный спец и вдохновитель, он просто обязан был подавать личный пример. В общем, к моменту, когда пришло время вставать из-за стола, а точнее — выпадать из-за стола в койку, сержант Гольдин был ближе всех к горизонтальному положению. И тут произошло нечто непредвиденное. Сверху пришел приказ удвоить патрули — именно в честь праздника. Начальство решило обезопаситься на случай, если вороги вдруг попробуют проверить нашу пуримскую бдительность. Надо сказать, что в чем-то начальники оказались правы — бдительность в дупель пьяной роты оставляла желать много лучшего…
«Что прикажете делать в такой ситуации? Как я уже сказал, Фима ощущал себя главным вдохновителем пьянки, а значит, как ни крути, на нем лежала и повышенная ответственность. В общем, вызвался он добровольцем. Доставшийся ему дополнительный пост был в особенности труден. Почему? Да потому, что — дополнительный, а значит — необорудованный. Потому что на черта его оборудовать, если он дополнительный? Если, как правило, нет там никого? Если поставили его только на случай прямой вражеской атаки? В общем, не было там ничего, за исключением неглубокой ямки, да невысокого бруствера из мешков с песком, да пулемета по имени МАГ. А значит, нельзя там ни стоять, ни сидеть, а можно только лечь в ямку, за бруствер, да смотреть себе в амбразуру, в непроглядную, однообразную темь.
«Вот тут-то и загрустил наш Фимук… Лег он в эту неглубокую ямку, ставшую по случаю дождя вполне глубокой лужей, глянул в черную дырку за хоботом пулемета и понял, то есть однозначно понял, что шансов нет. Что заснет он неминуемо, вопрос только — когда. Потому что, если хотя бы стоя или сидя… — это еще куда ни шло, и пусть пулеметный ствол двоится перед пьяными его глазами — по крайней мере, со сном можно бороться. Но лежа, да с килограммом водки в непутевой голове… И все же, отдадим должное железному фиминому организму. Все-таки он был настоящий конь, ломовик породистых еврейских кровей. Заснул он только под утро.
«Но даже засыпая, Фима повел себя в высшей степени ответственно. Дело в том, что он заранее решил для себя — если пойму, что — все, кранты, засыпаю — дам я пулеметную очередь в белый свет, как в копеечку, чтоб как бы сигнал подать. Чтоб знали, что на меня больше рассчитывать не стоит. В буквальном смысле — жертвовал собою пацан. Потому что за такое дело суд и, как минимум, месяц военной тюряги были ему обеспечены. В общем, как стало чуть-чуть светать, понял Фима, что кончился бое-ресурс его терпения. Стали ему мерещиться какие-то неясные контуры, не то фигуры, не то призраки… веки неудержимо смыкались… Последним усилием он передернул закоченевшими пальцами затвор МАГа, надавил на спуск и отключился.
«Помните был такой рассказ о связисте, в предсмертном усилии зажавшем зубами порванный телефонный кабель? Так, что потом не смогли разомкнуть челюсти — так и хоронили парня с куском провода во рту? Мне именно этот случай вспомнился, когда сбежались мы по тревоге к фиминому окопчику. Мужик был в полной отключке, вообще ни на что не реагировал. Спал, что называется, мертвецким сном. Но палец его на спусковом крючке было просто не разогнуть. Оттого-то и очередь была такая длинная — стрелял, пока патроны не вышли. В общем, кое-как отсоединили мы Фиму от пулемета. Отсоединили и на командира смотрим. А командир стоит — зверь зверем. Что вы, говорит, на меня уставились? Несите этого пьяного ишака в палатку. Завтра, как проснется — немедленно ко мне, вместе с командиром роты. Плюнул так яростно и ушел, досыпать. Ну, думаем, — все, погорел наш Фима по-крупному… Месяцем тюрьмы тут точно не обойдется.»
Яшка взял вилку и подцепил ею ломтик баклажана. Затем, тщательно примериваясь, он аккуратно разрезал ломтик на примерно равные части и, не торопясь, съел их одна за другой. Потом прицелился на другой ломтик, но передумал. Вместо этого он вынул еще одну сигарету из шломиной пачки, медленно размял и очень вдумчиво раскурил. Шломо терпеливо ждал продолжения рассказа.
Вилли улыбнулся: «Веришь ли Шломо, каждый раз он в этом месте паузу делает. Артист ты, Яков. Тебе бы по телевизору выступать…»
Яшка не удостоил его ответом. Он задумчиво следил глазами за фигурами высшего пилотажа, которые вычерчивала в ночном воздухе эскадрилья летучих мышей. Он явно чего-то ждал. Шломо наконец догадался.
«Ну а дальше-то что, Яков?» — спросил он как можно подобострастнее.
Яшка удовлетворенно кивнул.
«Дальше — шмальше… — протянул он. — А дальше было просто. Сразу как рассвело, увидели мы на проволоке, в пятидесяти метрах от фиминой позиции, троих арабонов. Точнее сказать, решето из троих арабонов. Сколько их всего там ночью было, сказать трудно. Были, видимо, и раненые, потому что потом нашли кровь по следам их отхода. А может, трупы особо дорогие уносили… Вот так, Шломо. А вы говорите — водка…»
Он опять замолчал.
«Ну а что Фима?»
«А что Фима… Фима наутро не помнил ничего. То есть совсем ничего — ни как в койку попал, ни как из пулемета стрелял… даже сам факт своего боевого дежурства не помнил, даже как из-за стола вставали. Последнее его воспоминание — это как пили за то, чтобы Арафат своим языком поганым подавился. И все — после этого — полный провал. Черная дыра.»
«А суд? Тюрьма? Сколько он в итоге получил за все это?»
Яшка усмехнулся.
«Много он получил. Знак отличия за храбрость, внеочередное звание и недельный отпуск в эйлатской гостинице. Командир-то не дурак оказался. Тут ведь все зависело от угла зрения — как на этот случай посмотреть. Сам посуди: одно дело — пьянство во вверенной тебе части, да еще на посту; и совсем другое — доблестное отражение вражеской атаки с тремя убитыми у них и без малейших потерь у нас. Ты бы что выбрал?..»
«Послушай, Яков, — сказал Вилли. — Я вот чего не понимаю: как это никто не стукнул? Всегда ведь находится какой-нибудь пакостник, что жаловаться бежит. Тот — чтобы командиру насолить, этот из идеологических соображений, а третий — просто из гадской своей натуры. Что ж это за база у вас была такая из ряда вон выходящая, что ни одного доброхота не нашлось?»
«Почему ты думаешь, что не нашлось? Нашлось и еще как. Во-первых, была анонимная жалоба в дивизию, во-вторых — телефонный звонок корреспонденту. Мне потом Фима рассказывал, как его в военную полицию вызывали. Только у него на это был очень простой ответ заготовлен. Вы, он им сказал, сами-то в эту невероятную выдумку верите? Чтобы я с пьяных глаз, в полном отрубе, отбил вражескую атаку? Это что, по-вашему, кино? Рембо по-израильски? Они и отстали. Действительно ведь, невероятно. Вон, даже ты мне не веришь…»
«Яшка, — сказал Шломо. — А где он сейчас, твой Фима? Вот ты бы привел его к Вилли на шашлыки, чтоб без вопросов…»
«Если бы это было возможно… — печально ответил Яшка. — Нету Фимы Гольдина. Мы вот тут сидим, водку пьем, а он…» Яшка печально махнул рукой.
«Погиб?»
«Умер. Два года тому назад. От цирроза печени.»
* * *
В Тальмон возвращались к полуночи, втроем, на виллином «кадете». Яшка дремал на заднем сиденье. Ехали через Нахлиэль. После того, как миновали Офарим, Вилли достал из бардачка старый пистолет с деревянными накладками на рукоятке, передернул затвор и сунул оружие под колено.
«Вальтер, — сказал он в ответ на удивленный шломин взгляд. — Времен Второй Мировой. В комиссионке купил.»
Шломо усмехнулся про себя парадоксальности момента. Они мчались в немецкой машине с памятным именем «опель-кадет» по территории древнего еврейского округа Беньямин, среди враждебных арабских деревень, во время очередного приступа нескончаемой войны за существование. И за рулем сидел не кто либо, а чистокровный вестфальский немец, держа наготове старый «вальтер», из каких шестьдесят лет тому назад другие немцы стреляли в наши беззащитные затылки. Там, под Бобруйском, в лесных ямах, осталась почти вся отцовская семья.
«Через две недели приезжает мой отец, — сообщил Вилли, как будто откликаясь на шломины мысли. — Он у нас почти каждый год по месяцу гостит. Его послушать, так дом не разваливается только оттого, что он тут ежегодно порядок наводит. Говорит, такого балаганиста, как я, свет не видывал. Представляешь? Это я — балаганист. Видел бы он Якова…»
Шломо рассмеялся. Вилли и в самом деле славился педантичностью. Каков же тогда батя?
«А при чем тут Яков? — подал голос Яшка. — Видел он Якова, еще как. И в гостях у меня сидел. Так что не надо, своим-то… Не слушай его, Шломо. Батя у Вилли — мировой старикан. Земляк наш, кстати.»
«Как так?!»
«А так. Он из украинских немцев-колонистов. Родители в сталинских лагерях сгинули, а его, мальца, вишь — не додавили. Но русский еще помнит, хотя и с трудом. Пытался он мне свою эпопею рассказывать, так я и половины не понял. Просил Вилли перевести, а он отказывается.»
Вилли хмыкнул. «Ничего, ничего… Мне так спокойнее — от греха подальше. Пусть лучше тихо-мирно сарайчик подправляет, да навес над крылечком строит. А то ведь с Яковом свяжется — беды не оберешься.»
«Какой беды? — недоуменно спросил Шломо. — Ему сколько лет, твоему старику?»
«Семьдесят четыре. Только дурости у него на все сто двадцать. В прошлый его приезд как раз Риву камнями обкидали. Ничего страшного — пара булыганов по капоту и один по крыше. Отделались небольшими вмятинами, да малым испугом. Вмятины — ерунда, моему «кадету» не привыкать, он и так весь обдолбанный. А вот ривин испуг, хотя и малый, все равно неприятно. Даже поплакала немножко. В общем, увидел мой дед эти слезы и начал из угла в угол ходить. Я ему — дед, успокойся, а он все ходит и ходит… Наконец, смотрю, начал в моем армейском шкафу копаться. Ты, говорю, чего ищешь? Ты, говорю, скажи, может я чем помогу. А он и отвечает: дай, мол, сынок, гранату. Всего-то одну и надо…
«Ты что, говорю, совсем сдурел, старый? На черта тебе граната?
А теперь слушай, что он мне в ответ лепит. Я, говорит, возьму гранату, пойду в деревню и взорвусь там около мечети ихней. Я, говорит, и в самом деле старый, тут ты прав, сынок, все равно мне вот-вот помирать, так хотя бы чтоб не пустым предстать перед Господом… Представляешь?»
Яшка сзади залился смехом. «Атомный старик! Я ж говорил…»
«Во-во, — мрачно кивнул Вилли. — Только послушай его, Шломо… Я, честно говоря, этой атомной смеси — отец мой с Яковом — больше всего боюсь. С другими-то у него общего языка нету. Поначалу был он у меня тише травы; постучит молоточком, повозится в огороде и сидит себе довольный, на солнышко смотрит. А как узнал, что есть в поселении «русские», что даже сосед мой дорогой Яков родом из Кишинева, так прямо словно подменили старика. Мы, говорит, с Яковом организуем тут команду из десятка-другого земляков и отлупим арабов так, что век будут помнить. Смех и грех…»
«А чего ты удивляешься? — подначил Яшка. — Вера в силу русского оружия у твоего бати воспитана личным опытом.»
Вилли не то хмыкнул, не то поперхнулся. «Да, господин Зильберман, — сказал он наконец, обращаясь к Яшке по фамилии. — Сегодня вы особенно тактичны.»
«Ладно, — Яшка примиряюще положил ему рук на плечо. — Ну извини, брат, сморозил. Ты на меня, кстати, тоже сегодня бочку катил. Так что мы квиты.»
Дорога повернула, и перед ними засветились огоньки семи тальмонских холмов.
* * *
На въезде в поселение они разделились. Шломо охранял этой ночью свою Хорешу; Вилли и Яков патрулировали на соседних вершинах. На вершине горы было ветрено и прохладно. Шломо забежал в караван за курткой, навьючил на себя хитрое сооружение из ремней и карманов, содержащее фонарь, магазины, флягу и прочий положенный по штату инвентарь, повесил на шею свою потертую М-16. Выходя из дому, он посмотрелся в зеркало и остался доволен. Вид был самый что ни есть бравый. Шломо притопнул ногой в крепком армейском ботинке и вышел.
Ночь лежала на земле, растянувшись от края до края, черная и неслышная, как кошка. Арабские деревни внизу были темны, лишь зеленые огоньки минаретов мерцали, как гнилушки на болоте. Тут и там на вершинах холмов светились еврейские поселения; цепочки фонарей вились вокруг них желтыми ожерельями. Шломо неторопливо хрустел гравием по патрульной тропинке. Он чувствовал себя прекрасно; спать совсем не хотелось. Чудесно проведенный вечер трепыхался в груди смешливым щекочущим существом. Это существо подбрасывало ему картинки, как дровишки в печку — вот торжественное лицо Вилли, склонившегося над Мангалом; вот Яшка, как всегда, расстрелявший у него все сигареты под завораживающий аккомпанемент своей мягкой молдавской скороговорки; вот тонкий ривин профиль, черная буря ее волос, острый локоть, веселые огоньки в непроглядном мороке опасных тайманских глаз…
Шломо остановился над обрывом, вглядываясь в темноту вади. Внизу, за бесформенной массой кустарника угадывалась старая грунтовая дорога, смутно белели дома Эйн-Кинии. Вдруг что-то привлекло его внимание. Странный блик, неясное движение рядом с каменистым распадком метрах в ста пятидесяти от забора. Шломо всмотрелся попристальней. Нет, вроде ничего, просто показалось. Он уже собрался продолжить движение, уже повернулся, на всякий случай, краем глаза, не выпуская из виду подозрительное место, и тут сердце его упало. Блик снова промелькнул… вон там, слева от большой глыбы песчаника.
Усилием воли заставляя себя двигаться неторопливо, Шломо перешел к ближайшему сгустку тени, присел и достал рацию. Во рту его было сухо, не хватало воздуха, кровь барабанила мамбо в висках. Он еще никогда не был в бою и теперь элементарно боялся. «Спокойно, Шломо, спокойно, — увещевал он сам себя. — Немедленно прекрати панику, ты, сукин сын!» Он прибавил еще несколько матерных ругательств пообиднее. Как ни странно, это помогло. По крайней мере, хотя бы дыхание несколько наладилось. Теперь уже не стыдно было говорить по рации.
«Неве-Тальмон от Хореши, — позвал он, стараясь звучать как можно обычнее. — Как слышно?»
«Я — Неве-Тальмон, — ответил насмешливый виллин голос с соседней горки. — Слышу тебя отлично. А если ты будешь говорить чуть погромче, то я даже смогу разобрать некоторые слова… В чем дело, Шломо? Почему ты еле шепчешь?»
«Я — Хореша, — сказал Шломо чуть погромче. — Вижу подозрительное движение к юго-западу от меня, в распадке, как раз между нами. Вилли, взгляни-ка со своей стороны, будь другом.»
«Нет проблем. Только я сейчас на другой стороне холма. Подожди, минуты через три я буду на месте.»
Рация замолчала. Шломо наставил на распадок автомат и устроился поудобнее. После короткой беседы с Вилли страх непонятным образом улетучился. Он даже ощутил какой-то охотничий азарт. Вот только глаза начали совсем некстати изменять ему. Они слезились от напряжения; какие-то искры и звездочки вспыхивали и гасли по всему полю; между ними неторопливо проплывали длинные прозрачные червяки… Теперь Шломо навряд ли различил бы давешние блики. Он усиленно поморгал, затем протер глаза правой рукой, с сожалением оторвав ее от автомата, даже закрыл веки на несколько секунд… Ничего не помогало.
«Хореша, Хореша — от Неве-Тальмона! — это был Вилли. — Шломо, определи точнее, где и что ты там видишь?»
Шломо начал объяснять. У него появилось странное чувство, что он зря беспокоит людей, попусту отвлекает их от дела, от сна, от отдыха. Не дай Бог, еще Менахем услышит их переговоры, небось, ведь только прилег, бедняга.
«Нет, — решительно сказал Вилли. — Ты уж меня извини, но ничего я не вижу. То есть распадок вижу, но ничего в нем нет.»
«Ладно, — виновато ответил Шломо. — Извини, брат. Наверное, это яшкины рассказы на меня так подействовали…»
«Опять я виноват! — это уже был Яшка. — Ничего, Шломо, года через три научишься отличать дикого кабана от дикого араба. Хотя, честно говоря, разница не так уж и велика. Так что не расстраивайся.»
«Я — Яд Яир, — вмешался армейский радист, работающий на той же частоте. — Кончайте пачкать эфир! Погуляли и хватит, самое время помолчать.»
«Затыкай своей подруге, салага!» — возмущенно парировал Яшка.
Ответа не последовало. Рация еще пару раз хрюкнула и замолчала. Шломо встал, отряхнулся и подошел к обрыву. Все было тихо, распадок невинно лежал перед ним, пустой и безмолвный. Вот стыдоба-то! Весь мир переполошил… Шломо плюнул и пошел прочь с дурного места.
13
Вилли проснулся в одиннадцатом часу. Дом был тих и пуст; в пятницу дети обычно возвращались к часу дня, вместе с Ривой, учительствующей в той же школе. А пока… пока Вилли был предоставлен самому себе. Он с удовольствием шлепал босыми ногами по прохладному каменному полу, с хрустом потягиваясь, зевая, радуясь всем своим существом тому редкому моменту Богом санкционированной праздности, когда некуда спешить, когда все тип-топ, когда дети здоровы, жена любима, и жизнь легка, как тюлевая занавеска на распахнутом в светлое утро окне.
Впрочем, долго прохлаждаться без дела Вилли не привык. Сооружая себе яичницу с луком из трех яиц на телячьей колбасе, он прикидывал, как бы ему поумнее распорядиться негаданной свободой. Конечно, можно было удивить Риву, занявшись самому традиционной предсубботней уборкой. Можно было… да только как-то не хотелось… да и зачем? В семье Мюллеров подготовка к субботе была не повинностью, а, скорее, игрой, сопровождавшейся шутками, розыгрышами и прочей веселой суетой, в которой принимали участие все, включая собаку. Так что уборка не годилась. Что же тогда?
О! Ну конечно! Как же он мог забыть?! Уголь. Старешь, Вилли, стареешь, вот уже и вещи из дырявой головы выпадать начали… Ведь еще вчера, готовя стейки для Шломо и Якова, решил он про себя непременно и как можно скорее затариться большой партией угля. Лучшего момента не придумаешь — если он успеет обернуться туда-сюда, а потом спрятать пакеты в подвале, пока Ривы нету, то все останется шито-крыто. Вилли покончил с завтраком и позвонил Нидалю.
Судя по голосу, Нидаль был рад его слышать.
«Привет, Вилли! — он говорил на иврите с тяжелым арабским акцентом. — Как жизнь? Как здоровье?»
«Здравствуй, Нидаль, дружище. Спасибо, у меня все в порядке. Как у тебя? Все ли здоровы? Семья? Дети?»
«Слава Аллаху, все здоровы. С работой сейчас туговато, но как-то выживаем. Тебе, случаем, не надо ли чего починить-построить?»
«Нет, Нидаль, спасибо. Ты же знаешь, всеми этими делами у меня отец заведует. Приезжает через две недели. Мне бы угольку. Как у тебя с этим?»
«Ну вот… — рассмеялся Нидаль. — Твой старик у меня весь хлеб отбивает. А уголь есть. Мне сейчас делать нечего, так я его полный сарай нажег. Приезжай, забирай. Я бы тебе сам подвез, да моя «субара» совсем развалилась.»
Вилли медлил с ответом…
«Эй, Вилли, — сказал Нидаль, читая его мысли. — Если уж ты меня боишься, то это совсем край. Ты ж мне как брат, клянусь глазами Аллаха, как ты можешь?»
«Конечно, Нидаль, о чем речь, — смущенно ответил Вилли. — Но ты ведь сам знаешь, какая ситуация. В тебе-то я уверен…»
«Ладно, давай тогда сделаем так, — сказал Нидаль после минутного раздумья. — Я вывезу пакеты за деревню, метрах в ста от шоссе. На самом шоссе не могу — там армия ездит; увидят меня с пакетами — пристрелят, глазом не моргнут. А без пакетов можно. Там я тебя и подожду, у поворота. Лады?»
«Лады». Предложенный Нидалем вариант выглядел вполне приемлемым. Дружба дружбой, но заезжать в деревню Вилли не хотелось. Как знать, — а вдруг там сейчас какое-нибудь сволочье с «калачами» бродит. И его пристрелят и Нидаля…
«Подготовь мне тогда килограммов пятьдесят. Если я подъеду через часик, успеешь?»
«Нет проблем, Вилли. Жду тебя у поворота через час. Пока.»
Их знакомство началось десять лет тому назад, когда Вилли надумал выкопать и оборудовать подвал под домом. Посоветовавшись с Яшкой, он пригласил арабскую бригаду из тех, что работали в поселении с момента его основания. Многолетняя репутация должна была служить гарантией качества, но Вилли не особенно обольщался на этот счет. Годы жизни на Ближнем Востоке, если и не изменили строение его немецких глаз, то, по крайней мере, приучили к необходимости смотреть на мир расслабленным взглядом аборигена.
Сейчас Вилли с усмешкой вспоминал потрясение, которое он испытал в свое время, войдя в новый дом и впервые увидев кривые до безобразия углы и неровно положенную плитку. Прибежавший на его крики араб-субподрядчик никак не мог взять в толк, чем же Вилли, собственно говоря, недоволен. И в самом деле, метраж был в полном порядке, с крыши не капало (поскольку дом предусмотрительно сдавался летом), окна — двери открывались и закрывались, хотя и делали это весьма неохотно, с визгом и возражениями. Но в общем и целом, качество строительства полностью соответствовало просторным левантийским стандартам.
Поэтому арабский подрядчик, выслушав виллины претензии с подобающим принципу «клиент всегда прав» пиететом, покивав и пообещав немедленно принять меры, счел эти претензии глупым барским капризом и, естественно, палец о палец не ударил, чтобы хоть что-нибудь исправить. Проблема тут заключалась не в злой воле или в неумении строителей. Арабский каменщик, конечно же, обладал достаточной квалификацией для того, чтобы вывести угол прямо, а не криво. Он просто не полагал это достаточно важным; кривизна не резала ему глаз; он искрене не понимал, чего от него хотят.
Обычно, принимая работу, Вилли заранее настраивал себя на особенно беззаботный, пофигительный лад: мол, главное — здоровье, так что нечего нервничать по пустякам. Старательно отводя глаза от волнистых «плоскостей» и загогулистых «прямых линий», он неловко совал «мастерам» их деньги и быстрее звал Риву — для врачевания души. Истинная дочь Востока, Рива не разделяла виллиных страданий по поводу качества исполнения. Ее глаза тоже отказывались замечать все эти несущественные глупости. Окинув удовлетворенным взглядом то, что, по глубокому виллиному убеждению, являлось преступлением против самого понятия «строительство», Рива восторженно хлопала в ладоши и говорила:
«Замечательно! Вот видишь, я ты боялся… смотри, как здорово получилось! Так… значит, сюда мы поставим софу, сюда — шкаф… Погоди, а чего ты такой пристукнутый? Случилось чего?»
«Да нет, — отвечал Вилли и в самом деле успокаивался. — Все в порядке, дорогая.» Даже самая кривая кривда выпрямлялась в его глазах, будучи освящена одобрением Ривы.
Легко понять виллино изумление, когда на этот раз он обнаружил неожиданно ровную штукатурку и выстроившийся по струнке кафель. Он минут пять водил ладонью по идеальной поверхности стены, гладил шахматный рисунок керамики, ласкал взглядом отвесную линию угла. Он просто не верил своим глазам.
«Что-нибудь не в порядке, хозяин?» — встревожился бригадир.
«Кто штукатурил?» — спросил Вилли.
«Эти стены — Нидаль, а ту, дальнюю — я.»
Вилли перешел к дальней стене и вздохнул с облегчением. Мир снова вернулся на круги своя. Бригадирова стена была, как и положено, кривой и горбатой.
«Нидаль у нас новенький, — виновато сказал бригадир. — Если тебе не нравится его работа, я переделаю…»
«Нет-нет, — поспешил успокоить его Вилли. — Все отлично, спасибо большое.»
Расплатившись, он подошел к Нидалю и взял у него номер телефона. С тех пор они виделись регулярно, в особенности после того, как выяснилось, что Нидаль живет в Умм Цафе, близко к драгоценным угольным запасам. Любую работу он выполнял с какой-то нездешней аккуратностью и странным для этих мест стремлением к совершенству. В остальном неотличимый от своих товарищей, по этому показателю Нидаль выглядел настоящим инопланетянином. Вилли долго ломал голову о причинах столь необъяснимой флуктуации, пока не выяснилось, что происходит Нидаль совсем не из этих мест, что родился и вырос он в Аргентине, куда эмигрировал в конце пятидесятых его отец-иорданец, там же получил школьное образование и, наконец, вернулся вместе с семьей на Ближний Восток во времена израильского экономического бума за год до войны Судного дня. Неисповедимы пути волочения человеческого…
Они подружились; Вилли не раз гостил у Нидаля в деревне, Нидаль частенько заворачивал к нему на чашку кофе; иногда устраивали пикник на две семьи в знаменитом угольном лесу. С началом катаклизмов «мирного процесса», когда вдохновенные борцы за арабскую свободу стали взрывать автобусы с израильтянами на улицах Иерусалима, Тель-Авива и Афулы, общения поубавилось. Вилли уже не рисковал появляться в Умм Цафе, боясь наткнуться на нож или пулю местного «миролюба». А для Нидаля так и вовсе настали нелегкие времена. Возможности передвижения арабов даже в пределах «территорий» оказались сильно ограниченными. Пытаясь подавить банды Фатха и Хамаса, армия перекрывала дороги, блокировала сообщение между арабскими городами и деревнями. Работы не стало; нормальная жизнь безнадежно нарушилась.
Но даже и тогда они регулярно перезванивались; Вилли, чем мог, старался помочь старому приятелю. Месяцев восемь тому назад он был разбужен ночным телефонным звонком. Младшая, двухлетняя дочка Нидаля задыхалась в круппозной горячке. Как раз накануне в округе произошел очередной терракт, погиб поселенец, и теперь армия, перекрыв дороги, преследовала банду. В этих условиях было практически невозможно пробиться в рамалльскую больницу. В полном отчаянии Нидаль позвонил Вилли; девочка умирала у него на руках.
Вилли не колебался ни минуты. Он сел в машину, приехал в деревню и повез Нидаля с дочкой в израильскую больницу. На первом же блокпосту Нидаля ссадили — у него не было необходимых документов для пересечения «зеленой черты». Вилли привез девочку в «Асаф-ха-Рофе» и просидел остаток ночи в реанимации; наутро Рива сменила его. На четвертый день, принимая из рук Вилли спасенного ребенка, Нидаль заплакал.
«Ты мне теперь брат, Вилли, — сказал он. — А ей — второй отец…»
* * *
Дорога была пустынной; проехав с десяток километров, Вилли встретил лишь один грузовик, натужно тащивший огромные глыбы песчаника из близлежащей каменоломни. Дальше, слева и справа, пошли широкие стометровые полосы выкорчеванных под корень оливковых рощ. Вилли с сожалением поцокал языком, как он делал каждый раз, проезжая мимо этого места. Масличное дерево живет долго — десятки лет. Приземистое и приземленное, морщинистое и пыльное, далекое от иллюзий и поэтических фигур, оно простирает свои узловатые ветви над почвой, недоверчиво поглядывая на слепящее небо. Это дерево свято, как часть, как плоть от плоти породившей его земли, нашей земли, земли Израиля.
Оттого и не трогали их так долго, хотя бандиты регулярно обстреливали дорогу, прячась за деревьями, уходя от погони в обманчиво прозрачных лабиринтах оливковых рощ. Не трогали, даже когда пролилась первая кровь, когда первые раненые были увезены с шоссе воющими амбулансами. Все жалко было деревьев, все рука не поднималась… И только смерть, сильная смерть спустила с поводка бульдозер. Потому что нет ничего сильнее смерти. «Сильна, как смерть, любовь», — сказано в ТАНАХе. Почему именно «как смерть»? Потому что нет ничего сильнее смерти. Вон он, памятник, справа от дороги, там где застрелили Яира из Халамиша, на глазах у матери, чудом оставшейся в живых… После этого и вырубили деревья. Потому что нет ничего сильнее смерти.
Вилли миновал длинную петлю около Наби Салех и подъехал к лесу Умм Цафа. Лес высился слева, справа простиралось глубокое вади, спускающееся к шоссе Рамалла-Шхем. Еще три минуты пути, и вот он — поворот на деревню. Нидаль сидел на придорожном камне, поджидая Вилли. Почему-то он остался сидеть, даже когда виллин «кадет» остановился вплотную к нему.
«Привет, — сказал Вилли. — Давно ждешь?»
«Минут десять,» — ответил Нидаль без улыбки.
«Ну так что, так и будешь сидеть или поедем загружаться?»
Нидаль как-то неохотно поднялся с камня, и сел в машину.
«Послушай, Нидаль, не тяни, — поторопил его Вилли. — Давай, говори, куда ехать. Мне еще надо успеть перетащить все в подвал, пока Рива не вернулась.»
«Езжай туда, к дереву,» — сказал Нидаль, указывая на большую шелковицу впереди по проселку, метрах в двухстах от шоссе. Вилли тронул машину.
В тени шелковицы стоял стреноженный осел, философски обозревая недостижимые заросли чертополоха, там, далеко, на противоположном склоне оврага. Его мягкие мохнатые уши шевелились в такт неторопливым мечтам.
«Тут,» — сказал Нидаль. Они вышли из машины, и Вилли огляделся, ища пакеты с углем.
«Туда», — сказал Нидаль и, не оглядываясь, направился к высившейся неподалеку груде камней. Вилли последовал за ним, удивляясь необъяснимой мрачности друга.
«Эй, Нидаль! Что-нибудь случилось?» Нидаль не ответил ничего. Из-за кучи вышел бородатый человек с черно-белой клетчатой кафией на плечах. В руках он держал автомат.
Вилли остановился. Он понял, что происходит что-то очень страшное, что кажущаяся обыденность обстановки — полуденная знойная тишина, пустынное шоссе, медленный коршун в небе, шелковица, осел — принадлежат уже какому-то другому миру, тому, где раньше и он сам, еще минуту тому назад, жил, ходил, ездил, дышал, любил Риву. Что вышедший из-за кручи человек с автоматом — уже самим фактом своего появления — создает какую-то новую, страшную, угрожающую реальность, меняет что-то кардинальное в его, виллином, настоящем и будущем. Он с ужасом почувствовал, что новая эта реальность начинает засасывать его в свою черную воронку, отзываясь ухающей сосущей тошнотой в низу живота.
Вилли обернулся назад, на машину, как бы цепляясь за последний якорь, еще как-то связывающий его с прежним. Около машины стояли еще двое, невесть откуда взявшиеся, с автоматами Калашникова в расслабленно опущенных руках. Они улыбались.
«Ну что, еврей, попался? — говорил один из них, постарше, заросший до глаз густой черной бородой. — Стой где стоишь. Сейчас поедем, погуляем.» Он спросил что-то по-арабски, обращаясь к Нидалю. Нидаль ответил. Бородач кивнул и полез в бардачок «кадета».
«Ого! — насмешливо сказал он, взвешивая на руке виллин «вальтер». — Да ты опасен! Того гляди, всех нас перестреляешь…» Они рассмеялись, все четверо, включая Нидаля. Только тут до Вилли дошло, что Нидаль — заодно с ними, что помощи ждать не от кого, что он в ловушке. Он посмотрел на своего старого приятеля. Нидаль ответил ему прямым взглядом, не отводя спокойных, ничего не выражающих глаз. Хотя нет, какое-то выражение в них было, в этих глазах. Так смотрит охотник на попавшего в силок зайца; с таким брезгливым любопытством глядит крестьянин на прижатую пружиной мышеловки амбарную крысу.
«Ладно, хватит, — сказал старший бородач, отсмеявшись. — Садись в машину.» Он сделал шаг в сторону Вилли. Что-то щелкнуло в виллиной голове. Сковывавший его доселе панический страх вдруг одним махом преобразился в бешеную энергию побега. Бежать! Он прыгнул в сторону, разученным в юности регбийным ударом оттолкнул бросившегося на него араба и, петляя, побежал в сторону шоссе. Сзади послышались крики. Вилли бежал что было сил, как бегут во сне, не оглядываясь, впившись взглядом в спасительную полосу асфальта. Она быстро приближалась, а вместе с нею — и его прежний, старый мир, дом, дети, Мангал, Рива…
Он сначала упал и только потом услышал очередь, перебившую ему позвоночник. Попробовал вскочить и — не смог. Он перестал чувствовать ноги. Зато и боли не было тоже. Вилли с удивлением отметил этот отрадный факт. А, собственно, чему тут удивляться? — спросил он кружащего в небе коршуна, — ведь смерть сильнее боли… Не было и страха. Он спокойно смотрел на подбежавших арабов и ждал.
«Что же ты наделал, глупец? — сказал бородач, глядя на него сверху. — Посидел бы неделю-другую в подвале, глядишь — и обменяли бы твою задницу на сотню-другую наших. А теперь — кому ты такой нужен?»
Нидаль что-то сказал по-арабски. Бородач неохотно ответил. Они начали спорить, размахивая руками, вознося кверху указательные пальцы и качая перед носом друг у друга сложенными в щепоть кистями.
«Торгуются,» — подумал Вилли и перевел глаза на коршуна. Ему вдруг захотелось увидеть осла, и он изо всех сил скосил вправо, но не увидел ничего, даже кроны шелковицы. Теперь ему оставался только коршун. Ну и ладно, — подумал он и улыбнулся. Чего тут переживать; все равно смерть сильнее всего. Арабы закончили спорить. Бородач вынул растрепанную пачку стошекелевых банкнот, отсчитал несколько штук и дал Нидалю. Тот сунул деньги в карман и пошел в сторону деревни.
Бородач снова посмотрел на Вилли и покачал головой. Вдруг какая-то мысль пришла ему в голову. «Йа, Нидаль!» — позвал он. Нидаль вернулся. Они снова начали спорить. Бородач совал Нидалю в руки виллин пистолет; Нидаль упорно отказывался, цокал языком и мотал головой. Наконец бородач вынул деньги. На третьей бумажке Нидаль сломался и взял «вальтер».
«Ну все, еврей, — сказал бородач. — Сейчас ты умрешь. Молись, если хочешь.»
«Я не еврей,» — сказал Вилли.
Бородач поморщился: «Зачем врать перед смертью? Если уж тебе все равно умирать, так хоть умри мужчиной. Молиться будешь?»
Вилли кивнул. Он вдруг ощутил совершенно точное знание важности, необходимости этой молитвы. Если бы только речь шла о последних в жизни и в адрес жизни сказанных словах — еще куда ни шло, можно было бы и опустить — столько разных, дурных и умных, слов было им переговорено, что малая эта предсмертная добавка не могла ни прибавить ни убавить ровным счетом ничего. Но в том-то и дело, что речь тут шла о первых словах. О первых словах, сказанных в адрес смерти, сильной смерти, держащей сейчас на коленях его непутевую, молитв не помнящую голову. И в этих словах была безусловная важность, ибо с них начинался его новый, неизвестный этап…
«Ну? — прервал бородач ход его мысли. — Ты уж извини, но со временем у нас туго. Вот-вот патруль приедет.»
«Сейчас, друг, — сказал Вилли. — Полминуты.»
С молитвой была проблема. За исключением известных ему из книг двух загадочных слов «отче наш», Вилли не знал никакой христианской молитвы. Конечно, можно было бы сказать только два этих слова, но у Вилли имелись серьезные сомнения относительно «отче», которого он непроизвольно отождествлял с собственным, решительно не подходящим к моменту, батей…
«Ну?» — поторопил его бородач.
Вилли кивнул. Слова вдруг сами пришли к нему на язык.
«Шма, Исраэль!» — сказал он и закрыл глаза.
Бородач кивнул Нидалю, тот поднял видавший виды «вальтер» времен Второй Мировой и выстрелил.
Потом они разошлись — трое хамасников быстро спустились в овраг к ждущему их там джипу; Нидаль отправился домой, в деревню. В кармане у него лежали тысяча двести шекелей. Это было много меньше обещанного, но даже так он мог накупить муки, круп и сахара на несколько месяцев вперед. А там, глядишь, и работа подоспеет.
14
Шломо сменился в восемь, когда уже стемнело. Он сразу же заскочил в караван — принять душ и переодеться. Надо было торопиться — Эльдад пригласил его на субботнюю трапезу, а это означало, что без него там за стол не сядут. Опаздывать в этой ситуации было неудобно. Он вытащил из чемодана мятую белую рубашку и на скорую руку прошелся по ней утюгом. Потом отыскал кипу. Как и у всякого временного клиента, вспоминающего о кипе лишь по специальным поводам, она не держалась на шломиной голове, соскальзывала с волос и вообще вела себя чересчур самостоятельно. Шломо быстро и без удовольствия выкурил сигарету — просто, чтоб накуриться впрок, и, придерживая кипу рукой, вышел наружу.
Он успел в самый раз — люди уже выходили из синагоги — единственного постоянного каменного строения на Хореше, уставленной помимо него рядами обветшавших караванов. Они останавливались на площадке перед входом, желали друг другу мирной субботы, не без труда собирали разыгравшихся детей, с криками и смехом носившихся вокруг, и, белея рубашками в темноте вечера, чинно отправлялись по домам, к накрытому субботнему столу. На востоке желтел огромный тыквенный диск луны; первые, самые яркие звезды весело подмигивали всякому, кто догадывался задрать голову вверх; Царица-Суббота тихо спускалась в мир с быстро чернеющего неба, величавая и нежная, как невеста.
Шломо увидел Эльдада — тот шел по тропинке от синагоги, рука об руку со своим старшим, мальчиком лет восьми, важно вышагивающим рядом с отцом. Преисполненный торжественности момента, он снисходительно, даже с оттенком некоторого презрения посматривал на младшего брата, вприпрыжку бежавшего следом, то и дело останавливаясь, чтобы получше рассмотреть встретившиеся на пути цветной камушек, странный осколок стекла или стреляную гильзу.
«Шаббат шалом, Эльдад! — сказал Шломо. — Шаббат шалом, дети.»
«Шаббат шалом, Шломо! — радостно отвечал Эльдад. — Знакомься, это мой старший, Двир. А этот бандит, что за мою спину прячется — твой тезка, тоже Шломо. Ему — четыре года. Вообще-то у меня их пятеро, но ты сегодня увидишь только троих — Сарит и Моше гостят у моих родителей, в Кфар-ха-Роэ… Но что ж мы стоим… заходи, дорогой, заходи…»
Эльдаду было на вид лет тридцать — тридцать пять. Среднего роста, крепко сбитый, с густой рыжей бородой колечками, он ступал твердо, говорил, не торопясь, четкими законченными предложениями, и, вообще, имелась в нем какая-то неуловимая крестьянская повадка — то ли в неуверенном покое больших рук, все время как бы стесняющихся своего безделья, то ли в том, как он принюхивался к ветру, определяя, когда же, наконец, закончится хамсин; то ли в том, как он ощупывал землю, решая, включать ли уже драгоценный полив. Мечтой Эльдада было насадить виноградник на южном склоне Хореши, построить давильню и делать вино, «не хуже, чем в Бордо».
Увы, нынешняя ситуация отнюдь не способствовала осуществлению его планов. В основном он занимался сейчас тем, что помогал Менахему в охранной его службе, получая за это мизерную зарплату и с трудом сводя концы с концами. Хорошо еще, что жена, Цвия, подрабатывала в местном детском садике, иначе пришлось бы им совсем туго, с пятью-то детьми. Впрочем, судя по неизменной улыбке на эльдадовом лице, эти проблемы не мешали ему жить в полном согласии с душою, Богом и сотворенным Им миром.
Они вошли в караван. Несмотря на то что, в каждой детали этого, по сути, временного жилища, начиная с крылечка, были видны отчаянные попытки хозяина хоть как-то облегчить и обустроить их нелегкий быт, отчетливый отпечаток безнадежно безденежной бедности лежал на всем содержимом этого крохотного трехкомнатного вагончика. На всем, за исключением праздничного субботнего стола, стоявшего посреди общей комнаты. Это был поистине царский стол! Роскошные серебряные подсвечники соперничали своим блеском с яркими язычками субботних свечей, отражаясь вместе с ними в слепящей белизне чудной крахмальной скатерти. По снежному скатертному полю бежали диковинные орнаменты, обгоняя друг друга и сплетаясь вокруг дорогих столовых приборов с затейливыми семейными монограммами. Сдержанным благородством мерцали фарфоровые тарелки. С ними спорил беспечный хрусталь высоких бокалов, легкомысленно гонявшийся за каждым, даже самым незначительным лучиком. Инкрустированный графин с вином сиял рубиновым светом; две пышные халы, покрытые вышитой накрахмаленной салфеткой, венчали это потрясающее зрелище.
Шломо не знал что сказать. Он вдруг почувствовал себя неподобающе, чересчур скромно, одетым. Этот стол заслуживал по меньшей мере шелкового фрака и бриллиантовой булавки в тщательно повязанном галстуке.
«Шломо, садись, пожалуйста,» — Эльдад указал на единственное в доме кресло, явно принадлежащее обычно самому хозяину. Шломина неловкость еще более возросла.
«Эльдад, — сказал он смущенно. — Это же твое место… Может, будет лучше, если я сяду туда, на диван?..»
«Послушай, Шломо, — улыбнулся Эльдад. — Ты, как человек не совсем религиозный, не очень-то в курсе субботних обычаев, поэтому позволь мне объяснить тебе кое-что. Для хозяина дома — огромная честь вернуться из синагоги к субботнему столу в сопровождении гостя. Так что, сделай милость, не спорь.» Шломо покорился.
«А еще с тобой пришли два ангела, — дернул его за рукав четырехлетний тезка. — Правда, папа?»
«Правда, правда, — ответил Эльдад ласково. — Молодец, малыш. Субботний гость всегда приводит с собою двух ангелов, и теперь они будут вместе с нами справлять нашу Субботу.»
Из смежной комнатки, покормив и уложив младшую полугодовалую дочку, вышла Цвия, и все расселись вокруг стола. Хозяин дома освятил вино и произнес молитву над халами, преломив их и раздав всем по куску.
Собственно трапеза состояла из многих перемен, последовательно подаваемых на стол Цвией. Батарея салатов сменилась фаршированной рыбой; затем подоспел бульон и тушеные овощи; курица уступила место телятине в кисло-сладком соусе; пирог и фруктовые десерты венчали это царское пиршество. Приступая к очередному блюду, Шломо не мог не думать о том, что, учитывая очевидную бедность хозяев, роскошь их субботнего стола могла быть достигнута только за счет жесточайшей экономии в течение всей остальной недели. В определенном смысле это выглядело нелепо… С другой стороны, он все больше и больше ощущал несомненное очарование этого праздника, удивительную одухотворенность, с которой родители и дети исполняли непонятный ему ритуал. Несмотря на из ряда вон выходящую обильность угощения, еда не была главной в этом процессе; скорее наоборот, собственная значимость и красота Субботы требовала и от еды соответствующего изменения, отличия от повседневного образца. Это отличие, таким образом, лишний раз подчеркивало разницу между Субботой и прочими, обычными днями.
Что же тогда было главным? Семья? Видимо — да. Ведь в течение недели каждый, включая детей, занят своей бесконечной текучкой — работой, домашними делами, учебой, уроками, дворовыми проблемами, ссорой с соседским Хаимке, построением замка в песочнице и его последующей охраной, заездом на трехколесных велосипедах, мечтами о собаке, погоней за кошкой… да мало ли… всего и не упомнишь. Где уж тут остановиться; хотя вечерами и сталкиваются друг с другом, как билльярдные шары на суконном поле, трудно назвать это общением — ведь все немедленно снова разлетаются по своим лузам.
Но вот приходит Суббота, и они снова вместе, начиная с общего дела подготовки к ее встрече и кончая торжественными проводами вечером завтрашнего дня. И первая субботняя трапеза, с ее особенным, открытым душевным настроем, с ее тихой беседой, с ее традиционным недлинным рассуждением на тему недельной главы Торы, с ее веселыми песнопениями и обменом впечатлениями о прошедшей неделе, становится несомненной кульминацией этой драгоценной, заботливо пестуемой и еженедельно возобновляемой семейной близости. Шломо думал об этом, глядя на Эльдада, весело распевающего с вместе мальчиками «шалом алейхем», на Цвию, которая убирала тем временем со стола, иногда вдруг, совершенно неожиданно, подключаясь к той или иной строчке. Они были вместе, они были одной командой, и, видимо, именно это чувство помогало им ощутить радость и спокойную осмысленность бытия.
И по вечной эгоцентрической манере человека сворачивать все на себя, Шломо подумал о своей уничтоженной семье, о собственной, развороченной, в руинах лежащей жизни. Ему вдруг остро захотелось остаться одному, выйти из-за стола в прохладную ночь, скупо освещенную луною, звездами и субботними окнами с колышащими огоньками свечей, сесть где-нибудь в сторонке, закурить и соскользнуть в самый низ, в самую бездну отчаяния, где, как он точно знал, есть последний, крайний, уголок, отчего-то поразительно похожий на счастье.
Эльдад хлопнул его по плечу: «Ну, Шломо, что же ты не подпеваешь?»
«Слов не знаю,» — коротко ответил Шломо.
Посидев еще минут пять, он стал благодарить хозяев, намереваясь уходить. Но Эльдад, как оказалось, и не думал отпускать его.
«Нет, Шломо, — сказал он решительно. — Ты не можешь уйти, прежде чем не поможешь мне решить один вопрос из недельной главы.»
Шломо вздохнул. Взялся за гуж… теперь придется отрабатывать субботний вечер по полной программе… Он сделал последнюю попытку вырваться.
«Ну что ты, Эльдад… Как же я могу тебе помочь в том, в чем я ничего не смыслю? Я ведь даже не имею понятия, какая именно нынче недельная глава. Ты уж уволь меня, неученого.»
«Э нет, — продолжал настаивать Эльдад. — Ученость тут не при чем. Ученые толкования мне и так известны — они в книгах записаны. Меня же конкретно твое житейское мнение интересует, как человека свежего, так сказать. А насчет главы — не беда, я тебе сейчас в двух словах расскажу. Да ты, наверное, об этом и сам слышал — про разведчиков…»
Шломо пожал плечами. Он и впрямь помнил эту известную библейскую историю о двенадцати разведчиках, посланных Моисеем из пустыни в Землю Обетованную — разузнать, что к чему и рассказать народу, только-только из Египта вышедшему, что его ожидает там, на конечной остановке.
«Слышал, — сказал он. — В общих чертах.»
«Я тебе напомню, на всякий случай. Разведчики вернулись через сорок дней. Десятеро из них принесли плохие вести — мол, хоть и хороша земля, но уж больно сильны тамошние народы — все, как на продбор, великаны, — не одолеть. Двое других пытались успокоить народ, говоря, что все будет в порядке, но народ поверил большинству, испугался и решил вернуться в Египет. За это Бог покарал их сорокалетним скитанием в пустыне — пока не вымрут все те, кто отказался исполнить Его волю.»
«О'кей, — кивнул Шломо. — Ну и что? Что тут неясно?»
«Видишь ли, согласно Танаху, десятеро говорили, что эта земля пожирает живущих на ней. Что ты об этом думаешь?»
Шломо почувствовал, что кровь приливает к затылку и сотнями мелких иголочек покалывает изнутри. Он посмотрел на Эльдада, но тот внимательно изучал рисунок на скатерти. Что ж… Каков вопрос — таков ответ.
«Я думаю, — сказал Шломо, не сводя глаз с хозяина дома. — Я думаю, что даже двум оставшимся праведникам было нечего на это возразить.»
«Это так, — согласился Эльдад, по-прежнему глядя в стол. — Когда Калев и Йехошуа возражали десятерым, они действительно говорили только о возможности одолеть местные народы. Тем не менее, слова о пожирании названы в Танахе клеветой.»
«Что за чушь, — резко сказал Шломо. — Какая клевета? Взять хоть тебя, Эльдад. Таких, как ты и Цвия, называют «солью земли», и это, заметь, положительная характеристика. Для чего же существует соль, как не для употребления в пищу? Употребления в пищу кем? Понятно, кем — землей. Соль — чья?.. Соль — земли. Так что съедят вас за милую душу. И не только вас — всех. Вот я, Эльдад, — простой неученый еврей; таких называют «ам хаарец», народ земли. Ты только послушай: «ам». Так говорят, когда хотят показать, будто что-то заглатывают — а-ам… и нету. И после этого ты еще утверждаешь, что эти слова разведчиков — клевета?»
Он остановился и перевел дыхание. Над столом повисла тишина. Эльдад молчал, дети испуганно смотрели на отца, Цвия, спиной ко всем, стояла, опустив праздные руки в раковину с грязной посудой. Шломо стало нестерпимо стыдно. Что он тут делает, в этом мирном, теплом гнезде, он, ошметок нетанского взрыва, с головы до ног обвешанный кровавыми кусками того пасхального вечера? Еще ладно — Эльдад с дурацкими его вопросами, но при чем тут дети, Цвия? Уж их-то мог бы оставить в покое со своими людоедскими откровениями…
Шломо принужденно улыбнулся, ища способ исправить положение.
«На самом деле, — продолжил он смущенно. — Все это поедание — фикция. Когда человек умирает, его кладут в землю, и она как бы съедает его. Вот и все. И потом, что это меняет: поедает… не поедает?.. Разве для нас есть какая-нибудь разница?»
Счастливая мысль вдруг пришла ему в голову.
«Вот скажи, Эльдад, — сказал он. — Насколько я помню эту историю, когда народ услышал о наказании, то все дружно раскаялись и хотели отмотать пленку назад — мол, прости нас, Господи, бес попутал, вот они — мы, на все готовые? Даже в бой полезли — сражаться за Землю Обетованную. Было такое?»
«Было, — ответил Эльдад. — Так оно и было. Поднялась часть народа на гору, думая, что тем самым исполняет волю Бога. Но Бога уже не было с ними. Поэтому разбили их враги, многих поубивали, обратили их в бегство и гнали почти до полного истребления.»
«Почему же такая жестокость со стороны Всевышнего? — спросил Шломо. — В чем их преступление? Почему то, что еще вчера было правильным, вдруг стало преступным сегодня?»
«Потому что божественная воля изменилась. — ответил Эльдад. — Потому что Бог уже назвал свой приговор — сорок лет в пустыне. Потому что, после этого приговора, пытаясь влезть на гору, они снова грешили против желания Бога.»
«Вот именно! — воскликнул Шломо. — Вот именно! В этом-то все и дело. Есть План, которому мы обречены следовать, так или иначе. Ты можешь лезть на гору или на стенку — все равно, против Плана не попрешь. То есть, переть-то можно, только Плана тем самым не изменишь, только лоб расшибешь. И обрати внимание, логики тут нету никакой: ведь еще вчера лезть на гору было вполне правильным и божественно-корректным, а уже сегодня — дудки, получай по морде… А может и есть она, логика, да вот известна она только тому, кто План этот написал… Правильно я толкую?»
Эльдад пожал плечами. «Не знаю… Насчет логики — тут есть разные мнения, а вот по поводу Плана — вроде правильно.»
«Ну и ладно, — обрадовался Шломо. — Мне и этого достаточно. Возвращаясь к твоему вопросу относительно поедания — какая тебе разница, что именно эта земля с тобой делает, если ты находишься в ней согласно Плану? Может, так и должно быть, чтобы эта, родная, обетованная земля тебя съела? Может, ты ей тоже обетован, как пища ее единственная? Может, помрет она с голоду без тебя? И ведь действительно, разве не помирала она без нас все эти две тысячи лет?
«И потом — допустим, что пойдешь ты против Плана, как те, что на гору полезли. Допустим, скажешь: не хочу я быть ничьей пищей, я сам по себе, отстаньте от меня с людоедскими вашими претензиями… Только поможет ли это? Все равно ведь сожрут — чужие ли страны, пучина ли морская, волки ли в лесу… А то — и настоящие людоеды на заброшенном острове в Тихом океане…»
Шломо хищно оскалился, изображая тихоокеанского людоеда, и дети с готовностью рассмеялись. Напряжение спало.
«Шломо, — сказала Цвия. — Тебе надо в ешиву поступать. Из тебя рав получится — на загляденье.»
«Спасибо, Цвия, — поблагодарил ее Шломо. — Поздно мне этим делом заниматься. Вот тезка пусть учится.» Он потрепал по затылку мальчика, распрощался с хозяевами и вышел на улицу.
Луна уже забралась высоко; в ее белом свете Шломо, не торопясь, шел к своему каравану.
План, — думал он. — План… План с большой буквы. Совсем как у Кагана, костлявого Старшего Мудреца в твоей нелепой бэрлиаде. Смех, да и только. Но ведь как все гладко получилось… И что интересно — никто доказательств не спрашивает — что Эльдад — живой бородач во плоти и крови, что выдуманный Мудрец Хаим в твоих же «урюпинских» рассказах. Отчего так? Скажи людям, что входить они должны через переднюю дверь, а выходить через заднюю — потребуют доказательств, будут спорить до хрипоты, всю душу тебе и себе вытрясут, да и не согласятся в конце концов, разделятся на десяток партий, объявят смертельную войну, друг друга перебьют, двери эти злосчастные сожгут к черту, но к согласию не придут. А скажи что-нибудь совсем нелепое, но таинственным, неведомым, Верховным Планом освященное, к примеру: завтра, согласно Плану, всем левшам-бухгалтерам — смерть, а одноглазым велосипедистам — бессмертие… и никто спорить не станет. Скатают аккуратно нарукавники и пойдут писать завещание.
А почему? Видели они этот План? Знают его автора? Шломо усмехнулся. Ну, положим, относительно «урюпинских рассказов» все как раз таки ясно. Автор «урюпинского» Плана ему известен. Ему, но не Хаиму. Хаим-то знать не знает, что сочинен этот таинственный План, как, впрочем, и сам он, Хаим, отнюдь не могучим и ужасным демиургом, а вовсе даже наоборот — затрюханным литературным негром, двадцать центов за слово в базарный день! Ха!..
Хотя, на самом-то деле, если разобраться, то чем он, Шломо, не демиург, не создатель? Разве не властен он своею мощною рукою над им же придуманным миром «бэрлиады»? Властен и еще как! Кого хочет — казнит, кого хочет — милует. К примеру, вот Дафна висит сейчас на волоске; от кого ее жизнь зависит, если не от Шломо-демиурга? Вот она, ее жизнь молодая, ее любовь сумасшедшая, вот они — телепаются на шломиной ладони, вот они — дергаются на ниточках, привязанные к уверенным пальцам Шломо-кукловода…
Он вдруг обнаружил, что давно уже стоит под фонарем, пристально глядя на свои руки с растопыренными пальцами.
Э-э-э, Шломо, стоп, — сказал он сам себе. — Стоп, братишка. Ты говори-говори, да не заговаривайся. Так ведь недолго и в психушку загреметь. Там, небось, полны палаты такими демиургами… Хотя с Дафной-то надо бы завершить. Нехорошо ее так оставлять. Какой там был План относительно Дафны?..
А был ли план? Честно говоря, плана не было; приступая к очередной порции «бэрлиады», Шломо никогда не представлял себе, куда именно завернет его сюжет. Конечно, предварительные наметки имелись всегда, но они столь часто менялись под давлением естественной логики событий, что называть их планом язык не поворачивался. Тем не менее, согласно этим предварительным наметкам, Дафна должна была умереть. Да-да… именно так он и планировал это тогда, вечность тому назад. И именно с этим он был категорически несогласен сейчас, стоя на Хореше, под фонарным столбом с болтающимися на нем луной и лампочкой. Катягорически…
Ради такого дела вполне можно было бы написать еще одну главу… даже две. Конечно, она должна остаться жить, причем жить счастливо, встретиться с Бэрлом… какой-нибудь остров в теплом море… чемодан денег… как-нибудь уж выведет Шломо свой сюжет в нужную сторону. Демиург он, в конце концов, или не демиург? Вот только вопрос — как посмотрит на это Благодетель? Хотя, какое ему, Благодетелю, дело? Когда-то ведь это должно было кончиться? Пусть теперь ищет себе другого негра. Пожалуй, надо бы написать ему письмо — мол, примите, уважаемый неизвестный друг, последнюю главу «бэрлиады»; мне не хотелось бы, чтобы такое развитие событий показалось Вам неоправданным нарушением нашего соглашения; а потому, упреждая возможные упреки, отмечу, что денег мне с Вас не надобно, мне они сейчас ни к чему; за сим прощайте, с наилучшими пожеланиями, Ваш дядя Том.
И все. Шломо облегченно кивнул и оторвавшись, наконец, от фонаря, пошел к своему каравану. И компьютер тут найти не проблема — можно попросить у Менахема. А вообще-то, если честно, пора бы тебе, Шломо, сгонять в Мерказуху. И не только в Дафне дело — надо бы шмотки поменять, да и большая стирка не помешает. Заодно и Сеню повидаешь…
Сначала он увидел менахемский джип, стоявший с работающим мотором на площадке перед караваном, а уже затем и самого Менахема, бегущего к нему со стороны.
«Шломо, где ты ходишь? Я тебя везде ищу… Быстро — бери оружие и поехали. Быстро!»
«Что случилось, Менахем?»
«Вилли убит. Не стой столбом, собирайся, быстро!»
15
Они неслись по темному шоссе, и ошалевшие повороты шарахались от них в придорожный кустарник. После Нахлиэля Менахем нарушил молчание.
«Рива пришла домой в половине второго. Вилли не было. Она решила, что его срочно вызвали в Тальмон. Пыталась дозвониться; телефон не отвечал, но это еще ни о чем не говорит — известно, что здесь есть проблема с приемом… В шесть она начала тревожиться всерьез, позвонила Якову; он ничего не знал. Взяла у Якова мой телефон. Я постарался ее успокоить, но на всякий случай сообщил центру связи. В восемь она позвонила снова — от Вилли еще не было ни слуху ни духу. Я спросил, есть ли что-нибудь конкретное, что особенно ее беспокоит? Она заплакала и рассказала про уголь и про этого араба из Умм Цафы… как его — Нидаль? Тут я уже поднял на ноги весь район. Через полчаса патруль из Халамиша обнаружил его на въезде в Умм Цафу. Мертвым. Очередь в спину и пуля в лицо. Суки…»
Менахем ожесточенно плюнул в проносящиеся мимо дома арабской деревни Бейтилу.
«Суки! Суки! Как можно верить арабу? Арабский друг хуже двух гадюк… И вы тоже с Яковом хороши… могли бы уж объяснить ему, что почем, вместо того, чтобы шашлыки жрать на халяву. Что он понимает в нашем дерьме — немец…»
Шломо заплакал. На счастье, Менахем не мог видеть его лицо в темноте кабины. Минут через пять, на подъезде к Халамишу, Шломо приоткрыл окно, и ветер высушил слезы.
Перед Умм Цафой шоссе было перекрыто. Менахем коротко переговорил с командиром блок-поста, их пропустили. Процедура первого опознания уже закончилась; Яшка, обхватив руками голову, сидел на придорожном камне. Шломо молча сел рядом. Сразу вслед за ними подъехал амбуланс, и санитары задвинули внутрь черный пластиковый мешок с тем, что раньше звалось «Вилли». По склону ходили люди, что-то искали на земле, что-то меряли, что-то писали в маленьких блокнотах. Подошел Менахем.
«Яков, Шломо, пойдемте.» Они встали, не спрашивая зачем.
Деревня казалась вымершей; двери и ставни настороженно глядели на вооруженных людей и притворялись стенами. На улицах стоял густой запах горелого мусора. Шедший рядом со Шломо автоматчик в каске, совсем мальчишка, выругался:
«Как на свалке… Хоть нос затыкай!»
«Привыкай, Коби, — откликнулся другой, видимо, постарше и поопытнее. — Это у них везде так. Мусор-то девать некуда. Раньше мы вывозили, а теперь — некому…»
На площади, перед наглухо запертой лавкой, остановились. Командир взвода достал карту и справлялся по ней, светя себе фонариком.
«Если вам Нидаля, то это направо, — вдруг сказал Яшка. — Я его дом знаю.»
«О'кей… — офицер свернул карту. — Показывай.»
Калитка была не заперта, и они беспрепятственно вошли в просторный двор.
«Окружить дом не хочешь? — подсказал командиру Менахем. — Не сбежал бы, сукин сын…»
«А куда он денется? — уверенно ответил офицер. — Деревня уже час как оцеплена — мышь не проскочит.»
Он негромко постучал в дверь. Дом молчал, испуганно сжавшись и уйдя в себя. Офицер постучал сильнее.
«Открывай, падла! — крикнул Менахем. — Открывай, хуже будет!»
Офицер обернулся к нему, как на пружине: «А ну — отставить! Тут командую я, понятно? Вы здесь для опознания, так что отвалите в сторонку и помалкивайте. Понятно?»
Менахем угрюмо кивнул и отошел. Яшка положил ему руку на плечо, успокаивая: «Не гоношись, Менахем. Это ж парашютисты, белая кость. Были бы «голанчики», и разговор был бы другой…»
«Нидаль, — громко сказал офицер, обращаясь к притаившемуся дому. — На твоем месте я бы открыл. Ты же понимаешь, что мы все равно войдем, так или иначе. В твоих же интересах, чтобы дверь при этом осталась цела. Тебя сейчас возьмут на допрос; как семья будет жить со сломанной дверью все это время?»
За дверью загремели засовы; затем она отворилась. Нидаль, в длинной галабии, стоял на пороге. Лицо его было спокойно.
«Зачем же ломать? — он приветливо улыбнулся. — Я и так открою. Извини за задержку, офицер. Спали мы; пока проснешься… сам понимаешь…»
«Не проблем, — равнодушно ответил офицер. — Ты бы свет зажег, зачем на гостях экономить?»
«Какой свет? — усмехнулся Нидаль. — У кого есть деньги — за свет платить? При свечах живем.»
«При свечах, так при свечах. Бери-ка всю свою хамулу и выходи строиться во двор. Чтоб души живой в доме не осталось.»
«Зачем, офицер? Дети спят, жалко. Да и что такое случилось, что вы меня среди ночи потрошите? Я слышал, убили кого-то рядом с деревней. Ну и что? Я-то тут при чем?»
Офицер покачал головой.
«Это ж сколько вопросов, Нидаль… Не волнуйся, все тебе объяснят. В ШАБАКе допросы очень информативные… а уж как следователи там объяснять умеют… любой вопрос — по косточкам, как говорится. Так что можешь смотреть в будущее с оптимизмом. А пока — выводи семью. Обыск будет в доме. Ничего не случится, если посидят пару часиков во дворе.»
Обитатели дома начали выходить наружу. Их оказалось неожиданно много: младшие братья Нидаля, несколько древних старух и стариков, одного из которых вынесли вместе с лежанкой, женщины разных возрастов, множество детей, смотревших на солдат со смешанным чувством ненависти и страха. У мужчин проверили документы и, связав руки за спиной, усадили вместе с подростками на землю в отдельном углу. Они сидели молча, угрюмо потупившись. Вся их повадка свидетельствовала о том, что с этой процедурой они более чем знакомы. Женщины, напротив, вели себя агрессивно, что-то кричали, плевались, наскакивали на солдат, хватаясь за стволы автоматов. Младшие дети ревели в голос. Старики бессмысленно щурились в свете солдатских карманных фонарей.
Нидаля поместили отдельно от всех, сковав наручниками и замотав глаза фланелевой повязкой. Когда гвалт стал совсем невыносимым, офицер подошел к нему и сдернул повязку.
«Посмотри-ка на меня, приятель, — сказал он. — Пока что мы были с тобой друзьями, но если ты немедленно не пресечешь этот спектакль, то мы серьезно поссоримся.»
Нидаль кивнул и что-то крикнул; шум прекратился как по мановению палочки дирижера.
«Вот так-то лучше, — удовлетворенно хмыкнул офицер. — Экое владение оркестром! Может, ты и не Нидаль вовсе? Может, твоя фамилия Баренбойм?.. Да, кстати, мы ж тебя и не опознали-то по всем правилам…»
Он оглянулся, ища Якова и Шломо.
«Эй, ребята, давайте-ка сюда! Кто тут из вас его знает? Поговорите со старым приятелем.»
Яшка подошел и присел на корточки напротив связанного.
«Привет, Нидаль, — сказал он. — Как жизнь?»
«Привет, Яков. Что, и вас призвали на службу? Вилли тоже здесь?»
Яшка кивнул, изучающе глядя на спокойное и приветливое лицо Нидаля:
«Угу… И Вилли здесь. Пока еще… Ты мне скажи, а то я запамятовал: как твою дочку зовут, ту, которую Вилли тогда от смерти спас? Ханна?»
«Ханан, — поправил его Нидаль, не отводя глаз, все так же приветливо и открыто. — Да вон она сидит, там, со всеми.»
«А-а-а… — протянул Яшка. — А теперь объясни…» Голос его вдруг сорвался, и Яшка не смог закончить фразы. Он опустил голову и некоторое время молча покачивался с пятки на носок, пытаясь овладеть собой. Шломо увидел, что незнакомый человек в штатском, пришедший вместе с ними и сейчас внимательно наблюдающий за сценой, придвинулся поближе, встав на расстоянии вытянутой руки от Яшки.
Тем временем Яшка справился с голосом.
«А теперь, — попробовал он снова. — Объясни… объясни…» Какое именно объяснение он хотел получить, так и осталось неизвестным, потому что Яшка вдруг взвыл дурным страшным воем и, прыгнув на Нидаля, вцепился ему в горло. Но штатский был начеку. Он схватил Яшку за правую руку, офицер — за левую, и общими усилиями им удалось оторвать его от полузадушенного, кашляющего араба и оттащить в сторону. Яшка бился у них в руках и диким голосом выкрикивал угрозы и ругательства, мешая русский мат с ивритом и арабским.
«Ты что, парень, с ума сошел? — сказал ему штатский, когда Яшка, наконец, обмяк и перестал дергаться. — Хочешь из-за этого дерьма в тюрьму угодить? Ну задушишь ты его… и что? О семье подумай.»
«Ты Вилли не знал… — как-то устало ответил Яшка. — Тебе не понять. А гнойнику этому поганому — не жить. Слышишь меня, ты, падла вонючая? Не жить тебе… Не думай, что, когда тебя через пару месяцев выпустят в связи с каким-нибудь «мирным процессом», будь он проклят… не думай, что ты тут свободно по земле ходить будешь. И гаденышей всех твоих передавим, до одного… у-у-у, змеиное отродье…»
Нидаль прокашлялся. «Эй, офицер, — просипел он, с трудом проталкивая слова через помятое горло. — Я требую, чтобы эти угрозы были записаны в протоколе ареста. Я свои права знаю…»
«Вы вот что, ребята, — сказал офицер. — Шли бы вы отсюда, от греха подальше. Опознать вы его, как я понимаю, опознали, причем даже наощупь. Значит, больше вам тут делать нечего.»
Менахем, Яшка и Шломо вышли со двора на улицу.
«Зря ты сорвался, Яков, — сказал Менахем. — Этот штатский — из ШАБАКа. Теперь, что тут ни случись — все на тебя вешать будут. Еще и какое-нибудь «еврейское подполье» соорудят — они на это мастера. Да чего там долго ждать — вот увидите, уже в завтрашних газетах будут заголовки: «Попытка линча на территориях» или «Армия спасает палестинца от самосуда поселенцев». Потом по радио полдня будут говорить об опасности правого путча, глава левой оппозиции еще до вечера даст несколько интервью на тему о зверствах поселенцев, а правые депутаты будут извиняться и осуждать. И все из-за твоей глупости.»
«Да я понимаю, Менахем, — тихо ответил Яшка. — Я ж как мог держался. Но когда они меня прямо против этой морды поганой посадили… тут уж я не смог. Ну не смог, ну что тут поделаешь… Ты ж не знаешь, чем для меня Вилли был…»
Они шли посредине неровной, в кочках и колдобинах, деревенской улицы, и скорчившиеся по обеим сторонам дома провожали их ненавидящим взглядом задраенных окон.
За деревней следственная группа сворачивала свое оборудование. Оцепление еще стояло; тут и там люди еще бродили с фонарями по склону и окрестным кустам, но большая часть машин и армейских джипов уже разъехалась. Яшка тоже засобирался. Он уже попрощался, даже сел в машину и завел мотор, как вдруг снова вышел и подошел к Шломо, ожидавшему Менахема около тальмонского джипа. Они крепко обнялись.
«Вот так… — приговаривал Яшка, прижав мокрую щеку к шломиной шее. — Вот так… Нету больше… Вот так…»
Потом Яшка уехал. Шломо мучительно хотелось курить, но свое курево он забыл в караване. Мало на что надеясь, скорее просто стараясь чем-то себя занять, он огляделся вокруг в поисках огонька сигареты. Увы… Но вот тот человек… Он снова вгляделся в массивную фигуру человека, сидевшего на том же придорожном камне, на котором сидел Яшка, когда они только приехали. Где-то он его уже видел, этого мужика. Вот только где?.. Шломо усиленно ворошил память, но ничего не получалось. Подошел Менахем, и они тронулись в обратный путь.
«Что ты все молчишь, Шломо? — сказал Менахем. — По-моему, ты за все это время ни слова не вымолвил. Нельзя так. Ты говори, неважно что, только говори. Слова, они пар выпускают. Яшка вон, — разрядился на всю катушку. Конечно, глупость он сделал со своей истерикой, но, с другой стороны — даже это лучше, чем твое глухое молчание. Прямо, как могила…»
Шломо кивнул.
«Да ты не кивай, ты говори! — закричал Менахем. — Говори!»
Шломо опять кивнул.
«Вспомнил.» — сказал он твердо.
«Что вспомнил?»
«Да так, одного парня там встретил, все вспомнить не мог, откуда он мне знаком. А теперь вспомнил. Да ты смотри лучше на дорогу, а то и мы накроемся. Хватит смертей на сегодня… А за меня не волнуйся, Менахем, я в порядке.»
Шломо и в самом деле вспомнил. Он действительно знал этого парня; даже, можно сказать, знал превосходно, хотя и не встречались они ни разу в жизни. Это был Бэрл.
* * *
Это был Бэрл. И несомненный этот факт представлялся решительно невероятным. Какое право он имел появиться самостоятельно, независимо от воли Шломо, его создателя? Разве не он, Шломо, определял каждый шаг Бэрла, каждое движение, самый ритм его дыхания? Вопрос этот требовал немедленного прояснения. Тут Шломо возлагал особую надежду на обмен письмами с Благодетелем. Так или иначе, надо было как можно скорее добраться до компьютера. Когда? Он сверился со своим расписанием. Назавтра намечалось несколько свободных часов в середине дня. Вот завтра-то все и выясним, — успокоил он сам себя. — А пока — спать; утро вечера мудренее…
Но сон не шел к нему. Раненное сознание мельтешило, не желая успокаиваться, подсовывало непрошенные образы; дорогие, любимые лица, странно искажаясь, мешались с какими-то незнакомыми, чужими, неприятными физиономиями, и все это крутилось в распухшей голове, то ускоряясь, то замедляясь, как приступы рвоты. Сердце тоже никак не могло найти удобный ему ритм — оно то пускалось вскачь диким невыносимым наметом, то вдруг съезжало на глухую неровную рысцу, пропуская удары, а то и вовсе пропадая на секунду-другую.
Поворочавшись с полчаса, Шломо встал, достал из холодильника бутылку водки, налил стакан и выпил залпом, как воду, наслаждаясь отвратительным вкусом, с каждым глотком возвращавшим его в мир прочной и привычной стабильности. Потом он закурил и распахнул окно. В караван хлынул влажный ночной воздух, густо замешанный на молочном коктейле лунного света. Сердце, смущенное столь массированной атакой, притихло, прикидывая, на что реагировать прежде — на водку, на сигарету или на избыток кислорода… В тревожном лунном мерцании еще мелькали тут и там давешние лица и козьи морды, но все реже, все расплывчатей, все дальше, пока не растворились окончательно в теплом водочном тумане. Шломо удовлетворенно кивнул. Теперь можно было возвращаться в койку. Он посмотрел на небо. Рваные массы облаков наползали на луну; похоже, погода ломалась, завтра снова предстоял хамсин. Пора спать. Он повернулся и в ужасе замер. Сигарета выпала у него изо рта и покатилась по полу, рассыпая искры на грязном линолеуме.
Огромная темная фигура заслоняла вход в его комнатенку.
«Ты бы поднял сигаретку, бижу… — сказал Бэрл. — Нехорошо, так ведь и караван спалить недолго. Этот асбест горит, как спичка. Даже выскочить не успеем.»
Шломо не шевельнулся.
«Экий столбняк на тебя напал, — ухмыльнулся Бэрл. — Ты уж извини, что я — без стука. К тому же ты и дверь не запираешь, так что удивляться нежданным гостям не приходится.»
Он сделал мягкий неслышный шаг, поднял сигарету и аккуратно загасил ее в раковине.
«Только не зажигай свет, бижу. Нам ведь и так светло, правда?»
«Правда… — дар речи медленно возвращался к Шломо. — И прекрати называть меня этим словом, жлоб.»
«Ладно, не буду, — с готовностью согласился Бэрл. — Ты — Шломо, так? Шломо Бельский. А я — Михаэль. Будем знакомы.» Он протянул руку.
«Слушай ты, жлобина, — Шломо цедил каждое слово. — Яйца ты будешь крутить хромой сестре своей прабабушки, когда они у нее вырастут. Михаэль… Фу-ты ну-ты… Зовут тебя Бэрл, ты проживаешь в Иерусалиме, в Гило, на улице Шамир и ездишь на понтовом кабриолете БМВ. А кроме того, я знаю о тебе все, включая количество родинок на твоей нахальной заднице. Так что прекрати разыгрывать агента 007 и переходи прямо к делу. Как ты здесь оказался и кто тебя послал?»
Бэрл выглядел озадаченным. Он несколько раз прошелся взад-вперед по комнате, затем взглянул на часы.
«О'кей, — сказал он наконец и уселся на стул. — Извините меня, Шломо. Я не понимаю, почему меня не информировали о степени вашей посвященности. Но, видимо, на это были определенные причины. Во всяком случае, моей вины в этом нет, что делает ваш гнев совершенно неуместным. Уж кто-кто, но вы должны понимать, что я всего лишь выполняю свои обязанности. Не более того.»
И в самом деле, — подумал Шломо. — Он-то тут при чем? Что это я на него бочку качу? Он ведь всего-навсего курьер, чернорабочий, посыльный на побегушках…
«Вы правы, Бэрл, — сказал он вслух. — Извините меня за неоправданную агрессию. Конечно же, вы ни в чем не виноваты. Продолжайте.»
«Ну и слава Богу, — облегченно вздохнул Бэрл. — Согласно Протоколу, я должен показать вам кое-что. Мы выходим минут через десять. Оденьтесь во все темное; обувь — что-нибудь помягче.»
«Куда мы идем?»
«Это тут, недалеко. Не спрашивайте, сами все увидите.»
Они вышли из каравана. Луна то скрывалась в медленно копошащихся облаках, набрасывая на гору непроницаемое черное покрывало, то высовывалась в рваные прорехи, серебря их по краям и выхватывая из мрака горстку караванов, драный проволочный забор, комья кустарника, окаймляющие каменистый провал оврага. Шли в темноте, пережидая редкие светлые моменты, как бы играя с луною в прятки. На юго-западной окраине поселения остановились.
«Смотри, — сказал Бэрл, снова переходя на «ты». — Видишь тот распадок?»
«Конечно, — ответил Шломо. — Я к нему уже несколько ночей присматриваюсь. Один раз даже чуть не всполошил тут весь сектор — показалось, что кто-то там мелькает. Блики какие-то…»
«Блики, блики… — передразнил его Бэрл. — Ты уж меня извини, но с такими сторожами, как вы, нужно спать в стальном сейфе. И то не поможет — украдут… Вас ведь пасут, дураков. Там ведь, что ни ночь, араб лежит, а то и двое, смотрят на вас в бинокль… а то и в оптический прицел. Вот тебе и блики…»
«Откуда ты знаешь?»
«Видел. А скоро и ты увидишь. Давай-ка сюда, к стеночке. Слышишь — твой приятель шкандыбает. Тоже — «сторож»… прости Господи… Ты только посмотри на него… опупеть можно.»
Теперь и Шломо услыхал шаги одного из своих сменщиков. Эрез, резервист лет пятидесяти, медленно шел по патрульной тропинке. Автомат нелепо болтался у него за спиною на чересчур длинном ремне. В руке Эрез держал портативный радиоприемник; даже с расстояния в пару десятков метров можно было разобрать звуки программы «Ночные птицы. Беседы с радиослушателями.» Загребая ногами гравий тропинки, Эрез прошел мимо и скрылся за поворотом.
«Ну, что скажешь? — возмущенно прошипел Бэрл у него над ухом. — В двухстах шагах от него лежит террорист, а этот хмырь даже по сторонам не смотрит. Ночная птица… Куда такие птицы годятся? Даже на суп не пустишь по причине преклонного возраста.»
Шломо пристыженно молчал. Сам он немногим отличался от Эреза.
«А что ты предлагаешь? — сердито спросил он. — Ставить вместо нас элитных коммандос?»
Но Бэрл уже сменил тему.
«Теперь слушай меня внимательно, Шломо. У нас есть примерно полчаса, пока эта развалина закончит свой круг. Хватит за глаза и за уши. Мы сейчас берем немного вправо и спускаемся туда, вон к тому камню. Главное запомни: ты идешь за мною, шаг в шаг, то есть делаешь в точности то же, что и я. Я пойду не быстро, так что успеешь без проблем. Понятно?»
«Нет. Ты так и не объяснил мне, какая у нас задача. С камнем я понял, а что потом?»
«Как это что? — удивился Бэрл. — Ну ты даешь… Снимем его потихоньку, заберем оружие и вернемся. Сам-то он нам ни к чему, а вот автомату его цены нет. Ладно, хватит базарить, пошли… значит, шаг в шаг…»
Они взяли в сторону и вышли на патрульную тропинку несколько западнее. Забор в этом месте был повален; Бэрл вытащил из кустов широкую доску и положил ее на кольца колючей проволоки. Еще пара секунд, и они уже спускались по склону вглубь вади, обходя справа злосчастный распадок. Шломо не испытывал никакого страха. Его вера в способности Бэрла была поистине беспредельной. Гм… Честно говоря, это было довольно таки странно, учитывая, что он сам же эти способности и изобрел… Но времени на раздумья не оставалось; он шел за своим ловким и бесшумным первым номером, всецело поглощенный задачей наступать на те же самые камни, хвататься за те же самые ветки, совершать те же самые экономные, уверенные движения. Через некоторое время Бэрл остановился. По его знаку Шломо присел под большой глыбой песчаника.
Он узнал эту глыбу; она стояла на краю распадка, именно с другой ее стороны видел он те позавчерашние подозрительные блики. Бэрл наклонился к его уху. «Сейчас мы с тобою поменяемся местами. Сделаешь еще полшага и выглядывай из-за камня. Он лежит с другой стороны, ногами к нам; увидишь его ботинки слева, в одном шаге от тебя. Давай.»
Взявшись за руки, они бесшумно поменялись местами. Шломо осторожно выглянул из-за глыбы. В шаге от него, лицом вниз, неподвижно лежал человек. Судя по всему, он спал, положив голову на руки. Рядом угадывались автомат М-16, бинокль и еще что-то, возможно, прибор ночного видения.
Шломо сделал шаг назад и поманил Бэрла.
«По-моему, он спит.»
«Конечно, спит, — прошептал Бэрл. — Какова дичь, таков и охотник. Уж не знаю, в чем цель этого наблюдения, только большую часть ночи они дрыхнут без задних ног. Часика через два он рассчитывает проснуться и отправиться восвояси. Не думаю, что это у него получится.»
«Как ты будешь его убирать?»
«Я? Я? — бэрлов шепот выражал крайнюю степень удивления. — Если бы я собирался его убирать, то, поверь мне, я сделал бы это давным давно; во всяком случае, для этого мне не требовалось тащить сюда тебя со всеми этими ухищрениями… Его должен убить ты, Шломо. Ты. Вот этой самой штукой.»
Он опустил руку к голени и вытащил короткий трехгранный стилет с небольшим шариком вместо рукоятки.
Шломо покачал головой.
«Нет. Я не смогу.»
«Сможешь. Он ведь не просто тут ночует. Он пришел убить. Он вчера убил Вилли. Он убил твою семью. Давай без истерик, Шломо.»
Шломо протянул руку и взял стилет. «Как?»
«Во-первых, постарайся быть спокойным — я тебя страхую, так что бояться нечего. Во-вторых, иди осторожно, смотри только под ноги. Подойдешь к нему сбоку и присядешь на корточки на уровне лопаток. Наставишь острие под основание черепа, вот сюда… — Бэрл показал место. — И ударишь сверху, двумя руками. И все. Если ударишь хорошо, клиент умрет мгновенно и безболезненно. Всем бы такую смерть пожелал. Если промажешь, придется ему помучаться. Так что прояви человеколюбие… Йалла, вперед.»
Шломо сделал несколько шагов и присел на корточки сбоку от спящего араба. Он ощущал полное спокойствие; нет, не так… он ощущал себя Бэрлом — вот оно, точное слово! И это незнакомое чувство определенно нравилось ему. Он помедлил — не потому, что боялся совершить убийство, а потому, что желал продлить этот момент полного владения собою, ситуацией и распростертым перед ним врагом. Бэрл тронул его сзади за плечо и показал на часы. Шломо кивнул. Он нацелил острие в заросшую курчавым волосом шею и ударил. Стилет вошел по самую рукоятку; потеряв равновесие, Шломо ткнулся вперед, уперся коленями в тело араба и уловил его короткую предсмертную судорогу, мелкую дрожь конечностей, последнее, бессознательное трепыхание жизни, затухающие сигналы мертвого уже мозга…
Бэрл подхватил его сзади и помог подняться.
«Все. Возвращайся за камень. По дороге вытри руки об его штаны…»
Шломо посмотрел на руки. Они действительно были в крови.
Бэрл обтер рукоятку стилета воротом рубахи убитого. Затем он перевернул тело и быстро обыскал его. Два магазина к автомату… Пистолетик и патроны к нему… С таким арсеналом парень и впрямь мог позволить себе спать спокойно. Бэрл оставил пистолет, забрав только автомат и магазины.
Они вернулись к забору тем же путем.
16
Наутро Шломо проспал свою смену. Такого с ним еще не случалось. Сердитый Менахем, с трудом растолкавший его в половине девятого, отнес случившееся за счет вчерашнего потрясения, вызванного гибелью Вилли, и не стал его особо отчитывать. Наскоро умывшись и находясь еще в полубессознательном состоянии, Шломо поискал кроссовки, не нашел, с отвращением натянул постылые армейские ботинки и, нахлобучив панаму, вышел сторожить. В голове было пусто до гулкости. Он ковылял по патрульной тропинке, щурясь на жаркое хамсинное марево и не глядя по сторонам. Думать решительно не хотелось, как не хочется открывать полученный по почте конверт, в котором не может ничего, кроме плохих, либо очень плохих вестей.
Конверт… Конверт можно отложить; можно запихнуть его куда подальше, даже как бы нечаянно сунуть в мусорное ведро… авось как-нибудь образуется, обойдет стороной… Но знание, которое Шломо носил в себе, оставалось при нем так или иначе, шевелилось в низу живота, поднималось наверх, неудержимое, как приступ тошноты. Сначала он вспомнил о Вилли, и это было ужасно. Вилли, Вилли, еврейский немец…
Есть такое понятие — недвижимость. Это то, что не движется и не двинется никогда, то, что прибито метровыми гвоздями, приковано пудовыми цепями — не оторвать. Это — точка опоры для Архимеда, то, что есть и будет всегда, во веки веков. Так вот, у Иерусалима есть недвижимость в душе любого еврея. Еврейскими душами жив небесный Иерусалим. Ему клянется своею десницею каждый еврейский жених. Его поминают евреи в своих молитвах. Об его камни высекается драгоценная искра вдохновения, живущая в еврейском сердце.
Но сколько их было, немецких евреев, поместивших родную Германию на то заветное место в душе, что по праву принадлежит Святому Городу? Миллионы… Ей, Германии, пели они свои песни, предназначенные Иерусалиму, украденные у него. Ей они отдавали божественное пламя своего таланта, предназначенное Иерусалиму, украденное у него. Ради нее они жертвовали самой своею жизнью, предназначенной для Иерусалима, украденной у него… Стоит ли вспоминать, что они получили взамен… да и много ли заработаешь, торгуя краденым?
И вот теперь — эта странная инверсия, еврейский немец Вилли, как маленький пфенниг, деликатно положенный старой фрау Германией на вторую, пустую чашу весов…О чем думал он в свои последние минуты, какими были последние его слова? Шломо покачал головой. Конечно, Вилли думал о Риве, о детях. А слова… Видимо, посылал их куда подальше, своих убийц; плевал в бородатые их морды, в их шеи, поросшие черным курчавым волосом… И тут в голове у Шломо вдруг рухнула последняя плотина, и все странные, страшные события второй половины прошедшей ночи хлынули в сознание, затопляя его, как наводнение затопляет замершую в ужасе равнину.
Он вспомнил Бэрла, сидящего на придорожном камне, Бэрла в караване, гасящего в раковине шломину сигарету, Бэрла, бесшумно скользящего с камня на камень, Бэрла, вытирающего рукоятку стилета, торчащего из поросшей черным курчавым волосом шеи… Он вспомнил себя, свою неожиданную ловкость, пьянящее чувство контроля, власти; он вспомнил предсмертный трепет зарезанного им человека, и этот трепет отозвался в нем сейчас тяжелым рвотным позывом.
Все это было слишком невероятным, чтобы быть правдой. Скорее всего, это был просто сон; ну конечно, это был сон… он просто заснул тогда, вернувшись с Менахемом и немного поворочавшись в постели; все остальное, вплоть до утра, было всего-навсего порождением его дремлющего, пораженного виллиной смертью сознания. Приведя себя к этому выводу, Шломо испытал осторожное облегчение. Воистину, сон разума рождает чудовищ… Но для полной уверенности надо было кое в чем убедиться. Быстрым шагом он направился к юго-западной границе поселения.
Склон лежал перед ним в иссушающей хамсинной жаре, экономно поджав листья кустарника и выставив навстречу палящим лучам безразличные бока камней, пустой и мирный, как всегда. Распадок и глыба песчаника справа от него тоже выглядели как обычно; над оврагом висела ленивая разморенная тишина, когда даже у мух нет никакого желания жужжать и вообще высовывать хоботок из тени; даже птицы попрятались от безжалостного солнца; все живое, затаившись, ждало вечера, чтобы вдохнуть, наконец, глоток чистого свежего воздуха вместо нынешнего сухого раскаленного выхлопа. Так что можешь успокоиться, Шломо: привиделись тебе ночные твои приключения. Пить меньше надо.
Он уже повернулся, чтобы уходить, и тут сердце его упало. Большая черная ворона с карканьем взлетела из распадка, снизу, и примостилась на глыбе, посовываясь боком туда-сюда, и резко топорща угловатые крылья. Ну и что?.. Подумаешь, ворона… Но тут Шломо вспомнил о кроссовках, которые он искал сегодня утром, да так и не нашел. Там, во сне, Бэрл заставил его выбросить эти же самые кроссовки. Во сне ли? Шломо резко повернулся и направился к воротам. Сон… не сон… как в кино, ей-Богу… Хватит ходить вокруг да около — сейчас он узнает точно, что к чему. Он быстро пересек поселение, вышел за его пределы и спустился по шоссе шагов на двести. Справа, под откосом, в двух километрах по прямой, лежала арабская деревня Мазра-эль-Кабалия; слева поднималась отвесная пятиметровая стенка, поросшая снизу сухим колючим кустарником.
Шломо перепрыгнул через неглубокий кювет. Кустарник доходил ему до пояса. Шломо продирался к стенке сквозь путаницу упрямых веток, хватавших его за одежду, как женщины хватаются за уходящих на войну. Сердце его сильно билось — то ли от волнения, то ли от физического усилия в такую жару; за ушами стучало, пот заливал глаза. Внизу обнаружилась неширокая, заваленная камнями, горизонтальная расщелина. Шломо откинул ногою несколько камней, наклонился и пошарил под стенкой. Автомат был там. Автомат был в точности там, где они его спрятали этой ночью, неучтенный, немеченный, незаконный автомат с двумя полными магазинами.
* * *
Проехав Шилат, он повернул налево, в сторону Бейт-Хорона. Шломо ехал в Иерусалим, в Мерказуху, к компьютеру, к электронной почте, к последней своей надежде хоть как-то прояснить ситуацию, решительно вышедшую из-под контроля. Он просто не знал, как можно расценить необъяснимые события прошедшей ночи. Откуда он взялся здесь, в реальности, этот Бэрл, мифический, литературный персонаж, плод шломиного воображения? Почему он вдруг решил, что может управлять им, своим создателем? Как он сказал тогда в караване?… — «согласно Протоколу».
Протокол! Протокол Сионских Мудрецов… Экая бодяга, экая чушь! Не сам ли Шломо изобрел эти протоколы, этих мудрецов, для своей бэрлиады? Всех этих хаимов и каганов? Какого же черта они всплыли сейчас со своим Протоколом, самостоятельно и без разрешения? Стоп, Шломо, стоп. Если всплыл Бэрл, то нету никакой причины, почему бы не всплыть и прочим деталям «урюпинских рассказов». Кроме того, если уж быть точным до конца, то и сказка о «протоколах сионских мудрецов» изобретена совсем не им. Разве не существовала эта история задолго до него, скользкая, странная фальшивка, написанная так и не установленным автором, неведомо для каких целей?
Написанная так и не установленным автором? Погоди, погоди… Но ведь и шломина бэрлиада — для всех, кроме самого Шломо, — тоже написана неизвестным «кем-то»; ведь согласно договору с Благодетелем, Шломо заранее отказался от авторства и от попыток проследить судьбу своего опуса. Таким образом, текст был обречен на безотцовство с самого рождения… Любопытное сходство… Кстати, откуда вообще возникла у него эта идея — использовать Мудрецов в качестве хозяев и заказчиков Бэрла? Этого Шломо не помнил. Слишком много времени прошло, да и как упомнишь, откуда родился литературный замысел? Возможно, толчком был случайный разговор с приятелем, а то и вовсе с незнакомым человеком; а может, статья в газете, или — подвернувшаяся под руку книжка… Когда б вы знали, из какого сора… В одном Шломо не сомневался: Мудрецы действовали в его «урюпинских рассказах», начиная с самых первых страниц. Как знать, не этим ли и приглянулась шломина бэрлиада Благодетелю?
Сколько вопросов… Все они, конечно, представляли немалый интерес, но выглядели совершенно второстепенными по сравнению с главным, большим вопросом. Как получилось, что Шломо сам, собственной персоной, вляпался в этот непонятный расклад? То, что Бэрл и Мудрецы действуют теперь самостоятельно… — необъяснимо, но еще куда ни шло: мало ли чего есть непонятного на этом свете? Но то, что они вовлекают в свою орбиту самого Шломо, выглядело пугающе, особенно в свете конкретных последствий вчерашней ночи. Почему он, Шломо, так безвольно подчинился им во всем, не задавая лишних вопросов? А может быть, там, в распадке, вместе с Бэрлом, действовал какой-то другой, незнакомый ему Шломо?
Он горько усмехнулся. Зачем себя обманывать… Вы и есть убивец, Родион Романыч… А насчет подчинения… Сам же смеялся вчера, от Эльдада выйдя, над глупой склонностью человека верить во всякие Верховные Планы! Еще как смеялся… Ну как же — сам-то он себя тогда за демиурга держал, за того именно, кто Планы эти пишет! Только вчерашней же ночью превратился грозный демиург в обыкновенную пешку, в послушного статиста в чужом сюжете, почитаемом им до того за собственный…
Если разобраться, то в этой-то подмене и есть корень его возмущения; из-за этого-то вы и переполошились, господин Бельский, — обидно терять иллюзии, вот и все. Но ситуация-то, на самом деле, стара, как мир: каждого «Хозяина Собственной Судьбы» рано или поздно тыкает жизнь мордой в лужу, как нашкодившего кутенка — мол, очнись, парень, может, и есть тут Хозяин, да только не ты! Вот и Родион Романыч, к месту помянутый, тоже думал поначалу, что именно он — автор сюжета, а в итоге кем оказался? Статистом оказался, как и ты, дорогой Шломо. Так что не один ты в этом дерьме сидишь, успокойся и не гони такую волну — захлебнешься.
* * *
Город принял его ласково, виновато заглядывая в глаза, как бы извиняясь за недавнюю ссору. Но можно ли сердиться на Иерусалим? Шломо был рад встрече; он открутил вниз стекла своего драндулета и с наслаждением вдыхал знакомый горьковатый воздух. Не соблазнившись кратчайшим путем, он поехал вокруг, через Университет и Музей Израиля, с удовольствием останавливаясь на каждом светофоре, по-приятельски кивая каждому углу, камню и дереву, радостно вслушиваясь в особое, сдержанное звучание Города. Он возвращался домой.
Старая Мерказуха, как молодая Ярославна на башне, приветливо махала ему навстречу платочками развешанных на просушку простыней, рубашек и прочего нижнего белья. «Шломо… Шломо…» — перешептывались обветшавшие лестницы, шурша подошвами стоптанных шлепанцев.
«Да это же Славик! Эй, Славик!» — это Сеня спешил к нему через улицу от продовольственной лавки. Два огромных пластиковых пакета с миллионом пачек сигарет «Нельсон» болтались по обеим его сторонам, как тюки на вьючном животном. Подбежав к Шломо, Сеня бросил пакеты наземь, отчего несколько Нельсонов высыпались на асфальт, звеня орденами и треуголками. Они обнялись.
«Дай-ка посмотреть на тебя сблизи… — Сеня слегка отодвинулся, все еще держа Шломо за руки. — Худой… черный… здоровый… прямо Лоуренс Аравийский! Все? Вернулся?»
«Да пока нет, Сенечка. Приехал постираться, вещички собрать кое-какие, а заодно и тебя повидать… Как ты тут? Почему без сигареты?»
«Выпала! Была во рту, да как тебя увидел, так рот и раскрыл, не подумавши… Ну, пошли в дом, что ж мы тут стоим…»
Они собрали Нельсонов и пошли в дом. На своей площадке Шломо остановился.
«Сенечка, я сначала сюда, хорошо? Стирку заряжу, то да се… А потом сразу к тебе, ладно? Жди где-то через полчасика.»
Квартира пахла домом. Шломо оставил открытой балконную дверь и распахнул все окна. Старенький компьютер включился не сразу, недоуменно пошумел застоявшимся диском, но в конце концов сменил гнев на милость. Только теперь Шломо вспомнил о том, что счета за телефон вот уже три месяца как неоплачены. Так что шансов попасть в Интернет было немного. На всякий случай он все же щелкнул по иконке. О чудо! Модем проныл свою монгольскую песню и подсоединился. Как же так? Неужели Сеня оплатил счета? Конечно, Сенечка, милый друг… больше некому… Шломо вошел в свой почтовый ящик и начал просматривать почту.
В основном, это был обычный мусор, который он удалял, не читая, ориентируясь на заголовки и имена отправителей: реклама, «выгодные» предложения разного рода, «верные» способы разбогатеть, всевозможные воззвания и прочая белиберда. Было несколько писем с соболезнованиями от друзей, разбежавшихся по всему миру: из России, из Штатов, из Европы. Ребята из «Вестника», отчаявшись связаться с ним по телефону, звали вернуться…
Письмо от Благодетеля было датированно вчерашним числом. Дойдя до этой строчки в списке писем, Шломо чуть-чуть было не стер ее по инерции. Ведь и в самом деле, нечасто баловал его Благодетель своими посланиями; собственно говоря, не баловал вообще. Первое письмо, то самое, начальное, с предложением работы, оставалось пока что единственным, если, конечно, не брать в расчет регулярные денежные переводы. И вот… Шломо смотрел на строчку, не решаясь щелкнуть по ней, чтобы раскрыть письмо. Он встал, закурил и прошелся по комнате. Надо же… причем именно вчера, в точности когда началась вся эта чертовщина!
Шломо подождал, пока голова начала кружиться от чересчур жадных затяжек, и открыл письмо. Там стояло:
Уважаемый автор! Настоящим извещаем Вас об окончании наших договорных отношений. Примите наши наилучшие пожелания.
И все. Шломо перечитал письмо несколько раз, но, как ни читай, оно не содержало ничего, кроме трех нейтральных предложений. Никаких тебе объяснений, ничего, даже подписи никакой… Как поленом по морде. Уж хоть бы обратились по-человечески… Шломо… господин Бельский… как-нибудь… все-таки столько месяцев переписки, столько труда, столько текстов! «Уважаемый автор»! Вот же суки!
Шломо возмущенно щелкнул по клавише «Ответ». Он писал, исправляя, стирая и мучаясь над каждым словом.
Уважаемые господа!
Принимая во внимание длительность и безупречный характер наших отношений, я не думаю, что заслужил столь пренебрежительное отношение к моей скромной персоне. Вы не заинтересованы более в моих услугах, и я ни в коей мере не оспариваю ваше несомненное право на это. В то же время я полагаю, что мой понятный интерес к прошлому и будущему использованию моих текстов является также вполне легитимным. Памятуя условия нашего договора, я не настаиваю на детальном описании. Но вы и не можете оставлять меня в полном неведении.
Меня вполне удовлетворят несколько общих намеков. К примеру: «Ваши тексты печатались в газете». При этом вы можете не указывать, где и в какой газете. Либо: «Ваши тексты не предполагались быть напечатанными. Они призваны служить учебным пособием для начинающих писателей, как типичный образец бездарной бульварной литературы.» И так далее. Я не думаю, что моя просьба чрезмерна. Нет нужды говорить, что я обязуюсь хранить ваш ответ в секрете, в полном соответствии с условиями нашего договора, в точности так, как я действовал по сей день.
С глубоким уважением,
Шломо Бельский.Он отослал письмо, откинулся на спинку стула и закурил новую сигарету. Вот так. Коротко и с достоинством. А то что же — утереться и забыть? Ну уж нет. Интересно, что они ответят, бобики паршивые? И когда?.. Придется теперь время от времени заскакивать к Менахему — просматривать почтовый ящик. Шломо прошел в ванную и начал возиться со стиральной машиной. Компьютер звякнул, сигнализируя о получении нового сообщения. Что такое? Шломо вернулся в комнату. Почтовый сервер извещал о том, что не может доставить его письмо по причине отсутствия адресата. Указанный адрес неизвестен. Шломо обессиленно опустился на стул. Просить Менахема не придется; кем бы ни был неизвестный Благодетель, его прежний почтовый ящик более не существовал.
17
Распрощавшись с Сеней, Шломо собрался и сел в машину, намереваясь вернуться в Тальмон. Он спустился с Гиловской горы, миновал Малху и свернул на проспект Бегина. Ехал медленно, по крайнему ряду, в глубокой задумчивости ни о чем, не прислушиваясь к ночному бормотанию радио. Видимо поэтому он зазевался и свалился с шоссе направо вместо того, чтобы продолжить прямо, в сторону Рамота. В этом еще не было ничего страшного, если бы ближний объезд не перекрыли, как назло, из-за ночных дорожных работ. Досадуя на свою неловкость, Шломо поехал по большому кругу.
На перекрестке с Бен Цви надо было поворачивать налево, но зеленый светил прямо, и Шломо совершенно неожиданно для самого себя последовал воле светофора, продолжив вперед, на Рамбам, в Рехавию. Странное дело — хотя до того все его действия выглядели случайными, на узких улочках Рехавии он вдруг начал осознавать, что существует некая вполне определенная цель его нынешних блужданий. Делая правый поворот на Керен Кайемет, Шломо уже более или менее знал, куда ему.
Он припарковался почти под самой мельницей и прошел на смотровую площадку. День был труден, и он устал. Освещенные множеством прожекторов стены Золотого Иерусалима возвышались напротив. Справа светилась гора Сион. Спустившись от мельницы по блестящей в свете фонарей лестнице, он повернул налево и позвонил около одной из дверей. «Открыто!» — раздался скрипучий голос. Шломо толкнул дверь и вошел.
В большой комнате было прохладно. Книжные стеллажи до потолка окаймляли ее с трех сторон. Четвертая стена представляла собою огромное окно, обращенное к Сионской горе. Тяжелые портьеры были раздвинуты, и Гора сияла во всем великолепии ночной подсветки. Посреди комнаты возвышался огромный резной стол темного дерева; несколько жестких стульев с высокими спинками и два тяжелых кресла дополняли меблировку.
«Проходите, Шломо, садитесь, — произнес сидящий за столом старик, указывая в сторону кресел. — Я сейчас освобожусь. Минутку…»
Он с видимым раздражением тыкал указательным пальцем в клавиатуру своего ноутбука: «Черт бы побрал эти компьютеры! Вечно не хочешь, да нажмешь что-нибудь не то… Вы знаете, Шломо, это просто выводит меня из равновесия. Помните, были времена старых добрых пишущих машинок? Они, по крайней мере, не нуждались в перезапусках по десять раз на дню… Перезапуск! Слово-то какое изобрели…»
Старик был одет в теплый клетчатый домашний пиджак и байковые бесформенные брюки на подтяжках. Высокий, худой, костлявый, с тонкими угловатыми руками, огромным крючковатым носом и длинными седыми прядями, зачесанными назад с высокого лысого лба, он походил на старую птицу-секретаря.
«Позвольте? — сказал Шломо, подходя к столу. — Я в этом кое-что понимаю.»
«Пожалуйста, пожалуйста…» — Гавриэль Каган с готовностью отодвинулся.
Шломо начал щелкать мышкой, пытаясь вывести из ступора почтовую программу хозяина. Вроде бы после вчерашней ночи удивляться было уже нечему, и, тем не менее, он не мог отделаться от чувства нереальности происходящего. Он видел себя со стороны, как в кино, сидящим в доме им же придуманного персонажа, в то время как литературный его герой, во плоти и крови, нетерпеливо дышит ему в затылок. Ну не чертовщина ли? Шломо усмехнулся.
«Наверное, надо перезапускать,» — последовал робкий совет сзади.
«Не стойте над душой, Габи. Это займет еще минуту-другую. В общем, вы сами виноваты — не надо было давить на все клавиши подряд. В вашем возрасте следовало бы быть намного терпеливее.»
Старик раздраженно хмыкнул. «Молодой человек, я был бы вам очень обязан, если бы вы называли меня Гавриэль. Наше недолгое заочное знакомство еще не дает вам права…»
Шломо расхохотался. «Недолгое?.. заочное?..» Ну и наглец! Это он мне, своему создателю, папаше, можно сказать…
Он набрал в грудь воздуха, намереваясь выложить нахальному старикану все, что он о нем думает, да так и застыл с приоткрытым ртом, глядя на монитор выпученными от изумления глазами. Компьютер, высвободившись наконец от длинного ряда противоречивых команд, взмахнул длинной гривой закрывающихся окон и, прогнав по экрану несколько невнятных текстов, остановился на одной из входных папок почтовой программы. Папка именовалась «Шломо Бельский» и содержала — строчка за строчкой — все главы шломиной «бэрлиады», расставленные в хронологическом порядке, с первой по последнюю.
«Эй, Шломо! Что с вами? — Каган осторожно потряс его за плечо. — Что случилось? — он взглянул на экран. — В чем дело? Чего-нибудь не хватает?»
«Вы… вы… — выдавил из себя Шломо. — Вы были получателем текстов?»
«Ну конечно. Я думал, вы сами догадались, оттого и пришли. — Каган пожал плечами. Суставы сухо щелкнули. — А что же, по-вашему, я имел в виду, говоря о нашем заочном знакомстве, если не эту переписку? Кроме этого мы с вами, вроде бы, не имели случая встретиться.»
«Где тут у вас туалет?» — спросил Шломо. Он вдруг ощутил острую потребность сунуть голову под струю холодной воды.
Когда Шломо вернулся в комнату, старик уже снова сидел за столом, по-птичьи выцеливая клавиши ноутбука.
«Послушайте, Шломо, — сказал он, не поднимая головы. — Я вынужден просить вас перейти к делу. Мое время, увы, сильно ограничено. Вы ведь хотели что-то выяснить, не так ли?»
«Хотел — не то слово, — хмыкнул Шломо, усаживаясь в кресло. — Давайте начнем с текстов. Как я сейчас понимаю, они с самого начала не предназначались для публикации?»
Каган пожал плечами.
«Отчего же? Конечно, правильнее назвать применение ваших текстов реализацией. Мы их, скажем так, претворяли в жизнь. Но это ведь тоже, в определенном смысле, — публикация… Как автору, вам жаловаться не на что.»
«Хорошо. Тогда объясните для начала: почему вы использовали именно меня? Не могли найти кого-нибудь получше? Зачем вам эта бульварщина, эти пошлые шпионские страсти, всемирный заговор и прочая белиберда? Это ведь так низкопробно… Ну ладно — я… я и писал-то эту бодягу для Урюпинска, долларов ради. Но вы-то про какой-то План с большой буквы толкуете.»
Старик рассмеялся.
«Зря вы так недооцениваете Урюпинск, Шломо. Вы, возможно, полагаете, что истинная реальность отображается Толстым или Фолкнером. Ошибка, молодой человек. Реальность — это именно Урюпинск. Жизнь намного ближе к бульварному роману, чем к «Войне и Миру». Она проста до невозможности. Люди действуют согласно элементарным схемам, причем вариантов — раз, два и обчелся. Так что ваши упражнения нас вполне устраивали. До поры до времени.»
«До поры до времени? Когда же я перестал вас устраивать?»
«Э-э-э, так не пойдет, Шломо. Вы же знаете ответ; не делайте наш разговор скучным.»
«Я перестал вам подходить, когда превратился в участника, — сказал Шломо. — Когда уже не мог больше производить бульварщину. Так?»
Каган кивнул. Они помолчали.
«Как хотите, Гавриэль, но все это выглядит совершенной фантасмагорией. Получается, что вы пишете мировую историю руками рядовых, случайных людей. При всем роскошном демократизме данного подхода, он выглядит невозможным на практике. Судите сами — реальные события непрерывны, следуют одно за другим сообразно определенной логике. А у вас? К примеру, вот меня вы уволили без выходного пособия. А есть ли у вас гарантия, что ваш следующий, случайный литературный негр продолжит начатую мной линию точно с того же места, где я ее оборвал?»
Шломо развел руками. «Нет у вас такой гарантии, и быть не может. Это во-первых. Во-вторых, как можно полагаться на свободную волю случайного борзописца? Он ведь вас по своей прихоти в такие дебри завести может… Как же тогда План? Или нет его вовсе?»
Мудрец презрительно фыркнул. «Что за чушь вы несете… Вы знаете Шломо, этот вопиющий набор глупостей говорит о том, что мы рановато с вами расстались. Вы мне еще лекцию по диалектическому материализму прочитайте, для полного комплекта. Какая свобода воли? О ком вы это, о себе? Перечитайте-ка сотворенный вами шедевр: сплошные штампы, избитая пошлятина, сотни раз читанные перепевы… Свобода!.. Вон там, в прихожей, зеркало висит, сходите туда, посмотрите на себя, чтобы в чувство придти. Вы же из заранее проложенных желобков ни разу не выскакивали — ни в жизни, ни, тем более, в писаниях ваших! Свобода воли!.. Фу-ты ну-ты…»
Каган издевательски покрутил кистями рук. «Поверьте мне, дорогой мой писатель, в неизведанные дебри вам никого не завести. Прежде всего потому, что нет туда тропинок, а вы ведь без тропинок — никуда. Так что прихотей творца, как вы изволили выразиться, опасаться не приходится. А за План не беспокойтесь. Откуда ж, по-вашему, все эти тропинки с желобками взялись?»
«Это во-вторых, — насмешливо продолжил он, передразнивая шломину интонацию. — А во-первых, не надо так волноваться за столь дорогую вашему сердцу непрерывность истории. Ваш преемник пишет на удивление похоже. Как и все ваши предшественники. Желобки-то те же… Есть, конечно, мелкие нестыковки, но кому они мешают? Главное, чтобы План не страдал. А что именно произойдет в дальнейшем с вашей несчастной сексапильной студенткой… кого это волнует?»
«Меня волнует, — твердо сказал Шломо. — Меня волнует. Такой уж я банальный дуболом, дешевка базарная, грош за пучок. Вы уж, ваше высоколобое величество, извините меня, букашку несмышленую. Где уж мне понять ваших Планов громадье? Ваших помыслов шаги саженьи? Одна у меня просьба нижайшая к вашему благородию — не давите шагами этими меня, червя недостойного, во прахе пресмыкающегося. Мне, дураку, лишь бы пожрать, да выпить — и вся недолга… но жить, тем не менее, хочется. И другой букашке я тоже сочувствую — что делать, по одной тропинке ползаем, по одному желобку, как вы справедливо заметили. Так что волнует меня дальнейшая судьба несчастной сексапильной студентки, которую зовут, между прочим, Дафна; да, как видите, и имя у нее имеется — вот ведь какая деталь несущественная…»
«Прекратите этот балаган, — прервал его старик. — Обидеться изволили? Только при чем тут я, уважаемый? Я, что ли, ее убивал? Я, не вы? Кто ее, по-вашему, раздавил, эту букашку? Вы и раздавили. Вы и есть убивец, Вячеслав Ефимович. Так что оставьте, пожалуйста, вашу истерику.»
«Как вы можете меня обвинять? — закричал Шломо. — Разве я знал, что речь идет о живых людях? Разве я знал, что все это — взаправду?..» Он осекся и замолчал.
Каган печально покачал головой.
«Конечно, не знали, — мягко сказал он. — Только вряд ли это вас утешит. Видите ли, Шломо, вас с детства учили, что слова — шелуха, в лучшем случае описывающая реальность, а в худшем — искажающая ее. Но это не так. Слова — это и есть наша реальность. Реальностью называется то, что названо, не более того. Вещи и предметы начали свое отдельное существование с того момента, как Адам дал им первые имена. Так и вы — дали имя своей Дафне, дали ей имя и пустили жить, как рыбу в аквариум. Впрочем, этим ваша ответственность и ограничивается. Дальше от вас мало что зависело: помните? — желобок…»
Шломо кивнул. Его слегка мутило, хотелось на свежий воздух.
«Идите, — сказал Мудрец. — Мне надо работать. Приходите на следующей неделе.»
Шломо вышел в иерусалимскую ночь.
18
«…в иерусалимскую ночь.» Вот ведь закрутил! N. удовлетворенно прищелкнул языком и закрыл крышку ноутбука. Всего месяц он связан с таинственным работодателем, а уже послал ему несколько вполне объемистых посланий. И, соответственно, получил свои несколько сотен евро за каждую посылку. Но разве только в деньгах дело? Он работал больше за интерес; его самого отчаянно занимала эта история, невесть как зародившаяся у него в голове и теперь регулярно выплескивающая свои невероятные события на белый лист компьютерного экрана. Видимо, это и называется вдохновением — когда пишется как бы само по себе, когда не надо вымучивать события, придумывать людей, строить сложные планы.
Поначалу он еще придерживался всех этих глупостей классического писательства, как положено, по сорбоннскому учебнику. Сюжетная линия… прорисовка персонажа… речевая характеристика… Но тщательно расчерченные в блокноте схемы немедленно разлетались на куски уже на втором абзаце. Герои повествования, стоило им только открыть рот, начинали нести полную отсебятину, не имевшую совершенно никакого отношения к заранее заготовленным текстам. И ведь, что интересно, получалось совсем неплохо… Так что теперь N. садился за клавиатуру, не имея ни малейшего понятия, куда именно заведет его сюжет.
В этом-то и заключалась вся прелесть ситуации. Конечно, у него и в мыслях не возникало никаких претензий на литературную славу. Да и можно ли было назвать это сочинительством, принимая во внимание странный, почти медиумный характер всего процесса? N. предпочитал видеть в себе не писателя, а, скорее, первого читателя некоего захватывающего триллера. Если за это еще и деньги платят, то надо быть полным болваном, чтобы отказаться. К тому же и гордиться, в чисто литературном отношении, было особенно нечем. По совести говоря, получалась-то чушь собачья, однодневка, низкопробная беллетристика; хорошо ли серьезному человеку ставить свое имя под такой белибердой? Гонкуровскую премию за это определенно не дадут.
Слава Богу, из природной осторожности он скрыл с самого начала свое имя под нарочито нейтральным псевдонимом N. Хотя никто не может поручиться, что тексты печатаются именно под этим псевдонимом. Да и печатаются ли вообще? И если да, то — где? Условиями договора ему запрещалось интересоваться подобными вопросами. Ну и ладно… какая разница? Небось, тискают где-нибудь на Мартинике в местной воскресной газетенке. Тема все-таки модная во все времена, как стройные ноги, — зловещий заговор, власть над миром, таинственные протоколы сионских мудрецов… Такое всегда продается.
Надо бы, конечно, как-нибудь и самому в Израиль выбраться; не все же газетами да Интернетом пробавляться. Однажды он там уже был, в сохнутовской поездке для старшеклассников, но, по молодости лет, не запомнил ничего, кроме одуряющей жары и вулканического кибуцного траханья. Сейчас бы самое время обновить впечатления. Не то, чтобы была в этом какая-то производственная необходимость — для Мартиники и так сойдет… просто самому интересно — осмотреть, наконец, виденные только на карте места.
Ведь сюжет еще только завязывается… Скажем, Нидаль может вернуться из тюрьмы, освобожденный, допустим, за согласие сотрудничать с ШАБАКом. Зачем его возвращать? Ну как же — надо ведь как-то пускать в ход припрятанный на Хореше автомат, а иначе — что он там попусту в расщелине ржавеет? А дальше? То есть, Нидаля мы, конечно, оприходуем, но что Нидаль — мелкая птица… А может, оставить Бэрла стрелять, а Шломо перевести в Мудрецы? Ведь, если разобраться, то в Мудрецы ему сейчас самая дорога: один, без семьи, никаких обязательств ни перед кем… разве что Сеня… ну да от Сени можно как-нибудь избавиться, не проблема…
Жена позвала его из столовой. Время было выходить к обеду.


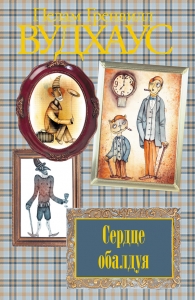
Комментарии к книге «Протоколы Сионских Мудрецов», Алекс Тарн
Всего 0 комментариев