ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
I
Стихам, собранным в этой книге, — восемьсот, девятьсот, а то и тысяча лет: средневековая древность, глубокая старина.
Написанные в основном на латинском и средневерхненемецком языках, они способны ожить только в переводе: единственный шанс, которым располагает литературный памятник. Архитектура, живопись. пластическое искусство находятся в более выгодном положении: парижский «Notre Dame» или барельефы Наумбургского собора не нуждаются в посредничестве. Раз и навсегда созданные, они воздействуют сами по себе и не терпят ни осовременивания, ни чьего-либо «творческого переосмысления».
Тем труднее переводчику, который видит свою задачу в том, чтобы выступить здесь не только в роли реставратора, но и своеобразным посредником между эпохами. Восстанавливая давно отзвучавшие голоса, облекая в плоть смутные тени, затерянные в сумраке средневековья, он обязан приблизить их к нашим дням, протянуть им через века свою руку и «преобразить», как сказал бы Вильгельм Гумбольдт, их «мир» в «собственность духа».
В данном случае это особенно важно, если учесть, что перед нами поэзия, олицетворяющая как бы непреходящую молодость мятежного человеческого духа, поэзия чрезвычайно полнокровная, звонкая, близкая нам по своей внутренней сути.
Речь идет о лирике вагантов, бродячих школяров и безместных кочующих монахов — пестрой толпе, оглашавшей своими песнями средневековую Европу. Само слово «ваганты» происходит от латинского «vagari» — бродяжничать. В литературе встречается и другой термин — «голиарды», производное от «Goliath» (здесь: дьявол) и от «gula» — глотка: бродячие дьяволы с широкой глоткой, горлопаны, выпивохи, обжоры, неугомонные проповедники мирских радостей.
Конечно, — и мы увидим это в нашей книге, — лирика вагантов отнюдь не сводилась лишь к воспеванию кабацкого разгула и любовных утех, несмотря на всю школярскую браваду, заложенную во многих стихах. Те самые поэты, которые столь бесшабашно призывали отбросить «хлам пыльных книжек», вырваться из пыли библиотек и отказаться от учения во имя Венеры и Бахуса, были образованнейшими людьми своего времени, сохранившими живую связь с античностью и возросшими на новейших достижениях философской мысли.
В своем творчестве ваганты касались серьезнейших нравственных, религиозных и политических проблем, подвергая дерзким нападкам государство и церковь, всевластие денег и попрание человеческого достоинства, догматизм и косность. Протест против существующего миропорядка, сопротивление авторитету церкви в равной мере предполагали отказ от обескровленной книжности, из которой выпарена, выхолощена живая жизнь, и радостное приятие жизни, озаренной светом знания. Культ чувства неотделим у них от культа мысли, подвергавшей все явления умственному контролю, строгой проверке опытом.
Нельзя принимать на веру ни одного положения, не проверив его с помощью разума; вера, приобретенная без содействия умственной силы, недостойна свободной личности. Эти тезисы парижского «магистра наук», великого страдальца Петра Абеляра, были широко подхвачены вагантами: они читали и переписывали его сочинения и распространяли их по всей Европе, противопоставляя церковному «верую, чтоб понимать» противоположную формулу — «понимаю, чтоб верить».
Вот почему не выдерживает никакой критики та точка зрения, которая низводит вагантов до уровня неких бродяг, якобы исповедовавших и проповедовавших религию невежества и распутства. Именно к такого рода поклепам не раз прибегала церковь, объявляя вагантов зловещей еретической сектой, проклятыми богом и людьми «асоциальными» париями.
«Нет у тебя ничего, — гласила одна из церковных инвектив, предававшая анафеме очередного поэта-ваганта, — ни поля, ни коня, ни денег, ни пищи. Годы проходят для тебя, не принося урожая. Ты враг, ты дьявол. Ты медлителен и ленив. Холодный суровый ветер треплет тебя. Проходит безрадостно твоя юность. Я обхожу молчанием твои пороки — душевные и телесные. Не дают тебе приюта ни город, ни деревня, ни дупло бука, ни морской берег, ни простор моря. Скиталец, ты бродишь по свету, пятнистый, точно леопард. И колючий ты, словно бесплодный чертополох. Без руля устремляется всюду твоя злая песня… Замкни уста и перестань угождать лестью недостойным. Умолкни с миром! Да не вредит никому твоя лира!»
Ваганты отвечали на подобные обвинения дружным хохотом, издевательскими пародиями на церковные нравоучения, выдвигая в качестве этического критерия «законы естества», сопряженные с полнейшим раскрепощением чувства и разума, ибо
жизнь на свете хороша, коль душа свободна, а свободная душа господу угодна…II
Первые, дошедшие до нас сборники школярской лирики — «Кембриджская рукопись» — «Carmina Cantabrigensia» (XI в.) — и «Carmina Burana» из монастыря Бенедиктбейерн в Баварии (XIII в.). Оба эти песенника, очевидно, немецкого происхождения, во всяком случае тесно связаны с Германией, хотя национальную принадлежность вагантов, кочевавших из страны в страну, определить достаточно трудно, а мотивы и сюжеты их песен имели всеевропейское распространение.
Так или иначе лирика вагантов относится к первым страницам немецкой поэзии: персонажами многих кембриджских песен оказались швабы, а само прозвище одного из создателей «Carmina Burana» — «Архипиит Кёльнский», чья «Исповедь» была своего рода манифестом кочующего студенчества, вызывает в памяти образ неповторимого рейнского города.
Это настраивало переводчика книги на «немецкий лад», на раскрытие даже в латинских стихах (не говоря уже о средне-верхненемецких) «германской субстанции», чему в известной мере способствовало знакомство с переложением «Carmina Burana» на современный немецкий язык, сделанным в XIX в. известным ученым и поэтом Людвигом Лайстнером, фактическим первооткрывателем лирики вагантов. Лайстнеру удивительно удалось преодолеть языковый барьер, извлечь немецкое народное начало из латинской оболочки и тем самым сблизить эти стихи с песнями и шпрухами немецкого средневековья. Вместе с тем любовная лирика вагантов частично предвосхищает, частично смыкается с лирикой немецких «певцов любви» — миннезингеров, да и некоторые из миннезингеров по существу были вагантами. Стоит вспомнить, например, знаменитого Тангейзера, чья бурная жизнь сделала его фигурой почти легендарной: участие в крестовых походах, Кипр, Армения, Антиохия, служба в Вене при дворе Фридриха II, столкновение с папой Урбаном IV, бегство, громкая слава и горькая нужда после того, как он, по собственному признанию, «проел и прозаложил свое имение», так как ему «очень дорого стоили красивые женщины, хорошее вино, вкусные блюда и дважды в неделю баня», нищенские скитания, когда «домохозяева больше радовались его уходу, чем приходу», и плясовые песни, посвященные «верной Кунигунде», — недаром народная молва сделала Тангейзера возлюбленным и пленником самой Венеры…
Примечательно, что многие современные авторитеты, такие, как выдающийся знаток поэзии вагантов Карл Лангош, настойчиво подчеркивают разницу между вагантами и странствующими певцами-скоморохами «шпильманами».
«Для шпильманов, — пишет Лангош, — развлечение публики стало профессией. Они выступали при дворах светской и духовной знати и на народных гуляньях в качестве акробатов и артистов, музыкантов и фокусников и стояли вне церковно-государственной структуры средневековья: лишенные сословия, прав, презираемые, отверженные. Этим они в корне отличались от вагантов, которые были прямым порождением и принадлежностью средневекового общества… Ваганты были образованнее шпильманов и смотрели на них свысока. Они не подвизались в низком жанре и зачастую в пику шпильманам выступали со стихами собственного сочинения»[1].
Впрочем, вагантами принято порой именовать поэтов-скитальцев вообще, кочевников, предпочитавших оседлости странствия по градам и весям.
Так, сравнительно недавно в Штутгарте вышла книга «Небо и ад странствующих. Поэзия великих вагантов всех времен и народов», составленная Мартином Лёпельманом. В свою книгу Лёпельман наряду с собственно вагантами включил кельтских бардов и германских скальдов, наших гусляров, а также Гомера, Анакреона, Архилоха, Вальтера фон дер Фогельвейде, Франсуа Вийона, Сервантеса, Саади, Ли Бо — вплоть до Верлена, Артюра Рембо и Рингельнатца. Среди «песен вагантов» мы находим и наши, русские, переведенные на немецкий язык: «Seht ьber Mutter Wolga jagen die kьhne Trojka schneebestaubt» — «Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой», «Fuhr einst zum Jahrmarkt ein Kaufmann kьhn» — «Ехал на ярмарку ухарь-купец» и др. Основными признаками поэзии «кочующих» Лёпельман считает «детскую наивность и музыкальность» и непреодолимую тягу к странствиям, возникшую прежде всего из «чувства гнетущей тесноты, которое делает невыносимыми путы оседлой жизни», из чувства «безграничного презрения ко всем ограничениям и канонам житейской упорядоченности»[2].
Разумеется, все это звучит чересчур расплывчато и неопределенно с историко-литературной точки зрения, и все же лирика средневековых вагантов, безусловно, имеет своих духовных родственников во времени и в пространстве и содержит ряд элементов, которые впитала в себя поэзия более поздних эпох.
Ближайшими «соседями» вагантов были миннезингеры, из школярской поэзии вырос Франсуа Вийон, некоторые немецкие шванки представляют собой обработку или переложение песен из «Carmina Burana» и «Кембриджской рукописи».
Однако поэзия вагантов вышла далеко за пределы средневековой литературы: ее ритмы, мелодии, настроения, тот «дух бродяжий», о котором писал наш Есенин, прижились в мировой поэзии, сделались ее неотъемлемой частью.
Всякая великая литература связана с мечтой о свободе, свободой одухотворена, свободой вскормлена. Никогда не существовало поэзии рабства, которая служила бы тюрьмам, кострам и бичам, воспевала бы неволю как высшую добродетель, несмотря на все усилия пишущих наемников выдать себя за поэтов. Антилитература, не оставив никакого следа в эстетическом развитии человечества, сохранилась в архивах лишь в качестве документа, обвиняющего ее исполнителей и заказчиков. Даже в самые мрачные времена поэтическое слово помогало человеку осознать себя как личность, понять свое назначение и место в жизни.
Прямым доказательством этому служат стихи и песни вагантов, которые продолжали страшить реакцию на протяжении долгих столетий. Не случайно, что в монастыре Бенедиктбейерн рукопись «Carmina Burana», как запрещенная литература, была упрятана в особый тайник, откуда ее извлекли только в 1806 году.
III
Лирика вагантов исключительно разнообразна по содержанию. Она охватывает все стороны средневековой жизни и все проявления человеческой личности. Песня, призывающая к участию в крестовом походе во имя освобождения «гроба господня», соседствует с броской антиклерикальной прокламацией против разложения духовенства и «симонии» — торговли церковными должностями; исступленное обращение к богу и призыв к покаянию с настойчивым, повторяющимся из стихотворения в стихотворение воспеванием «грубой» плоти, культа вина и обжорства; почти непристойная эротика и цинизм — с чистотой и возвышенностью; отвращение к книжности — с прославлением науки и многомудрых университетских профессоров. Зачастую в одном и том же стихотворении сталкиваются вещи, казалось бы, несовместимые: ирония оборачивается пафосом, а утверждение — скепсисом, шутовство перемешано с необычайной философской глубиной и серьезностью, в веселую майскую песенку вдруг врывается щемящая грусть, и, наоборот, плач неожиданно разрешается смехом. Стихотворение «Орфей в аду», задуманное поначалу как забавная пародия на известный античный миф и одну из глав Овидиевых «Метаморфоз», завершается страстной мольбой о милосердии, а в «Апокалипсисе голиарда» картины предстоящей гибели мира нейтрализуются балаганной концовкой.
Эта тематическая сумятица — одна из примечательных черт школярской поэзии, расцвет которой теснейшим образом связан с ростом городов и возникновением крупных научных центров.
В XI–XII веках школы стали постепенно перерождаться в университеты. В XII веке в Париже, «в счастливом городе, где учащиеся количеством превосходят местных жителей», кафедральная школа, школы аббатов св. Женевьевы и св. Виктора и множество профессоров, самостоятельно преподававших «свободные искусства», слились в одну ассоциацию «Universitas magistrorum et scolarum Parisensium». Университет делился на факультеты: богословский, медицинский, юридический и «артистический», а ректор самого многолюдного «факультета артистов», где изучались «семь свободных искусств» — грамматика, риторика, диалектика, геометрия, арифметика, астрономия и музыка, — встал во главе университета: ему были подчинены деканы всех остальных факультетов. Парижский университет становится богословским центром Европы, независимым от светского суда и получившим закрепление своих прав со стороны папской власти.
Однако вскоре у Парижского университета появляются серьезные соперники. Юриспруденция изучается в Монпелье и в Болонье, медицина — в Салерно, в середине XIII века возникает Оксфордский университет, к XIV веку окончательно организуются Кембриджский и Пражский.
В эти университеты стекаются студенты из всех европейских стран, происходит смешение нравов, обычаев, взаимный обмен национальным опытом, чему в немалой степени способствовала латынь — международный язык студенчества.
Молодой, непоседливый народ легко поднимается с места в поисках лучших учителей и лучшей жизни, запросто меняет учебные заведения, подобно тому как меняли своих мастеров бродячие подмастерья, странствует по большим дорогам, заполняет постоялые дворы и харчевни, попрошайничает, сливается с городской и сельской толпой, ввязывается в уличные побоища и с азартом участвует в народных мятежах и «беспорядках».
Проезжая дорога, рыночная площадь, битком набитый трактир становятся для тысяч молодых людей не меньшим «университетом», чем Париж или Болонья.
Они слышат громкие причитания обездоленных, вопли осужденных, хохот пьяниц и потаскух, рассказы крестоносцев, побывавших в далеких землях, проповеди прорицателей, которые предвещают близкий конец света, и потешные байки трактирных балагуров. Им открывается та правда жизни, которую не вычитать ни из каких книг. И они по-своему перерабатывают эту правду в своих стихах, где «гул и гогот рынка» облагорожен высоким духом античности, а античность, в свою очередь, опрощена и вульгаризирована. Они дерзко используют ритмы латинских церковных гимнов для «кощунственных» и «крамольных» стихов, отмеченных «низкой» бытовой лексикой, и, прикрываясь внешним цинизмом, проповедуют любовь, милосердие и равенство между всеми людьми.
Наделенные редчайшей музыкальностью (свои стихи ваганты не читали, а пели), они упиваются «музыкой созвучий», как бы играют рифмами, достигая необыкновенной виртуозности рифмовки и, сами того не подозревая, открывают поэзии неведомые ей прежде приемы поэтической выразительности. По существу, ваганты впервые наполнили новым, живым содержанием древний латинский размер — «versus quadratus» — восьмистопный хорей, который оказался пригодным и для торжественной оды, и для шутливой пародии, и для стихотворного повествования…
До нас почти не дошла музыка, которой сопровождались песни вагантов, однако эта музыка кроется в самом тексте. Может быть, лучше других ее «услышал» композитор Карл Орф, когда в 1937 году, в Германии, создал свою кантату — «Carmina Burana», сохранив в неприкосновенности старинные тексты с тем, чтобы «через них» и с их помощью высказать свои суждения о человеке, о его истовом стремлении к свободе и к радости в годину мрака, жестокости и насилия.
В наши дни, в связи с мощным студенческим движением, охватившим страны Западной Европы и Америки, к песням вагантов возник новый научный, литературный и, если так можно выразиться, психологический интерес: появляются новые исследования, переводы, публикации.
Что же касается предлагаемой вниманию читателя книги, то она представляет собой, по существу, первую попытку более или менее полно воспроизвести на русском языке почти неизвестную у нас страницу европейской поэзии.
Лев ГинзбургОРДЕН ВАГАНТОВ[3]
«Эй, — раздался светлый зов, началось веселье! Поп, забудь про часослов! Прочь, монах, из кельи!» Сам профессор, как школяр, выбежал из класса, ощутив священный жар сладостного часа. Будет ныне учрежден наш союз вагантов для людей любых племен, званий и талантов. Все — храбрец ты или трус, олух или гений принимаются в союз без ограничений. «Каждый добрый человек, сказано в Уставе, немец, турок или грек, стать вагантом вправе». Признаешь ли ты Христа, это нам не важно, лишь была б душа чиста, сердце не продажно. Все желанны, все равны, к нам вступая в братство, невзирая на чины, титулы, богатство. Наша вера — не в псалмах! Господа мы славим тем, что в горе и в слезах брата не оставим. Кто для ближнего готов снять с себя рубаху, восприми наш братский зов, к нам спеши без страху! Наша вольная семья враг поповской швали. Вера здесь у нас — своя, здесь — свои скрижали! Милосердье — наш закон для слепых и зрячих, для сиятельных персон и шутов бродячих, для калек и для сирот, тех, что в день дождливый палкой гонит от ворот поп христолюбивый; для отцветших стариков, для юнцов цветущих, для богатых мужиков и для неимущих, для судейских и воров, проклятых веками, для седых профессоров с их учениками, для пропойц и забулдыг, дрыхнущих в канавах, для творцов заумных книг, правых и неправых, для горбатых и прямых, сильных и убогих, для безногих и хромых и для быстроногих. Для молящихся глупцов с их дурацкой верой, для пропащих молодцов, тронутых Венерой, для попов и прихожан, для детей и старцев, для венгерцев и славян, швабов и баварцев. От монарха самого до бездомной голи люди мы, и оттого все достойны воли, состраданья и тепла с целью не напрасной, а чтоб в мире жизнь была истинно прекрасной. Верен богу наш союз без богослужений, с сердца сбрасывая груз тьмы и унижений. Хочешь к всенощной пойти, чтоб спастись от скверны? Но при этом, по пути, не минуй таверны. Свечи яркие горят, дуют музыканты: то свершают свой обряд вольные ваганты. Стены ходят ходуном, пробки — вон из бочек! Хорошо запить вином лакомый кусочек! Жизнь на свете хороша, коль душа свободна, а свободная душа господу угодна. Не прогневайся, господь! Это справедливо, чтобы немощную плоть укрепляло пиво. Но до гробовой доски в ордене вагантов презирают щегольски разодетых франтов. Не помеха драный плащ, чтоб пленять красоток, а иной плясун блестящ даже без подметок. К тем, кто бос, и к тем, кто гол, будем благосклонны: на двоих — один камзол, даже панталоны! Но какая благодать, не жалея денег, другу милому отдать свой последний пфенниг! Пусть пропьет и пусть проест, пусть продует в кости! Воспретил наш манифест проявленья злости. В сотни дружеских сердец верность мы вселяем, ибо козлищ от овец мы не отделяем.НИЩИЙ СТУДЕНТ[4]
Я — кочующий школяр… На меня судьбина свой обрушила удар, что твоя дубина. Не для суетной тщеты, не для развлеченья из-за горькой нищеты бросил я ученье. На осеннем холоду, лихорадкой мучим, в драном плащике бреду под дождем колючим. В церковь хлынула толпа, долго длится месса. Только слушаю попа я без интереса. К милосердию аббат паству призывает, а его бездомный брат зябнет, изнывает. Подари, святой отец, мне свою сутану, и тогда я наконец мерзнуть перестану. А за душеньку твою я поставлю свечку, чтоб господь тебе в раю подыскал местечко.«Ну, здравствуй, дорогое лето!»[5]
Ну, здравствуй, дорогое лето! Ты пышной зеленью одето. Пестреют на поле цветы необычной красоты, и целый день в лесу тенистом я внемлю птичьим пересвистам.ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ[6]
Из-за леса, из-за гор свет весенний хлынул, словно кто-то створки штор на небе раздвинул. Затрещал на речке лед, зазвенело поле: но земле весна идет в светлом ореоле. Выходи же стар и млад, песню пой на новый лад, пляши до упаду! Лишь угрюмая зима убралась отсюда, вспыхнул свет, исчезла тьма, совершилось чудо. Вновь весна устелет двор лепестками вишен, и влюбленных разговор всюду станет слышен. Выходи же, стар и млад, песню пой на новый лад, пляши до упаду! О, как долго, о, как зло в стужу сердце ныло, а желанное тепло все не приходило. И тогда весны гонец постучал к нам в дверцу, дав согреться наконец стынущему сердцу. Выходи же, стар и млад, песню пой на новый лад, пляши до упаду! Упоителен разлив соловьиной трели, зелень трав, раздолье нив, синь морской купели, и весенний этот мир, как алмаз, сверкает, и на свой победный пир всех людей скликает. Выходи же, стар и млад, песню пой на новый лад, пляши до упаду!ПРОЩАНИЕ СО ШВАБИЕЙ[7]
Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я не сказать словами… Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами! На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет отчий дом мученик науки. Вот стою, держу весло через миг отчалю. Сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента… Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Слезы брызнули из глаз… Как слезам не литься? Стану я за всех за вас господу молиться, чтобы милостивый бог силой высшей власти вас лелеял и берег от любой напасти, как своих детей отец нежит да голубит, как пастух своих овец стережет и любит. Ну, так будьте же всегда живы и здоровы! Верю: день придет, когда свидимся мы снова. Всех вас вместе соберу, если на чужбине я случайно не помру от своей латыни, если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки, если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра насмерть не замучат, если насмерть не упьюсь на хмельной пирушке, обязательно вернусь к вам, друзья, подружки! Вот и всё! Прости-прощай, разлюбезный швабский край! Захотел твой житель увидать науки свет!.. Здравствуй, университет, мудрости обитель! Здравствуй, разума чертог! Пусть вступлю на твой порог с видом удрученным, но пройдет ученья срок, стану сам ученым. Мыслью сделаюсь крылат в гордых этих стенах, чтоб отрыть заветный клад знаний драгоценных!СВОЕНРАВНАЯ ПАСТУШКА[8]
Лето зноем полыхало солнце жгло, не отдыхало, все во мне пересыхало. Тяжко сердце воздыхало… Где найти бы опахало? Хоть бы веткой помахало деревцо какое! Ах, пришел конец терпенью!. Но, по божьему хотенью, был я скрыт густою тенью под платановою сенью, разморен жарой и ленью, рад нежданному спасенью, в неге и покое. Сладкозвучнее свирели зазывали птичьи трели в синеве речной купели ощутить блаженство в теле… Ах, невиданный доселе, сущий рай на самом деле был передо мною! Так, в краю благоуханном, не прикрыв себя кафтаном, на ковре, природой тканном, возлежал я под платаном. Вдруг пастушка с дивным станом, словно посланная Паном, встала над рекою. Я вскричал, как от ожога: Не пугайся, ради бога! Видишь ты не носорога. Ни к чему твоя тревога. Дорогая недотрога, нам с тобой — одна дорога! Страсть тому виною! — Нет, — ответила девица, мать-старушка станет злиться. Честной швабке не годится с кавалерами резвиться. Может всякое случиться. Нам придется разлучиться. Не пойду с тобою!..ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ПАСТУШКА[9]
На заре пастушка шла берегом, вдоль речки. Пели птицы. Жизнь цвела. Блеяли овечки. Паствой резвою своей правила пастушка, и покорно шли за ней козлик да телушка. Вдруг навстречу ей — школяр, юный оборванец. У пастушки — как пожар на лице румянец. Платье девушка сняла, к школяру прижалась. Пели птицы. Жизнь цвела. Стадо разбежалось.«Я скромной девушкой была…»[10]
Я скромной девушкой была, вирго дум флоребам, нежна, приветлива, мила, омнибус плацебам.[11] Пошла я как-то на лужок флорес адунаре, да захотел меня дружок иби дефлораре,[12] Он взял меня под локоток, сед нон индецентер, и прямо в рощу уволок вальде фраудулентер.[13] Он платье стал с меня срывать вальде индецентер, мне ручки белые ломать мультум виолентер.[14] Потом он молвил: «Посмотри! Немус эст ремотум! Все у меня горит внутри!» Планкси эт хок тотум.[15] «Пойдем под липу поскорей нон прокул а виа. Моя свирель висит на ней, тимпанум кум лира!»[16] Пришли мы к дереву тому, диксит: седеамус! Гляжу: не терпится ему. Лудум фациамус![17] Тут он склонился надо мной нон абскве тиморе. «Тебя я сделаю женой…» Дульцис эст кум ope![18] Он мне сорочку снять помог, корпоре детекта, и стал мне взламывать замок, куспиде эректа.[19] Вонзилось в жертву копьецо, бене венебатур! И надо мной — его лицо: лудус комплеатур![20]ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ [21]
Когда-то — к сведенью людей я первым был средь лебедей на родине моей. Терпеть изволь такую боль: на раны сыплют соль! И хоть я лебедь, а не гусь, как гусь, на вертеле верчусь, в жаркое превращусь. Терпеть изволь такую боль: на раны сыплют соль! Ах, я бескрылый инвалид! Я едким уксусом облит. Всё ноет, всё болит. Терпеть изволь такую боль: на раны сыплют соль! Кто крыльев белизной блистал, как ворон черный, черен стал. Мой смертный час настал! Терпеть изволь такую боль: на раны сыплют соль! Ощипан шайкой поваров, лежу на блюде. Я — готов. И слышу лязг зубов. Терпеть изволь такую боль: на раны сыплют соль!МОНАХИНЯ[22]
Всей силой сердца своего я к господу взывала: «Казни того, из-за кого монахиней я стала!» За монастырскою стеной тоска и сумрак вечный. Так пусть утешен будет мной хотя бы первый встречный! И вот, отринув страх и стыд, я обняла бедняжку… А бог поймет, а бог простит несчастную монашку.ВЫХОДИ В ПРИВОЛЬНЫЙ МИР![23]
* * *
Выходи в привольный мир! К черту пыльных книжек хлам! Наша родина- трактир. Нам пивная — божий храм. Ночь проведши за стаканом, не грешно упиться в дым. Добродетель — стариканам безрассудство — молодым! Жизнь умчится, как вода. Смерть не даст отсрочки. Не вернутся никогда вешние денечки. Май отблещет, отзвенит быстро осень подойдет и тебя обременит грузом старческих забот. Плоть зачахнет, кровь заглохнет, от тоски изноет грудь, сердце бедное иссохнет, заметет метелью путь. Жизнь умчится, как вода. Смерть не даст отсрочки. Не вернутся никогда вешние денечки. «Человек — есть божество!» И на жизненном пиру я Амура самого в сотоварищи беру. На любовную охоту выходи, лихой стрелок! Пусть красавицы без счету попадут к тебе в силок. Жизнь умчится, как вода. Смерть не даст отсрочки. Не вернутся никогда вешние денечки. Столько девок молодых, сколько во поле цветов. Сам я в каждую из них тут же втюриться готов. Девки бедрами виляют, пляшут в пляске круговой, пламя в грудь мою вселяют, и хожу я сам не свой. Жизнь умчится, как вода. Смерть не даст отсрочки. Не вернутся никогда вешние денечки.«Ах, там в долине, под горой…»[24]
Ах, там в долине, под горой блаженной майскою порой гуляла с младшею сестрой любовь моя. Лился пленительный напев из чистых уст прелестных дев. Но обмерла, меня узрев, любовь моя. Светился луговой простор, резвился божьих пташек хор, и к богу устремила взор любовь моя. Не лучше ль было б под кустом улечься нам в лесу густом и там ко рту прижаться ртом, любовь моя?!«Когда б я был царем царей…»[25]
Когда б я был царем царей, владыкой суши и морей, любой владел бы девой, я всем бы этим пренебрег, когда проспать бы ночку мог с английской королевой.[26] Ах только тайная любовь бодрит и будоражит кровь, когда мы втихомолку друг с друга не отводим глаз, а тот, кто любит напоказ, в любви не знает толку.«Без возлюбленной бутылки…»[27]
Без возлюбленной бутылки тяжесть чувствую в затылке. Без любезного винца я тоскливей мертвеца. Но когда я пьян мертвецки, веселюсь по-молодецки и, горланя во хмелю, бога истово хвалю!ЗАВЕЩАНИЕ[28]
Я желал бы помереть не в своей квартире, а за кружкою вина где-нибудь в трактире. Ангелочки надо мной забренчат на лире: «Славно этот человек прожил в грешном мире! Простодушная овца из людского стада, он с достоинством почил средь хмельного чада. Но бродяг и выпивох ждет в раю награда, ну, а трезвенников пусть гложат муки ада! Пусть у дьявола в когтях корчатся на пытке те, кто злобно отвергал крепкие напитки![29] Но у господа зато есть вино в избытке для пропивших в кабаках все свои пожитки!» Ах, винишко, ах, винцо, Vinum, vini, vino!.. Ты сильно, как богатырь, как дитя, невинно! Да прославится господь, сотворивший вина, повелевший пить до дна не до половины! Больно, весело я шел по земным просторам, кабаки предпочитал храмам и соборам, и за то в мой смертный час, с увлажненным взором «Со святыми упокой!» гряньте дружным хором!ДОБРОЕ, СТАРОЕ ВРЕМЯ[30]
Вершина знаний, мысли цвет, таким был университет. А нынче, волею судеб, он превращается в вертеп. Гуляют, бражничают, жрут, книг сроду в руки не берут, для шалопая-школяра ученье — вроде бы игра. В былые дни такой пострел всю жизнь над книжками потел, и обучался он — учти до девяноста лет почти. Ну, а теперь — за десять лет кончают университет, и в жизнь выходят потому, не научившись ничему! При этом наглости у них хватает поучать других. Нет! Прочь гоните от дверей таких слепых поводырей. Неоперившихся птенцов пускают наставлять юнцов! Барашек, мантию надев, решил, что он — ученый лев! Смотри: сидят, упившись в дым, Григорий и Иероним и, сотрясая небеса, друг друга рвут за волоса. Ужель блаженный Августин[31] погряз в гнуснейшей из трясин? Неужто мудрость всех веков свелась к распутству кабаков?! Мария с Марфой, это вы ль?[32] Что с вами, Лия и Рахиль?[33] Как смеет гнилозубый хлюст касаться чистых ваших уст?! О, добродетельный Катон![34] Ты — даже ты! — попал в притон и предназначен тешить слух пропойц, картежников и шлюх. То гордый дух былых времен распят, осмеян, искажен. Здесь бредни мудростью слывут, а мудрость глупостью зовут! С каких же, объясните, пор ученье — блажь, прилежность — вздор? Но если названное — тлен, что вы предложите взамен?! Эх, молодые господа, побойтесь Страшного суда! Прощенья станете просить да кто захочет вас простить?!КАБАЦКОЕ ЖИТЬЕ[35]
Хорошо сидеть в трактире. А во всем остатнем мире скука, злоба и нужда. Нам такая жизнь чужда. Задают вопрос иные: «Чем вам нравятся пивные?» Что ж! О пользе кабаков расскажу без дураков. Собрались в трактире гости. Этот пьет, тот — жарит в кости. Этот — глянь — продулся в пух, у того — кошель разбух. Всё зависит от удачи! Как же может быть иначе?! Потому что нет средь нас лихоимцев и пролаз. Ах, ни капельки, поверьте, нам не выпить после смерти, и звучит наш первый тост: «Эй! Хватай-ка жизнь за хвост!..» Тост второй: «На этом свете все народы — божьи дети. Кто живет, тот должен жить, крепко с братьями дружить. Бахус учит неизменно: «Пьяным — море по колено!» И звучит в кабацком хоре третий тост: «За тех, кто в море!» Раздается тост четвертый: «Постных трезвенников — к черту!» Раздается пятый клич: «Честных пьяниц возвеличь!» Клич шестой: «За тех, кто зелье предпочел сиденью в келье и сбежал от упырей из святых монастырей!» «Слава добрым пивоварам, раздающим пиво даром!» всею дружною семьей мы горланим тост седьмой. Пьет народ мужской и женский, городской и деревенский, пьют глупцы и мудрецы, пьют транжиры и скупцы, пьют скопцы и пьют гуляки, миротворцы и вояки, бедняки и богачи, пациенты и врачи. Пьют бродяги, пьют вельможи, люди всех оттенков кожи, слуги пьют и господа, села пьют и города. Пьет безусый, пьет усатый, лысый пьет и волосатый, пьет студент, и пьет декан, карлик пьет и великан! Пьет монахиня и шлюха, пьет столетняя старуха, пьет столетний старый дед, словом, пьет весь белый свет! Всё пропьем мы без остатка. Горек хмель, а пьется сладко. Сладко горькое питье! Горько постное житье…СПОР МЕЖДУ ВАКХОМ И ПИВОМ[36]
Чтоб потешить вас, братцы, беседою, я вам байку смешную поведаю: Вакх и пиво однажды повздорили и нещадно друг друга позорили. В жарком споре случается всякое… Диспут мог бы окончиться дракою, ибо Вакх выдвигал обвинения, как всегда, находясь в опьянении. «Ты, — кричал он, махая ручищами, до небес превозносишься нищими! Я ж, являясь богов украшением, подвергаюсь порой поношениям. Можно ль мерить нас общею мерою? Говорят: рождено ты Церерою. Нет! При всей своей мнимой безвредности, эта ложь — порождение бедности. Нищетой рождено в беззаконии, ты — утеха для нищей Саксонии, ты, как шлюха, сошлась с голодранцами, будь то швабами или фламандцами. Пьют бродяги тебя и отшельники, школяры и монахи-бездельники, воры пьют со своими подружками, громыхая огромными кружками. Всех ты, подлое пиво, бесстыжее, опоило проклятою жижею, так что даже особы священные соблазнялись порой твоей пеною! Да, ты брызжешь, ты плещешь, ты пенишься и, возможно, поэтому ценишься. Но, хоть славы вовсю домогаешься, понапрасну со мною тягаешься! Вакх — бессмертной природы творение возвращает незрячему зрение, и способно творение богово сделать юношей старца убогого! Вакх с любою кручиной справляется: безнадежно больной поправляется, холостяк стать супругом готовится, а скалдырник транжиром становится. Разливая вино виноградное, Вакх приходит к вам с вестью отрадною, и, отведав напиток, резонно вы повторяете строки Назоновы: «Душу нам греет вино, ее открывая веселью…»[37] Вакх освоил науки премногие от грамматики до астрологии, от черчения до элоквенции, вплоть до тонкостей юриспруденции. Упоительна мудрая речь его! С глупым пивом равнять его нечего, потому что для доброго гения оскорбительны эти сравнения! Эх ты, горькое пиво кабацкое! Ну-ка спрячь свое рыло дурацкое! Убирайся назад в свою бочечку и сиди там хоть целую ночечку!..» …Пусть же славится Вакха всесилие! Благовонный, как роза и лилия, от души тебя крепко целуем мы, и тебе воспоем «Аллилуйю» мы!«Ах, куда вы скрылись, где вы…»[38]
Ах, куда вы скрылись, где вы, добродетельные девы? Или вы давным-давно скопом канули на дно?! Может, вы держались стойко, но всесветная попойка, наших дней распутный дух превратил вас в грязных шлюх?! Все предпринятые меры против происков Венеры, насаждающей чуму, не приводят ни к чему. От соблазнов сих плачевных застрахован только евнух, все же прочие — увы крайней плотью не мертвы. Я и сам погряз в соблазнах и от девок безобразных оторваться не могу. Но об этом — ни гугу…НАСТАВЛЕНИЕ ПОЭТУ, ОТПРАВЛЯЮЩЕМУСЯ К ПОТАСКУХАМ[39]
Поэт, лаская потаскуху, учти: у Фрины сердце глухо.[40] Она тебе отдаст свой жар лишь за солидный гонорар. Нужны служительнице блуда вино, изысканные блюда, а до того, что ты поэт, ей никакого дела нет. Не вздумай сей «прекрасной даме» платить любовными стихами. Твои стишата ей смешны. Ей только денежки нужны. Когда ж на стол монету бросишь, получишь все, о чем ты просишь. Но вскоре тварь поднимет крик, что ты, мол, чересчур велик, а заплатил постыдно мало, что вообще она устала, что ей давно домой пора: болеет младшая сестра… Ей кошелечек свой отдавши, почти не солоно хлебавши, ты облачаешься в камзол… Меж тем уже другой осел ее становится добычей. О, что за пакостный обычай искать сомнительных утех у девок мерзостных, у тех, кто сроду сердца не имеет, а лишь распутничать умеет?! Ужели не пойдет нам впрок и этот горестный урок?! Весь город над тобой смеется… Но вижу: вновь тебе неймется, и ты уже готов опять последний талер ей отдать. Все начинается сначала… Так хоть бы стерва не ворчала, что из-за жадности своей ты слишком мало платишь ей!ОТПОВЕДЬ КЛЕВЕТНИКАМ[41]
Хуже всякого разврата оболгать родного брата. Бог! Лиши клеветников их поганых языков. Злобно жалят, словно осы, их наветы и доносы, ранит грудь, как острый нож, омерзительная ложь. Про меня — о, я несчастный! распустили слух ужасный, будто я неверен той, что сверкает чистотой! Как могу я быть неверен той, с которой я намерен, в единенье двух сердец, встать хоть нынче под венец?! Сей поклеп невероятен! На душе моей нет пятен! Я Юпитером клянусь, что немедленно женюсь! Никогда — ни сном, ни духом, вопреки коварным слухам, мой чистейший идеал, я тебе не изменял! Я клянусь землей и небом, Артемидою и Фебом, всей девяткой дружных муз, что незыблем наш союз. Я клянусь стрелой и луком: пусть любым подвергнусь мукам, пусть в геенну попаду от тебя я не уйду! В чем секрет столь жгучей страсти? В чем причина сей напасти? Очевидно, в том, что ты воплощенье красоты. С чем сравнить тебя я вправе? Ты — алмаз в златой оправе. Твои плечики и грудь могут мир перевернуть. Ты — редчайший самородок! Носик, губки, подбородок, шейка дивной белизны для лобзаний созданы. Нет! Покуда мир не рухнет или солнце не потухнет, изменять тебе — ни-ни! Ты сама не измени!РАЗДОР МЕЖДУ ЧТЕНИЕМ КНИГ И ЛЮБОВЬЮ[42]
Преуспев в учении, я, посредством книг, в беспрестанном чтении мудрости достиг. Но, сие учение в муках одолев, я познал влечение к ласкам жарких дев. И, забросив чтение, тешу плоть свою: нынче предпочтение девам отдаю. Да… И тем не менее (хоть в любви везет) тайный червь сомнения сердце мне грызет. Что мне, — по течению безрассудно плыть иль, вернувшись к чтению, гением прослыть? Ну, а развлечения бросив целиком, можно стать из гения круглым дураком! «Только через чтение к счастью путь лежит!» в крайнем огорчении разум мой брюзжит. «Быть рабом учения глупо чересчур», не без огорчения шепчет мне Амур. «Слышишь! Прочь смущения! Розы жизни рви! Радость ощущения в воле и в любви…» В дивном озарении начертал господь, чтоб сошлись в борении разум, дух и плоть.«Я с тобой, ты со мной…»[43]
Я с тобой, ты со мной жизнью станем жить одной. Заперта в моем ты сердце, потерял я ключ от дверцы, так что помни: хошь не хошь, а на волю не уйдешь!«В утренней рани почудилось мне…»[44]
В утренней рани почудилось мне: сторож запел на зубчатой стене… Слышишь, дружок? Утро уже протрубило в рожок та-ра-ра-ра! Значит, пришла расставанья пора, милый ты мой! Ночь от недобрых, завистливых глаз, словно сообщница, прятала нас, кутала тьмой. Горькие слезы застлали мой взор. Хмурое утро крадется, как вор, ночи вослед. Проклято будь наступление дня! Время уводит тебя и меня в серый рассвет.«Вновь облетела липа…»[45]
Вновь облетела липа, и лес осенний гол, но милый не вернулся, но милый не пришел. Смолк в рощах голос птичий, мир холодом сражен. Мой милый стал добычей неверных чьих-то жен. Он с ними шутки шутит, мне жизнь, что ночь, черна. Он с ними спит и кутит, а я ему верна. Они его морочат! О, глупенький птенец! Чего же он не хочет вернуться наконец? Горька моя утрата, не счесть моих скорбей. Промчались без возврата дни юности моей.ЖАЛОБА ДЕВУШКИ[46]
Повеял утренний зефир, теплом обдав холодный мир. Запели птицы веселей в лиловом воздухе полей. В наш неуютный, хмурый край пришел веселый братец май, пришел он, полный юных сил, и все вокруг преобразил. Надев цветастый свой камзол, он устелил цветами дол, одним касанием руки из почек выбив лепестки. Уже глухая глушь лесов звенит созвучьем голосов, и гимны слышатся окрест в честь женихов и в честь невест. Когда я слышу этот хор, когда я зрю цветов узор и пробужденье познаю, теснят рыданья грудь мою. Ужель весь век томиться мне с моей тоской наедине, приняв жестокий приговор?! И глух мой слух. И слеп мой взор. О, разлюбезный братец май! Спаси! Помилуй! Выручай! И, чудо-ключиком звеня, на волю выпусти меня!ПЛАЧ ПО ПОВОДУ БЕГСТВА ВОЗЛЮБЛЕННОЙ[47]
Шумит веселый май. А я, как Менелай, покинутый Еленой, один во всей вселенной, реву, судьбу кляня: сбежала от меня моя подружка Флора. Не вынесу позора! Едва настала ночь, ты упорхнула прочь! А мы ведь так хотели понежиться в постели! Что делать? Не пойму. Она ушла. К кому? Неужто дал ей пфенниг какой-нибудь мошенник? Я весь в слезах — смотри! Глаза мои утри! Ужель ты так развратна, что не придешь обратно?! Твой бедный голубок, кляня жестокий рок, стал выжатым, как губка, от твоего поступка! Я высох, я зачах, темно в моих очах; тоски не одолею и скоро околею. Молю тебя: приди! Прижмись к моей груди! Когда мы будем вместе, забуду я о мести! Я по свету брожу, стенаю и дрожу, ищу, ищу лекарства от женского коварства! Нет! Не желаю впредь на девушек смотреть. Ах, мне ничто не мило, коль ты мне изменила. Я обошел весь свет. Тебя ж все нет и нет. Ужель не отзовешься? Я плачу, — ты смеешьсяЛЮБОВЬ К ФИЛОЛОГИИ[48]
О возлюбленной моей день и ночь мечтаю, всем красавицам ее я предпочитаю. Лишь о ней одной пишу, лишь о ней читаю. Никогда рассудок мой с ней не расстается, окрыленный ею, дух к небесам взовьется. Филологией моя милая зовется. Я взираю на нее восхищенным взором. Грамматическим мы с ней заняты разбором. И меж нами никогда места нет раздорам. Смог я к мудрости веков с нею причаститься. Дорога мне у нее каждая вещица: суффикс, префикс ли, падеж, флексия, частица. Молвит юноша: «Люблю!» Полон умиленья. А для нас «любить» — глагол первого спряженья. Ну, а эти «я» и «ты» два местоименья. Можно песни сочинять о прекрасной даме, можно прозой говорить или же стихами, но при этом надо быть в дружбе с падежами!РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ ШКОЛЯРОВ СВОЕМУ УЧИТЕЛЮ[49]
Муж, в науках преуспевший, безраздельно овладевший высшей мудростью веков, силой знания волшебный, восприми сей гимн хвалебный от своих учеников! Средь жрецов науки славных нет тебе на свете равных, наш возлюбленный декан! Ты могуч и благороден, сердцем чист, душой свободен, гордой мыслью — великан! Всех искусней в красноречье, обрати свою к нам речь и наш рассудок просвети! Помоги благим советом цели нам достичь на этом нами избранном пути. Снова близится полночный час, как девой непорочной был господень сын рожден, смерть и муку победивший, в злобном мире утвердивший милосердия закон. Так пускай горит над всеми свет, зажженный в Вифлееме, под один скликая кров из мирского океана многомудрого декана и беспутных школяров!РАЗГОВОР С ПЛАЩОМ[50]
«Холод на улице лют. Плащ мой! Какой же ты плут! С каждой зимой ты стареешь и совершенно не греешь. Ах ты, проклятый балбес! Ты, как собака, облез. Я — твой несчастный хозяин нынче ознобом измаян». Плащ говорит мне в ответ: «Много мне стукнуло лет. Выгляжу я плоховато старость во всем виновата. Прежнюю дружбу ценя, надо заштопать меня, а с полученьем подкладки снова я буду в порядке. Чтоб мою боль утолить, надо меня утеплить. Будь с меховым я подбоем, было б тепло нам обоим». Я отвечаю плащу: «Где же я денег сыщу? Бедность — большая помеха в приобретении меха. Как мне с тобой поступить, коль не могу я купить даже простую подкладку?.. Дай-ка поставлю заплатку!»ПРОКЛЯТИЕ[51]
Шляпу стибрил у меня жулик и притвора. Всеблагие небеса, покарайте вора! Пусть мерзавца загрызет псов бродячих свора! Пусть злодей не избежит божья приговора! Да познает негодяй вкус кнута и плетки, чтобы грудь и спину жгло пламенем чесотки! Пусть он мается в жару, чахнет от чахотки. Да изжарит подлеца черт на сковородке! Пусть он бродит по земле смертника понурей, пусть расплата на него грянет снежной бурей! Пусть в ушах его гремит жуткий хохот фурий. Пусть его не защитит даже сам Меркурий! Пусть спалит господень гнев дом его пожаром, пусть его сразит судьба молнии ударом! Стань отныне для него каждый сон кошмаром, чтобы знал, что воровство не проходит даром! Сделай, господи, чтоб он полным истуканом на экзамене предстал пред самим деканом. Положи, господь, предел кражам окаянным и, пожалуйста, не верь клятвам покаянным!КОЛЕСО ФОРТУНЫ[52]
Слезы катятся из глаз, арфы плачут струны. Посвящаю сей рассказ колесу Фортуны. Испытал я на себе суть его вращенья, преисполнившись к судьбе чувством отвращенья. Мнил я: вверх меня несет! Ах, как я ошибся, ибо, сверзшийся с высот, вдребезги расшибся и, взлетев под небеса, до вершин почета, с поворотом колеса плюхнулся в болото. Вот уже другого ввысь колесо возносит… Эй, приятель! Берегись! Не спасешься! Сбросит! С нами жизнь — увы и ах! поступает грубо. И повержена во прах гордая Гекуба[53].ВЗБЕСИВШИЙСЯ МИР[54]
Блуд и пьянство в христианство золотой привнес телец. Мир разврата без возврата в Тартар рухнет наконец. Наши души ночи глуше, наши хищные сердца осквернили, очернили всемогущего отца. Блудодейство, лиходейство, воровство, разбой и мор!.. Мир греховный! Суд верховный грозный вынес приговор. Тлена тленней лист осенний. Навзничь падают дубы. Не спасете бренной плоти от карающей судьбы. Все услады без пощады смерть сметет в урочный час. Так покайтесь! Попытайтесь, чтоб господь хоть душу спас! Надо всеми в наше время меч возмездья занесен. Безутешен тот, кто грешен, тот, кто праведен, — спасен! Скажем людям: «О, пробудим совесть спящую свою! Коль пробудим, так пребудем не в геенне, а в раю!»СТАРЕЮЩИЙ ВАГАНТ[55]
Был я молод, был я знатен, был я девушкам приятен, был силен, что твой Ахилл, а теперь я стар и хил. Был богатым, стал я нищим, стал весь мир моим жилищем, горбясь, по миру брожу, весь от холода дрожу. Хворь в дугу меня согнула, смерть мне в очи заглянула. Плащ изодран. Голод лют. Ни черта не подают. Люди волки, люди звери… Я, возросший на Гомере, я, былой избранник муз, волочу проклятья груз. Зренье чахнет, дух мой слабнет, тело немощное зябнет, еле теплится душа, а в кармане — ни шиша! До чего ж мне, братцы, худо! Скоро я уйду отсюда и покину здешний мир, что столь злобен, глуп и сир.СНЕЖНОЕ ДИТЯ[56]
Я расскажу вам, не шутя, рассказ про снежное дитя… Жила-была на свете баба жена доверчивого шваба. Был этот шваб купцом, видать. Ему случалось покидать пределы города Констанца. Уедет — в доме смех да танцы. Муж далеко. Зато жена толпой гуляк окружена, ватагой странствующих мимов, шутов, вагантов, пилигримов. Ну, словом, благородный дом был превращен в сплошной Содом. Не удивительно, что вскоре, покуда муж болтался в море, раздулось брюхо у жены (тут объясненья не нужны), и, как велит закон природы, в урочный час случились роды, явился сын на белый свет… Затем прошло еще пять лет… Но вот, закончивши торговлю, под обесчещенную кровлю из дальних странствий прибыл муж. Глядит: ребенок! Что за чушь?! «Откуда взялся сей мальчишка?!» Дрожит жена: «Теперь мне крышка». Но тут же, хитрости полна, Затараторила она: «Ах, обо мне не думай худо! Случилось истинное чудо, какого не было вовек: сей мальчик — снежный человек! Гуляла в Альпах я однажды, и вдруг занемогла от жажды, взяла кусочек снега в рот, и вскоре стал расти живот. О, страх, о, ужас! Из-за льдышки я стала матерью мальчишки. Считай, что снег его зачал…» Супруг послушал, помолчал, а через два иль три годочка с собой взял в плаванье сыночка и, встретив первого купца, за талер продал сорванца. Потом вернулся он к супруге: «Мы были с мальчиком на юге, а там ужасный солнцепек. Вдруг вижу: парень-то потек и тут же превратился в лужу, чтоб ты… не изменяла мужу!» Сию историю должна запомнить всякая жена. Им, бабам, хитрости хватает, но снег всегда на солнце тает!ПЕСНЯ ПРО ЛГУНА[57]
Эй, слушай, старый, слушай, малый, рассказ про случай небывалый, что сделал зятем короля неисправимого враля. Воззвал король однажды с трона: «Любой, кто, не страшась закона, всех лучше врет у нас в краю, получит в жены дочь мою!» Одушевленный сим указом, шваб, даже не моргнувши глазом, пред королем заговорил: «Вчера я зайца подстрелил, его разделал на жаркое. И вдруг — о, диво! Что такое?! Гляжу и сам не верю: он по горло медом начинен. А вслед за тем из брюха зайца златые выкатились яйца, кольцо с брильянтами, алмаз и высочайший твой указ, где я наследником объявлен…» «Наглец! Ты был бы обезглавлен, — король в восторге заорал, — когда бы чуть поменьше врал! Но прекратим допрос дальнейший. Отныне ты мне друг первейший. Ты — главный лжец у нас в краю! Бери-ка в жены дочь мою!»БОГАТЫЙ И НИЩИЙ[58]
Нищий стучится в окошко: «Дайте мне хлебца немножко!» Но разжиревший богач зол и свиреп, как палач. «Прочь убирайся отсюда!..» Вдруг совершается чудо: Слышится ангельский хор. Суд беспощаден и скор. Нищий, моливший о хлебе, вмиг поселяется в небе. Дьяволы, грозно рыча, в ад волокут богача. Брюхо набил себе нищий лакомой райскою пищей у богача неспроста слюнки текут изо рта. Нищий винцо попивает, бедный богач изнывает: «Хоть бы водицы глоток!..» …Льют на него кипяток.ПРОСЬБА ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ САЛЕРНО[59]
Здравствуйте! Слово привета вам от бродяги-поэта. Все вы слыхали, наверно, про знаменитый Салерно. С давних времен и поныне учатся там медицине у величайших ученых, чтоб исцелять обреченных… «Как бы мне, господи боже, медиком сделаться тоже?» И приступил я к ученью, новому рад увлеченью… Но оказалось: наука горше, чем смертная мука, и захандрил я безмерно в том знаменитом Салерно. Смыться решил я оттуда, но одолела простуда так, что четыре недели я провалялся в постели и, поглощая микстуру, славил свою профессуру. «Бедный вы наш сочинитель, молвил мне главный целитель, я говорю вам без шуток: жить вам не более суток!» Я до того огорчился, что через день излечился, взял свой мешок и — айда! тотчас же прибыл сюда. Гляньте, друзья, на поэта: стал я подобьем скелета, плащ мой изношен до дыр, не в чем явиться в трактир, ибо в проклятом Салерно есть небольшая таверна, где промотал я до нитки всю свою кладь и пожитки, С голоду я изнываю, к щедрости вашей взываю, о подаянье моля господа и короля. Слышишь, король всемогущий? Я — твой поэт неимущий славлю владыку владык, ибо ты мудр и велик. Призван самою Минервой, ты, средь правителей — первый, множеством дивных щедрот свой осчастливил народ. Всем оказавший подмогу, выдели мне хоть немного! Не оскудеет рука та, что спасет бедняка! Бог да продлит твои годы! Я ж сочиню тебе оды, гимны сложу в твою честь: очень уж хочется есть.ИСПОВЕДЬ АРХИПИИТА КЕЛЬНСКОГО[60]
С чувством жгучего стыда я, чей грех безмерен, покаяние свое огласить намерен. Был я молод, был я глуп, был я легковерен, в наслаждениях мирских часто неумерен. Человеку нужен дом, словно камень, прочный, а меня судьба несла, что ручей проточный, влек меня бродяжий дух, вольный дух порочный, гнал, как гонит ураган листик одиночный. Как без кормчего ладья в море ошалелом, я мотался день-деньской по земным пределам. Что б сидеть мне взаперти? Что б заняться делом? Нет! К трактирщикам бегу или к виноделам. Я унылую тоску ненавидел сроду, но зато предпочитал радость и свободу и Венере был готов жизнь отдать в угоду, потому что для меня девки — слаще меду! Не хотел я с юных дней маяться в заботе для спасения души, позабыв о плоти. Закружившись во хмелю, как в водовороте, я вещал, что в небесах благ не обретете! О, как злились на меня жирные прелаты, те, что постникам сулят райские палаты. Только в чем, скажите, в чем люди виноваты, если пламенем любви их сердца объяты?! Разве можно в кандалы заковать природу? Разве можно превратить юношу в колоду? Разве кутаются в плащ в теплую погоду? Разве может пить школяр не вино, а воду?! Ах, когда б я в Кёльне был не архипиитом, а Тезеевым сынком скромным Ипполитом[61], все равно бы я примкнул к здешним волокитам, отличаясь от других волчьим аппетитом. За картежною игрой провожу я ночки и встаю из-за стола, скажем, без сорочки. Все продуто до гроша! Пусто в кошелечке. Но в душе моей звенят золотые строчки. Эти песни мне всего на земле дороже: то бросает в жар от них, то — озноб по коже. Пусть в харчевне я помру, но на смертном ложе над поэтом-школяром смилуйся, о боже! Существуют на земле всякие поэты: те залезли, что кроты, в норы-кабинеты. Как убийственно скучны их стихи-обеты, их молитвы, что огнем чувства не согреты. Этим книжникам претят ярость поединка, гомон уличной толпы, гул и гогот рынка; жизнь для этих мудрецов узкая тропинка, и таится в их стихах пресная начинка. Не содержат их стихи драгоценной соли: нет в них света и тепла, радости и боли… Сидя в кресле, на заду натирать мозоли?! О, избавь меня, господь, от подобной роли! Для меня стихи — вино! Пью единым духом! Я бездарен, как чурбан, если в глотке сухо. Не могу я сочинять на пустое брюхо. Но Овидием себе я кажусь под мухой. Эх, друзья мои, друзья! Ведь под этим небом жив на свете человек не единым хлебом. Значит, выпьем, вопреки лицемерным требам, в дружбе с песней и вином, с Бахусом и Фебом… Надо исповедь сию завершать, пожалуй. Милосердие свое мне, господь, пожалуй. Всемогущий, не отринь просьбы запоздалой! Снисходительность яви, добротой побалуй. Отпусти грехи, отец, блудному сыночку. Не спеши его казнить дай ему отсрочку. Но прерви его стихов длинную цепочку, ведь иначе он никак не поставит точку.АПОКАЛИПСИС ГОЛИАРДА[62]
Солнечным полднем, под липой тенистою, славил я песнями деву пречистую, вдруг — не пойму, наяву иль во сне, сам Пифагор обратился ко мне. Скорбь омрачала лицо Пифагорово, скорбь излучал опечаленный взор его, и, преисполнясь тоски неземной, рек он таинственно: «Следуй за мной! Небом я послан тебе в провожатые!» И, нескрываемым страхом объятые, мы поспешили вступить на тропу, где повстречали большую толпу. Тут из толпы о пощаде взывающей, выступил ангел, что солнце сияющий, и повелел мне глаза протереть, дабы великое чудо узреть. «Сам над собой человек надругается! Страшная гибель на мир надвигается! Стой и замри!.. Ты услышишь сейчас с горних высот обвиняющий глас!» Взвыл ураган, и, моля о спасении, я оказался средь землетрясения, а над дрожащими пиками гор некто уже оглашал приговор: «Знайте, земли недостойные жители! Вас погубили священнослужители! Днесь повторилось, что было вчера: продан спаситель за горсть серебра! Пьянствуя, лакомясь сладкими блюдами, стали отцы пресвятые Иудами! Паства без пастыря бродит во тьме, ибо у пастыря блуд на уме! О, наглецы, на людей непохожие! Мир обезумел от скверны безбожия и, надругаясь над святостью месс, в душах безбожных беснуется бес! Так преступленье вершится великое! Папство глумится над вышним владыкою! Лжепроповедников злые уста дважды и трижды распяли Христа! Что им господь? Что святая им троица? Лишь бы схитрить да получше устроиться, все христианство погрязло в грехах из-за того, что творится в верхах. Архиепископ в великую пятницу в грязном притоне ласкает развратницу! Стал ведь однажды Юпитер быком, мерзкою похотью в бездну влеком! Ах, из-за вас, из-за вас, проповедники, вздулись у многих бедняжек передники! Ради притворства сутаны надев, скольких же вы перепортили дев! Вы, кто вершит злодеянья позорные! Вам не помогут молитвы притворные! Господа хитростью не побороть! Страшною казнью казнит вас господь!» В то же мгновение ангел сияющий поднял с земли стебелек засыхающий и записал в моем бренном мозгу все, что сейчас вам поведать могу. Тут же неведомой силой чудесною был я взнесен в высоту поднебесную и, не встречая препятствий, проник в третьего неба заветный тайник. О, что узрел, что узнал я!.. Судейские наши дела разбирали злодейские! Нашему миру — о, голод! о, мор! вынесли смертный они приговор. Не избежать никому наказания! Сам я едва не лишился сознания, но у меня эта жуткая весть вдруг пробудила желание есть. Ангелы божьи в плащах одинаковых дали отведать мне зернышек маковых, в Лету меня окунули потом и напоили каким-то питьем. Тут я на землю упал, чтоб впоследствии вам рассказать о грядущем к нам бедствии, и приготовил пространную речь, чтобы вас, грешники, предостеречь! Ждет нас несчастие невероятное!.. Но говорю почему-то невнятно я: знать, пересекши рубеж бытия, крепкого слишком отведал питья!ПРИЗЫВ К КРЕСТОВОМУ ПОХОДУ[63]
Что предрекает царь Давид, осуществить нам предстоит, освободив господня сына от надругательств сарацина! В неизъяснимой доброте, принявший муку на кресте, к тебе взывают наши песни, и клич гремит: «Христос, воскресни!» Мы не свернем своих знамен, покуда гроб твой осквернен, вовек оружия не сложим, покуда псов не уничтожим! Неужто Иерусалим мы сарацину отдадим? Неужто не возьмем мы с бою сей град, возлюбленный тобою?! Господь, проливший кровь за нас! Поверь, мы слышим: пробил час тебя спасти от мук безмерных, мечи обрушив на неверных! О, мы, погрязшие в грехах, преодолеем низкий страх, с победой в град священный вступим и тем грехи свои искупим! О, всемогущею рукой ты сам, без помощи людской, врагов изгнал бы окаянных из этих мест обетованных. Но, милосердьем одержим, ты разрешил стадам своим, сомкнувшись в грозные дружины, избыть бесчисленные вины!ЖАЛОБА НА СВОЕКОРЫСТИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА[64]
Плачет и стенает Вальтерова лира: Вальтер проклинает преступленья клира. Верить бесполезно в райские блаженства: все мы канем в бездну из-за духовенства. И по сей причине язва сердце точит: Вальтер быть отныне клириком не хочет! Расскажу подробно о попах вельможных, совершивших злобно сотни дел безбожных. Если, затухая, солнце село в море, значит, ночь глухая к нам нагрянет вскоре. Если ж полог черный темень распластала, тут вопрос бесспорный: ночь уже настала. Черной тьмой объяты, мы живем в бессилье: подлые аббаты солнце погасили. В хилом худосочье чахнем в смрадной яме. Почернее ночи короли с князьями. Нет, не милосердье пастыри даруют, а в тройном усердье грабят и воруют. Загубили веру, умерла надежда. Делают карьеру жулик и невежда. Знай, убогий странник: каждый настоятель чей-нибудь племянник или же приятель! Зря себя тревожишь! В мире вероломства выдвинуться можешь только по знакомству. В честном человеке гнев созрел великий: иль дана навеки власть презренной клике? Сам я, как на тризне, скорбно причитаю, ибо этой жизни смерть предпочитаю. Миром правит хитрость! Мир вражды и кражи! Мир, где сам антихрист у Христа на страже!ПРОТИВ СИМОНИИ[65]
Глас услышите вы ныне вопиющего в пустыне. Бог того, кто согрешил, милосердия лишил. Скоро гром над всеми грянет, мир продажный в пропасть канет, божий гнев замкнет уста осквернителей Христа! Посмотрите: в самом деле честь и совесть оскудели, правда спит, убит закон, превратился храм в притон. Да, не выразить словами, что творится в божьем храме, где святейшие ханжи совершают грабежи. От аббата до прелата духовенство алчет злата, под прикрытием сутан обирая христиан. Дни ужасные настали. Розы терниями стали, вера в господа мертва из-за Симона, волхва. Симон, Симон, волхв презренный, обесчестив сан священный, всюду свой справляет пир, развратив, испортив клир. Ныне поп в любом приходе бредит только о доходе. Загляните в каждый храм: Симон тут и Симон там. Тех, с кого он получает, он особо отличает: сунешь в лапу — вверх пойдешь, а не сунешь — пропадешь! Всё на свете продается, всяк разврату предается. Стать святым желает вор? Сунь! — и кончен разговор! Ошалевши от богатства, Симон хапает аббатства и дружкам своим — смотри! раздает монастыри. О, небесная царица! Как понять, что здесь творится?! Неужель навек подпасть нам под Симонову власть? Нет! Такого быть не может! Добрым людям бог поможет. Ниспослать давно пора к нам апостола Петра. Он злодея в ад низринет, и — глядишь — вся шайка сгинет, чтобы снова расцвела жизнь, спасенная от зла. Аминь!ФЛОРА И ФИЛИДА[66]
В час, когда сползла с земли снежная хламида, и вернула нам весну добрая планида, и запели соловьи, как свирель Давида, пробудились на заре Флора и Филида. Две подружки, две сестры, приоткрыли глазки. А кругом весна цвела, как в волшебной сказке. Расточал веселый май радужные краски, полный света и любви, радости и ласки. В поле девушки пошли, чтоб в уединенье полной грудью воспринять жизни пробужденье. В лад стучали их сердца, в дружном единенье, устремляя к небесам песнь благодаренья. Ах, Филида хороша! Ах, прекрасна Флора! Упоительный нектар для души и взора. Улыбалась им светло юная Аврора… Вдруг затеяли они нечто вроде спора. Меж подружками и впрямь спор возник горячий. Озадачили себя девушки задачей: кто искуснее в любви, награжден удачей рыцарь, воин удалой, иль школяр бродячий? Да, не легкий задают девушки вопросец (он пожалуй бы смутил и порфироносиц), две морщинки пролегли возле переносиц; кто желаннее: студент или крестоносец? «Ах, — Филида говорит, сложно мир устроен: нас оружием своим защищает воин. Как он горд, как справедлив, как красив, как строен и поэтому любви девичьей достоин!» Тут подружке дорогой Флора возражает: «Выбор твой меня — увы! просто поражает. Бедным людям из-за войн голод угрожает. Ведь не зря повсюду жизнь страшно дорожает. Распроклятая война хуже всякой муки: разорения и смерть, годы злой разлуки. Ах, дружок! В людской крови рыцарские руки. Нет! Куда милей студент честный жрец науки!» Тут Филида говорит: «Дорогая Флора, рыцарь мой не заслужил твоего укора. Ну, а кто избранник твой? Пьяница! Обжора! Брр! Избавь тебя господь от сего позора! Чтят бродяги-школяры бредни Эпикура. Голодранцам дорога собственная шкура. Бочек пива и вина алчет их натура. Ах! Студента полюбить может только дура. Или по сердцу тебе эти вертопрахи недоучки, болтуны, беглые монахи? Молью трачены штаны, продраны рубахи… Я бы лучше предпочла помереть на плахе. Что касается любви, тут не жди проворства. Не способствуют страстям пьянство и обжорство. Все их пылкие слова лишь одно притворство. Плоть не стоит ничего, если сердце черство. Ну, а рыцарь неохоч до гульбы трактирной. Плоть он не обременил грузом пищи жирной. Он иной утехой сыт битвою турнирной, и всю ночь готов не спать, внемля песне лирной». Флора молвила в ответ: «Ты права, подружка. Что для рыцарей — турнир, то для них — пирушка. Шпага рыцарю нужна, а студенту — кружка. Для одних война — разор, для других — кормушка. Хоть подвыпивший студент часто озорует, он чужого не берет, сроду не ворует. Мед, и пиво, и вино бог ему дарует: жизнь дается только раз, пусть, мол, попирует! Там, в харчевне, на столах кушаний навалом! Правда, смолоду школяр обрастает салом, но не выглядит зато хмурым и усталым, и горяч он, не в пример неким самохвалам! Проку я не вижу в том, что твой рыцарь тощий удивительно похож на живые мощи. В изможденных телесах нет любовной мощи. Так что глупо с ним ходить в глубь зеленой рощи. Он, в святой любви клянясь, в грудь себя ударит, но колечка никогда милой не подарит, потому что рыцарь твой скопидом и скаред. А школяр свое добро мигом разбазарит! Но, послушай, милый друг, продолжала Флора, мы до вечера, видать, не окончим спора. И поскольку нам любовь верная опора, то, я думаю, Амур нас рассудит скоро». Поскакали в тот же миг, не тая обиды, две подружки, две сестры, две богини с виду. Флора скачет на коне, на осле — Филида. И рассудит их Амур лучше, чем Фемида. Находились целый день девушки в дороге, оказавшись наконец в царственном чертоге. Свадьбу светлую свою там справляли боги, и Юпитер их встречал прямо на пороге. Вот в какие довелось им пробраться сферы: у Юноны побывать, также у Цереры. Приглашали их к столу боги-кавалеры. Бахус первый свой бокал выпил в честь Венеры. Там не выглядел никто скучным и понурым. Каждый был весельчаком, каждый — балагуром. И амурчики, кружась над самим Амуром, улыбались нашим двум девам белокурым. И тогда сказал Амур: «Боги и богини! Чтобы нам не оставлять девушек в кручине, разрешить нелегкий спор нам придется ныне. Впрочем, спор-то их возник по простой причине. Ждут красавицы от нас точного ответа: кто достойнее любви, ласки и привета, грозный рыцарь, что мечом покорил полсвета, или бесприютный сын университета? Ну, так вот вам мой ответ, дорогие дети: по законам естества надо жить на свете, плоть и дух не изнурять, сидя на диете, чтобы к немощной тоске не попасться в сети. Кто, скажите, в кабаках нынче верховодит, веселится, но при том с книгой дружбу водит и, в согласье с естеством, зря не колобродит? Значит, рыцаря студент Явно превосходит!» Убедили наших дев эти аргументы. Раздались со всех сторон тут аплодисменты. Стяги пестрые взвились, запестрели ленты. Так пускай во все века славятся студенты!СВЯЩЕННИК И ВОЛК[67]
Эй, братцы! Навострите уши хочу потешить ваши души, но есть особая изнанка у незатейливого шванка. Поп — деревенский старожил своих овечек сторожил, поскольку после каждой стрижки звенело у него в кубышке. Ах, как родных детей — отец, лелеял поп своих овец… Но вот несчастье! В том поселке внезапно появились волки и, не имеючи сердец, нещадно крали тех овец, чтобы полакомиться в чаще едой, что всяких лакомств слаще. Наш поп, обиженный судьбой, решил пресечь такой разбой, и в лес направился он прямо, чтоб ночью вырыть волчью яму. Свой замысел продумав тонко, он в яму поместил ягненка, и вот, знакомый чуя дух, волк на приманку в яму — бух! Явив завидную смекалку, поп длинную хватает палку, желая волку в глаз попасть: мол, мы тебя отучим красть! Но хитрый волк, сидевший в яме, своими острыми клыками вцепился в палку что есть сил и старца в яму затащил. Теперь, возьмите это в толк, их в яме двое: поп и волк. Священник, глядючи на волка, молитвы шепчет втихомолку: «Господь, — твердит он, заикаясь, я пред тобой смиренно каюсь, что, осквернив поповский сан, нещадно грабил прихожан. Я имя господа порочил, я людям головы морочил и, злее лютых обирал, сирот невинных обирал. Тобой подвергнутые мести, мы с волком здесь подохнем вместе. Яви же милосердья чудо и дай мне выбраться отсюда!» Всю ночь промаялся старик. Вдруг волк ему на шею — прыг, и мигом выбрался на волю, осуществляя божью волю. Сбежалась вскорости толпа. Из ямы извлекли попа. Он с этих пор живет — не тужит и, чистый сердцем, богу служит.МОНАХ ИОАНН[68]
Спешу поведать вам сейчас мной в детстве слышанный рассказ. Но, чтоб он был усвоен вами, перескажу его стихами. Жил коротышка Иоанн. Монашеский он принял сан, и по пустыне, бодрым маршем, шагал он вместе с братом старшим. «Ах, мой любезный старший брат! Мирская жизнь — сплошной разврат! Мне не нужна еда и платье. Поддержка мне — одно распятье!» Резонно старший возразил: «Кем ты себя вообразил? Неужто истина, дружище, в отказе от питья и пищи?» «Нет, — отвечает Иоанн, твои слова — самообман. Постом изматывая тело, мы совершаем божье дело!» Дав сей торжественный обет, в сутану ветхую одет, он с братом старшим распростился и дальше в странствие пустился. Подставив солнышку главу, он ел коренья и траву, стремясь достичь высокой цели… Так длилось более недели. На день десятый наш монах вконец от голода зачах и поспешил назад, к деревне, где брат его гулял в харчевне. Глухой полночною порой он стукнул в ставенку: «Открой! Твой брат несчастный — на пороге, и он вот-вот протянет ноги. Изнемогаю без жратвы!» Но старший брат сказал: «Увы! Для тех, кто ангелоподобны, мирские блюда несъедобны!» Монах скулит: «Хоть хлебца дай!» Хохочет брат: «Поголодай! В питье и пище — проку мало, а здесь у нас — вино да сало!» Взмолился бедный Иоанн: «На что мне мой поповский сан! Пусть голодают херувимы, а людям есть необходимо!» Ну, тут его впустили в дом… Сказать, что сделалось потом? Монах объелся и упился и, захмелев, под стол свалился. А утром молвил Иоанн: «Нам хлеб насущный богом дан! Ах, из-за пагубной гордыни я брел голодным по пустыне! Попутал бес меня, видать! В еде — господня благодать! Видать, господь и в самом деле велит, чтоб пили мы и ели!»ОРФЕЙ В АДУ[69]
Свадьбу справляют они — погляди-ка славный Орфей и его Евридика. Вдруг укусила невесту змея… Кончено дело! Погибла семья. Бедный Орфей заклинает владыку… Где там! В могилу несут Евридику. Быстро вершится обряд похорон. Чистую деву увозит Харон[70]. Плачет Орфей, озирается дико: «Ах, дорогая моя Евридика!..» Но Евридика не слышит его: ей не поможет уже ничего. «Ах, ты была мне мила и любезна… Впрочем, я вижу, рыдать бесполезно. Надо придумать какой-нибудь трюк. Только б не выронить лиру из рук. Очень возможно, что силой искусства я пробудить благородные чувства в царстве теней у Плутона смогу и Евридике моей помогу…» Стоит во имя любви потрудиться!.. Быстро Орфей в свою лодку садится и через час, переплыв Ахерон, в царство вступает, где правит Плутон. Вот он, прильнувши к подножию трона, звуками струн ублажает Плутона и восклицает: «Владыка владык! Ты справедлив! Ты могуч и велик! Смертные, мы твоей воле подвластны. Те, кто удачливы или несчастны, те, кто богаты, и те, кто бедны, все мы предстать пред тобою должны. Все мы — будь женщины мы иль мужчины не избежим неминучей кончины, я понимаю, что каждый из нас землю покинет в назначенный час, чтобы прийти под подземные своды… Но не болезнь, не законы природы, не прегрешенья, не раны в бою ныне сгубили невесту мою. О, неужели загробное царство примет невинную жертву коварства?! О, неужель тебе не тяжела та, что до старости не дожила?! Так повели же с высокого кресла, чтобы моя Евридика воскресла, и, преисполнясь добра и любви, чудо великое миру яви. Платой за это мое песнопенье пусть мне послужит ее воскресенье. Сделай, о, сделай счастливыми нас пусть не на вечность! Хотя бы на час! Пусть не на час! На мгновенье хотя бы! Будь милосерд, снисходителен, дабы, сладостный миг ощутивши вдвоем, Мы убедились в величье твоем! Верь, что тотчас же, по первому зову, мы в твое лоно вернуться готовы и из твоих благороднейших рук примем покорно любую из мук!»«Ложь и злоба миром правят…»[71]
Ложь и злоба миром правят. Совесть душат, правду травят, мертв закон, убита честь, непотребных дел не счесть. Заперты, закрыты двери доброте, любви и вере. Мудрость учит в наши дни: укради и обмани! Друг в беде бросает друга, на супруга врет супруга, и торгует братом брат. Вот какой царит разврат! «Выдь-ка, милый, на дорожку, я тебе подставлю ножку», ухмыляется ханжа, нож за пазухой держа. Что за времечко такое! Ни порядка, ни покоя, и господень сын у нас вновь распят, — в который раз!ВОСХВАЛЕНИЕ ИСТИНЫ[72]
Правда правд, о истина! Ты одна лишь истинна! Славит наша здравица ту, что может справиться со лгунами грязными, с их речами праздными, с пресвятыми сворами, что живут поборами, с судьями бесчестными, в сих краях известными, с шайкою мошенников в звании священников, с теми лежебоками, что слывут пророками, с бандою грабителей из иных обителей, христиан морочащих, господа порочащих!ПРИМЕЧАНИЯ
В основу книги положены: «Carmina Burana» — латинские и немецкие песни вагантов, собранные и переведенные Людвигом Лайстнером (издание Эбергарда Броста, Гейдельберг, 1961); сборник «Поэзия вагантов» (издание и перевод Карла Лангоша, Лейпциг и Бремен, 1968); «Гимны и песни вагантов» Карла Лангоша (Берлин, издательство «Рюттен и Ленинг», 1958); книга Хорста Куша «Введение в латинское средневековье» (Берлин, 1957); «Немецкая лирика средневековья» Макса Верли (Цюрих, 1962); сборник Гергарда Эйса «Средневерхненемецкие песни и шпрухи» (издательство «Макс Хюбер ферлаг», Мюнхен, 1967); «Поэзия Западной Европы» (Мюнхен, 1967); «Небо и ад странствующих» Мартина Лёпельмана (Штутгарт) и другие сборники.
Ряд текстов предоставлен переводчику библиотеками Лейпцигского (ГДР) и Мюнхенского (ФРГ) университетов.
Все стихи (за редкими исключениями) на русский язык переводятся впервые.
Лев ГинзбургПримечания
1
Послесловие к сборнику «Vagantendichtung», Лейпциг и Бремен, 1968.
(обратно)2
«Himmel und Hцlle der Fahrender». Dichtungen der grossen Vaganten aller Zeiten und Lдnder, gesammelt von Martin Lцpelmann. Stuttgart.
(обратно)3
Орден вагантов. — Этим стихотворением открывается «Carmina Burana» Людвига Лайстнера, где латинский и немецкий тексты даны параллельно. Название стихотворения, как и в ряде других случаев, принадлежит Лайстнеру: в латинской рукописи стихи озаглавлены не были.
Понятие «орден вагантов» следует воспринимать метафорически. В действительности никаких специальных организаций вагантов, объединенных общим уставом или программой, не существовало.
(обратно)4
Нищий студент. — Из «Carmina Burana».
(обратно)5
«Hy, здравствуй, дорогое лето!..» — Из «Carmina Burana». Оригинал — на средневерхненемецком языке.
(обратно)6
Весенняя песня. — Из «Carmina Burana».
(обратно)7
Прощание со Швабией. — Как видно из этой песни, «швабский житель» отправлялся учиться во Францию, в Парижский университет. Опасения простодушного шваба насчет того, как бы парижские профессора его «не замучили насмерть», отнюдь не беспочвенны. Курс обучения, например на богословском факультете, длился десять лет. На последнем экзамене выпускник, по утверждению академика Е. Тарле, от шести часов утра до шести часов вечера выдерживал «натиск» двадцати диспутантов, которые сменялись каждые полчаса, он же был лишен отдыха и не имел права за все двенадцать часов экзамена ни пить, ни есть.
Выдержавший испытание становился доктором и увенчивался особой черной шапочкой.
Стихотворение содержится в «Carmina Burana».
(обратно)8
Своенравная пастушка. — Из «Carmina Burana».
(обратно)9
Добродетельная пастушка. — Из «Carmina Burana».
(обратно)10
Я скромной девушкой была… — В оригинале немецкие строки чередуются с латинскими — прием, характерный для поэзии немецких вагантов.
Стихотворение, помеченное XIII веком, взято из сборника Лёпельмана. Первоисточник не указан.
(обратно)11
Virgo dum florebam — когда я цвела невинностью
Omnibus placebam — всем нравилась
(обратно)12
Flores adunare — собирать цветы
Ibi deflorare — там лишить девственности
(обратно)13
Sed non indecenter — но весьма пристойно
Valde fraudulenter — очень коварно
(обратно)14
Valde indecenter — очень непристойно
Multum violenter — очень грубо
(обратно)15
Nemus est remotum! — Роща ведь в сторонке!
Planxi et hoc totum — я плакала и все прочее
(обратно)16
Non procul a via — недалеко от дороги
Tympanum cum lira — тимпан и лира
(обратно)17
Dixit: sedeamus! — Он сказал: давай сядем!
Ludum faciamus! — Давай поиграем!
(обратно)18
Non absque timore — не без робости
Dulcis est cum ore — он сладкоречив
(обратно)19
Corpore detecta — обнажив тело
Cuspide erecta — подняв копье
(обратно)20
Bene venebatur — хорошо поохотился
Ludus compleatur! — Да свершится игра!
(обратно)21
Лебединая песня. — Из «Carmina Burana». Написана к празднику св. Мартина.
(обратно)22
Монахиня. — Уличная песенка, записанная в 1359 году. Приводится в сборнике Арнима и Брентано «Волшебный рог мальчика».
(обратно)23
Выходи в привольный мир! — Из «Carmina Burana».
(обратно)24
Ах, там в долине, под горой… — Из «Carmina Burana».
(обратно)25
«Когда б я был царем царей…» — Из «Carmina Burana».
Оригинал — на средневерхненемецком языке.
(обратно)26
Когда проспать бы ночку мог с английской королевой… — Вероятно, имеется в виду королева Элеонора (1122–1204), оказывавшая покровительство трубадурам и миннезингерам.
(обратно)27
«Без возлюбленной бутылки…» — Из «Carmina Burana». Средневековая уличная песенка.
(обратно)28
3авещание. — По мнению Лайстнера, представляет собой один из вариантов «Исповеди Архипиита Кёльнского» (см. стр. 125).
(обратно)29
Пусть у дьявола в когтях корчатся на пытке те, кто злобно отвергал крепкие напитки!.. — Пародия на церковные инвективы, предававшие анафеме грешников; характерный пример пародийного «переосмысления».
(обратно)30
Доброе, старое время. — Из «Carmina Burana».
(обратно)31
Блаженный Августин (354–439) — один из известнейших отцов церкви.
(обратно)32
Мария с Марфой, это вы ль?.. — Марфа и Мария — сестры Лазаря из евангельского рассказа о посещении Христом Вифании.
(обратно)33
Что с вами, Лия и Рахиль?.. — Лия — старшая дочь упоминаемого в Библии Лавана, Рахиль — его младшая дочь; обе были женами патриарха Иакова.
(обратно)34
О, добродетельный Катон!.. — Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) римский цензор, знаменитый оратор, обличавший распутство.
(обратно)35
Кабацкое житье. — Из «Carmina Burana».
(обратно)36
Спор между Вакхом и пивом. — Стихи-диспуты — один из самых излюбленных жанров школярской, да и вообще средневековой поэзии (см. также «Флора и Филида», «Раздор между чтением книг и любовью»). Абеляр писал о «турнирах мысли», которые он предпочитал всем иным поединкам. В университетах и школах риторов искусству диспутов уделялось особое внимание: непременным условием считалось, чтобы каждая из спорящих сторон могла изложить свои аргументы и была, таким образом, выслушана. Впрочем, «Спор между Вакхом и пивом» не столько диспут, сколько шуточная пародия на него.
(обратно)37
Душу нам греет вино, ее открывая веселью — цитата из Овидия Назона «Ars amatoria», кн. I, стих. 237.
(обратно)38
«Ах, куда вы скрылись, где вы…» — Одно из шуточных средневековых причитаний по поводу «всеобщего падения нравов». Заимствовано из «Carmina Burana».
(обратно)39
Наставление поэту, отправляющемуся к потаскухам. — Принадлежит перу выдающегося ваганта XII века примаса Гуго Орлеанского (1095–1150). По мнению Карла Лангоша, примас оказал влияние на многих поэтов-вагантов, в том числе и на Архипиита Кёльнского.
Уроженец Орлеана, примас пользовался громадной известностью, одно время учительствовал, но основную часть жизни провел в скитаниях. Последним его пристанищем оказались берега Альбиона. В «Оксфордском собрании» содержится несколько десятков его стихотворений и песен. Лангош отмечает исключительное языковое богатство этих стихов. Примас «тяготел к конкретному, сочному, брызжущему жизнью, ясному и проникновенному поэтическому выражению… Часто он уступал своему темпераменту и чрезмерно увлекался чересчур уж откровенной и неприкрытой эротикой».
(обратно)40
У Фрины сердце глухо… — Фрина (здесь: обозначение распутницы) афинская гетера IV века до н. э.
(обратно)41
Отповедь клеветникам. — Из «Carmina Burana».
(обратно)42
Раздор между чтением книг и любовью. — Из «Ватиканского собрания» (XIII в.).
(обратно)43
«Я с тобой, ты со мной…» — Из «Carmina Burana». Написано на средневерхненемецком языке. Существует и другой (латинский) вариант этого же текста (XII в.) — обращение девушки к своему возлюбленному.
(обратно)44
«В утренней рани почудилось мне…» — Содержится в «Carmina Burana», наряду с другими стихами, написанными от имени женщин, а возможно, и самими женщинами, которые подчас отличались немалой образованностью и прекрасно владели пером (например, письма Элоизы к Абеляру).
(обратно)45
«Вновь облетела липа…» — Из «Carmina Burana». Один из ранних образцов немецкой «женской лирики».
(обратно)46
Жалоба девушки. — Из «Carmina Burana».
(обратно)47
Плач по поводу бегства возлюбленной. — Из «Оксфордского собрания».
(обратно)48
Любовь к филологии. — Отрывок из стихотворения, помещенного в «Carmina Burana». Название дано переводчиком.
(обратно)49
Рождественская песня школяров своему учителю. — Отрывок из студенческого гимна (XIII в.).
(обратно)50
Разговор с плащом. — Стихотворение примаса Гуго Орлеанского.
(обратно)51
Проклятие. — Из «Carmina Burana».
(обратно)52
Колесо Фортуны. — В «Carmina Burana» стихотворение снабжено иллюстрацией, принадлежавшей, очевидно, автору текста. «Колесо Фортуны» — пролог к кантате Орфа.
(обратно)53
Гордая Гекуба. — Гекуба — жена троянского царя Приама. После поражения Трои попала в руки греков. По Еврипиду (трагедия «Гекуба»), она пережила принесение в жертву греками ее дочери Поликсены и гибель своего сына Полидора, который был убит фракийским царем Полиместром. По Овидию, Гекубу, превращенную в суку, забросали камнями фракийцы.
(обратно)54
Взбесившийся мир. — Из «Carmina Burana».
(обратно)55
Стареющий вагант. — Стихотворение примаса Гуго Орлеанского.
(обратно)56
Снежное дитя. — Из «Кембриджской рукописи» (XI в.). Стихотворение представляет собой один из первых в европейской литературе поэтических шванков. В XIII веке анекдот про «снежное дитя» был обработан странствующим поэтом Штрикером, автором известной «плутовской» книги о попе Амисе, предшественнике Тиля Эйленшпигеля.
(обратно)57
Песня про лгуна. — Из «Кембриджской рукописи». Так же, как и «Снежное дитя», относится к зачаткам «плутовской литературы».
(обратно)58
Богатый и нищий. — Обработка примасом Гуго Орлеанским евангельской притчи о бедняке Лазаре, лежавшем у ворот бессердечного богача. Пребывание Лазаря и его обидчика в загробном мире стало предметом множества назиданий и проповедей.
(обратно)59
Просьба по возвращении из Салерно. — Стихотворение принадлежит перу Архипиита Кёльнского (1130–1165) (см. примечание к «Исповеди Архипиита Кёльнского»).
(обратно)60
Исповедь Архипиита Кёльнского. — В основу перевода положен немецкий текст из «Carmina Burana» Людвига Лайстнера.
Стихотворение является принципиально важным для понимания мировоззрения вагантов и их поэтических установок. В то же время в нем содержится и ряд автобиографических сведений.
До нас дошли десять стихотворений Архипиита, написанных между 1159 и 1165 годами. Настоящее имя его неизвестно, так же как и его национальная принадлежность, хотя, по всей видимости, он был немцем.
Все стихотворения Архипиита обращены к Рейнальду фон Дассель, канцлеру императора Фридриха Барбароссы и архиепископу Кёльнскому. В стихотворении «Просьба по возвращении из Салерно» (см. стр. 121) Архипиит взывает к помощи короля также через канцлера.
Творения Архипиита, пишет проф. Б. И. Пуришев, «носили преимущественно личный характер. И в этом уже проявилась характерная тенденция новой лирики. Поэт не перестает говорить о своих злоключениях, нуждах, трудах, склонностях. Мы узнаем, что он происходил из рыцарской семьи, однако военному ремеслу предпочел занятия науками и поэзией. Вергилий стал его наставником».
«Исповедь», по всей вероятности, написана в 1163 году.
Высокую оценку этому произведению дал Якоб Гримм, отмечавший ни с чем не сравнимую «свободу и благозвучие языка, беспредельную мощь рифмы».
(обратно)61
Ах, когда б я в Кёльне бил не архипиитом, а Тезеевым сынком — скромным Ипполитом… — Ипполит — сын афинского царя Тезея. Вторая жена Тезея Федра, — любовь которой Ипполит отверг, оклеветала его перед отцом, что послужило причиной его гибели.
(обратно)62
Апокалипсис голиарда. — Из «Ватиканского собрания». «Апокалипсис голиарда» пародийно переосмысляет Откровение св. Иоанна. Любопытно, что в свой «Апокалипсис» поэт-вагант вводит Пифагора в качестве предвестника Страшного суда.
(обратно)63
Призыв к крестовому походу. — Из «Carmina Burana».
(обратно)64
Жалобы на своекорыстие и преступления духовенства. — Принадлежит перу поэта-клирика Вальтера Шатильонского (1135–1200). Вальтер учился в Париже и в Реймсе, в Реймсе же был каноником, затем состоял на службе при дворе Генриха II. По заданию французского короля в 1166 году отправился с особым поручением в Англию. Преподавал в монастырской школе в Шатильоне, изучал право в Болонье, совершил паломничество в Рим. Его весьма бурная жизнь закончилась в Амьене, где он умер от страшной болезни — проказы.
Одна из главных тем Вальтера Шатильонского — обличение духовенства.
(обратно)65
Против симонии. — Из «Carmina Burana».
Симония — от имени Симона-волхва, упоминаемого в Деяниях Апостолов. Когда из Иерусалима прибыли в Самарию апостолы Петр и Иоанн, чтобы посредством возложения рук низвести дары святого духа на крещеных, Симон предложил им денег за сообщение ему их «секрета» и был строго обличен и отвергнут апостолом Петром. Из Самарии Симон-волхв прибыл в Тир, где на деньги, отвергнутые апостолами, выкупил из притона блудницу Елену и объявил ее творческой мыслью верховного божества, родившего через нее архангелов и ангелов. Применяясь к христианским терминам, этот новозаветный «аферист» объявил себя отцом, сыном и святым духом.
Проповеди против симонии — один из самых распространенных видов антиклерикальной пропаганды, обвинявшей духовенство в продажности и в кощунственных злоупотреблениях саном.
(обратно)66
Флора и Филида. — Из «Carmina Burana». Характерное для вагантов стихотворение-диспут.
(обратно)67
Священник и волк. — Из «Кембриджской рукописи».
(обратно)68
Монах Иоанн. — Из «Кембриджской рукописи».
(обратно)69
Орфей в аду. — Из стихов примаса Гуго Орлеанского. Переосмысление Овидия в духе песен вагантов. Мольба о воскрешении Евридики, которую мы находим в стихотворении Гуго Орлеанского, лексически почти совпадает с соответствующим местом из «Метаморфоз». Однако поэт-вагант придает этой мольбе совершенно иную, более простонародную и живую интонацию.
(обратно)70
Чистую деву увозит Харон… — Харон — в греческой мифологии перевозчик теней умерших.
(обратно)71
«Ложь и злоба миром правят…» — Из «Carmina Burana».
(обратно)72
Восхваление истины. — Из «Carmina Burana».
(обратно)

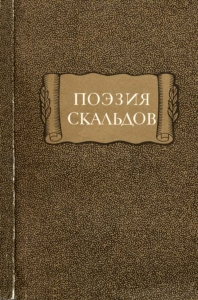

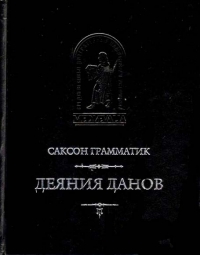



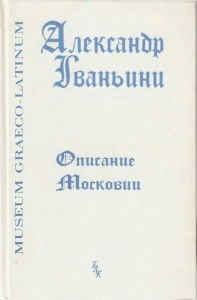
Комментарии к книге «Лирика вагантов в переводах Льва Гинзбурга», Автор неизвестен -- Европейская старинная литература
Всего 0 комментариев