Низами Гянджеви Сокровищница тайн
ВСТУПЛЕНИЕ
«В прославленье Аллаха, что благом и милостью щедр[1]» — Вот к премудрости ключ, к тайнику сокровеннейших недр. Размышленья начало и речи любой завершенье — Имя божье, и им ты закончи свое изложенье. Вечно существовавший, явившийся ранее всех, Пережить долженствующий существование всех, В изначальной пред-жизни старейшиной бывший над нею, И каламу времен ожерелье надевший на шею, — Он раздернул завесу со скрытых завесой небес, Сам сокрытый под высшей из прячущих тайну завес. Он — создатель ключей, где щедрот его влага струится, Зачинатель всего, что с его бытием единится. Он для пояса солнца из яхонтов создал убор, Наряжает он землю, на воды наводит узор. Учит пище духовной питающих глубь неземную, Воздвигает он день для снедающих пищу дневную. Бусы знаний он нижет на тонкую разума нить, Он для разума — свет, его глаза не даст он затмить. Ранить лбы он велит правоверным в усердных поклонах, Он дарует венцы на земных восседающим тронах. Не дает он сбываться тому, что людьми решено, Преступленье любое по воле его прощено. Устроитель порядка средь гама пришедших в смятенье, Он источник для тех, кто заранее знает решенья. Первый он и последний по качествам и бытию, Он на жизнь и на смерть обрекает державу свою. При всесилье его, что в обоих мирах не вместится, Все, что в нас и при нас, лишь коротким мгновением мнится. В долговечной юдоли вселенной, помимо творца, Кто воскликнуть бы мог: «Для кого здесь сиянье венца?» Все, что было и не было, все, что высоко и низко, Может быть и не быть, от не сущего сущее близко. Даже мудростью тех, кто воспитан с предвечных времен, Этот трудный вопрос и доныне еще не решен. Из предвечности знанье его — о морская пучина! Как безбрежная степь, вековечно оно и едино, Что первейшее в нем, не имело начала вовек. И последнее в нем окончанья не знало вовек. Саду плоти твоей от него животворная влага, Свет нарциссам твоим — от него исходящее благо. Все, где действует жизнь, проявляя свое естество, — Лишь служенье раба перед вечным господством его. Вековечен лишь он, остальному грозит перемена. Он один — пресвятой, никакого не знающий тлена. Благодарности полный, его многотысячный хор Славословит на шапке земли и на поясе гор. За завесою света скрывались щедроты творенья, — Сахар был с тростником, были с розой шипы в разобщенье. Но лишь дал он щедротам цветенье, щедроты лия, Тотчас цепь бытия разрешилась от небытия. В неуемном стремленье к двум-трем деревням разоренным[2] Было небо в смятенье, неявное в несотворенном. Узел, мысль сожигающий, не был еще разрешен, И Локон ночи тогда был ладонями дня полонен. Только жемчуг небес нанизал он в ряды узорочий, Пыли небытия не оставил на локонах ночи. Из кругов, что на небе его изволеньем легли, Семь узлов завязал он, деля ими пояс земли. Стало солнце в кафтане являться, а месяц в халате: Было этому белое, этому черное кстати. Тучи желчный пузырь из морских он исторгнул глубин. Светлый Хызра источник из злачных извлек луговин. Утра полную чашу он пролил над темною глиной, Только камня устам не достался глоток ни единый. Из огня и воды, их мельчайшие части смешав, Создал яхонта зерна и жемчуга жирный состав. Ветер слезы земли, лихорадя, загнал нездоровый В печень камня, и яхонт родился, как печень, багровый. Божьей щедрости сад в процветанье привел небосвод, Птицу речи он создал, что небу на радость поет. Пальме слова он финики дал, что отрадны для духа, Жемчуг он языка не оставил без раковин слуха. Посадил за завесу безмолвную голову сна, Им и водному телу одежда души придана. Кинул пряди земли он на плечи небесные прямо, Непокорности мушку навел на ланиту Адама. С лика золота он отпечаток презрения смыл, Крови лунные розы он тучкой весеннею смыл. Ржу воздушную снять поручил он светилам лучистым, Душу утренних ветров он травам доверил душистым. В глине бьющую кровь там, где печень сама, поместил, Где биение сердца, биенье ума поместил. В утешение губ приказал появиться он смеху, Посадил он Венеру на пение, ночи в утеху[3]. Полночь — божий разносчик, он мускус продаст дорогой, Новый месяц — невольник со вдетою в ухо серьгой. О стопу его речи, чьи силы от века велики, Камень лоб раздробил у шатра, что достоин владыки[4]. Легковесная мысль вкруг него исходила пути, Но с пустыми руками от двери пришлось отойти. Много троп исходив, сокровенной не вызнали тайны, Равных с ним не нашли, все дела его — необычайны. Появился и разум, его я на помощь призвал, — Но постиг свою грубость и сам же его наказал. Тот, в кого острием его циркуль однажды вонзился, Тот, как месяц, навек к постиженью его устремился. Кто на небе седьмом восседает, — стремятся к нему, Кто по небу девятому ходит, — стучатся к нему. Небосвода вершина в уборе его ожерелий, Страстью недра земли изначально к нему пламенели. Каждый именем жив всемогущим благого творца, Вечность к трону его ступенями ведет без конца. Особливо богаты дарами уставших в дороге Возвестители божьи, чьи вервием связаны ноги. Те сердца, что как души святой чистотою горят, Только прахом лежать притязают у божиих врат. Но из праха у врат его зернышко вышло такое[5], Что пред садом его сад Ирема — сказанье пустое. Так и прах Низами, что изведал поддержку его, — Нива зерен его и единства его торжество.ПЕРВОЕ МОЛЕНИЕ О НАКАЗАНИИ И ГНЕВЕ БОЖИЕМ
Ты, который во времени быть повелел бытию! Прах бессильный стал сильным, окреп через силу твою. Знамя вьется твое над живущею тварью любою, Сам в себе существуешь, а мы существуем тобою. Ты вне родственной связи, родни для тебя не найдешь, Ты не сходен ни с кем, и никто на тебя не похож. Что одно существует вовек неизменно — не ты ли, Что истленья не знало и впредь неистленно — не ты ли! Все мы тленны, а жизнь, что не знает предела, — тебе! Всесвятого, всевышнего царство — всецело тебе! Прах земиой повеленьем твоим пребывает в покое, Держишь ты без подпоры венчанье небес голубое. Кто небес кривизну наподобье чоугана возвел? Соли духа не ты ли подсыпал в телесный котел? Если сменою ночи и дня управляешь ты въяве, То воскликнуть «я — истина!» ты лишь единственный вправе. И когда б в мирозданье покой не пришел от тебя, К твоему бы мы имени влечься не стали, любя. Благодати твоей снизойти лишь исполнилось время, Нагрузила земля себе на спину тяжкое бремя. Если б землю не создал ты с благами стольких щедрот, То под грузом земли человек надорвал бы живот. Поклонения бусы твое лишь нанижет веленье, Поклоненье — тебе лишь, запретно другим поклоненье. Лучше вовсе молчать тем, кто речь не ведет о тебе, Лучше все позабыть, если память пройдет о тебе. Кравчий ночи и тот перед чашей твоею смутится, Славит имя твое на рассвете поющая птица. Выйди, сдернув завесу, единый во всем искони, Если я — та завеса, завесу скорее сверни. Небосвода бессилье лишь ты небосводу покажешь, Узел мира от мира единственный ты лишь отвяжешь. Знак теперешних дней уничтожь, будь судьею ты сам, Новый образ принять повели ты небесным телам. Изреченным словам прикажи ты к перу возвратиться, Снова займу земли прикажи ты в ничто обратиться. Блага света лиши достоянье поклонников тьмы, Отведи от случайного в сущность проникших умы. Столик шестиугольный своим раздроби ты ударом И расправься решительно с девятиножным мимбаром[6]. Ларчик ясного месяца в глину ты нашу забрось, Круглый камень Сатурна в Венерину чашу забрось. Ожерелье рассыпь, от которого ночи светлее, Птице ночи и дня ты крыло обломай не жалея. Эту глину, прилипшую к телу земли, соскреби! Тот кирпич, образующий тело земли, раздроби! Пыли ночи вели ты с чела у небес осыпаться Пусть Чело низойдет, а Шатру не вели подыматься[7]. Долго ль будет звучать этот новый напев бытия? Хоть бы ноту из прежних вернула нам воля твоя. Опрокинь же и выбрось согласье всемирного строя, Выю неба избавь от кружения сфер и Покоя. Пламя неправосудья — насилья огнем остуди, Ветер волей своей ниже пыли земной посади. В пепел ты обрати звездочетов ученых таблицы, Почитателям солнца веля, чтоб закрыли зеницы. Месяц ты уничтожь, не достигший еще полноты, О, отдерни завесу с пустой и ничтожной мечты! Чтоб явили они божества твоего непреложность, И свою пред тобой засвидетельствовали ничтожность. Мы — рабы, нерасцветший цветок в опояске тугой, Мы — цветы с нетелесною плотью. Мы живы тобой. Если пролил ты кровь, то за это не платишь ты пени, Тот, кто в петле твоей, и подумать не смей о замене. Можешь ночи стоянку по воле своей продлевать. Закатившийся день поутру ты приводишь опять. Если даже на нас ты и сильно прогневан, для жалоб Среди нас никому ни охоты, ни сил не достало б. Ты душе человеческой разум и свет даровал, Ты испытывать сердце язык человечий призвал. Небо движется, полюс недвижен твоим изволеньем, Влажен сад бытия, не обижен твоим изволеньем. Взгляд шиповника нежный прозрачен в предутренний час, — Но не воздух, а пыль твоих ног — исцеленье для глаз[8]. За завесою светит последнего лотос предела, Славословить тебя — языка человечьего дело. О единстве твоем не умолкнет твой раб Низами, Он в обоих мирах — только пыль пред твоими дверьми. Так устрой, чтобы мысли его лишь тебе отвечали, Ныне выю его ты избавь от капкана печали.ВТОРОЕ МОЛЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВСЕПРОЩЕНИИ БОЖИЕМ
В мире не было нас, ты же был в безначальности вечной. Уничтожены мы, ты же в вечности жив бесконечной. Твоего изволенья коня запасного ведет Мир в круженье своем, а попону несет небосвод. Мы — бродяги твои, о тебе мы бездомны и нищи, Носим в ухе кольцо[9], словно дверь в твоем горнем жилище. Мы тобой таврены, а собаку со знаком чужим Государь не допустит к державным охотам своим. Ты же нас допустил, ибо сад твой всевечный над нами, Мы — с ошейником горлицы, псы мы с твоими таврами. От создателей всех отклонили мы наши сердца, Нас лелеешь один, не имеем другого отца. Наше ты упованье, и ты устрашение наше. Будь же милостив к нам и прости прегрешение наше. О, подай же нам помощь, помощника мы лишены, — Если ты нас отвергнешь, к кому ж мы прибегнуть должны? Что же вымолвил я? Что сказал языком я смиренным? Лишь раскаянья смысл в изреченном и неизреченном. Это — сердце — откуда? Свобода свершенья — отколь? Кто я сам? К твоему всевеличью почтенье — отколь? Как пустилась душа в этом мире в свой путь скоротечный! Как стремительно сердце впивало источник предвечный! Тщась познать твои свойства, у нас ослабели умы, Но хадис «О постигшем аллаха»[10] усвоили мы. Речь незрела у нас, своего мы стыдимся усердья, За незрелость ее да простит нас твое милосердье! Прибегаем к тебе мы, ничтожнее нежели прах, Прибегаем к тебе, на тебя уповая, аллах. Утешителей друг, ты утешь нас по милости многой! О, беспомощных помощь, своей поддержи нас подмогой! Караван удалился, отставшим вослед посмотри, Ты на нас, одиноких, как добрый сосед посмотри! Нет подобных тебе. Не в тебе ли защита, в едином? Сирых ты покровитель, — к кому же иному идти нам? Совершая молитву, мы взор обратим на тебя. Если ты к нам неласков, то кто ж приласкает любя? Чьи к тебе протянулись с таким упованием руки? Кто стенает, как мы, чьи сильнее душевные муки? Слезно молим тебя: отпущение дай нам грехов, Будь опорой пришедшим под твой защитительный кров! Чрез тебя Низами и господство узнал и служенье. Ныне имя его вызывает в любом уваженье. Дарованью приветствий наставь его скромный язык, Сделай так, чтобы сердцем твое он величье постиг!В ПОХВАЛУ БЛАГОРОДНЕЙШЕГО ПОСЛАННИКА
«Алиф», только лишь был он на первой начертан скрижали[11], Сел у двери, ее же пять букв на запоре держали. Дал он петельке «ха» управленье уделом большим, Стали «алифу»: «даль» ожерельем и поясом «мим». И от «мима» и «даля» обрел он над миром главенство, Власти царственный круг и прямую черту совершенства. Осеняемый сводом из сих голубых изразцов, Благовонным он был померанцем эдемских садов! Таковы померанцы: они настоящей порою Созревают сперва, а потом зацветают весною. «Был пророком» — хадис, что со знаменем вышел вперед[12], Поручил он Мухаммеду кончить пророков черед. Хризолитовым перстнем стал месяц с желтеющим светом, А Мухаммеда — знак драгоценным его самоцветом. В ухе мира висит его «мима» златое кольцо, И покорно Мухаммеду мира двойное кольцо. Ты измерил пространства, тебе и мессия слугою, Все — твои благовестники, все они с вестью благою. Шаг за шагом, когда возносился он прочь от земли, Ввысь и ввысь небеса его в страхе смиренном несли. И глядели насельцы обоих миров на пророка И в поклоне земном головами склонялись глубоко. Он последней ступени коснулся ногой, но за ней Поднялся и еще на божественных сто ступеней. Скакуна с его стойлом высоким внизу он оставил, О попоне заботу оставшимся здесь предоставил. Он жемчужиной стал, обретенною в море земли, Небеса же ее до венца божества донесли. Ночью темной, как амбра, жемчужину неба ночного Бык небесный похитил, изъяв из ноздри у земного[13]. И когда наступил путешествию должный конец, Близнецы ему дали свой пояс и Рак свой венец. Неба Колос[14] расцвел при одном появленье пророка, Этот Колос расцветший от Льва он отбросил далеко. Чтоб измерить, насколько той ночи цена велика, На Весах ее вес проверяла Венеры рука. Но столь грузную гирю не взвесить такими весами, Легче гири тяжелой весы оказалися сами. И пока проносился пророк меж сияющих звезд, Чашу противоядья излил Скорпиону на хвост. Вдаль метнул он стрелу, где его проходила дорога, Ею был уничтожен губительный вред Козерога[15]. Стал Иосифом в Кладезе, солнцу подобно, пророк, Стал Ионою Рыб, ибо Кладезь от них недалек[16]. И лишь в знаке Тельца он поставил Плеяды престолом, Сразу войско цветов разбросало палатки по долам. И лишь в горном саду на лужайке раскрылся цветок, Наступил на земле расцветания вешнего срок. После с неба седьмого повел он почтительно речи, У пророков прощенья просил, что зашел столь далече. Звездный занавес неба шаги разрывали его, На плече своем ангелы знамя держали его. Полночь мускус наполнил дыханья его неземного, Полумесяцем в небе коня его стала подкова. В эту темную ночь даже молния в беге своем Не могла бы поспеть за его быстроногим конем. Словно сокол с шажком куропатки, с пером голубиным, Уносился Бурак, лучезарен, к небесным глубинам. Вечный «лотос предела» — сорочки пророка перед, Край девятого неба задел он, свершая полет. Стала днем эта ночь — дня прекрасней земля не знавала! Стал цветок кипарисом — прекрасней весны не бывало! Из нарциссов и роз, что в небесном саду разрослись, Глаз-нарцисс лишь один насурмлен был стихом: «Не косись!»[17] Лишь девятых небес по ступени достиг бирюзовой Цвет нарцисса, руками подхваченный снова и снова, — Его спутники вдруг побросали щиты в забытьи, Поломали воскрылья, развеяли перья свои. А пророк чужестранцем, чья долго тянулась дорога, В дверь смиренно кольцом постучал на пороге чертога. И, завесою скрыты, тотчас охранявшие дверь Пропустили его, — одинок он остался теперь. Шел он дальше без спутников, по неизвестной дороге, Сам теперь он не ведал, куда приведут его ноги. А другие остались и внутрь не проникли за ним, Он же вдруг изменился: не прежним он был, а иным. Засияли венцом его ноги на темени мира, И девятое небо ликуя с ним жаждало пира. И по буквам девятого неба провел он калам, С рукава у небес он списал сокровенный «алям»[18]. Длилось мерно дыханье в своем обиталище тесном, Обладатель души подвигался в обличье телесном. Наконец он и края девятого неба достиг, — И остались в пророке душа лишь и сердце в тот миг. К дому сути своей поспешало весомое тело, Очи стали такими, что нет изумленью предела. Очи, коим доступен предвечный божественный свет, Мы представить не в силах, и слов подобающих нет. Свой возвышенный путь продолжал он, исполнен величья, — От себя он отбросил завесу земного обличья. Лишь на путь запредельный вступил он, его голова Поднялась, чтоб ее не стеснял воротник естества. Высочайшие помыслы сердца, чей свет беспределен, Там достигли привала, где всякий привал уж бесцелен. За завесу проникнуть стремленье объяло его, Но смятенье пред местом вперед не пускало его. И откинула вскоре завесу рука единенья, И небесный стал виден дворец через дверь поклоненья. И нога голове уступила способность войти, — Ничего совершенней душа не могла бы найти! Он ступил, но стопа не ступала: исчезла основа. Он подпрянул, но места не мог обрести никакого. Как значенье из слова, пророка был выявлен свет. Было принято «слово» и сказано было «привет!» Чудо вечного света, который вовек не убавить, Лицезрел он очами, — но их невозможно представить! Лицезренью его были чужды случайность и суть, За случайность и суть далеко перешел его путь. До конца, безусловно, как мудрые молвят неложно, Бога он лицезрел: лицезрение бога возможно. Да не будет же скрыто, что на небе видел пророк. Да ослепнет сказавший, что бога он видеть не мог. Он не зрел божества никакими иными глазами, Видел этими самыми, видел земными глазами! Вне пространства и места он эту завесу узрел, Он вне времени шел, в недоступный проникнув предел. Каждый, кто ту завесу узреть получил дозволенье, Был допущен туда, где отсутствуют все направленья. Есть и будет Аллах, но в каких-либо точных местах Нет ему пребыванья, и кто не таков — не Аллах. Отрицая незыблемость божью, порвешь ты с исламом, Бога с местом связуя, невеждою будешь упрямым. Бог вино замешал, эту чашу пригубил пророк И на прах наш невечный из чаши той вылил глоток. Вечносущего милость его провожала дыханье, Милосердье его исполняло пророка желанья. Губы сластью улыбки изволил украсить пророк, Правоверных к молитве своим он призывом привлек, Каждый помысл пророка изведал богатство свершенья, И увидел пророк всех желаний своих исполненье. Стал он мощен, побыв в той обители рядом с творцом, И к мирской мастерской, возвратясь, обернулся лицом. Горный путник любовь нам в подарок принес благодатно, Он в мгновенье одно отлетел и вернулся обратно. Ты, чьи речи печатью замкнули наш смертный- язык, Ароматом своим животворно ты в души проник. Пусть же щедрость твоя, о всевышний, не знает предела, — Помоги Низами до конца довести его дело.ВОСХВАЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Он украсил все девять небес и седмицу планет, Был последним посланцем, последним пророком Ахмед. Разум — прах под ногами его, без предела и срока Мир, и тот и другой, к торокам приторочен пророка. На лужайках услад гиацинту свежей не цвести, В море тайн драгоценней жемчужины ввек не найти. Девой звездной встает гиацинт среди неба дневного, В алом яхонте солнца его изначально основа.[19] Сахар губ не желал он в улыбке раскрыть никогда, Чтобы жемчуг его у жемчужниц не вызвал стыда. Сердца тверже, чем камень, вовек не поранил он грубо, — Как же камень пророку мог выбить жемчужину зуба?[20] Но одной из жемчужин лишил его камень врага, Отделил от него, обездолив его жемчуга. Из темницы ларца от него унеслась драгоценность, — Удивляться ль, что в камне тогда родилась драгоценность? Было каменным сердце у камня, безумствовал он: Был поступок его лихорадочным жаром внушен. Муфарриха вкусить разве камню нашлась бы причина; Если б жемчуга он не разбил, не растер бы рубина? Чем уплачивать виру? Мошна ведь у камня пуста, — Как же вздумал он прянуть и сжатые ранить уста? Пусть внесут самоцветы, из камня рожденные, плату За разбитые губы, — оплатят ли зуба утрату? Драгоценные камни, возникшие в недрах земли, За жемчужину зуба как вирою стать бы могли? Стала вирой победа[21], в боях добыла ее сила, Добровольно победа главу пред пророком склонила. Он кровавою влагой омыл свой пораненный рот, Миру вновь показал, что своих не жалеет щедрот. Взял он выбитый зуб и врагу, без вражды и без лести, Отдал в знак благодарности и отказался от мести. От желаний былых он отрекся затем, что ни в чем Он в обоих мирах не нуждался, ни в этом, ни в том. В управлении войск, под его воевавших началом, Бранным стягом была его длань, а язык был кинжалом. Зуб кинжалом извергнут его языка, потому Что остро лезвие и зазубрины вредны ему. Но зачем же все это? — чтоб люди от терний бежали, Зная щедрость пророка, и розою дух услаждали. Для чего же колючки, коль розы обильны твои? Неужели ты четки на хвост променяешь змеи? Откажись от ворон, если раз любовался павлином, В сад иди, если раз был ты пеньем пленен соловьиным. Розой дух Низами, осененный пророком, цветет, Он над зарослью роз соловьем сладкозвучным поет.ВОСХВАЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Ты, с чьей плотью пречистые души и те не сравнимы! Дух твой кликом взлелеян: «Всю жизнь за тебя отдадим мы!» Мира центр, над тобой милосердия зданье взнеслось, Ты у слова «страданье» начальную точку унес[22]. Караванам арабским звездою ярчайшею самой Ты в пустыне сияешь, ты — шах венценосцев Аджама. Им не кажешь пути, и однако же ты их ведешь. Не живешь ты в селенье, — селенья ты староста все ж. Те, кто щедры, как ты, — коль захватят на зрелище снеди, Есть не будут одни, если голодны рядом соседи. Вдоволь фиников свежих вкусил ты, — со скатерти той Ты принес ли и нам то, что гость забирает с собой? О, разверзни уста, чтобы сахар отведать могли мы, Кушать финики те, что твоею слюною живимы. О, волос твоих ночь! В ней спасения день навсегда! Запылает твой гнев, — это пламя — живая вода. Перед ликом твоим мой смущением ум озадачен, Но власы твои — цепи для тех, чей рассудок утрачен. Стал рабом небосвод, и твой пояс на вые его, Улыбается утро от солнца лица твоего. Мир тобою спасен, во грехе пребывавший от века, По твоей благодати священною сделалась Мекка. Благовонному праху последним приютом дана, Целиком благовонной арабская стала страна. Чудодейственней прах твой, чем ветер царя Соломона. Что скажу о садах? — лучше рая их злачное лоно. Кааба, тот ковер, где Аллаху вознес ты хвалы, Жаждет розовой влаги испить из твоей пиалы. В этом мире твой трон, и твоя здесь сияет корона. Небеса — твой венец, а земля — основание трона. Тени нет у тебя, ибо сам ты — величия свет, Света божьего отблеск, — иди же, препон тебе нет! На четыре основы твое оперлось мусульманство, Пять молений на дню — твоего ноубаты султанства[23]. Ты причина, что прах покрывают цветы и трава, Ты причина, что спала с очей чужестранцев плева. Не твои ли шаги, распустившею волосы ночью, По небесному своду полу провлачили воочью, И в полу небосвода и злато и жемчуг текут, И рубаху небес залатал уже солнца лоскут[24]. Ветер утренний, вея, своею рукою пречистой Растирает в жемчужнице утра состав твой душистый. И повсюду, где веет тот ветер, — смятенья полна, Амбры темная рать уж бросает свои знамена. Если запах той амбры отдашь, согласившись на мену, За два мира, то знай: ты назначил дешевую цену. Дивен «лотос предела» — и им твой престол окаймлен, А девятое небо — слуга, тебе ставящий трон. Свет предвечности первый душе твоей влился в оконце, Что девятое небо? — пылинка в сияющем солнце! Если б зеркала круг не был утром предвечным воздет, То на низменный прах не упал бы твой истинный свет[25]. Сливший в лоне два мира, лежишь ты, землею покрытый, Ты не клад драгоценный, — зачем же таишься зарытый? И такие сокровища в низменном прахе лежат! Вот откуда обычай глубоко закапывать клад. Эта бедность — руина, где клад твоей сути таится, Тень твоя мотыльком на свечу твоей сути стремится. Цель твоя — небосвод с дуговидным изгибом его, Дужка горней бадьи — лишь веревка ведра твоего[26]. Двое — черный и белый[27], — что вечно по кругу стремятся, Извещают тебя, что в дорогу пора подыматься. Разум ищет здоровья, и врач исцеляющий — ты. Диво, месяц пленившее, в небе блуждающий — ты. Ночь для чающих в день обрати всемогущим веленьем, Озари Низами нескудеющим благоволеньем!ВОСХВАЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Ты, с мединским плащом и мекканской вуалью![28] Доколе Солнцу сути твоей укрываться во тьме и неволе? Если месяц ты, дай нам хоть тоненький лучик любви! Если розой расцвел, нас в божественный сад позови! У заждавшихся срока уж губ достигает дыханье, Мы взываем к тому, кто взывающих слышит воззванье. Правь к Аджаму коня, расставайся с арабской страной, — Ждет буланый дневной, наготове ночной вороной. Этот мир обнови, о, устрой благомудро державу, По обоим мирам ты разлей свою добрую славу. Сам монету чекань, чтоб эмир их чеканить не стал, Сам молитвы читай, чтоб хатиб их читать перестал. Прах твой лоно земли благовонием розы овеял, — Только ветр лицемерья сегодня тот запах рассеял. Отними ты подушку у тех, кому сладок покой, Ты мимбар от нечистых священным обмывом омой. Дэвы в дом забрались, — прогони же ты их, прогони же! В закром небытия ниспровергни ты сонм их бесстыжий! Им убавь содержанье, — и так набивают живот! Отними их наделы — довольно им грабить народ! Все мы — тело. О, будь нам душою, и станет светло нам. Если мы муравьи, ты для нас окажись Соломоном[29]. Таковы их повадки: и делают в вере пролом, И они же потайно в засаде сидят за углом. Ты над стражею главный — а где каравану защита? Ты начальствуешь центром — и знамя лишь в центре развито? Кликни праведным воинам клич боевой: «О Али!», Возгласи: «О Омар!», чтоб стопы Сатаны не прошли. Ночь волос распусти вкруг сиянья луны, о владыка, Из потемок плаща подыми ты сияние лика. Препоясайся в бой, — малочисленны эти ханжи. Вредоносной исламу, их клике конец положи! Дней пятьсот пятьдесят мы проспали[30], проснуться нам впору, Близок мира конец, поспешай ко всеобщему сбору. Из могилы восстань, прикажи Исрафилу задуть Тех светильников пламя, что в небе свершают свой путь. За завесою тайн в одиноком пребудь отрешенье. Мы заснули давно — час настал твоего пробужденья. Этот дом погибает, махни же рукой, отойди. От погибели дома, — но за руку нас поведи. Все, что ты одобряешь, достойно всегда оправданья, И никто на тебя наложить не намерен взысканья. Если взором ты будешь глядеть благосклонным на нас, Все, что нам на потребу, доставить ты сможешь тотчас. Круг перстом обведи, указуя предел расстояньям, Чтобы сущее все оказалось твоим достояньем. Кто участвовать мог бы в вершимых тобою делах, Чтоб помилован был уместившийся в горсточке прах? Только занавес тайны рукой твоей будет откинут, Власяницы свои оба мира совлечь не преминут[31]. Прежде мозг Низами о тебе был тоскою томим, — Ныне вновь оживлен благовонным дыханьем твоим. Верность в душу поэта вдохни в этом мире коварства И его нищете подари Фаридуново царство,ВОСХВАЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Ты в короне посланцев жемчужина выше сравненья Тем даруешь венцы, кто возвышен по праву рожденья. Те, кто здесь рождены или в чуждых пределах живут, В этом доме толпясь, твоего покровительства ждут. Тот, кем бейт бытия был во имя посланника начат, Знал, что имя его только рифмой конец обозначит[32]. Мир в развалинах был, но когда указанье пришло, Вновь тобой и Адамом отстроено было село. В воздвигаемом доме мы лучшей красы не встречали, Чем последний кирпич и вода, налитая вначале. Ты — Адам, ты и Ной, но превыше, чем тот и другой, Им обоим тобою развязан был узел тугой. Съел Адам то зерно[33], где исток первородного срама, Но раскаянье слаще варенья из роз для Адама. В покаянный цветник благовонье твое пролилось, И лишь пыль твоей улицы — сахар адамовых роз. Лишь по воле твоей роз раскаянья сердце вкусило. Так раскаялись розы, что сахаром их оросило. Мяч покорности богу в предвечности был сотворен, На ристалище сердца посланником брошен был он. Был Адам новичком, — с чоуганом еще незнакомый, Мяч он клюшкой повел, этой новой забавой влекомый. Но когда его конь устремился пшеницу топтать, Мяч пришлось ему бросить и в угол ристалища стать.[34] Ной живою водой был обрадован, мучась от жажды, — Но изведал потоп, потому что ошибся однажды. Колыбель Авраамова много ль смогла обрести? — Полпути проплыла и три раза тонула в пути[35]. Лишь Давиду стеснило дыханье, он стал поневоле Низким голосом петь, как певать не случалось дотоле. Соломона был нрав безупречен, но царский удел Лег пятном на него, и венца он носить не хотел. Даже явное видеть Иосиф не мог из колодца, — Лишь веревку с бадейкой, которой вода достается. Хызр коня своего повернул от бесплодных дорог, И полы его край в роднике животворном намок. Увидал Моисей, что он чаши лишен послушанья, И о гору «Явись мне» сосуд он разбил упованья[36]. Иисус был пророком, но был от зерна он далек, А в пророческом доме не принят безотчий пророк. Ты единственный смог небосвода создать начертанье, Тень от клюшки один ты накинул на мяч послушанья. На посланье — печать, на печати той буквы твои. Завершилась хутба при твоем на земле бытии. Встань и мир сотвори совершеннее неба намного, Подвиг сам соверши, не надейся на творчество бога. Твой ристалищный круг ограничен небесной чертой, Шар земной на изгибину клюшки подцеплен тобой. Прочь ничто удалилось, а бренность не вышла на поле, — Так несись же, скачи — все твоей здесь покорствует воле! Что есть бренность? Из чаши похитит ли воду твою? Унести твою славу по силам ли небытию? Ты заставь, чтоб стопа небытья в небытье и блуждала, Чтобы бренности руку запястие бренности сжало. Речь дыханьем твоим бессловесным дана существам, Безнадежную страсть исцеляет оно как бальзам. Разум, вспомоществуем твоим вдохновенным уставом, Спас нам судно души, погибавшее в море кровавом. Обратимся к тебе, обратясь к девяти небесам, Шестидневный нарцисс[37] — украшенье твоим волосам. Наподобье волос твоих мир всколыхнется широко, Если волос единый падет с головы у пророка. Ты умеешь прочесть то, чего не писало перо, Ты умеешь узнать то, что мозга скрывает нутро. Не бывало, чтоб буквы писал ты своими перстами[38], Но они никогда не стирались чужими перстами. Все перстами сотрется, лишится своей позолоты, — Только речи твои не доставили пальцам работы. Стал лепешкою сладкою прах из-под двери твоей, Улыбнулись фисташкою губы, кизила алей. Хлеба горсть твоего на дороге любви, по барханам, Это на сорок дней пропитанья — любви караванам. Ясный день мой и утро спасенья везде и всегда! Я у ног твоих прах, ибо ты мне — живая вода. Прах от ног твоих — сад, где душа наполняется миром, И гробница твоя для души моей сделалась миром. Из-под ног твоих пылью глаза Низами насурмлю, И попону коня на плечо, как невольник, взвалю. Над гробницей пророка, подобной душе беспорочной, Поднимусь я как ветер и пылью осяду песочной. Чтобы знатные люди из праха могли моего Замешать галию и на голову вылить его.ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЦАРЯ ФАХРАДДИНА БАХРАМШАХА СЫНА ДАУДА
В этом временем созданном мире, как точка в кругу, Пребываю я пленным и с центра сойти не могу. С ног мне пут не сорвать. Я твоей добротой обеспечен. Я под сенью твоей, сам же фарром царей не отмечен. В прах сыпучий земли я ногами глубоко залез, Между тем мои руки — в суме переметной небес. С головою склоненной я шел размышлений тропою, Молча шел со склоненной до самых колен головою. Пролилось на колени сиянье лица моего, И зерцалом души они стали от света его. Был я мыслями весь погружен в созерцанье зерцала, А зерцало очей окружающий мир созерцало, — Не блеснет ли зерцало иное, сияньем маня, Не сверкнет ли откуда нежданный огонь для меня? И лишь только мой разум, прийти к заключенью способный, Мир вокруг обежал и разведкой проверил подробной, Между разумов высших мой разум увидел царя, Раздающего саны, живущего благо творя, Шаха с дланью победной, счастливой звездой всемогущей, Мира розовый куст, под лазоревым сводом цветущий, В Хызре дух Александра, суждений прозрачный родник, И вождя звездочетов, что в смысл Альмагеста проник. В нем первейшую цель мои очи сейчас же узрели, В нем, к кому обращается стих, именуемый «Цели»[39]. Чей венец — небосвод, чьей печатью владел Соломон. Мудрый царь Фахраддин, слава мира и гордость времен! Он рожден от Давида, и стало для сына законом, Чтоб его самого величали царем Соломоном[40]. Стяг Исхака высоко его иждивением взвит, Если есть ему враг, то единственно — исмаилит. Все пределы земли восхищает не знающий страха, Центр небесных кругов, тот, что именем горд Бахрамшаха. Он — и тот, осененный Бахрамом и тоже Бахрам, Ловчий, бивший онагров, онагром же прозванный сам[41]. Им кичатся владыки, затем, что он прочих могучей, Он — прославленный веком знаток наивысшего лучший. Трон султанов он занял и занял халифов престол, Одолел византийцев, абхазцев к покорству привел. Из живущих людей справедливостью самый богатый, Самый щедрый из щедрых, пытливостью самый богатый. Небосвод — твоя вера, державство — звезда в небесах, Не жемчужница ль царство, те жемчуг ли — ног твоих прах! Он ручей, он и море, в них рыб и жемчужин немало, Нет прозрачней ручьев и обильней морей не бывало. Этот ртути источник по длани его наречен[42], Как и ртуть, постоянно бежит и колышется он. Тот смеющийся лал, украшающий пояс пророка[43], В пояс горний попав, поднимается лалом с востока. С ним затеять борьбу не захочет никто никогда, — Из окна голубого на дерзкого грянет беда. Колокольчика звоном литавру небес он расколет И сосудец луны — только дунуть в него соизволит! Сердце весело в нем, зачинает он ладно дела, Человечен душой, завершает изрядно дела. Щедрость — чаша твоя, с нею кравчий — рука нераздельна, — Век в ней будет вино, ибо шахова жизнь беспредельна. Благородство людей и деяния их — от тебя. Свет у мира в очах, все сияние их — от тебя. Дар за даром, победы у неба берешь без опаски, Сразу девять утроб тяжелы от одной твоей ласки. Уши рыб, что внизу и вверху, рады створками стать Тех прекрасных жемчужин, что будут твой меч украшать[44]. Ясный месяц, что ночью свой меч над землею возносит, Только меч свой завидит — и щит, опозорившись, бросит. Меч твой светлый — струя, что как воды Евфрата чиста, Ею разлит сосуд, где врагов твоих жизнь налита. Тот, кто гневом затоплен твоим, упоенный покоем, Будет паводком смыт, если б он оказался и Ноем. Кей-Хосров ты умом, твою чашу наполнил Джамшид, Мотыльком на свече — на лице твоем солнце сгорит. Будь же в храбрости львом — ведь и храбрый с тобою не спорит, «Львом» — сказал я? Ошибся: и льва твоя сила поборет. Ты из племени львов, что по зарослям частым живет. Всех опаснее ты, пред тобой лишь дрожит небосвод. Закаленному в битвах, отважному сердцу какому Ополчаться на брань, чтоб тягаться с тобой по-пустому? Для всего, что родится под сводом небес голубых, Власть одна непреложна: могущество дланей твоих. Много знатных людей ты поставил на власть, как правитель, Но единственно ангел тебе самому покровитель. Начертала судьба: «Он последний в круженье времен», На земле твоей ветер семь букв написал: «Соломон». Бог, который дает благородство, и силу, и славу, Дал тебе, государь, разуменье всего и державу. Благодатные дни твои в золото пыль обратят, Лишь помянем тебя — и становится сахаром яд. Без тебя Фаридун пусть вино твое выпьет, — однако Все же вытянуть сможет змею из плеча у Заххака[45]. Пей вино! У тебя есть и кравчий и музыка, — пей! Ты снедаем печалью, — о, вспомни о власти своей! Ты охрана державы, султанов приют и опора, И мечом и венцом обладаешь ты, чуждый укора. Ты с мечом необорным сюда самовольно пришел, И венец захватил, и насильственно сел на престол, — Как законный халиф, соблюдаешь, однако, законы, Забираешь венцы, раздаешь, кому следует, троны. Выше царских венцов оконечность меча твоего, — Как же дани не брать с государей, признавших его? Трои получит глава, на которую встанешь пятою, Осчастливлено сердце, где занято место тобою. В птицу счастья, в Хумай, при тебе обратилась сова, Приближаясь к тебе, станет как бы ступней голова. Вновь на правильный путь те, кто сбились с пути, обратились, Слышны жалобы, жалобы: жалобы все прекратились. Рахш твой — мира оплот; у него к одному из копыт Недруг твой четырьмя — как подкова — гвоздями прибит. Семь небес — лишь ларец, где, как жемчуг, — души твоей блага, Восемь райских садов — твоего лишь полотнище стяга. Если лба не наклонит пред волей халифа гордец, То сейчас же уздечкой на нем обернется венец. Все ты знаешь на свете, постиг ты науки не все ли? Ты душа двух миров, что в одном сочетаются теле. Ухо щедрости тронь, благонравью людей научи, Дай дыханью зажечься о пламя словесной свечи! Ты раба своего удовольствуй почетным халатом, Книгу — дар Низами — ты согласья овей ароматом. Пусть он тучен от слов и духовными яствами сыт, За столом у тебя все же нищим и тощим сидит. Рудники — без рубинов, и нет уже в море жемчужин, Дай рубин им из уст, из руки твой жемчуг им нужен. А тому, кто завистлив, чья злоба кипит, горяча, Дай рубин наконечников стрельных и жемчуг меча. Если счастья звезда над тобою на небе зардела, Будь во славу твою окончанье начатого дела. Будь один одарен, а другой уничтожен тобой: Я — тобой одарен, уничтожен — твой недруг любой. Пусть победа твоя, словно стяг, держит голову прямо, Враг же голову клонит к земле, наподобье калама.О ПОЛОЖЕНИИ И ДОСТОИНСТВЕ ЭТОЙ КНИГИ
Я, которым прославлена свежая роза моя[46], В розах шахских садов распеваю звучней соловья. Я дышу лишь тобой, и все жарче и все полновесней, Словно в колокол, бью я своей призывающей песней. Для напева слова мне никто бы не смел указать, Говорю только то, что мне сердце велело сказать. Необычные вещи сегодня показаны мною. Новый очерк им создан, и каждая стала иною. Много утренних зорь о премудром раздумывал я. Из колдующих зорь ныне сшита завеса моя. В ней высокий удел и покорное нищенство слиты, И сокровища тайные этой завесой укрыты. Этот сахар не видел слетевшихся мошек. Я мал, Словно мошка, но все же я сахар чужой не сбирал. Этот мир недоступным окажется даже для Ноя, Даже Хызр свой кувшин разобьет у сего водопоя. И, взыскуя прекрасного, нужных искал я примет. Стал я жребий метать и благой получил я ответ. В двух краях книги две засверкали[47]. В своей благодати Два на них Бахрамшаха свои положили печати. Книга первая — золото. Новый открылся рудник. А вторая — жемчужина. Дар из пучины возник. Та — для всех из Газны понесла свое знамя. Другая — На румийском дирхеме чекан поместила, сверкая. Хоть звенит звонким золотом прежний блестящий дирхем, Мой дирхем золотой ты сравнить не сумеешь ни с чем. Пусть моих караванов не так многочисленны вьюки, Но сдаю свой товар я в прекрасные, в лучшие руки. Вникни в книгу мою. Книга будто чужда и странна, Но прими ее ласково. Близкою станет она. В ней слова, что цветы насажденного правильно сада. В ней лишь только свое, ничего ей чужого не надо. Все в ней создано лучше, чем в мире и суши и вод. Эта книга свежей и древней, чем лазоревый овод. И с окраской она всей сверкающей шири не сходна, И она с языком, существующим в мире, не сходна. Для стола твоего эти яства готовились мной. Их прими, государь, их никто не касался иной. Коль они хороши, то да будет тебе в них услада, Если нет, то и помнить о яствах подобных не надо. Ты читай мою книгу, блистая меж звездных гостей, Со стола своего ты мне кинь хоть немного костей. Я ведь только твой пес, и расстался я с роком угрюмым, Услужая тебе этим лаем покорным и шумом. Мне немало владык благосклонно внимало, но я Их оставил. Тебе предназначена служба моя. Будет время, я знаю, на верного глянешь ты с верой. И, приблизив меня, наградишь меня полною мерой. Хоть в чертог, где живут только те, чьи сверкают венцы, Для хвалений вседневных пришли отовсюду певцы, Оценить Низами кто из них не сумел? Одиноко Он стоит пред певцами, стоит перед ними высоко. На стоянке одной повстречался я с ними в пути. На один переход я их все же сумел обойти. Мой язык, что алмаз. Это меч мой, — тебе ведь он ведом. Я им головы снес, всем за мной появившимся следом. Этот меч Низами, многим головы сбросивший с плеч, Не стареет. Ведь он — притупленья не знающий меч. Хоть мне равных и нет и удел мой высок настоящим, — Но для ног Низами есть предел еще выше стоящий. Я к зениту лечу, хоть его и высоки сады, Но вкушу я, быть может, своих помышлений плоды. И, быть может, твоим благосклонным утешенный словом, Возле ног твоих царских склонюсь я под царственным кровом. Чтоб достичь небосвода, за пыль твоих стоп ухвачусь. До созвездий крутящихся как же еще я домчусь? Быть с тобой два-три месяца так я хотел, чтоб хвалами Твой порог осыпать. Но суровыми, злыми делами Занят горестный мир; я в кольце, и заказан мне путь, И тугое кольцо я не в силах сейчас разомкнуть[48]. Чтобы быть мне с тобой, чтобы встать мне у тронных подножий, — Мне казалось, о шах, из своей мог бы выйти я кожи. Но хоть множество львов на дорогах предчувствовал я, Хоть мечей и кинжалов сверкали везде лезвия, На путях, преграждаемых злыми клинками, — с тобою Пребываю душой. Утверждаю тебя я хутбою. Направляю к тебе я бегущую воду речей. Я — недвижный песок, словословья звенящий ручей. Я — пылинка. Ты — солнца на утреннем небе явленье. Я молюсь на заре. Да услышится это моленье! Сердце — море. В нем жемчуг. Мой жемчуг сияет огнем. Этот жемчуг — подвески на поясе царском твоем. Ночь твоя пусть вовек ярче звездных блестит узорочий! Пусть твои жемчуга озаряют течение ночи! Пусть тебя в сей обители бедствий не мучает гнет! Пусть другая обитель тебе еще ярче блеснет!РЕЧЬ О ПРЕВОСХОДСТВЕ СЛОВА
В час, как начал надзвездный свои начертанья калам[49], С первой буквы о слове он начал рассказывать нам. В час, как с тайны предвечной упали тумана покровы, Стало первым явленьем — сиянье великого слова. Слово в сердце проникло, к неведомой жизни спеша. В глину вольное тело вмесить пожелала душа. И небесный калам, золотые сплетая узоры, Мудрым словом раскрыл мировому познанию взоры. Если б не было слова, то кто бы о мире сказал? Слов поток развернулся; всезнающий, не был он мал. Слово страсти — душа. Мы — лишь только дыхание слова. Мы приходим к нему под сияньем всезвездного крова. Нити связанных мыслей, ночную развеявших мглу, Много слов привязали к стремительной птицы крылу. В том саду, над которым предвечные звезды повисли, Что острее, чем слово толкующих тонкие мысли? Ведай: слово — начало и ведай, что слово — конец. Многомудрое слово всегда почитает мудрец. Венценосцы его венценосцем всевластным назвали. Мудрецы же его доказательством ясным назвали. И порою оно величавость дает знаменам. И порою его прихотливый рисует калам. Но яснее знамен оно часто вещает победы, И калама властней вражьим странам несет оно беды. И хоть светлое слово не явит благой красоты Почитателям праха, чьи праздные мысли пусты, — Мы лишь в слове живем. Нас объемлет великое слово. В нем бесследно сгореть наше сердце всечастно готово. Те, что были, как лед, засветили им пламенник свой, А горящие души его усладились водой. И оно всех селений отраднее в этом селенье, И древней, чем лазурь, и, как небо, забыло о тленье. С цветом выси подлунной и шири не сходно оно, С языками, что слышатся в мире, не сходно оно. Там, где слово свой стяг поднимает велением бога, Там несчетны слова, языков там несчитанных много. Коль не слово сучило бы нити души, то ответь, Как могла бы душа этой мысли распутывать сеть? Весь предел естества захватили при помощи слова. Письмена шариата скрепили при помощи слова. Наше слово имел вместе с золотом некий рудник. Пред менялою слова он с этой добычей возник. «Что ценней, — он спросил, — это ль золото, это ли слово?» Тот сказал: «Это слово». — «Да, слово!» — промолвил он снова. Все дороги — до слова. Весь путь неземной для него. Кто все в мире найдет? Только слово достигнет всего. Слов чекань серебро. Деньги — прах. Это ведаем все мы. Лишь газель в тороках у блестящего слова — дирхемы. Лишь оно на престол столько ясных представило прав. И держава его всех земных полновластней держав. Все о слове сказать паше сердце еще не готово. Размышлений о слове вместить не сумело бы слово. Пусть же славится слово, пока существует оно! Пусть же всем, Низами, на тебя указует оно!ПРЕВОСХОДСТВО РЕЧИ, НАНИЗАННОЙ В ДОЛЖНОМ ПОРЯДКЕ, ПЕРЕД РЕЧЬЮ, ПОДОБНОЙ РАССЫПАННЫМ ЖЕМЧУГАМ
Если россыпи слов, что размерной не тешат игрой Те, что чтут жемчуга, жемчугами считают порой, Тонких мыслей знаток должен знать, что усладою верной Будет тонкая мысль, если взвешенной будет и мерной. Те, что ведают рифмы, высоко влекущие речь, Жемчуга двух миров могут к речи певучей привлечь. Двух сокровищниц ключ, — достижений великих основа, Есть язык искушенных, умеющих взвешивать слово. Тот, кто меру измыслил к напевам влекущую речь, Предназначил искусным блаженство дающую речь. Все певцы — соловьи голубого престола, и с ними Кто сравнится, скажи? Нет, они не сравнимы с другими. Трепеща в полыханье огня размышлений, они Сонму духов крылатых становятся часто сродни. Стихотворные речи — возвышенной тайны завеса — Тень речений пророческих. Вникни! Полны они веса. В том великом пространстве, где веет дыханье творца, Светлый путь для пророка, а далее — он для певца. Есть два друга у Друга, чья светлая сущность едина[50]. Все слова — скорлупа, а слова этих двух — сердцевина. Каждый плод с их стола — ты приникнуть к нему поспеши Он не только лишь слово, он свет вдохновенной души. Это слово — душа. Клювом глины ее исторгали[51]. Мысли кажет оно. Зубы сердца его разжевали. Ключ речений искусных не стал ли водою простой? От певцов, что за хлеб разражаются речью пустой? Но тому, для кого существует певучее слово, Дан прекрасный дворец. Он приюта роскошней земного. И к коленам своим наклоняющий голову — строг. Не кладет головы он на каждый приветный порог. Жарким сердцем горя, на колена чело он положит, [52] И два мира руками зажать он, как поясом, сможет. Если он, размышляя, к коленам склоняет лицо, Он в раздумье горячем собой образует кольцо. И, свиваясь кольцом, в бездну вод повергает он душу, И затем, трепеща, вновь ее он выносит на сушу. То в кольце созерцанья горит он, спешит он, — и вот Он вдевает кольцо даже в ухо твое, небосвод![53] То в ларец бирюзовый — уменья его и не взвесить! — Только шарик вложив, из него достает он их десять. Если конь его мчится и взлета страшна высота, Его дух, замирая, его лобызает уста. Чтоб достичь рудника, где свои добывает он лалы, Семь небес он пробьет, совершая свой путь небывалый. Как согласных детей, он слова собирает, — и рад Их к отцу привести. Их отец — им излюбленный лад. Свод небесный идет, изгибаясь, к нему в услуженье; Тяжкой службы тогда незнакомо певцу униженье. И становится благом напев его дышащих слов, И любовью становится множества он языков. Тот, кто образ рождает и мчится за образом новым, Будет вечно прельщаться его вдохновляющим словом. Пусть его Муштари чародейств поэтических чтут. Он подобен Зухре. Им повержен крылатый Харут. Если речи поклажа для дерзостных станет добычей, Речь унизят они; это всадников низких обычай. Их набеги готовы мой разум разгневанный сжечь! Украшатели речи лишают достоинства речь. Сердца плод, что за душу певец предлагает победный, — Разве это вода, что за пищу вручает нам бедный? Уничтожь, небосвод, этот ряд нам ненужных узлов, Препоясавших пояс! Щадить ли метателей слов? Ты мизинцем ноги развязать каждый узел во власти. Наши руки бессильны. Избавь нас от этой напасти! Те, что ждут серебра, а за золото на смерть пойдут, — Лишь одно серебро, а не золото людям несут. Кто за деньги отдаст то, что светит светлее, чем пламень, За сияющий жемчуг получит лишь тягостный камень. Что еще о «премудрых»? Ну, что мне промолвить о них? Хоть восходят высоко, они ведь пониже других. Тот, носивший парчу, тот, кто шаху казался любезным, Все же в час неизбежный куском подавился железным[54]. Тот, кто был серебром, тот, кто к золоту ртутью не льнул, От железа Санджара — ведь он — серебро! — ускользнул[55]. Речью созданный мед отдавать за бесценок не надо, Не приманивай мошек. Для них ли вся эта услада! Не проси. Ведь за верность без просьбы получишь дары. Для молитвы в стихах нужно должной дождаться поры. До поры, как Закон[56] не почтит тебя благостным светом, Не венчайся ты с песней. Смотри же, запомни об этом! Возведет тебя песня на лотос предельных высот, И над царствами мысли высоко тебя вознесет. Коль закон осенит твою песню высокою сенью, В небесах Близнецы не твоей ли оденутся тенью? Будет имя твое возвеличено. Ведает мир, Что «владеющий ладом в эмирстве речений — эмир». Небосводу не надо к тебе наклоняться. В угоду Светлым звездам твой стих будет блеском сродни небосводу. С головою поникшей ты будь, как подобье свечи. Днем холодный всегда, пламенеющим будь ты в ночи. Если мысль разгорится в движенье и жарком и верном, Станет ход колеса, как движение неба, размерным. Без поспешности жаркой свою облюбовывай речь, Чтобы к выбору речи высокое небо привлечь. Если в выборе медлишь и ждешь ты мучительно знанья, Лучший лад обретешь ты: дадутся тебе указанья. Каждый жемчуг на шею ты не надевай, погоди! Лучший жемчуг, быть может, в своей ты отыщешь груди. Взвивший знамя подобное — шар у дневного светила Отобрал[57], — и луна, с ним играя, свой мяч упустила. Хоть дыханье его не горело, не мчалось оно, То, что создано им, все ж дыханьем горящим полно. В вихре мыслей горя, он похитил — об этом ты ведай — Все созвездья, хоть сам пристыжён будет этой победой. Из крыла Гавриила коня он себе сотворил, И перо-опахало вручил ему сам Исрафил. Пусть посевов твоих злой урон от нашествия минет! Пусть конца этой нити никто у тебя не отнимет! Ведь с инжиром поднос стал ненужным для нас потому, Что все птицы из сада мгновенно слетелись к нему. Прямо в цель попадать мне стрелою певучей привычно. На меня посмотрите. Творенье мое — необычно. Мною келья стихам, как основа их мысли, дана. Дал я песне раздумье. Приемных не знает она. И дервиш и отшельник — мои не прельстительны ль чары? Устремились ко мне. Не нужны им хырка и зуннары. Я — закрытая роза: она в ожиданье, что вот На ее лепестки ветерок благодатный дохнет. Если речи моей развернется певучая сила — То молва обо мне станет громче трубы Исрафила. Все, что есть, все, что было, мои услыхавши слова, Затрепещет в смятенье от властного их волшебства. Я искусством своим удивлю и смущу чародея, Обману я крылатых, колдующим словом владея. Мне Гянджа — Вавилон, тот, которым погублен Харут. Светлый дух мой — Зухра, та, чьи струны в лазури поют. А Зухра есть Весы, потому то мне взвешивать надо Речь духовную. В этом от всех заблуждений ограда. В чародействе дозволенном пью я рассветов багрец, Вижу свиток Харута. Я новый Харута писец. Я творю, Низами, и своих я волшебств не нарушу. Чародейством своим в песнопевца влагаю я душу.О НАСТУПЛЕНИИ НОЧИ И ПОЗНАНИИ СЕРДЦА
Солнце бросило щит, и щитом черной тени земля Пала на воду неба, прохладу ночную суля. Сердце мира стеснилось. Светило так тяжко дышало. Ниспаданье щита все вокруг с желтым цветом смешало. И, спеша, войско солнца — его золотые лучи — Над его головою свои обнажило мечи. Если падает бык[58], хоть он был ожерельем украшен, Все клинки обнажают. Ведь он уже больше не страшен. Месяц — нежный младенец — за ночь ухватился, а та Погремушку мерцаний пред ним подняла неспроста: Ей самой был тревожен сгустившийся мрак, и для мира Не жалела она серебро своего элексира. И дыханьем Исы стал простор благовонный, земной; Светлой влагой он залил пылание страсти ночной. И смягчились настоем страдания мира больного, И о сумраке страстном он больше не молвил ни слова. Сколько крови он пролил! О, сколько ее он хранил! Он простерся на ложе, и стал он чернее чернил. И сказала судьба, все окинувши взором проворным: «Мир с неверными схож, потому-то и сделался черным[59]!» И мгновение каждое эта ночная пора Лицедейство творила, и кукол мелькала игра. И луна то белела, то в розах подобилась чуду, И Зухры яркий бубен дирхемы разбрасывал всюду.* * *
Я в полуночной мгле, что была распростерта кругом, Был в саду соловьем. Но мечтал я о саде другом. С кровью сердца сливал я звучание каждого слова; Жар души раздувал я под сенью полночного крова. И, прислушавшись к слову, свою я оценивал речь, И смогли мои мысли меня к этой книге привлечь. И услышал я голос: «Ты с мыслями спорить не смеешь, То возьми ты взаймы, что отдать ты бесспорно сумеешь. Почему на огонь льешь ты воду приманчивых дней, И запасный твой конь — буйный ветер мгновенных страстей? Буйный прах позабудь, будто в мире узнал он кончину. Но огонь ты отдай огневому, благому рубину[60]. Быстрых стрел не мечи, ведь сужденье разумное — цель. Плеть свою придержи. Неужель бить себя, неужель? Но настала пора. Оставаться нельзя неправдивым. К двери солнца приди водоносом с живительным дивом. Пусть твой синий кувшин наши взоры утешит сполна; Пусть он повесть хранит, и да будет отрадна она! От пяти своих чувств, от злодеев своих убегая, Путь у сердца узнай; иль не знать ему нужного края?» Тем, чье чистое племя[61] к девятому небу пришло, Гавриила пресветлого дивное веет крыло. От обоих миров отвратить поспешивший поводья, Встретив нищенство сердца, благие увидит угодья. «Сердце — глина с водой». Если б истина в этом была, Ты бы сердце такое у каждого встретил осла. Дышит все, что живет, что овеяно солнечным светом. Будь же сердцем горяч; бытие твое только лишь в этом. Что есть уши и очи? Излишек природы они. Видят только лишь плен, только синие своды они. Ухо — правды не слышит, как розы тугой сердцевина Очи разум смущают, они — заблуждений причина. Что же розы с нарциссами чтишь ты в саду бытия? Пусть каленым железом сжигает их воля твоя. Словно зеркало — глаз: отразится в нем каждый ничтожный. Он лишь в юности тешится мира отрадою ложной. Знай: природа, что миру твой сватает разум, — должна Сорок лет ожидать. Денег раньше не сыщет она. Все же за сорок лет, чтобы стать пред желанным порогом, Много денег она разбросает по многим дорогам. Ныне друга зови. Заклинанья иные забудь. Сорок лет подойдет, и тогда лишь всезнающим будь. Руки сердца простри и гляди с ожиданием в дали. Пусть разделит печаль тот, кто будет опорой в печали. Не грусти! Вот и друг; он твою разделяет печаль. Грусти шею сверни. Вместе с другом к отрадам причаль. Распростертый в печали, подобной томленью недуга, Помощь добрую сыщешь ты в помощи доброго друга. Если дружат друзья так, что будто бы дышат одним, Сто печалей, умчась, никогда не воротятся к ним. Только первое утро забрезжит мерцающим светом, Крикнет утро второе, и звезды погасит при этом. Знаем, первое утро не будет предшествовать дню, Если дружба второго его не поможет огню. Коль один ты не справишься с трудностью трудного дела, Тотчас друга зови, чтобы дружба о нем порадела. Хоть не каждый наш город богат, как блистательный Хар, — Каждый найденный друг — небесами ниспосланный дар. Нужен каждому друг; с ним пойдешь ты в любую дорогу. Лучший друг — это друг, что приходит к тебе на подмогу. Два-три чувства твои не премудры; они не друзья; Их кольцом ты стучишь только в дверь своего бытия. Руки вдень в торока устремленного сердца! Отрада Быть добычею сердца. Ему покоряйся. Так надо. Царь девятого неба к тебе нисходящий в тиши, Создал видимый мир, создал светлое царство души. Следом души людей были созданы миром нездешним, И души устремленье смешал он с обличием внешним. Эти двое обнявшихся создали сердце. Оно На земле воцарилось. Так было ему суждено. И дано ему царством великим владеть, повсеместным. И телесное все сочетается в нем с бестелесным. Не Канопом ли сердца людской озаряется лик? Облик наш, как душа, повелением сердца возник. Лишь я стал размышлять о пылающем сердце, мой разум Принял масло в свой пламенник. Многое понял он разом. Дал я слуху веленье: «Прислушайся к сердцу! Спеши!» Сделал душу свою я открытой веленьям души. Красноречье свое напитал я возвышенным знаньем. В душу радость вошла, а томление стало преданьем. И взирал я не холодно. Стал я по-новому зряч. Пламя сердца пылало, затем-то и был я горяч. Узы сбросил я с рук. О земном я не думал нимало. Возросла моя мощь, а грабителей сердца не стало. Бег мой сделался быстрым, никто не поспорил бы с ним. К двери сердца, спеша, я пришел переходом одним. Я направился к сердцу, мой дух — по дороге к исходу. Полдень жизни пришел. Жаждал этого год я от году. Я в священной максуре, и я размышляю. Мой стан Словно шар изогнулся, а был он похож на чоуган. Где тут шар, где чоуган, где пределы согнутого стана? Вот кафтана пола, а прижался к ней ворот кафтана. Из чела сделав ноги, я голову сделал из ног. Стал я гнутым чоуганом, и шаром казаться я мог. Сам себя позабыв, покидал я себя все охотней. Сотня стала одним, и одно мог увидеть я сотней. Смутны чувства мои. Я один. Отправляюсь я в путь. Мне чужбина горька; одиночеством сдавлена грудь. Мне неясен мой путь, где-то нужная скрылась дорога. Возвращенья мне нет и благого не вижу порога. И в священном пути застывала от ужаса кровь, Но, как зоркий начальник, поводья схватила любовь. Стукнул в дверь. Услыхал: «Кто пришел в этот час неурочный?» — «Человек. Отопри! Я любовью ведом непорочной». Те, что шли впереди, отстранили завесу. Они Отстранили мой облик. Все внешнее было в тени. И затем из большого, в богатом убранстве, чертога Раздалось: «Низами, ты пришел! Что же ждешь у порога?» Я был избран из многих. Мне дверь растворили, и вот Голос молвил: «Войди!» Миновал я разубранный вход. Был я в свете лампад, был я в блеске большого покоя. Глаз дурной да не тронет сиянье такого покоя! Семь халифов блистали под ярким лампадным огнем, Словно семь повестей, заключенных в сказанье одном. Царство больше небес! Царство властного мощного шаха! Как богат дивный прах, — подчиненный столь дивного праха! Вот в селенье дыханья — вдыханье. На царственный трон Царь полудня воссел: управлял всеми властными он. Красный всадник[62] пред ним ожидал приказанья, а следом Прибыл в светлой кабе некий воин, готовый к победам. Горевал некий отрок[63], разведчик, пред царственным стоя, Ниже черный[64] стоял, пожиратель любого отстоя. Был тут мастер засады[65], умело державший аркан, И, в броне серебра, чей-то бронзовый виделся стан[66]. Были мошками все. Быть свечой только сердцу дано. Все рассеяны были, но собранным было оно. И свой отдал поклон я владыке прекрасному — сердцу. Душу отдал свою я султану всевластному — сердцу. Взял я знамя воителей жаркого сердца, и лик Я от мира отвел: новый мир предо мною возник. И сказало мне сердце: «Ты сердце обязан прославить. Дух твой, птицам подобный, гнездо свое должен оставить. Я — огонь. Все иное считай только дымом и сном. Соль лишь только во мне. Нету соли во всем остальном. Я сильней кипариса с его многомощною тенью. И над каждой ступенью вздымаюсь я новой ступенью. Я — сверкающий клад, но Каруну не блещет мой свет. Вне тебя не дышу, и в тебе я не кроюсь, о нет!» Так сказало оно. И словес моих бедная птица Позабыла о крыльях. Пришла ей пора устыдиться. И в стыде, преклоненный, руками закрыл я лицо, И в учтивости ухо я рабское принял кольцо. Благ, кто сердцем владеет. И вот я опять, как бывало, Услыхал: «Низами!» Это небо меня прославляло. Быть подвижником стойким — удел моего бытия. И, склонясь перед властным, подвижником сделался я.ПЕРВОЕ ТАЙНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ (О ВОСПИТАНИИ СЕРДЦА)
И наставник высокий, как будто смирял он коня, От узлов девяти был намерен избавить меня[67]. Эти девять узлов он решил отстранять понемногу. На веревки конец он поставил уверенно ногу, Чтоб узлы перебрать, — все узлы, что достойны хулы, — И тогда он с веревки последние срежет узлы. И владеющий сердцем, в желанье высоком, едином Мне на помощь прийти, — стал отныне моим господином. В двух обширных мирах начал он мне указывать путь, Захотел потому-то он в душу мою заглянуть. Хоть от нас он достойного часто не видит вниманья, Все же нас никогда своего не лишит состраданья. Если я, недостойный, почтительность мог позабыть, Научил он меня неизменно почтительным быть. От подобного мне не пустился он в бегство. О новом Он беседовать стал. Бедный прах удостоил он словом. Из колодца, из мрака он вызволил душу мою, Словно спас он Иосифа в чуждом, далеком краю. Погасили огни многозоркой, внимательной ночи, И чуть видной зари раскрывались блестящие очи. Поднимался светильник, и яркого ждали огня, И сапфирный покров стал багряным предвестником дня. Взял наставник лампаду — мерцала отрадно лампада, — Дал мне руку, и вот мы направились к зарослям сада. Из полы моей тотчас он вынул колючки иглу, И несчетные розы в мою набросал он полу. Я смеялся, как рот приоткрытый тюльпана; с размаху, Словно роза, в восторге свою разорвал я рубаху. Был я крепким вином из прекрасных пурпуровых роз. Был затянут мой пояс, как пояс затянутых роз. Я вину был подобен, вину, что отрадно кипело; Я был розой, чья радость найти не умела предела. Я меж роз пробирался, спешил я, спешил я туда, Где меж веток и листьев, журча, зарождалась вода. И лишь только Любовь добралась до прекрасного края, Там, где веяла верность, благой аромат разливая, Дуновенье любимой в речениях, полных красы, Оживило мне душу, подобно дыханью Исы. И мой конь побежал непоспешным, умеренным бегом, Ветерков предрассветных предавшись прельстительным негам. Я услышал; «Кичливый, с коня ты сойди своего, Иль я тотчас тебя увезу из тебя самого». Я, подобный ладье, уносимой поспешной рекою, Внемля веянью рая, пришел к золотому покою. И, поток увидавши, немедля сошел я с коня И направился к берегу. Жажда томила меня. Был поток, словно свет, знать, вовеки не ведал он бури. Сновидения Хызра не знали подобной лазури. И как будто во сне, вдоль жасминных он тек берегов; И дремали нарциссы, усеяв прибрежный покров. Этот край был причастен лазури небесного края; Перед амброю здешней склонялось дыхание рая. И ползучие розы — услада отрадных долин — Высоко поднимались, порой обвивая жасмин. Этим розам свой мускус охотно вручили газели, А лисицы — свой мех, чтоб колючки колоться не смели. И пред розой прекрасной стыдливо склонясь, попугай Украшал опереньем такой новосозданный рай. Попугай, сладкий сахар — вот образ, являющий травы. Коль съедят их газели, то станут, как львы, величавы. Свежий ветер склонил над прекрасною розой главу. Молодая газель возле розы щипала траву. Златоцветы слились; на своем протяженье немалом Они стали для амбры большим золотым опахалом. Зелень тешила взоры, ведь взоры в ней радость берут. Травы змей ослепляли: всегда их слепит изумруд[68]. Всюду розы с жасмином для мыслей засаду сплетали. Соловьи с сотней горлинок рифмы по саду сплетали. Однодневная лилия — счастье для местности сей — Подняла свою длань, будто поднял ее Моисей. Дикий голубь лесной, что воркует всегда на рассвете, Увидал, что вся высь в голубином раскинулась цвете. На листке черной ивы рукою надежд ветерок Описать прелесть розы в душистом послании смог. И всему цветнику приносила весна благодарность. Розы никли к шипам: ведь за мягкость нужна благодарность. Был жасмин словно тюрок[69]; шатром разукрасил он сад. Над шатром полумесяц вознес он до самых Плеяд. Сердцевины тюльпанов — индусского храма эрпаты, Все тюльпаны в молитве великою тайной объяты. Белый тюрок жасмина и черный из Индии маг — Свет звезды Йемена и веры неправедной мрак. Сад воздвиг знамена золотого и красного цвета. Высь меж ними виднелась, глубокой лазурью одета. Воды белкой казались, и были они — горностай. Горностай рядом с белкой — отрадою взора считай. Ветви сада из света, что слали небесные дали, У подножий деревьев на землю дирхемы бросали. Пятна света в тени — золотого сиянья уста, И песок славословил прекрасные эти места. Гиацинта лобзанья терзают фиалку; а к розам Льнут колючки, и розы внимают их нежным угрозам. В златоцвета колчане не сыщется колющих стрел; Но щитом золотым все ж прикрыть он себя захотел. Заколдована ива, дрожит, но тюльпана кадило В дым ее облекло: чародейство оно проследило. Весь цветник трепетал, и казалось, вот-вот улетит; И казалось, жасмин в легком ветре куда-то спешит. И поднялся тростник, раздавать сладкий сахар готовый; Желтый конь лозняка, — будто в кровь опустил он подковы. Дальше дикая роза — нам спеси ее не пресечь — С пролетающим ветром вела торопливую речь. Стал небесный простор зеленее листка померанца. В этот миг захотела рассвета рука померанца. Разукрасил свой стяг небосвод бирюзовый, но тут С ним решил состязаться прекрасной земли изумруд. Каждый узел ковра, что земля распростерла для пира, Был душою земли, был и сердцем надземного мира. Будто в свете рассвета, промолвила счастья звезда, Наклоняясь к земле: «Будь всегда молодою! Всегда!» Или небо велело сойти своему изумруду Не к кораллам зари, а к земли воскрешенному чуду? Весь источник сверкал, взоров гурий являл он привет. Из источника солнца добыл он сверкающий свет. И прибрежные травы свершили свои омовенья С благодарной молитвой за светлые эти мгновенья. Птице в веянье розы печаль Соломона слышна, И Давидову песню, грустя, затянула она. На ветвях кипариса за раною новая рана: Их когтит куропатка за смерть золотого фазана. Сад указ разгласил, пожеланий своих не тая: «Да убьет злого ворона сладкий напев соловья». Совы скрылись; ну что же, ведь это их рок обычайный. Знать, погибли за то, что владели опасною тайной. Веял мягкий Сухейль на зеленый раскинутый стан; И земля — не шагрень; вся земля — это мягкий сафьян. Встретить утро спеша был тюльпан преисполнен горенья. Сердце тяжко забилось: приводит к беде нетерпенье. Тень ветвистой чинары, влюбленная в стройный тюльпан, Длань к нему протянула: ей дар врачевания дан. Лепесточек жасмина, похожий на месяца ноготь, Ноготь ночи унес, целый мир захотел он растрогать. Появился Иосиф, небес позлащая предел. В подбородке жасмина он ямку с высот разглядел. Как еврей, вся земля в ярко-желтом касабе[70]. Белея, Заблестела вода, как блестящая длань Моисея. И земля вместе с влагой составила снадобье. Мгла Благодатной земле все добытое вновь отдала. Свет, разросшись, велел ветру свежему снова и снова Тень деревьев гонять по смарагдам земного покрова. Тени! Солнца уста! Был и слитен узор и красив, И расчесывал ветер прекрасные волосы ив. И поспешные тени мгновенно сменялись лучами, И лужайки, смеясь, их своими ловили ключами. Я к алоэ стремился, к нему-то и мчался мой конь. Стал душистой курильницей пурпурной розы огонь. Соловью стала роза зеленой мечети мимбаром, Стал фиалковый пояс для розы пленительным даром. Птица с песней Давида — всем сердцем ее восприми! Роза с речью прекрасней речей самого Низами.ПЛОД ПЕРВОГО ТАЙНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
Ветер смел покрывало, что мой прикрывало рассказ. Сердце встретило розу, чей облик — отрада для глаз. Видит сердце мое, видит розу с улыбкою сладкой; Сахар с розой она победила мгновенною схваткой. И в смятенье был месяц, узрев этот белый касаб. С этим блеском бороться? Для этого слишком он слаб. Ниспаданием локонов скрыта ее поясница. Как прельстительна вся! Лишь во сне это может присниться. Тот, что узрит ее, не удержит восторженных слез. Сколько слез пролилось из-за столь восхитительных роз! В ней и сахар и соль. Хоть красавиц на свете немало, Для красавиц других больше сахара в мире не стало. Ей пленять опьяненных, как свежему саду, дано. Опьянит и отшельников крепкое это вино. Алый рот — табархун; он багрянцем нежданным и смелым Оттенил белый сахар. Пленен был он сахаром белым. О тростник, полный сахара, розе пославший привет! О сухой леденец! О душистый и влажный шербет! И душа на алоэ, на родинку нежно взирала, Амбру с мускусом родинка в ракушке дня растирала. И, завидуя прелести свежей такого пятна, Темных пятен узор для себя сотворила луна. Жарче солнца всю душу сжигали блестящие очи. Не луной — лалом уст озарялось все таинство ночи. К ней обозы сердец на фарсанги тянулись, но путь Был, что рот ее узкий. Кто к розе сумел бы прильнуть? Растерзать все сердца эта роза была бы во власти. И утратил я сердце, и сердце распалось на части. Рот прекрасной — что речь, и улыбка — вот сахар его. Лик подобен молитве, а в черных глазах колдовство. Этот пурпурный рот — словно ларчик таимых жемчужин. Все же он приоткрыт; для беседы он также ведь нужен! И любовь поглядела на ларчик, на жемчуг, на взор, И для дел лицедейства, спеша, расстелила ковер. Облик, зримый для глаз, снять с меня вмиг она захотела, И на шее души узелочек распутала тела. И, казалось, во мне человеческих не было сил, И воды бытия для себя я уже не просил. Колдовавший мой разум увидел возникшего Дива. «Заковать бы его!» — пожелал я, исполнен порыва. Сердце, страстью горело, печалям глубоким грозя, Но источник сиянья ведь глиной замазать нельзя? Да, лишь только печаль над печалью склоняется нашей. Исцеляют хмельных только новою винною чашей. Что ты морщишь свой лоб? Ты на мне видишь множество ран? Но ведь ты не проведал, что сад мне живительный дан. Сад мне небом вручен, а тепло его — блещущим оком. Был мне розой рассвет, были слезы — отрадным потоком. И укрытый за тканью меня окружавших завес, Был мне подлинным другом. Он послан был волей небес. Многодневно чело на свои опускал я колени, Чтобы нить путеводная злые рассеяла тени. И теперь я пошел по прямому, благому пути. Друг мой, следуй за мною, за мною ты должен идти. Ты не избран вести. Нужен опыт вседневный, богатый. Все доверь Низами, — это опытный, верный вожатый.ВТОРОЕ ТАЙНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ (О НОЧНОМ НАСЛАЖДЕНИИ)
Повелитель сердец начал пиршество в некую ночь; Побеседовать с равными был он в ту пору не прочь. Ночь сияла зарей, и на небе мерцали Плеяды. И к молитвам отзывчивой скоро достиг он услады. И собрания прелесть был бы всем вёснам в упрек. И услада была неизбежна, как благостный рок. Ароматы курильниц в оконца дыхание бросив, Говорили о ткани, вещавшей, что прибыл Иосиф[71]. Ночь велела уйти всем отрядам охранных частей И всех мошек смела. Да ничто не тревожит гостей! Как за тканью узорной напевы звучали — о диво! Знатоки песнопений, дивясь, восклицали: «О диво!» Руки кравчих в шелках. Блещет золотом каждый кувшин. И в жемчужные чаши расплавленный льется рубин. Гасла печень сгорая, и гасли светильники ночи. Пламень сердца пылал, словно пламени рдяные очи. И на плоских курильницах, блеском ласкающих взгляд, Аромат создал сладкое, сладкое жгло аромат. Сахар с розой в сосудах творил животворные чары. Свет свечей, колыхаясь, бросал золотые динары. Было там и вино, что нас тешит и гасит печаль, Рот и очи любимой и сахар несли и миндаль. Рот и очи смеялись. И счастьем любовным и ликом Восхищалась Зухра, предаваясь беседе с Маррихом. Обещанья любовные слышал влюбленный, и смех Стал сбирать с милых уст подаянье полночных утех. Леопарду подобная, мускус душистый газели Вниз бросает Зухра. Косы черные льва одолели. Друг схватил ее ворот, его драгоценный рукав Бросил искры каменьев, к пленительной шее припав. Словно кравчий — свеча. Пламень — чаша. И кружится пьяный Мотылек, и вином уже залиты все дастарханы. Сна не стало, о нет, он сгорел, как сгорел мотылек. И свеча благодарна, и клонит она фитилек. И Зухра, запылав, и созвучий предавшись усладам, Жадный слух веселила стремительным, радостным ладом. Два мышленья друг другу давали мгновенный ответ, Брал светильник, светя, у другого светильника свет. То, что многим давало медлительный жизни теченье, Другом другу дарилось в одно золотое мгновенье. Посылали дары — ведь восторга нельзя превозмочь! — Сердце — сердцу, дух — духу и плоти влюбленная плоть. Иль из пышных чертогов, которые к пиршеству звали, Все, в чем нет бытия, за предел бытия побросали? Птица радости ввысь полетела с отрадным письмом, Чтоб Зухры благодатной обрадовать радостный дом Пламень птицы рассвета[72], попавшей на вертел, прохладу Даровал двум влюбленным, смиряя разлуки досаду. Словно петел погибший, был скрытый рассвет недвижим. Месяц был полонен, и застыл свод небесный над ним. В дверь кольцом не стучали. Чужой! О, да будет далек он! Обвивал шею милого нежной красавицы локон. Что дверное кольцо, хоть мало оно очень? Смотри: Меньше перстня обычного стала душа Муштари. Те, что схожи с пери, те, что будто назначены негам, Все свободные души сломить порешили набегом. Средь жасминов и роз, чтобы души попадали ниц, Все колючки они заменили шипами ресниц. О плоды! Ведь сердца не вкушали столь сладких ни разу. Млели души. Пери не подобны ли гибкому вязу? Сладкий ротик — орешек! И взоров миндаль. И предлог Для лобзанья — фисташка[73], и нежный над нею пушок! В ночь, что слаще пушка, волхвовали: колдун Вавилона — Черный взор, да индус — прелесть родинки. Бойся полона! Ведь от родинки черной, от взоров, таящих обман, Вся земля — Вавилон, и любая страна Индостан! Взгляд ответил на взгляды, и сердце в решении скором В путь священный пошло, чтоб склониться пред блещущим взором. Но язык быстрых взоров опасней был множества стрел, Кудри были запутанней всех человеческих дел. Каждый взгляд был, как лучник, влюбленный, и нежный, и смелый. Тяжко сердце разили еще не летящие стрелы. Не дыханье ль Исы оживляло сердца? И могуч Из комков красной глины бежал воскрешающий ключ. Запах роз и жасмина струился влюбленным в угоду, И попона служенья легла на плечо небосводу. Сахар сладких ланит… миндали рассыпавший лал… О, какой сладкий сахар на лике прекрасном лежал! Каждый взгляд открывал в целый мир неожиданно дверцу. В каждой черной реснице был храм, предназначенный сердцу. Был у белой щеки черный локон безмерно красив! Словно мускус лежал на серебряных листиках ив. Подбородок округлый был с нежною ямкой. Но что же Ты сравнил бы с лицом? На него только солнце похоже. Авраамовы кудри — к светилу приникли они. Исмаила глаза, а ресницы — кинжалам сродни. Но ресницы чаруют, и милая блещущим ликом Все сердца опьяняет: душистым он стал базиликом. Поцелуи томят, убивают. Ну что ж? Ведь уста, Как Иса, воскресят — чаша жизни не будет пуста. Капли пота на розе влюбленного радуют взгляды. Это — жатва луны, и блестят они, словно Плеяды. Растворилась калитка на вороте гурии. Свет, Что нежнее зари, нежным взорам направил привет. Каждый муж многоопытный, каждый бездумный, немудрый Обезумел от света, что бросил кумир чернокудрый. Говорили глаза, коль смолкала усталая речь; Им хотелось уста от их связанной речи отвлечь. Золотое вино в светлой чаше — нарцисс. Ароматом Все оно заполняло в чертоге большом и богатом. Разум быстро хмелел. Круг за кругом прошел он, и вдруг Все терпенье, увы, у него ускользнуло из рук. Все уста пировавших полны были только лишь смеха. Было трудно вздохнуть… бесконечная длилась утеха. Не смиренным найти в этих звуках источник услад. Только буйным звучал этой песни возвышенный лад. И сумел этот лад в полнозвучном и мерном рассказе О Махмуде сказать и сказать о прекрасном Аязе. И стихи Низами разбросали и сахар и хмель, Воспевая пери, за газелью поющих газель.ПЛОД ВТОРОГО ТАЙНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
Жизни той, что цвела на разостланном богом ковре, Вновь не стало. Смотри: сколько смен в этой вечной игре! Ухо сердцу писало о всем, что даровано слуху. Взор склонялся к земле, всем явлениям близкий по духу. Сахар сладость утратил от смеха тюрчанок, а глаз Горячее сверкал, видя гурий, настроивших саз. И мой тюрок, — мой месяц в касабе сверкающем белом Разорвал мое сердце набегом внезапным и смелым. Полумесяц, на темень махнувший с презреньем рукой, Нам бессменно сиял, осветив наш отрадный покой. Если взор ее быстрый во взор мой кидался с размаху, Вся душа, преклоняясь, мгновенно подобилась праху. Так светила она, что свеча истекала в слезах, А светильник мигал и от горестной зависти чах. Пусть чинила она мне любую обиду, я в этом Видел только лишь благо, и ночи казались мне светом. И она предо мною сияла прибрежным цветком, а смиренно склонясь, расстилался пред ней ручейком. Но в те ночи с любимой, лобзанья вкушая с ней вместе, Словно фиников сладость, не внял я таинственной вести. Я не ведал, что месяц, которого сладостней нет, Тайный месяц скрывал, — тот, который воистину свет. Был влюблен я в себя, но любим был я месяцем дальним. Он грустил обо мне, но меня заставал беспечальным. Сердце в страсти шептало: «О, если бы пламенный день Нашей ночи не сжег, не спугнул ее сладкую тень!» Но ведь ночи мои не сулили покоя. С испугом Вдаль гляжу: в судный день их сочту ли ходатаем, другом? Жду я ночи, сияющей в солнечном, в дивном огне! Но желанная ночь мне не видится даже во сне. Лишь в подобную ночь мне была бы доступна отрада. Я возжаждал ее, и других мне ночей уж не надо. И шепчу я: «Господь, ты мне все помоги превозмочь, Лишь бы только увидел я эту горящую ночь!» Эта ночь — озаренье, над тягостной тьмою победа, Эта ночь — словно ночь для надзвездных путей Мухаммеда. Чтобы яхонт добыть, месяц роет небесный рудник; Дивной ночи желая, к кирке он с упорством приник. День, что только и дышит своей неприязнию к ночи, Также к ночи благой устремляет горящие очи. Я проснулся, и солнце, свой меч на дороге зари Поднимая, промолвило: «Небо, мне дверь отвори!» И от пламени солнца, узрев эти рдяные розы, На айвана ковер пролил я бесконечные слезы. В небе облако встало. Омыло оно с высоты Ткань, скрывавшую солнце, — душистых деревьев листы. В голубом водоеме, запруженном солнцем, кувшины Мы разбили б свои, уцелеть бы не смог ни единый. Небосвод, полный звезд, отказался от их серебра, Молвив: «Чистого золота уж наступила пора!» Утро быстро проснулось и в свете сверкающем, алом Вслед кровавой заре побежало с блестящим кинжалом. Битвы с ним я страшился. Я тотчас же бросил свой щит, Сделав душу щитом. Злое утро смертельно разит. Перепрыгнув ручей, на мою оно душу напало, И ночной звездный мост предо мною оно разломало. И зажглось мое сердце и так закричало, горя: «Разве ты — отомщенье? Иль ты — воздаянье, заря? Знал я много услад, видел нежные очи, бывало, Я лампады имел, озарявшие ночи, бывало. Но те ночи ушли, тех лампад мне не видится свет; Их как будто бы не было, нет их уж более, нет! Так ужаль мою грудь, ты, мне бывшая сладким напитком, Ты, что нежила сердце, предай меня сладостным пыткам. На несветлого сердцем направь свой безжалостный меч, Ведь того, кто сожжен, без труда можно пламенем жечь!» Так не мог удержать я ни горького плача, ни стона, И кровавые слезы заря полила с небосклона. И сгорел светлый день от моей беспросветной тоски. Ключ светила замерз, и холодные сжал я виски. Но хоть яд я вкушал, небеса мои ведали муки, И ночная змея светлый камень мне бросила в руки. И когда растворился я в светлом сиянье зари, Я забыл обо всем и услышал: «Душой воспари!» Те, чьи взоры могли многоцветной достичь колыбели, Света больше, чем зори, принять в свои души сумели. Как бесславны твои беспросветные ночи! Огнем Им гореть со стыда перед новым ликующим днем. Я постиг эту ночь, я постиг этой ночи призванье. Мне в моем постиженье мое помогало познанье. Ткань завесы безмолвия! Мир одиночества — ночь! А свеча — наше зренье. Нам сумрак дано превозмочь. Розы страстных ночей, их душистый джуляб и алоэ — Многих раненных в сердце беда и мучение злое. То, что благом ты счел, то, чему оказал ты почет, — Было только преддверьем той ночи, которая ждет. Тот, кто в сумраке был, в том, что негру подобно, под сводом Был изъеденным ржавчиной, предан был скрытым невзгодам. Но зарей, что к свече так влеклась, как любой мотылек, Свет свечи заблестел, и к прозренью меня он повлек. Так возьми же свечу, хоть она угрожает ожогом. Светоч взял Низами. Этот светоч вещает о многом.РЕЧЬ ПЕРВАЯ О СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
До поры, как любовь не явила дыханье свое, В бездне небытия не могло засиять бытие. Но счастливец великий в своей непостижной отчизне Захотел бытия, и завесы раздвинул он жизни. Он был сыном последним воздушных, летучих пери, Первым сыном людским в озарении первой зари. Получил он от неба халифства величье, но следом Свой утратил он стяг. Вслед за тем вновь пришел он к победам. «Он творцом был научен». О, сколько в нем чистого есть! «Бог месил его глину». Какая безмерная честь! Он и чистый и мутный, хоть золото в нем засияло, Он и камень для пробы, и он же — пытливый меняла. Он — любимец крылатых, смутивший их райский покой. Со щеками в пушке, этот юноша — образ людской. Взять запястье Адама! Для каждой души это — счастье! На предплечье его семь небес ниспослали запястье. Две больших колыбели Адама баюкать могли: В нем все помыслы неба и все помышленья земли. В пышный блеск бытия облекает он пленных темницы. Кравчий духов бесплотных, летит он к ним с легкостью птицы. В завершенье творенья для мира он был порожден. Всемогущества бога является первенцем он. В сорок дней он дитя; мир познанья младенцу не дорог. Он — великий мудрец, если лет ему минуло сорок. Он предвестник любви, он, любовь порождая, возник. Он, как розовый куст благодатного рая, возник. Это — взора всезрящего отблеск; исполнен он света; Это — птица с ветвей, что над миром раскинулись где-то. Птиц небесных привлек он к своих поучений зерну. И глядят они вниз, постигая всю их глубину. Но ведь он в небесах за пшеничное зернышко, зная, Что на землю сойдет, отдал все наслаждения рая. Он попался в силок, хоть одно лишь он видел зерно. О, как было мало, о, как было ничтожно оно! И пришел он с молитвою в мир бытия, и в поклоне Все склонилось пред ним. На земном воцарился он лоне. Он для всех был кыблой, он для всех был в сиянии зрим. Лишь один возмутившийся пасть не хотел перед ним. Лепестки, что он сыпал, что прежде в Эдеме блистали, Стали негой для всех, а для дьявола — углями стали. Но без рода людского он счастья не знал бы совсем. Для него, одинокого, цвел бы напрасно Ирем. У кого бы другого была столь великая сила, Чтобы дел человеческих горе его не сломило? Было сердце его страстью к светлой пшенице полно. Как пшеницы зерно, от огня раскололось оно. И стремленье уйти, и забыть о лазоревом крове, Есть пшеницу земную — и сладко все было и внове. Ни отца, ни детей. Как зерно, должен он прорасти И в камнях быть измолотым. Ждал он такого пути. Только брошенный в землю, надеждою стал он земною, Светлоликим он стал. Ведь прощен был он силой иною. И на тело его зной набросил пшеничную тень. Как на лунном шагрене, на ней был заметен ячмень. Ячменю и пшенице ужель не постыла их ссора? Вновь ячмень загрустил. Ведь пшеница отрадней для взора. Лишь в эдемском саду съел нежданно пшеницу Адам, Вскрылось сердце его, и желаньем он был уж не там. Как унижен он был; жаждал этого демон двурогий. Съел пшеницу Адам, и свернул он с надежной дороги. К тяжкой жесткости сердца пшеничное клонит зерно. Тяготенье к пшенице. К безумью приводит оно. И лишь только пшеница всеобщею стала едою, Рот раскрыла она, угрожая всеобщей бедою. Где истоки души? Миновал им назначенный срок. Да, пшеничное зернышко — это опасный силок. Ешь лепешки ячменные. Надо ль к иному стремиться? Вспомни участь Адама: его обманула пшеница. Обладающий сердцем! Ты дьяволу молви — не лги! Мощный лев шаханшаха, не стань ты собакой слуги! Не свершай омовений; сперва ты избавься от срама Прегрешений своих; в этом следуй примеру Адама. Благотворно раскаянье. Шествуй по древним следам. Испытавши раскаянье, многое понял Адам. Вожделенье направив к сверканью увиденных зерен, Стал он нивам земли, стал он темному праху покорен. Он обман свой увидел. И грех был не легок, не мал: Соблазненный пшеницей, в силок он навеки попал. Смятой розе греха многослезный поток он направил И свой царский шатер в Сарандибе затем он поставил. От греха он бежал, и свой черный направил он лик В эту землю, чтоб в ней черный род возле моря возник. Брал индиго он там из небесного хума, одежды Красил им в Индустане: еще он не ведал надежды. Но греха синеву он с ладоней отмыл, и у ног Новый злак он узрел. А индиго текло, как поток. Стал он тюрком китайским. Он месяцем стал белоликим, Спрятав кудри греха покаяния шапкой. Великим Овладел на земле он престолом, когда от грехов Он смиреньем избавился. Ждал его царственный кров. На земле справедливости сеял он истины семя, Дал он правду в наследье народам на долгое время. У хранителя рая сокровища взял он и, рай Покидая, принес их в земной новонайденный край. Так воспользуйся, смертный, с такого богатства доходом! Он посеял, а жатву он всем предоставил народам. От дыханья кадила алоэ дышать тяжело. Мастер седел виновен, что ослику тяжко седло. Но ведь все ж не напрасно, о смертный, ты призван для жизни, Милосердье в своей ты порою встречаешь отчизне. На реке юных дней, в свежих розах, стремится ладья. Зацепиться страшись за шипы своего бытия. Будет осень, так в путь ты весной устремляйся, счастливый, Боязни не знай: все сгорят и сгорит боязливый. Ты не лев, о трусливый; нет, ты не подобие льва. И душе твоей робкой отважные чужды слова. Можно льва написать под высокой дворцовою сенью, Но и сотней ударов его не принудишь к движенью. Человеку прекрасных, небесных одежд не дано. Праху — прах. Никаких ему светлых надежд не дано. Как бессильна звезда, что горит обещанием счастья. Плачет сердце твое. А печали не видят участья. Почему же тебя, разрушителя вражеских стен, — Огневой небосвод захватил в неожиданный плен? Ты в круженье небесном, так будь с препоясанным станом В услуженье покорном. Его не избегнуть обманом. Будь подобен огню, ничего нет быстрее огня. Не отстань от созвездья, свою устремленность храня. Будь водою ты легкой, которою славятся долы. Ведь вода не тяжелая много ценнее тяжелой. Только тонкостью стана людской обольщается глаз. Только легкие души ценны и желанны для нас. Ветер мира свершает движенья свои круговые, Ты, что Каф, недвижим. Где ж порывы твои огневые? Иль в стремлении к розе шипов одолеть ты не смог? На себя не гляди, как фиалки склоненный цветок. Ты лишь только собой населяешь земные просторы, На себя самого направляя беспечные взоры. В этом доме обширном ты каждый одобрил предел, Но ты в доме — ничто. Ведь не этого все ж ты хотел? Сам в себя ты влюблен, перед зримым в восторге великом. И, как небо, ты зеркало держишь пред блещущим ликом. Если б соль свою взвесил, ты спесь бы свою позабыл; И тогда бы за все небесам благодарен ты был. Позабудь притесненье. Отправься в иную дорогу. Что есть люди, скажи? Устремляйся к пресветлому богу. Ты познай его благость, лишь этим себя мы спасем. Ты познай свою скверну и небу признайся во всем. Если ты устыдишься, к молитвам в слезах прибегая, Милосердной и щедрой окажется сила благая.ПОВЕСТЬ О ПАДИШАХЕ, ПОТЕРЯВШЕМ НАДЕЖДУ И ПОЛУЧИВШЕМ ПРОЩЕНИЕ
Некий муж справедливый и чтимый в обширной стране Справедливость не знавшего как-то увидел во сне И спросил: «Что творец совершает в своей благостыне С днями злости твоей в ночь, тебя охватившую ныне?» Тот ответил: «Когда смертный час я готов был принять, Я весь мир оглядел; мне в томленье хотелось узнать, Кто бы смог указать мне надежды благую дорогу Иль поведать, что милость великому свойственна богу. Но ни в ком из живых состраданья не встретилось мне, И помочь в моих бедах желанья не встретилось мне. Стал я иве подобен, в испуге охваченный дрожью, Пристыженный, смущенный, и я милосердию божью Всей душой предался, только в нем свой увидев оплот. На крученье воды я бесплодный оставил расчет И промолвил творцу: «Я стыжусь, я познал униженье, Посрамленному, боже, любое прости прегрешенье. Хоть я воле твоей не внимал до последнего дня, Хоть отвергнут я всеми, но ты не отвергни меня. Иль, карая меня, шли любого ко мне лиходея, Иль мне помощь подай, обо мне в милосердье радея!» И покинутых друг, избавляющий их от тревог, Тяжкий стыд мой увидел и мне благосклонно помог. Отвечая стенаньям, благой преисполнен заботы, Он приподнял меня и свои оказал мне щедроты». Тот, кто ведал раскаянье, грешные мысли гоня, Будет первым из смертных в неистовствах судного дня. Тот, кто взвешивал ветер[74], забудет свои упованья; Он в убытке всегда, он узнает лишь только страданья. Если ветер ты взвешивал долгие годы, не год — Сколько знал ты убытка и сколько узнаешь невзгод! Камень с жемчугом взвешивать страсти твои да устанут! Пусть весы будут пусты, а дни твои полными станут! Этот камень земли ты на мыслей весы не клади; Ведь земля — шарик глиняный, тешиться им погоди. Лишь дирхем — жалкий мир, что в тебя поселяет желанья. Все, чем дышишь в миру, — твоего легковесней дыханья! Все, что в жизни находишь, что в ней обретаешь — отдай; Все, пока на земле ты еще пребываешь — отдай, Чтобы в день воскресенья ты был бы от груза свободен, Чтобы ты не молчал, чтоб, ответив, стал небу угоден, Чтоб ты не был в долгу у детей, свой утративших кров, Чтобы совесть твою не тягчили стенания вдов. Брось потертый ковер, уходи из обители мглистой. Дорожить ли полой, что давно уже стала нечистой? Иль, чтоб странником стать, собери свой дорожный припас, Иль, вослед Низами, скройся в тишь от назойливых глаз.РЕЧЬ ВТОРАЯ НАСТАВЛЕНИЕ ШАХУ О СПРАВЕДЛИВОСТИ
О властитель, чьи мысли царят над любым из царей, Что несметным венцам шлет жемчужины многих морей, Если ты — государь, ты ищи драгоценного крова; Если ты — драгоценность, венца ты ищи неземного. Из предвечного света, которым овеян простор, На тебя не один благодетельный бросили взор. Ты ценнее всего. Словно городом, правишь ты миром. Все, что ныне на свете, тебя почитает кумиром. О, какою страною владеешь безмерною ты! О, гордись, над страной возвышаешься верною ты. Времена твои выйдут из круга столетий; с тобою Не сравнится вселенная ширью своей голубою. Знаем: зеркало в небе заря поднимает, чтоб ты В золотом этом зеркале царские видел черты. Колыбель небосвода затем и забыла про бури, Чтобы ты, как дитя, отдыхал в безмятежной лазури. Ты — Иса наших душ, птица сердца, и скажет любой, Что сравнить тебя можно бесспорно лишь только с тобой! Солнце в пламени страсти твоим восторгается ликом, Потому-то оно и сверкает в пыланье великом. Месяц так истощился! Он был уж совсем невелик. Но опять он сияет: он снова увидел твой лик. Ты превыше других. Наслаждайся всем жизненным миром. Все печали отбрось. Не склонен словно раб ты пред миром. Будь ко всем снисходителен, будь благодарнее вод. Будь, как ветер свободный, свободен от тяжких забот. Будь спокойной землею. Страстей не поддайся насилью. Если землю встревожить, земля станет черною пылью. Преклони пред создателем жаркую душу свою. Вот как царствовать, царственный, должен ты в нашем краю. Жду ответа, о шах! Отвечай же, вопросам внимая. Где находимся все мы? Где скрыта обитель иная? Вое известно душе, что возвышенной веры полна, И о мире ином все доподлинно знает она. Этот мир ты обрел. Ты о вере подумай. Быть может, Область веры найдешь, и она тебе в мире поможет. Если ж мир ты отдашь, чтобы веру купить, — никогда Не внимай слову дьявола: может нагрянуть беда. Знай, крупица алмазная веры, ведущей из плена, Камня магов грузней, хоть он был бы увесистей мена[75]. Камень темный отдай, а сверкающий камень возьми: С ним и золото веры, что блещет, как пламень, возьми. Тот, дающий припасы — ну, трудно ли нам это взвесить? — Взяв припас твой единый, припасов пошлет тебе десять. Состоянье свое поместить как бы лучше ты смог? Сколько прибыли верной на свой ты положишь порог! Стало долгом твоим воспитание праведной веры. Мудрецы правосудные к этому приняли меры. Вознеси правосудье, и всех осчастливишь людей. Угнетателей свергни. Об этом бессменно радей. Должен городу с войском ты блага желать, и на это Город с войском ответят. Плохого не будет ответа. Угнетающий царство — его разрушает, а тот, Кто внимателен к людям, его к процветанью ведет. Знай, развязка придет, и пред ней, не знававшей преграды, Пусть твои будут мысли всему, что содеял ты, рады. Дай спокойствие всем. Никому не чини ты обид. Что за ними придет? Что за ними почувствуешь? Стыд. Пьяный разум уснет, и, беды не увидев причину, Правосудья ладья в неизбежную канет пучину. Если б скорбным и бедным зажал ты безжалостно рот, Если б отнял ты силой имущество нищих сирот, Для себя отыскать ты какие бы смог оправданья В день суда, на который придут все земные созданья? Лик свой к вере направь, и опору найти будешь рад; К солнцу стань ты спиной, не молись ему, словно эрпат. Это — желтый мышьяк иль подобие блещущих кукол, Что явил небосвод, — тот, что жизнью людей убаюкал. Под завесой пустой, что висит «а гвоздях девяти, Все — игра этой куклы. Иди по иному пути. Вышли ветер на мир. Чтоб лампада соблазнов угасла, Своего в ней ни капли не должен оставить ты масла. Разве мы — мотыльки? Мир блестит, но не думай о нем. Не бросай же свой щит перед этим ничтожным огнем! К той завесе, к которой Иса возлетел без усилья, Ты стремись, чтоб ты сам за спиной мог почувствовать крылья. Кто подобно Исе бросит душу в надзвездный полет, Тот весь мир завоюет. По праву его он возьмет. Притесняя подвластных, ты править страной не сумеешь. Лишь призвав правосудье, ты царством своим овладеешь. То, в чем свет справедливости, твой не умножит доход, То, в чем нет правосудья, как ветер, тебя унесет. Справедливость — гонец, что спешит наш обрадовать разум; Тот работник, что в царстве все нужное сделает разом. Справедливость твоя укрепляет сверкающий трон. Если ты справедлив, вечно будет незыблемым он.ПОВЕСТЬ О НУШИРВАНЕ И ЕГО ВИЗИРЕ
На охоте одной Нуширван был конем унесен От придворной толпы: с пышной знатью охотился он. Только царский визирь не оставил царя Нуширвана. Был с царем лишь визирь из всего многолюдного стана. И в прекрасном краю, — там, где все для охоты дано, Царь увидел селенье. Разрушено было оно. Разглядел он двух сов посреди разрушений и праха. Так иссохли они, будто сердце засохшее шаха. Царь визирю сказал: «Подойдя друг ко другу, они Что-то громко кричат. Их беседа о чем? Разъясни!» И ответил визирь: «К послушанию сердце готово. Ты спросил, государь. Ты ответное выслушай слово. Этот крик — некий спор; безотрадно его существо. Этих сов разговор, не простой разговор — сватовство. Та — просватала дочь и наутро должна ей другая Должный выкуп внести, и внести, ни на что не взирая. Говорит она так: «Ты развалины эти нам дашь И других еще несколько. Выполнишь договор наш?» Ей другая в ответ: «В этом деле какая преграда? Шахский гнет не иссяк. Беспокоиться, право, не надо. Будет злобствовать шах, — и селений разрушенных я Скоро дам тебе тысячи: наши просторны края». И, услышав про то, что предвидели хищные совы, Застонал Нуширван, к предвещаньям таким неготовый. Он заплакал навзрыд, — он, всегдашний любимец удач. За безжалостным гнетом не вечно ли следует плач? Угнетенный, в слезах, закусил он в отчаянье палец. «Ясно мне, — он сказал, — что народ мой — несчастный страдалец. Мной обижены все. Знают птицы, что всюду готов Я сажать вместо кур лишь к безлюдью стремящихся сов. Как беспечен я был! Сколько в мире мной сделано злого! Я стремился к утехам. Ужель устремлюсь я к ним снова? Много силы людской, достоянья людского я брал! Я о смерти забыл! А кого ее меч не карал? Долго ль всех мне теснить? Я горю ненасытной алчбою. Посмотри, что от жадности сделал с самим я собою? Для того полновластная богом дана мне стезя, Чтоб того я не делал, что делать мне в жизни нельзя. Я не золото, — медь, хоть оно на меди заблистало. И я то совершаю, что мне совершать не пристало. Притесняя других, на себя обратил я позор. Сам себя я гнету, хоть иных мой гнетет приговор. Да изведаю стыд, проходя по неправым дорогам! Устыдясь пред собой, устыдиться я должен пред богом. Притесненье свое я сегодня увидел и жду, Что я завтра позор и слова поруганья найду. В судный день ты сгоришь, о мое бесполезное тело! Я сгораю, скорбя, будто пламя тебя уж одело! Мне ли пыль притесненья еще поднимать? Или вновь Лить раскаянья слезы и лить своих подданных кровь! Словно тюркский набег совершил я, свернувши с дороги. Судный день подойдет, и допрос учинится мне строгий. Я стыдом поражен, потому повергаюсь я в прах. С сердцем каменным я, потому я с печалью в очах. Как промолвлю я людям: «Свои укоризны умерьте!» Знай: до судного дня я в позоре, не только до смерти. Станут бременем мне те, кого я беспечно седлал. Я беспомощен! Помощь мне кто бы сейчас ниспослал? Устремляться ли в мире к сокровищам блещущим, к самым Дорогим? Что унес Фаридун? Что припрятано Самом? Что указы мои, что мое управленье, мой суд Мне навеки вручат? Что надолго они принесут?» Взвил коня Нуширван. Сожигал его пламень суровый. От огня его сердца коня размягчились подковы[76]. И лишь только владыка примчался в охотничий стан, Запах ласки повеял. Приветливым стал Нуширван. В том краю он сейчас же тяжелый калам уничтожил[77]. И поборы, и гнет, и насилье он там уничтожил. Разостлав правосудье, насилья ковер он свернул. Блюл он заповедь эту, покуда навек не уснул. Испытаний немало узнал он под небом, — и веки Он смежил, и добром поминать его будут вовеки. Многомудрого сердца он людям оставил чекан. И указ правосудья на этом чекане был дан. Много благ совершивши, с земным разлучился он станом[78], Справедливого каждого ныне зовут Нуширваном. Дни земные свои проводи ты на благо сердец, Чтоб тобой ублажен, чтоб тобой был доволен творец. Следуй солнечным всадникам[79], в свете благого устоя. Беспокойством горя, для других ты ищи лишь покоя. Ты недуги цели, хворым снадобья ты раздавай, Чтоб вести ты достоин, был небом дарованный край. Будь горячим в любви, лютой злостью не будь полоненным. Словно солнце и месяц, ко всем ты пребудь благосклонным. Кто добро совершит, будь он мал или будь он велик, Тот увидит добра на него обратившийся лик. От указа творца небеса не отступят ни шагу: Воздадут они злу, воздадут они каждому благу. Проявляй послушанье, греха избегай, чтоб не быть В посрамленье глубоком и скорбно прощенья просить. Наши дни — лишь мгновенье; вот наше великое знанье. Ты пробудь в послушанье. Превыше всего послушанье. Оправданья не надо, не этого ждут от тебя. Не безделья, в слова разодетого, ждут от тебя. Если каждое дело свершалось бы с помощью слова, То дела Низами достигали бы звездного крова.РЕЧЬ ТРЕТЬЯ О СВОЙСТВЕ МИРА
О хаджа горделивый, хотя бы на краткие дни Людям благо подай, рукавом ты над миром взмахни! Будь не горем для всех, а блаженством живительным, коим Утешают скорбящих. Отрадою будь и покоем. Все в великом вниманье, и ты всё величье души На служение бедным направить, хаджа, поспеши. Соломоново царство ты ищешь напрасно: пропало. Царство есть, но ведь знаешь: царя Соломона не стало. Вспомни брачный покой, что украсила пышно Азра, Где влюбленный Вамик пировать с ней хотел до утра. Только брачный покой, только кубки остались златые. И Азру и Вамика — укрыли их страны иные. Хоть немало столетий над миром проплыло, мы зрим, — Он такой же, как был; ни на волос не стал он другим. Как и древле земля нам враждебна. И все год из года Нас карает палач — многозвездный простор небосвода. С миром злобным дружить разве следует смертным сынам? Он всегда изменял. Разве он не изменит и нам? Прахом станет живущий на этом безрадостном прахе. Прах не помнит о всех, на его распростершихся плахе. Облик живших скрывается в зелени каждой листвы. Пядь любая земли — некий след венценосной главы. Нашу юность благую мы отдали миру. За что же Нам он старость дает и ведет нас на смертное ложе? Ведь всегда молодым оставался прославленный Сам, Хоть склонял свои взоры он к сына седым волосам[80]. Синий купол бегущий свой круг совершает за кругом, В вечном споре с тобою, твоим быть не хочет он другом. То он в светоча мира мгновенно тебя обратит, То в горшечника глину надменно тебя обратит. На двуцветном ковре[81] быстросменного мира, в печали Все, что дышат на нем, все стремятся в безвестные дали. По равнине идущие молвили: «Счастливы те, Что по морю плывут, — все твердят о его красоте». Те, что на море страждут, сказали: «О, если бы ныне Мы могли находиться в спокойной безводной пустыне!» Вое, живущие в мире, встречают опасные дни. На воде и на суше злосчастия терпят они. Юных дней караван на заре поднимается рано. Но ведь кончится путь. Не сберечь нам поклаж каравана. От верблюдов отставший, из города юности ты Будешь изгнан в предел, где стареют людские черты. Но на всех утомленных во тьме наступающей ночи Из нездешних пространств уж глядят благосклонные очи. Трон покинь. Ведь тщеславье опаснее многих сует. Это — черная тень, от тебя заградившая свет. Ты отдался утехам, конца им не зная и края, Ты живешь и играешь, о горестях будто не зная. Синий купол, вращаясь, похож на забаву, но он Не для наших забав, не для наших утех укреплен. До пришествия разума в мире царила беспечность. О какая в тебе благодатная сила, беспечность! Ясный разум взглянул на вершину созданий творца, И владычество радости тотчас достигло конца. Не от знанья беспечна мелькающих дней скоротечность. Безрассудства, возникнув и множась, рождают беспечность. О беспечность, очнись, очини поскорее калам, И царапай листок, и предайся отрадным делам. Будь меж теми, чья мудрость известна от края до края, Стан людей просвещенных с отрадой рукой обнимая. Шип, приязненный розе, не будет содействовать злу. Даже он аромат гиацинту насыплет в полу. Судный день подойдет, и конец будет нашего света, И пустыню на суд приведут в этот день для ответа. И промолвят: «О злая! Ведь кровь ты лила без конца И зверей и людей. Ты людские терзала сердца! Как же ключ животворный в тебе мог возникнуть когда-то? Как смогла ты принять изобильные воды Евфрата?» Так воскликнет пустыня, своей не осилив тоски: «Я злодейств не свершала. Мои неповинны пески. За накрытым столом я немного просыпала соли И смешала с сердцами пустынной возжаждавших доли, Чтобы быть мне со всеми, кто в праведный двинулся путь, Чтобы к гуриям рая могла я с отрадой прильнуть». И раздастся решенье: «Пустыня, песками играя, У запястий ножных запоет всем красавицам рая». Если с добрым мы дружим, то добрый нам выпадет час; И поможет нам друг, и все нужное будет у нас. Где же скрылись все добрые? Встречусь ли я хоть с единым? Стол, что медом прельщал, ныне сделался ульем пчелиным. Где ж теперь человечность? Ужель удалилась навек? Человека любого страшится любой человек. Где ж познание то, что в сердцах человечьих блистало? Человеческих свойств в человеке давно уж не стало. Скрылся век Соломона. О смертный, вокруг посмотри! Где теперь человек? Он исчез. Он — бесследней пери. Хоть дыханье мое слиться с общим дыханьем хотело, Все же, бегство избрав, совершил я хорошее дело. Где бы тень я сыскал, что явилась бы тенью Хумы? Где бы верность нашел? Где бы честные встретил умы? Если б сеяли верность, прекрасными стали бы нравы. Надо верность хранить — вот что чести достойно и славы. Земледелец зерно бросил в землю весною, и вот Наступает пора, и созревший вкушает он плод.ПОВЕСТЬ О СОЛОМОНЕ И ПОСЕЛЯНИНЕ
Как-то царь Соломон не имел государственных дел. И случилось, что ветер светильник задуть захотел. Царь свой двор перенес в ширь степного просторного дола, Там вознес он к лазури венец золотого престола. Скорбен стал Соломон: он увидел, теряя покой, Старика земледельца, который в равнине скупой, Зерна в доме собрав — хоть добыча была так убога, — Поручил закрома одному милосердию бога. И повсюду в степи разбросал эти зерна старик, Чтоб из каждого зернышка радостный колос возник. Но все тайны зерна и все тайны творящего лона Говор птиц сделал внятными слуху царя Соломона. Царь промолвил: «Старик! Будь разумным! Коль зерен не счесть, Можно зерна бросать. Но твои! Их ты должен был съесть. Для чего ж ты надумал напрасно разбрасывать зерна? Предо мной быть неумным ужели тебе незазорно? Нет мотыги с тобой, что ж царапаешь глину весь день? Тут ведь нет и воды, для чего же ты сеешь ячмень? Мы бросали зерно в землю, полную влаги, и что же? То, что мы обрели, с изобилием было несхоже. Что же будет тебе под пылающим солнцем дано На безводной земле, где мгновенно сгорает зерно?» Был ответ: «Не сердись, мне не нужно обычного блага! Что мне сила земли, что посевам желанная влага! Что мне зной, что дожди, хоть бы длились они без конца! Эти зерна — мои, а питает их воля творца. Есть вода у меня: на спине моей мало ли пота? И мотыга со мной. Это — пальцы. О чем же забота? Не пекусь я о царствах, мне область ничья не нужна, И пока я дышу, моего мне довольно зерна. Небеса мне мирволят, добычу мою умножая. Сам-семьсот я беру. Я бедней не снимал урожая. Надо сеять зерно без мольбы у дверей сатаны, Чтоб такие всегда урожаи нам были даны. Только с должным зерном, только с небом нам следует знаться, Чтобы колоса завязь, как должно, могла завязаться. Тот, кто с разумом ясным был призван творцом к бытию, Тот по мерке своей ткет разумно одежду свою. Ткань одежды Исы не на каждого ослика ляжет, Не на каждого царь, как на помощь престола, укажет. Лишь одни носороги вгрызаются в шею слону. Что пожрет муравей? Саранчовую ножку одну. От нашествия рек море станет ли злым и угрюмым? А ручей от потоков наполнится яростным шумом. Человеку, о царь, все дает голубой небосвод. Все, чего он достоин, себе он под небом найдет. Государственный муж быть не крепким, не стойким не может; Иль под бременем тягостным до смерти он изнеможет. Нет не каждый живущий родился для сладостных нег, И великие тайны не каждый таит человек». Пусть несдержан юнец. Я же прожил немалое время, Низами молчаливо несет свое тайное бремя.РЕЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ О БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ ШАХА К ПОДДАННЫМ
Ты — боец без щита. Ты — в гордыне один. Иль тебя Гуль в пустыню загнал, отчужденную душу губя? Ты — в венце золотом. Но венцы существуют ли вечно? Ты — в цвету бытия. Но припомни: оно — скоротечно. О, спешащий за теми, которым лишь в пиршествах свет, О, покорный игре бесконечно бегущих планет! Ты, отбросивший саблю, забывший о чтенье корана, — Для чего? Лишь для чаши, лишь только для винного жбана. То ты с гребнем, то с зеркалом, счастлив ты ими вполне. О ценитель кудрей, ты подобен манящей жене. Рабию ты припомни; она ведь в пустыне однажды Разлучилась с косой для собаки, понурой от жажды[82]. В стыд вгоняешь ты доблесть. Деянья твои таковы! Устыдился б деяния той сердобольной вдовы. Будешь славить себя или силой кичиться доколе? Этой сильной жены быть сильней ты, как видно, не в воле. Человеческий разум и светлая доблесть — одно. Надо всем правосудье. Всех доблестей выше оно. Не в твоем ручейке стали воды прозрачными. Стала Миловидною родинка в блеске чужого овала. Ты не злой небосвод. Лишь о благе раздумывай ты. Помни вечно о бедах, что к людям спешат с высоты. Лишь добро проявляй, отдаваясь крутящимся годам. Лишь такое имущество радует верным доходом. На себя ты не должен людскую обиду навлечь, Бойся честь обескровить и кровью людей пренебречь. Притязали иные на честь и на доблесть. Быть может, Честным двум или трем твой пример появиться поможет? Правосудье твори; бойся мощных карателей зла. Ночью ждет притеснитель: возмездья ударит стрела. Мысли зорких грозят. Все подверглись их мощному сглазу. Сглаз опасен, поверь, не простил он виновных ни разу. Могут все испытать его страшный, негаданный суд. Забывать ты не должен: ему подвергался Махмуд[83]. Сглаз людей беспорочных застигнет тебя ненароком, И увидишь, бессильный, что ты наказуешься роком. Те, что схожи с крылатыми, те, что душой в небесах, — На пути черепашьем не меньше других черепах. Пусть насилья мечом их дорога не будет задета, Иль узнаешь стрелу, что метнут они в блеске рассвета. Если ценишь владычество, — ты правосудье цени! Ты на беды от гнета, что царствуют в мире, взгляни! Человек, чья душа в доме этом ко благу готова, Все свершает в ночи к устроению дома второго.ПОВЕСТЬ О СТАРУХЕ И СУЛТАНЕ САНДЖАРЕ
Как-то шаха Санджара седая старуха одна За полу ухватила, и в гневе сказала она: «Справедливость являть, видно, властный, тебе не угодно, Но обида твоя настигает меня ежегодно. Пьяный стражи начальник вбежал в наш спокойный квартал И напал на меня. Избивал он меня и топтал. И, за волосы взявши, меня он повлек от порога, И царапала щеки мне жесткая наша дорога. И обидам ужасным меня он речами подверг, Кулаками позору пред всеми очами подверг. «Прошлой ночью, — кричал он, исполненный пьяного пыла, — С кем-то тут сообща человека не ты ли убила?» Он обшарил весь дом. Беззаконие мы терпим и гнет! Где же спины людей произвол еще тягостней гнет? О пьянчуге шихне неужели не верил ты слуху? Он и был во хмелю, потому-то избил он старуху. Те, стучащие кубками, весь твой расхитили край! И ни в чем не повинных уводят они невзначай. Тот, кто видит все это, и все же помочь нам не хочет, Тот порочит народ, «о тебя ведь он тоже порочит. Я изранена вся. Еле дышит разбитая грудь. В ней дыхания нет. Но смотри, государь, не забудь: Если быть справедливым тебе в этот час неохота, Все ж получишь мой счет. Ты получишь его в день расчета[84]. Правосудья и правды я вовсе не вижу в тебе; Угнетателя волю я так ненавижу в тебе. От властителей правых поддержка приходит и сила, От тебя — только тяжесть, что всех нас к земле придавила. Разве дело хорошее — грабить несчастных сирот? Человек благородный у нищих добра не берет. На дорогах больших не воруй ты поклажу у женщин. Не бери, государь, ты последнюю пряжу у женщин. Притязаешь на шахство! Но ты не властитель, ты — раб! Лишь вредить ты умеешь, а в помощи людям ты слаб. Шах, внимательный к людям, порядок наводит в округе, И о подданном каждом он думает, словно о друге. Чтоб указом любым всех он радовал в нашем краю, Чтобы шахскою дружбою нежили душу свою. Ты всю землю встревожил! Иль я неразумно толкую? Ты живешь. Ну, а доблесть, скажи мне, явил ты какую? Стала тюрков держава лишь доблестью тюрков сильна. Правосудьем всегдашним в веках укрепилась она. Но грабеж и бесчинство ты в каждую вносишь обитель. Нет, ты больше не тюрк, ты, я вижу, индусский грабитель. Города посмотри-ка: в развалинах наша страна. Хлебопашец ограблен, оставлен тобой без зерна. Ты припомни свой рок! Приближенье кончины исчисли. Где от смерти стена? Вот на что ты направил бы мысли! Справедливость — лампада. Лампады пугается тень. Пусть же с завтрашним днем будет дружен сегодняшний день! Пусть же слово твое будет радовать старых готово! Ты же дряхлой старухи, властитель, запомнил бы слово: Обделенным судьбой никакого не делай ты зла, Чтоб их громких проклятий в тебя не попала стрела. Стрелы всюду не сыпь иль дождешься недоброго часа! Есть припасы молитв у несчастных, лишенных припаса. Чтоб раскрылась вся правда, с железом ключа ты пришел. Не за тем, чтобы правду ударить сплеча, ты пришел. Ведай, взявший венец, ты вовек не покроешься срамом, Если раны недужных ты благостным тронешь бальзамом. Пусть обычаем немощных станет тебя восхвалять, А твоим, повелитель, — ласкать их опять и опять. Береги, словно милость, возвышенных душ благостыню. Охраняя немногих, что в тихую скрылись пустыню». Что же стало с Санджаром, что встарь захватил Хорасан? Знай: не внявшему старой урок был губительный дан[85]. Где теперь правосудие? Все черным бесправьем объято. Знать, на крыльях Симурга[86] оно улетело куда-то. Стыд лазурному своду, всегда пребывавшему в зле. Вовсе чести не стало на где-то висящей земле. Слезы лей, Низами, удрученный такою бедою, Ты над сердцем их лей, что кровавою стало водою.РЕЧЬ ПЯТАЯ О СТАРОСТИ
Ночь пришла, благотворна, на смену прекрасному дню. Ветру вышла земля, и вода прикоснулась к огню[87]. Месяц старости светит. Очнись, ты охвачен дремотой. Он уж там, над стеною, деревья блестят позолотой. Ты с пути, что ведет к покорению мира, сверни. Ты не властен, как в юности. Встретил ты старости дни. Стало сердце сухим, и томленьем оно не объято. В нем уж нет крепкой соли, тебя оживлявшей когда-то. Стали мысли неясны, туманной исполнены мглы. Стали ноги бессильны, а пальцы — не пальцы — узлы. Но решает земля: мы ее милосердия стоим. Подтяни свои ноги, довольствуйся сладким покоем. В днях, крутящих тебя, утешаться отрадой какой? Что всего нам любезней? Покой, ты поверь мне, покой. Лунный свет, просиявши, в холодный туман обратился; Твой тюльпан нежно-розовый в желтый тюльпан обратился. То Хабеш, то Тараз! Как двуцветна твоя голова![88] Словно тюрк и таджик на нее предъявляют права! Эти волосы — дни, а вон те — будто черные ночи. Ты подумай, о старец, в былое направивши очи, Сколько в прошлое время встречалось тебе молодых, Что с годами боролись, волос не желая седых? Все ж их роз лепестки облетели в осенние бури. Старость к юным пришла, и не стало весенней лазури. У себя недостатков не видели юные, нет. «Только старость, — твердили, — порок, затемняющий свет». Хоть бы в пальцах своих ты Джамшидову поднял державу, Поседев, проклянешь ты свою бесполезную славу. Каждый волос седой — вестник смерти. И если спина Изогнулась горбом, не о смерти ль вещает она? Кто же юности царством и мудрости царством владеет? Я найти их не смог. О творец, кто найти их сумеет? Дни беспечности скрылись, ушли в безвозвратную даль. Не печально ли это? Ну что ж, испытаем печаль. Все навек исчезают, и каждый исчезнет Иосиф[89]. И печалимся мы, скорбный взор «а прошедшее бросив. Все сокровища юности бедный утратил старик. Но ведь в старости только он ценность былого постиг. Деревцо молодое прекрасные видело годы. Но засохшее дерево рубят всегда садоводы. Хоть прошедшая молодость вечно подобна огню, Все же, старость кляня, мчимся думой мы к прошлому дню. Ветви юных дерев предназначены завязям свежим, А сухие — огню. Ими в стужу себя все мы нежим. Знаем: волосы черные сладкой исполнены тьмы. Черным камнем привыкли оценивать золото мы. Видишь, молодость в сумрак уже удалилась. Не спи же! Ночь настала, и тотчас заря появилась. Не спи же! В час, как пламень твой жаркий, смиряясь, вкусил камфары. Черный мускус у неба, спеша, попросил камфары. Лишь два месяца холод настойчивым будет и смелым, Туча черная в небе со снегом появится белым. Л стирать и окрашивать — все это как бы одно. Там, где солнце живет, и мессии жилище дано[90]. Всё стирают водой. И скажи, кто же примет за сказку То что все при луне принимает иную окраску? Эта смена цветов не угодна ль самим небесам? Сам Иса стал красильщиком[91], разве не знаешь, — он сам! Так как воздух прозрачный цветов не имеет нимало, То весь воздух над нами и не тяготеет нимало. Ты, как радостный день и как ночь, что угрюма, — не будь, Ты зараз черным зинджем и жителем Рума не будь. Если ты, черный зиндж, также Рума сверкающий житель, — Ты познаний лишен, ты и зла и смятенья носитель. Леопарда двуцветная в чаще заметна спина, Потому-то стрелой и бывает она пронзена. Как деревья, овеян то горьким, то сладостным часом, Ты то бродишь в касабе, а то отягчишься паласом. Так зачем же даны нам различные ткани? Зачем? Чтобы в зной быть в джуббе, в злую стужу — остаться ни с чем. Леопардам и львам будь подобен, могучим и вольным. Всё дают небеса: безмятежным ты будь и довольным. Хлеб с водой ты имеешь в своем небогатом углу — Так не следует с ложкой к чужому тянуться котлу. Если ты, о бедняк, не найдешь даже черствого хлеба, Но ведь воду и травы ты все же получишь от неба. Что же рыскать за хлебом, как рыщут голодные псы? Лучше ел бы траву, словно ослик святого Исы. Шар с подвижного свода не даст и чуть видимой корки, Если чести сперва не отнимет, и лютый и зоркий. Если в этой гробнице бесчисленных узников жар Животворного неба зажег не напрасный пожар. Был Иосиф без пищи, как волки в степи, а на крошки Со стола сей скупой львы бросаются, будто бы кошки. За пригоршню пшеницы — ну, стоит ли думать о ней? — Не размалывай сердца, оно ведь пшеницы ценней. Как водою, трудом ты замешивай тесто для хлеба. Пламень сердца беречь не твоя ли, о смертный, потреба? Ешь хоть землю, но хлеба не думай просить у скупых, Иль дождешься укора от многих презренных и злых. По рукам и по сердцу ты бей себя термом. Покою Предаваться не надо. К работам тянись ты рукою. Лучше малые деньги принять за работу, пойми, Чем с рукою, протянутой скорбно, стоять пред людьми.ПОВЕСТЬ О СТАРИКЕ КИРПИЧНИКЕ
В землях Шама когда-то старик поселился. Ей-ей, Был он с духами схож: он всегда сторонился людей. Он рубаху свою плел из трав, и, хваля мирозданье, Кирпичи он выделывал, чтобы добыть пропитанье. Те, что бросили меч и прощенья стремились достичь, Брали в землю с собою лишь только могильный кирпич: Ведь того, кто во тьме, в смертной тьме, не имел покрывала, Хоть и грешен он был, все же высшая воля прощала. И работы нелегкой привычная шла череда, И в привычное дело все больше влагал он труда. И по воле небес некто юный, красивый на диво К старику подошел, и взглянул, и промолвил спесиво: «Чтоб тебя укорять, подыскать не сумею я слов. Месишь глину, старик, но ведь ты не погонщик ослов. Что ты бьешь по земле? Что работой позоришь ты небо? Ты найдешь и без этого корку насущного хлеба. Брось свои кирпичи, приведи всю работу к концу, Образец твой негоден, к другому приди образцу. Делать комья земли! Гнуть над ними без устали спину! Сколько лет ты намерен с водою размешивать глину? Вспомни, жалкий бедняк, что давно уже стал ты седым. Не для старых твой труд. Предоставь же его молодым». Молвил старец: «О юноша, речью неумной не трогай Для тебя непонятного. Шел бы своею дорогой. Знай, что делать кирпич подобает седым старикам. Лишь носить кирпичи молодым поручают рукам. Я за труд свой взялся потому, что в нем вижу поруку, Что не стану к тебе за подачкой протягивать руку. Я не нищий, о нет, и с алчбой не гляжу я вокруг, Ем я хлеб, что добыт лишь трудом этих старческих рук. Ты меня <не кори, я добытым довольствуюсь хлебом. Коль тебе я солгал — да не буду помилован небом!» И в смущенье великом, услышав спокойный ответ, Порицатель ушел. Неразумный давал он совет! Знать, на нашей земле много было увидено старым. И за дело свое принялся он когда-то недаром. В двери мира стучать не довольно ль тебе, Низами? В двери веры стучать ты благое решенье прими.РЕЧЬ ШЕСТАЯ О СВОЙСТВАХ СОТВОРЕННОГО
Кто-то дергает куклы за синей завесой[92]. Ответь: Если нет колдуна, кто бы мог эти куклы иметь? Очи сердца направь ты за звездную эту завесу, Чтоб потом приоткрыл ты подлунному свету завесу. Там, за синей завесой, есть те, чей безвестен предел, Их послать к нам на время волшебник с высот захотел. Нашим взорам они помогают пронизывать дали; На служенье сердцам все они пояса повязали. «Все, что есть в сердцевине великого круга, найдешь За пределами круга». Запомни, — ведь это не ложь. Тех, что мчатся по кругу, что будто бы в вечной погоне, Лишь для нас оседлали. Для нас эти синие кони[93]. Но не раньше ли бега лазоревых этих коней, Вновь и вновь пробегающих в смене бесчисленных дней, Нам основу любви заложить было велено небом, И любовь нас питала своим заработанным хлебом. Светлый дар и порок… Оба мира их дали векам; Привязали их, смертный, навеки к твоим торокам. «Ты мне друг», — звездный мир человеку сказал непритворно. Коль земля схожа с птицей, то люди — отборные зерна. Ты покинь эту птицу, ты когти ее позабудь; Ты над ней возлети и Симургом бессмертным ты будь. Словно птица, твой дух, твой мессия, — и вольные крылья Он поднимет над клеткой, и ввысь он взлетит без усилья. Когти птицы своей отдели ты от клетки, иль ты Отпусти с нею клетку, чтоб светлой достичь высоты, Чтобы в край свой родной легкой птицы великая сила Унесла эту кладь, чтобы птица тебя защитила. Сени праха минуя, уйдешь ты в безвестную даль; От твоих заблуждений твою там омоют скрижаль. И забыть обо всем, что вселенной владело, ты сможешь, И увидеть все тайны иного предела ты сможешь. Сможешь встретить пророков и сможешь, вступив на порог, Полный света, святилища вечный увидеть чертог. Двух миров две стоянки, над миром оставленным рея, Ты пройдешь, человек, одного полувздоха быстрее. Тот, кто глину твою преисполнил таинственных сил, Тот Каабу души в твое светлое сердце вместил. Пусть же будет душа только пламенем сердца палима, Ведь непрочная плоть истлевает быстрее гилима. Ветер глазу «нарцисса весною дарует сурьму. Делать мед золотой не дано ль колдовскому уму? Станет тело, поверь, лишь комками рассыпанной глины. Но ведь сердце есть сердце. Его раскрывают глубины. Рабски сердцу служи и взойдешь на возвышенный трон. Власть найдешь над душою и разум захватишь в полон. Размягчи свое сердце до мягкости мягкого меха, Хоть, как мускусу, жесткость для плоти твоей не помеха. Для одежды своей выбирай только грубую ткань. По шелкам и узорам о людях судить перестань. Жесткость кожи! Газелям она украшением служит. Потому-то для дружбы она утешением служит. ДОускус держится в жестком. Подумай-ка: будет ли толк, Если мускус рассыплется. Что ему нежащий шелк! Коль ты сахар, то помни, что вьюк тебе в странствии нужен. Вверься ракушке ты, коль в тебе ценность чистых жемчужин. Будь порою в стенаньях кровавым рубином зари И затем над зарею рассветом блаженным гори. Если тяжко трудиться ты станешь под пологом ночи, — На тебя благосклонные будут направлены очи. Те достойные люди, что к далям намеченным шли, Только тяжким трудом достигали желанной земли. Беды к людям приходят по воле великих пророков, Есть и в счастье беда. Много в мире нежданных уроков. Для влюбленных в себя раны тягостных бедствий — бальзам; Горечь — сладость вина. Это, думаю, знаешь ты сам. К ценным кладам приводят свирепые, злые драконы. Что приводит к спокойствию? И беспокойство и стоны. Со свободной души ты любую откидывай сеть, Будь горящей свечой, той, которой отрадно сгореть. Беспокойны заботы, но их не встречай ты с тоскою; Беспокойны заботы, но все же приводят к покою. Звездный рок «ад тобой — не всегда преисполнен он зла — Не завяжет узла, не распутав другого узла. В том свободном пути, что земные обходит ограды, Нашей скорби вожатый — всегдашний предтеча отрады.ПОВЕСТЬ О СОБАКЕ, ОХОТНИКЕ И ЛИСИЦЕ
Жил охотник один. Был он зорок и знал он пути; Он за дичью любой мог любую пустыню пройти. Он собаку имел. Буйный бег ее собственной тени Не догнал бы ее над простором песков и растений. Были в страхе онагры, пред нею дрожал носорог, Многомощных оленей сбивала порой она с ног. И охотнику всюду была она в странствиях другом, Дни и ночи была к ежечасным готова услугам. К благодарности, к дружбе, казалось, взывала она — Охраняла в ночи, днем еду добывала она. Но подобная льву, скрылась где-то, — и горькие мысли Угнетали охотника: звери собаку загрызли. Думал он: на путях, где судьба все имеет права, Лапа верной собаки дороже кудлатого льва. Хоть в печали своей он, казалось, утрачивал душу, Скорбь души он смирил. «Я терпенья, — сказал, — не нарушу». Он терпенья набрался, хоть был он горяч, и совсем Он про дичь позабыл; не имел ее и на дирхем. Ц лисица пришла и промолвила голосом лживым: «Ты терпенья не знал, почему же ты стал терпеливым? Я слыхала, охотник, что пес твой прекрасный подох, — Ты во здравии будь, если пес твой ужасный подох. Он вчера, говорят, словно лев, поскакал на охоту, Поскакал и пропал, и тебе он доставил заботу. На тебя он как будто охотится ныне. Ну что ж! Верю, месяца два ты печали о нем не уймешь. Ну, вставай, за жарким ты направься к оленю иль гуру; Мясо съешь, а дервишу отдай ты ненужную шкуру. Жирной снедью, о лев, ты недавно питался. Теперь Мясом жирных лисиц наслаждаться не будешь. Поверь, В безопасности ты. Твоего не коснулось ли слуха То, что жир этот — яд, что от жира бывает желтуха? Ведь собаки уж нет. Ну, к чему твоя верность, к чему? Ну, к чему твое горе, печали безмерность к чему?» И охотник сказал: «Ночь, поверь мне, рассветом чревата. Грусть моя недолга: от восхода она до заката. И доволен я тем, что живущим известно давно: И печалям и радостям долгими быть не дано. Что величье! Что рабство! Идет это все друг за другом, Все на свете охвачено вечно крутящимся кругом. Небеса и созвездья в размерном вращенье текут, Дни удач и невзгод в быстросменном теченье текут. Хоть мы с сердцем грустим, я и сердце печалиться рады, Потому что печаль — предвещенье грядущей отрады. Стал Иосифом волк[94], опускать все ж не стану я вежд. Я не волк, и своих раздирать я не стану одежд. Хоть собака исчезла, мне все же, поверишь ли, мнится, Что придет она с дичью, с тобой очень схожей, лисица!» Он еще говорил, а уж пыль заклубилась вдали, И собака мелькнула в клубящейся, в серой пыли. И затем, обежав два-три раза лисицу, напала На лисицу собака, подмяла ее и сказала: «С опозданьем большим, дальний путь одолев, я пришла; Но ведь знает лисица: как яростный лев, я пришла. Глянь, в ошейнике я. Лучше веры не сыщешь завета[95]. Глянь, в колодках лиса — не твоя ли уверенность это?» Если наша уверенность душу к терпенью ведет, Каждый замысел наш нас всегда к достиженью ведет. Если прибыль имеешь, уверься ты в прибыли новой, Эту веру считай всяких дел наилучшей основой. Если поступь уверенна, день твой не будет пустым; Если камень уверен, не станет ли он золотым? Если твердо шагаешь, в пути не изведаешь горя, Влагу сыщешь в огне, вихри праха поднимешь из моря. Тот, кто с твердою верой о трудных печется делах, Помнит щедрость и милость: живущих питает Аллах. И не станет он мошкой над чьей-либо скатертью, будет Ко всему благосклонен, и горести он позабудет. Ты на верной дороге, ты светлых достигнешь дверей. Божье дело свершай, не горюя о доле своей. Обратись к величайшему, став у дверей, и участья Ты проси у него — он податель и бедствий и счастья. Не вернется никто, эти светлые двери пройдя. Кто захочет вернуться, благое за ними найдя? Чтите племя уверенных. Все им известны дороги, Ведь они — голова, а другие — покорные ноги. Лишь молитвенным ковриком воду затронут они, Станет медом вино[96], и почтенье ты к ним сохрани. Коль устойчивость дел ты считаешь несбыточным делом, Что считаешь своим неизбежным и вечным уделом? Нам обличье земное столь ясное взору дано, Но с высот безначальных указ получило оно. Нашу долю, о друг, нам послали безвестные дали. Что ж, ее ты прими, если нам ее некогда дали. Люди ищут иного — того, что, не в нашем краю, Но мгновенные люди вкушают лишь долю свою. Будь старателен в вере. Лишь верные все побороли. Ты стараньем иным не изменишь нерадостной доли, Чтоб великим ты стал, чтоб над миром сиял ты в выси, Ты старателен будь и помоги небес не проси. Низами хоть старался, но было немного в нем жара. Если чем-то он стал, — это следствие вышнего дара.РЕЧЬ СЕДЬМАЯ — О ПРЕВОСХОДСТВЕ ЧЕЛОВЕКА НАД ЖИВОТНЫМИ
На земле проживающий, нежный, как сам небосвод, Холит небо тебя, и земля, и течение вод. Ты ниспослан «а землю, но ты и не знаешь, что дело Краткой жизни твоей величавей земного удела. Молока звездной вечности древле не ведал твой род, Ибо сахаром милости был ты накормлен с высот. И <не должен ли быть ты душою прекрасен за это? Должен быть ты прекрасен и полон великого света. И каламом предвечности, где-то от смертных вдали, Был прекрасный твой облик начертан для нашей земли. Сердце смертным даруя, решили в высотах, что нужен Для живущего стан, опоясанный нитью жемчужин. Ничего, что ты слаб. Ты скажи: «Я на этом лугу Отличаться от ланей и сильных оленей могу». Все живущие твари тебе услужают покорно, Это бедные птицы, в силках увидавшие зерна. Ты — Хума. В каждом деле ты чести доверенным будь, Безобидным и тихим и в пище умеренным будь. Всех живущих на свете земная зовет мастерская, И великих и малых к насущным делам привлекая. Совы в сказках пугают, грядущих невзгод не тая, И для кладов зарытых они ведь нужней соловья. Те, которых завеса земному открыла пределу, Душу в теле имеют, по ценности равную телу. Хоть жемчужины эти — ничто перед морем твоим. «О жемчужины мира!» — порой обращаюсь я к ним. Убивать ты не должен больших или малых, ведь виру Ты за кровь не отдашь, и страданья не надобны миру. И плохие и добрые чтут повеленье твое, И в плохом и в хорошем они — отраженье твое. Те, кого ты обуешь, дадут тебе шапку за это, Чью-то тронешь завесу — твоя будет также задета.* * *
Не жалей, словно утро, завесы ночной превозмочь, Будь завесы хранителем, словно глубокая ночь. Любят осы завесу пурпуровой розы. Единой Ты покрылся завесой, прозрачной завесой осиной. Долго ль мошкою будешь — о, как ее участь горька! — Ты гоняться за пищей меж тонких сетей паука? Те, завесой укрытые, те, что миры создавали, Многозвездной завесою тайну твою закрывали. На путях за завесой ты все приобрел и пришел, Отстранивши завесу, в земли новоявленный дол. Надо сердце забыть, коль оно разлюбило завесу. Не внимай ничему, что навек позабыло завесу. Тот волшебник, что скрыт за завесою с давней поры, Ткань завесы лазурной вознес не для праздной игры. Только этой завесы касайся признательным взглядом, Новых песен не пой, стародавним прельщаемый ладом. О завесе услышав, пойди многомудрым вослед, За завесою тайн стань участником тайных бесед. Чище светлой души станет тело твое, только надо, Чтоб его сорок дней окружала темницы ограда. У побывших в темнице высокое качество есть. Был в темнице Иосиф. Темница — великая честь. Чем же высший почет, чем же ценность души обретают? Всё забвением благ — ты к забвенью спеши! — обретают. Ты души серебро в отрешенья горнило вложи. «Дай мне золото сердца», — отказу от мира скажи. Ты подвижником стань, избери себе путь только правый, Только так ты достигнешь величья и подлинной славы. Коль себя ты смиришь, то динару блестящему дан Будет правды твоей и смиренного сердца чекан. Лишь поймешь, что с тобою природа в союзе и разум, Сказ «Кузнец с москательщиком» вспомнишь, бесспорно, ты разом. Этот веет пожаром, вздувая огонь, а другой Овевает прохожего амброй своей дорогой. Ты в поклаже природы спасенья не сыщешь: далеко Птица клеть унесет, и закроется смертное око. Ты привыкни к пути, что исполнен обмана всегда, Будет благостный рок вожаком каравана всегда. Чтоб главенства достичь отказаться должны мы от страсти. В отрешенье великом величье пророческой власти. Покорив свою душу, ты радостным сердцем взыграй И обуйся скорей: издалека завиделся рай. Стань душою, что колокол, в блеске грядущего дива, Будь служителем веры, не темным прислужником дива Ты в святилище веры опасайся от злого огня, Чтоб не ведать смятения в грохоте судного дня. Был неверный избавлен от злого, от страшного рока Лишь затем, что сродни приходился он роду пророка[97]. Взгляд высоко взнесенных не есть ли благая броня Для исполненных веры, для полных святого огня!ПОВЕСТЬ О ФАРИДУНЕ И ГАЗЕЛИ
Как-то царь Фаридун, при сиянье встающего дня, Приближенных скликая, с отрадой вскочил на коня. И в степи предаваясь любимой охоты веселью, Он увидел внезапно, что сам он подстрелен газелью. Прелесть шейки и ног от вражды отклоняла стрелка, О пощаде просили глаза, и спина, и бока. Пусть охотника взгляд для бегущей газели — засада, Но она, восхищая, казалось, бежала от взгляда. Полонен был охотник, и плен был и скор и таков, Что владыка почувствовал цепи тяжелых оков. И рванув повода, и горя, и скача возле цели, Спинку лука он сделал нетвердой, как брюхо газели. И большая стрела не попала в отличную цель, И встревоженный конь обежал неудачно газель. Шах промолвил стреле: «Где же злое твое оперенье?» И коню закричал: «Где твое за добычей стремленье? О ничтожный твой бег, о ничтожность твоей тетивы! Перед сей травоядной какое ничтожество вы!» И сказала стрела: «Подстрелить! Вот была бы досада! Бессловесная эта — приманка для царского взгляда. Твой восторженный взгляд — для прекрасной газели броня. В цель должна я стрелять, но твоя не для цели броня». Бубен видит владыка, и ждет он отрадного лада. Лишь ладони играющих — радость для шахского взгляда. Быть с клеймом вознесенных — завидный и сладостный рок. Ведь с клеймом вознесенных и сам ты безмерно высок. Знай обряды служенья, чтоб званье найти человека. Услужать — это честь. Это ведомо людям от века. Для людей умудренных, чей так проницателен взор, Нет служенья похвальней, чем крепкий святой договор. Дланью верности крепкой возьмись ты за пояс обета, Стражем верности будь пред лицом многолюдного света. Много лалов имея, сокровищ немало тая, Как служения пояс, лежит возле кладов змея[98]. Потому небосвод ярких звезд рассыпает каменья, Что, над прахом поднявшийся, поясом стал он служенья. Обладающий даром, хоть дар его светлый не мал, Пред наставником пояс на трудном пути повязал. И свеча, что сияет огнем золотым и веселым, Пояс также носила, для воска покорствуя пчелам. Ты не связан ничем, так вставай же скорей, Низами, Чтоб связать себя службой, с поспешностью пояс возьми.РЕЧЬ ВОСЬМАЯ О СОТВОРЕНИИ
Перед тем, как вещавшие жизни великий приход Насладились водой из великого моря щедрот, Пусто было в ладони безмерного царства и пылью Прах еще не клубился, еще он не делался былью. Не кончался еще промедленья безмерного срок, Еще кукол никто из-за синих завес не извлек. С низшим кругом еще связи ночи и дни не имели, Ждали плоть и душа, связи с миром они не имели. И стихии теснились, и длился их тягостный спор, Справедливость тогда их еще не смирила раздор. Но великая воля, веленью верховному вторя, Каплю влаги послала из дивного милости моря. И сошла эта капля, и влага возникла, и вот В круговое движенье лазурный пошел небосвод. Из текучей воды взвился прах, и случайность вот эта Смесь твою создала, — и возник ты из мрака и света. В путь поднявшись затем, ты из этой уйдешь мастерской. Ты — лишь прах, что поднимется где-то за синей рекой. О, блаженно то время, покуда на свете ты не был, Был твой лик не начертан, и в смене столетий ты не был. Звездный взор небосвода ничто не желало привлечь. Уши бедной земли еще нашу не слышали речь. И покуда на землю еще не поставил ты ногу, Бытие восхваляло пространства пустую дорогу. Еще не были, знай, дни и ночи тобой тяжелы, Силы жизни дремали, и были в то время не злы Сада мира колючки. И сроки безгорестно плыли, И на легком пути еще не было тягостной пыли. И лучам Близнецов было сладко сияньем играть. Вы в сиянье, врачи, не могли нашу кровь отворять[99]. Если месяц, плывя, становился на миг темноликим, Не срамили его медным грохотом, шумом великим[100]. И к Зухре на земле посрамленье еще не пришло, В колдовском Вавилоне Харута дремало крыло. Не был ты на земле, и в лазурной ты не был пустыне, Где-то с краю ты был, а тоска по тебе — в сердцевине. И когда в этот мир образ кем-то ниспослан был твой, О тебе небеса переполнились гулкой молвой. Дурноглазым ты был для созвездий, что в сумраке мрели, И смятенье ты создал в плывущих светил колыбели. Еще дням и годам не известен был времени ход, Но ты дал им названье, повел их незыблемый счет. Словно зеркало, был непорочный простор мирозданья, Но его, о порочный, твое замутило дыханье. И восход поднял ты, и повел ты его на закат, Создал истину зорь и рассвет, что обманывал взгляд. Неразумному небу проклятий пошлю я немало: Оно пояс служения людям зачем повязало? Был на небе ты назван великим созданьем души, Но тебе, видно, льстили. Ты верить словам не спеши. Злое горе! Венец головы человека дороже; Пса дороже ошейник; осла — его торба. О боже, Сколько было бахвальства! В пустых и хвастливых речах Говорил ты о том, что весь мир — только горестный прах. Но весь мир ты отдашь за пригоршню размешанной глины. За обмазку для стен все отдать ты бы мог без кручины. Всю поверхность земли огорчать ты как будто бы рад, Хоть бы ты под землею лежал, как припрятанный клад! Ты в безумье великом. Для разума всюду помеха Из-за этих небес, — из-за серого цвета ореха.[101] Чтобы ты, как орех, в тесной тьме навсегда не исчез, Удались от ореха, от беличьих этих небес. Ночь — не мягкий бобер, день не схож с белизной горностая, Сутки — пестрая ласка, драконам подобная, злая. Смелой кошкой не будь, не сердись, пестрой ласке грозя, С вероломною лаской тебе состязаться нельзя. Лев являлся на берег. Опасно под сим небосводом. Почему ж, как олень, к этим страшным приходишь ты водам? Если видишь вдали голубое сияние вод, — Это марево влаги лукавый послал небосвод. Ты коня не гони, не узнаешь ты радостной доли. Оближи свои губы: ты видишь мерцание соли. Чтобы жажды не знать, чти рассудка нелживый кумир; Коль гумно сожжено, ты припомни, что есть табашир. Перед тем, как Иосифом горестный жребий был выпит, Над колодцем своим он божественный видел Египет. Ты пришел из лазури, но желтым твой сделался лик. В этом темном колодце ты, жаждая блага, поник. Но |был желтым твой лик, и ты к благам был полон любови Не затем, что, тоскуя, свои ты насупливал брови: Тосковал ты столетья, и ты от себя не таи, Что в тоске этой древней — ничто эти брови твои. Пред тобой семь столов, но припомни о смерти Адама, Ради райского хлеба терпеть нам не следует срама. Если хочешь поджечь ты свое золотое гумно, Если думать о рае с надеждой тебе не дано, Устремляйся, спеши, поскачи по ристалищу смело; Коль, приказывать можешь, любое приказывай дело. Два-три дня, что ты здесь, будь за чашей, иль мирно дремли, Иль вкушай в сладкой неге плоды благодатной земли. Темный рок твой жесток. Он рукой прихотливой и ловкой Обвязал тебя слабо своей вековечной веревкой. Хоть в колодках ступни, хоть согбен ты сидишь на пиру, Все еще ты сгораешь в своем же обильном жиру. Хворост этой поварни (Поварня ведь хворосту рада!) Сам ты станешь жарким в судный день для несытого ада. Сколько в чреве твоем будет хлеба и сколько воды, Станешь, легкий, тяжелым и тяжкой дождешься беды. Если б длительно жадный земные свершал переходы, Съевший множество яств мог бы жить бесконечные годы. Дни земные бегут, потому их цена высока, Жизни ценится прелесть затем, что она коротка. Ешь немного, и много ты мирных мгновений узнаешь, Ешь, несдержанный, много и много ранений узнаешь. Нет, не разум велел столько снеди вседневно иметь, Это алчность велела бросаться на жирную снедь. Это алчность творит много пиршеств бесчинных и шумных. Прогони ты безумную — ту, что смущает разумных. Потому нашей алчности разумом послана весть, Чтоб того мы не ели, чего нам не велено есть. Я боюсь ее лавки. Смотри, под навесом базара Цвет ее ты воспримешь: ярка она очень и яра. Ведай: злое и доброе, в этом сомнения нет, Друг у друга охотно заимствуют образ и цвет.ПОВЕСТЬ О ВОРЕ И ЛИСИЦЕ
Продающий плоды в Йемене безгорестно жил, Свой товар охранять он лисичке одной поручил. - Чтоб, опасность увидев, поднять незамедля тревогу, Свой старательный взор устремляла она на дорогу. И к прилавку не раз подбирался находчивый вор, Но не мог одолеть он лисички бессменный дозор. И вздремнул он пред лавкой, прием применяя знакомый, — И уснула лисичка, его зараженная дремой. Если спит этот волк, не являет опасности он. И лисичка свернулась и сладкий увидела сон. И, увидев лисичку в дремоте спокойной, умильной, Вор в лавчонку проник, и ушел он с добычей обильной. Если в сны безмятежные, странствуя, втянешься ты, Головы не снесешь иль без шапки останешься ты. Пробудись, Низами! Скинь дремоты ненужное бремя. И расстанься со всем: расставанья приблизилось время.РЕЧЬ ДЕВЯТАЯ — ОБ ОСТАВЛЕНИИ МИРСКИХ ДЕЛ
Человек, что дороже счастливых и страстных ночей! Человек, что мгновенней, чем отсвет рассветных лучей! Долго ль, тени подобный, склоняться ты будешь в печали? Поднимись, будто знамя, и двинься в безвестные дали. Если шахи идут в новый край или в новый поход, То поклажу они посылают обычно вперед. Если с шахом ты схож, собирайся, — поклажа готова, Отправляйся в поход, что богаче похода земного. Ты вперед с нужной кладью немедлящих слуг посылай, Снедь на завтрашний день ты сегодня, о друг, посылай. Улей медом наполнен, гуденьем наполнен веселым, Потому что предвиденье мудрым даровано пчелам. Муравьям боевым в этом деле неведома лень. Дружно пищу они собирают на завтрашний день. Ты прозри, человек! Ты не медли в усладе беспечной! Муравью и пчеле уподобься в работе их вечной. Тот, кто хочет, живя, каждый встретить безгорестно час, Запасается летом, зимой поедает запас. В этом искусе жизни не всякий ли смертный — меняла, Чьи сокровища хрупки и мельче смарагда и лала? Нашим замыслам жадным грядущее знать не дано. Что дано нам предвидеть? Лишь только мгновенье одно. Но стоянку мы знаем, и нас небосвод не обманет. Вот стоянка твоя: размышленье о том, что настанет. Из живущих существ — а ведь их бесконечные тьмы, — Размышлять о последствиях можем одни только мы. Хоть минутной усладе, как сладостной жизни, мы рады, Но уменье предвидеть отрадней минутной услады. Мы, познавшие сердце, чей пламень для нас запылал, Мы добыты из глины, но все ж мы сверкающий лал. Нам сиянье грядущего в реющей мгле заблистало, И о многом таимом душе нашей ведомо стало. Прочитать мы смогли, хоть наш разум пределами сжат, Девяти звездных школ[102] раскрывающий тайны абджад. Ты и я — только мы были высшим отмечены роком, Ты и я — первый плод из садов, что на небе высоком. Тот, кто прах твой месил, тот из лучших отобранных трав, Чтобы сердце возникло, целительный создал состав. Прах твой с горечью смешан, но все же сокровищ немало В сердце праха таится. Они — постиженья начало. Этот прах оцени. Ты о сердце людском не забудь. Благодарность забыл. Благодарным и радостным будь. Вот стоянка твоя. Ты скажи, все окрест озирая, Как сюда ты пришел, как уйдешь ты из этого края? Что скрывается в том, что из далей пришел ты сюда? И куда ты уйдешь и зачем ты уйдешь навсегда? В дни, когда на земле ты еще не томился, печален, И служил не тебе этот мир безнадежных развалин, — Ты блаженство знавал, то, что знает лишь только Хума, Ты не знал в светлом небе, что где-то находится тьма. И любовь твоя крылья в безмерную ширь раскрывала, Но ведь вечность безмерная также предела не знала. И, устав, ты спустился, покинув пустынную сень, И на землю и на воду бросил крылатую тень. И когда ты, мятежный, земными наскучишься снами, Снова солнце захочешь узреть под своими стопами. Но, забыв обо всем, от всего отказавшийся, ты Вновь стремишься в безвестность. Твои беспокойны мечты. Быть в движенье бессменно! Желать ты не хочешь иного. Ты свой путь забывал, и о нем позабудешь ты снова. Ты и нищ и богат, и ладонь многощедра твоя, Вечно новый, издревле идешь ты путем бытия. Ты не чти эту землю — убийцу живущих на свете, Ты покинь эту мать. Об отцовском ты помни завете. Ты скажи, простодушный: «Тебе повинуюсь, Адам, И, припомнив твой путь, по твоим поспешу я следам». Ждешь покоя зачем? Что несет ожиданье такое? В этой жизни земной мы не можем мечтать о покое. Если б нашей алчбе краткой жизни сочувствовал миг, Облик жизни растраченной вновь бы пред нами возник. Погрусти и уйди — разве ты не из этой же глины? Ты, что радостен здесь, иль грустить не нашел ты причины? Ну, кому ж небосвод молвил весело: «Радостен будь»? Не тебе и не мне. Нет, о радости ты позабудь. Мы на землю пришли, чтобы ведать невзгоды и беды, В этот край мы пришли не для мирной и сладкой беседы. Мир продажи и купли! Он полон тревоги большой, Полон вечной неверности, вечной клянусь я душой! Почему ж ты грустишь и грустнее тебе год от года? Хоть сюда ты пришел, но ведь время наступит ухода. О, навеки, навеки нам эти печали даны: Появленье, отбытье, в которых мы так не вольны! Что ничто есть ничто, в этом, право, сомнения мало. Бытие есть ничто — вот что душу печалью объяло. Не спеши уходить, ведь сюда ты неспешно пришел, В сеть недавно попал. Претерпи этот горестный дол. Крикнут нам: «Проходи! Будь в аду или в светлом эдеме». И чекан наш изменят и выбьют на новом дирхеме. Стародавнюю глину по-новому станут сбивать. То, что было разбросано, собранным станет опять. Дней грядущих побойся. Ты их устыдись. Ты ведь ныне Ничего не стыдишься в своей непустынной пустыне. Нам грозят испытанья. Об их одоленье радей. Посмотри, терпеливый: изранено сердце людей. Только вера есть конь в этой мертвой пустыне. И только. Только вера. Так будет и было доныне. И только. В этом трудном пути все вперед погоняй ты коня, Не кори неразумных, свое милосердье храня. Вот старания зеркало. Твердо, в упорстве великом Ты, глядясь в эту гладь, будь обрадован пламенным ликом. Ты покайся в грехах, им указом господним грозя, И припомни о том, что судьбе покоряться нельзя.ПОВЕСТЬ О ПОДВИЖНИКЕ, НАРУШИВШЕМ ЗАРОК
Некто, чтивший мечеть, был в беде неожиданной. Он Стал с притонами темными в тяжкой тоске обручен. Лил он в чашу вино, лил из глаз он обильные слезы, «О, беда, — он стенал, — я возмездья предвижу угрозы. Птицу страсти мне в сердце вселил непредвиденный рок. Стали четки мои, словно пойманной птицы силок. Мне Кааба запретна, — неслись его тяжкие стоны, — Мне, как видно, судьбою назначены только притоны. Знаки звезд надо мною поплыли проклятием злым — Каландаром я был — а остался гулякой пустым. На меня уж никто не посмотрит почтительным взором, И притоны, где я, еще большим покрылись позором. Ах, уйти бы от мира! Не знать его горестной мглы! Пыль дороги земной пусть моей не коснется полы! Эта воля судьбы, что я здесь, где языческий идол! Это рок мою душу притонам неправедным выдал!» Но ведь свет милосердья от смертных людей недалек. Некто юный, укрытый за темной завесой, изрек: «Не считай, что дела твои злобным ниспосланы роком, Сотни схожих с тобой этой жизни влекутся потоком. Ведь раскаянья двери, ты знаешь, открыты для всех. Перед нами омой ты слезами свой тягостный грех. Если к нам ты пойдешь, то прощенья заслужишь. Когда же Не пойдешь — поведут; ты суровой достанешься страже. Твое пастбище — луг, то холмистый, то гладкий. И всё. Небеса — твой тростник, изумрудный и сладкий. И всё. Собирай свой припас, не дремли и не спи ты ни часа, В даль, где нет бытия, не иди, не имея запаса. Для чего эти слезы? Кровавые слезы таи. Для чего эти сны, эти сладкие дремы твои? Встретит вера тебя погруженным в дремоту, усталым, И укроет свой лик под печальным она покрывалом». Царь воссел на коня: дух в поход собрался, Низами! Не промедли! Свой взор ты в просторную ночь устреми.РЕЧЬ ДЕСЯТАЯ О КОНЦЕ МИРА
Ты последний свой круг не спеши совершить, небосвод! О земля! Отдали ты беды неизбежный приход! После золота дня вечер стелит багряную ризу. То, что было вверху, неуклонно склоняется книзу. Дышат недра земли, смутный ужас во мраке храня. Будет страшно земле сотрясение судного дня. Забушует, безумье; и вот не пройдет и мгновенья, — И небесных цепей разотрет оно крепкие звенья. Вихри взвихрят весь мир, набежав из нездешних степей, И земля, обезумев, сорвется с небесных цепей. Так безумна земля (кто иначе о бешеной скажет?), Что на стане своем пояс неба мгновенно развяжет. Вечер цвет позабудет, а утренний час — аромат, Небосвод от чоугана, земля от мяча отлетят. И ударит земля по лазури тяжелым ударом, Небосвод ей ответит ударом и ловким и ярым. И, пылая огнем, он ударит опять и опять, Он захочет всю землю, удар за ударом, разъять. Разорвет он свой плащ в этой смене гремящих событий, И жемчужины звезд разорвут свои светлые нити. И падет небосвод, и земные взметет он поля, И, крутясь в исступленье, поднимется кверху земля. Небосвод и подлунную люди томить перестанут, Под стопами людей все дороги пылить перестанут. Высь не будет в заботах о людях и ночью и днем, И забудет земля о безумном коварстве людском. Будет стыдно созвездьям за то, что почтительны были К малой горстке земли — к человеку, подобному пыли. Как змея, небосвод изовьется лазурным кольцом, Чтобы землю пожрать пред своим неизбежным концом. Страждет печень земли: ей безмерно наскучили люди! Да, одни только вы эту землю измучили, люди! Почему же земля в этой чаше печали лежит? Почему эта чаша, синея, о смерти твердит? Если вам не дано, в вашей скорби тревожной и бурной, Этот прах ненадежный исторгнуть из чаши лазурной, — То в потоках семи от нее вы омойте полу, Чтобы стать непричастными черным невзгодам и злу. Рвите рубище звезд вы с лазурных высот. Во мгновенье Зачеркните весь мир. Да настанет его разрушенье! И под черной землей в быстрых звездах крутящийся свод, Не промедлив, укажет великих событий приход. Для всего, что грядет, для прощений, для грозных возмездий Мы найдем указанье в круженье горящих созвездий. Если голову рубят, она отлетает, — и вот Уж готова земля в этот страшный и мрачный полет. В черной ракушке неба немало жемчужин, но скрыла Эта мгла в черном сердце грозящего нам крокодила. Злая ракушка — небо. Не радость — ее жемчуга. Звезды взор наш отводят: созвездья — лукавей врага. Посмотревший на них, как на блеск непонятного чуда, Как змея, спрячет взор за зеленую мглу изумруда. Да, прозрения мира у взора воздетого нет. Сотни раз поглядит, знанья все ж и от этого нет. Путь в неведомый край ты всегда, человек, ненавидел, Потому что глазами его — не своими ты видел. Ноги только свои утомляй ты в нелегком пути; Ведь нельзя по дорогам ногами чужими идти. Пусть высоко взойдет, сыпля золото, мощный, но хмура Будет участь его: смертный час наступил и для Гура. Не закроешь ворота на улицу смерти; нельзя Избежать ее кровли. Твоя неизбежна стезя. Пребывай в этом доме, где заперты окна и двери, Что на пользу болящим, по слову старинных поверий. Хочешь ведать о мире? Загадкой, совсем не простой, Видишь небо и прах. Что томиться надеждой пустой? Млечный Путь позабудь, хоть в безмерности так он узорен. Три зерна ты сочтешь. Что сказать о бессчетности зерен? Водяным колесом купол неба поднялся[103], но ты, Тесный круг оставляя, безмерной желай высоты. Разум самый подвижный и самый пытливый и строгий Пристыжен и смущен вечной тайной безвестной дороги. Размышленья бессильны: ты зорок, внимателен будь, Разгадать попытайся для взора неведомый путь. Ты за волосом каждым другой не разглядывай волос: Все земное прими, иль разлуки послышится голос. Коль тебе благодатное в звездной завидится мгле, Станет грустно тебе оставаться на темной земле. Мир! О, глиняный холм! Где тут верность и где тут услада? И глядеть на него вожделеющим взором не надо. Для чего твой венец? Он сверкнет над поникнувшим лбом, В ярком поясе ты, но покорным ты станешь рабом. Дарование каждое тяжкие слышит укоры. Даже в сахаре яд. Посмотри, как сверкают узоры Этих зорь. Яркий пурпур — пылающий ад. Из поварни подземной на землю подняться он рад. Месяц поднял светильник, но, нищий, сверкая над миром, Не своим он, а солнечным полон украденным жиром. Влага облака, травам неся благодатный расцвет, Кровь людей разбавляя, приносит им тягостный вред. Хоть вкушают у вод утешенье спокойные души, Корабли знают беды вдали от спасительной суши. Мастерская земная великих изъянов полна. Посмотри, ведь она тяжких бед и обманов полна. На пороки свои ты не смотришь, и людям порочным Служишь зеркалом ты, перед ними поставленным, точным. Недостатки других не лови, словно зеркало. Ты Помутишься, приняв отраженных пороков черты. Что ж, доволен собой, ты своих не таишь недостатков? Лучше всем покажи, что своих не хранишь недостатков. От пороков других ты поспешно глаза отведи, На себя поглядев, от пороков своих отойди. Всюду доблести скрыты, и всюду пороков немало, Ты пороки забудь, чтоб достоинство видимо стало. Разве яркий светильник не можешь найти ты в ночи? Если сладостен день, то о вороне темном смолчи. Видя перья павлина, покрытые блеском, о строгий, Разве можно твердить про его некрасивые ноги? Перья ворона мрачны. Красив его блещущий взор. Ты о перьях забудь. На глаза погляди ты в упор.ПОВЕСТЬ ОБ ИСЕ
После многих дорог, по которым скитался Иса, На базар неизвестный его привели небеса. Там собака валялась; душа уже в ней не ютилась, Как Юсуф из колодца, из мертвой она удалилась. И прохожие люди — сказанья о том говорят — Перед павшей стояли, как сумрачных коршунов ряд. Молвил кто-то: «О тлен! Удивляться, приятели, надо ль, Что в наш мозг веет мраком пред нами лежащая падаль?» И добавил другой: «Здесь не только для разума мгла, Мне глаза она жалит, и душу она мне сожгла». Каждый песню пропел все того же печального лада. Поношенье в ней было, и горечь была, и досада. Но Иса понимал, что людская толпа не права, И сказал не о мрачном — о светлом сказал он слова. И сказал он, с красой сокровенной, невидимой дружен «Эти белые зубы прекраснее светлых жемчужин». Улыбнулись прохожие: мрака распался покров, — И блеснули их зубы от света услышанных слов.* * *
Ты других не кори и себя не считай без порока. Опусти свои очи. В злоречии много ли прока! Держишь зеркало ты, отраженье родное любя. Ты разбей это зеркало. Надо ли славить себя? Ты в наряде весеннем, стоишь ты с весельем во взоре. Как бы время тебя не заметило в этом уборе! Чтоб укрыть твой порок, чтоб от ангелов был он вдали, Девять синих завес милосердно тебя облекли. Где в лазурном кругу утоленье найдешь и веселье? Многозвездная цепь — не твое, человек, ожерелье. Ты — не пес, не тебе предназначен ошейник Плеяд[104], Ты — не ослик Исы, что же вьюки тебя тяготят? Небосвод — вдовий плащ; над земным он склоняется лугом. Что есть видимый мир? Это плод, пораженный недугом. Мир, со всем, что придет, и со всем, что исчезло давно, — Преходящ. Это — малое, это — пустое зерно. Горький мир ты вкушаешь, Хаджа! Разве есть в нем услада? Не с тобой Низами: для меня его больше не надо.РЕЧЬ ОДИННАДЦАТАЯ О НЕВЕРНОСТИ МИРА
Если все ты постиг, ты сверни многозвездный ковер. Не для нардов простерт этот синий неверный простор! Пожеланья твои не исполнятся небом. Напрасно С небом честно играть. Ведь лукавит оно ежечасно. Ставить ногу свою на неверное море — зачем? Кладь везти по волнам, предвещающим горе, — зачем? Сокол утке сказал: «Как отрадно в степи!» — «До свиданья, — Так ответила утка, — нужны ль мне такие скитанья?» Ты в печальной ладье. И, грустя, я того не таю, Что поклажа твоя подготовит погибель твою. Выкинь тягостный груз — ведь ладью он безжалостно давит. Не подав тебе хлеба, тебя он воде предоставит. В этом хрупком сосуде — увы! — безопасности нет. В этой кости, увы, мозга веры и властности нет. Мир тебе не потатчик. С тобою идет он не в ногу. От него отойди, отыщи ты иную дорогу. Что на этом столе? Не напрасно ль он смертному дан? — Оскверненная чаша, унылый, пустой дастархан. Ты на мир поглядишь, и твой рот он зашьет, негодуя. Коль его укоришь, он язык твой сожжет, негодуя Паланкин его пуст, бубенцы хоть и радуют слух. Чаша мира пуста, но над чашею множество мух. Только малость испивший из чаши неверного пира С головою утонет в кольце ненадежного мира. Жить в подобном селенье — твоя и беда и вина: В нем смятение мысли и в нем — треволнение сна. Там, где нет бытия, там свою обретешь ты обитель. Этот край ты покинь, о развалин обманчивых житель! Пусть над краем неверным встает и расходится дым. В нём ведь станешь ты старым, не будешь всегда молодым. Что ты тянешься к миру, к нему простираешь ты руки? Не тобой он рожден, и рожден он для горькой разлуки. Этот мир зачеркни, и печали умчатся, как сон. Ты покой обретешь, позабыв о вращенье времен В дальний путь ты идешь, так иди в этот путь спозаранок. Снедь в дорогу сбирай, и сбирай ты ее для стоянок. В этой скудной пустыне, наполненной дэвами, — ад. В ней сгорают от зноя, от жажды в ней души горят. Жизни влага нужна, а пустынной что горестней доли? В ней источником солнечным созданы области соли. Как вино для неверных — ужасный ее солончак. Не кебаб в ней находят, а взора недоброго мрак. Нет в пустыне воды; от ее голубеющей соли, Как вода, льется желчь человеческой скорби и боли. По страшащему сердце, по злому, пустому пути Караван человека спокойно не может идти. о зное жаркой пустыни, где дэвы нас кружат упорно, Сердце — в тесном кругу, но томлениям сердца просторно. Тот, кто к этой пустыне душою приладился, — тот В своем сердце застывшем одну только горечь найдет. Вся земля — словно ад. Ты, от страха на ней замирая, Темный ад отстрани и достигни желанного рая. Прах земной распадется, но время, живых не любя, Шаг за шагом ступая, заране растопчет тебя. И руками своими тебя оно вырвет из праха, И тебя потеряет, куда-то метнувши с размаха. Снова к праху вернется из праха исторгнутый прах. Так зачем же по праху бредешь ты, как будто впотьмах? Под подошвой своей никого не топчи ты, блуждая; Мир подобных тебе растоптал без конца и без края. В мир пришедший не может из мира души унести. Ведь никто не узнал о безмерном, о тайном пути. Так зачем же ступать по шипам, по колючим дорогам? Лучше встать, и уйти, и не медлить в решении строгом. Из ужасного края ты все же уйдешь. Не пойму, Что же медлишь ты здесь? Почему не спешишь, почему? Мир — привал. Эту область считать вековечной не надо. Злую осень считать нам весною беспечной — не надо.ПОВЕСТЬ О ПРОЗОРЛИВОМ МОБЕДЕ
Хиндустанский мобед в долгом странствии бросил на сад, Что увидел в пути, испытующий, пристальный взгляд. Он увидел стоянку, рибат благоденственный, или Целый край, где красоты прельщали людей и манили. Здесь цветы, словно зори, раскинули радостный стан. Здесь в неведенье сладком дышал быстротленный тюльпан. И цветы, что роскошно являла очам луговина, Были сладки, как сахар, душисты, как лучшие вина. Перед острым шипом роза вскинула розовый щит Возле ивы, что вечно от смутного страха дрожит. Кудри нежной фиалки, арканами став, угрожали, И нарциссы глаза, как дирхемы, вокруг рассыпали. C жемчугами тюльпан, в бирюзе никнет роза. Одна Им назначена участь: мгновенье зовется она. Да, мгновенье одно! Красота их возникнет и канет. Но никто не гадает о том, что с зарею настанет. Удалился мобед: в отдаленный стремился он край; Но, домой возвращаясь, вернулся в увиденный рай. И не встретил он роз, соловьиной не слышал он трели… Только вороны, каркая, с голых деревьев глядели. Адом сделался рай. Знать, покинувши царственный дол, Царь прекрасного замка во мрак синагоги ушел. Ветви ждали огня, печей уж внимали угрозам. Взор склонялся, грустя, лишь к вязанкам колючек, — не к розам. И, в дорогу спеша, надо всем посмеялся мобед, Загрустил о себе, не предвидевшем горестных бед. Он сказал: «Всё, что в мире, что жизни охвачено пленом, Постоянства не знает, подвластно одним переменам. Всё, что голову вскинет из темной земли, из воды, Снова голову клонит в часы неизбежной беды. Так как в мире земном все приводят пути к разрушенью, Подчинясь небесам, принужден я идти к разрушенью». Он сказал: «Всё от неба, и милости нету конца». И познал он себя, и познал он величье творца. Он сыскал этот жемчуг, он жил этой светлою тайной. С этой тайной дошел он до жизни нездешней, бескрайной. Мусульманин! Скажи, с гебром схож ли ты? Был он могуч. Ты — источник, но капли не смог обрести ты из туч. Ты с индусом сдружись, пусть душа его будет не сира. Ты из мира уйди; да не будет окрестного мира! Долго ль будешь, скажи, своеволье свое ты являть, Гордо, в шапке и в поясе, к небу чело поднимать? Встань, о прахе забудь; ты пред ним не склоняйся с любовью. Препоясался прах, чтоб твоею пожертвовать кровью. Этот пояс и шапка — они ведь беда для любви, Их отдай за любовь, и любовь ты к себе призови. То ты в шапке порою над прахом встаешь господином, То к любви, препоясан, стремишься рабом или сыном. Господин или раб! Выбор сделай. Решенье прими. Подражай Низами: он прогнал от себя Низами.РЕЧЬ ДВЕНАДЦАТАЯ О ПРОЩАНИИ СО СТОЯНКОЙ ПРАХА
Распрощайся со днями. Разлуки надвинулся срок. Встань, вперед устремись; позабудь этот хитрый силок. Ты построй государство, которое лучше земного. Дверь в иное раскрой, чтоб увидеть сиянье иного. Ты и сердце и очи направь на единственный путь И, пролив свои слезы, в дороге о них не забудь. Оросив эту глину, уйди в растворенную дверцу, И побегами жизни отраду доставишь ты сердцу. Коль с верблюдом ты схож — запляши: ведь пустыня видна. Если нет — то дабу не бросай ты под ноги слона. Нету друга с тобой, и печальнее ты год от года. Так в ничто удаляйся. Иного не сыщешь исхода. Те, чей разум сверкал — сотрапезники наши, — ушли. С кем ты сядешь за пир? Те, что пенили чаши, ушли. Хоть отрада и радость порою приносятся миром, Но, коль ты одинок, то каким ты утешишься пиром? Целомудренным сердцем ищи, забывая о зле, Ты прозрачной воды на унылой и мрачной земле. До исхода пути все, что было с тобою в избытке, Ты прохожим раздай. Для чего тебе эти пожитки? Без напрасного груза легко ты пойдешь по пути, И до нужной стоянки сумеешь ты скоро дойти. Если ищешь ты сердце — взойти тебе на небо надо. В этом доме земном пред тобою повсюду преграда. Ты прорвись на дорогу! Весь край поднебесный таков, Что сравнить его должно с сетями вседневных силков. Разорви эту петлю, подобную петельке «мима», И дорога иная тебе станет тотчас же зрима. Берегись сотен звезд — их мишенью не сделайся ты. Не вверяйся во власть небосвода незримой черты. Перейди за черту, где и дни пробегают и ночи. Чтоб за этой чертой беспредельность увидели очи. Сделай прочной тропу для движенья уверенных ног, Чтобы быстро по ней к постиженью стремиться ты мог. Ты, куда б ни пришел, не всегда предавайся доверью. Дверь ты должен запомнить, чтоб этой же вышел ты дверью. Должно зорко взирать, осторожно оглядывать путь, Чтоб в расщелину ночью усталой ногой не скользнуть. В наводнения час как же в кровле не сделать пролома, Чтобы в должное время бежать из опасного дома? Хитроумной лисице собачья повадка ясна, Потому-то в норе два прохода прорыла она. Но не знала она, что взирающий мрак небосвода Уловляет лисиц и что нет им иного исхода. Почему же ты весел? Отрады твоей не пойму. Почему ты беспечен, беспечен во всем? Почему? Ты промолви: «Стеная, пришел я в земную теснину, И, стеная и плача, навеки я землю покину». Если ты не исполнишь такой неизбежный завет, Трудно будет душе покидать этот горестный свет. Ты в пути, что душой после грустного пира увидел. Оба мира отринь, ты ведь горести мира увидел. Вниз не надо глядеть, чтобы путь не казался страшней, И назад не гляди, чтоб тебе не страшиться теней. Клади веры возьми, ведь в дороге не будет харчевен. Воду глаз не забудь: путь безводен и путь многодневен. Звездной ракушке неба жемчужину духа верни. Будь свободен от праха, ты тяжести праха стряхни. Там, в крутящейся выси, с тобой однородных немало, И тебя превзошедших и звездам угодных — немало. Но не надо враждой нарушать эту звездную тишь. Почему небосвод ударять ты о землю спешишь? Он ведь солнца щитом и мечами сиянья не в силах Нам беду принести. Откажись же от мыслей унылых. Он — веревка, что вьется. О нет, он совсем не змея. Он — ничто. О, насколько любовь многомощней твоя! Почему ты грустишь над хрустальною чашей? Во власти Ты ударить ее и разбить на мельчайшие части. Те, что алчность не чтут и не могут пред золотом пасть, Над врагом простирают своей добродетели власть. Ты иди на врага с благосклонностью сердца упорной И убей его светом, как тьму губит день благотворный.ПОВЕСТЬ О ДВУХ ПОСПОРИВШИХ МУДРЕЦАХ
Жили двое мыслителей некогда в доме одном И полны были гнева, поспорив о доме своем. Долго спорили мудрые. С распрею не было слада. «Хоть премудрость одна лишь — сказать о премудрости надо. Правды две не нужны: лишь одной пожелают внимать, Две главы вознесутся, — одну не придется ли снять? Для храпенья двух сабель я кожаных ножен не видел. Я ведь пир двух Джамшидов — ну как он возможен? — не видел». Двое мудрых твердили об этом не раз. Потому И решили, что дом надлежит передать одному. Каждый в схватке слепой был исполнен вражды и упорен И желал, чтобы дом стал удобен ему и просторен. И однажды в ночи голоса возвышали они, Будто клича людей, общий дом продавали они. И решили мужи после спора пред самым рассветом, Что друг друга они угостят ядовитым «шербетом», Чтоб узнать, кто сильней и кто явит познанье свое И сумеет создать наиболее злое питье. Тотчас разума два одному они отдали делу, Будто два устремленья вручили единому телу. Первый муж создал яд, потрудившись немало над ним. Этот яд черный камень прожег бы зловоньем своим. И врагу подал враг свой состав и сказал: «Мой напиток Укрепляет все души, и сахара в нем преизбыток». А другой, эту чашу, влекущую в царство теней, Выпив смело, сказал: «Только сладость я чувствовал в ней». Нуш-гия в нем таился; врагу причиняя досаду, Прекратил бы он доступ любому смертельному яду. Муж обжегся, как мошка, но тотчас он крылья раскрыл И, как светоч сияя, к другим мудрецам поспешил. На лугу, мимоходом сорвав темно-красную розу, Он заклятье прочел, и подул на прекрасную розу, И врагу ее дал. Словно скрытый заботливо яд Лепестки ее нежные в пурпурной чаше таят. Взяв заклятую розу, поддавшись безмерному страху, Недруг взялся за сердце, и душу вручил он Аллаху. Тот премудрый отраву из тела исторгнуть сумел, А другой из-за розы подлунный покинул предел. Друг мой, каждая роза, горящая пурпурным цветом, — Капля крови людской, пурпур сердца. Ты помни об этом. Ты из сада времен: и весна и цветение ты, Но ведь сад увядает; его отражение ты. Острый камень всади в этот прах, взгроможденный слоями. Прахом воду осыпь, что подвешена кем-то над нами. Эту воду покинь, эти марева злые забудь! Ты над прахом взлети, от притона подалее будь. Ты от месяца с солнцем свое отстрани размышленье. Ты убей их обоих, как их убивает затменье. Златоблещущий месяц — его восхвалять я могу ль? — На дорогах любви — человека смущающий гуль. Небосвод, полный зла, наше утро призвавший к ответу, Из великого света привел тебя к этому свету. Если светлого сердца услышишь благой ты совет, То из этого света возьми его в канувший свет. Слезы лей и мечтай, чтобы слезы надежды смывали Все, что явлено людям на этой двухцветной скрижали, Чтобы этой надеждой ты душу смущенную спас В день Весов, в судный день, в неизбежный торжественный час. Укрепи свою руку, призвав благотворную веру, Чтоб она на весах указала надежную меру. Кто, печалясь о вере, возносится в светлую даль, Тот свободной душой забывает земную печаль. Ты, чьей жажде к земле и подлунному миру я внемлю, Ты мне веру отдай, а себе ты возьми эту землю.РЕЧЬ ТРИНАДЦАТАЯ О ПОРИЦАНИИ МИРА
Миру тысячи лет, тесен миром раскинутый стан, В юность мира не верь, многокрасочность мира — обман. Схожий с юношей старец, исполненный темной угрозы, Держит пламень в руке. Этот пламень ты принял за розы. Воды мира — лишь марево жаждой охваченных мест. Что он сделал кыблой? Христианский неправедный крест. Скудны розы земли, но колючек на свете немало, Небо розы земные всегда у людей отнимало. Отрешись от всего, что тебя соблазняло года. И, уйдя, унеси то, что сам же принес ты сюда. Если кладь унесут в море судного дня, — нашу душу Унесут, и она так же в море забудет про сушу. Хочешь — деньги разбрасывай, хочешь — припрячь их под спуд: Все, что ты получил, все равно у тебя отберут. Знаю: «Купля-продажа» — название этого света. Пусть дает он одно, — но другое берет он за это. Хоть разводится червь на листве, порождающий шелк, Но ведь водится червь в сундуках, поедающий шелк. В светоч масла подлив, чтобы ты не угас от нагара, Как светильник, сжигай пышноцветную розу Джафара[105]. Ты разбей эту плоть, эти девять ненужных дверей. Шестигранного золота слитки забудь поскорей. К ним рукой не тянись, ставь на них ты с презрением ногу, Чтоб никто не сказал, что к поживе ведешь ты дорогу. Ведь на золоте нет послушанья чекана, — и так Нечестивое золото разве не тот же мышьяк? Если золота блеск — беспокойной корысти причина, Вспомни: блеск золотой на хвосте у любого павлина. Можно только железом блестящее золото брать, Потому кузнецом должно каждого шаха назвать. Только к золоту влекся могучий Карун и, не щедрый, Потому-то был ввержен в земные, потайные недра. Ведай: золото — груз, коль оно жадных мыслей огонь, Коль оно под ногами, оно — твой оседланный конь. Если золото взял, возвращать его разве приятно, Для чего ж его брать, коль нести его надо обратно? Целый мир ты возьмешь жаркой жадности властной рукой, От всего отказавшись, добудешь отрадный покой. Если золото взял — разбросать его ты приготовься. Но ведь было бы лучше не брать это золото вовсе. Если золото копишь — в тебе воспаляется желчь. Если золото тратишь — в тебе усмиряется желчь. Посылают нам золото только восточные дали, Знайте: «западным» люди его без причины назвали. Там, на западе, в людях возвышенной щедрости нет, На востоке же в щедрости видят отраду и свет. То, что радостным утром подарит сиянье востока, Запад вечером спрячет; дождавшись урочного срока, Существо рудников только в золоте силу нашло, Хоть безруки пернатые — им даровали крыло. Хоть бы камнем дамасским проверено золото было, Хоть бы качеством лучшим оно ненасытных манило, Это золото брось, разглядев его вечный изъян: Хоть оно и сверкает, но это сверканье — обман. Кто же был не обкраден вот этим блистательным вором, Не смущен этим гулем, снующим по нашим просторам?ПОВЕСТЬ О ХАДЖИ И СУФИИ
Некий муж правоверный задумал к Каабе идти. Приготовил он все, что должно пригодиться в пути. Но один кошелек, из ниспосланных старцу всевышним, Полный звонких динаров, хаджи показался излишним. И подумал хаджи: «Некий суфий, святой человек, Проживающий здесь, все мирское покинул навек. Чует сердце мое: умиление в суфии этом, Благонравье, и мир, и смирение в суфии этом». И пошел он за ним, и привел его в дом, и извлек Свой запас из ларца, и вручил он ему кошелек, И сказал: «Сберегай ты под сенью безлюдного крова Мой излишек. Вернусь, — и кошель будет нужен мне снова», И хаджи вышел в путь, что идет всем паломникам впрок. Суфий принял кошель, чтобы целым вернуть его в срок. Но помилуй, создатель! Уж долгие годы динары Насылали свои на нестойкого суфия чары. И сказал он, смеясь: «Хороши мои стали дела. Звал судьбу золотую, — судьба золотая пришла. Стану золото тратить, ведь с ним наслаждение слито, Как легко получил я богатство, творцом не забытый!» Потянул он за узел, раскрыл он добротный кошель, Стал он славить ночами и песни, и негу, и хмель. Золотую мошну он истратил на радости чрева, Раздобрел, насыщаясь под рокоты струн и напева. Наложил пятерню он на звонкого золота жар. Черный локон красавца обвил его, словно зуннар. За деяньем худым совершал он худое деянье. Разодрал он хырку, — свой почет, не свое одеянье. Всю добычу он съел, не оставил себе и тавра[106] И жиров для лампады. И злая настала пора: Возвратился хаджи. На индийца, влекомого к негам, Он, как тюрок, нагрянул, нагрянул внезапным набегом. Он сказал: «Эй, мудрец, принеси мне немедленно…» — «Что?» — Тот спросил. — «Да динары». — «Молчи, все динары — ничто! Щедрым стань, о достойный! Настойчивость брось. Ведь налога Не взимают с развалин. У нищего стал ты порога. Твой кошель опустел. Воздух в воздухе. Скорбный бедняк И тугой кошелек! Совместит их лишь только простак. Кто посмел бы по-тюркски на тюркские мчаться кибитки?! Кто бы мог у индийца на время оставить пожитки?! Столп достоинств моих и рукни искрометного шквал! Столп не выдержал, нет, он под тягостным грузом упал». С сотней возгласов буйных смеялся он, все раздавая. С сотней стонов печальных он пал, о прощенье взывая. Он стенал: «Я стыжусь! Да простит меня милость твоя. Пусть неверным я был, мусульманином сделался я. Мир не в вечном цветенье, с ущербом он горестным смешан, Но в ущербе твоем только я, заблудившийся, грешен». И хаджи молвил бог грозным голосом судного дня: «Он скорбит. Все прости, тяжкой злобы в душе не храня». И владелец динаров, услышавший бога, динары Не хотел вспоминать. Мудрой щедрости понял он чары. И подумал хаджи: «Я смирюсь. Я в убытке — ну что ж! С неимущего шейха динаров своих не возьмешь. У него ни зерна, у него нет иного залога, Кроме веры в добро да надежды на милости бога. Не богач этот суфий, он вечной нуждою томим, Он имеет лишь «нет», лишь «алиф», что стоит вслед за «мим»[107]. И промолвил хаджи: «Если хочешь, я буду не строгим, И проступок твой тяжкий не тяжким покажется многим, Но, притворщик, скажи: «Мне отшельником быть не с руки», — И рукою своей ты чужие не трогай мешки. Независтливых нет, вожделений людских не измерить, Горсти праха, о шейх, никому мы не можем доверить. Прячь от дьявола веру. Храни этот клад, говорю, Богдыхана запястье никто не дарует псарю. Если веру отдашь, на тебя не наложат ни пени, Разоренным глупцом на последней ты станешь ступени. Полон жара иди. Мир — стоянка, влекущая к злу. Должный край ты найдешь, только веру держа за полу. Небосвод не на нищих во мраке ночей нападает, На большой караван, на вельмож, богачей нападает. На дорогах грабитель он, грабить ему нипочем. Помни: быть неимущим отрадней, чем быть богачом. Постигая весь мир, проходя его многие долы, Я узнал: из-за сладости ведают бедствия пчелы. Горек лев. Но заранее стал он таким для чего? Чтоб, когда он погибнет, зверье не съедало его. Ввысь стремится свеча и затем оседает, и хочет Полнолунья луна, полнолунье же убыль пророчит. Ветер борется с прахом, его ударяя сплеча, Но в бессилье стихает, его понапрасну влача. Разве водные птицы, скажи, догадаться могли бы, Что цветные чешуйки являются бедствием рыбы? Те червонцы мои, что твою искушали нужду, Стали зовом к молитвам, твою победили беду». Чтоб сиять в чистоте, чтоб от нужд отказаться не ложно, Подражай Низами; проиграл ведь он все, что возможно.РЕЧЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ПОРИЦАНИЕ БЕСПЕЧНОСТИ
О довольный! Ты к миру, в спокойствии сладком, привык. Ты — осел на лугу, ты к кормушке склонившийся бык. Что тебе это солнце, лазурных высот сердцевина, Что тебе эта синь, эта выси просторной равнина! Это только для тех, в чьем познанье сияющий свет. У незнающих мира — о нем помышления нет. Подними же свой взор, не довольно ль ты тешился дремой?! Ты назначен идти по дороге, тебе незнакомой. Почему же ты спишь, иль засада тебе не страшна? Смертных, полных раздумья, всегда устрашала она. Очи вскинь, рассмотри эти синие своды печали, На ничтожность твою не они ли тебе указали? Твой рассудок — старик, он рассеян. Предался он снам, Он тебя позабыл. Ну так что ж! Призови его сам. Кто бы знал о тебе, если б разума свет величавый О тебе не вещал? Только с ним и добился ты славы. Разум светлый — мессия; всегда он к познанию вел. Без него ты — погрязший в дорожную глину осел. По дороге ума ты иди за сияющим светом Иль домой возвратись и забудь о скитальчестве этом. Не пьяни мирный разум, его на пирушках поя, Разве соколом ловчим ты будешь кормить воробья? Даже там, где вино восхваляется словом приветным, Разум сделал его нелюбезным тебе и запретным. О вино! В пьяной чаше людская качается честь, Но припомни о том, что вино древней мудрости есть. Хоть сжигает вино все земные печали, но все же Не вкушай ты вина; ясный разум сожжет оно тоже. Вина — разум лозы, но вкушать огневое вино Для утехи души лишь одним неразумным дано. Всё желая постичь, не вкушай ты в томлении томном То, что может все в мире таинственным сделать и темным. Неразумным считай человека, вкусившего то, Что каламом неведенья все обращает в ничто. Ослепи ты глаза — всех мечтаний непрошеных, чтобы Вправить ноги в колодки глупцам, устремленным в трущобы. Ты «алиф», что влюблен в свой высокий пленительный стан, Ты безумною страстью к себе самому обуян. Коль с «алифом» ты схож, — птицей будь, потерявшею крылья Ты склонись буквой «ба», своего не скрывая бессилья. Украшая собранье, стоишь ты, «прекрасный алиф», И к себе ты влечешь благосклонности общей прилив. Не подобься шипу, что в лазурь устремился спесиво, Ты склонись кроткой розою: роза смиренна на диво. Не стремись поиграть, будь разумен. Ведь ты не дитя. Помни: дни пробегают, не вечно блестя и цветя. День уходит, и радостных больше не будет мгновений. Солнце юности гаснет, и длинные тянутся тени. Это ведомо всем, — ведь когда удаляется день, Все, что в мире, бросает свою удлиненную тень. Чтить не следует тени, как чтут ее заросли сада. Будь светильником: тень уничтожить сиянием надо. Эту тень побори, а поборешь — и в этот же день Твой порок от тебя мигом скроется, будто бы тень. Что сияет в тени? Чья во мраке таится основа? Мы в тени трепетанье источника видим живого. О поднявший колени, в колени склонивший лицо, В размышленье глубоком себя обративший в кольцо! Солнце таз золотой на воскресшем зажгло небосклоне, Чтоб омыть от себя ты свои смог бы тотчас ладони. Если в этом тазу будешь мыть ты одежду свою, Из источника солнца в него наливай ты струю. Этот таз для мытья, на который приподнял я вежды, Стал кровав, стал не чист от твоей заскорузлой одежды. От большого огня, что в тебе злые выжег следы, В сердце жизни твоей не осталось ни капли воды. Если плоть не чиста и томилась алканием страстным, Что ж! Не всякое золото может быть самым прекрасным. Если каждый вешать будет только лишь истину рад, То с утробой пустой ненасытный останется ад. Прямота не защита пред холодом иль перед жаром, Но прямой не сгорает — в аду, в этом пламени яром. Если будешь кривить, будешь роком подавлен ты злым. Беспечален ты будешь, покуда ты будешь прямым. Будь подобен весам, будь в деяниях точен, размерен. Взвесив сердце свое, в верном сердце ты будешь уверен. Все крупинки, что ты будешь в жизни бегущей готов Бросить в мир, их снимая с твоих благородных весов, — Обретут свое место, и страшное будет мгновенье: Пред тобой их размечут в грохочущий день воскресенья. Надо всем, что ты прятал, суровый послышится глас. Как немного ты роздал! Как много хранил про запас. Так не трогай весов — все на них указуется строго — Иль побольше раздай, а себе ты оставь лишь немного. Стебель розы согнулся, и шип в эту розу проник. Лишь своей прямотой добывает усладу тростник. Водрузи прямоту, — это знамя, угодное богу. И протянет он руки, склоняясь к тебе понемногу.ПОВЕСТЬ О ЦАРЕ-ПРИТЕСНИТЕЛЕ И ПРАВДИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Жил властитель один, был с людьми он безжалостно строг. Словно злобный Хаджадж, издеваться над всеми он мог. Всё, что ночь порождала, наследуя дню, — на рассвете Открывалось царю. Все пред яростным были в ответе. Неким утром к владыке явился один человек. Был он зорче, чем утро. Учился он долгий свой век У луны хитрым играм, у зорь — появляться с доносом. Он, с притворною злобой, горящей во взоре раскосом, Прошептал: «Некий старец убийцею назвал тебя, Он сказал, что ты правишь, людей неповинных губя». И, пугая придворных своим изменившимся ликом, Царь воскликнул: «Казнить!» И умолк он во гневе великом. Мат мгновенно постлали, песком весь посыпали мат[108]. Даже дэв, ужаснувшись, бежал бы из царских палат. В тот же час от юнца старец злое узнал повеленье, Услыхал он: «Владыка возвел на тебя обвиненье». Омовенье свершив, в белом саване старец пошел Во дворец, и пред ним засверкал величавый престол. Царь, в решениях быстрый, потер свои руки, и очи Опустил он на землю, и был он угрюмее ночи. Молвил он: «Я слыхал, что я очень прогневал тебя. Ты твердишь, говорят, что я правлю, невинных губя. Ведь известно тебе, что мой суд — мудрый суд Соломона, Почему ж ты твердишь, что наш край полон плача и стона? И ответил старик: «Говорил я, о царь, не во сне, И сказал я не все, что известно доподлинно мне. Всюду юные в страхе, и в страхе не каждый ли старый, Городам и селеньям грозят беспрестанные кары. Все пороки твои я собрал воедино, но я Только зеркало. Я — лишь неправда и правда твоя. Ты увидел, что образ, показанный зеркалом, — верен. Иль сломаешь ты зеркало? Будь и во гневе умерен! Светлой правды возжаждай, и жажду твою утолю, Иль на шею мою повели ты накинуть петлю». И правдивого старца такое бесстрашное слово Смелой правдой своей образумило сердце царево. Вспомнил царь обо всем, что свершал он в подвластном краю. И, застигнутый правдой, он понял неправду свою И сказал: «С мудреца скиньте саван! Парчовым халатом Вы его облачите, парчу напитав ароматом». И в царе с той поры пламень гнева и злобы утих, Справедливым он стал, вспомнил подданных, пекся о них. И правдивого слова никто не скрывал, и невзгоды Не томили правдивых, и мирные начались годы. Ты не бойся погибнуть. Правдивым ты будь до конца. Побеждает правдивый по воле благого творца. Если будет правдивость всегдашней твоею повадкой, Много горького скажешь: ведь правда не кажется сладкой. Если к речи правдивой сердца ты захочешь привлечь, Вседержитель поддержит твою благотворную речь, Знай: сияние правды душой Низами овладело, И великою правдой его озаряется дело.РЕЧЬ ПЯТНАДЦАТАЯ ПОРИЦАНИЕ ЗАВИСТНИКОВ
Небосвода завесу раздвинувши, некий игрок К беспрестанной игре принуждает находчивый рок. Весь в цимбалах ковер, плясунов же, как видно, не стало. В море — жемчуга тьма, да ловцов многоопытных мало. В небе сонмы дирхемов и много мечей и венцов. Ниспослать их тебе небосвод благосклонный готов. Если сильной душой пожелал бы ты крыл Гавриила, Их тебе подарила бы дивная, высшая сила. У нее столько кладов, что сколько бы ты ни унес, Будет взорам казаться: их отблеск лишь только возрос. К дивным тайнам иди и дорогу осматривай строго. В дверь кольцом постучи, ведь за нею прекрасного много. Этот в яхонтах путь, камень мудрости блещет на нем. Всё ты должен постичь, озаренный волшебным огнем. Тут в руке дерзновенной калам обломился, — и стали Все сокровища тайной: их синие ткани застлали. Но в потайном саду каждый миг новый видится плод. Он прекрасней прекрасных, он дивного лада оплот. Нить горящих сердец, что в жемчужнице этой зардели, — Ожерелье, что пламенней многих иных ожерелий. Те, что шествуют здесь, что проходят один за другим — Умудренней премудрых. Кого приравняем мы к ним? Разум в мысли влюблен, на него не подействуют чары Юных лет, и его не смутит долголетием старый. Говорят, будто камень, когда ему много веков, Может яхонтом стать, но иных я знавал стариков. Чем старее они, тем настойчивей; все им помеха. Громогласны они, как в горах многократное эхо. Хоть ты им и знаком, но когда им подашь молоко — «Яд, — воскликнут он, — умерщвлять этим ядом легко!». Мало старых, что в новом отрадные чувствуют чары. К молодому сочувственно редко относится старый. Новой розой любуются: это отрада очей. Старый шип только ранит. Чей взор он порадует? Чей? Молодой виноград исцеляет глаза. Только стоны Змеи старые вызовут: это не змеи — драконы. Благотворные мысли, чье место — сосуд головы. Старый мозг отвергает. Они ему чужды. Увы! Те, что книги прочли, где созвездьям чертились дороги, — Календарь устарелый. Указ их не надобен строгий. Много старых собак, что прожорливей львов, и они Рвут газелей на части. Господь, нас от них сохрани! Коль на старых волков взор незлобный бестрепетно бросив, Я спокойно стою, ты скажи: «Появился Иосиф». Что удар стариков! Это робкий, не сильный удар. Но виновен ли я, что огонь во мне дышит и жар? Если юность — познанье, и если в ней много раздумья, То не скрыто ли в ней также буйное пламя безумья? Вижу много жасминов. О ложь их седой белизны! Это — злые индийцы, их скрытые души черны. Я, что с розою схож, я, чей клад осчастливят народы, Я желаю быть старым уже в эти юные годы. Тот, кто к прежнему клонится, ценит лишь только себя. Он творцу не внимает, помоги его не любя. Юный месяц, ты видел в его новолунье прекрасном, Стал он полной луной; полнолуньем он сделался ясным. Возле пальмы высокой, коль можешь, высоко ты стань, Как иначе до финика сможет дотронуться длань? «Это только зерно», — мне какой-то послышался голос. Почему он зерном называет поднявшийся колос? Морем стал водоем, бывший прежде ничтожным ручьем. Почему ж только прежним остался он в сердце твоем? Скрылась ночь от зари, многозвездным прикрывшись узором, — На нее новый день глянул новым внимательным взором. Мудрый враг, что всечасно готов на тебя нападать, Лучше друга-невежды, что всем неразумным под стать. Если видишь тростник, что смотреть на окрестные травы! В тростнике ценен сахар; лишь он удостоился славы. Одаренных цени, а не тех, что желают прослыть. Дичью быть для возвышенных — значит, возвышенным быть. Не в воде ли вся ракушка, все же нам ведомо: нужен Только вес малой капли для лучшей из лучших жемчужин[109]. Нужно сердце кружить, нужно вихрям не ведать конца, Чтоб во тьме заприметить сверкающий камень венца. Если знамя возникло и новым является зовом, — Охранять это знамя, иди с этим знаменем новым, Не разрушен еще многоцветного мира рибат, И ковров не свернули: слова и напевы звучат. Не кори этот мир, все прими иль с отрадой, иль кротко. Иль узнаешь, как дьявол, что значит ременная плетка. Если ты небосвода признать не желаешь права, У ворот непризнанья поникнет твоя голова.ПОВЕСТЬ О МОЛОДОМ ЦАРЕВИЧЕ И ЕГО СТАРЫХ ВРАГАХ
Мне сказали однажды, что юный царевич вошел В дальней области Мерва на старый отцовский престол. Как ему докучало вельможных наместников племя! Был в смятенье весь край, словно вихрем летящее время. Были старые в споре с горячей его новизной. Он в опасности был: старики управляли страной. Размышляя о смуте, уснул он тревожною ночью, И безвестного старца увидел он будто воочью. Молвил старец: «О месяц, ты башню старинную срой, Юный цвет! Не давай старой ветви сплетаться с тобой, Чтоб цвело это царство, чтоб эти весенние долы Озарил ты собой, чтобы взор твой не меркнул веселый». Шах подумал, проснувшись: «Совет полуночный хорош». И лишил прежней власти он многих старейших вельмож. Светлый сад он вознес надо всем обветшалым, суровым, И при новом царе царство старое сделалось новым.* * *
Разрушителям царства почета не следует знать. О присяге забывшие надо войска разогнать. Надо новым ветвям вскинуть головы. В чем же преграда? В устаревших ветвях. Отрубить всем им головы надо. Коль не будет упор ненадежному берегу дан, На сыпучем песке укрепиться не сможет платан. Чтобы течь родникам, прорубить мы должны им проходы. Как иначе земля нам подарит подземные воды? Есть в душе у тебя напитавший твой пламенный дух, Есть советчик — твой разум, — к нему да склонится твой слух! Почему же ты медлишь, зачем же, внимая укорам, Этот меч из ножон ты не вырвешь движением скорым?! Кто зажег этот разум? Не наш, разумеется, прах. Кто велел этот меч нам держать постоянно в ножнах? Для того, кто достоин, мы многим пожертвовать можем. Пусть тебя называют с великою щедростью схожим. Тот, кто честь приобрел и богатства обширные, тот Приобрел и блаженство, своих не смиряя щедрот. Семя щедрости нашей — запас дорогой: созревая, В судный день он для смертных послужит в преддвериях рая. Из сокровищ твоих ты немного, господь, устреми В дом раба своего: покорился тебе Низами.РЕЧЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ — О БЫСТРЕЙШЕМ ПРОХОЖДЕНИИ ПУТИ
Ты, при ветре благом высоко поднимающий стяг! Ты, пред низменной пылью в испуге бросающий стяг! Ты, стучавший в ворота дехканства, села не имея, Ты, воздвигший престол Соломона, ничем не владея! Ты не меч — что же значат удары один за другим? Ты не бубен — зачем оглушаешь нас громом своим? Рассыпай же дирхемы, как искры мечом, из кармана, Будь надменным, вздувайся, как звонкий живот барабана! Дэв влечет, но держись на ногах, сколько дэв ни влеки! Ты не мертвый, — живой: не протягивай дэву руки! Не склоняйся, не гнись пред каким-нибудь магом лукавым, Не стремись быть хатиба мечом, притупленным и ржавым. Государю хутбу возглашать златоустым дано. Чти чиханье Адама — дошло до мессии оно[110]. Если кто полюбил, словно бабочка, пламя живое, Так и целое войско его не смутит огневое. Обретешь себе душу, коль с радостным сердцем вздохнешь. Сбрось с себя власяницу — и целый ты мир обретешь. Каждый дар твой, по сути, — грабеж на проезжей дороге, — Не от бога, и богом клянусь, что забыл ты о боге. Львом ты царственным будь и не бойся на кухне кота, Тальком будь — ив аду не истлеет твоя лепота. Если весь ты — подделка, пускай истребит тебя пламя, Если ж злато и яхонт, тогда пощадит тебя пламя. Долго ль будешь заносчив, поддельный, чей в прахе чертог? Долго ль будешь ты занят собой, с требухою мешок? Но с подобным стремленьем бывали до нас и другие, До возвышенных санов хотят досягнуть не впервые. Но взгляни: что же людям приносит возвышенный сан? Вместо прибыли убыль, один лишь ущерб и обман. Если даже на небе, горсть пыли, достигшая сана, Словно солнце иль месяц упрочишься, поздно иль рано, Может быть, с небосвода ты вниз не мгновенно падешь, — Но ты создан из праха и вниз непременно падешь. Сам себе не отрежь головы лезвиями гордыни! Стать побойся ногою на гребень подобной твердыни! Ты не птица, тебе недоступен высокий полет, — Только душу исторгнув из тела, достигнешь высот. С небосводом иди по высокой духовной дороге, — Дивно молвить! — тебе даже небо поклонится в ноги. Ты вином отравился — но в этом виновен ли яд? Ты проступок свершил: кто ж — судьба или ты — виноват? Добрый ты человек! Что судьбу попрекаешь? От века Зла судьба не творила за нас, — так вини человека. Постаралась судьба, проявила она мастерство, Чтобы в нас над пороком достоинствам дать торжество. Если сами с тобой деревенские мы простофили, На судьбу не напрасно ль взыскание мы наложили? Если цветом не чист, не всецело прозрачен рубин, В склад сокровищ его ни один не возьмет властелин. Много в мире камней, но таких обретается мало, Из которых родится багрец благородного лала. И жасмин и колючка — растенья. Хоть в этом их связь, — В глаз вопьется она, из него же готовится мазь. Если роза есть роза, она и без влаги фонтана Будет лить аромат, неизменно свежа и румяна. Знаю сам, что от влаги прекрасней и мягче цветок, Но в жасмин обратить кто б колючку и плевелы мог? Если б был этот мир на ином установлен законе, То назад времена побежали б, за прошлым в погоне. Трудно счастья достигнуть, на это нам не дано сил. Хлеб едим ежедневно, — а много ль ты счастья вкусил? Кто несчастен — принижен, во власти беды неминучей. Ничего не боится попавший уверенно в случай. Тот, кто случаю верит, живет под счастливой звездой. Будь же счастью рабом, где б ни встретилось счастье с тобой. Не метафора то, что ласкает могучего случай, Власть, что случай дает, — не тождественность слов и не случай. Тех держись, кто могуч, — и беды не изведаешь ты, И о нуждах насущных избегнешь тогда суеты. В уголке не сиди ты с какими-то нищими вместе, Действуй в первом ряду ради славы и подлинной чести. Под четой Близнецов для удачи родись ты на свет И орех расколи: обещает он счастье иль нет? В дверь удачи стучась, ты пади на колени у входа, Узел низменных дел развяжи, — это будет свобода! Простодушна вода, что веселой волной притекла, Что к огню из страны, где узлистый алой, притекла. Не делись своим сердцем, но следуй за сердцем всецело, Ведь обуза и так — на пути твоем бренное тело. Долго ль будешь ты руку протягивать к ветви иной: «Мне бы счастья побольше, так мало испытано мной!» Ты захватишь весь мир — и прекрасно! — но только отчасти: Ты из мира уйдешь — так зачем устремляешься к власти? Брось же алчность, — она преградила твой праведный путь. Нестяжанье над нею готово секирой взмахнуть. Этот купола центр, бирюзой осененный небесной, — Для тебя он широкий, для мыслей возвышенных — тесный. Или вовсе не думай и силой весь мир полони, Иль возвышенной мыслью его от себя отгони! В человеческом прахе совсем не осталось познанья, «Человека души» не осталось во всем мирозданье. И в «скрижалях достоинств», в двух книгах писцов девяти, Ни единого нет, кто бы к тайному мог подойти[111]. Знай, что недругу смысла не должно протягивать руки, Знай, живая вода не находится в пасти гадюки. Враг разумный — пускай твою душу он горем потряс — Лучше друга, который в невежестве грубом погряз.ПОВЕСТЬ О РАНЕНОМ РЕБЕНКЕ
На кремнистом дворе, где играла, смеясь, детвора, Мальчик, навзничь упав, окровавил каменья двора. Был надломлен хребет от неловкого быстрого шага, И, ребят устрашая, лежал неподвижно бедняга. Детвора трепетала, не смела она и вздохнуть, И у каждого мальчика стыла от ужаса грудь. Друг упавшего молвил: «Как видно, ребята, придется Нам припрятать его в глубь любого, чужого колодца. Иль о том, что стряслось, догадается каждый глупец, И что скажет, ребята, его разъяренный отец!» Лишь один мальчуган, что с упавшим бранился порою, Был разумен, — и он так промолвил пред всей детворою: «Нет, всем будет известно, что с ним были в этот мы час, И во всем обвинять будут старшие только лишь нас. Я же с ним враждовал — мы ведь ссорились с ним то и дело. Все падет на меня!» И к отцу злополучному смело Он пошел. Всё сказал, словно в срок подоспевший гонец. И несчастному сыну помог поспешивший отец.* * *
Полный мудрости будет во всяком деянье умелым, И, ничем не смущенный, с любым он управится делом Кто поймет небосвод? Кто к всезвездному близок огню? Только тот, кто свою на него опирает ступню. Пусть безмерно движенье небесного звездного хода, Но полет Низами превышает полет небосвода.РЕЧЬ СЕМНАДЦАТАЯ О ПОКЛОНЕНИИ И УЕДИНЕНИИ
Не ревнивый о боге, своим пренебрегший уделом, Пребывающий в скорби душевной и страждущий телом! Говорящая «я» в оболочке земной заперта, — Но безмолвствуй о тайне! Предел говорящей — уста[112]. Не охватывай мир, ибо ты не изгиб небосвода. Не бери себе то, чем твоя не владеет природа. Мир, единый и вечный, сильнее, чем наша рука, Для земного безмена всемирная гиря тяжка. Помни: веса горы от пылинки дорожной не требуй И огня для казана от искры ничтожной не требуй. Если пояс довольства немногим надел человек, От служения плоти себя отрешил он навек. Алчность в росты ссужает тому, кто и так обездолен. В лучезарном венце — кто мирское отверг и доволен. В этом узком проходе[113] срезают воры кошельки, — Так спокойнее тем, кошельки у которых легки. Знатен ты и богат — так не сетуй, что голову больно. А не хочешь — уйди, нищету избери добровольно. Безбородый, в унынье, что волосы плохо растут, Увидал, как друг друга за бороды двое дерут, И сказал: «Хоть лицо у меня, как у жителя ада, Я спокоен, и мне — безбородому — в этом награда». Пользу вящую видели люди разумные в том, Чтоб изведал ты бедность, лишился бы вьюка с ослом И к духовным вратам, Иисусу подобно, проник бы, Без осла и без вьюка конечной стоянки достиг бы. Если ты мусульманин, то гебром и в мыслях не будь. Ты пекись о душе и заботы о грубом забудь. Хлынул гибели вал — о, скорее спасай свою душу! В волны кладь побросай, торопись, устремляйся на сушу! Лучше с мозгом свободным в своем разорении стой, Чем на пенистых гребнях подскакивать тыквой пустой. Сан возвышенный в том, чтобы много не спать и поститься. Величайшее благо — с земным достояньем проститься. Не стервятник же ты, ведь не станешь дохлятины жрать, — Стань же вороном — кровью не следует ног обагрять[114]. Если ж ты обескровлен — как пишут тела на картинах, — В безопасности ты от свирепых когтей ястребиных. Знай, что кровь — это печень, что стала жидка, как вода, Иль огонь посрамившийся, ставший водой от стыда. Если в теле желаешь уменьшить давление крови, . Хоть железо ты сам, будь к удару его наготове. Будь воздержан, но сразу привычку к еде не бросай. Ешь всегда понемногу и кушанья впрок припасай. Ест по малости лев и привычкою горд благородной. Всё — без толку притом — лишь огонь пожирает бесплодный. Круглым хлебцем одним удовольствован день[115], — потому Стал он светом очей мудрецам, отвергающим тьму. Ночь же — та напилась заревого вина[116], охмелела: Кровь сгустилась у ней, почернело нетрезвое тело. Ум обжоры скудеет, ответа не даст на вопрос, Сердце ж — словно осока, в нем око страдает от ос. Разум — та же душа, ей зиндан — твое бренное тело, Меж сокровищ ее талисман — твое бренное тело. Свет хранилища тайн на тебя изольется ль теперь, Коль еще не разбит талисман, замыкающий дверь? Мир земной ненадежен, и с ним разобщиться полезней, Ненадежному миру скажи не колеблясь: «Исчезни!» Если жизнь проведешь ты печальную в мире земном, — Нет печали ему, да и ты не печалься о том. Сыну негр говорил: «Что смеешься? Утратил ты разум: Лучше слезы бы лил, что родился таким черномазым!» Сын ответил ему: «В этом мире отчаялся я, — Пусть на черном лице хоть сверкает улыбка моя!» Смех на черном лице — необычного тут ничего нет: Туча, если и черная, молнии всё ж не заслонит. Если ты не пленился узилищем бренным своим, Смело молнией стань и рассмейся над миром земным. Всем известно: как сахар, улыбка сладка попугая, Куропатка ж хохочет, сама себе рот затыкая[117]. Если только развяжется твой не ко времени смех, Лучше плакать начни, чем такой не ко времени смех. В гореванье горенье со смехом во время горенья Человеку и молнии жизнь превращает в мгновенье[118]. Что в безрадостном смехе, подобном сгоранью свечи? Этот горестный смех ты обильно слезой омочи! Если ты, рассмеявшись, начнешь обнаруживать зубы, Поскорей спохватись и зубами прикусывай губы. Плачь для глаз не полезен, за частый, однако же, смех Не похвалит никто, осужденье услышишь от всех. Созерцаешь ты многое в мире, что старо и ново, — Знай, что должная мера в дурном и в хорошем — основа. Встань, сперва погорюй, а веселью предайся потом, — Есть потребность и в этом, бывает потребность и в том. Слышны стоны и в сердце, веселостью светлой богатом, День соседствует с ночью, жемчужина — с черным агатом. Нет счастливца, кого, лишь за то, что испил он воды, По башке бы не треснули — долго ль дождаться беды! Хоть богат караван, колокольчик не радует слуха. Если сахар возьмешь, непременно на сахаре — муха. Коль судьба твоя стала кормилицей мудрой твоей, И в дурном и в хорошем предайся единственно ей. Если уксусу даст, не кипи, как вино молодое. Помолчи! Может быть, ожидает тебя и благое. Лишь устойчивый может дорогою шествовать сей. В путешествии с Хызром попутчик один — Моисей. Принужден выполнять ты желанье любого вельможи, Чтоб, подобно ему, в этом мире возвыситься тоже. Только истинный друг, при несчастье о друге скорбя, Устранит все ловушки и сам не покинет тебя.ПОВЕСТЬ О СТАРЦЕ И МЮРИДЕ
Как-то шествовал старец-подвижник пустынной дорогой, И мюриды при старце, и было мюридов премного. Каждый думал из них, что от бренного мира отвык. И, чтоб их испытать, громко выпустил ветер старик. Отмахнулись они рукавами, замелькали их ноги, — Лишь один возле старца остался на пыльной дороге. И сказал ему старец: «Один ты остался. Зачем? Все другие ушли, — почему не сопутствуешь всем?» «Будь жилищем тебе мое сердце! — мюрид отвечает. — Прах от ног твоих, старче, пусть голову мне увенчает! Не принес меня ветер, решил я остаться с тобой, — Из-за первого ж ветра могу ли расстаться с тобой?» Всякий, ждущий подарка, уйдет, как подарок получит, — Принесенное ветром его же порыв улетучит. Быстро пыль подымается, быстро садится опять. Это свойственно пыли: места постоянно менять. Укреплялась гора на основе своей постепенно, — Потому долговечна, на месте едином бессменно. Тот лишь предан распутству, кто с божьего сбился пути. Может верности бремя один терпеливый нести. Если ты не распутствуешь, бремя неси отреченья, Бремя плотское сбрось, если ты не осел от рожденья. Если ты не притворщик, слеза умиленья видна У тебя на глазах, и смиренье твое — без пятна. Благочестье в султанской одежде, расшитой богато, Это — царь Соломон, мастеривший корзины когда-то. Та свеча восковая, что золото сыплет во тьму, — Это скрытый аскет, только сбросить бы роскошь ему[119]. Благочестие ценно особенно в винном подвале. Коль в развалине клад, то ценнее найдется едва ли. Низами благочестье красою немалой блестит, Но отшельника подвиг парчой златотканою скрыт.РЕЧЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ В ОСУЖДЕНИЕ ДВУЛИЧНЫХ
Вот фальшивомонетчики, — чтобы продолжить обман, Для новейшей подделки они смастерили чекан. Знай: у них и живот и спина из латуни дешевой. От нечистой руки береги свое каждое слово. Пред тобою они — лицемеры — открыты как день. За спиной у тебя они скрытны, как темная тень. Будто прямы как свечи, а спутанней веток алоэ. Хоть наружность проста, да запутано в них основное. В милосердье откажут, насильно же волю дадут. Недостатки считают и жалобам книгу ведут. Научились любви, — про любовь им другие сказали. Сколько злобы скопили — узлы на узлы навязали! Горячи они, — всё же прохладней, чем печени их[120]. Хоть живые, — мертвы и сердец холоднее своих. Пробным камнем души не испытывай дружбу их ныне. Ты как будто не пьян, — не скользи же ногою по глине. Тайны им не вверяй: эти люди — что отгулы гор, Бойся их клеветы, опасайся вступать в разговор. Все они — болтуны, от тебя они ждут уваженья, Все лишь выгод хотят, лишь свое укрепить положенье. Ищем мира с двуличными, от нищеты присмирев, — Но на эдакий мир да обрушит всевышний свой гнев! Если в дружбу людей хоть немного корысти проникнет, В тот же миг меж друзьями враждебное чувство возникнет. Если с виду и дружба, но каждый твердит про свое, — Это ложная дружба, враждебность — основа ее. Почему ты, о сахар, считаешься другом отравы? Кто друзья твои, грех? Добродетель и добрые нравы. Друг для близкого друга — как нежный целебный бальзам. Если ж это не так, перестань с ним беседовать сам. Правда, с кошкой бывает, — но это зверей недостаток! — Что она от любви поедает своих же котяток. Если друг ты неложный, так накрепко тайну храни. А предатели тайны — судьбы переменней они. Все добиться хотят над тобой своего превосходства, У тебя потихоньку похитить чекан производства. Коль извне поглядеть, — будто дружбу с тобою ведут, А как будешь в беде, сами с просьбой к тебе подойдут. Если дружбу ты сам замечаешь в другом человеке И отвергнешь ее — ты врага наживешь, и навеки. Разве могут глаза в этом множестве друга найти? Угадает лишь сердце, кто верность умеет блюсти. Но хоть сердце одно, его много печалей печалит, Вянет роза одна, но шипов ее тысяча жалит. Много царств на земле — Фаридун же один меж царей, Много смесей душистых — да мало мозгов у людей. Соблюдающих тайну не сыщешь и в целой вселенной, Только сердце одно — вот поверенный твой неизменный. Если вверенной тайны не держит и сердце твое, Как ты можешь хотеть, чтоб другие держали ее? Коль уста твои тайну везде раззвонили не сами, Как же стала она очевидной, как день над полями? Тайну ты раззвонил, не сдержал ее в сердце своем, — Что же, тайны свои выдает и бутылка с вином[121]! Все ж иметь сотоварища всякому в жизни придется, — Не гони же того, кто с тобою дружить соберется. Уж поскольку приходится в этом судилище жить, Ты найди себе друга, с которым возможно дружить. Но пока не узнал ты доподлинной сущности друга, Тайн ему не вверяй, заболтавшись в минуту досуга.ПОВЕСТЬ О ДЖАМШИДЕ И ЕГО ПРИБЛИЖЕННОМ
Был у шаха Джамшида один молодой приближенный, Ближе месяца к солнцу, почетом от всех окруженный. Так и жил он при шахе, и дело дошло до того, Что из всех повелитель его выделял одного. И поскольку его он особою мерою мерил, Благородному сердцу сокровища тайны поверил. И хоть юноши к шаху теснейшею близость была, Шаха он избегал — так от лука стремится стрела. Тайна сердце сверлила, недавно открытая шахом, И о ней он молчал, руководствуясь божиим страхом. Раз явилась старуха к нему. Удивительно ей, Что тюльпаны его ее роз престарелых желтей. Говорит: «Кипарис! Что ты вянешь? Испил ты водицы Не простого ручья, ты напился из царской криницы! Почему ж пожелтел? Никаких ты не терпишь обид. Среди радости общей зачем же печален твой вид? На лице молодом словно след долголетья и боли, И тюльпаны твои уподобились желтофиоли? Ты поверенный шаха, он сердце раскрыл пред тобой. Уподобься ему и лицо для веселья раскрой. Благомилостив шах — и у подданных лица румяны, А румянее всех у ревнителей шахской охраны». Он старухе в ответ: «Неправа ты в сужденье своем, Говоришь ты, не зная, что в сердце творится моем. Мне такое страданье приносит мое же терпенье! И лицо желтизной мне окрасило тоже терпенье. Шах измерил меня недостойного мерой своей, Шах со мной поделился, почтил меня верой своей. Мне открытые тайны велики и необычайны, Никому не могу я раскрыть те великие тайны. Все ж от шаховой тайны не столь молчаливым я стал, Чтоб о всяких делах вообще говорить перестал. Но с тобою, старуха, не стану болтать и смеяться: Птица тайн с языка неожиданно может сорваться. Если тайна из сердца наружу не выйдет, тогда Сердце пусть обливается кровью, теперь и всегда. Если ж тайну раскрою, то счастья лишусь я всецело, Клятву я преступлю — пропадет голова, и за дело». Отвечала старуха: «Искать не пытайся в другом Настоящего друга, — найдется в тебе лишь самом. Тем, кто всех откровенней, оказывать бойся доверье, Даже собственной тени оказывать бойся доверье. Лучше это лицо ты монетою желтой зови, — Хуже всей голове потонуть по заслугам в крови»[122]. Часто слышится мне, как в ночи раз за разом, тревожно Голова говорит языку: «Берегись! Осторожно!» Чтоб на плаху не лечь, свой язык ты не делай мечом[123]. Ты не день, — а лишь дню раскрывание тайн нипочем. Коль завязан язык, человек беззаботен и весел, — Только бешеный пес свой язык чуть не до земли свесил. Благо будет тебе, коль удержишь под нёбом язык. Хорошо, если меч не к ладоням, а к ножнам привык. Многим сроду известно, что это и мудро и верно, — И беда голове, коль язык говорлив непомерно. Если будешь фиалкой, чьим запахом каждый влеком, То тебя обезглавят твоим же они языком. Пусть в посудине рта он молчит, не мешая дыханью, Чтоб потом голова не воскликнула «ах!» над лоханью. Усладительна речь — всё же накрепко губы зашей: Забываться нельзя — за стеною немало ушей. Слов не слушай дурных — надо ныне страдать глухотою, И молчи о дурном — надо ныне дружить с немотою. Что бы ты ни писал, придержи осторожно калам. Если пишет другой, ты язык свой завязывай сам. Бее смывай как вода, что услышать успел от другого. Будь как зеркало нем: что увидел, об этом ни слова. Что ревнивцу привиделось ночью, о том нипочем — Хоть оно и чудно! — никому не расскажет он днем. Нет сомненья, что купол, сияющий звездами ночью, Днем расскажет едва ли, что видел он за ночь воочью. Если хочешь у звезд благонравью учиться, то днем Разглашать не подумай, что в сумраке видел ночном. О глубокая ночь! В ней сокровища мира таятся. В ней премногих сердец драгоценности тайно хранятся. Кто в заботе о главном несется, как молния скор, Не расскажет другому, на чем остановится взор. Чья ввыси голова за девятое небо выходит, Мяч свой с поля игры как прямой победитель выводит. Те глаза и язык, что с наружною жизнью дружны, Словно лишняя кожа иль волос, — срезаться должны. Коль любовь за завесой становится чуду подобной, То лишь выйдет наружу — и похотью станет трущобной. Тайн господних суму только вере возможно соткать, Но Трепальщика нить расщипали на хлопок опять[124]. Тайн завесой облек свою душу цветок нераскрытый, Но, разверзнув уста, погибает он, кровью залитый. Неужели ж такая доступна устам высота? Повесть тайную сердца расскажут лишь сердца уста. Миска сердца нужна, чтобы стали те кушанья любы. Если ж попросту есть, обожжет тебе пламенем губы. Есть души красноречье: оно и молчанье — одно. Есть души поспешенье: оно промедленью равно. Свет божественный сердца к тому лишь свой голос направит, Кто, предавшись молчанью, другим говорить предоставит. Сердца речи, которых в глубинах сердечных родник, Не устам толковать, — передаст их лишь сердца язык. Коль весельем души с Низами ты окажешься равным, Будешь малым доволен и станешь владыкой державным.РЕЧЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ О ПРИЯТИИ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ
Посмотри, как хорош этот чинный придворный прием[125], Как приятен для глаз — словно свет полнолунья на нем. Уж затеплены свечи, и полны подносы набата, Уж воздвигнут и трон, и курильницы ждут аромата. Ты, что веру покинул и к праху земному приник, Страхи горних палат на тебя уже подняли крик. «Возвращайся! — кричат. — Возвращайся от двери неверья! Видишь царский шатер? Пребывай у его лишь преддверья!» Ты от марева мира, от зноя пустыни вскипел. В день суда перечислят, что скрыть ты при жизни успел. Пес от стужи дрожит, свирепеющий, скалит он зубы, — А лисица умней — осторожна, не ходит без шубы. В полный серою ад превращен этот пасмурный дол, — Счастлив тот, кто скорее по этой юдоли прошел. Накопи же слюну, как обычай велит нам примерный, Плюнь в источник кипящий[126] и жар загаси его серный. То, что в долг получил ты, обратно отдай небесам, Ведь из праха ты создан, и с прахом расстанься ты сам. Сбрось земное с себя, как доподлинный мастер, умело, — Ты свободен еще и душа не ослабла для дела. Кто на этом пути проявляет надменное «я», Нас ограбит с тобой на проезжем пути бытия. Скорпионова ярость страшней, чем драконова злоба: Первый скрыт, а второй на виду, хоть кусаются оба. Дом весь полон воров — поскорее сокровища прячь, А пустыня — злых духов: считай свои четки и плачь. Те, кто сердца дорогу избрал для своих беззаконий, Грабят наш караван на последнем его перегоне. О, боюсь я той ночи, когда совершат свой набег И, унизив тебя, из пустыни прогонят навек. Хоть и мелок твой враг, но беда от него пребольшая: Так не делай ошибки, беспечно свой путь совершая. Крупно с мелким враждуй, мелкодушью его вопреки. Если мелочен будешь, тебя разобьют на куски. Муравей хоть и мал[127], муравья хоть ничтожна силенка, Но коль львица беспечна, без глаза оставит он львенка. До стоянки дошел караван подневольных рабов, Нагруженный корабль неизбежных достиг берегов. Чтоб тебя не видали, исчезни как греза ночная, Чтоб не выгнали вон, утеки как струя водяная. Не вступай в эту келью, подумай, в том будет ли толк, — Все равно ты обязан вернуть, что получено в долг. Если сам не уйдешь, всё равно испытаешь страданья, — Печень кровью наполнят, дневного лишат пропитанья. Если не был благим из обители праха уход, День и ночь, обращаясь, не стал бы сменять небосвод. Ты не жди, чтобы дэв разорвал тебе ворот одежды, — Встань и к вере беги, возлагай на нее лишь надежды. Чутким слухом внимай: шариат тебя кличет — туда, Тела более нет — распрощайся же с ним навсегда, Шариат — ветерок: с ним душа пусть уносится вместе. Тело — прах: так оставь же его в этом низменном месте. Шариат тебе в руку вложил благовонный рейхан. Не природе служи, — шариату, что свыше нам дан. Не стремись ты, как ветер, к дверям человека любого, Не мирись ты, как воздух, с дыханьем любого дурного. Все здесь тени подобно, — но будь лучезарен как свет. Если все ты обрел, отрешись поскорей от сует. Сжало шею тебе, как ошейник, кольцо небосвода, — Как же голову вызволишь? Ей ведь потребна свобода! Он расскажет тебе про огромные своды свои И поведает повесть про древние годы свои. Пред его глубиною тесна твоей жизни пещера, Пред его стариною ничтожна годов твоих мера. Не забудь, что молчаньем кончается речи поток, И забвенье навеки — вот жизни конечный итог. Но ты дышишь еще и, чтоб дольше дышать было можно, Лучше к двери любви подойди и стучись осторожно. Потому что дышать вместе с падшими вроде тебя Легче с этим вином, — тяжелее дышать не любя. Никогда небеса не скроили кафтан без обмана: Два отреза на шапки утянут всегда от кафтана! Все, что делаешь ты, как неверный, враждуя с добром, — Знай — припомнится все и запишется острым пером. Для чего бы открыл ты величия дверь и блаженства? Дверь откроют тебе неизбежно — ив этом равенство. Помни, если насмешку таишь за завесою глаз, Так же буду играть и с тобой, за завесой таясь. Те, кто много, живя, и дурного и доброго знали, — Будь уверен, и твердо, — дурное одобрят едва ли. Кто отправился в путь, тот невольно вниманье привлек: Совершивший дурное тем самым уж выдал залог. Будь красив он иль нет, — не сравняется с правым неправый. Как ушел ты из мира, с такой и останешься славой. Коль растенье в колючках, «колючкой» его и зовут. Те, кто амброй торгует, торговцами амброй слывут. Честен будь и правдив — это верная в жизни дорога, — Чтоб потом не пришлось и себя устыдиться и бога. Этот времени бег, истерзавший тебя, побеждай, Камнем склянку разбей, где кровавые слезы по край. Побивай ты каменьем игрушку багряного цвета! Зачеркни, чтоб и буква исчезла злосчастная эта![128] Ту свинцовую крепость своим сокруши кулаком, На коня хутталянского смело усядься верхом. Чтобы небо на горнем девятишатровом мимбаре Прочитало хутбу о тебе, государь государей. Бросить на поле знамя — поистине дело твое. А поднять это знамя — поистине дело мое. Я как ангел взнесен, хоть во мне и земная природа, Я сраженье веду на другой стороне небосвода. Выше, нежель мой рост, непреложная ценность моя. Вне окружности мира вращаюсь в кругах бытия. Не вода я, но в море я волн устрашаю громады, Не сова, но в земле я умею отыскивать клады[129]. С небом сходствую я, на сокровища ставлю пяту, Неизбежно взошел на огромную я высоту.ПОВЕСТЬ О ХАРУН-АР-РАШИДЕ И ЦИРЮЛЬНИКЕ
Срок настал для Харуна халифом назваться. В тот миг Стяг потомков Аббаса небесного свода достиг. Как-то в полночь, оставив жену и обитель ночлега, Вышел в баню Харун насладиться покоем и негой. В бане начал цирюльник властителю голову брить И к досаде его много лишнего стал говорить: «О, ты знаешь меня! Без наград мы уменья не тратим: Отличи же меня, назови меня нынче же зятем! Обрученье устрой, за меня, за раба своего, Ты отдай свою дочь, что дороже мне мира всего». От природы горячий, халиф раздражился сначала, — Но уж чувство стыда его первую вспышку смягчало. Он сказал: «От жары перегрелась, знать, печень его: Он рехнулся с испуга при виде лица моего. Если б был он в уме, так и вздору нести не пришлось бы, Может только безумный такие высказывать просьбы». Утром вновь испытал он слугу, но остался ни с чем: Был все тем же чеканом чеканен фальшивый дирхем[130]. И не раз и не два подвергал он его испытаньям, А цирюльник все тот же, все с тем же безумным желаньем! Так умом помраченный все дело вконец помрачил, И то дело распутать дастуру халиф поручил. Он дастуру сказал: «На меня с языка брадобрея Вдруг свалилась печаль, — так узнай мою тайну скорее. Он считает достойным, чтоб я его зятем назвал! Кто же так и учтивость и место свое забывал? И язык его — бритва, и в правой руке его бритва! Два клинка на меня: согласись, что неравная битва! Каждый день, подвизаясь над высшей из царских голов, Мне кидает он в душу каменья заносчивых слов!» И ответил визирь: «Не смущайся, но истины ради Испытай: может статься, стоит он ногами на кладе? Как появится с бритвой, цирюльника ты упреди: «Здесь обычно стоишь, но сегодня туда перейди!» Если будет спесив, так рубить ему голову надо. Если ж нет — поищи, где стоял он, зарытого клада». И, смиренной послушен природе, недавний «эмир»[131] Стал на новое место, как дал указанье визир. И едва отошел он и встал в расстоянии неком, Показался халифу он вовсе другим человеком. И совсем не болтает — как будто с завязанным ртом, — И глаза и язык безупречно учтивы притом. До тех пор, как цирюльник обычного места держался, Образ царственной власти в простецкой душе отражался. Но едва с того места сойти поспешил поскорей, Стал цирюльником вновь — открывай себе лавку да брей! И халиф приказал, и вскопала то место лопата, — И явились сокровища, скрытые в землю когда-то. На сокровища став, что до срока таиться должны, Всякий станет речист, отмыкает он двери казны[132]. Но казна Низами всем открыта, кто ищет совета, Грудь свободна от праха и сердце исполнено света.РЕЧЬ ДВАДЦАТАЯ О ЗАНОСЧИВОСТИ СОВРЕМЕННИКОВ
От себя мы самих отмахнулись, от жизни устали, — Почему ж, утомленные, к праху земному пристали? Пребывая средь праха, ты стал, как колючка, в шипах, Дел подобных немало с живыми проделывал прах. Жизнь успела пройти — среди вышедших из дому рано Мы последними стали — отставшая часть каравана! Покорили мы ангелов наших, им путы надев, Ищет дружества с нами и сам обесславленный дэв. Мы — что в бане котлы: горячи мы и холодны вместе; Мы — что куча золы: горячи мы и холодны вместе. Где же ясность души, где же сердца сияющий свет? Где же отдых былой? Где спокойствие духа? Их нет! Утро ночи темней, загорается черное пламя, Меркнет утро души и его опускается знамя. Беззаботности смех прерывается в наших устах, Вожделение к жизни в душе разбивается в прах. На ладони у праха создай себе силой волшебной Средство душу спасти как-нибудь в суете непотребной. Вылетай же скорей, разорви кровожадный силок, Человеку лукавство дано, чтоб он вырваться мог. Пусть зубастее волк, но лукавством сильнее лисица: Из ловушки сумела лукавая освободиться! Знай свое назначенье и верности верным пребудь, Брось себе поклоненье, аллаху служить не забудь! Прахом сердца ты стань, ибо верность лишь там обитает, Только в сердце одном справедливости роза взрастает. Если сердцем твоим добродетель тебе внушена, Одеянию верности краем послужит она. В человеке возникнут едва лишь хорошие свойства, — Пропадут, если ты не похвалишь, хорошие свойства. Но одобрил ты их — и становятся лучше тогда, И обильнее вдвое в ручье заструится вода. Кто не чужд воспитанью, бывает другими воспитан, Коль на добрые свойства в ком-либо ином поглядит он. Праху дать чистоту добродетель лишь может одна, — Только в прахе земном добродетель теперь не видна! Ведь едва добродетель поднять свою голову сможет, На нее нечестивый немедленно руку наложит. Добродетельных гонят, о жизни стоит уж вопрос! Каждый рад, если вред добродетели тоже нанес. Коль подвижника видят, так это им только забавно. А раздумья считают горячкой страстей и подавно. Имя щедрости назвали горстью убытка они, Полагают, что верный рабу даровому сродни. Щедрость только посмешище их издевательствам вздорным, Ими ясная речь именуется омутом черным. Абрис верности их нарисован на тающем льду, Даже солнце с луной эти люди хулят на ходу. Если кто хоть на миг усладился бальзамом покоя, Он уж их уязвил, их лишает тем самым покоя. Каждый с губ у другого отведает сласти, а сам Опаршивевшим пальцем ему проведет по губам. Людям с печенью плотной, подобной инжирине спелой, Подают они уксус, даваемый гроздью незрелой[133]. Чтоб хорошее видеть, у них не имеется глаз, Но любые пороки готовы приметить тотчас. В море много всего, но ничто не ценнее жемчужин: Если есть добродетель, иной уж прибыток не нужен Для слепого что капля — могучего Тигра струя, И нога саранчи тяжеленька для лап муравья. Двое-трое скупают пороки, о почестях споря, — И порочный и праведный с ними натерпятся горя. Сами в прахе они и душою чернее, чем прах, Горше всех огорчений, что носим мы в наших сердцах Станут дымом, едва до чьего-либо носа достанут, Лишь увидят светильник — и ветром немедленно станут. Посмотри ты на мир, на устройство его посмотри: Кто в нем знатные люди, имущие власть главари? Двое-трое порочных живут на позорище веку, — И наш век, и я сам через них превратился в калеку. Только я — как луна, не разрушишь мою полноту: Мне ущерб нанесут — от ущерба еще возрасту. Пусть хлопочут вовсю, только шахматы — трудное дело, Вряд ли их плутовство небосвод обыграть бы сумело. Хоть свежа моя речь, хоть духовного сада влажней, — Словно спутники Ноя, хулители реют над ней. Знамя Хызра, развейся! Зови нас на поприще боя, На священную брань! На неверных — с молитвами Ноя! Что мне их нечестивость? Что сердцу поступки дурных? Пропади, мое сердце, лишь только вспомянешь о них! Нет предела их злу, их проступкам не видно скончанья, — Пусть же голосом громким мое им ответит молчанье! Много стука в ларце, но жемчужина в нем лишь одна. А наполнит он чрево — и будет в ларце тишина. Громко булькает жбан, коль наполнена лишь половина. А наполнится весь — и безмолвствует звонкая глина. Если знания полон твой разум и ясности — дух, Откажись от речей, превратись осмотрительно в слух.ПОВЕСТЬ О СОЛОВЬЕ И СОКОЛЕ
Куст едва лишь зарделся весенним цветением роз, Соловей неожиданно соколу задал вопрос: «Ты все время безмолвен, ты самый из птиц молчаливый, — А в игре победил! Почему же такой ты счастливый? Только начал дышать, а уста уж безмолвьем связал, Не случалось того, чтоб ты доброе слово сказал. Ты живешь у султана Санджара, и дни твои сладки. Утоляя свой голод, ты грудку когтишь куропатки. Я же столько богатств в рудниках сокровенных таю, Из-за пазухи вмиг сто жемчужин зараз достаю[134], — Почему ж за червями гоняюсь я целыми днями И жилище мое на ветвях между злыми шипами?» Умный сокол ответствует: «В слух целиком обратись. Молчалив я, как видишь, — молчанью и ты научись. Знай, в житейских делах понемногу я стал господином: Сотню делаю дел, но ни с кем не делюсь ни единым. Уходи же! Тобой соблазнительный мир овладел. Ты не делаешь дела, — болтаешь о тысяче дел[135], Я живу для охот, я у шаха сижу на перчатке, Если голоден, грудку я горной клюю куропатки. Ведь ты весь обратился в трескучий язык, соловей, — Так живи на колючках и ешь с голодухи червей!» Если, чтя Фаридуна со славой его несказанной, Возглашают хутбу, кто же слушает гром барабанный? Если утро всего лишь — пронзительный крик петуха, Это разве лишь на смех, и шутка такая плоха. Наш о помощи крик небосводу внимать не угодно, От его же кольца ни одна голова не свободна. Не болтай о великих стихах, повторяй их в уме, Или, как Низами, ты окажешься тоже в тюрьме.ЗАКЛЮЧЕНИЕ КНИГИ
О писец, да пошлет тебе доброе утро аллах! Вот я узником стал, как перо у поэта в руках. Этот род стихотворства превыше небесного свода. Дал стихам мой калам все цвета, что являет природа. Я алмазы расплавил, единым желаньем горя, Коль не сделать кинжал, то хоть ножик сковать для царя. Ибо в камне таилась руда для меча моих песен, И кузнечный мой горн был для дела великого тесен. Если б небо послало мне счастье, простив за грехи, То полжизни своей не истратил бы я на стихи. Сердце мне говорит, что я грех совершил в самом деле: Под каламом моим этой книги листки почернели. Здесь шатер новобрачных, и все, что таится внутри, Под пером заблистало за три иль четыре зари. Вот шашлык из ягненка — что ж дым ты глотаешь и ныне? Что ты в вяленом мясе находишь, в сухой солонине? Так иди же и сделай неспешность своим ремеслом, А начнешь размышлять — размышляй с просветленным умом. Если в слове моем отойти от добра — искушенье, Это слово рукою сотри, я даю разрешенье. Если поднял я стяг, где не истина знанья, а ложь, То и слово мое, и меня самого уничтожь. Если б я полагал, что мои сочинения низки, То по всем городам я не слал бы в подарок их списки. Стихотворчеством скован, я в этой сижу стороне, Но все стороны света охотно покорствуют мне. И сказало мне время: «Ведь ты не земля, — подвигайся! Что бесплодно лежишь, как в пустыне земля? Подвигайся!» Я сказал: «Сокровеннейшим, девственным мыслям моим Не в чем выйти: по росту одежды не сделали им. Есть лишь полукафтан, до колен он доходит, не боле, Потому-то они на коленях стоят поневоле. Им бы надо украсить нарядной одеждою стан, Встать им было б прилично, забыли бы полукафтан». Молодой или старый, в одном все окажутся правы: Ничего до сих пор не добился я — разве лишь славы. Ни волненья толпы, ни червонцев не вижу за труд, — Знай торгуй на базаре! Добьешься ли большего тут? Как петлею Гянджа захлестнула мне шею, однако, Я, хоть петель не плел, покорил все богатства Ирака. «Эй ты, раб! — этот крик повсеместно был поднят людьми. — Что еще за Гянджа? И откуда и кто Низами?» Богу слава за то, что дописана книга до точки Прежде, нежели смерть отказала в последней отсрочке. Низами эту книгу старался украсить как мог — В драгоценных камнях утопил с головы и до ног. Благодатно да будет, что щедрую россыпь жемчужин Подношу я царю, что не менее с щедростью дружен. Книгу птица пера в высоту от земли вознесла, Над бумагою птица раскрыла два легких крыла, Головою ступая, жемчужины с губ расточала: О сокровищах тайн драгоценную книгу кончала[136]. Эту книгу пометить, чтоб верно судить о былом, Надо первым рабйа и двадцать четвертым числом[137]. Пять веков пролетело со времени бегства пророка, Года семьдесят два ты прибавишь для точности срока.ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ И СЛОВА, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Аббаса потомки — династия Аббасидов, халифов (духовных глав всех мусульман), правившая обширным государством с центром в Багдаде с середины VIII до середины XIII в.
Абджад — особый порядок арабского алфавита, в котором каждая буква имеет цифровое значение (например: алиф =1, ба = 2, джим = 3, даль = 4 и т. д.).
Авраам — библейский пророк, который упоминается также в Коране.
Адам — библейский «первый человек», который в представлении мусульман был также первым пророком на земле.
Аджам — неарабские страны, находившиеся под властью халифата. Главным образом Иран.
Азра — героиня поэмы «Вамик и Азра» — повести о двух влюбленных.
Айван — терраса, портик дворца, открытая приемная.
Али — четвертый «праведный халиф» после «пророка» Мухаммеда, связанный с ним родственными узами.
Алиф — первая буква арабского алфавита, пишущаяся в виде вертикальной черточки; синоним стройности и прямоты.
Алоэ — благовонное дерево, которое сжигали в курильницах.
Альмагест — сочинение древнегреческого географа Птолемея.
Ахмед — одно из имен пророка Мухаммеда.
Аяз — фаворит султана Махмуда Газневи (XI в.).
Ба — буква арабского алфавита; пишется в виде горизонтальной изогнутой линии с точкой внизу.
Бахрам — планета Марс.
Бахрам Гур — полулегендарный царь, излюбленный персонаж многих литературных памятников. В образе Бахрама сочетаются отдельные исторические черты сасанидского царя Варахрана V с рядом народных легенд. Прозвище Бахрама — «Гур», дано ему было якобы за пристрастие к охоте на онагров (на фарси онагр — гур).
Бейт — двустишие, единица стиха у ряда народов Востока.
Близнецы — созвездие Близнецов.
Бурак — мифическое животное, на котором, по преданию, пророк Мухаммед вознесся на небо.
Вамик — персонаж легенды о двух влюбленных — Вамике и Азре.
Венера (Зухра) — по представлениям времени Низами — планета Венера — покровительница музыки, пения.
Гавриил — архангел, божественный вестник, приходивший к «пророку» Мухаммеду.
Газель — лирическое стихотворение с особой рифмовкой.
Галия — особая благовонная смесь.
Гебр — зороастриец, последователь религии древнего Ирана, включавшей культ огня. У Низами гебры часто — просто немусульмане. Иногда Низами говорит, что гебры поклоняются солнцу. В отношении зороастрийцев это не совсем верно.
Гилим — грубый ковер без ворса,
Гуль — злой дух, который, по древнему поверью, водится в пустыне и нападает на путешественников.
Гур — онагр, дикий осел.
Гур — см. Бахрам Гур.
Гурия — прекрасная обитательница мусульманского рая, существо, которому вечно шестнадцать лет. Синоним женской красоты.
Гянджа — средневековый город, развалины которого расположены в нескольких километрах от теперешнего города Кировабада Азербайджанской ССР; родина Низами.
Даба — набитая соломой шкура быка, которую бросали под ноги боевого слона, чтобы приучить его топтать врагов во время битвы.
Давид — библейский персонаж, упомянутый также в Коране. По преданию, прекрасно пел и был замечательным музыкантом.
Даль — буква арабского алфавита.
Дастархан — скатерть, на которой расставлены закуски, легкое угощение.
Дауд — см. Давид; имя отца Бахрамшаха, которому Низами поднес «Сокровищницу тайн».
Дастур — советник шаха в древнем Иране.
Дервиш — странствующий суфий (см.), бедняк.
Джамшид — мифический царь древнего Ирана, в царствование которого на земле было полное счастье, не было ни болезней, ни смерти. Когда Джамшид возгордился, бог в наказанье дал над ним власть тирану Заххану, который распилил царя пополам.
Джафар — знаменитый Джафар «Тысячи и одной ночи», один из талантливых визирей аббасидских халифов.
Джубба — шуба, верхняя теплая одежда.
Джуляб — розовая вода, благовонный напиток.
Див — злой дух, дьявол.
Дирхем — по-гречески «драхма», мера веса и название монеты, обычно серебряной, содержавшей 3,148 г. серебра.
Дихкан — во времена Низами — местная земельная аристократия иранского происхождения.
Дэв, див — злой дух, дьявол.
Заххак — мифический тиран восточноиранского эпоса. Из плеч у него росли две черные змеи.
Зиндан — подземная тюрьма.
Зинджи — негры, чернокожие; часто синоним черного цвета, мрака.
Зуннар — пояс зороастрийца, то есть человека, исповедующего религию Зороастра (Заратуштры), бывшую государственной религией Ирана до арабского завоевания; этим же словом мусульмане называли и пояс христианского монаха.
Зухра — планета Венера, покровительница музыки.
Йемен, звезда Йемена — см. Канопус.
Иисус — см. Иса.
Иона — библейский персонаж; по преданию, находился во чреве кита.
Иосиф — библейский Иосиф Прекрасный, проданный в рабство в Египет своими братьями и ставший впоследствии царем Египта. Кораническая легенда о нем отличается от библейского предания.
Ирак — Низами имеет в виду «Иранский Ирак» современной ему географии — обширную область на северо-западе современной территории Ирана.
Ирем — название сада, созданного мифическим тираном Шеддадом, который, обладая властью над людьми и духами, решил устроить на земле подобия рая и ада. Ирем, подобие рая ему создать удалось, но он умер, не успев войти в этот сад. Ирем — часто синоним рая или прекрасного сада вообще.
Иса — мусульманский пророк, образ которого создан на основе предания об Иисусе Христе. В поэзии часто упоминается «дыхание Исы», которое будто бы могло воскрешать мертвых (часто как синоним весеннего ветра, прекрасного аромата). Часто упоминается и «ослик Исы», который, по мнению мусульман, у христиан почитаем.
Исмаил — библейский Измаил.
Исмаилиты — мусульманская секта, возникшая в VIII–IX веках и существующая в Индии и посейчас. В представлении Низами исмаилиты — еретики, тайные убийцы, укрывающиеся в горных замках, враги всех эмиров, в частности Бахрамшаха.
Исрафил — архангел, который звуком трубы возвестит о начале Страшного суда.
Исхак — библейский Исаак.
Кааба — священный храм мусульман в Мекке, место паломничества, величайшая святыня ислама.
Каба — шерстяная верхняя одежда, кафтан без воротника.
Калам — тростниковое перо; «предвечный калам», «надзвездный калам» — кораническая аллегория. По Корану в начале сотворения мира «предвечный калам» начертал на скрижали судьбы мира.
Каландар — дервиш.
Камфара — в восточной поэзии синоним белого цвета.
Каноп или Канопус — главная звезда созвездия «Корабль Арго». Восточная астрономия ее связывает с Йеменом, откуда вывозился лучший сорт сафьяна, причем считалось, что это качество йеменскому сафьяну обеспечивает воздействие звезды Канопус.
Карун — библейский Корей, легендарный богач, который был проклят Моисеем за скупость и поглощен землей вместе со всеми его богатствами (Числа 16, 1 ел.). Библия богатства Каруна не подчеркивает, эта черта внесена уже мусульманской традицией.
Касаб — белая легкая ткань, полотно.
Каф-гора — по средневековым представлениям, горы, опоясывающие «край земли».
Кебаб — жареное мясо, шашлык и т. п.
Кей-Хосров — легендарный царь, персонаж восточноиранского эпоса.
Кыбла — сторона, в которую обращаются мусульмане при молитве (направление Мекки).
Лазурная чаша — небосвод.
Лотос предела — мифический цветок, растущий на краю девятого неба.
Маг — зороастрийский жрец, волшебник; у Низами маги поклоняются огню, пьют вино (зороастризм вино не запрещал).
Максура — место имама (предстоятеля на молитве) в мечети. Это слово употребляется в более общем значении «святое святых».
Маррих или Миррих — см. Бахрам.
Махмуд — представитель династии Газневидов (с XI в.). В литературе — олицетворение грозного завоевателя.
Медина — «священный» город мусульман в Аравии.
Мекка — город в Аравии, где находится знаменитый храм — Кааба.
Мен — мера веса, около трех килограмм.
Мерв — средневековый город, развалины которого находятся недалеко от гор. Мары Туркменской ССР.
Мессия — «спаситель», пророк, обычно иное обозначение Исы (см.).
Мим — буква арабского алфавита, имеющая форму петельки.
Мимбар — кафедра в мусульманской мечети, с которой произносят проповеди.
Мобед — зороастрийский жрец; у Низами часто — в смысле жрец-идолопоклонник вообще (напр., индийский мобед).
Моисей — библейский пророк; часто упоминается «белая рука» Моисея. По легенде, Моисей сумел вызвать у себя на руке проказу, а затем чудесным образом излечить ее. «Белая рука Моисея» — синоним чуда, а также блеска, сияния.
Мускус — широко известное благовоние; в поэзии — синоним черного цвета и прекрасного аромата.
Муфаррих — лекарственная смесь, которая, по представлениям средневековой медицины, должна вызывать, радость, веселье.
Мухаммед — мусульманский пророк.
Муштари — планета Юпитер, по поверью, покровительствует мудрости.
Мюрид — ученик, последователь суфийского старца, своего рода послушник.
Набат, наваг — особая сладость вроде леденца.
Нард — благовоние; нарды — игра, распространенная на Востоке.
Ной — библейский персонаж.
Ноубат — игра оркестра перед дворцом султана в определенное время дня.
Нуш-гия — противоядие, сваренное из трав.
Нуширван или Ануширван («бессмертный») — прозвание иранского царя из династии Сасанидов Хосрова I (531–579). Этого правителя традиция обычно изображала как идеал справедливости, восточные хроники даже сочетают его имя с эпитетом «Справедливый». В этом рассказе Низами стремится вскрыть причины, сделавшие Нуширвана справедливым.
Омар — второй «праведный халиф».
Палас — грубая шерстяная ткань.
Рабия — легендарная праведная женщина, бывшая милосердной даже к собаке — «нечистому» с мусульманской точки зрения животному.
Рахш — легендарный конь богатыря Рустама, героя восточноиранского эпоса. По преданию, этот конь был рыжий в яблоках,
Рейхан — базилик, благовонная трава.
Рибат — пристанище для путников, караван-сарай.
Рукни, золото рукни — монеты из чистого золота, введенные в обращение правителем по имени Рукнаддоуле.
Рум — Византия; в поэзии — олицетворение белизны (по белому цвету кожи румийцев).
Саз — музыкальный инструмент.
Сам — легендарный богатырь, дед знаменитого эпического героя Рустама.
Санджар — последний султан из так называемых «великих» сельджуков (1118–1157), предводителей племени гузов (или огузов), в XI веке покоривших большую часть стран бывшего арабского халифата.
Сарандиб — о. Цейлон; по преданию на Цейлоне находился рай.
Симург — мифическая огромная птица, «царь птиц».
Соломон — библейский царь.
Сурьма — сурьмой на Востоке подводили глаза; считалось, что она улучшает зрение.
Суфий — последователь суфизма — мистического течения в исламе.
Сухейль — см. Канопус.
Табархун — грудная ягода, джидда.
Табашир — сахар из сахарного тростника, который выбирают из золы, после того как сожжена охапка тростниковых стеблей. Считался средством, наилучшим образом утоляющим жажду.
Тюрок, тюрки — представители тюркских племен; в поэзии — синоним белизны (белая кожа), а также коварства; в поэтических образах Низами тюрки совершают набеги, воинственны. В его времена дружины феодалов составлялись из взятых в плен и проданных в рабство тюрок. Тюрки-сельджуки во второй половине XI века завоевали огромную территорию вплоть до границ Византии. Отсюда — образы Низами.
Фаридун — один из мифических царей древнего Ирана, о котором подробно повествует в «Шах-наме» Фирдоуси. Когда кузнец Кава поднял восстание против захватчика тирана Заххака, Фаридун с его помощью-одолел тирана и вернул себе престол своих предков. Фаридун собирался разделить свою державу между тремя сыновьями, которых звал Сальм, Тур и Ирадж, но братья убили Ираджа, и так возникла длившаяся века вражда Ирана и Турана.
Фарр — «благодать», по зороастрийским представлениям, осенявшая царей.
Фарсанг — путевая мера, 6–7 километров.
Фахраддин Бахрамшах — правитель города Эрзинджана (в Малой Азии), которому Низами поднес «Сокровищницу тайн».
Ха — название трех букв арабского алфавита; одна из них имеет форму кружка.
Хабеш — Абиссиния; в поэзии — синоним черного цвета, по цвету кожи абиссинцев.
Хаджадж ибн Юсуф — полководец и наместник пятого омейядского Халифа Абдалмелика ибн Мервана (685–705), известный своей исключительной жестокостью и подозрительностью. Большинством мусульманских историков изображается как свирепый и несправедливый тиран. Омейяды — потомки Омейи — были свергнуты Аббасидами, другой ветвью родни Мухаммеда, и потому аббасидские историки обыкновенно характеризовали их самыми черными красками.
Хаджа — господин, важный человек.
Хаджи — человек, совершивший паломничество в Мекку (часто — уважаемое лицо).
Хадис — изречение пророка Мухаммеда.
Халиф — религиозный глава всех мусульман, «наместник пророка».
Хар — город, округа Рея (развалины Рея — недалеко от теперешнего Тегерана).
Харун ар-Рашид — знаменитый аббасидский халиф, персонаж «Тысячи и одной ночи».
Харут и Марут — имена двух ангелов, которые, по мусульманской легенде, выражали презрение к роду человеческому, погрязшему в грехах. Для испытания Харут и Марут были ниспосланы на землю в человеческом облике. На земле они влюбились в красавицу Зухру и под влиянием охватившей их страсти совершили ряд тяжких преступлений. В наказание за это они были низвергнуты в колодезь в Вавилоне, где и будут пребывать до Страшного суда. Из глубины этого колодца они обучают магии желающих. Зухра, бывшая причиной их падения, вознесена на небо в виде планеты Венеры, покровительницы красоты и музыки.
Хатиб — духовное лицо, возглашающее хутбу (см.), Хатиб носил, как украшение, на поясе меч, который он никогда не вынимал из ножен. «Меч Хатиба» — синоним всего бесполезного, недействующего.
Хум — большой глиняный кувшин для воды, вина или масла.
Хума, Хумай — сказочная птица, приносящая счастье. По поверью, на кого падет тень этой птицы — тот станет царем.
Хутба — торжественное провозглашение имени правителя во время пятничного богослужения в мечети.
Хызр — таинственное существо в зеленых одеждах, не божественное, но обладающее вечной жизнью. Обладает способностью чудесно передвигаться в пространстве и приходить на помощь путникам, погибающим в пустыне. Имя его в Коране не упоминается, но считают, что в рассказе о Моисее и его таинственном спутнике (Кор. XVIII, 64) имеется в виду Хызр, когда говорится: «И встретили они некоего раба из рабов наших, которому ниспослали мы от нас милости и научили его мудрости нашей».
Хырка — власяница, облачение дервиша, которое он получал от своего пира (старца) при вступлении в дервишский орден. Под условным термином «орден» мы понимаем объединение дервишей вокруг одного «старца», возводящего свою духовную родословную к какому-нибудь знаменитому пиру.
Човган — игра, конное поло. Човганом называется также и клюшка для этой игры. В поэзии човган (клюшка) — синоним всего изогнутого, например, кудрей красавицы.
Шам — Сирия.
Шариат — совокупность установлений ислама, как нормирующих религиозные обязанности, так и регулирующих гражданские и бытовые взаимоотношения.
Шейх — старец, ученый человек, часто — глава суфийского братства.
Шихна — начальник городской полиции.
Эрпат — зороастрийский жрец; у Низами — часто жрец — идолопоклонник вообще. Эрпаты у Низами поклоняются огню, солнцу. Упоминаются в поэме «индийские эрпаты» — то есть индийские жрецы.
Юсуф — см. Иосиф.
Примечания
1
Первые слова Корана, которые во времена Низами полагалось ставить в начале каждой книги. Поэт искусно ввел их в стихотворный метр «Сокровищницы тайн».
(обратно)2
Согласно средневековому комментарию, Низами аллегорически называет «двумя-тремя разоренными деревнями» всю обитаемую часть земли. Здесь и далее поэт излагает миф о сотворении мира, говорит об отделении света от мрака, создании планет и звезд («жемчуг небес»), создании семи поясов обитаемой части земли («семь узлов»), появлении туч, изливающих на землю дождь, водных источников и т. п.
(обратно)3
Планета Венера (Зухра) — покровительница музыки; олицетворяющая ее богиня изображается на восточных миниатюрах с музыкальным инструментом в руках.
(обратно)4
Согласно комментарию, поэт аллегорически говорит здесь о силе слова, распространению которого нет преград, и слабости человеческого разума, неспособного познать бога.
(обратно)5
Под этим «зернышком» Низами подразумевает или человека, или «пророка» Мухаммеда.
(обратно)6
То есть «уничтожь землю и небо». По средневековым представлениям, для всего земного характерно наличие шести направлений, шести сторон (например — шесть плоскостей куба), а «небесный престол» покоится на «девяти небесах». Эти мифические «девять небес» часто упоминаются в поэме Низами.
(обратно)7
Здесь и далее поэт призывает бога приблизить день Страшного суда, уничтожить все бытие, «чело небес», черноту ночи («пыль), «шатер неба», вращение небесных сфер, неподвижность (покой) полюса.
(обратно)8
Распространенный поэтический образ. Прах под ногами того, кому поклоняются, сравнивают с сурьмой, которой подводят глаза. Сурьма, по тогдашним представлениям, улучшает зрение, исцеляет от глазных болезней.
(обратно)9
То есть мы — рабы. Во времена Низами рабы носили кольцо, серьгу в ухе.
(обратно)10
Имеется в виду изречение, якобы принадлежащее «пророку» Мухаммеду: «Кто познал Аллаха, совершенны речи его».
(обратно)11
— Здесь и далее Низами описывает «воцарение пророка» над миром через аллегорию последовательного написания арабских букв его имени.
(обратно)12
Низами имеет в виду изречение «пророка» Мухаммеда: «Я был пророком тогда, когда Адам был еще водой и прахом». Согласно мусульманским представлениям, Мухаммед, хотя и явился на землю самым последним, после Христа, непостижимым образом стал пророком раньше всех, до Адама.
(обратно)13
Один из сложнейших образов Низами. Смысл этого двустишия очень прост: ночью пророк с земли поднялся на небо. Образ построен так: «Жемчужина» — пророк, «бык небесный» — созвездие Тельца. Согласно средневековому представлению, мускусный бык имеет в носу светящуюся жемчужину, при свете которой он пасется по ночам. Этот «земной бык» здесь — аллегория земли. Итак, жемчужина (т. е. пророк) находилась в носу мускусного быка (т. е. на земле), а небесный бык (т. е. созвездие Тельца) похитил ее. Иными словами, пророк поднялся с земли на небо и пролетел через созвездие Тельца. В последующих стихах говорится о том, как пророк пролетал через различные созвездия.
(обратно)14
Созвездие Девы.
(обратно)15
В созвездии Козерога находилась планета Сатурн, насылающая, по тогдашним представлениям, всякие беды
(обратно)16
Кладезь — созвездие Водолея. Иными словами, пророк оказался в созвездии Водолея, подобно тому как библейский Иосиф Прекрасный, согласно легенде, оказался в колодце, а потом пророк попал в созвездие Рыб, подобно тому как библейский Иона попал во чрево кита.
(обратно)17
В Коране бог говорит пророку: «Не смотри по сторонам!» Низами хочет здесь сказать, что пророк как бы насурмил этим стихом свои глаза и действительно не смотрел по сторонам.
(обратно)18
«Алям» — криптограмма, начинающая некоторые части Корана. Смысл ее неизвестен. Во времена Низами ей придавалось особое мистическое значение.
(обратно)19
Сложнейший образ, Дева звездная — созвездие Девы, гиацинт — черные волосы пророка (оба эти слова звучат на фарси одинаково). Низами хочет сказать, что сияние волос пророка породило свет солнца, подобно тому, как свет солнца порождает яхонты в глуби скал. Представление о том, что свет солнца порождает в сердцевине скалы драгоценные камни, было распространено в то время.
(обратно)20
Согласно житию пророка, в одном из сражений войск Мухаммеда с противниками ислама воин метнул из пращи камень и выбил пророку зуб.
(обратно)21
То есть победа пророка стала вирой за его выбитый зуб.
(обратно)22
Если у написанного арабским шрифтом слова языка фарси, значащего «страданье», снять одну диакритическую точку с первой буквы, то получится слово «милосердие».
(обратно)23
Четыре основы мусульманства — ежедневная пятикратная молитва, пост в месяце рамазане, налог (десятина) в пользу бедных, поклонение священному храму в Мекке. Низами сравнивает пятикратную молитву с «ноубатами» — игрой султанского оркестра перед дворцом в определенное время дня, а самого пророка сравнивает с султаном.
(обратно)24
Низами имеет в виду вознесение пророка на небо, описанное в одной из предыдущих глав.
(обратно)25
Низами хочет сказать, что, если бы начало творения не отбросило божественный свет, подобно тому как зеркало бросает «зайчик», свет пророчества не пришел бы на землю.
(обратно)26
Бадья — созвездие Водолея. То есть самый верх созвездия Водолея все же много ниже того места на небе, где восседает пророк.
(обратно)27
То есть ночь и день.
(обратно)28
Пророк родился, жил и проповедовал в Мекке, а затем ему пришлось бежать в Медину, где его проповедь была принята.
(обратно)29
Согласно легенде, муравей принес царю Соломону «посильную лепту» — высохшую лапку саранчи, но был благосклонно принят царем.
(обратно)30
То есть со дня смерти пророка прошло уже пятьсот пятьдесят лет.
(обратно)31
То есть оба мира, земной и «потусторонний», будут вне себя от радости. Мистики в момент восторга, экстаза сбрасывали с себя власяницы.
(обратно)32
То есть бог, начав творить мир (как бы «писать стих бытия»), знал, что в конце концов в мир придет пророк (появится, как рифма в конце стиха).
(обратно)33
По Корану Адам в момент грехопадения съел зерна пшеницы, а не яблоко, как в Библии.
(обратно)34
Сравнения взяты здесь из игры в чоуган (поло). Конь Адама потянулся к пшенице (т. е. произошло грехопадение), и Адам не смог «повести мяч», «выбыл из игры» (т. е. не дал людям окончательного откровения). Его заставили, как игрока, у которого заупрямилась лошадь, стать в сторону.
(обратно)35
То есть пророк Авраам не только выполнил пророческую миссию лишь наполовину, но и три раза в жизни лгал, отступал от покорности богу.
(обратно)36
То есть Моисей не добился той покорности богу, которой добился впоследствии Мухаммед. Согласно легенде, Моисей сказал богу на горе Синай: «Явись мне» и в ответ услышал: «Ты меня не увидишь».
(обратно)37
То есть весь материальный мир, сотворенный, по легенде, за шесть дней.
(обратно)38
Пророк никогда ничего не писал, чтобы «неверные» не сочли ничтожным и не истребили написанное им.
(обратно)39
Один из стихов Корана.
(обратно)40
Отца Фахраддина звали Дауд (Давид). Низами хочет сказать, что поскольку Фахраддин — сын Давида, то его самого можно считать премудрым царем Соломоном. Поскольку деда Бахрамшаха звали Исхак (Исаак), Низами продолжает в следующем стихе параллель между семьей восхваляемого им правителя и легендарными великими царями, персонажами Корана и Библии.
(обратно)41
Бахрам — планета Марс и имя собственное. Тоже Бахрам — тезка Бахрамшаха — полулегендарный древний царь Бахрам Гур. За пристрастие к охоте на онагров (онагр на фарси — гур) он получил свое прозвище.
(обратно)42
Речь здесь идет о щедрости царя Фахраддина.
(обратно)43
Низами хочет сказать, что царь Фахраддин настолько велик, что само солнце, украшение пояса пророка — лишь рубин (лал) на поясе царя.
(обратно)44
Общий смысл этого двустишия таков: все, что находится между созвездием Рыб («верхние рыбы») и мифическим китом, на котором покоится земля («нижняя рыба»), то есть вся земля, подчинено мечу царя Фахраддина.
(обратно)45
Заххак — легендарный тиран, спознавшийся с дьяволом. Дьявол поцеловал Заххака в плечи. Из тех мест, куда он его поцеловал, выросли две змеи, терзавшие тирана. Фаридун — «праведный царь», который сверг Заххака и занял его место.
(обратно)46
То есть поэма «Сокровищница тайн».
(обратно)47
Речь идет о «Сокровищнице тайн» Низами, поднесенной Фахраддину Бахрамшаху, правителю Эрзин-джана, и о поэме «Сад истин» Санаи, которая была поднесена около 1140–1141 года правителю Газны, также по имени Бахрамшах.
(обратно)48
Низами говорит здесь о том, что в то время, когда он пишет поэму «Сокровищница тайн», кругом идут войны и проехать ему к Бахрамшаху невозможно.
(обратно)49
Калам — тростниковое перо. По концепции мусульманского схоластического богословия, предвечно сотворенный небесный калам на «хранимой скрижали» начертал все будущие судьбы вселенной. Низами хочет сказать, что в порядке сотворения мира первым было сотворено слово. Эта гностическая теория имеет свое обоснование в коранической легенде о сотворении мира, по которой все сотворено божественным приказом «будь!» Иначе говоря, это слово предшествует по времени всем явлениям мира.
(обратно)50
То есть у бога есть пророки и поэты — его друзья, которые говорят о нем.
(обратно)51
Клюв — человеческий рот. Человек, по коранической легенде, создан из праха, из «глины».
(обратно)52
Здесь и далее имеется в виду поза глубокого размышления, когда сидящий (по-восточному, на корточках или поджав ноги) склоняет в раздумье голову до самых колен, как бы замыкаясь кольцом.
(обратно)53
То есть человек может подчинить себе (сделать рабом, см. выше) даже небосвод, судьбу.
(обратно)54
То есть по приказу шаха ему перерезали горло.
(обратно)55
То есть тот, кто не унижается ради подачек шаха, может не опасаться и его гнева и казни.
(обратно)56
Под Законом здесь подразумевается шариат.
(обратно)57
Образ, взятый из игры в чоуган. «Отобрать шар» значит «выиграть», «победить». Эти слова стали идиоматическим выражением.
(обратно)58
Низами сравнивает садящееся солнце с околевающим быком, которого владелец спешит прирезать, пока он еще не издох.
(обратно)59
По мусульманским представлениям, у «неверных» после Страшного суда лица станут черными от стыда.
(обратно)60
Под рубином Низами подразумевает человеческий язык, произносящий благие речи.
(обратно)61
Поэт говорит здесь о праведниках, попавших «на небо», в рай.
(обратно)62
Печень.
(обратно)63
Отрок — желчь.
(обратно)64
Черный — селезенка.
(обратно)65
Это желудок и кишечник.
(обратно)66
Речь идет о почках.
(обратно)67
То есть он хотел освободить Низами от власти девяти небес, от оков всего земного.
(обратно)68
По восточному поверью, если змея посмотрит на зеленый изумруд, то изумруд растает, а змея ослепнет. Низами сравнивает здесь зеленую траву с растекшимся изумрудом.
(обратно)69
Тюрок в поэзии того времени — всегда олицетворение белизны, поскольку считалось, что у тюрок-рабов особенно белая кожа.
(обратно)70
Евреи во времена Низами должны были ходить в желтых одеждах.
(обратно)71
Ткань — рубашка Иосифа, вдохнув аромат которой, прозрел ослепший от горя его отец Иаков. Так стало известно, что Иосиф скоро вернется из Египта.
(обратно)72
Речь идет о солнце.
(обратно)73
Приоткрытый рот красавицы в поэзии часто сравнивают с раскрывшейся фисташкой.
(обратно)74
То есть тот, кто занимался бесполезным делом.
(обратно)75
То есть крупица веры ценнее мена (около 3 кг.) «философского камня» алхимиков, превращающего свинец в золото.
(обратно)76
То есть шах так распалился и так погнал коня, что подковы размягчились от безумной скачки.
(обратно)77
То есть он исключил ту область из налоговых списков, снял с нее тяжелые поборы.
(обратно)78
То есть умер.
(обратно)79
То есть иди за теми, от кого исходит свет добра.
(обратно)80
Речь идет здесь о богатыре Саме и его сыне Зале — персонажах «Шах-наме». По легенде, Сам прожил много сот лет. Его сын Заль родился с седыми волосами.
(обратно)81
Двуцветный ковер — коварный, быстротечный, переменчивый материальный мир, в котором постоянно черную ночь сменяет ясный (белый) день.
(обратно)82
Речь идет о персонаже известной легенды — жалостливой женщине по имени Рабия, которая, увидев в пустыне умирающую от жажды собаку, отрезала свою косу, привязала к ее концу свою рубашку, опустила ее в колодезь и выжатой из мокрой рубашки водой напоила собаку.
(обратно)83
По легенде, известный завоеватель — султан Махмуд из Газны (XI в.) во время похода в Индию заболел, так как два индийских колдуна наслали на него «порчу», «сглаз».
(обратно)84
То есть в день Страшного суда, когда все люди получат справедливое воздаяние за хорошие и дурные поступки.
(обратно)85
Султан Санджар сперва завоевал область Хорасан и другие страны, достиг могущества, а потом потерпел поражение и попал в плен к правителю из династии Гуридов.
(обратно)86
Симург — фантастическая птица, которую никто никогда не видал. Правосудье улетело на крыльях Симурга — т. е. исчезло бесследно.
(обратно)87
То есть «четыре элемента», из которых, по тогдашним представлениям, состоит все земное, с наступлением ночи вышли из равновесия.
(обратно)88
Хабеш — Абиссиния, откуда привозили черных рабов, Тараз — область в Восточном Туркестане, откуда привозили рабов, славившихся белизной кожи. Иначе говоря, в твоих черных волосах появилось много седины.
(обратно)89
То есть даже такой красавец, как Иосиф Прекрасный, тоже должен умереть.
(обратно)90
По фантастическому представлению того времени и душа Мессии и солнце находятся на четвертом из девяти небес.
(обратно)91
По одному из апокрифических евангелий Иисус (Иса) окрасил глиняных голубок, зачерпнув воды из лужи, в которой отражалась радуга.
(обратно)92
Сравнение людей с марионетками в кукольном театре, а бога, руководящего их поступками, с человеком, который дергает марионеток за нитки, спущенные сверху («с неба»), часто встречается в поэзии времени Низами.
(обратно)93
То есть небесные сферы.
(обратно)94
То есть моя собака, сильная, как волк, пропала так же, как пропал Иосиф Прекрасный, пойдя с братьями погулять в степь.
(обратно)95
То есть собака вернулась так, как если бы на ней был одет ошейник с цепью, потому что охотник прибег к вере и стал терпеливым.
(обратно)96
То есть как только отшельники откажутся от сухого аскетизма, вино, запретное в исламе, становится для них таким же дозволенным, как мед.
(обратно)97
Речь идет об Абу Талибе, родственнике пророка Мухаммеда, который, по преданию, хотя и не был никогда мусульманином, был «неверным», но в ад не попадет благодаря своим «родственным связям».
(обратно)98
В легендах клады всегда сторожат змеи или драконы.
(обратно)99
По мнению древних астрологов, когда в гороскопе появляется созвездие Близнецов, нельзя делать человеку кровопускание.
(обратно)100
На Востоке во время лунного затмения били в медные тазы, чтобы испугать дракона, который в это время якобы заглатывает луну, и заставить его выплюнуть ее.
(обратно)101
Низами сравнивает небо с орехом, так как орех в медицине его времени считался обладающим «холодными» свойствами, а с неба дуют холодные ветры.
(обратно)102
То есть девяти небесных сфер.
(обратно)103
Водяное колесо — гидравлическое колесо, поднимающее воду в примитивных оросительных системах.
(обратно)104
Плеяды, по представлениям астрологов, охватывают на небе созвездие Пса.
(обратно)105
То есть откажись от золота. Известно, что Джафар Бармекид приказал когда-то чеканить монеты только из высокопробного золота, и потому Низами называет монеты «цветами Джафара».
(обратно)106
Низами сравнивает похищенное золото с бараном, съеденным волком. Не осталось тавра — т. е. даже от шкуры ничего не осталось.
(обратно)107
Мим» и «алиф» вместе образуют арабское слово «ма» — «нет», «не».
(обратно)108
Когда казнь производилась в дворцовом помещении, жертву сажали на особый кожаный коврик; песком посыпали лужи крови.
(обратно)109
По поверью, жемчужина возникает в раковине оттого, что в лежащую на дне моря раковину, через толщу воды, проникает дождевая капля.
(обратно)110
По преданию, первое чихание Адама сберег архангел Гавриил, вдунул его потом в рукав девы Марии, и она от этого забеременела Иисусом.
(обратно)111
Скрижали достоинств — день и ночь, девять писцов — девять небес. То есть ни днем, ни ночью не сыскать человека, постигающего божественные тайны.
(обратно)112
То есть душа, говорящая «я», заключена в теле, и пока она не дошла до уст, не отлетела, человек жив. Говорить же об этом не следует, это — тайна
(обратно)113
То есть на земле, в материальном мире.
(обратно)114
Дохлятина — богатство. Стань вороном — то есть не ступай по пролитой крови своих жертв, чтобы добыть богатство. У ворона черные ноги, не красные, не «обагренные кровью».
(обратно)115
То есть день довольствуется солнцем, как отшельник одним хлебцем.
(обратно)116
То есть ночь выпила «красного вина» заката.
(обратно)117
То есть похожий на хохот крик куропатки привлекает охотника, и он «затыкает ей рот» стрелой, в чем она сама виновата. Смысл: лучше улыбаться, чем хохотать во все горло.
(обратно)118
То есть молния сверкает («смеется») и тотчас же умирает, а человек, если, находясь в тяжком горе, попытается смеяться, не вынесет этого и умрет.
(обратно)119
То есть под воском у свечи — шерстяной фитиль, подобно тому как у тайного аскета под одеждой — власяница.
(обратно)120
То есть двуличные внешне горячи в дружбе, но в душе холодны. По восточному поверью, человек с «холодной печенью» не способен никого любить.
(обратно)121
То есть бутылка прозрачна и видно, что в ней налито вино.
(обратно)122
То есть лучше молчать ни терпеть вплоть до разлития желчи, чем быть казненным.
(обратно)123
То есть не высовывай язык, молчи.
(обратно)124
Трепальщик — известный мистик X века по прозвищу Халладж («халладж» — трепальщик хлопка), возгласивший в момент экстаза: «Я и есть бог!» За это он был казнен. Низами считает возглас Халладжа грехом, ибо выдавать такие глубокие душевные переживания нельзя. С Халладжа заживо содрали кожу, и потому Низами говорит, что его «расщипали на хлопок».
(обратно)125
Здесь и далее Низами аллегорически описывает загробный мир, как пир во дворце. Свечи — это свет божества; нават (сладости) — молитвы; трон — божий престол; курильницы — это души праведников.
(обратно)126
Низами советует плюнуть на мир и погасить его жар, мешающий очищению души.
(обратно)127
По поверью, муравьи иногда забираются в львиное логово и ослепляют львят.
(обратно)128
То есть перечеркни слово «мир», откажись от всего земного.
(обратно)129
По поверью, совы знают, где зарыты клады.
(обратно)130
То есть цирюльник был все так же заносчив не по положению.
(обратно)131
То есть цирюльник, который накануне вел себя заносчиво, как эмир.
(обратно)132
Здесь заключен намек на придворных поэтов, которые открывают двери сокровищницы слова («казны») ради денег.
(обратно)133
То есть достойным, мудрым людям они говорят грубые («кислые») речи. По представлениям тогдашней медицины, уксус вреден людям с плотной печенью.
(обратно)134
То есть соловей без труда извлекает из горла сотню трелей.
(обратно)135
Намек на восточное «почетное прозвание» соловья — «говорящий тысячу сказов», то есть поющий на тысячу ладов.
(обратно)136
То есть перо отточенным кончиком («головой») бегало по бумаге и, рассыпая жемчужины слов, завершило поэму «Сокровищница тайн».
(обратно)137
Содержащаяся в этом и следующем двустишии дата мусульманского летосчисления в переводе на наше летосчисление дает первое октября 1176 года.
(обратно)



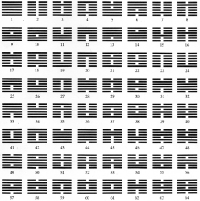


Комментарии к книге «Сокровищница тайн», Низами Гянджеви
Всего 0 комментариев