Главный герой повести «Миссионер» Андрей Ильин — наш современник, «парень из соседнего дома». Внешне немного суровый, но необычайно добрый человек. Его миссия — помогать людям. Приёмы, которыми он пользуется, доступны любому. Это так просто! Но и уникально, ибо он всё делает… с любовью, которая во все времена была насколько притягательна, настолько и дефицитна. Почему этому простому парню удаётся из любой ситуации выходить победителем? Почему тянутся к нему разные люди — от государственных мужей до бандитов и проституток? Почему люди от соприкосновения с ним становятся лучше, чище, радостней, наконец? Откуда в них появляется уверенность в будущем? И куда девается обычный страх? Просто наш «миссионер» Андрей сумел обрести непостижимую, чу́дную, живую любовь. И щедро делится этим бесценным даром с людьми.
В книгу также вошли избранные повести и рассказы Александра Петрова, объединённые темой обретения веры.
Александр Петров МИССИОНЕР повести и рассказы
МИССИОНЕР
Андрей
— Оставайся пока в миру, Андрюша, там твой путь. — Тихие слова старца звучали в его голове снова и снова. Это был приговор. Все равно, что в день освобождения получить продление срока. Но слово сказано, теперь необходимо ему подчиняться.
Бессонная ночь, проведенная на верхней полке под перестук колес, совсем не сказалась на его утреннем самочувствии. На московскую платформу Андрей Ильин ступил бодрым и спокойным. Он все для себя решил.
Встречные потоки пассажиров смешались, и на платформе образовалась обычная сутолока. Попутчиков Андрея толкали плечами и пинали сумками, но самого Андрея толпа обтекала, ни разу не тронув.
Чем это вызвано? То ли его мощным пружинистым торсом, то ли уверенной неспешной походкой, то ли пронизывающим взглядом серо-голубых глаз… Вьющиеся спутанные светло-русые волосы его, трехдневная щетина и ироническая улыбка жесткого волевого рта вносили еще большую сумятицу в упражнения физиономистов, пытавшихся дать ему психологическую характеристику. Такой человек может быть очень опасным врагом, другом же… нет, скорее, такие друзей не ищут, такие орлы летают в одиночку. Хотя… и не нам с вами одним приходилось ошибаться, глядя на такие лица.
Дома он поставил чайник на плиту и прочел сообщения пейджера. Бригадир «гвардии» уже требовал его на объект. Он принял холодный душ, побрился и сел за стол выпить крепкого чая.
Постучала в дверь и вошла соседка Света, женщина неопределенного возраста и поведения. За пару минут она успела выложить, что прогнала мужа-пьяницу, уволилась с работы, осталась без денег и теперь намерена тосковать. Андрей сказал, что сейчас он уезжает на работу, и предложил ей зайти вечером для более обстоятельной беседы. На прощанье Света обнажила в улыбке редкие зубы и призналась, что рада его возвращению, на что она уже и не надеялась. «С чего это вдруг не надеялась?» — поднял он на нее глаза, но та уже упорхнула.
Пока электричка вяло тащилась до станции Кратово, Андрей задремал и снова вернулся в то переломное для себя время, когда все началось…
Бабуля, его любимая бабуленька, самый близкий ему человек, вдруг тяжко заболела. Когда он приехал к ней домой в старый арбатский дворик, она рассказала своему любимому внучку о тайне, которую хранила долгие годы.
Оказывается, Елизавета Андроновна, старая учительница, потомственная интеллигентка, тончайший человек с классическим образованием и энциклопедическими знаниями, почти всю жизнь скрывала, что она была верующая.
Андрей, пораженный, сгорбившись, сидел у бабушкиной кровати и никак не мог понять, как же это все совместимо! С детства ему родители и учителя внушали, что религия — это удел людей темных и необразованных, это опиум для народа…
И вдруг оказалось, что эта женщина, знавшая буквально все, о чем ни спросишь, культурный и тонкий человек, втайне от всех постоянно ходила в церковь. Никогда она не говорила об этом никому, даже ему, своему любимцу, самому близкому человеку…
Бабушка долго говорила о Боге, о своей вине перед внуком и детьми. И все просила прощения. И умоляла привести священника — отца Владимира из храма Иерусалимского подворья, чтобы исповедаться и причаститься.
Андрей не посмел ослушаться бабушку, разыскал это подворье, расспросил, как найти отца Владимира. На следующий день привел седенького старичка в средневековой одежде к бабушке домой. Всю дорогу они молчали, Андрей не знал, о чем и как с ним говорить. Идти рядом с попом в его странном облачении было стыдно, на них озирались, за спинами шушукались…
Дома у бабушки отец Владимир долго выслушивал исповедь, читал молитвы и еще что-то делал непонятное. Но вот когда он ушел, бабушка будто засияла от счастья, несмотря на свои тающие силы.
Она попросила достать из резного дубового комода старенький молитвослов, пометила несколько молитв, канонов, показала псалмы и просила Андрея их читать. Вот тогда он и понял, что такое молитва. Всю ночь он сидел у изголовья умирающей бабушки и читал вполголоса молитвослов. Сначала все это его раздражало, но потом тоска и раздражение исчезли и на их место в душу пришли покой и редко его посещавшее чувство своей правоты. Бабушка то впадала в забытье, то снова открывала глаза, но на ее даже сейчас красивом лице теплилась благодарная улыбка.
На следующий день с утра наехали родители и брат, заходили бабушкины подруги, соседки. Андрей отправился домой, где его заждалась Лена.
Жена сначала набросилась на него с упреками, ее красивое лицо исказила злобная гримаса, но, услышав о тяжелой болезни бабушки, на время ревниво отступила.
Он при первом же удобном случае заперся в комнате, оборудованной под кабинет, достал молитвослов. И снова ощутил он, как молитвы очищают его от суетливой шелухи и настраивают на самое главное — подготовку к страшному, но неизбежному.
Вскоре бабушка умерла. Родное лицо ее в гробу поразило своей отстраненной просветленностью. На кладбище во время скромной погребальной церемонии в просиневшем на время небе кружились белые голуби. Впервые в жизни во время похорон Андрей вместо обычной щемящей тоски чувствовал покой и тихую радость.
Следующим утром Андрей отправился в церковь к отцу Владимиру. Шла воскресная служба, и пришлось подождать. Он с трудом понимал происходящее, но служба ему, как ни странно, понравилась, и он снова испытал состояние душевного подъема. Отец Владимир после окончания службы сам подошел к Андрею и говорил с ним удивительно мягко. Андрей пришел посоветоваться со священником, как ему лучше себя вести после смерти бабушки и как за нее молиться.
…Спустя несколько месяцев он потерял сначала жену, а потом и родителей. Они продолжали жить и здравствовать, но все отношения с Андреем прервали, объявив психом. После развода и размена ему досталась комната в коммуналке, свобода молиться и беспрепятственно посещать храм.
Следом за ним в храм пришли и все «гвардейцы», один за другим. Не сразу, конечно…
Хозяин
На объекте на Андрея набросился «менеджер» Пал Трепалыч:
— Где тебя носит? Сегодня приедет хозяин, вопросы, наверное, задавать будет.
— А ты на что? У тебя только и дел, что следить и докладывать.
— Да будто я чего понимаю в вашем строительстве. А твои «гвардейцы» даже головы от работы не поднимут.
«Гвардией» Андрей называл свою бригаду не зря. Как в гвардейских частях собираются отборные силы, так и в этой бригаде работали отобранные путем долгих испытаний инженеры и офицеры, вышедшие в отставку. Люди немногословные, работали они от зари до зари почти без перерывов. На качество и аккуратность обращали особое внимание. Андрей тоже некоторое время работал с ними на равных, но потом ушел на свое дело. Когда его неудачная попытка крупно заработать провалилась, едва не стоив ему жизни, бригада снова пригласила его, но уже в качестве прораба. Обязанности Андрея не тяготили, потому что ни дефицита материалов, ни трудностей с поиском новых объектов не было. Но бригаде нужен был такой человек, чтобы не отвлекаться от работы.
На первую встречу три месяца назад хозяин заявился в окружении массивных телохранителей, на трех черных джипах размером с самосвал. Подошел вразвалку к Андрею и гнусаво заявил:
— Значит так, мальчик, плачу вдвое от сметы, но если через два месяца дом не будет построен, ваши уши будут болтаться на вон той березе.
Андрей уже встречался с такими «деловыми» и знал, что говорить с ними надо так, чтобы с первого слова суметь заставить себя уважать, при этом держа на дистанции и контролируя каждую фразу, так как ловить на неосторожно оброненном слове — этому учат даже начинающих «братков». Он почувствовал, что страх кольнул-таки его острой занозой, но весь собрался, самоотстранился, вспомнил слова апостола: «Если с нами Бог, то кто против нас?» Рука в кармане легла на теплые деревянные четки, и потекла Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного…»
— Значит так, — спокойно глядя хозяину в глаза, сказал Андрей, — наша бригада отвечает за качество работ. По технологии положено строить такой дом четыре месяца, вот за это время мы его и построим. Даже при всем уважении к вам бетон не наберет необходимую прочность раньше проектного времени. А что касается наших ушей, то мы уже и пуганые и стреляные, и правила игры знаем, так что если наши условия вам не нравятся, поищите других.
— Ну что за молодежь пошла! Никакого почтения ни к сединам, ни к моим двадцати четырем годам зоны. Ладно, Андрей, я про вас уже все знаю, поэтому работайте спокойно. Как и сказал, плачу две сметы. Для связи со мной поставлю вам своего друга Пал Палыча. Будет здесь у вас …гм… менеджером.
С тех пор хозяин приезжал только пару раз, буквально на минуту, удовлетворенно хмыкал, спрашивал что нужно, давал денег и уезжал.
Отношения их перешли в русло взаимного уважения и невмешательства. Но Андрей все же держался с заказчиком подчеркнуто вежливо, холодно и даже сурово.
На этот раз визит оказался необычным. Громадное тело хозяина никто не охранял, он никуда не спешил. Выглядел усталым и больным. Перекинулся несколькими словами с Пал Трепалычем и отозвал в сторонку Андрея.
— Что, «наехали», Владимир Иванович? — скорей констатировал, чем спросил Андрей.
— Я еще в первый раз приметил, что у тебя глаз, как у следователя, — будто насквозь видит. Да, Андрюха, крепко обложили.
— За кордон махнете, или воевать будете?
— Нельзя мне за кордон.
— Кровь будете проливать?
— Не хочу я этого, — хозяин опустил на глаза набрякшие веки. — Они сами напрашиваются. Думал, на старости лет отмолю грехи, поживу в мире и покое. Деньги честно стал зарабатывать. Меня партнеры, даже английские, уважают за честный бизнес и надежность. Я ведь почему вашу «гвардию» выбрал? Мне сказали, что вы по вере живете. Так, может, что посоветуешь? Не идти же к попу? Он же меня не поймет.
— Это вы напрасно, Владимир Иванович. Вряд ли вы своими вопросами священника испугаете. К ним приходят и с более серьезным.
— А что может быть серьезней крови?
— Причина, которая до крови доводит. В данном случае, я думаю, сребролюбие?
— Дело не столько в деньгах. Ненавидят нас эти зверьки, Андрюха, и наши законы презирают. Может быть, законы у нас — и не римское право, конечно, но все же беспредел как-то сдерживают. Даже милиция их уважает.
— Значит, вы считаете, что правда на вашей стороне?
— Да. Иначе бы я к тебе не обратился. Какие тут шутки? Себе дороже.
— Тогда и я сейчас серьезно говорить буду. И сделать вам желательно все так, как я скажу. Вы готовы?
— Говори. Сделаю, как скажешь, — хозяин устало кивнул коротко стриженой сединой и вздохнул.
— Во-первых, приготовьтесь расстаться со всем, что у вас есть. С жизнью тоже. Если за правду… Побеждают только в таком состоянии. Во-вторых, полностью положитесь на волю Божью, а о своей забудьте. Затем надо, чтобы все ваши родственники и друзья пошли в храмы и поставили свечи за ваше здравие к иконам Иисуса Христа, Божьей Матери, Николая Чудотворца. Пусть закажут молебны Пресвятой Богородице и сорокоусты. Вам самому необходимо прийти в храм, принести жертву, исповедаться. Лучше для этого выбрать храм небогатый, даже бедный. Мы с ребятами тоже будем за вас молиться.
— Ты считаешь, что этого достаточно?
— Если все это будет сделано искренне, то — вполне.
— Ты сказал: принести жертву. Какую? Деньги, что ли?
— Деньги — всегда соблазн. Лучше закупите храму то, что им нужно из стройматериалов, инвентаря. Словом, что скажет батюшка. Денег немного тоже можно дать, батюшки ведь живут очень бедно, а семьи у них обычно многодетные.
— Хорошо, сделаю, как говоришь. Вижу, знаешь дело. Если ко мне вопросов нет, поеду. Смотрю, дела идут у вас хорошо.
— Нормально.
Когда хозяин уехал, Пал Трепалыч заискивающе обратился к Андрею:
— Ну, что, не ругался?
— Да нет, спрашивал: нужен ты мне или уже надоел?
— И что ты ответил? — склонил тот свою загоревшую лысину еще ниже.
— Сказал, что пока не пристаешь, терпеть можно.
Андрей подошел к бригаде. «Гвардейцы» продолжали монтаж стеновых панелей, только темп временно снизили.
— Молитесь, братья, за здравие раба Божия Владимира. Плохо ему…
Света
Вечером Андрей прошелся по магазинам, заполнил пустое нутро холодильника свертками и банками с разноцветными этикетками. На кухне поставил на огонь сковороду, высыпал туда из пакета резаную картошку и брикет рыбного филе, посолил и полил майонезом. Пока он производил эту процедуру, за ним саркастически наблюдала Света, знавшая, что учить его кулинарии бесполезно. Он умел готовить вкусно и даже изысканно, но только если приходили гости или случался праздник. В повседневной жизни Андрей тратил на еду минимум времени. Вот и сейчас, включил малый огонь и, присев на табуретку, открыл книгу.
— Так, мы с тобой поговорим? — робко подала голос из своего угла Света.
— За ужином, ладно? Если хочешь, можем столы объединить. Ты что там жаришь? — поводил он носом.
— Баклажаны с овощами. Знакомые с Украины привезли.
— Пойдет.
Через полчаса они сидели тут же на кухне за столом и не спеша ужинали.
— Так пошто суженого выгнала?
— Да ну его, пьет беспробудно, а денег не носит. Грубит, опять же.
Муж Светы Сергей, или как его все называли Серега, в трезвом виде представлял собой тихого, даже немного забитого мужичка, даром что стать и усы имел гусарские. Он безропотно выполнял энергичные команды своей жены по хозяйству, редко шумел. Работал весовщиком на складе металла. Умел так наладить весы и договориться с клиентом, чтобы иметь небольшой навар, но в валюте. Правда, заработки его не отличались стабильностью: то пусто, то густо. После работы или сидел у телевизора, или собирал модели спортивных машин, которых по полкам в их комнате расставлено было в богатом ассортименте и количестве.
Это — когда трезвым… Но стоило этому тихоне выпить каплю спиртного, в нем просыпался зверь дикий. Он скандалил, рычал, грохотал падающей мебелью, Свету свою гонял, а иногда и побивал до синяков. Длилось это безумие дня три-четыре, потом он «ломался», в тоске ложился на диван и начинал себя укорять за буйство, заунывно выпрашивая у Светы прощения. В эти минуты он безропотно выслушивал от нее все подробности своих «приключений», которые выпали из его памяти, а также все соображения жены по поводу некоторых недостатков его личности.
Пытался Андрей как-то вступиться за притесняемую разнузданным мужем соседку, но получал двойной отпор: и от него («Не мешай жену воспитывать»), и от нее («Не лезь не в свои дела»). После неудачной попытки их примирения он обил свою дверь толстым войлоком, и только когда их дебаты перемещались на кухню, он молча выходил туда и, скрестив руки, своим присутствием сдерживал ярость сторон.
— Значит, решила на Сереге сэкономить? Ну, и как, прибыло в бюджете?
— Не-а, зато расходов поменьше. Да и с работы уволилась. Надоела торговля.
— А что будешь делать?
— Хочу с детьми работать. Я ведь в молодости педагогический закончила.
Андрей оторвал глаза от поедаемого куска рыбы и удивленно воззрился на собеседницу. Света всегда улыбалась (если не плакала): в радости и в горе, в волнении и в покое. Иногда Андрею казалось, что она глубоко психически больна, но порой она поражала его своей практичностью и стремлением к доброте.
Когда Света впервые пришла к Андрею, она то плакала, то смеялась, то шутила, то растерянно и умоляюще смотрела на него своими темными, широко расставленными, поэтому несколько шальными глазищами. Он тогда предложил вместе сходить в храм и там исповедаться. Она сказала, что раньше ходила в католический храм, но там ей было как-то холодно, поэтому посещения свои она прервала.
Им тогда очень повезло: исповедь принимал сам отец Владимир, сильно постаревший, почти глухой, но весь — доброта и праведность. Света почти постоянно вытирала глаза, а когда подошла к священнику, то вдруг разрыдалась и обхватила его колени руками. Отец Владимир погладил ее по голове прохладной сухонькой ладошкой и та, как ребенок, доверчиво подняла зареванные глаза и стала говорить.
— Он святой! — шептала Света, отойдя от священника. — Я именно таким представляю себе Господа Бога, вот таким добрым и мудрым старичком с белой бородой. Спасибо тебе, Андрюша, ты мне так помог, так помог!
После окончания литургии они вышли из храма, немного прогулялись по арбатским уютным переулкам, потом голод загнал их в кафе под бордовым навесом, где подавали приличный кофе со свежими пирожными. Там они просидели пару часов. Деньги у Андрея уже кончились, официант несколько раз подходил к ним, нетерпеливо требуя нового заказа, но они все сидели и говорили. Вернее, говорила в основном Света.
…И вот теперь она ему выдает новую задачку. Андрей никак не мог представить ее с детьми — она казалась слишком занятой своими проблемами, слишком неустроенной и безалаберной. Впрочем, никогда ничего нельзя сказать точно и определенно о женщине, особенно такой, как Света.
— А раньше тебе приходилось работать с детьми?
— Нет, но они меня всегда любили. Я умею находить с детьми общий язык и еще умею быть им другом.
— Ты сейчас в храм ходишь?
— Никак не получается, все какая-то суета-маета. Слушай! А может, все мои несчастья последнего времени поэтому? — наконец-то осенила ее ценная мысль. Она даже рот открыла и вытаращила глазищи.
— Думаю, да. Наши несчастья — это напоминания нам о том, что «ничего без Меня не можете», чтобы на себя слишком не надеялись.
— Так что ты мне посоветуешь?
— Что и всегда… Сходи на исповедь, очисти душу, потом помолись и попроси помощи в поиске работы.
— Да, я стыжусь обращаться к Богу с такими просьбами. Мне кажется, у Него и без этих мелочей дел много.
— А ты дерзни! В конце концов, тело есть храм души, и оно нуждается в питании и одежде. И еще сказано: «Не имеете, потому что не просите!»
Так что проси — и воздастся. И твердо верь в это.
Юрий
С тех пор, как генерал Егоров пригласил его участвовать в своей предвыборной кампании, дел у Юрия Ильина заметно прибавилось. Ему поручили курировать несколько крупных регионов. Там надо было найти верных людей, организовать предвыборные штабы и координацию их деятельности.
Генерал получил серьезную поддержку политических единомышленников и деловых кругов. Ему обещали крупные деньги и хорошие шансы на выборах. Дела своей фирмы Юрий передал заместителю. Почти все свободные деньги вывел из оборота и направил на оргработу в штабе. Словом, он, как говорится, поставил все деньги на одну лошадку.
Генерал Егоров считался патриотом, человеком бесстрашным и честным. Развал империи он воспринимал как личное горе и решил посвятить жизнь борьбе с «мировой закулисой».
Разумеется, врагов у генерала после обнародования предвыборной программы появилось великое множество, ведь одним их первых пунктов ее значилась борьба с коррупцией и криминализацией общества.
Юрий часто бывал у генерала дома. Его удивляла непоказная аскетичность этого человека. В своей однокомнатной квартирке он работал за письменным столом из древесно-стружечной плиты. Питался кое-как, выпивая в день десяток кружек крепкого чая с любимыми ванильными сухарями. Конечно, для него уже строили громадный особняк за кольцевой автодорогой, приличествующий политику такого ранга, но ему лично это было совершенно неинтересно. Распоряжался его финансами однополчанин, имевший к этому призвание и соответствующий опыт. Генерал лишь иногда вникал в дела финансовые, но быстро к этому охладевал и снова возвращался к своей активной политической работе.
Главной его заботой стала консолидация единомышленников среди военных, силовых структур и предпринимателей-патриотов. Когда его люди в компетентных органах докладывали ему о сборе на него компромата, генерал лишь усмехался и бросал фразу вроде: пусть роют, за мной все чисто.
Знал о незапятнанной репутации Егорова и его знакомый генерал ФСК Тюрин. Его люди исследовали каждый шаг Егорова с самого детства, но почти безрезультатно. Тюрина вызывали на самый верх и строго приказали «найти для Егорова бомбу» и держать наготове. Ему прямо сказали, что «допустить этого армейского слона в посудную лавку большого политического бомонда никак нельзя». Тюрин приказал досконально изучить ближайшее окружение генерала и там искать компромат.
Генерал Егоров к своим основным помощникам приставил охрану из верных, проверенных в боях ребят. Все они прошли обучение в спецшколах под руководством опытных разведчиков. Вскоре Юрию доложили, что за его «Ауди» постоянно следует хвост, судя по почерку, из наружки ФСК. Генерал Егоров успокоил Юрия и его охранников, что от этих ребят им ждать неприятностей не следует, мол, за нами правда, потому не дергайтесь.
Генерал Тюрин просмотрел бумаги аналитического отдела по генералу Егорову и сделал выбор. Если нет подхода к самому Егорову, надо атаковать его друга Ильина. После такого предупреждения Егоров надолго выйдет из строя. Куратор долго буравил Тюрина тяжелыми черными глазами, по-кошачьи мягко прошелся по громадному кабинету, что-то пробурчал под нос не по-русски и дал добро. В этот же день генерал Тюрин вызвал к себе Валерия.
Однажды вечером, возвращаясь домой после напряженного рабочего дня, Юрий устало выходил из машины и его взгляд скользнул по окнам дома напротив. В одном из окон будто бы блеснули круглые стекла полевого бинокля. Впрочем, может быть, это ему показалось…
Дома после ужина он сел за бумаги, но память снова выбросила на поверхность сознания этот короткий выблеск. Сердце сжало холодной скользкой рукой, и он впервые за долгие годы ощутил ненавистное с детства чувство животного страха. «Обложили меня, обложили…» — пронеслось в голове из песни Высоцкого.
Он вызвал охранника и со стыдом поделился с ним своим наблюдением. Тот отнесся к словам Юрия совсем без юмора и исчез озабоченным.
Неожиданно для себя Юрий потянулся к телефону и набрал номер пейджера брата, наговорил текст с просьбой позвонить ему, как только тот сможет.
С некоторых пор он с трудом понимал своего младшенького. Тот «ударился в религию», ни дела старшего брата, ни обычные для его круга развлечения не интересовали Андрея. Они, конечно, продолжали дежурное общение, но между ними встала невидимая стена непонимания. Юрию все время казалось, что младшенький потихоньку сходит с ума.
Юрий несколько раз даже, видя неважное финансовое состояние брата, предлагал поработать в своей фирме, но тот как-то странно грустно смотрел на него и отказывался: деньги Андрея не интересовали. Тогда он приглашал вместе провести выходные на даче. Андрей приезжал, буквально на руках носил свою племянницу, подолгу разговаривал с женой, но в беседах с родным братом замыкался и больше молчал.
Случилось это все после их разговора, во время которого Андрей признался, что верует в Бога. Он начал было увлеченно рассказывать о своих открытиях «якобы истины», на что получил от Юрия в ответ хлесткое определение «мракобес». С тех пор между ними и пролегла тень.
И вот ни с того ни с сего Юрия потянуло пообщаться с братом. Через несколько минут раздался звонок телефона, и он услышал родной голос.
— У тебя что-нибудь случилось? — первое, что сказал Андрей.
— С чего ты взял? Думаешь, я способен звонить только с большой нужды? — огрызнулся Юрий.
— Ну, мы с тобой все же братья, и я еще способен чувствовать твою боль. Говори, что случилось.
— Да, в общем, ничего серьезного… Так, некоторые подозрения.
— А конкретней?
— Слежка за мной. Похоже, ка-гэ-бэ. И еще… ты, наверное, будешь смеяться, но вот показалось, что блеснуло из дома напротив стеклами бинокля. Вроде пустяк, но что-то на душе стало паршивенько.
— Когда это все вместе, брат, то на пустяк совсем не похоже. Ладно, я кое-что придумал.
— Эй! Что ты еще придумал? Своих «гвардейцев», что ли, подключить? Так это ни к чему. У меня профессиональная охрана — твоей не чета.
— Нет, это будут не мои ребята. Это будет нечто более могущественное, чем человек.
— А-а-а! — протянул Юрий. — Опять ты со своей мистикой. Все-таки ты ненормальный…
Юрий швырнул трубку, долго ругался, но — странно — разговор с братом успокоил его и вселил необъяснимо крепкую уверенность.
Валера
Дома он стал под горячий душ и смыл-таки со своего лица маску подобострастия. Растираясь жестким полотенцем докрасна, он взглянул в зеркало и с удовлетворением констатировал, что его обычная жесткость снова проступила во взгляде серо-стальных глаз. Налил себе стакан коньяку и жадно выпил, в голове просвистел ураган, и установилось холодное спокойствие. «Сейчас я возьму трубку и наберу указанный номер».
Совсем недавно Валера состоял в организации, сила которой не вызывала ни у кого сомнений. Сначала его обкатали на границе, где ему пришлось «креститься кровью», потом он доказывал терпение и настойчивость в кабинетной работе. Здесь его приучили добывать нужные показания от подозреваемых любыми способами, которых в арсенале его старших коллег оказалось немало.
До сих пор каждый день Валера вспоминает, как они с ребятами после уничтожения очередного врага советской власти в обеденный перерыв шли по оживленной улице в ресторан и прохожие уважительно — кто кланялся им, кто обходил стороной.
В ресторане их встречали с поклоном и уводили в персональный кабинет, где потчевали самым изысканным, и денег, разумеется, не брали. А стоило только завести разговор о грядущей командировке, в пиджачный карман тут же опускалась толстая пачка денег, выпавшая из проворных рук официанта. Потом, когда персонал их конторы стали сокращать, почему-то первым вычистили его отдел. Ему обещали в скором времени вызвать для дальнейшего устройства, но молчание затянулось надолго.
Изредка, обычно в ресторане, он встречался с бывшими сослуживцами. Некоторые из них уходили в частные охранные фирмы, и там им сразу доходчиво объясняли законы бизнеса: «Или они нас, или мы их», причем жизнь человека в игре, где счет идет на миллионы долларов, ничего не стоит. Один такой, когда понял, что его сделали бандитом, пытался выйти из игры, но ему даже не позволили дойти живым до дома.
За столом этим бывшие сослуживцы обычно или много ели, или много пили. Кто много ел, тому похвастать было нечем. Те, которые много пили, первых называли неудачниками, относились по-трезвому снисходительно. Когда же выпивали какую-то критическую дозу, принимались оправдываться перед едоками, совали им в карманы зеленые сотенные купюры и ругали «жизнь проклятую». Валера умудрялся успешно делать оба застольных дела: он и ел много, и пил до упора. Обнимался со всеми, хотя больше его тянуло к людям в дорогих костюмах.
Накопления его вскоре кончились, и Валера через друзей нашел себе место на автостоянке. Хоть оклад ему положили небольшой, но в первую же ночь он за предоставление мест сторонним автовладельцам неплохо заработал. Половину, как водится, отдал хозяину, но и то, что осталось, его порадовало. Скоро он опять приоделся, стал даже иногда обедать в ресторанах… Только вот это подобострастие липло к лицу, как паутина и смывалось горячей водой и коньяком только на время.
Он потерял самое главное для себя — ощущение причастности к могучей организации, перед которой трепещут все, кто сам в ней не состоит. Его перестали бояться и уважать. Да что там! Иногда он сам чувствовал в груди холодок страха, заползавший туда при виде въезжающих в ворота стоянки сверкающих мощных иномарок с коротковолосыми мужчинами, обвешанными золотыми цепями.
Но вот вчера на стоянку позвонил сослуживец его отца, уже в чине генерала, и потребовал готовиться к возобновлению работы в органах. Валера одновременно обрадовался и испугался: за пять лет жизни вне конторы он растерял былую жесткость и сноровку, зато живот округлился, и мышцы одрябли.
И вот сейчас надо звонить генералу. Он поднял трубку, повторил по памяти продиктованный номер телефона — и вдруг ощутил в груди страх и тоску. Трубку положил, налил еще стакан коньяку, выпил, походил по комнате, сел в кресло, вдохнул, резко выдохнул и решительно застучал по клавишам телефонного аппарата.
Секретарь соединил его с генералом, и тот сразу приказал срочно выезжать на конспиративную квартиру, адрес которой продиктовал. Валера по новой своей привычке записал его в блокнот, похолодел от обнаруженной ошибки и выдрал сначала листок, на котором писал, а потом и еще несколько листков, на которых мог остаться отпечаток букв и цифр адреса. Потом он засуетился, подыскивая соответствующие случаю костюм и галстук, и со страхом вспомнил о выпитых двух стаканах коньяку. Нет, он не чувствовал опьянения, но запах! На кухне отыскал лавровый лист и пожевал, потом еще на всякий случай почистил зубы.
На такси, как раньше, пропустив первое остановившееся и сев во второе, он доехал до соседней с искомой улицы. Пешком прошел до улицы, указанной в адресе. Несколько раз проверился на поворотах и только после этих лисьих маневров он вошел в подъезд обычной девятиэтажки. Поднялся на седьмой этаж и позвонил в нужную дверь. Открыл ему незнакомец бандитской наружности и провел в комнату, где в глубоком кресле развалился генерал Тюрин, в свободных светлых брюках и пестрой рубашке навыпуск. В его коротких волосатых пальцах тлела толстая гаванская сигара. Ни разу еще Валере не доводилось видеть отцовского друга в таком облачении, даже во время застолий в доме отца. Генерал улыбнулся, сверкнув ровной шеренгой зубов, указал на кресло напротив:
— Садись, Валерий Степанович. Пей кофе. Коньяку пока не предлагаю, да и на сегодня тебе хватит. И не думай, что мятная зубная паста и лаврушка меня введут в заблуждение. Я не спрашиваю о твоей судьбинушке, мне уже все, что нужно, доложили. Конечно, некоторые навыки ты подрастерял, но это все мы восстановим. Главное, что наша закваска в тебе осталась. Скучаешь по службе?
— Еще как!
— Знаю, знаю… Это у тебя потомственное. Это у нас всех — в генотипе, никакой перестройкой-пересменкой не вытравить. Ладно, не тревожься, теперь ты снова будешь с нами. Только имей в виду, изменились не только обстановка в стране, но и методы нашей работы. Ты будешь вне штата. Работай пока, где работаешь. А теперь слушай внимательно…
То, что дальше рассказал ему генерал, Валеру несколько расстроило. Работа по схеме «в случае провала мы тебя не знаем» была ему, конечно, знакома, но как-то все больше теоретически. Правда, были два «но»: во-первых, ему не предлагали выбора, как говорится, вход рубль, а выход два; а во-вторых, за первую операцию ему предложили столь серьезные деньги, каких в прошлой жизни ему не заработать до пенсии.
Сперва его направили на стрельбище, где ему надлежало вспомнить и подновить стрелковую подготовку. Потом после кратких подрывных курсов ему поставили задачу, оснастили техникой и оружием, дали денег на текущие расходы. Объектом его попечительства стал Юрий Ильин.
Неделю Валера следил за своим объектом из квартиры дома напротив. Изучил его расписание и систему личной охраны. Обнаружил некоторые бреши, но понял, что просто так к объекту не подобраться. Его телохранители постоянно мелькали перед охраняемым телом, и надеяться на время, необходимое для тщательного прицеливания, не приходилось. Время, отведенное для подготовки операции, подходило к концу, а четкого плана не вырисовывалось. Тогда он решил сменить тактику.
Андрей посетил храм, где заказал молебны о здравии брата, вернулся домой и закрыл на ключ дверь своей комнаты. Зажег лампадку перед иконами, встал на колени, открыл молитвослов и стал читать молитвенное правило…
Рано утром в подъезд дома, в котором жил Юрий, вошел сгорбленный бомж с рваной матерчатой сумкой в грязных руках. В ней позвякивали несколько пустых бутылок. Бомж пошарил потухшими глазами по площадке первого этажа, вздохнул, побурчал и вышел восвояси.
Андрей положил сороковой земной поклон, отсчитав по четкам, и продолжил молитву: «…Сопутствуй и утешай нас во время скорбей наших, даруя нам память о гресех наших, помогай в напастех и треволнениях мира сего, и во всех бедах в сей юдоли плачевней нас постигающих…»
В пустом общественном туалете бомж зашел в кабинку и заперся изнутри. Через пару минут дверца кабинки распахнулась и выпустила наружу Валеру, одетого в легкие брюки и футболку. Пластиковую взрывчатку он установил, кажется, без лишнего шума и достаточно надежно. Теперь осталось дождаться момента, когда объект будет заходить в подъезд, и нажать кнопку радиоуправляемого взрывателя.
«…Ты, победив полки супостатов, — читал Андрей следующую молитву, — от пределов Российских отгнал еси: и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи…»
Валера сидел у окна и ждал приезда объекта с работы. Осталось всего-то ничего: в нужную секунду нажать кнопку и быстро удалиться из квартиры. Он заранее уничтожил все следы своего здесь пребывания. Только нажать — и уйти. Но, что же это такой необъяснимый страх снова закрался в грудь? Почему накатила такая смертная тоска? Что это с ним? До предполагаемого времени приезда объекта осталось больше получаса.
«…Разруши силы возстающих враг, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь; и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви Твое заступление…»
Валера, чувствуя себя последним идиотом, вышел из квартиры и направился к ближайшему ларьку. Под грохот собственного сердца он купил бутылку коньяку и вернулся назад. «Что я делаю! Кретин!» — шумело в голове, но руки сами вскрыли бутылку, и рот сам по себе сделал несколько жадных глотков обжигающей жидкости. Нутро растеплелось, тоска вроде унялась. Прошли пережидаемые полчаса. Затем еще час и еще — объект не появлялся. Валера — глоток за глотком — опорожнил всю бутылку, сбегал за второй. Продавец ему подмигнул, как знакомому, но Валеру это нимало не смутило. Он успокоил себя: если не выйдет сегодня, то он взорвет этого Ильина завтра, ну или послезавтра, неважно! И пошли они все!.. Подумаешь, начальство! Да если что — эти шакалы в кусты, а ему на плаху. А, может, удрать подальше? Денег ему дали немало, лет на пять тихой жизни где-нибудь в Урюпинске хватит. А там и всех его нынешних начальников прибьют, или еще что случится.
«…Тем же, ко твоему покрову и заступлению прибегающе, смиренно молим тя: якоже сам от бури сумнительных помышлений избавлен был еси, сице избави и нас, волнами смущений и страстей обуреваемых…»
Что это за тоска снова навалилась! Валера опорожнил еще полбутылки, но на душе скребли кошки. И этот объедок, то бишь объект, не едет, гад. Все сволочи! Все гады! Все против него.
Наступила поздняя ночь, когда у входной двери позвонили. «Какую там еще тварь несет! Все сволочи!» — завыло в обожженной спиртом груди. Валера спросонья, с тяжелой пульсирующей головой доплелся до двери, ругнулся и рванул ее на себя. В квартиру бесшумно, мягко роняя Валеру на пол, ввалились несколько человек. Спустя полчаса его отрезвили и довольно умело разговорили. Итак, уже не Валера в майорских погонах, а его беспогонные враги допрашивали самого Валеру. И он знал, что препираться бесполезно. Нет таких допрашиваемых, которых нельзя «расколоть», не родилось еще. Он это знал наверняка.
Аванс
Вечером Андрей снова готовил свой ужин на скорую руку и во время технологических перерывов читал книгу. Дверь кухни распахнулась, и со свертками в руках шумно вошла Света.
— Вот! — весело вывалила он на стол поклажу. — Сегодня получила аванс.
— Откуда это такое богатство? — спросил Андрей, оторвавшись от книги.
— Так ты мне сам советовал попросить у Пресвятой Богородицы работу. Так я вчера весь вечер на коленях простояла. Потом приложилась к иконке Богородицы и заснула. А сегодня звонок по телефону. Я уж и думать о ней забыла… Короче, звонит мне одна подруга и предлагает работу гувернанткой в один богатый дом. Я снова помолилась и сходила туда. Прихожу, знакомлюсь с родителями, то да се, говорим. А потом проснулась девочка, мы с ней познакомились и она — представляешь — сразу в меня влюбилась, даже отпускать не хотела. Вот так все и решилось. Они меня взяли. Сразу аванс дали, чтобы я приоделась поприличней. Так что гуляем!
Андрей смотрел на соседку и думал, как же это так получается просто? Даже сразу и не верится. Попросила — и вот на тебе! И вспомнил он слова старца: «Господь Своих людей всегда блюдет». Значит, Света своей простотой и чистыми помыслами достучалась… страшно подумать, до Кого. Но ведь получила же… Вот так живет рядом человек, а ты видишь в нем только взбалмошную бабенку, а она, оказывается, у Господа своя. Без всяких там премудростей и высоких слов.
Света взглянула на притихшего Андрея и спросила:
— Я что-нибудь сделала не так? Нет, я не забыла — ты не думай, что я такая неблагодарная, — зашла, зашла я в храм-то. И свечку поставила самую красивую и на коленках у иконки поплакала, и благодарственный молебен Заступнице моей заказала.
— Молодец, Светка, сама не знаешь, какая ты молодец! — негромко сказал он.
— Правда! А я уж испугалась, что ругать меня будешь за что-нибудь?
— Да за что же? И разве ругал я тебя когда?
— Нет, конечно, но мало ли? Я тебя почему-то боюсь больше, чем своего хулигана-мужа. Как посмотришь иногда… будто в самую душу.
— Обещаю: отныне глаз от пола не подниму.
— Да, ладно тебе, не слушай ты меня, глупую. Давай отметим это дело. Мне так радостно, а больше никак тебя отблагодарить не могу.
— Да ты и так уж и отблагодарила, и порадовала…
Ближе к Церкви
Часто загудел телефон. Андрей поднял трубку и услышал голос из далекого города:
— Я очень благодарен тебе.
— За что?
— Ты мне как-то посоветовал держаться поближе к церкви. Я так и сделал. Обошел несколько храмов и нашел братство. Меня там хорошо приняли и предложили работу. Сейчас пишу иконы, стал зарабатывать деньги. Вышел на очень серьезный уровень. Первые две иконы продал каждую за две тысячи долларов. Так что очень серьезный уровень. Сейчас хочу выставиться на ярмарке.
— На службы ходишь?
— Конечно… Правда, не каждый месяц удается.
— Месяц?.. Исповедовался?
— Конечно. Меня с собой батюшка в свою деревню возил. Там настоящие староверы, такие исконные, корневые!
— А как все проходило?
— Так, как и надо бы везде. В каждом храме. Все по-простому, без этой золотой мишуры и бижутерии. Зашли мы в храм с батюшкой и с дьяконом, я в алтаре зажег семисвечник. Ну, что — говорю на исповеди — грешен во всех смертных грехах, все мои… Положил он на меня эту ленту с крестами, перекрестил, что-то пошептал. Все, говорит, безгрешен, аки ангел. И мне так хорошо стало! Батюшки запели молитвы, а я стал перед иконостасом. Так светло, легко! Представляешь! Смотрю на икону Спаса и вижу, как он отделяется от иконы и ко мне, грешному, спускается… И слышу внутренний голос: «Вот ты ко мне и пришел. Ты мой избранник, я тебя люблю и теперь я поведу тебя в царство небесное!» Так что вот удостоился видения от самого…
— …беса!
— Типун тебе на язык. Что ты такое говоришь?
— А ты что, не замечаешь последовательности? Пришел в храм деньги зарабатывать, продал иконы бандитам за бешеные деньги, выигранные в казино; ходишь в церковь, как в театр, — за наслаждением; дальше — исповедь у каких-то раскольников на скорую руку; вот уж и наслаждение получил; а тут и сам податель ядовитой сладости авансы тебе раздает.
— Ну, конечно, ты же у нас самый умный! Только ты один все знаешь.
— И еще подумай вот о чем: святые!.. Десятилетиями в подвигах поста, бессонных ночах, покаянных молитвах… Проливая горячие слезы за свои грехи… Ежесекундно в строжайшем соблюдении себя от самых ничтожных прилогов греха… Под покровом постоянного послушания… Под ежедневным наблюдением духовника… В постоянном чтении Святого Писания… Достигают высочайших высот духовного совершенства в смирении… Но далеко не все удостаиваются видений небесных сил. А тут пришел любитель денег и удовольствий, пару телодвижений сделал — и вот ему за его заслуги, заметьте: ни много ни мало, а Сам Господь является… Ты сам понимаешь, что говоришь и творишь-то?
— Нет, мне это нравится! Ходит парень в столичные церкви, облепленные золотом; на эти спектакли, где роль Христа исполняет толстый поп, увешанный золотыми крестами с бриллиантами; бьет поклоны на каждое «Господи, помилуй!», читает книжечки и всех учит жить. У тебя там крылышки еще не прорезались? А, херувимчик?
— Хожу я в храм Божий молиться о спасении душ: своей и моих ближних. В Церковь, основанную Самим Иисусом Христом. Каждый день моя душа горит в адском пламени моих грехов. Я — «свиния, в калу лежащая»!.. И единственная моя надежда — на милость Господа, потому что я сам ничего хорошего из себя не представляю. Все мои достоинства — от Бога, а мое личное — это бесконечные грехи и… простите, выделения… И если я тебе когда-нибудь скажу, что Православная Церковь мне не мать, то Бог мне не отец, и потому гнать меня нужно подальше от святых церковных стен… Или тащить к любому батюшке — отчитывать меня от одержимости бесовской и прелести сатанинской.
— Слушай, почему, когда я тебе звоню поделиться, ты меня каждый раз ругаешь?
— Давай вспомним, чем ты делился. Сначала своим увлечением медитацией. Тогда для тебя все равно было: что молитва Богу — что медитация сатане. Потом ты меня убеждал, что на свете нет ни добра, ни зла, а есть некая энергия наподобие электрической.
— Я же просил тебя забыть об этом!
— Когда мы с тобой разобрались и с этой ложью, ты стал искать тайные изотерические знания у Даниила Андреева в «Розе мира», у Сведенборга и у Рерихов в агни-йоге. Вроде бы я смог тебя убедить на своем печальном опыте, что в основе этих мистических учений — гордыня и отрицание Церкви.
— Ну, не совсем… Я и сейчас уверен, что ты перегибаешь…
— Теперь ты, как говоришь, пришел в Церковь, а служишь мамоне, и здесь ты ищешь духовных наслаждений, тебя занесло в раскольничество… Почему у тебя сохраняется такая стойкая потребность из одной лужи с грязью торжественно пересаживаться в другую? Почему ты так упорно не слышишь призыва к покаянию и смирению?
— Слушай, жизнь так коротка… Если мы только и будем, что бить себя ушами по щекам и плакать о грехах, то совсем превратим жизнь в кромешный ад.
— Вот именно потому, что жизнь не просто коротка, а совершенно мимолетна, мы и должны в первую очередь подготовиться к вечности. Потому что в вечности или адское пламя — или Царствие Небесное, другого не дано. Мне очень жаль, но!.. Не дано. И нет ни агни-йоговских реинкарнаций, ни мирно соседствующих якобы на небесах храмов разных религий, как у Даниила Андреева. Потому что нет религий. Есть одна религия — Православие, потому что только здесь истина. Потому что Сам Господь воплотился на земле и сказал: никто иначе не придет к Отцу Небесному, как только через Меня. Сам Господь показал нам путь спасения: это смирение, покаяние, крестный путь скорби и мучений.
— Ну, вот опять — скорби, мучения… А когда жить?
— А вот это и есть жизнь, возлюбленный брат. Есть два пути: путь удовольствий и наслаждений — это в преисподнюю, на мусорную свалку (ты знаешь, что прообраз евангельской геенны огненной — это мусорная свалка за иерусалимскими стенами?); и второй, путь покаяния и смирения, через так не уважаемые тобой скорби — это домой, в Царство нашего Отца Небесного.
— Вся моя душа возмущается от такого расклада! Я молод и хочу жить! В старости покаюсь и наскроблюсь вдоволь!
— Снова обман! С чего ты взял, что через минуту не умрешь? Откуда тебе знать, сколько тебе отпущено? И потом, грех — это, как вино. Сначала веселит и пьянит, потом появляется похмелье, потом втягивает в запои, а потом уже и бросить невозможно. Сколько алкоголиков каждый день бросают пить, каждый день в последний раз, а потом уже — зависимость, пленение, одержимость! Все! Связан врагом… И за каждый грех, как за выпитый стакан, — страшные мучения.
— Что же без мучений-то никак нельзя?
— Можно, наверное, но для этого нужно быть праведником, а таких — один на миллиард. Всем остальным во искупление грехов дано мучиться — увы! Только делать это можно по-разному. Вот, например, прививка — это ведь тоже болезнь, только в облегченной форме. Зато после ты этой болезнью не страдаешь и от нее не умираешь. Так и покаяние — «держишь ум во аде», чтобы не гореть вечно в аду настоящем. Ну, а чтобы меньше страдать, нужно меньше грешить. Здесь и начнется та невидимая брань, о которой пишет Никодим Святогорец в своей настольной книге для монахов.
— «Невидимая брань»? Знаю, видел на лотке.
— Почитай, там много практических советов, как избежать грехов, как с ними бороться, как сохранять свою чистоту. Вот, смотри! Ты с помощью молитв и покаяния входишь в состояние души, когда «ум во аде». Ты буквально окружен гудящим пламенем. Ты плачешь о спасении. Ты видишь как бы со стороны все свои грехи. Они жгут тебя и кажутся тебе мерзкими, грязными твоими порождениями. Ты их все до одного именуешь и записываешь на листок. Все, которые тебе дано увидеть в себе! Если хотя бы один утаишь или постыдишься записать, чтобы потом вслух произнести священнику — а ведь это действительно стыдно! — вся твоя исповедь насмарку. Можно обмануть священника, но не Бога, властью Которого батюшка грехи отпускает. Но вот ты со стыдом и болью, с плачем и мучением приносишь свое покаяние… Батюшка тебе отпускает грехи. И ты чист, как ангел. Чувствуешь разницу с твоим «Все смертные грехи — мои?»
— Чувствую…
— И теперь тебе во что бы то ни стало надо сохранить чистоту в душе. Но ты ощущаешь, что бесы один за другим пускают в твою душу стрелы греховных помыслов. И здесь ты волен или принять их в свою душу и увлечься ими — или отразить эти стрелы, как щитом, крестным знамением и призыванием Бога Иисусовой молитвой. Вот в этом и заключается наша постоянная война, в которой ты или победитель, или раненый, или убитый.
В этой битве у человека есть помощники, защитники. Ты будешь постоянно чувствовать их благое воздействие. И по мере покаянного очищения и навыков в битве к тебе будет приходить то радостное состояние, когда ты почувствуешь близость Бога. Пусть это будет длиться всего секунду. Но эту секунду ты запомнишь на всю жизнь! После этого у тебя пропадут страх и все сомнения от маловерия. По этой мизерной искорке смиренной Божьей любви ты поймешь, каков ее безбрежный океан в Царствии Небесном. Но еще ты увидишь и греховность мира, тебя окружающего, и захочешь его покинуть.
— Монашество?
— Но мир тебя не будет отпускать… Тогда ты его возненавидишь: его ложь и злобу, гнилые соблазны и тленную смертельную красоту. Но в мире живут люди. И их всех — именно всех и каждого! — любит Господь. И ты станешь учиться их любить. Вот это самое трудное! Ты их любишь, отдаешь им последнюю рубашку, по ночам в рыданиях вопиешь к Богу об их прощении и спасении. А они тебя грабят, избивают, а могут и убить! И чем больше они тебя истязают, тем сильней ты будешь их любить и громче вопить к Богу об их спасении.
— Н-да… Ну и перспективка…
— Святого спросил послушник, почему у него бывают периоды охлаждения к Богу. Святой сказал, что это все оттого, что он не знает настоящего ужаса мучений в аду и блаженства на Небесах. А если бы узнал, то согласился бы в келье с червями всю жизнь прожить в молитвах к Богу, чтобы только быть спасенным.
«Кажется, бесполезно…» — печально вздохнул Андрей, когда положил трубку. И встал на молитву о здравии и просвещении ума раба Божиего.
Господь спасает и милует
Со встречи ехали по Каширскому шоссе, затем свернули на кольцевую и только тогда услышали спокойную команду шефа: «На стройку». Бригаду эскорта он отпустил на базу, и дальше они ехали в джипе втроем, все время молча.
По узкой асфальтовой дороге въехали в просторный сосновый лес. Среди мачтового частокола там и тут выглядывали старые бревенчатые дачки и дома шикарного новостроя.
У тягача с панелями Андрей оформлял документы. Строители, как всегда без пауз и традиционных перекуров, деловито занимались монтажом. Оранжевый двадцатитонный кран «Като» опускал в кассету очередную матово-белую панель. Только Пал Трепалыч отреагировал на приезд хозяина и, сверкая загорелой лысиной, уже бежал к джипу.
Владимир Иванович попросил напарника позвать Андрея. Тот закончил с документами, передал их водителю и подошел к заказчику.
— Судя по всему, сегодня у вас, Владимир Иванович, был удачный день, — снова скорей констатировал, чем спросил Андрей.
— Ты знаешь, я до сих пор ничего не могу понять. Они прислали каких-то мальчишек, и те передали, что их шеф в реанимации, вручили чемодан с отступными, извинились и уехали. Нет, ну ты понял? — пропел экс-уголовник, теперь президент международного концерна.
— Вы все сделали? — глядя на кроны мачтовых сосен поверх седого бобрика, спросил Андрей.
— Конечно, братишка, какой разговор?
— Все? — еле слышно спросил еще раз Андрей, глядя на пухлую в оспинах переносицу.
— Все, Андрюш, правда! На исповеди мне даже поклоны земные прописали — до сих пор от них спина болит… Вломили мне в церкви по первое число, но ехал на встречу как никогда спокойно. Даже удивился: нервы-то уж не свежие…
— Тогда все так и должно было случиться.
— Нет… Это что, оттуда!? — он ткнул толстым пальцем в синее небо.
— А теперь, Владимир Иванович, надо отблагодарить.
— Да говори, что тебе надо, Андрюх, сделаю все, что хочешь.
— Там же закажите благодарственные молебны. Обязательно.
— Это сделаю. Хорошо! А тебе? Тебе что я могу сделать?
— Я же сказал. Лично мне ничего, — со вздохом сказал Андрей и, кивнув на прощанье, пошел к «гвардейцам».
— Он че, ненормальный? — спросил охранник, устраивая свое мясистое двухметровое тело на кожаное сиденье.
— Не-а, нам его не понять, Петруша. Он не здешний… Домой.
Андрей подошел к работающим, подозвал Бугра.
— Сработало? — поинтересовался тот, отирая кепкой загорелое лицо в шрамах и глубоких морщинах.
— Который уже раз, а все никак не привыкну, — признался Андрей.
— А разве к этому можно привыкнуть? Это же все-таки чудо…
— Сейчас я в храм. Завтра, если буду нужен — звони. Спаси тебя Господь, Бугор.
— Во славу Божию… Слушай, я отпущу Гену с тобой? Пусть дочь навестит.
Геннадий Иванович, герой афганской войны, доброволец-ликвидатор Чернобыля, по пути на платформу затащил Андрея в пивнушку. Взял там порцию коньяку, коробку конфет для дочери и кофе Андрею. Они присели за столик.
— Я тебе сейчас историю одну расскажу, — неспешно начал Гена, отпив жидкость из пластмассового стаканчика. — Росли два мальчика в одном дворе. Папы у них работали на дипломатическом поприще, крепко связанном с разведкой. О родителях они никогда не говорили. Это было не принято.
Один мальчик отличался от всех остальных смуглой кожей и еще кое-чем, о чем все узнали несколько позже. Тогда в моде в их среде был некий священный кодекс чести. Не принято как-то было ни предавать, ни выдавать. Если кому нужна помощь — хоть ночью приди, отказу не будет. За друга на нож шли, без рассуждений и колебаний.
Это потом уже выяснилось, что оба воспитывались родителями в вере. Тайно, конечно. Один ходил в православный храм, другой — в мечеть. После школы их разбросало кого куда. Мусульманин выехал с родителями на родину в Афганистан.
Православного призвали в армию, и попал он на войну, тоже в Афганистан. И случилось ему попасть в засаду. Весь экипаж «духи» расстреляли из пулемета. Он в одиночку держал оборону.
Молился и стрелял, слезами обливался, молился и снова стрелял. Взял тогда он на себя зарок перед Всевышним, если выживет, никогда ни при каких обстоятельствах ни в кого не стрелять.
Сутки держал оборону, пока не подоспела наша «вертушка» и не накрыла сверху «духов». Перед отлетом пошел на гору, где засели «духи», и среди трупов нашел он своего школьного дружка. Видно, перед смертью он молился своему Аллаху, да так его и прошила пулеметная очередь. Полумесяцем по спине. Закрыл он глаза друга и всю дорогу молился о прощении и упокоении его души.
Так получилось, что дали ему за оборону высотки Звезду Героя, и он больше не стрелял. Никогда и ни в кого.
Самое интересное, что оба эти мальчика стреляли друг в друга, защищая свою веру, своего Бога.
— Но спас Господь только одного — тебя, — заключил Андрей.
Маша
На вокзале Андрей посадил Гену в такси и присел на скамью. В его душе нарастало молитвенное настроение, столкновение с чудом снова окрылило его. Сейчас нужно «отшелушить» суетность, успокоиться…
— Дядь, помоги!
Перед Андреем стоял оборванец лет восьми и протягивал грязную ручонку. На его чумазой щеке светлела полоска от недавних слез.
— Садись. Не бойся, не обижу.
— А я и не боюсь, — улыбнулся мальчик. Присел рядом на скамью, но протянутой руки не убрал.
— Родители есть? — Андрей достал из сумки шоколадку из «эн-зэ», разломил пополам и поделился с соседом.
— Ага. Мама, — выдохнул он и откусил шоколад.
— И где же она?
— Здесь работает. По мужикам она у меня, — гордо ответил мальчик.
— Позвать можешь?
— А у тебя деньги есть? А то ведь она просто так ни с кем не ходит.
— Есть. Зови.
Через пару минут мальчик подвел молодую женщину в ярком шелковом костюме. Лицо ее, совершенно без косметики, выражало настороженный интерес.
— Желаешь развлечься? — дежурно спросила она, оценивающе разглядывая его джинсовую одежду и кроссовки, остановив взгляд на японских часах. Потом подняла глаза и наткнулась на его зрачки. Улыбка растаяла.
— Садись.
Андрей, увидев ее, внутренне вздрогнул. Перед ним стояла красивая, стройная молодая женщина. Сразу понятно, что ее ремесло еще не въелось ни в душу, ни в поведение. А самое удивительное, что она очень напоминала его первую любовь по имени Оля. Только глубоко скрытый страх занозой сидел в ней. И усталость. Но и надежда на лучшее не покинула, судя по ясным карим глазам.
Женщина послушно села, поправив юбку. Так дамы ее профессии поступают крайне редко. Рядом пристроился и мальчик. С минуту они молчали.
— Как вас зовут?
— Я Маша, а он — Серега, — кивнула она в сторону сына.
— Меня звать Андрей. Сколько ты зарабатываешь за вечер?
— Хочешь снять до утра? Дорого это, Андрюш.
Он достал бумажник, вынул все деньги, оставил себе одну купюру, остальное протянул ей. Женщина сразу спрятала деньги.
— Пошли…
— Пошли, — Андрей оглянулся и протянул руку Сереге.
— А его зачем? — испуганно дернулась она.
— А мы пойдем не на твою работу, — улыбнулся ей Андрей. — Сначала немного прогуляемся, зайдем в храм, а потом я вас домой отпущу.
— Ничего себе! А меня туда пустят? Ну, в храм?
— Придумаем что-нибудь. Ну, а теперь рассказывай. Почему работу такую… странную выбрала?
— Не я выбрала ее, а она меня. Мужа у меня убили. Потом с меня долг стали требовать. Сначала отобрали квартиру, ну а потом и меня захомутали. При муже-то друзей было — море. Чуть ли не каждый день застолья, клятвы верности… А как мне помощь понадобилась — всех как ветром сдуло. Остались мы с сыном совсем одни. Обычная история.
— Кто у них главный? Кличку знаешь?
— А как же! Мамед его зовут.
— Завтра позвонишь мне вечером, вот тебе телефон, — Андрей протянул ей визитную карточку.
Они подошли к храму, Андрей перекрестился и вошел. Следом за ним гуськом робко вошли и Маша с сыном. Андрей подошел к свечному ящику:
— У вас есть платки для женщин?
— Есть. Тут у нас одна прихожанка нарезала из своей шали, чтобы случайным раздавать, — охотно пояснила улыбчивая женщина и протянула Марии платочек. — Заходи, милая, не бойся.
— Спаси Господи, матушка. Мне еще пять свечей больших.
Машу с сыном он отправил к иконе Богородицы, дал свечей. Сам же отошел в сторону, открыл маленький походный молитвослов и встал на колени перед образом Иоанна Предтечи.
«Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини рабу Божию Марию со чадом Сергием от твоего заступления, но возстави ея падшуюся многими грехи, обнови душу ея покаянием, яко вторым крещением омываяй грех, покаяние же проповедуяй во очищение коегождо от дел скверных; очисти убо ея, грехми оскверненную, и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит в Царствие Небесное. Аминь.»
Мария стояла у образа Богородицы и сначала бездумно глядела на неземную красоту лика. Потом от иконы, как из распахнутого окна, повеяло свежим порывом теплого ветерка, вот она увидела себя как бы со стороны: она стояла и… плакала. Слезы сами вдруг закапали из глаз. Вся ее жизнь день за днем проходила перед ее сознанием. И поняла она, что была лишь череда ошибок и тупиков, боли и страха. И вот Маша уже стоит на коленях, и простая, но горячая молитва сама изливается из ее души. Вместе со слезами раскаяния.
Ей показалось, что лик Богородицы ожил, и теплая материнская улыбка озарила его. И так стало хорошо и спокойно, будто она снова оказалась маленькой Машенькой на коленях мамы, и ее теплая рука гладит ее по головке. «Иди и больше не греши. Ты прощена!» — услышала Маша неземной доброты голос, нежно прозвучавший в ее сердце. Она поднялась с колен, и почувствовала, как твердая решимость наполнила ее. Прошлая грязная жизнь осталась за невидимой чертой, которую она переступила, входя в эту церковь. Она еще не знала, что будет делать в жизни новой, только знала точно, что теперь все будет хорошо. Так, как надо.
Через какое-то время Маша осознала себя сидящей под синим зонтом на террасе летнего кафе. Рядом негромко разговаривали Андрей и Сережа. Сын доедал мороженое и исподлобья бросал на нее удивленные взгляды.
— Я подумал, что возвращаться вам домой не стоит, — обратился к ней Андрей. — Вряд ли вас там ждут хорошие новости. Вот тебе записка и адрес. Идите туда и пока поживете у Елены. У нее пустует комната, и она готова ее недорого сдать. Очень недорого. Ей одиноко одной, потому и сдает. Я сегодня же кое-что сделаю, чтобы Мамед от вас отстал, а завтра попробую договориться насчет работы для тебя. Как насчет того, чтобы поработать на церковном лотке? Я знаю, там нужны надежные, честные продавцы.
— За что… ты так к нам… относишься? Я так не привыкла… — снова слезы выступили из-под длинных ресниц ее опущенных глаз.
— За то, что вы этого заслуживаете. Ты уже достаточно настрадалась. У тебя хороший сынишка, — Андрей взъерошил нечесаные волосы мальчика. — Как только я его увидел, уже примерно знал, что будет дальше. Знал, что будет. Так ты на церковном лотке готова поработать? Не подведешь меня?
— Я для тебя… Хоть где, хоть кем…
— Да что же ты все сырость разводишь? — Андрей, улыбаясь, протянул ей платок. — Ну-ну… теперь все будет хорошо!
Звонок из прошлого
Дозвониться до Владимира Ивановича удалось только поздно вечером.
— А я собаку свою выгуливал, — объяснил он свое отсутствие.
— Владимир Иванович, вы Мамеда знаете?
— С вокзала, что ли? Отморозок он. Но кормит кого-то из больших начальников, потому и держится пока. А что он натворил?
— Убил за долги человека, а теперь заставляет его вдову отрабатывать долг проституцией. Из квартиры ее выгнал, за долги отобрал.
— Я ж сказал, отморозок! Как девчонку-то зовут?
— Мария.
— Через полчаса перезвоню.
Андрей взял молитвослов и стал читать молитвы перед иконой Богородицы. Снова звякнул телефон. Из трубки раздался хрипловатый басок:
— Ты знаешь, Андрей, не хочет он с ней расставаться. Влюбился, говорит, жениться на ней собрался. Говорит, что она спрятала деньги мужа в кубышку, потому он и заставил ее отрабатывать. Я ему предложил выкуп, так он такую сумму назвал, что много пудов потянет. Вот что я понял. Этот душегуб и деньги возьмет, и от девчонки не отстанет. Так что ты ее пока припрячь надежно. Мне нужно пару деньков, чтобы его уговорить. Есть кое-какие завязки. Так что будь пока.
Андрей позвонил Елене, узнал, как там устроились его протеже. Елена не скрывала, что она им обрадовалась. Уже отмыла их в ванной и сейчас кормит. Андрей подозвал к телефону Машу и предупредил ее, чтобы из дома два дня не выходила. Та все поняла и обещала сидеть, как мышка.
Снова зазвонил телефон. На этот раз слышно было плохо. Сквозь треск и шорох с трудом долетал знакомый тенор с прибалтийским акцентом:
— Андрей, это ты?
— Я, Гинтас. Ты из машины?
— Да, я сейчас в Голландии, гружу сэконд-хэнд. Слушай меня внимательно! Я хочу, чтобы ты снял в аренду торговую площадь и готовился принять товар.
— Хоти дальше, я не против.
— Эй, ты что, про долг забыл?
— Гинтас, ты же прекрасно знаешь, что долг — это одно, а шантаж — другое. Если бы я тебе хоть два цента задолжал, ты бы из меня их еще три года назад или вытряс бы, или пристрелил. Разве не так?
— Так, понял! Нужно встретиться.
— Бесполезно. Работать с тобой я не собираюсь. А если приедешь сюда и будешь шуметь, то через полчаса в камере окажешься.
— Нужно встретиться.
— Прощай!
…Прибалты три года назад вышли на него через друзей из Саратова. Волжане собирали по селам коровью кожу и продавали через прибалтов в Голландию. Назад везли спиртное и продавали через своих знакомых в Москве и в других крупных городах. Андрей тогда работал в бригаде с «гвардейцами», но его потянуло на крупные заработки.
Саратовцы ездили на новеньких иномарках, купили квартиры, строили загородные дома. Жена Андрея, узнавшая о заработках друзей, настойчиво «пилила» его и требовала того же. Андрей решил попробовать. Друзья ведь ему предлагали работу, а не просто люди с улицы. Продал Андрей с десяток фур спиртного, заработал первые несколько тысяч долларов, вроде бы дело наладилось. Но вот в один не очень прекрасный день рынок спиртным затоварился. Перед праздником завезли его слишком много, поэтому розничная торговля в какой-то момент сначала снизила цену, потом стала и вовсе отказываться от товара.
Андрей каждый день сообщал Гинтасу о положении на рынке, требовал снизить цену, но тот повел себя странно. Сначала настаивал на договорной цене, потом стал угрожать, а когда Андрей отказался с ним дальше работать и предложил забрать весь товар со складов, под нажимом обстоятельств согласился снизить цену.
Только было уже поздно. Тогда Андрей предложил отвезти товар в Ярославль, откуда ему поступили заявки. Съездил туда, заключил выгодный договор. Гинтасу же сказал, что никаких гарантий, кроме договора, нет. Людей этих он не знает, ярославский Слава хоть и производит впечатление честного человека, но… Так что может понадобиться контроль службы безопасности.
Гинтас потребовал везти срочно и все отдать на склад в Ярославле, а уж контроль и возможное выколачивание долгов он возьмет на себя. Андрей собрал все спиртное со своих складов и на четырех фурах отвез в Ярославль. Через две недели оттуда позвонил Слава и сообщил, что цены у них поползли вниз, и просил снизить стоимость. Гинтас снова запретил. Андрей напомнил ему московскую затяжку и снова потребовал снижения цен для срочной продажи. Снова отказ. Андрей тогда передал договоры Гинтасу и сказал, что работать с таким жадным твердолобом он отказывается. Гинтас поднял долю Андрея в два раза и познакомил его со своим Капитаном. К морю этот человек отношения не имел, но синих звезд и якорей на его коже действительно имелось множество.
Кончилось все тем, что Капитан выбил у Славы половину суммы долга и растворился на просторах страны. А всю стоимость ярославского товара повесили на Андрея, о чем объявили ему семеро бандитов, ввалившихся в его квартиру. Еще они добавили, чтобы он готовил свою квартиру к продаже, а то они очень беспокоятся о здоровье его красавицы-жены. А один, самый истеричный, все кричал, что обязательно лично его зарежет.
Гинтаса Андрей нашел по телефону в Саратове и вылетел туда на разговор. Друзья вдруг хором отказали ему в помощи и посоветовали выкручиваться самому. Погашать долг за Андрея своей недвижимостью они не желали. Только жена одного из его друзей, подруга жены, через которую он с ними познакомился, пошла на переговоры с Андреем и там поддержала его своим заступничеством: «Я его привела, с ним меня и казните!»
Андрей сказал Гинтасу, что он написал заявление в РУОП и описал там все операции с контрабандой с приложением всех телефонов и адресов фигурантов. Заявление лежит у его соседа, начальника отделения милиции, который ждет его команды пустить бумагу в дело. И если он не вернется завтра самолетом, то тоже запустит. Это подействовало, и от него отступились. Три года Гинтас его не беспокоил, и вот появился снова.
Одно Андрей знал точно, что работать с Гинтасом он не будет. Но страх за бывшую жену, которую могли привлечь на сцену в роли заложницы, у Андрея появился.
Подумав хорошенько, Андрей решил завтра идти в храм. А эту ночь он провел в молитве.
Утром в одном из храмов рядом с Тверской он заказал молебен о здравии Георгия — так он именовал своего обидчика, крещенного в католической вере. Исповедался, выстояв очередь среди интеллигентных пожилых людей. Отстоял литургию перед иконой Богородицы «Взыскание погибших».
Икона эта издавна творила чудеса. К ней приходили девушки просить жениха — и знакомились через несколько дней с приличным юношей. Вдовы после молитв перед иконой спустя некоторое время просили у батюшки благословение на повторный брак. Совсем уже потерявшие надежду люди, погибающие в грехах, обретали здесь покой и утешение.
Встреча с этой иконой для Андрея всегда знаменовала какой-то серьезный новый этап жизни. И вот сегодня, стоя перед дивным образом, искрящимся золотистым окладом, он снова видел живой лик Царицы Небесной, снова испытывал высокий трепет перед святыней, и все его проблемы удалились и рассыпались в прах. Он снова получил заряд духовной силы и чувство полной безопасности.
И даже уличная толчея, тысячи чадящих угаром машин и больные облезлые деревья не смогли снизить того счастливого состояния, которым звенела и сияла его очищенная душа.
Он смотрел на лица людей и жалел их: совсем пропали улыбки, зато напряженные и даже злобные гримасы все чаще застывали на лицах прохожих. Как же они обделяют себя этим пленом мира видимого и тленного! Неужели никогда не будет им доступна чистая радость общения со святостью?
Ну, вот ты, красавица, свысока взирающая на окружающих недомерков ледяным взором прелестных, но мертвых глаз, неужто тебе нравится вот это состояние вялотекущей ненависти и злобы? А скоро ты будешь улыбаться и лгать, продаваться и предлагать себя тем несчастным больным людям, которых ты по своему искореженному представлению считаешь себя достойными. Блестящая дорогая игрушка в руках мнимых хозяев тленного, обреченного на погибель мира. О, если бы ты смогла увидеть свое настоящее лицо, с каким ты родилась в этот мир из рук Создателя! Ты мечтаешь о великой любви, а где и среди кого ты ее ищешь? Нет по твоим адресам не то что любви, но даже простенького сочувствия. Неужели не дрогнет твое заледеневшее сердце, когда ты проходишь мимо добрых людей, способных одарить тебя истинными драгоценностями? Неужели не тянет зайти в храм, где истинная любовь пребывает и животворит, очищает и освобождает от плена лжи в царство истины вечной!?
А ты, вылезающий из спортивной машины с трубкой сотового телефона в руке, любующийся своим крутым имиджем в отражениях витрин и автомобильного лака, не боишься ли ты остаться наедине с собой в пугающей тишине, чтобы убедиться в душевной пустоте? Что дали тебе твои многочисленные игры и игрушки? Однова живем… Главное — не думать о последнем часе. Плыть, пока на поверхности, неизвестно куда.
О, несчастный обманутый мир, как ты себя обделяешь!.. Господи, будь же милостив к этим несчастным жертвам самообмана! По великой милости Твоей прости им, ибо не ведают, что творят!
Любовь его и жалость нарождались в глубине души и изобильно изливались на толпы и потоки людей, словно солнечные лучи сыпались на замерзших и ослепших в темноте. Он жалел их — и ему хотелось плакать о них. Он любил их — и любовь затопляла собою все их темные фигуры, заливая светом всех и каждого. Знали они об этом? Чувствовали? Это не важно! Главное — вот это самое таинственное рождение и излияние… Не от мира сего. Счастливое и чистое.
Земля и Небо
Дома Андрея ждала веселая компания. За распахнутой дверью в комнате Светы за столом сидели раскрасневшаяся хозяйка и шумный усатый горец. Света подхватила Андрея под руку и насильно притащила к столу. Да, сын гор не поскупился: бутылки вина, цветы, салаты в пластмассовых коробках из универсама, копченая курица, балык, сервелат и семга… и прочая, и прочая еда и напитки.
— Это он все для меня! — гордо провозгласила Света. — Ничего для меня не жалеет. Вот это мужчина!
— Я для Светы все сдэлаю. Она у меня царицей будет! — подтвердил горец, выпучив черные глаза. — Садысь, кушай, вино пей. Если ты сосед Светы, ты мой друг!
— Приятного аппетита, господа-товарищи, но я зашел домой поработать на телефоне. У меня рабочий день. Простите меня, — мягко, но настойчиво сказал Андрей и вышел.
«Ох, Света!» — покачал он головой, плотно закрыв дверь своей комнаты.
Взял он график поставки, карандаш и сел за телефон. Через пару часов в паузу частыми звонками ворвался межгород.
— Андрей? Это Гадеминас! У нас тут все срывается! Мы к тебе не приедем.
Голос с прибалтийским акцентом звучал сквозь шум и потрескивание радиопомех. Андрей некоторое время припоминал, кто это такой. Потом вспомнил: помощник Гинтаса.
— Да я вас и не ждал. И Гинтасу об этом ясно сказал.
— В больнице Гинтас, — потерянно бросил собеседник. — Инфаркт у него. Врач сказал, что может умереть совсем. Он тут команду собирал ехать в Москву с кем-то разбираться. Не знаю, как он там договаривался, только они теперь у меня деньги требуют. А у меня все в товар вложено. Может, Гинтас тебе сказал, что мы секонд-хэнд вам хотели отправить. Теперь все срывается, денег даже на дорогу нет. Буду товар здесь продавать, чтобы хоть часть денег вернуть. Так что нас не жди. Пока!
Андрей положил трубку и взял чистый лист бумаги. Написал «Гинтас», затем ниже: «звонок Андрею», «отказ», «команда для разборки», «молитва», «инфаркт», «наезд команды на заказчика», «денежные трудности», «отбой». Андрей увидел перед собой схему. Вот так, по такой схеме снова Господь явил ему Свою милость и заступничество.
Молитва благодарности хлынула из сердца. Он самозабвенно отдался этой светлой силе.
…Но что-то еще нарождалось в той глубине.
И когда молитва завершилась, вместо благодатной радости в сердце ознобным холодом стала расти и крепнуть гордая мысль: «Какую силищу имеет моя молитва! Да я теперь кого угодно по стенке размажу. Ну, кто там еще, подходи!»
«Я же, грешный монах, буду мостить твой путь своей убогой молитвой» — оглушающе-тихо прозвучало в голове. «Старец все это время молился за меня. Старец! При чем здесь я?..»
Он потянулся к молитвослову, нашел молитву Сергию Радонежскому от нападков гордости и стал ее медленно, вслушиваясь в каждое слово, читать: «…Не отступай от нас духом, сохраняя от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый…»
После молитвы заставил себя положить поклоны.
Затем стал размышлять. «Кто я и откуда? Немощный человечишко, во грехе рожденный. Господом одушевленный и вызванный из небытия Его непостижимым замыслом.
Что я могу сам, кроме как погружаться в омут греха? Шага не ступлю без греха, вздоха безгрешного не могу сделать. Если и есть во мне что хорошее, то не мое это приобретение, но от Господа моего. Если дается мне некая сила, то за нее и спросится в тысячу раз больше, чем с немощного. Если и вознаграждаюсь я крохами благодати с Господнего стола, то только лишь, чтобы совсем не впасть в уныние, и для подкрепления слабеющей во грехе души.
Вот мне и показана немощь моя: со страху обратился к молитвам, по милости получил просимое и тут же впал в обольщение лукавым! Я! Мое! Страх животный — твой. Грех сребролюбия, к этому страху приведший, — тоже твой! Где тут твоя заслуга, смерд?
И только теперь вспомнил, по чьим молитвам получил ты свои удачи. Хам неблагодарный. Старец вымаливал тебя. Отказавшись от прелестей земных, молитвенник за всю землю Русскую, каждый день входящий в общение с Небесами. Десятки лет умерщвлявший в себе перстное, земное, греховное. Подвигами своими живущий на пути от земли к Небу. Его молитвы услышаны, а не твои сотрясения воздуха. Его чистая душа, потоками слез умытая, была тебе заступница!.. Прости меня, Господи, гордого, никчемного, грешного, смертного! Не оставь меня ни на миг. Ничего без Тебя не могу!»
Поздно ночью услышал Андрей грохот входной двери. В его дверь постучались. Он открыл. Света позвала его на кухню.
— Ну, как тебе мой новый ухажер?
— Кто он? — устало поинтересовался он.
— Охранник на рынке. Царицей, говорит, сделаю! Не то, что мой пьянчужка.
— Светик!.. Твой, как ты изволила выразиться, «пьянчужка» — муж твой перед Господом! Имеешь ты такого, какого заслужила по своим грехам и добродетелям. Ты любить его обязана, а не выгонять из дома. Вот когда ты вернешь его и сможешь восстановить вашу любовь, только тогда ты станешь счастливой и Богом любимой. Прошу тебя, подумай об этом.
— Вот еще! Да этот Хоттабыч для меня все, что хочешь, сделает! Он любит меня!
— Уверен, что этот предаст тебя при первом удобном случае. Ты для него даже не человек. Игрушка живая. Когда натешится — выбросит. И не говори потом, что тебя не предупреждали.
— Замолчи, замолчи, я все равно не слушаю! — замотала она головой.
На даче
В ближайшую пятницу после ликвидации попытки покушения Юрий заехал за братом и повез его на дачу. Как только Андрей пристроил свою сумку в обширном багажнике и устроился справа от брата, Юрий сунул ему газету со статьей о покушении. Андрей прочел ее внимательно и произнес только: «Значит, подействовало». В это время Юрий выруливал на трассу, забитую машинами, и ругал какого-то «чайника», подрезавшего его справа. Когда они вырвались на загородное шоссе и «Ауди» стремительно и почти бесшумно понеслась по левому ряду прочь от городской суеты, Юрий оживился, обмяк и даже с улыбкой шлепнул брата по плечу:
— Вот так! Мы им еще покажем, у кого козырь старше.
— Не сомневаюсь… — откликнулся Андрей, любуясь легкими перистыми облаками, следующими за машиной по голубому небу над обступающим трассу лесом.
— А ты знаешь, что моя хозяйка пригласила свою кузину. Так что скучно тебе не будет. Впрочем, что это я? Тебе же скучно не бывает, я и забыл.
— Это точно. Всегда есть о чем поразмыслить. Одна проблема — найти покой.
С Аленой, двоюродной сестрой Юриной жены, Андрей однажды уже имел беседу, которая надолго обострила отношения Андрея с его ревнивой супругой.
Девица сия из нового «поколения любителей пепси» не признавала авторитеты и традиции, ломила напролом своей мужской логикой, не выходя при этом из образа ласкового мурлыкающего котенка. Работала девушка журналисткой в шумной газете, и это сказалось не только на ее независимом статусе и поведении, но и на манере вести себя с людьми. Судя по тому, как беззастенчиво Алена разглядывала фигуру Андрея, она была не против предложить свою кандидатуру в качестве альтернативной подруги. После развода с женой Андрей с Аленой еще не виделся. Уж, конечно, девушка обрадуется вакансии, подумал Андрей.
А вот и поворот на узкую дорогу, ведущую через два поста охраны к даче. Спустя несколько минут машина въехала в распахнувшиеся ворота и замерла перед въездом в гараж. Андрей вышел наружу, хлопнул дверцей и прислушался к навалившейся тишине. Это первое впечатление после шума и суеты города всегда его ошеломляло. Зная это, брат не приставал к нему с разгрузкой багажа, выставляя из багажника сумки тихо, без суеты. Андрей прошелся в сторону высоких охристых сосен, обступивших двухэтажный дом. Жадно слушал щебетанье птичек и вдыхал аромат разогретой солнцем хвои.
На этой даче не выращивали овощей. Кроме цветов здесь лишь высокая кустистая малина посажена руками хозяев. А основное богатство — вот эти вековые мачтовые сосны, подпирающие стрельчатыми кронами высокое небо.
— Девчонки, наверное, на речке. Может, и мы сразу искупнемся? — предложил Юрий, открывая ключом дверь дома.
— Конечно, — отозвался созерцатель.
На песчаном берегу реки с широкой запрудой для купания, крашеными лавочками и кабинками для переодевания играли в волейбол, бадминтон, загорали и читали в шезлонгах с полсотни загорелых дачников.
Братья отыскали трех своих «девчонок» и подсели к ним на огромную махровую простыню. В центре этой черной подстилки красовалась большущая долларовая купюра с портретом президента. Вот на улыбающийся рот этого портрета и устроил свои откормленные чресла Юра.
Дамы подняли шум и засыпали их вопросами. Андрей поприветствовав всех, подхватил на руки свою любимую племяшечку и понес ее к воде. В своем желтом купальнике на худеньком загорелом тельце Иришка напоминала тощего цыпленка. Она смело прыгнула в воду и, резво перебирая ручками, поплыла в плеске и брызгах на глубину. Дядя догнал ее и подставил под ее животик свою руку, поддерживая начинающую пловчиху. Когда она продемонстрировала свои успехи в плавании, они предались излюбленному занятию: стоя по грудь в воде, брызгались и, жмурясь и отплевываясь, звонко смеялись. Нахлебавшись воды и вдоволь нашалившись, они доползли до лежбища и рухнули на простыню, подставив заходящему теплому солнцу спины.
— Ну все, друзья сошлись — обо всех забыли, — улыбнулась из-под солнечных очков Лида, мать девочки и жена Юры.
— Дядя Андрей, правда, я уже научилась плавать? — звонко похвастала Иришка.
— Да, Ирина Юрьевна, вы определенно делаете успехи! — лениво откликнулся разомлевший от жары дядя.
— Когда же и мы, недостойные, дождемся вашего внимания? — промяукала Алена из-под широченных полей соломенной шляпки. Из широкого своего арсенала она выбрала позу задумчиво сидящей копенгагенской русалочки, по ее мнению, максимально выгодно и по возможности скромно демонстрирующую изящные лекала ее фигурки. Купальник и головной убор тоже, вероятно, тщательно выбирались на совместном заседании — штабе по разработке операции.
— В порядке очереди, господа-товарищи, как говорится, все лучшее — детям… Ириш, ты согрелась? Пойдем, побродим по лесу.
— Пойдем! — девочка резво вскочила. — Я уже грибы собирала, набрала целых сто белых, вот!
— Надевай шлепки, фантазерка.
Андрей совсем не был готов к разговору с Аленой и решил его отложить.
…Под их подошвами пушистый ковер из разогретой душистой желто-коричневой хвои мягко прогибался и пружинил. По лесу носились и ошалело перекликались птицы. Комаров в этих местах не водилось: за этим следили соответствующие службы. Во время прогулки Иришка выложила все новости своей дачной жизни: и про соседскую кусачую собаку, и про зеленую лягушку, и про грибы, а в конце вдруг спросила:
— Дядя Андрей, тебе Алена нравится?
— А почему она должна мне нравиться? — удивился тот.
— Ну, как же, она ведь красивая, — совсем уже дамским тоном аргументировал ребенок.
— И она первая, кто об этом знает, — проворчал он себе под нос, а племяннице сказал уже громко: — Красота, милая девочка, на моей памяти еще никому не приносила счастья. Совсем, даже наоборот.
— А я буду красивой?
— Будешь обязательно, только никогда не хвастай этим. Вот немного подрастешь, и мы с тобой обязательно вернемся к этой теме. А пока радуйся, что ты маленькая и все тебя любят. Не торопись взрослеть.
Но вот они завершили свою прогулку и вернулись к реке. На том же портретном месте президентской простыни, подставив холеное округлое тело последним лучам розовеющего солнышка, сидел один Юрий и рассеянно глазел вокруг.
— Я отправил дам готовить ужин.
— Это правильно.
После шумного ужина с обменом новостями и сплетнями Алена все-таки утащила Андрея на кухню для допроса. Она устроилась с ногами на диванном уголке, старательно повторив пляжную позицию, и промяукала:
— Говорят, у тебя произошли некоторые изменения. Может, расскажешь?
— О каких тебе известно?
— Ну, говорят, что ты в религию ударился…
— Скажем так: я долго искал истину и пришел к ней.
— Ты считаешь теперь, что истина в религии?
— Господь есть истина.
— Ой, что-то не верится мне в такие резкие перемены.
— Почему резкие? Я лет двадцать шел к этому, всегда хотел понять смысл жизни. И вот нашел. Тут недавно среди своих записей разыскал стихи и рассказы, написанные еще в пятнадцать-семнадцать лет. Так вот, темы все те же: неприятие мещанства, мысли о вечности, стремление к небесным тайнам, рассуждения о монашестве, желание любви, высоких отношений. Так что никаких революций. Я недавно понял, что для обретения веры нужны две основные вещи: во-первых, стремление к правде, во-вторых, просто быть честным.
— Ну, и что дала тебе твоя истина? — в голосе Алены пропали кошачьи интонации.
— То, что все ищут в этой жизни: покой, уверенность, защищенность, смысл земного пути.
— Слушай, если бы меня не подготовили добрые люди, я бы подумала, что ты свихнулся, — прошептала девушка, внимательно рассматривая спокойное лицо Андрея.
— Даже если бы и подумала — не страшно, — улыбнулся он. — Христианство — «соблазн для иудеев, для эллинов — безумие». Сейчас я считаю, что безумием были мои атеистические взгляды. Я только сейчас жить-то начал! Только сейчас смог разобраться в том, что творится вокруг и со мной. Стоит принять истину — и все проясняется. Видны причины и следствия как вселенских событий, так и твоих собственных делишек. И нет уже беспричинного хаоса, есть проявление Божественной воли.
— А не считаешь ли ты, что эта твоя истина может стать очередным тупиком?
— Дело в том, что истину я не просто принял умом, как некую философскую концепцию. Я живу в ней. Я читал у кого-то из святых отцов, что маловерие — это на первых порах нормально. Вера укрепляется по мере прохождения кругов, циклов, что ли, церковной жизни. Это напоминает копилку. Каждая молитва, каждый поклон, каждая служба накапливают в нас веру и… разбивает стену нашей гордыни и тем самым дает возможность Господней благодати входить в наши души.
— Но разве не то же самое и в других религиях?
— Смирение, уничтожение гордыни, постоянная борьба с нею, насколько я знаю, только в Православии. А по смирению — и плоды… Нигде нет столько святых и чудес, нигде Господь так не близок, как у православных. И нигде так не наказывает за предательство и отступничество. «Кого люблю, того и наказываю!» Скажу больше! На свете есть только одна религия, одна Церковь — Православная.
— А разве служители Церкви такие уж безгрешные?
— Священники тоже люди. И как все люди — грешные. Но священство — это ведь не талант, хотя очень немало священников талантливых. Священство передается от одного к другому через рукоположение. А первые священники — апостолы — приняли благодать от Самого основателя Церкви — Иисуса Христа. Вот так по цепочке от одного к другому передается эта благодать, непрерывно от Самого Господа. И не так уж важно, каков человек священник, все равно благодать передается от него каждому приходящему верующему. И опять же от веры нашей и смирения зависит, сколько мы сможем принять этой благодати.
— Значит, даже если от священника разит перегаром и живот свисает до колен — через него передается благодать?
— Безусловно! Здесь необходимо научиться разделять человеческое и Божественное. Как Церковь — это тело Христово в первую очередь, а потом уж и все мы, грешные. Так и человек — это сначала дух его, Богом сотворенный, а потом уж и тело греховное с душой искушаемой. Сначала узри Божье, а потом борись с греховным и тленным. Как нет Церкви без Христа, так и нет человека без Божиего духа.
— Как-то все это сложно пока для меня… — растерянно потерла она наморщенный лоб, довольно широкий. — А вот этот язык, церковнославянский? Половины слов современному человеку не понять. Когда, например, я услышала однажды слова молитвы, там меня насторожило слово «иже»: «Отче наш, Иже еси на небесех»… Помню, подумала: как же так? В тексте молитвы будто заложено сомнение, ведь слово «иже» воспринимается как «ежели».
— Но все-таки ты, наверное, уже поняла, что это два разных слова и, конечно, никакого сомнения у Иисуса Христа в существовании Бога Отца не может быть. Я думаю, что тебе как журналистке ближе всего понимание необходимости церковнославянского языка. В нем нет ругательств, он по-детски чист и очень сильно оберегает чистоту церковных Таинств от внедрения пошлости современного… даже не языка, а сленга русско-советско-одесско-американского. Или вот вспомни такие слова, как «конец», «поиметь», «хотеть», «переспать» и прочие. Какое пошлое и двусмысленное значение они в себе несут, как вот это загаживает и язык, и отношения между людьми. Почему, когда мы читаем романы прошлых лет, то французскую речь аристократии мы воспринимаем нормально? Помню, как в школе меня учили, что этим баре защищали свои разговоры от прослушивания их простолюдинами. Почему же мы не можем признать нормальным, что Церковь защищает свою чистоту языком наших предков? Да и это уже не просто язык, это — как бы проторенная дорожка. Через его смиренное принятие в Царство Небесное благодаря Церкви, дышащей этим языком, уже взошли миллионы людей.
— Да, это, пожалуй, мне понятно. Наш, как ты говоришь, сленг, особенно бульварно-газетный, лично меня иногда доводит до тошноты. И русскому человеку полюбить и почувствовать некую заповедную прелесть церковнославянского языка — это нормально. Ну, хорошо, а как изменился твой образ жизни? Грешить совсем перестал? — снова в ее интонации появилась лукавинка.
— Меняюсь. Постоянно меняюсь. Когда готовишься к исповеди, пишешь на листок все свои грехи. А потом их надо священнику все перечислить. И не дай Бог какой-нибудь замолчать… Тогда вся исповедь не будет принята. Это ведь священника можно обмануть, а Того, именем Которого он, грешный иерей, отпускает грехи, — уже не обманешь. Когда я сначала ознакомился с перечнем грехов (вроде расшифровки каждого смертного греха), я просто ужаснулся! Да мы шага безгрешно не ступаем. Все наше мирское поведение соткано из греха. Но кто ощутил себя грязным, тот уже стремится отмыться. Это становится потребностью…
— Значит, сейчас ты на меня смотришь как на грязную… Ой, позор-то какой! — лицедейски возгласила она, но ноги на пол опустила и юбку одернула.
— Не волнуйся, все не так уж трагично, — мягко улыбнулся Андрей. — Грех — это болезнь души. Ну, не перестает же мать любить своего ребенка только потому, что тот заболел. Она лечит его.
— А ты будешь меня лечить? — уже без своего обычного мяукающего кокетства совсем по-детски спросила она.
— Если только ты сама этого захочешь.
— Андрей… Андрюш, ты простишь меня? — жалобно и тихо пропищала она.
— Прощу… Давай, признавайся! — снова улыбнулся он.
— А я ведь тебя прикадрить хотела… — прошептала она, спрятав глаза.
— А я знаю.
— Ты простишь? — робко подняла она потемневшие глаза.
— Уже простил. Когда-нибудь я расскажу тебе, чем христианское отношение к людям отличается от языческого.
— Почему не сейчас? Мне уже интересно.
— Сначала пусть в тебе уляжется то, что мы тут с тобой наговорили. Все это очень серьезно и непросто. Хоть и звучит довольно обыденно на первый взгляд. Да и спать уже пора — ночь на дворе.
Они разошлись по комнатам. Андрей повесил на восточную стену свою походную икону-складень, встал на колени…
Разговор с братом
Утро началось со звонкого крика Иришки: «Дядя Андрей! Пойдем купаться!» Андрей потянулся к часам — всего семь. Ну да, ребенок привык к восьми часам приходить в детсад. Мама пробовала утихомирить дочку, но та уже вприпрыжку бегала по двору с мячом и громко смеялась солнышку, небу, цветам и всем-всем.
Через полчаса все жильцы дома спустились в просторную столовую, где большой стол был накрыт к завтраку. Неугомонная Лида успела наготовить в такую рань столько всякой всячины, будто всю ночь не ложилась.
— Ну, зачем же столько всего? — урчал Андрей, запивая горячий бутерброд кофе.
— Я всегда говорил ей, что с утра организм еще не проснулся и его нельзя насиловать, — вторил ему Юрий, доедая вторую тарелку овсянки с джемом.
— Скромнее надо жить, господа, — с набитым омлетом ртом пыталась возмутиться Алена.
— А мне нравится! — прозвенела Иришка, вылизывая остатки домашнего йогурта из вазочки.
— Кофе, чай: зеленый, черный, красный? Может, сыра? У меня «Адыгейский», брынза, «Эмменталь»… — не унималась хозяйка.
После завтрака Юрий провел брата в свой кабинет. Никто, кроме хозяина, входить сюда не имел права. Даже уборку помещения делал он сам. Кабинет представлял собой просторную комнату, оснащенную компьютерами, телефонами, факсами; стены заставлены стеллажами с книгами на все случаи жизни, украшены картинами, в углу тихо журчал струями фонтанчик; имелись здесь и телевизионная видеодвойка с музыкальным центром.
Андрей сел в удобное кожаное кресло напротив хозяина и спросил:
— Ну, и что ты думаешь о последних событиях?
— На этот раз я сумел избежать покушения… чудом. Если бы не заметил блеск окуляров бинокля, если бы не профессионализм охраны… Но самое печальное то, что я испытал настоящий страх.
— Ты знаешь, я сначала думал смолчать… — задумчиво протянул Андрей. — Ну, помня наш последний бестолковый разговор. Но, во-первых, возможны рецидивы, во-вторых, мало ли где я могу оказаться, в-третьих, стрессы заставляют смотреть на привычные вещи трезвее, что ли. Поэтому решил все же рассказать тебе кое-что. Только прошу выслушать до конца.
…Неприятности, беды, болезни человеку даются для того, чтобы в своей суете он не забывал о том, что есть силы, которые реально правят этим миром.
Человек создан Богом. Создан для того, чтобы быть царем тварного мира. Чтобы воссоединять мир тварный с Богом. После грехопадения Адама человек повредился в своей природе, в него вошел грех, а вместе с ним и смерть. Каждый человек рождается для того, чтобы пройти путь искушений, победить в себе падшего Адама и соединиться со своим Творцом.
Если он поддается искушениям, то он входит в союз с сатаной и увлекается этим изобретателем лжи и мучений в место мучений — преисподнюю, в ад. Если человек ощущает в себе грех и необходимость от него избавиться (ну, скажем, как чистоплотный ощущает грязь на теле, желая ее смыть), то Господь помогает ему в этом.
Ничего не происходит само по себе, как уверяют атеисты. Причиной всему — эта постоянная борьба за человеческую душу сил добра и зла. И человек сам выбирает в каждом отдельном случае: делать добро или зло. Сам выбирает при этом, какие силы будут ему содействовать: ангелы или бесы.
Конечно, нужно научиться отличать грех от добродетели. Часто мы считаем, что делаем добро, а получаем в итоге зло. Как их различать? Тут необходимо знать первоисточник зла. Это гордыня.
Это она ангела света Люцифера превратила в сатану. Все остальные грехи — производные от нее. Каждому надо знать смертные грехи: гордость, блуд, сребролюбие, гнев, чревоугодие, уныние, зависть. Противостоят этому злу смирение, нестяжание, целомудрие, кротость, воздержание, доброжелательство, упование.
Когда Иисус Христос сказал Своим ученикам о том, насколько труден путь в Царство Небесное, они приуныли, и тогда услышали поистине слова Бога: то, что человеку невозможно, то возможно Богу. То есть просите, молите, кайтесь — и вам простятся ваши грехи, и будет открыт путь в Царство Небесное.
Теперь о несчастиях. Конечно, с точки зрения человека, его беды — это плохо. Мы их боимся, мы от них спасаемся. Но так устроено в этом мире, что любое несчастие Господь направляет на наше спасение, нам на пользу.
И тут опять перед тобой выбор: или ты против обидчиков выставляешь свою агрессию, свое зло и тем самым содействуешь его увеличению и своему уничтожению. Или благодаришь Господа за испытание, за напоминание о том, что все, понимаешь — все! — происходит для твоей пользы, во твое спасение, и делаешь то, что и должен делать: обращаешься к Его защите с покаянной молитвой о прощении своих грехов. И если это на твое благо, ты получишь и прощение, и защиту, а уж как это устроится: блеском окуляров бинокля, правильными действиями охраны или еще как — это уже все будет во власти Бога.
Нехорошо говорить об этом, знаю, но делаю это лишь для твоего вразумления, для безопасности твоей и твоих девчонок, для твоего спасения, наконец! Молился я за тебя, по моей просьбе молились за тебя монахи монастыря, и это — вот что ты должен знать точно — спасло тебя и твою семью от смерти.
В следующий раз меня может не быть рядом. Тогда уж ты, брат, сам все это будешь делать. Как? Я тебе подскажу.
Когда Андрей говорил, брат молчал, задумчиво оглаживая пухлой пятерней большую загорелую лысину. Хорошо молчал. Не было с его стороны желания оборвать брата и снова объявить все это бредом. Значит, проняло. Значит, не зря.
Юрий засел за дела, а Андрей спустился по винтовой резной лестнице вниз. На кухне все еще убиралась Лида. Что-то в ее облике остановило его и настойчиво заставило войти.
— Сестричка, с тобой можно поговорить?
— Конечно, Андрюш, я тебе всегда рада, — откликнулась она, продолжая округлыми плавными движениями вытирать полотенцем посуду.
— Я вот смотрю на тебя и чувствую, что в тебе что-то изменилось. Будто у тебя появилась какая-то внутренняя радость, которую ты почему-то хочешь скрыть.
— Радость? — остановилась Лида и замерла. Потом медленно повернулась к собеседнику и, не поднимая улыбчивых глаз, задумчиво с полуулыбкой напевно произнесла: — Да, ты прав. Это, действительно, радость. Только вот ко времени ли? Столько проблем…
— Хочешь, мы съездим в гости к моим знакомым? — неожиданно для себя предложил он. — Очень хорошая семья. Тебе будет интересно. Давай в понедельник вечером. Ты не против?
— Ладно, давай попробуем. Почему-то думается, что твои затеи только на пользу… Утром позвони, договоримся на вечер.
Андрей вышел на веранду и увидел, как Алена с Иришкой собирают малину. Тетушка рассказывала племяннице какую-то занимательную историю, а Иришка заслушалась и вместо корзинки отправляла ягоды в распахнутый ротик.
Андрей подошел к ним. Присел на корточки перед племянницей. Она взвизгнула и обвила тоненькими ручками его крепкую шею. От Иришки сладко пахло малиной и чем-то еще детским, молочным. Хрупкий, нежный, слабенький человеческий детеныш… Кажется, вот дунет ветер посильней — и сломает его. Ан нет! Есть кому защитить, кому отвести беду и зло. Чем слабее человек — тем сильнее он против зла! Хорошо обученные дяди с лучшим оружием гибнут один за другим. Они входят в группу наивысшего риска и максимальной смертности. А вот такой нежный комочек жизни — последний, кого достанет зло в этом мире. «Сила Моя совершается в немощи».
Андрей распрямился — и девочка со звонким смехом повисла на большом и сильном дяде. Вот тут шалунов и «застукала» матушка и позвала дочку домой.
Иришка, надув губки, понуро пошлепала к маме. Алена отставила корзинку и предложила Андрею прогуляться. Ох, знал он, к чему обычно приводят такие променады, но с потаенным вздохом согласился.
Их путь пролегал мимо зеркала озера в просторный сосновый бор. Кто-то уже тщательно обшарил грибные места, оставив аккуратные пеньки срезанных грибов.
Некоторое время они шли молча. Алена все порывалась что-то сказать, набирала воздух в легкие, поднимала на него глаза, но… снова выдыхала и молча шла рядом. Андрей глядел по сторонам, удивлялся своему петляющему в поисках грибов азартному взгляду, слышал эти дыхательные упражнения, но помогать ей не торопился.
— Андрей, я всю ночь не спала, — жалобно пропищала она, наконец. — И поняла, что люблю тебя, вот…
— Я тоже тебя люблю.
— Правда!.. — воскликнула она и осеклась — слишком буднично это было сказано. И что-то не заключает ее в объятья, не запечатлевает страстного поцелуя на ее устах. Идет себе дальше и глазами рыщет по сухим иголкам и комлям. Вслух же сказала: — Что-то не очень-то верится.
— Почему?
— Ну, как-то не заметно… — потерянно сообщила она, а в голове звенела обида: ну, не буду же я тебе про объятья и поцелуи говорить, чурбан ты, деревянный по пояс… Вслух: — Я ночью несколько раз порывалась пойти к тебе.
— Я знаю. И знаю, что прийти ко мне ты не могла, даже если бы очень захотела.
— Это почему же? — дернула она плечиком.
— Потому что я обращался за помощью именно к тем силам, которые не отпускают.
— Ты издеваешься?
— Совсем нет. Сейчас поясню. У любого мужчины перед Богом только одна жена. Если у меня с этой одной семьи не получилось, то я в этом и виновен. Или я сумею вернуть ее — или буду жить безбрачно. Таково мое решение. А тебя, тем не менее, люблю. Как сестру. Поверь, это выше того, чего хочешь ты. Мы постоянно путаем любовь с похотью. Вот ты сейчас проверь себя. Я объяснил тебе, что со мной никаких телесных отношений не будет. И сколько после этого в тебе осталось этой твоей любви?
— Нисколько, — буркнула Алена и отвернулась.
— А я тебя люблю еще больше. Потому что теперь ты имеешь на меня обиду, зло, и мне нужно будет больше стараться, чтобы сохранить к тебе прежнее доброе отношение.
— А у меня уже никаких отношений.
— А вот это неправда. Когда обида пройдет, тогда и посмотришь трезвым оком.
Хоть и пытался он говорить спокойно, но острое чувство жалости постоянно росло в нем. Еще совсем недавно он бы поддался этой сладкой волне, которая так и раскачивала его. Еще совсем недавно он бы безумно радовался этому признанию красивой, неглупой, воспитанной девушки. Но сейчас между этой, как говорят, естественной реакцией и его душой, требующей очищения, выросла мощная стена. Такую же он строил и в ее душе своей ночной молитвой. Он знал, как ей сейчас плохо, как вопит ее женское самолюбие, но потакать ее похоти и гордыне он уже не мог. Не имел права.
— Прости меня, Аленушка, я знаю, что тебе сейчас плохо. И я хоть непроизвольно, но все же виноват в этих твоих переживаниях. И готов загладить свою вину. Я буду тебе не просто братом, а очень хорошим братом. Буду заботиться о тебе, помогать, защищать тебя от врагов. Сопельки тебе вытирать.
Он вынул носовой платок, повертел, проверяя его чистоту, и приложил к ее мокрым глазам.
— А погулять теперь с тобой можно будет? — сквозь слезы и улыбку, всхлипы и вздохи спросила она.
— Не только можно, теперь просто необходимо! Ведь мы брат и сестра, и обязаны отвечать друг за друга. Ну, что — мир?
— Чурбан ты все-таки! И зануда. Такая бы партия получилась… — улыбнылась она, вытирая покрасневший нос.
— Конечно, чурбан, только в печь не бросай, — покладисто согласился он, зацепил большой палец левой руки за воображаемую жилетку, правую руку выпростал вперед и шутливо провозгласил: — Есть такая партия!
«Крутой» сосед
Солнце поднималось все выше. Жаркое марево обволакивало дачный поселок, проникая в каждый уголок дома, под навесы и сень деревьев; густыми слоями нависало над прудом и надувными бассейнами, где плескались дети и собаки. Юрий, поминутно отирая пот с гладких щек, упрямо ковырял лопатой присохшую землю под цветы. Андрей таскал из дома какие-то замысловатые корневища и втыкал их в ямки под руководством Лиды. Алена с Иришкой поливали лейками только что посаженное.
Скрипнула калитка, и по гравийной дорожке заскрипели чьи-то тяжелые шаги.
— Надо же! Только что видел тебя по телевизору в новостях — и вот уже ты собственной персоной, — Юрий снял белую тряпичную перчатку и протянул гостю руку. — Знакомься, Борис Борисыч, брат мой Андрей. Младшенький… Остальное ты уже знаешь.
«Остальное» криво усмехнулось, но смолчало. Андрей тоже снял перчатки, поднялся с колен. Лысоватый господин и ему протянул вялую, влажную от пота ладонь.
— Борис, может, по стаканчику холодненького? — Юра порывисто шагнул на веранду. — Андрей, ты тоже глотни кваску, Лидок его ставила. Я-дре-нааай!
— Можно, если холодненького, — привычно принимал проявление уважения к своей несомненно важной персоне господин в грязно-белых теннисных шортах. — Да я потрепаться зашел. Дома жарко, народу полно понаехало, а поговорить не с кем. Скучно, сосед… В тебя вон хоть стрелять собирались, все развлечение какое-то. А у меня одна болтовня да бумажки. А говорят: власть!..
— На вот «божолю» твою любимую, бедолага ты наш.
— «Божолюшку» — это хорошо, — он отхлебнул большой глоток из запотелого стакана, пополоскал рот и удовлетворенно проглотил. — Звонил на Петровку, мне доложили, что всю эту банду, что готовила покушение, уже арестовали. Твой генерал хорошо сработал, умеет людей своих защищать. Только все равно — его или сломают, или купят. Ладно, хватит о работе.
Он повернулся к Андрею и долго изучал его. Андрей потягивал квас и безмятежно любовался проделанной земляной работой. Там, на грядке, все еще копались «девчонки», ворча на прохлаждающихся мужиков, духоту и прогнозируя грозу.
— А ты, Андрей, чем на хлеб зарабатываешь?
— Строю.
— Мне нужен в помощники свой человек. Вокруг меня на работе одни сволочи продажные. Юрик говорил, что ты честный малый. Хочешь со мной поработать?
— Не-а.
— Ты ж не знаешь еще ничего.
— Как не знать. Справки, отчеты, звонки, стукачество, деньги, опять деньги, загранкомандировки, машина, дача, страх, инфаркт.
— Во дает! — сосед метнул в Юру взгляд. Тот молча улыбался. — Это вот так об нас народ думает?
— Я не ругаюсь матом, поэтому мнение народа «об вас» пока замолчу.
— Слушай, Андрей, ты мне нравишься все больше. Ты первый за несколько последних лет, кто так со мной говорит.
— Это потому, что за забор этого дачного местечка такие, как я, обычно не попадают.
— Ладно, парень, ладно. Давай пока нежные чувства народа к своим верным слугам, как ты говоришь, «замолчим». Тебе чего, денег не надо? Да перед тобой на задних лапках целые регионы будут прыгать. Это же власть! Это же — силища! — сосед мазнул по лицу обильно выступивший пот.
— Я где-то читал, что богатый — это не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает. В этом смысле у меня все в порядке. А власть… ложь все это. Все те, которые у нынешней власти, — марионетки деревянные, не больше. А это опьяняющее чувство своей значительности — от слепоты и помрачения ума.
— Это что-то новенькое, — сосед встал и навис своим округлым животом над сидящим в низком шезлонге Андреем. Юрий, еле сдерживая смех, любовался мизансценой.
— Наоборот, старо все это, как наш падший мир, — Андрей говорил тихо, почти шепотом.
— Борис, я же тебе говорил, что он не такой, как мы, — все шире улыбался Юрий, глядя на своего нервного соседа.
— Как это не такой? У него что, две головы или он не мужик? — вздрагивая потным животом, вопрошал сосед. — Или он чокнутый совсем? Э, нет! Вот это вряд ли… Тут что-то другое. Тут принципиальное! У меня подчиненные аж подметки рвут — лезут наверх, а этот… мягко выражаясь, брат твой, понимаешь, и ухом не ведет. Я ему такое! А он… Так что попрошу ваших объяснений, молодой человек!
— Что это вы так… шумно? Было бы из-за чего. — Андрей указал на лавку — сосед послушно сел. — Что странного в том, что я не жадный? Ну, не надо мне ваших золотых игрушек. Примите это как аксиому, как мое право выбора, что ли. Есть у меня все, что нужно. И не потому, что я такой талантливый или сильный, а потому, что дается мне все это ни за что! И чем более ни за что, тем более я могу иметь.
— Во завернул! — сосед снова зыркнул на Юрия, ища поддержки, но тот лишь вежливо улыбался. — Ну-ка, Юрик, плесни еще, что-то не понял без бутылки. Как это «ни за что»? Ты наследник Онассиса? Кладоискатель? Это где ты видел бесплатные пирожные? В мышеловке?
— Вот видите, какую очередь ложных догм вы изволили выдать. Вам так сказали — вы и повторяете. А не пробовали в них усомниться?
— Так ведь на практике каждый день догмы эти проверяем. «Я начальник — ты дурак», «Что потопаешь — то полопаешь», «Как подмажешь — так поедешь» и тэ де. Как это: «ни за что»? Все нужно мозгами своими прокапать, все ножками протопать, мелочишкой прозвонить, а как же!
— Вы забыли, Борис Борисыч, еще одно — совесть придушить, чтобы не особенно вопила.
— А ну-ка покажи мне этот орган! Вот голова, вот рука, — тыкал он пальцем в части своего тела, — вот пузо, вот… не скажу что… А где эта — как там ее?.. Может быть, раньше она у кого-то и наблюдалась, только эти реликты уже в музеях под стеклом пылью покрылись.
— Если бы так было на самом деле, то все бы уже кончилось. На этих особях с этим органом, все еще живых, несмотря на ваши упорные усилия, вся жизнь пока и держится.
— Как говорят математики, за малостью величины давайте ее отбросим.
— Это не математика. Здесь все наоборот — малость эта всю жизнь на себе держит. Хотя думаю, что можно и математически кое-что изобразить. Ежели корректно поставить условие задачи. Совесть — это голос нашей души. Душа человека вечна, она навечно создана и дарована нам ни за что. Таким образом, все конечное (деньги, власть человека, жизнь с ее удовольствиями и пр.) по сравнению с бесконечностью превращается в ничто. Чтобы оценить, разделите любую конечную величину на бесконечность — и получите в результате нуль. Теперь ответьте на вопрос (себе в первую очередь): зачем целью жизни делать конечное, когда при этом бесконечное остается забытым и невостребованным? Зачем тешить себя каплей-другой, когда рядом — океан безбрежный?
— Это опять же, если… — сосед покрутил пальцем вокруг головы, — она бесконечна. Душа… А вот это нужно доказать.
— Вот этим и займитесь. Это дело, достойное настоящих мужчин. Чего зря ими капать, мозгами-то, чтобы потом от стенокардии лечиться и от ожирения?
— Юрик, мне бы такого в мою псарню — всех своих полканов на цепь посадил бы. — И затем, повернувшись к Андрею и указав пальцем на его нательный крестик: — Так, значит, это не бижутерия? Это у тебя серьезно?
— Это всегда и у всех серьезно.
— И вот это дает тебе «ни за что» — все?
— Не все, а то, что для вечного необходимо. Полезное.
— Может, научишь?
— Это пожалуйста. Мой телефон — у брата.
— А работать со мной — это к тебе бесполезно?
— Лучше вы со мной. Честные деньги — это такое богатство!
— Слушай, Андреище! Я все понял! Мы с тобой похожи. Мы с тобой обладаем властью, властью над людьми. Я даже допускаю, что ты — большей, чем я…
— Снова ошибочка. Я — никто. Ничего своего не имею. Я нищий с протянутой рукой. И если мне много подают, то мне много и раздать надо. Так что вам от меня никакого проку не будет.
— Хорошо я тут у вас освежился! Юрик, проводи, пожалуйста, до калитки. Андрей, не прощаюсь.
После обеда здесь все разбредались отдыхать: взрослые с удовольствием, Иришка с обычным нытьем и ворчанием — она считала расточительством тратить на сон драгоценное время, когда все ее любимые взрослые рядом. Впрочем, засыпала она всегда сразу, а просыпалась последней.
Андрей это время использовал для написания писем. С детства он наблюдал, как его бабушка вела переписку, и с москвичами, и с иногородними. Она поясняла внуку, что письма помогают углубить отношения, потому что не все удается выразить в разговоре: возможно стеснение, не всегда можно найти удачный аргумент, точное слово. А во время написания письма можно взять любимую книгу, выписать цитату, не торопясь подумать… Да и написанное слово имеет и больший вес, и воздействие посильнее, да и некоторую ответственность налагает, потому как может всплыть из прошлого в самое неожиданное время и в необычной ситуации. Бабушка тщательно подшивала письма в папки, всегда аккуратно отвечала на них. Этому научился и Андрей.
Иногда его письма занимали десять, двадцать, а то и больше страниц. От бабушки ему достался золотой «паркер», писать которым доставляло удовольствие. Его тонкое пластично-крепкое перо исправляло почерк, изуродованный шариковыми ручками, до каллиграфического изыска.
Сегодня Андрей должен закончить письмо тетушке в Абрау-Дюрсо. Он уже неделю составлял план, искал подходящие фразы, чтобы, не обидев пожилого человека, развеять ее просоветские заблуждения, поддержать ее в той безнадежности, в которую она впадала из-за нехватки пенсионных денег.
С тетушкой проживала его другая племянница, Аня, существо совершенно очаровательное и светлое, как лучик солнца. Надо было и для нее найти простые, но очень важные слова, трогающие душу, потому что от переполняющей ее энергии и избытка доброты она кормила со скудного бабушкиного стола всех кошек и собак в округе; занималась то танцами, то спортом, то пением, но при этом бесцельно и импульсивно, лишь бы куда себя деть.
Письмо писалось легко и успешно, этому способствовали тишина и предварительные размышления. Он находил удачные примеры и точные слова, строка за строкой, — получилось больше десятка страниц.
Вечером у братьев состоялся еще один разговор.
— Судя по программе твоего шефа, он хочет опираться на правду и честно добиваться власти. Не мой это уровень — решать, возможно ли это все на практике в нашем мире, где правят деньги. Без больших, без очень больших денег — войти во власть невозможно. А в основе любого солидного состояния обязательно лежит или воровство, или кровь. Но, кто знает, может быть, как-то и заладится… Так вот, я хотел тебе сказать вот что. Этой ночью я читал Деяния апостолов и там вычитал нечто очень интересное для тебя. Может быть, это поможет найти путь?
После воскресения Христа апостолы стали ходить по городам и весям и благовествовать истину во Христе. Как-то в Иерусалиме апостолов схватили и привели в суд. На суде один из фарисеев по имени Гамалиил обратился к народу и сказал, что незадолго до этого ходили по Иерусалиму проповедники Февда и Иуда Галилеянин, увлекли за собой сотни людей своим учением, но были убиты, и народ их рассеялся. И тогда сказал Гамалиил, что апостолов нужно отпустить, «ибо если это предприятие от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками».
И вот смотри, брат: сколько было с тех пор проповедников и философов — и где они? А вот за Христом пошли миллионы людей и вошли в Царствие Небесное. Какая книга самая издаваемая и читаемая в мире? Библия! Почему нас терпит еще Господь и не сотрет с лица земли, как плесень? Только потому, что еще живо Православие. Это единственный лучик света в царстве всеобщего зла и лжи.
Вот я и предлагаю тебе подумать о том, чтобы основной идеей вашего политического движения стало Православие. Тогда за вами пойдут действительно честные люди, лучшие из людей. Тогда вам и помощь, и защита, и благословение будут, как от Церкви земной, так и от Церкви небесной.
— Интересно, как ты себе это представляешь? Что-то я даже приблизительно не могу понять, как это можно воплотить в реальной жизни.
— А тут и придумывать нечего. В стране православной не может быть иного государственного устройства от Бога, кроме монархии.
— Ну, это ты брось! Какая монархия! Да скажи кому — засмеют. Царя-батюшку снова поставить!
— Пусть смеются! Скажу больше: такой шум поднимут на весь мир, что мало не покажется! Революцию профинансировать, десятки миллионов лучших людей загубить, чтобы Православие растоптать. Теперь получается вроде то, чего они так хотели, — Святая Русь становится послушным сырьевым придатком, свалкой радиоактивных отходов и залежалого товара. Народ опять же потихоньку американизируется, голубеет и спивается. И вдруг снова: власть Божиего помазанника, подотчетного не антихристу, а Богу! Да, уж не только шуму будет, все что угодно начнется.
— Слушай, в наше время — царь-батюшка? Не укладывается как-то.
— Ладно, давай по порядку, — Андрей сходил в свою комнату за книжкой Н. Кусакова «Православие и монархия». — Вот я тут подчеркнул, сейчас зачитаю: «Вместо стремления к тому, чтобы в государстве совершалась воля Божия, республика и демократия стремится к исполнению воли народа, которая направлена на поиски земного благополучия и на удовлетворение эгоизма, измеряемого по нормам сребролюбия, которое есть корень всех зол.
То есть демократия становится повинной в противлении заповеди, звучащей в молитве Господней: “Отче наш… да будет воля Твоя”.
Следуя в русле эгоистической воли народа, демократия нарушает заповедь “Не следуй за большинством на зло” (Исх. 22, 2), ибо в стремлении к земному благу большинство легко склоняется ко злу, прикрывающемуся ликом добра. Дальше.
Порядок замещения должностей в демократическом обществе противоречит законам христианского нравственного учения о смиренномудрии. В выборных кампаниях кандидатами движет властолюбие, они неизбежно открывают в сердцах дорогу страстям и как естественному следствию — гордости и честолюбию, которые подстегиваются сребролюбием. Страсти застилают глаза настолько, что эти люди предаются пороку лжи.
А царь — избранный по рождению, свободный от малейшей тени губительной для правителя страсти властолюбия и сребролюбия, — он несет обязанность царствования, имея полноту власти законом земным и пребывая в рабском подчинении небесному закону Божией правды.
Так православное христианство освоило, подчинило себе и освятило языческий институт монархии. Так построилась Святая Русь. На этом основании возросла и Российская империя».
— Это мне кажется самым основным, — сказал Андрей, закрывая книгу. — Впрочем, я готов тебя свести с настоящими монархистами, они тебя просветят профессионально.
Разгул стихии
Перед сном Андрей за вечерним чаем на веранде молча наблюдал за Аленой. Она в его сторону не смотрела, обида все еще владела ею. Лида, чувствуя напряжение, щебетала на разные темы, чтобы заполнить гнетущее молчание и создать хотя бы видимость «бонтона».
Поднявшись к себе в комнату, Андрей опустился на колени и попытался сосредоточиться. Но в душе поднялась смута: звучали слова, сказанные Юрию; звенел смех племяшки, перед глазами мелькали разные картинки, одна другой ярче и увлекательней. Затем и тоска вонзилась в душу холодным стальным клинком. А вот и блудные токи потекли сверху вниз, разогревая кровь. Некоторое время он не мог даже слова выдавить из себя, правая рука отяжелела и не желала подниматься для ограждения спасительным крестным знамением. «Вот и враг меня искушать пришел», — кольнуло страхом затылок.
Тогда Андрей лег на дощатый пол головой к иконам, руки вытянул перпендикулярно телу, изобразив таким образом крест. Первые слова он произносил с большим трудом, будто кто-то зажимал ему рот мягкой, но сильной ладонью: «Во… и…мя… От…ца… и… Сы…на и Святаго Ду…ха!» Полежал безмолвно, прислушиваясь к утихающим в душе волнам блудной горячки, щеку приятно остужала прохладная лакированная поверхность досок пола.
Дальше молитва пошла уже легче, слова произносились свободно, но картинки, как в калейдоскопе, продолжали рассеивать внимание. Тогда он попробовал произносить слова молитв медленно, без пауз, всей силой воли своей погружая ум в каждое слово, пытаясь не потерять его смысл. Он как бы впервые читал эти слова, обнаруживая в них древнюю святую силу.
Эти молитвы он воспринимал тропой, проторенной святыми молитвенниками через мирскую трясину — прямо на Небеса. Одновременно и воплем горящей во грехах души!
Вязнув каждым своим шагом, продирался он по этой тропе по раскисшему полю своего сознания, затянутого блудной трясиной. Но вот его внимание окрепло, как бы вышел он на крепкую почву.
Вот уже шаг за шагом, обливаясь горячим потом и покаянными слезами, все более униженным и грязным ощущая себя, все более вжимается он в низину деревянных досок пола, но при этом — его все выше вздымают невидимые руки в гору.
Молитва свободно звучит в каждой его клетке, не оставляя места ни единому постороннему вторжению. И вот он уже стоит на вершине горы, где только он и… Тот, к Кому с таким трудом пробивался. В эти мгновения душа замирает, и он в восторге застывает, боясь неверным движением своего грешного естества нарушить это гармоническое единение с Великим и Непостижимым, Светлым и бесконечно любящим его…
…Душная напряженная ночь не приносила сна. Иисусова молитва творилась сама собой, плавно и ритмично. Она будто жила по своим надмирным законам в человеческом естестве, ей для этого гостеприимно предоставленном.
Снаружи коттеджа происходили шумные грозные события. Сверкала молния, протяжно рокотал гром. Порывы ветра с воем и свистом ударяли в стены, сотрясая их. Скрипели ветвями и шелестели кронами деревья. Даже пол уже ходил ходуном. Залетевшие все-таки в комнату комары остервенело набросились на влажную от пота кожу, занудно звенели и больно, до крови, кусали. По крыше и подоконникам, оконным стеклам и асфальту барабанной дробью грохотал крупный град. Завывали на разные голоса противоугонные сирены автомашин.
Андрей все это, конечно, слышал и чувствовал, но ему казалось, что происходит это в другом мире, где нет плавно и ритмично работающей в полной душевной тишине чудесной молитвы.
Утро застало его лежащим перед иконами с раскинутыми крестообразно руками. Он не помнил, спал ли вообще, так как молитва хоть и несколько утихла, но продолжала свое самодвижение где-то глубоко внутри, а сознание полностью внимало окружающему, хотя и отстраненно.
Он вышел наружу. Странная картина открылась ему. На территории Юриной дачи не было повреждено ни одно растение. Даже длинные и хрупкие стебли цветов и высокие кусты малины только слегка прогнулись под тяжестью влаги. Целыми оказались все оконные стекла и натянутые между столбами провода.
Зато за забором творилось нечто страшное. Буквально в пяти метрах переломился пополам мощный ствол столетней сосны, подмяв под себя крышу соседского джипа. На проводах висел сломанный железобетонный столб линии электропередач. Половина деревьев имела открытые переломы стволов или ветвей. Соседские цветы будто слон втоптал во влажную, иссеченную градом землю.
— Ну и повезло же нам! — услышал Андрей за своей спиной голос брата.
После спешного нервного заглатывания кофе под слезы прощания с маленькой одинокой девочкой братья возвращались в Москву. Дороги были переполнены возвращавшимися в город машинами. Ураган везде оставил свои разрушительные следы. Особенно досталось рекламным щитам: почти все они имели растерзанный вид. По мере приближения к кольцевой настроение ухудшалось, в душу влезали суета и сонмище проблем. Мегаполис, отпустивший свои жертвы передохнуть на свежем воздухе, снова втягивал их в круговорот денег, власти и порока.
Имелись такие, кто пытался бороться со злом своими силами или в составе силовых организаций, но странным образом их борьба лишь увеличивала количество зла, уничтожая борцов кого чем: деньгами, властью, пороком — теми же инструментами, с которыми им приходилось вести войну.
И только очень немногие не желали подчиняться этому сладкому яду и ограждались небесным заступничеством. Андрей вспомнил, как читал слова афонского старца городскому паломнику. Этот человек, живший уже «на пути от земли к небесам», сказал, что Господь больше любит тех, кто живет среди порока, потому что «где увеличивается беззаконие, там преизобилует благодать». И еще он вспомнил из сборника духовных советов: «Где лучше спасаться, отче?» — «В городе рядом с монастырем.»
Вот только как жить, чтобы уберечься от греха, который так мимикрирует, так ловко приспосабливается и утончается? Только вчера здесь проживало благо — и вот уже сегодня под его оболочкой брызжет ядом порок. Не дай, Господи, попасть в сети лукавого, так искусно им расставленные. Просвети разум светом истины Твоей! Защити и спаси, не остави без Твоего несокрушимого покрова.
В гостях у отца Сергия
Вечером Андрей сидел на лавке и высматривал в плотном потоке машин, несущихся по Кутузовскому проспекту, белую «Ниву» с кокетливыми спойлерами, в которой ездила Лида.
За его спиной на асфальтовом пятачке резвилась местная юная поросль. Одно из них, неопределенного пола, подсело на скамейку, поправило крепления роликов и, взлохматив и без того бесформенную копну светлых волос, ткнуло локтем Андрея в бок:
— Слышь, мэн, покурить-то дай! — услышал он звонкий девичий голосок.
— Не курю… — Он не отрывал взгляда от дороги.
— А что еще ты не делаешь?
— Много чего…
— И не скучно?
— Мне очень жаль тебя разочаровать, но это явление мне незнакомо.
— Ладно, если так, то скажи, чем тогда оттягиваешься? Ну, расслабляешься как?
— А зачем?
— Ну, как это… так все делают…
— Ты что, из колхоза имени двадцатого съезда? «Мы, все как одна, доярки колхоза двадцатого съезда, от имени всех женщин Земли и тэ дэ…» Чего за всех-то говоришь?
— Ты даешь…
— Здесь ты попала в точку. Вот тебе и разгадка. Когда не берешь, а раздаешь, то и расслабляться ни к чему, и скучать некогда. Наоборот, каждую минуту жизни ценишь, а не давишь их, как клопов.
— Уууаауу! Значит, ты крутой? Так бы и сказал.
— Человек я, а не пятиминутное яйцо на завтрак. Чело — это разум, век — вечность. Получается, что вечный разум, или разум, устремленный в вечность. Так что тут как-то со скукой нестыковка, не до этого…
Андрей оторвал свой взгляд от дороги и направил его в глаза девушки, скрытые, как у пуделя, прядями волос. В наглой круглой черноте зрачков ее по очереди промелькнули вызов — смятение — смущение. «Значит, жива еще. Повзрослеешь — обезьянничать прекратишь».
— Гм… простите, я это… — она шмыгнула носом.
— Ладно, на вот тебе, — он протянул пару конфет. — Это лучше курева и роликам не помешает.
— Простите…
— Чего там, будь здорова и не скучай!
Перед лавкой со скрипом тормознула белая «Нива», Лида открыла дверцу и напевно позвала Андрея. За рулем сидела уже не хлебосольная дачница, а уверенная в себе дама в элегантном фисташковом костюме с лихо развевающимся шелковым шарфиком на длинной шее. Он сел в машину, и они довольно быстро доехали до нужного дома на Минском шоссе.
По дороге Андрей рассказал, как познакомился с отцом Сергием. Было время, когда он метался по храмам и искал священника, который помог бы ему очистить душу от грехов. Один священник раздражал его своей полнотой (Андрей считал, что большой живот свидетельствует о чревоугодии). Другой был слишком мягок, иногда даже оправдывал его грехи, говоря, что другие и больше грешат, и ничего страшного… Третий постоянно лукаво улыбался и постоянно принимал без очереди тех, кого ему подводили; в результате многие из очереди исповедаться не успевали.
Отец Сергий с первой же исповеди наложил на Андрея епитимью, заставив его за каждый год, прожитый в грехе вне Церкви, класть земные поклоны. Сначала это наказание его возмутило, но потом, после снятия епитимьи, он понял, что к Причастию приготовился по-настоящему в первый раз.
Суровость отца Сергия к грехам вознаграждалась почти детской радостью, которая исходила от него, когда он наблюдал исправление исповедника. Тогда не было человека добрей его. Однажды на исповеди Андрей признался, что перед Причастием он каждый день, кроме ежедневных молитвенных правил, читал по три канона, каждый день посещал храм, но… вот только во время поста на собственный день рождения ему пришлось есть рыбный салат со скоромным майонезом. Андрей думал, что строгий батюшка к Причастию его не допустит, но отец Сергий тогда улыбнулся, расцеловал его и воскликнул: «Ну, и порадовал же ты Господа!»
После нескольких исповедей у этого священника он понял, почему к нему выстраиваются самые длинные очереди исповедников. А однажды он дал Андрею свой домашний телефон, и они стали довольно часто перезваниваться, а также встречаться в гостеприимном доме батюшки.
На лифте Андрей с Лидой поднялись на пятый этаж и позвонили перед обитой кожей дверью без глазка. Открыл бородатый мужчина лет пятидесяти в свитере и, радушно улыбаясь, впустил их в дом.
— Добрый вечер, отец Сергий. Познакомьтесь с женой моего брата Лидой.
— Милости просим.
В прихожую заглянули по очереди несколько смешливых детских физиономий. Гости обулись в домашние тапочки, и Андрей, сложив ладони лодочкой, подошел под благословение, приложился губами к руке священника. Они троекратно расцеловались. Отец Сергий благословил крестным знамением его, потом несколько смущенную Лиду и пригласил их в гостиную. Из кухни на минутку заглянула улыбчивая круглолицая матушка в цветастом переднике, поздоровалась и извинилась, что не успела к их приезду с ужином, попросила еще десять минут. Лида протянула ей большую коробку конфет и красивую банку чая.
Батюшка проводил гостей в большую комнату, которую он называл «зал», и усадил на диван. Вся стена напротив увешана иконами, несколько совсем темных, видимо, древних. У торцевой стены перламутром блестит березовыми панелями и голубоватыми стеклами книжный шкаф с сотнями книг. Лида пробежала глазами по корешкам книг: церковно-служебные, святоотеческие, справочники, энциклопедии, художественные и публицистические издания. Отдельно стояли древние книги в металлических окладах, некоторые украшены камнями.
— Этот шкаф отец Сергий строил своими руками.
— Да, с ним связана целая история. Однажды пришлось нам с матушкой скрываться от властей в совершенной глуши. Матушка помогала нашим хозяевам в огороде, а я вспомнил уроки своего отца по столярному делу. Недалеко от деревни находилась заброшенная мебельная фабрика. Там целые горы старых досок. Местные их растаскивали на дрова. Познакомился я со сторожем и стал туда ходить каждый день и выбирать доски одной породы, текстуры и примерно одного размера. Натаскал вот так потихоньку целый сарай. Обошел деревенских, собрал заказы на мебель. Тогда мебель купить было трудно, вот и оказалось, что чуть ни в каждом доме нужен какой-нибудь предмет: стол, шкаф, полочки, сервант. Стал я собирать мебель. Работой увлекся, выдумывал разные замысловатые эскизы, некоторым заказчикам делал даже резьбу, благо от отца у меня остался знатный инструмент и я захватил его с собой.
Много всего тогда настроил… И заработок был, и удовольствие, и польза людям. Вот матушка и попросила нам что-нибудь сделать. Тогда уже у нас много книг собралось, поэтому решил я сотворить шкаф. Больше всего мне нравится береза. Из березовых дощечек я его и стал строить. Собрал без клея, на одних шпонках, показал матушке, полюбовались мы, да и разобрал снова. Поставил в сарай до лучших времен, а потом, когда представилась возможность, вывез из деревни и вот дома собрал. Так получилось, что восемь лет простояли заготовки в сарае, и не только не испортилась древесина, но еще больше засияла. Смотрите — чистый перламутр!
Батюшкина речь успокоила Лиду. Она почувствовала к нему бесконечное доверие, как к родному. Отец Сергий говорил негромко, красивым баритоном. Длинные крепкие пальцы постоянно перебирали шерстяные четки. Светло-серые глаза смотрели мягко, обволакивающе. Во взгляде искрились ум, мужественное спокойствие и всепонимающая доброта мудреца. Вместе с тем в батюшке проскальзывала застенчивость, и это совершенно подкупало его собеседницу. Она представила его в костюме и подумала, что такой мужчина, наверное, ни одну женщину не оставил бы равнодушной. Но потом вдруг спохватилась и стыдливо отогнала эти мысли, до того неуместными и глупыми они ей показались. Загорелые щеки ее залились румянцем смущения.
Вдруг двери распахнулись — и в комнату влетели дети. Им, наверное, сказали, чтобы они не беспокоили гостей. Терпели, терпели они, но любопытство взяло свое и, набравшись решимости и пошалив для разминки в детской, гурьбой вкатились они в комнату взрослых.
— А вот и мои сорванцы, — улыбнулся отец, широко расставив длинные руки. — Да, долго же вы молчали, мышки-шалунишки!
Все четверо ребятишек от года до семи лет разом оказались в отцовских объятиях. Они еще громче закричали, засмеялись и вцепились в папу, озорно и с любопытством поглядывая на гостей. Поняв, что гости смирные и наказывать их вот так сразу не будут, они шквалом прокатились несколько раз по залу, потом рассредоточились.
Самый маленький озорник подбежал к Лиде и вдруг прижался к ее коленкам. Она подхватила его на руки — и вот уже прижимает к себе, чувствуя грудью частое биение его сердечка. Карапуз притих и вблизи, глаза в глаза, изучал незнакомку. «Это хорошо, что ты пришла!» — то ли мальчик сказал, то ли ей почудилось…
Но вот они и сели за стол. Батюшка мягким баритоном красиво пропел молитву, благословил еду крестным знамением, и они весело зазвенели немудреной посудой. Матушка приготовила грибные пельмени. Лида еще таких не пробовала. Отец Сергий рассказал, что грибы — их любимая еда. Собирают они их сами. А уж матушка научилась делать из них сотни разных яств.
Дети за столом притихли и вели себя почтенно, по-видимому, уважение к этому действу у них воспитывалось с самого рождения. Лида ела необычные пельмени и получала от блюда не только удовольствие вкусовое, но и нечто пока ей неведомое.
Потом они пили чай из самовара. Электрического, с хохломской росписью. Матушка подала горячие плюшки, клубничное варенье. Дети шумно разбирали принесенные Лидой конфеты в разноцветной фольге. Лиде в стеклянную розетку положили немного чего-то ароматного и зеленоватого. Предложили попробовать и отгадать, что это. Лида продегустировала и призналась, что угадала вкус фейхоа. Сама при этом чувствовала себя пресыщенной обжорой. Матушка весело похвалила ее и рассказала, что недавно к ним приезжали друзья из Ялты и привезли эти протертые с сахаром тропические плоды из Никитского ботанического сада.
После чая матушка повела детей в их комнату, туда же отправился и Андрей. Из-за двери слышно было, как он читал им сказку. Лиду посадили в кресло, и батюшка стал расспрашивать ее о семье и детях. Когда он узнал, что дочка у нее одна, то искренне удивился:
— Как же можно справиться с одним ребенком, ведь это же трудно. Когда детей много, то они сами себя и воспитывают, и развлекают, и доброте учатся.
— Не знаю, отец Сергий, так кажется, что заведешь двоих — и совсем погрузишься в проблемы. Потом время неустойчивое: сегодня ты имеешь деньги, а завтра ты можешь остаться без работы и денег. Сколько моих знакомых остались за бортом этой жизни, не вписались в новые условия.
— Эти все мысли, Лидочка, от лукавого. Если Господь дает детей, то дает и возможности их воспитания. А вот я знаю из своего опыта, что если в семье один ребенок, то с ним больше проблем, чем если бы их было десять. Ведь из таких несчастных одиноких детишек и вырастают эгоисты, деспоты и разбойники, — батюшка встал и подошел к иконам, перекрестился, прошептал молитву и снова обернулся к Лиде.
— Нам враг постоянно внушает, что это мы кормим, мы зарабатываем, мы вправе решать, сколько детей нам иметь. А ведь на самом деле совсем наоборот. Господь дает детей, Он же дает возможность нам их кормить. Я уж не говорю, что лишать ребенка права жизни — это прямое убийство. И нам за убийство отвечать придется по всей строгости. Ко мне на исповедь приходят женщины, и каждая вторая горько плачет об убийствах своих детей в утробе. Убиенные младенцы являются им во сне, плачут, взывают к совести, не дают покоя. Горе им, таким матерям! А все ведь начинается с мысли, что это она вправе решать — жить ребенку или не жить. Не имеем мы такого права… Ни один человек не имеет право брать на себя такой грех. Не дай Бог!
— Но, батюшка, сколько детей сейчас голодает, сколько читать приходится, что матери вместе с детьми бросаются с балконов, потому что не знают, чем их кормить! Зачем же плодить нищету? А сколько детей рождается калеками и больными, потому что родители живут в зонах экологического бедствия, питаются отравой, дышат дымом, облучаются радиацией.
— Да-да, все по грехам нашим, все так. Только я говорю сейчас не о расплате за грехи. Здесь мы уже вторгаемся в область нам неподвластную и таинственную. Я же предлагаю просто не грешить. Тогда и расплаты не будет. Я предлагаю вступать в брак по любви. Венчаться — то есть получить благословение Господа на брак. Затем родить детей столько, сколько сможете. Учить их любви к Богу — это первое и самое главное; второе — любить ближних. Если по какой-то причине не хотите больше детей или не можете — благословитесь жить, как брат с сестрой, не разделяя ложе. Чтобы сохранить себя от похоти. Вот если так жить, то Господь поможет супругам и Сам устроит все.
Батюшка встал и предложил зайти к детям попрощаться. Лида увидела в детской две двухъярусные деревянные кровати и сразу узнала столярное искусство умелых рук отца Сергия. Игрушки аккуратно лежали в большой картонной коробке. Обои представляли собой обычные листы ватмана, разрисованные детскими рисунками и каракулями. Все вместе это выглядело очень мило. Дети, до этого смирно слушавшие сказку, вскочили и заулыбались тете Лиде.
— Вы к нам еще придете?
— Мы же вам еще ничего не успели показать!
— А у меня кот Леопольд!
Самый маленький протянул к ней пухлые исцарапанные ручки и обнял ее шею. Волна горячей материнской нежности разлилась в груди Лиды.
— Ну конечно, я к вам приду. Теперь мы познакомились и станем друзьями. Я к вам и свою дочку приведу. А то ей одной скучно. Ну, спокойной ночи вам всем, — помахала она на прощание рукой.
Провожая гостей, батюшка обещал за них молиться. Лиде сказал, чтобы ничего теперь не боялась, Господь и Заступница ее спасут и охранят от всех напастей. Матушка просила заходить в гости без приглашения, как к своим. «Мы всегда рады гостям. Конечно, шумновато у нас, но весело», — и засмеялась искренне и звонко.
Из гостей Андрей и Лида возвращались вместе. Андрей рассказал о батюшке то, о чем он не мог сам сказать:
— Матушка не работает. Отец Сергий получает четыреста рублей.
— Да как же они вшестером на такие деньги живут? Я на неделю закупаю продуктов — трачу две тысячи.
— Живут, как видишь… и очень даже дружно. Дети здоровенькие, веселые, добрые, заботливые. Правда, их причащают с рождения каждое воскресенье. Это очень важно для детей верующих. Да еще им помогают прихожане, друзья, сами вот по грибы ездят постоянно. Я никогда от них не слышал жалоб на нехватку денег, еды или одежды. Все, что нужно, у них есть. Они довольны тем, что имеют. Они уверены, что имеют то, что им необходимо, а лишнего им не нужно.
— Да, если бы сама не увидела — не поверила, — задумчиво произнесла Лида и замолчала, глядя на дорогу. На ее лице затеплилась таинственная улыбка. Губы что-то неслышно шептали.
Андрей понял, что теперь у Иришки будет братик. А может быть, и не один.
Хорошие вести
Вечером Андрей снова засел за телефон. Владимир Иванович самодовольно сообщил ему, что он «уговорил» Мамеда отпустить Машу.
— Подключил тут кое-кого повыше тех, кого он кормит, с ним провели беседу, показали пухлую папку с его делом… Словом, в итоге Мамед отступился. Не хотел нормальных денег — не получил ничего. Так что есть экономия, давай девчонке квартирку купим.
— Да не надо, ей пока есть где жить.
— Андрей, забыл с кем имеешь дело! Ну, ты меня прямо обижаешь. Я что, не знаю, где живет Маша с сыном, и на каких правах? Да это уже и Мамед знает. Тоже мне секрет. — Потом, не дождавшись бурной реакции от своего абонента, небрежно добавил: — Если честно, я уже купил ей квартирку, в том же доме, где она сейчас… хм… скрывается. Документы ей завтра в почтовый ящик бросят. Ты, кстати, в курсе, что к ее хозяйке Елене сын приехал с севера? Так у них с твоей Машей вроде как роман. Ты не ревнуешь?
— Спасет тебя Господь, Владимир Иванович. Хороший ты мужик. Правда.
— Ну вот, наконец-то дождался. Я, может, только ради этих слов все это и сотворил. А то мне все казалось, что ты меня уж и за человека не держишь. Ха-ха! Комплексы уже по всему телу пошли.
— Прости меня.
— Ладно… гм… обращайся, ежели что. Не откажу.
Андрей набрал номер Елены. Она подняла трубку сразу, будто ожидала звонка, и сразу выпалила:
— Ну, уж спасибо тебе, Андрюша, не знаю, как и благодарить тебя!
— Что такое? Говори толком.
— Да я в твоих ребятах уж и души не чаю. Такие они хорошие. Маша всю квартиру вычистила, аж блестит. Ты же знаешь, я тут по болезни все запустила. Такая работящая девочка, такая услужливая, добрая.
— Елена, что же ты про сына не говоришь?
— А ты откуда знаешь?
— Вот именно, приходится узнавать от других людей.
— Да, вернулся мой сыночек… Я уж не знаю, верить мне всему этому или сон какой! Мы с ним рассорились однажды, так он обиделся и уехал аж в Мурманск. Такая глупая была… Так вот вернулся он. Простил меня, грешную. Теперь все вместе дружно заживем. Утром сегодня проснулась и не верю, что сон кончился. Уж боюсь спугнуть свою радость. Слава Богу за все, слава Богу! — всхлипнула она.
— Ну, ладно тебе, успокойся. Ты мне не позволишь с Машей поговорить?
— Ох, прости меня, старую, расплакалась я от радости. Сейчас позову, они там в другой комнате.
— Андрюша, здравствуй, — услышал он испуганный голосок Маши.
— Все хорошо, Маш, не пугайся. Все устроилось. Больше Мамед вас не тронет. Ты свободна. Можешь выходить из дому, гулять, работать на лотке.
— Как, вот так, все… — растерялась она.
— Если бы все! Твой освободитель тебе еще квартиру какую-то купил. В том же доме. Да еще сказал, что ты себе суженого нашла. Как к нему Серега относится?
— А ты и это уже знаешь? — Маша говорила совсем тихо.
— Ладно, Машенька, ты пока перевари все это, успокойся, я перезвоню позже.
Андрей положил трубку. Его губы шептали благодарственную молитву: «Слава Тебе, Господи Иисусе Христе…» Потом она вырвалась наружу, и он все громче и громче проговаривал слова, как бриллианты сверкавшие в его возгоревшемся сердце: «Даруй мне отныне, Владыка, силу твердо творить волю Твою, во спасение души моей окаянной и во славу Твою, со Безначальным Твоим Отцем и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков! Аминь».
Это завершающее «аминь» прозвучало так, будто это сказал не он, а старец. Так он отвечал, когда в монастыре перед его дверью Андрей читал молитву на вхождение в маленькую келью. Старец смотрел сквозь разделяющее их пространство добрыми глазами и благословлял его на крестный путь в миру: «Иди и всюду твори волю Господню, сынок. И да будет с тобой благодать Божия и Его святой покров. Иди и ничего не бойся. Я же, грешный монах, буду мостить твой путь своей убогой молитвой».
Телефонный звонок вернул его в действительность. Из трубки донесся до него возбужденный голос бригадира:
— Ты еще не знаешь? Икона у Егора просветилась, благоухает, и из ран Царственных мучеников кровь пульсирует. Началось это на крестном ходе, а сейчас продолжается. Можем съездить, прямо сейчас.
— А не поздно?
— Днем хозяин работает, затем делегации паломников принимает, а сейчас сам позвонил и пригласил.
Андрей позвонил брату и позвал его с собой. Тот поворчал, но любопытство одержало верх, и он согласился.
Встретились они с бригадиром под высокой аркой старого дома, позвонили в домофон и на лифте поднялись на пятый этаж. На лестничной площадке приятно пахло, будто только что здесь разлили духи. Когда Егор открыл дверь, и они вошли в прихожую, приятный запах усилился. Скинув обувь, они прошли в комнату. Здесь сидели двое гостей: седобородый священник в рясе, отец Алексий, и мужчина по имени Захар. Они тоже пришли недавно. На серванте, освещенная лампадой, стояла икона Царственных мучеников в простенькой деревянной рамке. Егор подошел к ней, бережно взял в руки, приложился к рамке и позвал гостей:
— Приложитесь пока. Чувствуете, какое благоухание!
Они по очереди: бригадир, Андрей и Юрий — перекрестились и губами, затем лбами приложились к нижнему углу иконы. Каждый после прикладывания кланялся и отходил в сторону. Икона снова вернулась на свое место.
Егор объяснил, что ему сделали копию Валаамской иконы на стареньком цветном ксероксе. Цвета еле различались, изображение было почти однотонным. На крестном ходе после прочтения акафиста Царственным мученикам цвета стали зримо ярче, появилось благоухание, и из мест ранений, куда попали пули и штыки убийц, сначала проступили красные пятна, а потом появились струйки крови, стекающие вниз. После крестного хода он принес икону домой, пригласил искусствоведа, и она ежедневно наблюдает за изменениями изображения и подробно описывает их.
Батюшка предложил отслужить акафисты Богородице и Царственным мученикам. Взял листы с акафистами и негромко запел. Огонек лампады вырос и затрепетал, ярче осветились и ожили лики мучеников.
Закончив молитвы, все подошли к иконе и почувствовали усиление благоухания. Едва заметные красноватые пятна заалели и пульсировали. И до того контрастные и яркие краски изображения засияли, особенно искрились золотистые нимбы вокруг голов, а камни на коронах засверкали своими гранями.
Отец Алексий, все время шептавший молитву, взволнованно произнес:
— Сам Господь их прославляет! Сейчас много икон по России стало мироточить. Под Пензой вон в одном храме сразу двадцать семь заплакали. Господь нас, грешных, в вере укрепляет. Это бывает перед большими испытаниями.
Андрей заметил, что чем ближе к иконе, тем сильнее сердцебиение, и сказал об этом. Все подтвердили, что у них то же самое ощущение. А Егор признался, что спать в этой комнате не может, и долго находиться прямо перед иконой опасается.
Егор защелкал фотоаппаратом. Потом раздал на память фотографии иконы, сделанные профессионалом при специальном рассеянном свете. Рассказал, что у одной женщины такая фотографическая икона во время чтения акафиста Царственным мученикам заблагоухала…
Отец Алексий поведал о своем монастыре, как он один приехал в глухое место, нашел в селе старушку-богомолку, и они вдвоем ночью служили молебен на освящение храма. Вокруг них что-то выло и скрежетало, падали кирпичи и скрипело ржавое железо, над головами носились черные тени.
— Ох, и страшно было нам от всей этой бесовщины! — признался он и показал на свою бороду: — Поседел — это я тогда. В ту ночь. А наутро видим — из-под слоя штукатурки и пыли проявилась фреска с ликом преподобного Серафима Саровского. И уж больше такого бесовского смятения не наблюдалось.
— Сколько же сейчас у вас братии? — спросил бригадир.
— Шестнадцать монахов и послушников. А сельских по сотне человек каждый день приходит. Помогают восстанавливать обитель. Сейчас-то у нас уже есть и где служить, и где жить. Трапезную восстановили. Есть свое хозяйство, поля, огороды. Местные власти тоже помогают, хотя им очень трудно сейчас: все предприятия стоят. Да вы приезжайте к нам, я вам адрес дам, встретим вас, поселим. Отдохнете, помолитесь. У нас купальня со святой водой есть, многие от болезней излечились.
Но снова вернулись они к той иконе, которая жила и чудотворила в этом скромном, но гостеприимном доме. Егор рассказал, что собрал уже более тридцати письменных свидетельств чудес, которые происходят с иконой и людьми, ей поклонявшимися. Есть излечения от рака, от порока сердца, гипертонии, курения, алкоголизма. Даже фотографии этой иконы после чтения акафиста Царским мученикам издают благоухание, и кровь на ранах пульсирует, как живая.
— Какие теперь могут быть сомнения по поводу святости Царской семьи? Вот оно — прославление.
Егор размашисто перекрестился.
— Это не просто прославление, я думаю, а нам всем указание, кто должен нами править, — негромко произнес отец Алексий. — Вот вы тут в столице не так это видите. И я не видел, пока жил здесь. А в глубинке народ уже давно живет в такой бедности и голоде… Забывают уж, как деньги выглядят. Натуральное хозяйство да подножный корм. Да разве Божий помазанник допустил бы такое открытое ограбление! Сам Господь указывает нам на Царя, ну что еще-то нам надо!
— А надо нам, отец игумен, царя на престол посадить, — подал свой трубный глас заросший буйными вьющимися волосами по самые глаза Захар.
— Вот вы и займитесь этим. — Отец Алексий встал и попрощался. — Так милости просим к нам в гости.
Захар
После ухода батюшки хозяин вызвался проводить гостей. Захар пригласил всех в небольшое кафе, вынул из своего потрепанного портфеля бутылку водки и блеснул на всех черными глазами:
— Ну что, православные, вздрогнем?
Братья с Бугром отказались, сославшись на позднее время и завтрашние дела, заказали себе по чашке чая. Тогда Захар наполнил себе стакан, Егору — рюмочку, они чокнулись, выпили.
— Я вот вам сейчас расскажу, как я за монархию борюсь.
— Погоди, Захар, — положил свою ладонь на его волосатую лапищу Егор, — я сначала тебя представлю. Захар — потомственный дворянин из фамилии Шестуновых. Семь лет отсидел за издание монархического журнала. Сейчас — журналист в православной газете.
Захар достал из портфеля стопку газет и раздал всем присутствующим, размашисто подписав их.
— Так вот, пока Егорка по своим заграницам на «Бьюиках» разъезжал, отсидел я срок. Освободился в восемьдесят восьмом. Приезжаю, устраиваюсь в одну издательскую фирму, начинаем церковную литературу издавать. Тут меня стали зазывать на разные мероприятия. То на Международный библейский конгресс, то на Собор, то в «Мемориал». Я там везде в президиуме, конечно… Сейчас! — Он налил себе еще стакан водки, выпил и прикурил «беломорину». — Так, значит, зовут на заседание Дворянского собрания. Разговор зашел, сами понимаете, о политике. Смотрю, слушаю — одни демократы кругом! А я там в буфете до этого, конечно, размялся… И у меня с собой плоская фляжка с чистоганом тоже не скучала… Смотрю я на этот дэмос с кратосом, слушаю их писклявые масонские речуги, как в феврале семнадцатого. Ну, в общем, опростал фляжку, встал я — и на трибуну.
Захар долил остатки из бутылки в стакан, одним глотком осушил его, снова задымил «беломориной», окутывая застолье клубами кислого едкого дыма. Шумно почесал заросли на голове, подбородке, груди; посопел, обдал окружение взглядом черных глазищ. Выдержал полную драматизма профессиональную паузу, дождался максимального томления публики и зычно продолжил:
— А в президиуме Илюха так и вжался в кресло. Микрофон я, сами понимаете, сыгнорировал: а на что он мне? Какие, говорю, вы дворяне! Двор — это окружение царское! Лица, приближенные к монарху! Вот вы тут обсуждаете, дворняжки, как лучше вам нынешним дэмократам услужить, чтобы, значит, особнячки свои возвернуть… А ведь ни один тутошний дворник о царе-батюшке и не заикнулся! Пока в этой вашей промасоненной дворницкой первым пунктом не будет прописано восстановление монархии, я как потомственный дворянин сюда ни ногой! Если здесь среди этого холуйского сборища есть хоть один дворянин — предлагаю покинуть зал! Я — в буфет. И что думаете? Со мной вышли только два человека. Но уж коренные! Ух, мы их буфетец по-экс-про-при-и-ровали!..
— Послушайте, князь, — мягко начал Бугор, — а вы, ваш сиятельство, не пробовали с сивухой завязать?
— Это еще зачем? — выпучил Захар глазища. — У нас «веселие Руси — в питии еси!»
— Ну, хотя бы для того, чтобы не позорить ни Православия, ни монархии… Своей причастностью…
— Он кто? — прогудел Захар, обращаясь к Егору.
— Я тот, кто потерял всех друзей в Афгане от пуль и осколков, а в России от — сивухи и денег.
— Он классный бригадир, профессионал, настоящий честный работяга, — пояснил Андрей.
— Ладно, Бугор, не бузи… — обмяк Захар.
— Ничего, ваш сиятьство, дослушаешь… — Бугор сжал свои грубо сколоченные мозолистые кулаки, лежащие на столе; захаровские розово-холеные пухлые ладошки нырнули под стол. — Нашим врагам только и надо, чтобы мы совесть свою и мозги загубили. По кабакам растеряли. Если ты болен алкоголизмом, то лечись, а с пьяной мордой в народе появляться и при этом представляться православным, монархистом, да еще и журналистом… приплетать сюда Святую Русь — это ты прекрати! В двух шагах отсюда икона Царственных мучеников кровоточит, а он тут опохмеляльню устроил с театром одного актера!
Бугор вытер лицо ладонью, глубоко вздохнул:
— Прости, Захар. Простите, братья. Погорячился я…
— Ты тоже меня прости, — отозвался Захар. — Дай телефон, поговорим спокойно.
Живые и мёртвые
Утром Андрей решил произвести уборку. В голове крутились фраза из нарядов, которые он ежемесячно писал будучи прорабом на стройке: «Уборка бытового помещения с мытьем полов, кипячением чая и подноской воды — по тарифной ставке первого разряда».
Он поставил на магнитофон кассету с записью Девятой симфонии Бетховена и включил погромче. Эта мощная деятельная музыка бодрила и помогала ему работать энергично и весело.
Раньше эта обязательная нудная работа злила его, он с трудом сдерживал свое мужское раздражение. Но как-то прочел о том, что молодых монахов заставляют носить камни, складывать из них стены, чтобы завтра эти стены разбирать. Бессмысленная работа смиряла страсти, гасила похоть и уныние, расщепляла гордыню. Вот с некоторых пор и он научился находить в неприятной работе даже удовольствие. Особенно хорошо любоваться наведенным порядком и чистотой.
Уборку он завершил взопревшим и веселым. Окатил себя под душем холодной струей и сел завтракать.
Сегодня он встречает гостя. Из Новосибирска приезжает профессор Курганов. Этот ни при каких обстоятельствах не унывающий господин отличался от окружающих философским спокойствием и рассудительностью. Он не появлялся в Москве лет пять. Интересно, каким он стал?
Из традиционно пыльного вагона, из облака едкого торфяного дымка на платформу вышли индусы в чалмах, челночники с объемными сумками. А вот и сутуловатая спина профессора. Сам он рассыпался в благодарностях юной проводнице. Увы, ни прежнего лоска и белоснежной сорочки, ни прежней пружинистой походки. Мешковатый костюм с пузырями на коленях, пестренькая ковбойка с мятым воротником. Под глазами висели темные мешки, лысина уже добралась до макушки — но все та же снисходительная улыбка и безмятежный взор смешливых пронзительных глаз.
— Ну, здорово, боярин, — заокал приезжий, троекратно лобызая Андрея. — Что, лимузин далече ли?
— Да нет, совсем рядом. Под землей.
— Устрицы и шампанское мерзнут во льдах?
— Ага, а куриные коленки мокнут в гранатовом соку.
— Тогда подхвати чемоданчик — не гоже именитым, славой осиянным багажом отягощаться.
— Всегда готов услужить, мэтр.
— Это освежает… Ну что, блудница первоприкольная, не ожидала?.. — обратился он в истыканное шпилями высоток пространство.
Дома профессор с ходу отправился в отдраенную ванную, а Андрей жарил куриные окорочка и резал салат. Когда на столе в комнате выстроилась обеденная композиция, вошел профессор в махровом халате со стаканом кваса в руке.
— Что-то у тебя все так изменилось… А где твоя женушка?
— У себя дома.
— Та-ак! Свободен, значит? Помнишь у Шукшина в «Третьих петухах»: Змей Горыныч жалуется Ивану, что ему пришлось всех родственников подчистую сожрать. Иван пожалел его. Что, спрашивает, сирота, значит? А Змей ему: ага, кру-у-углыя! Так у вас кто кого съел?
— Разошлись мы духовными разногласиями.
— Эт-то чего, вот из-за этого? — Курганов эффектно сжестикулировал в сторону икон. — Что же она, глупая, не поняла, что это временный заскок? Ну, пошалит мальчик и вернется в лоно, так сказать.
— Вот поняла, что не заскок и не временный.
— Та-ак. Это мы сейчас мигом развеем. Нам не впервой.
— Не стоит об этом, мэтр…
— Это что же — не мечи бисера поросятам? Или думаешь, что я их могу чем обидеть? — снова эффектный жест по дуге в сторону икон.
— Им ты ничего плохого не сделаешь, даже если захочешь, потому что Бог поругаем не бывает, а вот себе навредить можешь.
— Да ладно тебе!.. Сколь ужо в эти доски и стреляли, и жгли их, а обидчики живут себе и детишек по парижам учиться рассылают. Знаешь, дети всех генсеков по загранкам рассыпались. Нынешние тоже эту эстафету приняли на грудь и несут…
— Ты своих еще не отправил?
— Может, и отправил бы, да на что? Может, и сам бы отправился, да секретка такая, что в Москву вашу месяцами отпрашиваешься. И не платят, но и не отпускают, держиморды.
— Слышал, старший от первой жены — в Лос-Анжелесе?
— Да, звонит нынче каждую неделю, по полчаса хорохорится. И что характерно! Я профессор с мировым именем… ну, ладно, не с мировым, но уж евразийно-азиопным уж точно! Я с таким вот самым именем и заслугами перед отчизной позвонить ему не могу — дорого! А этот студентишка, коих у меня, как вошек, болтает себе, пока не охрипнет. Первый отдел каждый день мне мешок писем вскрытых приносит от коллег со всех континентов, а хоть в Чехию на воды, печенку помыть, — нельзя!
Курганов с куском курицы на вилке и стаканом кваса в воздетых к потолку ручках возмущенно мотал громадной головищей. Остатки реденьких волос встали дыбом, по подбородку стекал соус, но обрамленные валиками вострые глазки его говорили, что хозяин их всего-то шутит, развлекается он, потому как настроение у него сейчас мажорное.
— Снял я с себя часов поболе и стал халтурить… квасок у тебя знатной, с хренком и гранатом — это ты от души… И стал я очистные сооружения совершенствовать. Смотрю, метан там никак не используют. Просчитал, начертил. Экономия — жуть сказать на сколько. А ежели по Расее! Во… отпросился в первопристойную пробить эту идейку через беленький домик. Завтра там презентацию устрою, чтоб они все здоровы были! Получится ежели — себе иномарку прикуплю, бабе своей шелка цельный отрез возьму… С американщиной закажу разговорчик минут на семь-восемь! Конвертов заграничных куплю, чтоб светилам всем ответить, наконец. Да вот костюмчик новый справлю, в этом ужо четыре года безвылазно.
— А половина твоя как? Все метрдотелем в ресторане?
— Нет… какой ресторан! На дому пельмени лепит и развозит по точкам. Если бы не дальняя дорога, она бы точно мне полчемодана своей лепнины насовала. Вкусные они у нее получаются! Молодец она у меня, баба-то… Старшую принял под свое крыло, пусть под надзором пока побудет. Младший тянет на пятерки, тоже к себе возьму. Ты тут своей бандеролькой с письмищем бестолковым совсем бабу мою совратил, охальник! Как она прочла книженцию про русский Иерусалим, так и загорелась: вези ее на Гроб Господень Благодатный огонь смотреть. Уж и дензнаков поднакопила. А я как подумаю, что эта поездка стоит, как подержанный «москвичок» у нас, так и возмущаться. Ты в следующий раз послания свои на мое имя шли для перлюстрации.
Профессор встал, прошелся по комнате, снова взглянул на книги и иконы.
— Не будем, профессор… хорошо? — предложил Андрей.
— Будем, — буркнуло светило. — Ты думаешь, я позволю тебе сесть на иглу с опиумом для народа? Будем!..
Повернулся он к Андрею, и глазки его сверкнули холодным блеском.
— Я тут Бунича читал, как пятьсот лет власть России воевала с народом. А что может быть проще, чем воевать с народом, на коленях перед иконами стоящим? Смиренно плетущимся хоть на поле хлебное, хоть на поле брани? Это вот там, под телявивами, придумали, чтоб народом проще управлять было, а ты! Неглупый парень, а туда же! Нет никакой религии, нет идеологии, нет ничего, кроме экономики. Деньги правят миром! Желтый металл, а не идеи. И все остальное — производные… с дифференциалами.
— Деньги правят миром. Ты прав, мэтр, — Андрей улыбнулся и включил электрочайник.
— Ты меня за глупышку-то не держи! Излагай! Парируй!
— Фу, профессор… И куда только невозмутимость ясного ума подевалась? Что за штурм крепости при открытых воротах? Входите — милости просим. Вам с медом или с конфетами?
Курганов покрутил головой, пригладил волосы, улыбнулся на мировую.
— Ладно, боярин, прости… Старею чего-то. Покрепче лей, по-запашистей, понаваристей. Чтоб сосуды встрепенулись. Ох! Дух какой томный! Аглицкий, говоришь… Умеют консерваторы, умеют марку тянуть.
Андрей подошел к книжным рядам и вынул три книги.
— Если хочешь, профессор, вот эти книжки пролистай, потом поговорим. Мне отойти на пару часов надо.
— «Библия и наука» — хорошее соседство! Так, «Библия опередила науку на тысячу лет» — свежо предание, как говорится; «Неоспоримые свидетельства», — со вздохом прочел профессор названия и небрежно отложил. — Занятно. Пробегусь, отчего же. Ключи мне оставь, может, я тоже гулять придумаю.
Андрей вышел из дома и пошел мимо торговых рядов рынка. Глаза, глазищи и глазки смотрели на него. Просяще, настороженно, нагло, заискивающе — пелена такая на глазах. А под этой пеленой — холодный блеск.
Он вспомнил, как еще в детстве читал что-то фантастическое, автора уж не помнил, да и не важно, чьими руками написано, главное — как и что. Там прибыл на Марс астронавт спасать тамошнюю колонию от заразы какой-то марсианской. Обнаружил он, что болезнь эта неизлечимая распознается по глазам. В них появляется красный блеск, глаза мертвеют, а с ними умирают и люди. Идет он по колонии, видит, что в глазах буквально всех колонистов этот красный блеск, приходит в свой дом и рассказывает о своих наблюдениях возлюбленной. И вдруг видит, что и у нее — эти самые… красные глаза.
Андрей проходил вдоль торговых рядов. Сейчас вся страна превращается в торговые ряды. И в этих торговых глазах — стальной холодный блеск.
Но вот он подошел к церкви, перекрестился, отогнав мирскую суетность. Вошел в дом Христов, снова поискал глаза людей. Почти все они опущены, хозяева их погружены в то Царствие Небесное, которое «внутрь вас есть». Некоторые глаза он все же увидел: люди обходили подсвечники и зажигали жертвенные свечи перед святыми образами, пока не началась служба. Слава Богу, в этих глазах теплился огонь, а не холод. Нет, Россия, не вся ты пошла на продажу. Не весь твой народ охладел глазами и душой.
Встал Андрей перед образом Николая Чудотворца. От свечей ощутимо исходило светлое, слегка трепетное тепло. Строгий взгляд святого прожег наслоения суетных страстей и гаденьких обид, нашлепки похотливой грязи и застывшие базальтовые наплывы первородной гордыни. Вторгся прямо вглубь души, вторгся на правах любимого и горячо званного гостя. Попалил заметавшиеся было сомнения и снова своим огнем восстановил небесный смиренный покой. Мерцание свечей на время замерло, остановилось и само время. Чудо вошло, незримое и личное, чудо вхождения «внутрь вас» небесного лучика, тончайшей струинки того океана огня, суть которого — любовь.
«Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй ми конец благий,» — всплыло на поверхность сознания из молитвы Иоанна Златоуста. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. …Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни…» — снова прозвучало в голове, уже из Апокалипсиса.
«Живые и мертвые — неужто здесь имеется какая-то роковая заданность? Да нет! Всех одинаково любит Господь, ведь сказано же: «напиши меня в книге жизни» — значит, и пишется, и вычеркивается… Нет и не может быть у Бога несправедливости. «Много званых.., се стою и стучу…» Стоит Отец и ждет Своего блудного сына. И дело за сыном: со свиньями кушать и валяться — или к Отцу вернуться. Избраннику Своему Он дает талант, но и спрос не по нашей слабости. Вот Серафим Саровский явным избранником был, но ведь однажды потерял он благодать и тысячу дней и ночей в молитве простоял на камне, аж коленями на камне ложбинки протер. А разбойнику, распятому со Спасителем, достаточно было только признать Его Господом и просить помянуть в Царствии Своем — и вот: «ныне же будешь со Мной в раю».
От напряжения Андрей почувствовал усталость. Оглянулся и присел на лавку. Рядом сидели мать с сыном. Мальчик лет десяти производил впечатление больного: руки скрючены, взгляд блуждает, бессмысленная улыбка растягивает полные мокрые губы, обнажая редкие неровные зубы. Одним неосторожным движением он задел Андрея. Мать, зорко наблюдавшая за поведением сына, одернула его:
— Пашенька, осторожней ручками-то…
— Ничего страшного, — успокоил ее Андрей и обратился к мальчику: — Паша, тебе здесь нравится?
— Нра-вится… Здесь хо-ро-шо, — растягивая слова и запинаясь, произнес он.
— Пашенька у нас не просто больной, он блаженненький, — пояснила мать. — Он Божий человечек.
— Бо-жий… — подтвердил мальчик.
— Пашенька ангелов видит, — ласково погладив мальчика по плечу, сказала она.
— А какие они, Паша? — заинтересовался Андрей.
— Красивые. Светлые.
— А сейчас они здесь?
— Вон там, — показал мальчик пальцем в сторону иконостаса. Затем проехал взглядом по лицу Андрея и спросил удивленно: — А ты что, не видишь?
— Нет, Паша, мне не дано.
— Жа-а-аль. Они красивые. Как солныш-ко. Они… ласковые.
— Скажи, а Иисуса Христа ты видел?
— Да. Видел. Когда людей много было. И батюшек много. В золотой короне Он. А рядом свя-тые и ан-гелы летели с не-ба. Отту-у-уда, — он показал пальцем поверх иконостаса.
Андрей почувствовал, как по спине покатилась струя пота. Он провел ладонью по влажному лбу. Ему хотелось задать самый важный вопрос:
— Скажи, Пашенька, ты с ними разговариваешь?
— За-чем? — удивленно пожал он плечами. — И так все… ясно.
— А что ясно? — Андрей весь напрягся.
— Люби-ить надо, — еще шире улыбнулся мальчик. — Любить… Боженьку… и всех…
Домой Андрей вернулся поздним вечером. Профессор читал книги, ворчал и пыхтел. Какая-то внутренняя борьба целиком захватила его. «Ты чего так долго?» — проворчал он, но слушать ответа не стал.
Андрей лег на кровать, взял тоненькую книжицу «Афон» Б. К. Зайцева и тоже погрузился в интересное чтение:
«— Пустынническая жизнь трудна, — говорил отец В., — ох, трудна! Жутко одному в лесу, и передать нельзя, как жутко.
— Страхования, — сказал отец Петр.
— Вот именно, что страхования. И уныние. Он, враг-то, тут и напускается.
О. В. сложил на груди крестом руки под седеющей бородой, и в его нервных, тонких глазах затрепетало крыло испуга — точно «враг» стоял уж тут же вот — у нас за плечами.
— Недаром говорится: уныние, встретив одинокого инока, радуется… То есть тому радуется, что может им завладеть.
Мы шли молча, ошмурыгивая мхи и горные травы, в чаще дикого, никем не тревожимого леса. Справа тусклым зеркалом вдруг засеребрилось море.
— Один мой друг, — сказал отец В. тихим, несколько трепетным голосом, — сам раз в юности испытал это, в этой же самой местности, на Новой Фиваиде. Был у него знакомый пустынник, и ему пришлось отлучиться из каливы на несколько дней по делам. А тот, молоденький-то, и говорит ему: «Дозволь, отец, пока тебя не будет, в твоей каливочке поспасаться, перед Господом в тишине и смирении потрудиться». Ну что ж, мол, пожалуйста. Этот молодой монашек к нему в каливу и забрался, горячая голова, дескать, и я в пустынники собираюсь… Но только наступил вечер, стало ему жутко. Он и Псалтирь, и Иисусову молитву творит, а, представьте себе, тоска и ужас у него растут.
О. Петр ловко перепрыгнул через поваленное дерево:
— Враг-то ведь знает, с какого боку к нашему брату подойтить…
— Он, враг, все знает… — отец В. убежденно, не без ужаса, махнул рукой, точно отбиваясь. — Ну, вот-с, что дальше, то больше, и вы представьте себе, ночью и воет, и в окна стучит, и вокруг каливки вражий полк копытами настукивает — то этот монашек в таком льду оказался, батюшки мои, едва только светать стало, да с молитвой, да подобрав рясу, рысью из этих из одиноких мест назад в скит ахнул. Нет, куда же! Тут большая сила и подготовка нужна…»
— Ты там еще не заснул? — раздался скрипучий голос профессора. — Поделиться требуется.
— А может, лучше, когда устоится?
— Нет, тут по горячему следу надо. Прочел все три. Интересное впечатление получается! Пока читаешь, невольно соглашаешься с каждым словом. Оно, конечно, труды серьезные, привлечено множество научного материала, профессионально систематизировано, выводы делаются не с кондачка, но по делу. Но вот прочитал одну — бац! — а в голове отрезвляющая мысль: «Ерунда все это, не может быть, наверняка ловкая подтасовка фактов или вранье!» Читаешь следующую — ну, просто блеск! Это когда читаешь. Закрыл последнюю страницу — то же самое, отрезвление. Ох, опиум! Ох, отрава! Ваши комментарии, оппонент!
— Совесть твоя говорит: «Верь!», гордыня твоя не пускает правду внутрь души. Видишь ли, Тертуллиан сказал, что душа каждого человека — христианка по своей сути и происхождению. Христианин живет в каждом человеке. Но вот пробиться к этой истинной сути мешает заслон гордыни. Я ведь тоже плутал по разным путям. И философией увлекался, и историей, и у Рерихов отметился, и в буддизме правду искал. Пока не стал исследовать смирение. И вот эту твою идею емельяновскую разделял насчет того, что смирение — оружие врагов для порабощения народов.
— Ну да. А что, скажешь, не так?
— Конечно, нет. Мне это открывалось постепенно. То в «Сталкере» Тарковского услышал: «Сила немощна, а слабость могущественна». Я тогда увлекался разными парадоксами… Потом в учебнике по айкидо прочел, что наивысшая ступень овладения этим искусством — это предотвращение агрессии со стороны противника на стадии ее зарождения, то есть гармонизация отношений. И снова шло сравнение твердого трупа с мягким, немощным, но потому и живучим ростком молодого тростника.
Заметь, все это происходило одно за другим в короткий отрезок времени, будто меня чья-то заботливая рука вела путем познания истины. Вела, потому что я сам этой истины жаждал. Потом у Лазарева — вот уж не знаешь, откуда помощь придет! — прочел, что смирение — наивысшая степень защиты от колдовских и прочих агрессивных воздействий. Следом прочел в Библии: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9).
И вот тут, словно прозрение наступило. Понял, что меня отвращало в эзотерике и буддизме, — гордыня там везде, а смирения нет. Они хоть и признают Иисуса Христа за великого учителя, но самого главного не принимают: Его Божественного Сыновнего смирения.
Вот тогда, как озарение, пришло: что же я ищу истину где-то там… непонятно где? Ведь все, что мне нужно — абсолютно все! — есть в нашем родном Православии. И пришло все это после уяснения вот этих антиподов: сатанинская гордыня — и Божественное смирение. Ну, а потом заглянул я свежим глазом в свою душеньку, а там!.. Одни грехи, одна сплошная гордыня…
Сейчас и у тебя, профессор, дилемма: принять или отречься. Душа-христианка вопит: «Верь!», гордыня бесовская внушает: «Ложь это, подтасовка!» Как вор на базаре громче всех вопит: «Держи вора!», так и отец лжи всем внушает, что истина — это ложь.
— Андрюх! Ну, прекрати. Я человек скептический, что ты мне всякую мистику втюхиваешь, — заговорил профессор, будто наставительно урезонивая расшалившегося студента. — Знаешь, на мой стол много разных идей кладут. Некоторые все еще вечный двигатель изобретают. Если бы я все принимал на веру, не сопоставлял с научными данными… Знаешь, сколько таких параноиков через меня проходит!
Профессорские глаза холодно полоснули по лицу собеседника.
«Мертвые оживут — не поверят, — пронеслось в голове Андрея. — Бесполезно. Как сказал Оптинский старец Амвросий о Льве Толстом: «Гордыня! Никогда не придет он ко Христу!»»
— Док! Ты должен знать, док! Ты просто это положи на полку своего мозгового архива: что бы ты ни говорил, что бы ни сопоставлял, я тебя люблю. Как старшего брата люблю. Вот так.
— Эт-та освежает! — тоном победителя эффектно завершил поединок профессор.
Женщины
Субботний вечер. Андрей прочел покаянный канон и готовится к воскресной исповеди. Читал проповеди старца Иоанна Крестьянкина, когда завонил телефон.
Ухо знакомо согрел приятный голос. Этот голос часто всплывал на зыбкую поверхность активного дневного сознания из бездонных глубин памяти. Андрей любил этот грудной мягкий тембр, волнующие женственные интонации и неожиданные вкрапления совершенно девичьих ноток. Андрей любил и источник этого голоса, свою бывшую жену. Впрочем, почему бывшую? Разве серенький оттиск на одной из страниц паспорта меняет что-либо перед Объединителем судеб людских? Обиды на Лену и воспоминания о ее ревности постепенно стерлись. На той самой активной поверхности памяти осталось только светлое и радостное, что было в их совместной жизни. Она сейчас заговорит по-новому…
— Ну что, муженек мой бывший, говорят, ты там совсем даже не монашествуешь. Ни одной юбки мимо не пропускаешь.
«Нет, не будет ничего нового. И если ты стер из памяти плохое, то сейчас тебе все восстановят».
— Это обязательно — мне отвечать на эти вопросы? Ведь если я, как ты говоришь, бывший, то не все ли тебе равно?
— Противно просто, Ильин, что ты постоянно лгал… Что своими молитвами юродивыми да церквями прикрывал обычный разврат! Врун и бабник!
— И ты не болей, и тебе всяческих благ и успехов.
Андрей положил трубку. Разговаривать в этом ключе бессмысленно, только во вред.
«Прости ей, Господи! Не вмени ей во грех обиду на меня, в ее грехах повинного. Прости меня, Господи, не умеющего порядок навести в собственном доме».
Теперь снова нужно читать канон, снова все восстанавливать.
Опять звонок! Он со вздохом погасил в себе раздражение и поднял трубку. Веселый голосок Алены вывел его из покаянного состояния.
— При-и-и-ивет. Мне очень приятно, что ты решил все-таки поднять трубку. Я тебя не отвлекаю?
— В свою очередь, позволь мне выразить искреннюю радость по поводу твоего хорошего настроения, — скоморошничал Андрей, чувствуя растущую тревогу.
— Могу я пригласить тебя к себе в гости? Я совсем одна… — жалобно протянула она.
— У меня другое предложение. Гораздо лучше. Ты сегодня ляжешь спать пораньше, а завтра мы с тобой встретим праздник воскресения в храме. Как туда добраться, я объясню. И я обещаю тебе настоящий праздник, когда душа твоя будет сверкать и петь.
— Ты серьезно? — растерянно шепнула она.
— Конечно. Там хорошо, там очень хорошо! Правда! Во время воскресной литургии Сам Господь со Своими святыми и ангелами спускается в храм. У тебя тонкая душа, поэтому ты сможешь это почувствовать. А сейчас возьми два листочка бумаги и напиши имена в родительном падеже о здравии и о упокоении. Эти имена будут читаться в алтаре, и каждое имя дойдет до Господа. И ты будешь присутствовать при этом Таинстве. А после службы мы отметим праздник, пообедаем где-нибудь, поговорим, погуляем в парке. Как тебе все это?
— Ладно, я постараюсь. Хотя в воскресенье утром рано вставать — это непривычно.
— Ну, ради праздника?..
— Хорошо. Я приду. Давай адрес.
Утром прождал он Алену полчаса, но она так и не пришла. Позвонил ей домой, но к телефону никто не подходил. Тогда он вошел в храм и встал в очередь исповедников.
Отец Сергий сегодня излучал мягкую доброту. Женщины, особенно они, подолгу говорили с ним, советуясь. Исповедь растянулась на полтора часа. Андрея батюшка расцеловал, выслушал его хартию и спросил, не гнетет ли его что-нибудь. Андрей рассказал об Алене. Пожаловался, что со времени их знакомства он постоянно чувствует блудное возмущение в душе. Отец Сергий посоветовал заказать молебен Марии Египетской, читать по главе Евангелия и поститься неделю. А в следующее воскресенье причаститься.
— И еще одно, батюшка, меня беспокоит… Люди ко мне обращаются с вопросами. Те, кто у входа в храм стоит и не решается войти. Мне постоянно приходится поучать, а у меня у самого опыта духовного на грош.
— Ничего-ничего. Это очень хорошо, что обращаются. Сейчас каждый православный — и священник, и миссионер. Помнишь, преподобный Серафим Саровский в разговоре с Мотовиловым сказал, чтобы он творил милость Божью, явно ему оказанную, чтобы не уподоблялся лукавому и ленивому рабу, который закопал свой талант в землю. «Жатвы бо много, — говорит Господь, — делателей же мало». Вот и пожинай, если тебе такой талант от Бога дарован, безо всяких сомнений работай на ниве этой.
— Да вот, боюсь, батюшка, как бы гордыни не нахвататься.
— Ну, этого в любом деле опасаться надобно. Только чего же нам бояться, когда с нами Бог?
Сегодня отец Сергий был особенно добр и мягок, улыбка, немного усталая, не сходила с губ. Глаза изливали кротость и любовь.
Он как-то по-родственному благословил Андрея, поцеловал его в плечо и вдруг тихо произнес: «Прости и ты меня, грешного».
А потом, опустив в смущении глаза, вынул из кармана подрясника черные шерстяные четки с крестом и протянул Андрею: «Тебе, в подарок…»
Служба закончилась, молодой батюшка уже отслужил молебен у иконы Марии Египетской, в крестильной готовились к крещению младенца. Андрей присел на скамью и отдыхал, наслаждаясь тишиной и покоем. Вот прошла знакомая ему мама с «блаженненьким» мальчиком и встала в толпе родственников у распахнутой двери крестильной.
Раньше эта дверь никогда не открывалась во время Таинства, но сейчас многочисленные гости напросились присутствовать, некоторые впервые, и священник им не запрещал. После пропетого глубоким баритоном отцом Борисом «Верую!..» вдруг послышался звонкий голосок блаженненького Паши: «Видите! Вот он по лучику спускается». Толпа возмущенно обернулась на больного, некоторые зашикали. А Паша снова: «Ангел сошел с небес, вот он, видите?» И показывал пальцем скрюченной руки повыше крестильной чаши. Гости снова зашикали на него, но не все. Одна дамочка аристократической наружности в голубом газовом платке наклонилась к нему и заговорила шепотом, потом вдруг поцеловала скрюченную руку, вытерла платочком глаза и сунула его матери несколько крупных купюр. Та с поклоном приняла деньги и записала на бумажку несколько имен, названных дамой.
Выйдя из храма, Андрей снова позвонил Алене. И снова длинные тягучие гудки были ему ответом.
По дороге домой Андрей ощутил странную противоречивость в душе: к праздничному умиротворению подмешивалась чужеродная грусть. Как часто они идут парой. Он вспомнил, что среди прихожан видел Любу и с трудом узнал ее.
…Больше года назад его знакомый попросил помочь одной женщине купить в надежной фирме стройматериалы с доставкой. Андрей помог ей, и так завязалось их знакомство. Эта хрупкая женщина взвалила на себя непомерную ношу: она организовала сестричество, издавала книги, продавала их по епархиям, сама писала стихи духовного содержания. На заработанные деньги она приобретала стройматериалы для реставрации двух храмов. Кроме того, она без мужа, воспитывала двух сыновей, которые вступили в опасный подростковый возраст.
Мальчики свободное время проводили за компьютером, играя в красочные озвученные игры. «Пусть осваивают современную технику, — говорила Люба, — только чтобы на глазах были и по улицам не болтались!» По условиям этих компьютерных игр нужно было убить, взорвать, раздавить как можно больше врагов, что сыновья и делали с увлечением. Когда их отрывали от игры, они продолжали убивать, взрывать всех окружающих. Пока только мысленно. В церковь они тоже иногда ходили, но и там находили себе собеседников, с которыми живо обсуждали новые игры, возможности компьютеров.
Их речь насыщалась компьютерным сленгом, в глазах появлялось презрение к тем, кто не входил в их виртуальный круг. Как-то Люба показывала гостям старые фотографии, где они с сыновьями вместе работают на даче, купаются в реке, собирают грибы. Вот они идут в первый класс, вот впервые исповедаются, вот побеждают на олимпиаде… На всех фотографиях сыновья дурачились, улыбались, радовались жизни — словом, нормальные живые дети. После того как фотографии в альбомах вернулись на полку, гости еще раз посмотрели на мальчишек, убивающих врагов на виртуальных просторах, окликнули их, чтобы пошутить, но наткнулись на взгляды, полные ненависти.
Жили они втроем в маленькой двухкомнатной квартирке. Однажды после праздничной службы Люба предложила Андрею зайти к ней на трапезу. Сказала, что у нее соберутся сотрудницы, и будет интересно: это же настоящая тусовка! Когда они вошли в дом, там уже накрывали на стол две женщины. Гости собрались, сели за стол, и одна пожилая женщина по имени Валентина рассказала, как она паломничала на Украину по святым местам.
Перед отъездом она заказала молебен своему небесному покровителю Иоасафу Белгородскому, которому молятся для излечения от болезней сердца. Поехала она с друзьями на стареньком «Москвиче». Везде, в самых различных местах и ситуациях, она получала от своего святого неожиданную помощь. В любом месте, где бы ни останавливались: в монастырях, в домах священников или мирян, — они обнаруживали иконы с его изображением. Валентина поехала с целью отыскать могилу бабушки, везла с собой большой деревянный крест.
В городке, где бабушка похоронена, никаких документов за давностью лет и после трех войн не сохранилось. Тогда Валентина снова помолилась в городском храме перед иконой святителя Иоасафа — и первая старушка, которая вошла в храм, рассказала, где ее бабушка похоронена: они когда-то давно были знакомы. Также чудом уже после закрытия Киево-Печерской лавры для посетителей Валентина не только смогла туда войти, но была проведена в пещеры для поклонения мощам святых: один монах сжалился над плачущей старушкой. Там, в лавре, у старца она получила благословение на восстановление разрушенного храма, в котором служил дедушка Валентины. И вот больная пенсионерка с мизерной пенсией строит храм. Нашлись и люди добрые, и средства, и силы.
Правда, этот праздник подпортила Люба. Она подвела Андрея к Валентине и похвастала: «Вот какого я вам неофитика привела». — Потом повернулась к Андрею: «Поцелуй Валентину в щечку, она у нас хорошая!» Он чувствовал себя собачкой на выставке.
Люба после выпитого вина разошлась: читала стихи, сначала духовные, а потом и совсем другие, где кто-то к кому-то прижимался и «палил огнем горячей плоти». Когда сестры-сотрудницы пытались ее утихомирить, она стала развивать теорию, что главное в духовной жизни — это не впасть в уныние, а быть всегда веселым; не отвергать жизнь мирскую, а преображать ее; не умертвлять в себе плотское, а жить в гармонии с естеством. Гармоническое преображение ей виделось только в сфере любви, в современном смысле этого емкого слова.
Поздно вечером Люба провожала Андрея на автобус. Стояла тихая звездная ночь. Только Люба нарушала тишину громкими возгласами: «Ах, какая красота! Ах, какое небо! Посмотри, посмотри на эту огромную луну!» На остановке в обнимку сидели юные парочки, пили вино из бутылки и целовались, вероятно, и в них луна возбуждала страсти. Андрей вспомнил, как его знакомый психиатр как-то рассказал, что в полнолуние у шизофреников наблюдаются обострения. Люба, полузакрыв глаза, прижалась к Андрею и положила голову к нему на грудь. Он вежливо отстранился и спросил, не перепутала ли она его с кем-нибудь другим. На что она, так же томно улыбаясь, ответила: «Ну, что я могу с собой поделать, если я такая ласковая?» Андрей хотел ее спросить, почему же он не наблюдал ее ласковости по отношению к детям, на которых она только визгливо покрикивала, но смолчал. Автобус все не появлялся. Люба рассказывала о знакомом актере, который «смеха ради» ездит на машине в рясе священника, «мудро» совмещая духовное с мирским. Когда все это Андрею порядком надоело, он остановил такси и уехал.
Каждый вечер Люба ему звонила и долго рассуждала о любви, цитировала Ричарда Баха — «американского Экзюпери». Пыталась наставлять Андрея, цитируя святых отцов, и по-своему, весьма вольно, их толковала. По ее теории получалось, что свободная любовь, ежедневное употребление коньяка и даже травки, если чуть-чуть и для вдохновения, — это вполне допустимо; что кушать можно, что хочешь, пост не обязателен. Чаще всего она приводила слова царя Соломона: «Утешайся женою юности своей… любовью ея услаждайся постоянно».
Доводы Андрея, цитаты из Писания и из святых отцов до нее не доходили — слушать она умела только себя. Тогда Андрей попросил ее больше не звонить, на что она стала цитировать уже настоящего Экзюпери, вернее его Лиса, который сказал, что они в ответе за тех, кого они — лисы, наверное, — приручили.
Андрей не первый раз слышал от женщин (всегда только от женщин) эти слова, поэтому открыл «Маленького принца» и разыскал место, где появляется Лис. Заинтересовало Андрея то, как объясняет Лис, что такое приручить: это значит создать узы. Почему же женщины так любят связывать узами (цепями, веревками, законами, обязательствами) мужчин? Почему один из расхожих приемов обуздания — это совращение мужчины с последующим цитированием Лиса, а если не удастся эта уловка, то и милицию подключат, и родственников, и про совесть говорить станут. Не так ли и Ева — первая создала узы греха?
Андрей решил выяснить этот вопрос у отца Сергия. Ответ был таким: «Горше смерти женщина, сынок, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Так сказал Соломон. Все мы грешные, потому уловляемся женщинами. Будь с ними осторожен. А лучше держись подальше.
Помни, если женщина не видит в мужчине господина, если пытается его поучать, командовать им, значит, через нее действует враг-искуситель. А из всех уз принимай только Крест Господень. Это всегда первое и главное. Только через любовь к Богу можно любить человеков. А без этого — страшно. Не становись рабом человеков, слишком большой ценой за тебя плачено».
Спустя несколько дней Люба приехала к нему и стала упрекать его в черствости, ненависти, эгоизме. Говорила, что он ничего в христианских отношениях не понимает и его еще надо учить и учить. Разумеется, учить его должна она, по-видимому, уже достигшая вершин совершенства. Андрей вспомнил слова батюшки, сидел и молча читал молитву о ее помиловании и вразумлении. Наконец, она остановилась, умолкла, оделась и молча вышла.
С тех пор Андрей молился за Любу и за ее сыновей, как за болящих. И вот встретил ее в храме — она даже не узнала его, только мазнула по его лицу холодными пустыми глазами. Казалось, что это уже не человек, а пустая оболочка. Как опасны пути гордыни! Какие утонченные формы она может принимать! Но самое главное в этой истории — это слова батюшки: «Нет в ней покаяния».
Ох, никогда нельзя нам останавливаться на этом пути. Наш земной путь — совершенствование в покаянии и смирении. Остановка на этом пути, хотя бы малое самодовольство — смерти подобны.
По пути домой Андрей заглянул на оптовый рынок. Блуждая между контейнерами среди рыскающей платежеспособной еще толпы, он увидел церковный лоток. За прилавком стояла Маша и что-то терпеливо и доброжелательно разъясняла пожилой покупательнице. В лице ее, обрамленном светлым платочком, появилось что-то незнакомое. Просветленность, что ли?
Андрей залюбовался ею. Вот та самая смиренная любовь, то самое единственно возможное земное счастье — она, несомненно, стала счастливой любящей женщиной… Маша, наверное, почувствовала на себе посторонний взгляд и подняла глаза на Андрея, но, едва коснувшись его лица взглядом громадных карих глаз, застенчиво спрятала их под сенью густых длинных ресниц.
— Здравствуй, красавица! А я вот увидел тебя и просто залюбовался.
— Здравствуйте, Андрей…
— Вот так… мы что, уже на «вы»? Французами стали?
— Простите… — совсем смешалась Маша.
Из сумеречной глубины контейнера появилась бледная Елена, подслеповато щурясь на яркий свет, приветливо поздоровалась с Андреем. Она скороговоркой объяснила, что теперь с покупателями общается Маша: у нее больше покупают. Она уже способна ответить почти на все вопросы: какая икона для кого и для чего, знает жития великих святых, умеет посоветовать, какую лучше купить утварь или в какой книге найти ответ, и вообще она у нее умница и работать с ней одно удовольствие.
— А ты, Лена, не отпустишь Машу на обед со мной на полчасика?
— Конечно, конечно. Сходи, Машенька, не волнуйся, я подменю.
Пока они продирались через густую толпу к выходу, Андрей у рыбного лотка купил мороженого судака и сунул его в сумку.
— Дома на обед зажарю, — пояснил он все еще смущенной Маше. — Вон там есть кафе, давай присядем.
Они выбрали пустой столик в тени и сели в пластмассовые кресла.
— Что-то подобное у нас уже вроде было, да?
— Угу.
Подошла официантка и приняла у них заказ.
— Машенька, ты очень хорошо выглядишь, сразу видно, что у тебя все хорошо.
— Простите меня, пожалуйста…
— Да что же это такое? Ты вроде как себя обязанной чувствуешь?
— А разве не так? — она виновато подняла глаза, полные слез. — Вот у меня теперь все есть: и дом, и муж, и свекровь добрая. Сережка мой из хулигана серьезным мальчиком становится. А вы рыбу сами жарить будете в своей пустой комнате в коммуналке… Может, я пожарю?
— Поверь, Маша, у меня есть все, что мне нужно. Даже больше. А от тебя мне ничего не нужно. Только знать, что ты счастлива.
— За что вы ко мне так?
— Да что это с нами происходит! Ну, скажи, пожалуйста, что такого героического я для тебя совершил?
— Все!
— Да не я это — Господь Бог все тебе устроил. Я просто выполнял волю Его! Что же это с нами, Господи? Почему мы уже простое человеческое участие воспринимаем как что-то сверхнормальное? Пойми, Машенька, это самая большая радость — делать что-то доброе другому человеку… бескорыстно. Делаешь, потому что совесть велит. Для того, чтобы этому человеку хорошо стало. Понимаешь? Это радостно — видеть, как воля Божия совершается через тебя. Это очень здорово, когда Господь открывается человеку — ни за что… понимаешь, ни за что! Потому что Он любит тебя, являет тебе, грешному, Свою любовь! За что, спрашиваешь? А вот за то, чтобы ты стояла воскресным солнечным днем за прилавком церковного лотка и своей улыбкой заявляла всем: я счастлива! У меня есть Бог, и Он меня любит! А дома меня ожидают любимый муж и любимый сын, и мы живем в любви! Да, мы купаемся в любви Божией. Потому что Он, Господь наш, — и есть любовь. Любовь истинная, животворящая, всемилостивая, всепрощающая, вечная! Иисус Христос — это бесконечный океан любви! Идите к Нему — и у Него вы ее обретете!
Маша смотрела на Андрея, и по ее щекам струились слезы. Она их не стыдилась и не вытирала. Скорей всего, она их и не замечала. Андрей достал свой носовой платок, проверил его на стерильность и молча протянул Маше. И только тогда она опомнилась и заплакала навзрыд. Официантка принесла поднос с тарелками и вопросительно глянула на Андрея. Он кивнул: все нормально, помог составить тарелки и мягко ее спровадил. Маша глубоко вздохнула и успокоилась. Автоматически взяла вилку и робко тронула салат. Некоторое время они молча ели. Потом Маша подняла глаза и уже весело сказала:
— А я не знала, как с тобой говорить.
— Как с братом.
— Всем бы такого братика…
— В угол поставлю!
— Все-все. Больше не буду. — Маша улыбалась. — А как тебе Господь открылся? Расскажи.
— Трудно, Машенька. Мучительно. Наверное, я слишком гордый. Потому и трудно. Это надолго.
— Расскажи. Мне это будет полезно.
Андрей отставил тарелки, отхлебнул чай и негромко произнес:
— Жизнь прекрасна!
Он подставил лицо солнцу. Немного помолчал, собираясь с мыслями, потом продолжил:
— С самого детства мальчик приносил родителям радость. Милый, послушный ребенок с ангельским личиком, он не водился с дворовыми хулиганами, учился легко и с удовольствием, занимался спортом, и там, в детской спортивной школе, числился в любимчиках. Его тренер вырастил олимпийского чемпиона по боксу, двух чемпионов страны. Его юношеский удар прямой справа имел убойную силу молота, реакция и подвижность — как у гепарда, выносливость — как у бульдога. Кроме того, его интересовали в разное время и фотография, и радио, и авиамоделизм, иностранные языки.
У них во дворе, кроме детей рабочих, появлялись сыночки и дочки больших начальников. Эти редко играли в футбол или в другие дворовые игры, то есть почти никогда, зато их можно было наблюдать с нотными папками, зачехленными теннисными ракетками, вечно спешащими из просторных квартир в свой мирок, куда «простых» не допускали. Нельзя сказать, что путь в эту компанию был ему заказан, напротив, на дни рождения к ним мальчика приглашали через его отца-начальника; и он заходил туда, только ненадолго, потому что уже тогда его отвращали в этих детях неприятный апломб и высокомерие.
Друзья мальчика, хоть и имели происхождение попроще, но интересы имели не менее обширные, а знания совсем не слабее, чем у «номенклатурных» детей. Зато с ними можно было запросто. В их среде тебя ценили за твои реальные ценности, особенно за честность и знания, честь и благородство.
Иногда их день начинался на утренней рыбалке, потом они на велосипедах колесили по всему району, забирались на свалку стройматериалов, играли в диверсантов на развалинах жилого дома, с самой войны уродовавшего их красивый, утопающий в зелени район. Закончиться такой день мог в театре или у кого-нибудь в гостях, где они, прилично одетые, степенно вели себя на радость родителям.
Но вот настал тот самый страшный год их детства, когда смерть так близко прошла рядом с ними, обдав их смрадным сладковатым духом. Сначала умер от рака легких отец Юры, потом через месяц от белокровия — мать Димы. Еще через пару месяцев — мать Саши сначала разбило параличом, а вскоре она умерла; сосед по подъезду умер от астмы. Похоронный марш, разрывающий душу безысходной тоской, под громкий плач женщин раздавался во дворе все чаще и чаще.
Мир детства, такой уютный и надежный, вдруг стал рушиться. Только вчера они сидели на скамейке с Юркиным отцом дядей Лешей и он, похудевший и бледный от болезни, тихо и по-доброму разговаривал с ними… И вот его неузнаваемое пожелтевшее тело уже выносят в страшном красном ящике… Семья потеряла кормильца, Юра вынужден уйти из их школы в вечернюю и устроиться учеником слесаря на завод, чтобы помочь матери «тащить» семью: бабушку, брата и сестренку.
Вечерами мальчик напряженно сидел на диване в комнате, где вся его семья собиралась смотреть вечерний фильм. Он всматривался в лица родителей и со страхом думал: что же будет с ними, если больной астмой и желудком отец… Нет, он не мог даже произнести это слово по отношению к своему доброму, честному и сильному отцу. Он думал, что существует какая-то мощная сила, которую все называют судьбой или роком, и вот эта таинственная, невидимая, но так остро ощутимая сила правит жизнью и смертью. В мерцающей темноте он переводил взгляд с отца на мать и упрямо повторял про себя: «Отец будет жить! Мать будет жить! Я буду жить!»
Вся его детская сущность ненавидела и отвергала смерть! Он ее не только боялся, но само это понятие хотел вычеркнуть из жизни. Все чаще отец, друзья заставали его в долгой задумчивой неподвижности, и это их иногда пугало. Чтобы не огорчать своих любимых, он говорил, что, наверное, он взрослеет и ему уже есть, о чем задуматься… Взрослые качали головами, вздыхали или улыбались, но отступали. А он снова погружался в мысли о жизни и смерти.
И стал искать мальчик возможность уничтожить смерть и найти тайну бессмертия.
Сначала он обнаружил, что стал по-новому смотреть на окружающих. Его взгляд из порхающего мотылька превратился в скальпель, препарирующий действительность. Взгляд этот высматривал в судьбах окружающих его людей самое главное и под чужеродным наслоением открывал истинную суть. Обнаружилось, что большинство людей живут бессмысленно, потому что цели у них нет. Вернее, за цель жизни они принимали средства: учебу, жилье, супружество, воспитание детей, работу. Но вопрос: для чего вам все это? — их обычно злил. Также всем не нравился вопрос: что с ними будет после смерти?
Книги, которые читал он во множестве, тоже не давали ответов на его вопросы. В них с чем-то боролись, преобразовывали мир — а для чего, во имя какой цели, непонятно.
Ответы вроде «Все для детей» или «Во имя будущего» его не устраивали. Получался замкнутый круг: они для нас, мы для детей, дети для внуков, а для чего все — не ясно. Их учили тогда, что хоть нам сейчас трудно, но вот наши дети будут жить в таком обществе, когда придет изобилие. Ну, будет много еды или техники, книг и театров, ну, поели и пошли смотреть что-то, а смысл? А цель? Да мы и сейчас что-то там кушаем, и читаем, и смотрим в кинотеатрах. В общем, бессмыслица!
Однажды его пригласили на вечеринку в один дом, где им показали «тарелочку». Дамочка на листе ватмана в круге написала цифры и буквы, нагрела тарелочку над пламенем свечи и вызвала дух поэта Блока. Ему задавали вопросы, и этот невидимый дух довольно правильно отвечал, подводя тарелку то к одной, то к другой букве или цифре. Он спросил, когда родилась его бабушка, — и получил дату рождения, которую никто знать не мог.
Тогда он не знал, насколько опасно общение с нечистыми духами. Дамочка, устроившая это представление, вскоре оказалась в психушке. Но он сделал один очень важный для себя вывод: кроме видимой, есть еще жизнь и невидимая! И значит, есть «что-то» — ему пока что неизвестное — после смерти.
Поиск смысла жизни получил новый стимул. Однажды в книжном магазине он купил справочник атеиста, книгу по гипнозу и учебник по психиатрии. Читая эти книги, он ощутил состояние голода — это, когда тебе говорят о пище, а кушать не дают. Товарищи материалисты постоянно пользовались понятиями совсем нематериальными: душа, мораль, бессмертие, вечность; но вот сути этого не открывали. Они боролись с Тем, Кого якобы не было.
Читал он тогда и Библию, вернее выдержки из нее, но ничего не понимал. Атеисты писали, что в этой книге масса противоречий, накладок, сроки ее написания якобы не соответствуют заявленным в ней. Недоверие они посеять сумели… Но кое-что из Библии в памяти осталось: семена упали на почву и ждали полива.
Потом власть коммунистов мало-помалу прошла, и на их место пришли любители гласности. Вот уж когда ему довелось почитать всласть! Все ранее запретное стало появляться на книжных развалах. Читал он о духовном все подряд: Блаватскую, Бейзант, Рерихов, Лазарева, Бумбиерса, Даниила Андреева. А однажды на день своего рождения сам себе подарил Библию. Он знал точно, что разгадка тайны бессмертия в этой области, где-то рядом…
Но, читая теософов, глубоко внутри он постоянно чувствовал какое-то предостережение: осторожно, опасность! Они все ненавидели Православную Церковь и осыпали ее упреками.
Он понимал, что коммунисты очень грамотно накормили народ ложью, нагромоздив в душах людей завалы лжи. Он их расчищал, как после бомбежки, но осколки из души еще долго приходилось вырезать с болью.
В церковь он тоже иногда заходил и пытался там найти священника для разговора, но то ли церкви были закрытыми, то священников после окончания службы найти не мог. И ему иногда казалось, что теософы в чем-то правы… А однажды по телевизору показали интервью с женщиной из дианетиков. Корреспондент спросил ее, почему она здесь, а не в церкви? На что женщина сказала, что она пробовала в церкви найти ответы и утешение, но не нашла. А вот только зашла к дианетикам, как ее тут же окружили участливые люди, напоили чаем с кренделями… Словом, она сразу ощутила, что ее проблемы здесь могут разрешить.
Конечно, проблемы были схожи, но он для себя решил не торопиться к американцам, а поискать в своем доме. Все-таки русский он…
И вот как-то у Лазарева в «Диагностике кармы» он запнулся о рассуждения о смирении. Поразили его сравнения смирения с высшей степенью защиты человека от внешней агрессии. Действительно, смиренные дети и старики наименее подвержены агрессии, а самая опасная группа риска — это сами агрессоры, те, у которых наивысшая уверенность в своих силах и наименьшая степень смирения. Что-то в нем тогда очень сильно засело! Он стал перебирать в памяти самое главное, что успел прочесть из духовных книг. И понял, что единственная религия, которая основывается на смирении, — это христианство.
Теперь осталось разобрать в душе тот завал мусора, который мешал ему прийти к пониманию христианства. А вот этот процесс в нем затянулся надолго: никак гордыня в смиренную истину его не отпускала. Ох, с какой болью приходилось ломать себя! С какими мучениями ржавые осколки гордыни выдирались из души! Ярлык «мракобесия и темноты», как амбарный замок, висел на двери в храм его души. И неизвестно, сколько бы он еще простоял на паперти перед входом в церковь, если бы не помощь, внезапно явившаяся от его бабушки. Она ему открыла тайну о своей православной вере.
Тогда двери храма открылись для него, и он вошел внутрь. Перед ним во всей своей чистоте, величии и неотмирном свете явилась Истина — Иисус Христос!
И открыл он для себя тайну из тайн — жизнь вечна, смерти нет!
Но «многие знания рождают многие печали»! Оказывается, вечность имеет две противоположные грани: вечная жизнь в Царствии Небесном и — увы! — вечные мучения в аду. Вывод, который он сделал после, был просто страшным: никто из живущих на земле по грехам своим не достоин вечной жизни. Но следом оптимистично и радостно открыл истину еще одну: что невозможно человеку, то возможно Богу! Приди к Нему, Отцу Небесному, и, как сын блудный из евангельской притчи, упади в покаянии на колени — и даст Он тебе и прощение, и возвращение в дом Свой. И ни слова упрека, но только радость отцовская: «сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Вот такая история.
— А в армии… он служил? — полушепотом спросила Маша.
— Об этом лучше не говорить, слишком там много было страшного.
— А все-таки?..
— Ну, ладно. Попал он в спецвойска. Там учили не защищаться, а сразу — убивать. С оружием или голыми руками — не важно. Главное — это одним движением убить противника. Например, в ближнем бою пальцами вырвать глотку, сердце, выколоть глаза, скрутить шею. Там же ему пришлось научиться кушать змей и крыс, ежедневно пить водку стаканами и попробовать наркотики всех видов. Но самое страшное было не днем, а ночью. Вся казарма стонала и выла. Всем снились адские сны. Ему тоже. Он утопал в реках крови и горел в огне преисподней, видел горящие бесовские глаза и падал в совершенно черную тьму. Тогда он снова, после первых детских заклинаний, стал молиться…
Андрей замолчал. Потом, глянув на притихшую Машу, с улыбкой произнес:
— Заметь, сестричка, я настаиваю на этом: жизнь прекрасна! Потому что, когда в сердце Иисус Христос, то нет страха, нет уныния. Зато есть твердая уверенность в том, что Он, непостижимо великий, совершенный и нечеловечески, Божественно милостивый, направит на правильную дорогу, оградит от заблуждений. И уж если попустит скорби и болезни, то обязательно — на пользу нашему спасению и для обретения нами жизни вечной. А ты поверь, наш Господь настолько добр и милостив, что постигать это — уже великая радость. А если со мной Господь, то кто против меня?
— Послушай… а это… как же искушения, бесы и все такое? — почему-то шепотом спросила Маша.
— Так это все имеется независимо от нашего желания и веры. Это есть у всех. И влиянию сил зла подвластен любой человек. Но вот только христиане имеют возможность защищаться от этой агрессии. У нас есть смирение. Смирись — и вся эта нечисть от тебя улетит. У нас есть молитва. Попроси в молитве помощи у Бога — и тут же получишь помощь и защиту. Пост — для смирения страсти, исповедь для очищения от греховной грязи; а причастие Святых Таин, Святое Писание, молебны, паломничества, мироточивые иконы, святые мощи, чудеса… Вот сколько всего нам дано — только защищайся, побеждай и радуйся, что с тобой такая силища!
Вечером Андрей позвонил Лиде и спросил, не знает ли она, где ее кузина. Лида промямлила, что лучше Алену несколько дней не беспокоить: она заболела. Потом перевела разговор на отца Сергия, уж больно он сам и его семья Лиде понравились. Сказала, что собрала кое-какие детские вещи и хочет им отвезти.
Андрей вспомнил сегодняшнюю необыкновенную кротость отца Сергия, в душе его затеплилась благодарность к этому замечательному пастырю и человеку.
— Отец Сергий — настоящий подвижник. Он никогда никому не отказывает в просьбах. Когда у него есть время, он сам ходит по больницам, домам престарелых, колониям и там служит. Его несколько раз даже били: то хулиганы за то, что в рясе ходит; то сумасшедшие, то заключенные. Но он все равно служит и никому не отказывает.
Андрей помолчал, что-то вспоминая.
— Он как-то рассказал странную историю. Я под впечатлением этого стал гораздо серьезнее относиться к исповеди. А дело было так. К нему обратилась знаменитая актриса, у которой семь лет мать лежала в параличе, ходила под себя, молчала — но зато глаза ее на всех смотрели по-прежнему властно и даже зло. Актриса эта нанимала сиделок, но дольше недели никто не выдерживал. Это, несмотря на очень хорошие деньги. А сама она стала терять роли, контракты. Ну, ты знаешь, там ведь надо постоянно быть в тусовке, чтобы тебя приглашали. Тогда актриса наконец-то додумалась до главного: пошла в церковь и поговорила со священником. Как ты понимаешь, им оказался наш добрый батюшка Сергий. Он сразу собрался и поехал к ним домой. Когда он в рясе и епитрахили зашел к бабушке, та вдруг ожила, немного зашевелилась. После прочтения батюшкой покаянного канона она вдруг заговорила. Тихо, шепотом, почти непонятно, но стала исповедоваться. Больше часа она каялась, плакала, всю свою жизнь пересмотрела. Потом ее батюшка причастил. Она перекрестилась сама. После благодарственной молитвы она снова замолчала и перестала двигаться. А на следующий день умерла тихо и спокойно. Оказывается, все эти семь лет она ждала исповеди и Причастия, чтобы не уйти из жизни с тем грузом грехов, которые мучили ее и держали на этом свете.
Лида рассказала тогда о своей бабушке, которая тоже несколько лет в слабости лежит в постели и мучает родичей. Андрей вспомнил, как однажды видел эту бабушку на их свадьбе. Она очень понравилась ему своей добротой и умными словами, которыми напутствовала молодых. Помнил ее большие теплые ладони, в которых она задержала руку Андрея, ее добрую старческую улыбку.
— Слушай, ну что же ты не говорила об этом? Вот отец Сергий ее и исповедует. Разве он откажет!
— Да я, как та актриса, сама до этого не додумалась. Это ты сейчас только мне об этом рассказал, и я о бабуле сразу вспомнила. Тогда я позвоню батюшке, можно?
— Конечно! Не можно, а нужно. И немедленно!
Лида позже рассказала: на следующий день она на машине привезла отца Сергия к бабушке. Он исповедал ее. Правда, она сама говорить не могла, только кивала, когда он зачитывал перечень грехов. Пыталась сама перекреститься, но смогла только чуть приподнять руку. Тогда ей помог батюшка. Причастил ее, прочитал молитвы. Бабушка после ухода священника все молча плакала и легонько улыбалась. А на следующий день умерла. Лицо ее после смерти будто продолжало улыбаться и благодарить живых за такую важную услугу ей, мучительно долго умиравшей.
Бригада
С утра крапал мелкий ознобный дождик. Электричка жалобно скрипела и еле плелась, сотрясаясь от лязга разболтанных движков. Серо и сыро прижалась к мокрой траве вся намокшая заоконная живность.
Андрей набросил капюшон ветровки на голову и, съежившись, вышел из вагона на лаково-черный асфальт платформы. Ни одного человека не встретил он, пока, прыгая через лужи и заляпываясь жидкой грязью, шел к объекту.
«Наверно, уютно им, — со вздохом подумал пешеход, — жителям этих притихших домов, сидеть в сухости и тепле у разожженного камина, в закопченном нутре которого мирно потрескивают березовые дровишки; почитывать скучноватую затрепанную книжку и гладить шерстяную мордуленцию собаки, лежащей в ногах. А книжка обязательно должна быть немного скучноватой, чтобы, как говаривал Пушкин, можно было отложить ее и погрузиться в несуетные размышления, навеянные желтыми захватанными страницами. А собака непременно должна быть большой и старой. И печальные умные глаза ее преданно ловят блуждающий взгляд хозяина. И никаких звуков в доме, кроме шороха дождя по крыше и листьям, потяжелевшим от налипших капель. Кап-кап…»
Сырость забралась и под крышу строящегося дома. Бугор кивнул Андрею и продолжал шлифовку швов между панелями. Сегодня они сдавали монтажный этап заказчику, по этому поводу все поверхности здания вычищались до ровного матового блеска. Часы показали десять, и тут же шорох рифленых протекторов джипа возвестил о прибытии хозяина.
Андрей вел заказчика, источающего улыбчивое барское благодушие, по зданию и сам получал удовольствие от процедуры приемки-сдачи. Эти трудяги-чистюли продолжали что-то скрести и заклеивать, затирать и шкурить только им заметные шероховатости.
— Вы что тут — пропылесосили все? — качая головой, удивился заказчик.
— Не только. Мокрую уборку тоже сделали.
— А это не лишнее? — бросил заказчик, достав трубку сотового телефона.
— Под высококачественную отделку — надо.
— Петруша, неси, где ты там? — сказал заказчик в микрофон.
Вошел детина, положил на стол перед хозяином дипломат и удалился после отмашки хозяйской руки.
— Получи, Андрей, за этап, как договаривались. Молодцы, даже придраться не к чему.
— Спасибо, Владимир Иванович. Завтра придут отделочники. Мы их устроим и с Бугром на недельку отъедем. Не против?
— А зачем, если не секрет? Может, работу искать? Так я вас теперь лет на пять объектами обеспечу.
— Нет, в монастырь зовут. Помочь надо.
— Ну, давай, давай. Ты и на мою помощь можешь рассчитывать.
— Я все узнаю и расскажу.
— И еще, — хозяин сделал паузу. — Лично от меня тебе… Спасибо.
— И вам спасибо, Владимир Иванович. Простите, что я с вами как-то… неласково, — улыбнулся Андрей.
После отъезда хозяина Бугор собрал бригаду и раздал деньги. Потом повернулся к Андрею и попросил:
— Расскажи всем про дворец, я пытался пересказать, но что-то подзабыл.
— А! Хорошо. Святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, узнал как-то, что некий епископ Троил страдал сребролюбием. Поэтому решил дать ему возможность исправиться. Для этого пригласил его в больницу. Там он предложил Троилу раздать больным милостыню. Тот не хотел выглядеть скупым и раздал золота на целых тридцать фунтов. Сумма по тем временам немалая. Дома Троил почувствовал приступ жадности и стал сильно жалеть о розданных деньгах. Пригласил его Иоанн в гости на трапезу, а Троил отказался, сказался больным. Понял тогда все патриарх и лично явился к Троилу. Отдал ему потраченные тридцать фунтов и попросил написать своей рукой, что награду свою за проявленную милость он передает Иоанну. Написал тот расписку, получил с радостью деньги и после этого успокоился. Патриарх взмолился Богу об исцелении несчастного от тяжкого греха сребролюбия. А ночью Троил во сне был восхищен на небеса. И увидел он дворец красоты неописуемой, весь в золоте и драгоценных каменьях. Но вот появляется перед дворцом ангел и заменяет начертанное на нем имя Троил на Иоанна, поясняя, что тот выкупил его за тридцать золотых. Заплакал тогда сребролюбец и понял, что он потерял. И где. После этого вразумления Троил стал милостив и щедр.
— Мы тоже решили строить дворец на небесах. Давайте, мужики, скидывайтесь по тридцатнику золотых.
Бугор первым бросил в дипломат увесистую пачку денег. За ним подходили остальные, и кто сколько бросали деньги. Последний опустил крышку, щелкнул замочком и протянул чемоданчик Андрею.
— Спаси вас Господи!
— Во славу Божию… — нестройно раздалось в ответ.
— Мне здорово повезло, что я с вами работаю. Правда! — задумчиво произнес Андрей.
— Чего там… нам тоже с тобой повезло. Молись за нас. Как на Руси говорили, не стоит село без праведника.
— Не зря все-таки Бог нас собрал в одну команду, — отозвался Бугор. — Будем работать теперь не для денег, а во славу Господа.
Молчаливые обычно работяги, честно выполняющие свою работу, никогда не ноющие и не требующие денег, может быть, потому и имеющие их, они сейчас говорили скованно, потупив глаза. Андрей чувствовал к ним большую благодарность и любовь, подошел к каждому и крепко троекратно расцеловал их в бритые, щетинистые и бородатые щеки. От них пахло потом, но запах этот Андрей почитал выше самых дорогих парфюмов. Их скупые и неловкие, но тем не менее торжественные слова одновременно волновали и успокаивали.
Провожать Андрея до платформы вызвался Гена. Бугор отпустил, но попросил на обратном пути захватить шампанского и фруктов. Они снова пришли в кафе. На этот раз Гена взял себе двести коньяку и сразу у стойки выпил, потом еще сто и с этим уже сел за столик.
— Гена, ты что, снова запил? Бугор же взял тебя обратно с испытательным сроком. Вышвырнет — погибнешь.
— Сегодня можно. Видишь — сам шампанское заказал. Я тебе что хотел сказать-то… Ты видел, сколько кинул в ящик Алеха?
— А разве за этим кто наблюдает?
— А я посмотрел. Все пачку-две, а он три бумажки. Вот жадина!
— У-у-у-у-у, Геннадий Иванович, да с тобой совсем плохо. Каждый отдал, сколько посчитал нужным. И не нам его судить — это дело только совести человека. А вот тебе нужно за собой понаблюдать. Я, например, не уверен, что Бугор для тебя сделает поблажку даже в честь праздника. Я не уверен, что завтра ты не сорвешься и не начнешь запой. А вот в чем уверен точно — это в том, что тебе пора на хорошую исповедь. И вот что я тебе предлагаю, Геннадий Иванович. Поезжай-ка ты с нами в монастырь, мы там тебя оставим, будешь им помогать строить. Поживешь по монастырскому уставу — приведешь себя в порядок.
К их столику подошла тощая собака с умоляющими глазами. Они молча протянули ей по кусочку пирожка. Собака аккуратно взяла подачку из руки Андрея и мигом проглотила. Гена привстал со своего стула и приблизил пирожок к собачьей морде, но она испуганно отскочила, утробно тявкнула и, озираясь на Гену, спряталась за углом кафе.
— В монастырь, говоришь? Да я не против…
— Боюсь, что у тебя просто выбора нет. Тебя уже развезло. Если Бугор тебя сейчас начнет гнать — а я в этом уже не сомневаюсь, — то можешь сказать ему, что я предложил тебе ехать с нами в монастырь. Это может спасти тебя от увольнения. А я подтвержу. Хорошо?
— Прости, шеф, у меня в семье неприятности… — опустил он поседевшую голову.
— Гена, я тебе не шеф. У тебя есть Бугор, и я в его кадровые вопросы никогда не вмешивался. А что касается семьи, то назови человека, у кого там нет неприятностей. Может, тебе напомнить мои, или Бугра? Или проблемы того же Алексея, у которого сын на игле сидит? А хочешь, поговори с напарником Лехи — Вадимом. Он тебе такой триллер выдаст — в кино ходить не надо. И никто из них своих проблем спиртным не решает. Ты человек православный, а потому прекрасно знаешь, кто нам эти оправдания подсовывает. Напомнить?
— Не надо, все понял, — с тихой злостью ответил тот. — Я думал, ты человек!…
— А тебя бы устроило, чтобы я с тобой тут напился, потом пошел в бригаду, побил Алексея, опозорил бы его перед всеми. А ты при этом — в белом фраке и с легким ароматом армянского коньяка из самодовольных уст…
— Ну, уж поговорить со мной можно было…
— Поговорили уже. А для пьяного бреда поищи другого. Мне пора.
Андрей быстрым шагом отправился к платформе, куда уже подходил зеленый поезд. Сел он снова в вагон с мотором, который гремел и сотрясал даже прокуренный воздух. Бросил взгляд за окно и увидел стоящего у двери кафе Геннадия, что-то кричавшего и махавшего рукой. «Все, пошел мужик вразнос» — провибрировало в голове.
На вокзале он нашел работающий телефон и позвонил на объект. Бугор уже имел беседу с Геннадием и не выгнал его сразу только из-за переданных ему слов Андрея.
— Пусть поработает в монастыре. Там ему пить не дадут, а пользу он принесет. А потом уже сам решишь: выгнать или помиловать.
— Ладно, разберусь сам, — жестко сказал Бугор и повесил трубку.
Федя
С вокзала Андрей сразу поехал домой.
Во дворе он столкнулся со знакомым прихожанином своего храма.
Федор иногда появлялся в храме, степенно раскланивался с Андреем и становился всегда только справа, на мужской половине, поближе к алтарю.
Его внешность всегда притягивала к себе взгляды прихожан, особенно старушек. Ходил он с изящной тростью черного дерева, слегка прихрамывая; одевался в бархатные сюртуки с блестками, под горло повязывал пестрый платок. Волосы носил длинные, иногда стягивал их красной резинкой, какие обычно используют кассиры для скрепления денежных пачек.
Лицу своему сообщал он выражение строгое, чему способствовали его орлиный нос и глубокие носогубные морщины. В церкви взгляд его был подернут печалью. Но при встречах вне церкви он улыбался, по-детски шаловливо, обнажая белоснежные ровные керамические протезы. В общем, внешность его вносила в отношение к нему — которое у каждого стремится к определенности — раздвоенность и сопутствующее этому смятение.
А тут еще оказалось, что Федор проживает в соседнем подъезде. Он сразу выразил радость и пригласил Андрея в гости, вручив свою визитную карточку с золотыми вензелями, из которой следовало, что Федор служит в арт-салоне художником-дизайнером. Андрей вручил ему свою карточку, бросил ни к чему не обязывающее «как-нибудь при случае» и продолжил свой путь.
Но вечером Федор позвонил по телефону и настойчиво пригласил Андрея к себе в гости на ужин. При этом огорошил, что «стол накрыт, и блюда стынут». Андрей поворчал, но пошел.
Вышел Федор к гостю в бархатном до пят халате с атласными лацканами. В квартире его благоухало духами и цветами, в обилии стоявшими в расписных керамических горшках, как в комнатах, так и на лоджии.
Увидев в красном углу иконы в серебряных окладах, Андрей перекрестился и поклонился им. На бордовой скатерти с кистями в серебряных и хрустальных столовых емкостях томились закуски. В хрустальных графинчиках разноцветно поблескивали напитки.
Федор указал гостю десницей на стул темного мореного дуба в изящной резьбе с мягким бархатным сиденьем, опустил глаза и нараспев прочитал молитвы. Андрей молчал и терпеливо ждал развития событий.
— Закусим, чем Бог послал, — произнес хозяин и стал накладывать на большую тарелку английского фарфора салатики, балычки, осетринку, огурчики с помидорчиками. Потом указал на графины и спросил:
— Водочки, наливочки, винца?
— Сока, пожалуйста. Любого.
— Я тоже почти не пью. Тогда вот своего, — он подхватил графин с оранжевой жидкостью и налил в бокалы. — Это смесь яблочного, морковного и апельсинового.
— Так по какому случаю торжество, Федор?
— Как же? За знакомство! Мы, люди артистические, художественного склада, к тому же прихожане одного храма — разве мы можем позволить себе жить раздельно?
— Мне очень жаль, но я не артист и не художник. Работаю снабженцем на стройке.
— Дело не в должности, а в призвании! — взметнул Федор к потолку перст. — Художника я чувствую, даже если он в рубище и вретище. Верующего тоже… Ко мне ведь, Андрюшенька, люди ходят, — перешел он на шепот.
— Зачем?
— Я молюсь за них, а они мне помогают.
— Чем помогают?
— Я много не беру… Ну там, за то, чтобы отмолить от болезни — сотенку, от армии — две, от тюрьмы — пять…
— Чего — пять сотенок?
— Долларов, Андрюшенька, долларов! Чего же еще?
— А разве можно?.. — Андрей осекся. — И что же — отмаливаешь?
— Ну, не всегда, конечно… Но тогда объясняешь, что, значит, на то воля Всевышнего — сидеть, болеть, служить…
— И верят?
— А что им остается? Вообще-то случается, иногда и до рукоприкладства доходит. Но это редко… Ты поел? Садись тогда на диван, а я к тебе присяду, чтобы, значит, не кричать через стол. Садись, садись.
Андрей со скрытым вздохом присел на диван, рядом устроился Федор. Он стал прерывисто говорить о своей инвалидности, убогости, что женщины его не понимают. А любви ему хочется, как и всем. Как же это без любви жить можно? Он достал и бросил на журнальный стол рядом с мощным биноклем пестрые журналы с фотографиями мужчин. Андрей решительно встал.
— Ты опять меня не понял. Вот к этому, — он указал на журналы, — я не имею никакого отношения.
— Подумаешь, у нас, художников, это нормально… Что тут такого?
— Интересно, а как это соотносится с верой?
— А в Библии об этом ни слова. Так что соотносится.
Андрей взял со стола Библию, быстро нашел Первое послание апостола Павла к Коринфянам и прочел в 6-й главе стих 10: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники (!), ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют».
— Что теперь скажешь, Федор?
— Ничего, Бог милостив, он меня по моей убогости простит. А может, останешься?
— Извини, что не оправдал твоих надежд, но я бы посоветовал тебе исповедаться у своего батюшки и рассказать о твоих молитвах за деньги и о своей… страсти.
— Меня тогда из храма погонят. Из одного уже прогнали.
— Хочешь, вместе к батюшке сходим, я помогу все объяснить…
— Нет! Не пойду. Я еще не сошел с ума! И не упрашивай! И вообще, не хочешь — уходи. Мне еще тебе замену искать…
— Одумайся, это же грех! Ты не понял?
— Понял-понял… уходи к…
— Прости его, Господи, ибо не ведает, что творит! — почти с криком обернулся Андрей к иконам, размашисто перекрестился и стремительно вышел.
Алёна
Вечером снова трещал без умолку телефон. Заглядывала Света и приглашала на очередное застолье, организованное ее щедрым пока еще горцем. Андрей уже было хотел выключить телефон и запереться в тишине, но решил последний раз поднять трубку — и услышал тихий жалобный голосок Алены:
— Андрюш, ты меня ждал у храма?
— Конечно… Что с тобой? Случилось чего?
— Случилось… — она боролась с приступом слез.
— Не волнуйся, ну-ну, — мягко стал он успокаивать девушку, — если хочешь, перезвони, когда успокоишься.
— Ничего. Я уже… — она глубоко вздохнула и уже сердито заговорила: — После разговора с тобой ко мне закатился мой школьный друг. После ресторана, пьяный, конечно. Я ему чаю, а он водку поставил и давай — пей с ним. Ему, видите ли, плохо: от него невеста ушла. Я ему сочувствую, выслушиваю его, утешаю, компанию поддерживаю. А он, гад, как с цепи сорвался: набросился, с поцелуями лезет. Я хотела бежать, а он двери закрыл и сбил меня с ног, одежду рвет на куски. Сволочь! Вечернее новое платье от Версаче порвал! Я его для тебя надела. Ударил меня чем-то по голове… А когда я очнулась, он уже убежал. Вот такая история.
— Ты с ним после этого разговаривала?
— Он утром позвонил из автомата, извинялся, говорил, что любит меня, потому и набросился. А потом сбежал куда-то.
— Ох, уж эта ваша «любовь»… — вздохнул Андрей. — Одна животная похоть.
— Ну, начал проповеди! Я ему первому это рассказала, от стыда сгораю, тошно мне… А он, исусик доморощенный, морали мне читать вздумал.
— Дружку твоему школьному тоже ведь утешение нужно было?..
— Что ты сравниваешь! — закричала она и швырнула трубку.
Андрей взял молитвослов и громким шепотом стал читать молитву. Через десять минут снова зазвонил телефон, и снова Алена тихим голоском:
— Прости, сорвалась. Ты не обиделся?
— Да нет, ничего страшного. Ты тоже меня прости…
— Как мне теперь жить? А?..
— Если ты позвонила мне, значит, после нашего последнего разговора ты ожидаешь от меня советов духовных. Ты готова выслушать?
— Готова, — со вздохом протянула она.
— Тогда прости его. А сама сходи в храм и закажи молебен о его здравии.
— Ты хочешь, чтобы я этого подонка простила?
— Он не больший подонок, чем мы с тобой. Причина его поведения в тебе. Я уже говорил тебе, что ты на меня все время действуешь, возбуждая во мне похоть. Твой блудный бес очень агрессивен, я постоянно чувствую его нападки. То, что с тобой произошло, — я думаю, это предупреждение, чтобы ты одумалась и стала защищаться.
— Как защищаться?
— Думаю, что ты душой приняла то, что я тебе говорил на даче. Подсознательно ты встала на путь веры, именно поэтому на тебя усилились нападки твоих внутренних врагов. Видишь, они для начала обрушились на меня, чтобы отомстить, а потом и на тебя, чтобы любыми средствами не пустить тебя в храм. Пока что они выиграли. Что будет дальше, зависит от тебя. От твоего свободного выбора. Я подсказал тебе, что сделать сначала. А вообще-то ты должна научиться защищаться от своих врагов. Твой щит — это молитва, крестное знамение, пост. Твоя крепость — это Церковь. Твои защитники — это Сам Господь, Пресвятая Богородица и все святые с ангелами. Если ты к ним обратишься за помощью и защитой — ты ее получишь. Особенно на первых порах сила твоей молитвы будет велика. Поначалу это всем дается. Так что начни с малого. Возьми молитвослов и начни читать молитвы. Добивайся полной сосредоточенности. В случае рассеивания вернись к началу и перечитай снова. Целью молитвы является смиренная любовь, которая появляется в сердце. Старайся прийти к этому.
— Как? Поясни.
— Как?.. Сначала приходит желание полного подчинения воли Божией, доверие к этой святой воле. Потом наступает тишина в душе, покой, отсутствие мирских желаний. Затем — готовность и желание любить Господа всем сердцем. А в конце концов — и всех людей, которых Он любит не меньше, чем тебя. В молитве не надо просить ничего мирского, то есть денег, славы, мести, наказаний, плотской любви. Об этом сказано у апостола Иакова в его послании: «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Просить же нужно прощения грехов, оправдывая ближних немощью и тем, что ты в какой-то мере повинен в соблазнении их во грех. Просить нужно дарования тебе любви, милости к ближним, терпения в общении с ними. А если есть хоть малейшее сомнение в своей правоте, скажи: «Впрочем, пусть все будет по воле Твоей, Господи!» Я понятно говорю?
— Продолжай, продолжай, я просто размышляю и применяю твои слова к себе.
— Хорошо. Если твоя молитва остается безответной, если по твоему прошению ничего тебе не дается… А такое случается… То проси еще и еще, с верой и настойчивостью, потому как «Просите, и дастся вам». А если и после твоих повторных усилий ничего по твоему прошению не дает тебе Господь, то знай, что это тебе и не нужно. Понимаешь, иной раз нам только кажется, что просимое нами полезно, а на самом деле это может стать вредным или даже смертельным. Положись на волю и милость Божию — Ему всегда видней.
— А после такой неудачи у меня руки не опустятся?
— Уверен, что Господь сумеет каким-то образом объяснить тебе причину Своего отказа. Во всяком случае, утешение ты получишь обязательно. Со временем в твоем молитвенном труде появится опыт, будто Сам Господь будет подсказывать, о чем молиться. И если ты наедине с Богом будешь искренна и настойчива — молитва станет твоей насущной потребностью и любимым занятием. Подумай, сестричка: что может быть прекраснее общения с бесконечно любящим и всемогущим Творцом вселенной! — Андрей помолчал. — Приготовься к исповеди, исповедуйся. Приготовься к Причастию. И ты войдешь в мир, где ты и должна жить. Там твой дом, там твой Отец, там любовь настоящая. То сокровище, которое ты так настойчиво ищешь в миру. Я чувствую, что это твое! Ты живая, ты способна все это принять. А я тебе помогу.
— Что же это такое? Пока ты все это говоришь, я тебе верю и понимаю, а как только остаюсь одна, сразу все улетучивается. И все остается по-прежнему.
— Мир видимый не хочет отпускать тебя из своих сетей. Он окутывает тебя ложью, он будет убеждать тебя в своей истинности. Вот так враг и действует. А уж сколько он тебе предложит разнообразных причин, чтобы не идти к Богу… Такие красивые аргументы тебе подсунет, что мало не покажется. Только ты должна помнить, что всегда на первом месте Бог, а потом все остальное. А чтобы различать козни бесовские и держать себя на духовной высоте, читай святых отцов. Я обещаю тебе удовольствие высочайшее. Несколько минут чтения — и ты уже между землей и небом. Там такая бездна любви и света, что все мирское тебе покажется пошлостью и бякой.
— Ну, что мне с собой делать? Я тебя снова люблю…
— А там, в ее составе, много еще плотского осталось? — шутливо вроде спросил он.
— Этого нет, только желание видеть и говорить с тобой. Но так хорошо на душе стало…
— Слушай, а может, это и есть настоящее?
— Я очень-очень на это наде-е-е-еюсь, — мелодично пропела Алена.
Сиротство
Перед поездкой в монастырь Андрей отправился на вечернюю службу. Ему нужно было получить благословение отца Сергия. Исповедь принимал только один молодой священник, отец Василий, со шрамом на лбу. Он сидел у аналоя, рядом прислонил костыль.
Андрей поискал у иконы святого Николая Чудотворца знакомую сутулую фигурку бабушки Веры. Вот она протирает стекло салфеткой.
— Матушка, где же отец Сергий?
— Андрей? А ты что, не знаешь? — старушка снизу вверх посмотрела ему в глаза. Из-под ее набрякших век сочились слезы, подрагивал пористый подбородок. — Погиб твой батюшка Сергий, Андрюша. Разбился на машине, чтоб они, железки эти, все пропали… Вместе с молодым отцом Василием ехали они. Отец Сергий — насмерть, а молодой — тот выжил. Ох, самых лучших Господь прибирает к Себе. Он ведь в день своего Ангела погиб. А это очень хорошо. Ангел-то его с собой и взял на небеса.
Она поглядела на оторопевшего Андрея, дернула его за рукав и посоветовала:
— Ты свечку за упокой его светлой души на канунник поставь. Не забудь.
Андрей на чужих ногах прошел к свечному ящику и купил самую толстую восковую красную свечу. Подошел к кануннику, положил поклон, одеревеневшими пальцами зажег свечу и с третьей попытки поставил ее прямо, ровненько. Пламя высоко и горячо поднялось вверх, и по свече потекли густые кровавые капли.
«Господи! Прости и упокой душу верного раба Твоего, духовного отца моего иерея Сергия!»
Приложился к окровавленным ногам Спасителя на кресте Распятия. И тут его прорвало… Он стоял, привалившись к холодной стене, и рыдал. Громко рыдал, не замечая повернутых к нему лиц.
Он терял друзей и любимых женщин, его предавали самые близкие, но никогда еще он не испытывал такого острого, опустошающего сиротства. Андрей осиротел. Только сейчас понял он, кем был для него все это время духовный отец. В этом месте души, где так обильно и широко жил батюшка Сергий, «грешный иерей», как он себя сам смиренно называл, его духовник, наставник, друг, «батя», — в этом месте образовалась огромная кровоточащая рваная рана…
Каждое утро, вставая с постели и «прежде всех дел» вычитывая утреннее правило; каждую ночь, становясь на молитвы «на сон грядущим», и в течение дня — он сорок два раза за каждый год жизни духовного отца по черным шерстяным четкам, им подаренным, в течение сорока дней будет со слезами взывать: «Господи! Прости и упокой душу раба Твоего иерея Сергия!»
Все сорок дней он будет носить четки на груди под свитером. Правая рука часто будет прижимать вязаный крест к раненому сердцу. Ночью четки будут лежать рядом с его лицом, и мягкий шерстяной аромат, от них исходящий, будет успокаивать и создавать хоть малую призрачную иллюзию физического присутствия духовного отца.
Сначала гнетущая тоска будет давить его сердце… Потом с каждым днем он будет чувствовать облегчение, на сороковой день Андрей поймет, что чистая душа его духовного отца отлетела в место светлое, место горнее; и там у него появился еще один молитвенник перед Престолом Господним.
Заезжала Лида, и они ездили к семье отца Сергия.
Входная дверь была, видимо, постоянно приоткрыта. Встретил их самый маленький и, обняв ноги Лиды, весело объявил: «А у нас папа умел!» Лида взяла своего любимца на руки и прошла с ним на кухню. Матушка здесь пекла пироги. Помогали ей все дети, в основном, вылепливая из теста фигурки. Раскрасневшаяся от жара хозяйка встретила их мягкой улыбкой.
— Завтра девять дней нашему батюшке, вот к столу готовлю, — пояснила она, — присаживайтесь и пробуйте пирожки.
Нет, она не нуждалась ни в словах соболезнования, ни в утешении. Не было в этом доме рыданий и истерик. С той же улыбкой, ловко управляясь с тестом, матушка сообщила, что батюшка чувствовал приближение своей кончины, предупреждал об этом, со многими прощался. «Со мной тоже», — вспомнил Андрей. За день до аварии исповедался духовнику, причастился…
— А уж кроткий был в последние дни, добрый, как малое дитя! — снова с мягкой, задумчивой улыбкой говорила матушка. — Врачи сказали, что совсем не мучился… Улетел со своим Ангелом-хранителем прямо на небеса! А уж сколько народу сейчас за упокой его душеньки светлой молится!.. Вот и вы, мои хорошие, тоже помолитесь. Ты, Лидочка, ему очень понравилась. А уж Андрея он как сыночка своего старшего любил.
— Матушка, мы вам помочь хотим… — застенчиво начала Лида, взяв сумочку.
— Ой, милые, что вы! Нам сейчас такую помощь оказывают, что стыдно и брать столько… Мы ведь всю жизнь очень скромно жили. Если откуда деньги приходили — а батюшке даже из-за границы слали — так он все в храм относил. Вот и мы так будем жить. Словно он здесь рядом. За одежонку малышам, что ты, Лидочка, привозила, спаси тебя Господи, а больше ничего не надо. Все есть, слава Богу.
Родители
Поездка в монастырь откладывалась.
Сломалась машина Бугра. Потом заболел сам водитель. Заболела его жена, а потом и сын.
Шли день за днем. Зарядили обложные дожди.
Решили ехать на поезде. Как решили — заболел и Андрей. Два дня лежал он с простудой, обливаясь горячим липким потом, в состоянии полузабытья. Он не мог ни есть, ни читать, едва ходил. Заглядывала Света, пыталась накормить его бульоном, но от еды он отказывался. Что она говорила ему — он уже через пять минут забывал.
Ко всему прочему ночью ему приснился странный сон. Он записал, что запомнил, в дневник.
«Последняя судорога, рывок — и душа оставила свое временное пристанище. Непривычно. У меня сейчас будто два тела.
Новое — такое легкое и стремительно быстрое. Я только подумал — и вот уже беспрепятственно пролетел все этажи нашего дома, увидав всех жильцов, успев на лету уловить настроение каждого, чем кто занят, и даже о чем думает, но — остановился, вернулся назад и решил подумать.
Вот передо мной лежит мое старое тело. У, ненавистный мучитель, сколько ты терзал меня! Я хотел поститься, а ты требовал, просил, зудел: накорми, услади, побалуй. Я тебе: подожди, не время. Ты: давай сейчас же! И подпустишь для острастки боль в желудке, ломоту в висках, сосание под ложечкой.
Сколько находился в тебе, ты все требовал свое животное “дай”. Помнишь, как ты меня терзал, когда после детства пришла пора взрослеть? Ты меня искушал и днем, и ночью. Наяву и во сне. Мерзкие картинки ты мне подсовывал, как старый растлитель малолетке. Ты наполнял меня дрожью похоти и нетерпения. Ты набрасывался на мою невинность, как коршун на обессиленную добычу. Ты заставлял видеть в девушках прежде всего самку. Ты меня жег изнутри, рвал на части и позорил, позорил…
Потом ты к моим мучениям добавил вино. Сначала ты услаждался, утешая меня и себя, а потом, когда стали нарастать мучения, ты требовал временного их ослабления новым отравлением. А после эйфории подсовывал мне картинки из преисподней с бушующим пламенем и горящими страшными глазами. И только когда твои мучения достигали апогея, ты позволял мне тебя спасать молитвами и слезами покаяния. Вот когда ты начинал слушать мой голос. Говорил я тебе, умолял, чтобы ты одумался и перестал меня мучить. Но ты обращал на меня внимание только у последней черты, когда тебя уже душил животный страх.
Если этому твоему настоящему хозяину нужны были мои страдания, то он благодаря тебе получил эту плату полной мерой! Теперь ты лежишь тут, покинутый и своим лживым хозяином, и мною, в тебе нарастают процессы разрушения. Еще немного — и ты растворишься в земле. А ведь у нас с тобой была совсем другая цель. Да, у нас! Ты вместе со мной должен был служить истинному Хозяину жизни, который сейчас освободил меня от твоего тиранства. Ты мог бы наполниться животворной энергией вечности — благодатью, и сейчас бы ты не тлел, а благоухал! Что же ты наделал…
Ну, ладно, как бы там ни было, а мы какое-то время жили вместе и делали одно дело. Пусть не так, как хотелось мне, а через мучения. Но… благодарю тебя, мой бывший тиран, и благословляю. Скоро мне отправляться на суд. Вот только прощусь со всеми своими — и вверх. Эх, достанется мне! Но что-то мне подсказывает, что буду прощен. Впрочем, это уже дело не мое, все, что мог, я сделал… с тобой вместе».
А в воскресенье утром Андрей проснулся совершенно здоровым. Никаких последствий болезни не осталось. Принял холодный душ и решил пойти на литургию.
После смерти отца Сергия Андрей не мог заставить себя ходить в его храм. Там все так же торжественно и умилительно служили, но бесконечное сиротство наваливалось на Андрея. Особенно усиливалось это рядом с аналоем, у которого раньше принимал исповедь любимый батюшка.
Поэтому в это воскресенье Андрей поехал на Афонское подворье. Там он купил несколько книжек про Афон, предчувствуя заранее сладостные минуты хотя бы мысленного прикосновения к афонским тысячелетним святыням. На прилавке лежал ладан в коробочке с надписями на греческом языке, взял он и ладан, подумав, что «дым святоотеческий нам сладок и приятен». Заказал он и молебен Преподобному, чтобы он помог вырваться в свою обитель.
Во время длинной службы, которая велась по полному неспешному уставу с некоторым восточным колоритом, ему иногда казалось, что где-то рядом под горой плещется не мутная Москва-река, а светлые голубые волны Эгейского моря. Напротив находились две иконы. Одна, в резном богатом киоте, — великомученика Пантелеимона, другая, с золотистым фоном и с мощевиком, — преподобного Силуана. Андрей чувствовал сильную благодать, исходящую от золотистой иконы. Об этом святом Андрей совсем ничего не знал, и после литургии он снова подошел к свечному ящику и купил книгу «Преподобный Силуан Афонский».
Из подворья он вышел на тихую, залитую солнцем улочку с особняками и решил зайти в гости к родителям, проживавшим в одном из этих таганских переулков.
Дома застал он только мать, отец вышел пройтись по магазинам. Она холодно ткнулась в его щеку:
— Опять от тебя церковью пахнет.
— Это афонский ладан. Разве неприятный запах? — с улыбкой спросил он.
— Ты же знаешь: все, что связано с церковью, мне всегда было неприятно, — ответила она с учительской диктаторской жесткостью в скрипучем голосе.
Андрей с детства наблюдал огромную разницу между двумя учителями: бабушкой и матерью. Насколько бабушка отличалась мягкостью и тактичностью, настолько мать всегда стремилась к жесткому диктату. Бабушка детей любила и делилась с ними своими обширными знаниями. Мать насильно вдалбливала в «дубин стоеросовых» науки согласно школьной программе, беспощадно пресекая всякое сопротивление методической косности и бездушию. Теперь только Андрей понимал, что это разница не между учителями, а пропасть между поколениями, между дореволюционной гимназией и советской школой. Пропасть между религиозным и атеистическим.
— Да что же за отвращение такое у тебя, мам? Что плохого в том, что сын твой стремится к добру и любви?
— Между моим сыном — моим! — и мной стоит вся эта мракобесная поповщина! Так за что мне ее любить? — громко и патетично, как на трибуне партхозактива, провозглашала она. — И кто только тебя таким сделал!
— Ты, мама, и сделала. Вы с папой и бабушкой с детства воспитывали во мне стремление к знаниям и честность, это и привело меня к Богу.
— И вот теперь твой Бог стоит между нами и отнимает у меня сына!
— Бог над всем и во всем. Он, как воздух, везде и, как воздух, все животворит, дает нам жизнь. Как Он может мешать любить, когда Он эту самую любовь нам дает? Если Он Сам и есть любовь?
— Слушать эту галиматью не хочу!
— Значит, все-таки не Бог, а что-то в нас мешает нам объединиться. Я пытаюсь восстановить тысячелетнюю российскую духовную традицию, благодаря которой Россия стала могучей и богатой империей. Неужели ты не видишь, что сделало предательство этой православной традиции с нашей страной? Неужели миллионы жертв, наша нынешняя нищета материальная и духовная не убеждают ни в чем?
— Какая нищета? Да мы жили всегда очень прилично, ты бесплатно получил образование, мы тебя на курорты каждый год возили!
— А ты попробуй все это сказать миллионам, погибшим в тюрьмах. Кого за веру расстреливали без суда и следствия. Деревенским, которые без паспортов жили от своего огородика, да и тот облагали жуткими налогами или вообще отбирали. Революция ни одной заявленной цели не добилась, кроме одного — разрушения Русской Церкви. Вот только с этой целью и заварили они страшную кровавую кашу. И кому, если не нам, теперь восстанавливать порушенное? И если ваше поколение не желает раскаяться, то нам ваши грехи искупать и отмаливать.
В это время, неслышно ступая, бочком вошел отец. С каждым годом он все больше сдавал. Сейчас в комнате с пестреньким пакетом в слабых руках стоял совсем ветхий старичок. Андрей обнял его сгорбленную спину и усохшие плечи.
— Ты, сынок, зря все это говоришь. Мы с твоей матерью прожили честную трудовую жизнь. Мы с работы не таскали, хором каменных не построили. Нам с ней каяться не в чем.
— Каяться даже святым есть в чем. Мы без греха шага не ступаем, — совсем тихо произнес Андрей. Потом примирительно: — Ну, ладно-ладно. Давайте пообедаем чем-нибудь. Я принес еду, давайте посмотрим, что там.
— Не надо!.. — тихо скомандовала мать. — Мы не будем обедать. Тебе уже пора. Здесь ты уже все, что мог, высказал.
Когда Андрей понуро спустился и вышел из подъезда, рядом с ним с глухим грохотом упал принесенный им пакет с едой. Звякнуло разбитое стекло. Сверху на балконе стояла мать и надменно взирала на произведенный ею эффект.
«Пора. Пора мне в монастырь. Совсем запутался. Все сыплется».
Покров
Долгожданного третьего сына отец назвал в свою честь Владимиром, хотя звали его только Вовой. У него имелись еще два брата, но они были старше его настолько, что к Вове относились снисходительно, скорее по-отечески. Мать его работала в милиции, где ее очень ценили за знания и покладистость, дома она в основном отдыхала, поэтому, чувствуя свою вину перед поздним ребенком, задаривала его игрушками, баловала его не как мать, а как бабушка.
Отец по субботам приходил с работы с бутылкой вина. Обив ножом сургуч и выдернув пробку, сразу выпивал стакан темной пахучей жидкости и только после этой торопливой операции приступал к разогреву котлет. Как-то из командировки по Грузии он привез множество воспоминаний, длинных тостов и привычку вместо водки пить вино с сыром и зеленью. Пока шипящие на плите котлеты с гречневой кашей наполняли кухню домашними томными ароматами, отец, напевая, резал брынзу, споласкивал кинзу и укроп, чистил маринованный чеснок и тонко, кольцами, нарезал бордовый краснодарский лук. Только после этого весело и громко звал сына к обеду.
Вова садился на табурет и принимал из отцовских рук брынзу с зеленью и кольцом лука. В эти редкие минуты Вова переставал бояться отца, и ему в который раз казалось, что вот теперь они подружатся и сблизятся. Отец опять рассказывал о своей звездной минуте, когда сам Сталин подошел к нему, охраннику Мавзолея, зоркому часовому на боевом посту номер один, и пожал ему руку. С каждым рассказом количество деталей росло, и Вове казалось, что событие это длилось по меньшей мере год.
Но вот уровень темной жидкости в бутылке снижался, так же снижалось и их настроение: у сына от наступающего страха, а у отца — от всплывающих в памяти воспоминаний. Жилистые кулаки отца сжимались, глаза стекленели, изо рта рвались злобные ругательства и проклятья врагам партии и народа. Иногда и Вове доставались в такие минуты звонкие оплеухи или жесткие подзатыльники, поэтому он сжимался в комок, молчал и тупо смотрел в свою пустую тарелку с застывающими блестками желтого жира. Когда, по мнению отца, все враги до единого уничтожались беспощадным огнем его классовой ненависти, он допивал последние капли вина, качаясь, вставал и, перебирая руками по стене, бормоча ругательства, брел в спальню. Там он всегда курил, лежа в постели, поэтому Вова обязан был проверить, не уснул ли он с горящей сигаретой в руке. Только после того как сын видел окурок погашенным в хрустальной пепельнице, а отца — протяжно храпящим, он мог расслабиться.
Тогда Вова наливал в бутылку из-под вина кипяченой воды, подрезал брынзу и подкладывал зелень, садился на табурет отца и, попивая из отцовского стакана розоватую воду, пахнувшую вином, покуривая отцовскую пересушенную сигарету, своему воображаемому сыну рассказывал выдуманные истории о своих подвигах. Сейчас, в мире мальчишеских мечтаний, которые для него были гораздо важнее жизни настоящей, он не был плаксой и хлюпиком, трусом и ябедой. В эти минуты своего триумфа он своему сопливому сыну хриплым басом рассказывал, как он героически бьет и пытает, режет, стреляет и насилует, как смачно вытирает кровь с ножа и стряхивает мозги врага со своего кителя. Иногда в его «воспитательную беседу» врывались воспоминания прошедшего дня, когда его лупили все, кому ни лень, даже девчонки, за его очередную гнусную подляночку, за наушничество и фискальство… И чем более гадким он себе самому казался, тем более изощренные пытки и кровавые убийства смачно живописал он своему хилому потомку.
Однажды Вова настолько увлекся кровавой выдумкой, что не заметил, как в проеме двери показался проснувшийся отец, который изумленно и трезво взирал на своего наследника. Отец тогда молча встретил затравленный взгляд юного душегуба, опустил налившиеся кровью глаза и молча вернулся в спальню. Через полторы сотни громких раскатистых ударов собственного сердца Вова услышал храп отца и опомнился от страха, обнаружив свои брюки мокрыми. Суетливо простирал одежду, разложил в комнате на батарее и стал быстро убирать со стола. Отец ему вечером ничего не сказал, но ненависть между ними и отчуждение выросли еще больше, а субботние рассказы отца стали более гуманными и патриотичными.
Когда Вова повзрослел, и несколько его первых влюбленностей ничего, кроме тоски и боли, не принесли, он возненавидел своих одноклассниц и сокурсниц. Он не выносил их смеха и одежды, походки и кокетства, от их запаха его мутило.
Только однажды в него, уже тогда дипломника, влюбилась только что приехавшая из деревни первокурсница и весь запас нерастраченной девичьей жалости, которую она приняла за первую любовь, пыталась излить на этого одинокого и никем не понятого прыщавого парня. Вова в первое же свидание пытался лезть с поцелуями, при этом сильно робел, потел, отчего сам себе становился противным. Девушка сначала со смехом отбивалась, потом уже без смеха и довольно сильно и болезненно для чахлого парня, а потом, оттолкнув сильными руками, опрокинула его на спину, засмеялась и убежала. После они обходили друг друга стороной. А женщин Вова возненавидел окончательно.
Братья его жили собственной жизнью, куда Вову не допускали. Старший совсем уже спился и превратился в подзаборника. Работал грузчиком до первого запоя, потом его выгоняли, снова находил работу, снова выгоняли, так и жил он от запоя до запоя, от работы до работы. Мать его несколько раз спасала от ЛТП, но потом вышла на пенсию, заболела от тоски и безделья и умерла от рака крови. А тут и ЛТП отменили.
Средний брат занялся воровством, его кто-то там «подставил», и очень скоро очутился на нарах. Характер имел он строптивый, неуживчивый, кроме того, закладывал всех, кого не лень, начальству, писал отцу из зоны злые обиженные письма, поэтому никто в семье, включая Вову, не удивился сообщению о его «самоубийстве через повешение».
Отец на пенсии от безделья занялся садоводством, вместо заброшенной халупы на дачном участке отстроил двухэтажный дом, нагородил теплиц, стал было разводить цветы и помидоры на продажу, но как-то во время весенней посадочной компании после ночного застолья с бывшим коллегой по органам у него случился инсульт. С тех пор лежит на кровати, плачет, бредит и ругается.
Вова изредка подходит к нему сменить белье и накормить, но делает это небрежно, чтобы скорей уединиться в своей комнате, где можно спокойно читать детективы, смотреть триллеры по телевизору, а по ночам предаваться мстительным утонченным мечтаниям.
Вова не пил и не курил, на людях оставался тихим и молчаливым. Ничем не отличался от множества молодых мужчин, которых женщины считают неудачниками. Как-то после работы, когда запах от одной из сотрудниц отдела довел Вову до тошноты, он решил пройтись домой пешком. Весенний вечер благоухал смолистой листвой и цветами. Первое ошеломляющее майское тепло опьяняло и раздевало горожан чуть не до пляжного уровня. Он шел через парк, свернул на безлюдную аллею и в густых сиреневых кустах увидел девочку…
…Когда по телевизору в его любимой передаче криминальной хроники показали сюжет о зверском изнасиловании и убийстве девочки, он на это никак не отреагировал. А его сладострастные кровавые мечтания с детства услаждали воображение и были его привычной второй жизнью, которой он жил наряду с первой — серой, тошной и унылой. Теперь мечты стали реальностью…
В этот вечер Вова снова бездумно брел по аллее парка, с удовольствием дышал свежим воздухом.
Стройная молодая женщина сидела на лавочке, подставив улыбающееся лицо ласковому вечернему солнышку. Изредка она поглядывала на играющую невдалеке дочурку в ярко-красном платьице. К ней подсел стильно одетый брюнет и заговорил бархатистым баритоном. Он был прямой противоположностью мужу, зато очень походил на тех красавчиков, которыми она любуется в заокеанских фильмах. Женщина мгновенно включилась в древнюю игру, отвечала веселым певучим голосом, наблюдая себя со стороны. Сейчас она себе очень нравилась: поза ее максимально подчеркивала стройность длинных ног, речь проявляла женственность и страстность, умело сдерживаемую приличным воспитанием. В уме она уже просчитывала, что у них с этим красавчиком может сложиться, как, где и на каких ее условиях. Сценки одна слаще другой проносились в голове, заставляя сердце биться часто и сильно.
Иришка выпросила, наконец, мороженое и уже было начала разворачивать блестящую обертку, но мама ее остановила. Она объяснила дочке, что воспитанные дети никогда не едят на ходу и что для этого нужно хотя бы присесть на лавочку. Лида оглянулась, увидела невдалеке парк с уютными аллеями, на которых стояли деревянные резные лавочки. Туда они и отправились отдохнуть от магазинной толчеи и полакомиться мороженым.
Юра устало вышел из офиса, сел в машину и отправился домой. Можно было не торопиться, так как Лида с Иришкой собирались пробежаться по магазинам детской одежды. Лида час назад позвонила ему и сказала, что они пока ничего подходящего не нашли и поэтому задержатся. Юра вспомнил, что у него кончились лезвия. Последнее уже затупилось и дерет кожу, поэтому пора купить новые. Он медленно вел машину по второй полосе и высматривал подходящий магазин.
Вдруг сердце сжалось беспричинной тоской. Он стал вспоминать, не забыл ли чего на работе, но там все было нормально. Тоска нарастала, а причину ее Юра разгадать не мог. Вот из-за угла показалась церковь. Он неожиданно для себя направил машину к бордюру, отыскал свободное место и вклинился в шеренгу плотно стоявших машин.
В церкви он купил свечи и подошел к ближайшей иконе, жадно всмотрелся: Богородица в богатом храме стояла не среди людей, а над ними — на облаке среди святых с нимбами. В руках Она держала покрывало. Юра прочел название иконы: «Покров Пресвятыя Богородицы».
Вдруг в его сознании возникла картина: Иришка среди деревьев, в лесу вроде, идет навстречу какому-то черному жуткому существу, от которого веет звериной злобой.
Ноги Юры от слабости подкосились, он упал на колени, и его глаза оказались перед табличкой. Он читал, запинаясь, малознакомые буквы и слова, но все же упрямо дочитал и горячо повторял — снова и снова — спасительную мольбу о защите: «…и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла…»
Сколько он там простоял, сколько раз прочел слова молитвы — он не знал, время растянулось и сгустилось одновременно. Остановился он только после того, как в душе ощутил явное облегчение и неожиданное спокойствие: невидимая рука отвела зло от его маленькой дочки. Только тогда он встал с колен, обыскал карманы, вынул все деньги и молча сунул в ящик пожертвований на реставрацию храма.
…Иришка доела мороженое, выбросила обертку в урну и подошла к девочке в красном платье. Та сразу похвастала своей куклой Барби, длинноногой, как ее мама. Девочки стали обсуждать наряды куклы, каждая взахлеб тараторила о том, какие платьица и брючки для Барби выпросила она у своей мамы. Потом вдруг девочка в красном платье предложила Иришке сбежать от взрослых в заросли густых кустов.
Лида сидела на краю лавки и невольно подслушивала щебетания парочки, что сидела рядом. Их диалог подозрительно напоминал те, которые она слышала по телевизору во время показа мексиканских мыльных опер. Когда-то Лида сама часами вникала в эту переслащенную тягомотину, но позже стала раздраженно выключать телевизор, когда напомаженные красавчики со стеклянными глазами снова заводили свою бессмысленную бесконечную муру. А эти двое, кажется, уже договорились о свидании и теперь увлеченно обсуждают детали.
Краем глаза Лида увидела, как Иришка вместе с девочкой в красном платье без спросу побежали в заросли кустов. Сначала она колебалась: идти за ними или пусть себе погуляют. Но вдруг сердце сжала тревога, она вскочила и побежала вдогонку. Настигла она беглянок уже на соседней аллее, где было безлюдно, сумрачно от наступающих сумерек и густой растительности. Она схватила Иришку за руку и шлепнула ее по мягкому месту. Та обиженно надула губки, но сразу обмякла и виновато затихла.
Подружка же ее в красном платье отбежала в сторону и стала корчить рожицы, обзывая Иришку маменькиной дочкой. Лида строго потребовала, чтобы и та вместе с ними вернулась к своей маме, но девочка показала язык и скрылась в кустах. Они вернулись на просторную светлую аллею, и Лида резко сказала маме беглянки, что надо бы следить за своим ребенком. Но мама девочки в красном только махнула красивой рукой, переложила длинные, стройные, как у Барби, ноги, оценила себя со стороны и, удовлетворенная неотразимым шармом, продолжила судьбоносную беседу с красавчиком-брюнетом.
Вова брел по безлюдной аллее, глубоко вдыхал напоенный томными вечерними ароматами воздух и чувствовал нарастающее волнение. Тропинка, по которой он неслышно ступал мягкими подошвами сандалий, сворачивала вглубь леса. За кустами послышались чьи-то торопливые шаги и смех. Вова остановился и осторожно отогнул несколько веток. Там, на тропке, бегали девочки и весело переговаривались. Он весь превратился в зрение и слух.
С сожалением наблюдал он, как одну девочку увела мать, от которой исходила необъяснимая опасность.
Зато другая, в красном платье, осталась и даже сама побежала вглубь зарослей, где уже никто не сможет ему помешать. Вот уж, действительно, на ловца и звереныш бежит! Он растворился в бурлящей сладости животного восторга и превратился в охотника за беззащитной жертвой.
Монастырь
Выручил всех Юрий. Он предложил свою «Ниву» и выразил готовность ехать с ними к отцу Алексию, знакомство с которым так его поразило.
В машине спереди сидели братья, а сзади Бугор с Геной. Последние не разговаривали. Наверное потому, что от Гены веяло густым перегаром и самодовольством. Он не проявлял ни малейшего желания раскаяться, всем своим видом выражая упрямство: пил и буду пить, а вы мне не указ.
Юра поведал брату о причине своего внезапного решения съездить в монастырь. Андрей внимательно выслушал, кое-что уточнил и, перебирая четки, углубился в молитву.
На остановках в Переславле и Ростове Гена озабоченно сбегал от всех и возвращался в машину повеселевшим, со свежим запахом спиртного. Бугор ничего не говорил, но в сторону Гены даже не смотрел. Юра для снятия напряжения включил радио. Оттуда неслась сплошная похабщина комментаторов-ди-джеев вперемежку с африканской музыкой, похожей на буханье сваезабивочного копра.
Переславль и Ростов произвели гнетущее впечатление храмовыми строениями, принадлежащими Министерству культуры, потому чужими и бездушными. Суета моложавых европейских пенсионеров только усиливала впечатление показухи. Нищета народных районов соседствовала с нагло демонстрируемым богатством особняков нуворишей и офисов банков. Да еще низкие серые облака и холодный ветер с косым дождем тоже совсем не улучшали настроение. На подъезде к Иванову Гену разморило, и он заснул, привалившись к боковому стеклу, но на поворотах его бросало в сторону Бугра, и тот, ворча, отталкивал его подальше от себя.
Справа сзади что-то мягко постукивало. Бугор предположил, что это брызговик бьет на ветру. Машина летела легко, двигатель звучал ровно, поэтому водитель ехал дальше и не обращал внимания на эти мягкие ритмичные удары.
Юра гнал машину от Ярославля без остановок.
После путанного и суетного Иванова, плотно накрытого темно-серыми облаками, стали появляться синие разрывы, из которых иногда ярко взблескивало летнее солнце.
Не доезжая до монастыря километров тридцать, обогнули сельцо с разрушенной церковью и решили остановиться в поле, чтобы у Гены не появилось соблазна «добавить» еще раз.
Андрей с Геной сидели на обочине грунтовки в густой просохшей уже траве среди обширного поля люцерны и слушали тишину. Небо все чаще позволяло солнцу выглядывать из-за пелены многослойных причудливых облаков. Юра с Бугром поехали к избе на горизонте уточнить дорогу и купить молока. Метрах в трехстах работала косилка. Но вот она остановилась, и из стеклянной аквариумной кабины выбрался механизатор в светлой ковбойке и бегом направился к ним.
— Ты погляди, — указал на бегущего Гена, — спешит так, будто выпить хочет.
— Кто про что… — вздохнул Андрей.
— Ух, успел! — констатировал механизатор и сел на траву рядом. — Я чего бежал-то: спички есть? Мои отсырели.
Гена разочарованно протянул зажигалку.
— Тебя как зовут, бегун? — глядя в серое небо, издалека начал Гена.
— Да имя у меня — один позор! Яврейское какое-то — Рафаил. Всю жизнь стыжусь его.
— А ты разве не знаешь, что Иван и Мария — тоже еврейские имена? — подал голос Андрей.
— А что, правда? Еврейские?
— Ну, да. А именем своим ты гордиться должен, оно у тебя не человеческое, а архангельское. Есть на небесах Архангел Рафаил. Вот какой у тебя Ангел-хранитель.
— Ну, ладно! Короче, Склихасофский, у тебя че есть? — вернул разговор в нужное ему русло Гена.
— Сейчас подвезут.
— Вот это другой разговор, — уже с улыбкой продолжил Гена. — Ты вообще-то крещеный, мужик?
— Не-а. Некому было…
— Ты же русский, значит, должен быть православным. Вон рядом в селе церковь какая красивая — и разрушена до сих пор, — Гена вскочил и энергично замахал руками. — По всей России храмы восстанавливают, веру народу возвращают, а ты здесь только самогон пьешь да имени своего архангельского срамишься. Не-хо-ро-шо!
— Так креститься, поди ж, денег надо? Кто за так-то чего делает? А у нас денег уже несколько лет не платят. Правда, мы тут с сыном две недели одному из Москвы лесины из самой чащи на лошади возили. Одну к одной подобрали. Лучшие — прямо, как струнки. И все одной толщины. Он нам целых тридцать рублей дал. Так мы сахару сразу купили. Ну и выгнали. На зиму теперь запаслись. Да у нас кроме сахару все свое. Одна проблема — сахар! А других нету. Вон сын с внучкой едут уже.
По дороге на велосипеде подъезжал белобрысый молодой мужчина с такой же светловолосой девочкой лет десяти. Оба в резиновых сапогах, синих брюках и голубых рубашках. Остановились, положили в траву велосипед, сын расстелил газетку и выложил на нее хлеб, луковицу и осторожно выставил бутылку, закупоренную свернутой газетой, и граненый стаканчик. Познакомились, пожали крепкие мозолистые ладони. Сына звали Алексеем, девочку — Людой. Она стеснялась и жалась к широкой спине отца, выглядывая из-за нее на незнакомцев, как из-за щита. Рафаил сразу налил московскому гостю самогону. Андрей отказался и отсел подальше: напиток источал совершенно тошнотворный дух. Гена крякнул и хрустнул луковицей, пожевал ржаного хлеба:
— Вот это я понимаю — пикник на обочине. Ну, так что, братья и сестры, в воскресенье приедете креститься в монастырь?
— Опять же машина нужна. До монастыря целых тридцать километров, — снова засомневался Рафаил.
— А Витька собирается в район ехать — он нас и довезет, — предложил Алексей.
— Вот видите, как все устраивается! — воскликнул Гена. — Так, что еще нам мешает?
— Деньги, — подсказал Рафаил.
Андрей расстегнул карман и вынул пятидесятирублевую купюру, свернул ее вчетверо и протянул Рафаилу.
— Что это? — не понял тот и стал вертеть бумажку перед глазами.
— Деньги это, — пояснил Андрей. — Хотя для тебя это не деньги. Потому что потратить ни на что другое, как на крещение, ты их не можешь.
— Почему? — Рафаил все еще держал в левой руке стакан со зловонной жидкостью, а правой водил перед глазами купюрой.
— Потому что… в преисподнюю… сразу… провалишься, — с расстановкой предположил Гена.
— Нет, вы мне поясните, ребяты, что это такое? — настаивал Рафаил.
— Это. Пятьдесят. Рублей. Ассигнацией, — терпеливо пояснил Гена, подхватил наполовину расплескавшуюся порцию самогона и выпил. — Все равно прольешь…
— Это что, вот так они сейчас выглядят? Пятьдесят рублей. Это сколько же сахара из них получится, — зашевелил он губами, подсчитывая.
— Э-э-э! Прекратить бухгалтерию! Я те дам сахара! — под шумок наливая себе еще стаканчик, зашумел Геннадий Иванович. — Я, может, пол-России проехал, чтобы вот тут сесть и дождаться, пока ты про спички свои мокрые вспомнишь. Я, может, из-за тебя эту вот гадость уже неделю пью, чтобы меня сюда привезли. А я тебя крестил! Так, что еще мешает, товарищи нехристи?
— Приедем, не волнуйтесь, дядя Гена, — спокойно, но твердо произнес Алексей.
— Ну, вот так, — кивнул удовлетворенно Геннадий. — Не зря на свете прожил, если хоть троих на путь наставил. Это судьбоносное решение надо обмыть. А то вон уже сатрапы едут.
«Нива» на высокой скорости подъехала и затормозила в трех метрах от сидящих. Вышел Юра и сразу воскликнул:
— Ну, надо же! Средь чистого поля — и то сивуху нашел. А я молока ему привез, чтобы он перегар свой залил.
— Давай, одно другому не помешает. Мы тут с Андреем нехристей в истинную веру обращаем, пока вас носит неизвестно где.
— Ладно, горе луковое, пей молоко, и едем дальше.
Асфальтовое шоссе пролегало по лесистым плавным холмам. Мелькали придорожные деревеньки и широкие хлебные поля. Высоко в небе парили коршуны, на проводах покачивали длинными хвостами сороки. Навстречу иногда попадались велосипедисты. Машина легко сбежала в низину, уверенно стала набирать высоту, въезжая на подъем. И вдруг из-за верхнего черно-зеленого среза леса сверкнул горящим золотом крест колокольни. А вот и сам монастырь появился, со следами многолетних разрушений, но по-прежнему величественный и могучий. Следы обновления радовали глаз серебристым блеском куполов и ровной белизной стен.
Машина через открытые монахом-привратником ворота въехала во двор, развернулась и встала. Паломники вышли из машины, и — тишина окутала их. Молодой привратник сбегал в одноэтажную постройку, откуда вышли двое в черных подрясниках: седой коренастый игумен Алексий и молодой эконом Михаил гренадерского роста.
Игумен радушно поприветствовал приезжих, каждого благословил. Предложил положить вещи и пообедать в трапезной, пока все горячее.
Дальше ими занялся энергичный Михаил. Он разместил всех четверых в новом братском корпусе в одной просторной келье с рядом застеленных кроватей. Пояснил, что скоро будет вечерняя служба, после которой батюшка сможет каждого принять и поговорить.
Братия уже пообедала, и они трапезничали вчетвером. Михаил подсел к ним за длинный стол и пил чай из большой кружки с отбитой эмалью. Бугор взялся накладывать в тарелки тушеную с овощами картошку. Андрей подвинул ближе блюдо с капустным салатом и наливал по кружкам жиденький чай.
Гена, несмотря на выпитый литр молока, ел с аппетитом и нахваливал простую монастырскую еду. Михаил рассказал, что каждый день к ним приходят деревенские ребята возрастом от десяти и до двадцати. Он им дает задание, следит за исполнением и каждый день расплачивается из расчета пять рублей на каждого. Для многих семей эти деньги чуть ли не единственный доход. Монастырь использовался при советской власти под механические мастерские, все тут трещало и рассыпалось. Снег через разрушенную кровлю падал прямо в помещения. Сейчас уже есть, где служить и где спать-есть, монастырские поля дают урожай, лес — грибы, а река — рыбу. Так что жить можно. Небогато и скромно — как жил основатель обители Преподобный. А впереди восстановление еще двух храмов.
— Так что работы много, — заключил Михаил.
На всенощную собрались в оштукатуренном храме с недостроенным иконостасом. Кроме четырех приезжих здесь стояли три женщины и шесть монахов. На клиросе двое послушников читали и пели, четверо служили у иконостаса и в алтаре. Служба проходила неспешно и продолжалась четыре часа.
Когда вышли из храма, теплый тихий вечер опускался на обитель. Черные фигуры монахов безмолвно растворились в сумерках.
Теперь в ночном бдении, каждый в своей келье, они войдут в молитвенное общение с Богом и будут молить Его о спасении падшего мира, об оставшихся в миру друзьях и родственниках, помянут покойников… И те умершие, которые вопят в преисподней за грехи свои, получат послабление или прощение, а те, кто уже в блаженстве Царствия Небесного, у престола Господнего тоже воспылают в молитве к сияющему во славе Вседержителю. И для нас незримо, а для Небес — яркими всполохами польются они к Милостивому и бесконечно Любящему всех человеков. А к людям молитвы монахов вернутся какими-то успехами, нечаянными исцелениями, решенными «случайно» проблемами. А после смерти для многих человеков эти молитвы, может быть, станут единственным спасением от ревущего пламени адского огня…
Михаил провел их в свою келью и включил электрочайник. Юрий сбегал к машине за привезенными пакетами с чаем, кофе, печеньями и конфетами. Зашел игумен и присел на диван.
Андрей рассказал, с какими трудностями они сюда выбирались: про болезни и поломку машины Бугра, про резкие колебания погоды с проливными дождями. Отец Алексий сказал, что это у всех так: враг посылает искушения, чтобы отвратить людей от обители.
— Зато отсюда поедете спокойно и без каких-нибудь трудностей. Преподобный вам в дороге поможет. Мы, когда едем в Москву по делам, — батюшка слегка улыбнулся, — как увидим гаишника, молимся Преподобному — и тот нас будто не замечает. Даже если поднимает жезл, то останавливает не нас, а следующую машину. Вы тоже обращайтесь к святому с молитвой «Преподобный, помоги нам…» — и он вас не оставит.
Речь игумена напоминала спокойные воды могучей реки — неспешная и тихая. Но когда он говорил, все замолкали и ловили каждое слово.
— Отец Алексий, вот мы привезли к вам Геннадия, — заговорил Бугор. — Он уже второй раз срывается по пьяному делу. Можно ему тут поработать, чтобы и вам помочь, и с пьянкой покончить?
— Можно, конечно, руки умелые нам нужны.
— А то ведь лечиться он не хочет, а без работы совсем пропадет.
— А кто сейчас в миру лечит от пьянства? — отец Алексий поднял на Бугра глаза. — Жулики да колдуны. Лучше телом в страшных муках умереть, чем с ними душу свою загубить навечно. А пьянство тоже ведь неспроста. В житии Серафима Саровского говорится, что святой одному генералу предсказал, что будет ему попущено Господом пьянствовать три года, чтобы не погубить душу в гордыне. Так что пьянство иногда для смирения попускается. Только вот не дай Бог обращаться к колдунам-экстрасенсам и бабкам-ведьмам… Это на погибель души. Бабки эти сами уже в аду, и пациентов туда отправляют.
На своем стуле нетерпеливо заерзал Юрий:
— А у нас на работе несколько человек кодировались, так пить бросили. В семьях у них теперь полное спокойствие, стали в театры ходить, работают хорошо. Дети ими гордиться стали, а раньше стыдились друзей в гости приглашать. А один даже на воспитание двух сирот из детдома взял. Что же здесь плохого?
— Плохо то, что на душу свою печать сатанинскую поставили и для преисподней ее приготовили, — так же тихо произнес батюшка страшные слова. — И теперь подумайте, что для семей лучше: такой трезвый сатанист или пьяный, но Божий человек. Церковь ведь лечит пьянство — молитвой, постом, физическим трудом, покаянием.
— А если вера слабая? Молишься, молишься, а по твоим хилым молитвам никакого трезвения не получается. Что же тогда, терять человеческий облик да подзаборником становиться? Где тут правда? — возмущался Юрий. — Да и сколько верующих пьют горькую!
— Правда Божия и правда человеческая несколько различаются, — задумчиво произнес отец Алексий. Затем, помолчав, добавил: — А чаще всего они прямо противоположны. Искать мы должны прежде всего правду Божию. Что же касается верующих… То ведь и бесы в Бога верят. И сатана Бога боится, но сути своей при этом не меняет. Главное, чего нет у сатаны, — это смирения. Вот через смирение к Богу и приходят.
После разговора с батюшкой перед сном повел их Михаил за монастырскую стену, где в ста метрах протекала речка. Они разделись и забрались в теплую воду. Течение в этом месте было несильным, но со дна били холодные ключи, и там, на глубине, вода была намного холоднее. У берега в воде у самой поверхности колыхались и перекатывались длинные водоросли. По поверхности воды бегали на длинных лапках жуки-плывуны.
Когда они выбрались на берег, их тут же окружило облако мошкары, зазвенели комары, поэтому одевались они спешно, постоянно шлепая себя по укушенным местам. После купания сразу отправились спать, несмотря на раннее для горожан время. Здесь привычки меняются очень быстро.
Утром после службы и трапезы Юрий предложил посетить Плес. Его знакомые художники называли этот городок не иначе, как «Мекка для пейзажистов». Гену с собой не взяли, отдав его в подчинение Михаилу.
Снова неслись они на «Ниве» по довольно приличным дорогам среди полей и лесов. За окнами мелькали деревеньки и села с разрушенными церквами. В этот субботний день людей почти не видели. Только несколько грибников с полными корзинами шли по обочине или ехали на велосипедах.
— Ты, Андрей, объясни мне насчет правды Божией и человеческой. Что имел в виду игумен?
— А, это то, что они почти всегда различны? Ну, ты сравни. Правда Божия: цель жизни — спасение души в покаянии для Царствия Небесного. Правда человеческая: цель жизни — получить все возможные удовольствия, используя все средства, — и в геенну огненную. Сравни: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» — и человеческое: бессильный человек хуже тряпки. Или вот: во время болезни необходимо усиленное питание — это у врачей; «род этот изгоняется постом и молитвой» — это слова Иисуса Христа. У людей богатство — благо, у Бога — легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому попасть в Царство Небесное. У людей человек, не имеющий гордости, — недочеловек, у Бога гордость — смертный грех. У людей — гений и злодейство несовместимы, а у Бога сверхчеловеческий гений — это воплощенное зло, а нищие духом — блаженны.
— А мне понравилось, как батюшка насчет веры сказал, — подал голос Бугор. — Что и бесы верят, и сатана Бога боится… Только смирения у этого отродья нету. Надо с батюшкой о смирении поговорить. Как в миру этому научиться? Иногда смирение может повредить делу, по-моему…
— Обязательно поговори, Бугор. Нас ведь тоже с детства воспитывали в гордости. А батюшка может так об этом сказать, что на всю жизнь запомнишь. Видишь, как западает в память то, что он сказал? Вот приедем домой, а слова его мало-помалу все будут всплывать в памяти и теребить душу.
— А давайте купим парного молочка, — предложил Юра, сворачивая с дороги в симпатичную деревеньку.
От других прочих это селение отличалось обильной зеленью, в которой утопали крепенькие избы с резными наличниками. За приусадебными участками протекала извилистая речка. Имелась тут и запруда с плотиной, вокруг которой на ровном, будто подстриженном, газоне стояли баньки. От каждой тянулись к пруду мостки. На одном из них молодая хозяюшка полоскала белье. Путешественники подошли к самой красивой избе и вошли через распахнутую калитку во двор. Им навстречу с завалинки поднялся старик, отбивавший тонкое лезвие косы.
— А что, отец, не угостишь ли заезжих молочком? — громко спросил Юрий.
— А вы заходите в избу. Там хозяйка вам и нальет.
Они вошли в просторную горницу и увидели необычную картину. Старушка чистила картошку в стоящее перед ней блюдо и смотрела большой японский телевизор. Пульт управления лежал рядом на столе.
На вопрос о молоке она ответила утвердительно, но снова обернулась к телевизору и пояснила:
— Вот сын привез на днях этого бегемота, так оторваться не могу. Да вы присядьте. Гляди — это ж срам один, какие мужики пошли. Я полчаса разглядывала, прежде чем поняла, что мужик. Волосенки отрастил, как у нашей Зинки из сельпо. Крашеный весь, в помаде. Ну, ровно какая профурсетка! А, мамынька! И ручкой-то подрыгиват, и ножкой-то сучит, будто по нем блохи скачут. Это у вас там все такие?
— На телевидении, бабушка, таких много.
— А что, путевых не осталось? — она оглядела гостей, удостоверилась, что вид у них терпимый, и взялась за пульт. Ее корявый большой палец довольно резво бегал по кнопкам, переключая каналы.
— Гляди, кровищи скока, — у меня дед, когда поросенка режет, то меньше получается. Рожи зеленые пошли. Спортились совсем. А во — девка тоже дрыгается, эта наоборот, на мужика смахивает… тоща-то, тоща! Одни мослы под штанами. Скуластенька… Совсем муж до срама довел. Аль такие безмужни, а?
— Случается, что выходят. Но ненадолго.
— Так кому такая костлявая нужна? Я видела, там у вас и пухленькие бывают. Мягонькие-то все лучше. Нет, гляди-гляди — и доходяга эта в трясучку пошла. Если б не музыка — во грохоту было бы! Как от погремушки. А это кто такой справный? Сразу видно, зарплату домой носит. Этот самостоятельный. На механика нашего похож. Тот даже техникум кончил. Когда напьется — по улице не ходит, а скромно — все по гумнам, огородами винтует. Так кто этот солидный?
— Бандит. Всю страну ограбил.
— Ну, надо же! Как справный — сразу бандит. Нет у вас там порядку, ребяты.
— Есть, бабушка, только по этому ящику его редко показывают. Этим «справным» не выгодно. Не все еще из страны вывезли.
Плес начался домами отдыха, уютно стоящими на густо поросших зарослями холмах. По крутой дороге мимо лениво бредущих отдыхающих они спустились к набережной Волги.
Вышли из машины и неспешно побрели вдоль реки по березовой аллее. Старые вековые березы ровно посажены чьей-то заботливой рукой много лет назад. Вот уж человека давно нет, а березки стоят и радуют глаз. От воды потягивало прохладным тинистым душком. Многочисленные лодки уткнулись острыми носами в каменистый берег. По воде туда-сюда сновали катера, тяжко тащились баржи с песком.
Вдоль набережной теснились купеческие домики прошлого века. Рядом с их разноликими фасадами кучковались художники с этюдниками. Они продавали свои картины, отдаленно напоминающие пейзажи самого знаменитого посетителя этих мест — Исаака Левитана.
А вот и домик, где проживал художник. Путешественники вошли внутрь и оказались среди знакомых со школы пейзажей, на которых узнавалось только что виденное природное раздолье. Вот, например, только что они любовались вот этим пологим лесистым берегом под высоким синим небом в легких облаках. Но на полотне все это светится и пронзается лучами солнца, трепещет и летит ввысь, направляемое мощными мазками пейзажиста. А вот «Над вечным покоем»!.. Так бы оторваться от крутых холмистых берегов и взлететь в небесные просторы…
Поднялись они и на второй этаж, где жил художник. Потолки там были низкими, и Андрею пришлось несколько ссутулиться. А ведь на фотографиях художник не выглядит низкорослым. В комнатах все аскетично скромно: столик, узкая кровать, маленький шкафчик, полудетские стульчики; но совершенно роскошно при этом выглядят мольберт и вид из окна.
Городок уютно расположился на крутых зеленых холмах. Красочные домики или куплены уже, или сняты художниками. Всюду они: кто бредет, кто стоит с этюдником и мрачно стреляет острыми глазами из-под буйной волосяной растительности на досужих прохожих.
Забрались наши путешественники и на гору Свободы. И представилось, как отсюда, с этой высоты, гремел могучий бас Шаляпина, приезжавшего сюда набраться мощи. И гудел его органный голосище, наполняя ветреное пространство: «Э-ей, ухнем!»…
Храмы белыми свечами освещают беспредельную синеву небес. Прозрачные березы белеют среди сочной душистой зелени. Синие воды обширно разлились текучими блесткими зеркалами.
«Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», — произнес под дверью кельи Андрей. «Аминь», — послышалось из-за двери. Андрей вошел и присел на предложенный ему стул. В маленькой келье, еле вмещавшей лишь столик и узкую кровать с двумя стульями, стены увешаны иконами и книжными полками.
Андрей рассказал о поездке в Плес, восторгаясь красотой природы и талантом пейзажиста. Батюшка никак на этот рассказ не отреагировал. Андрей поинтересовался, как тот отнесся к Геннадию.
— Ничего, человек он работящий, Бог даст — потихоньку исправится. Конечно, война его здорово покорежила. Но ведь и к Богу привела. Пусть поживет здесь, подальше от соблазнов.
— Посоветуйте, батюшка, как жить с людьми, которые не принимают веры.
— Любить их. Как болеющую руку мы больше жалеем и лечим, так и этих несчастных больше надо жалеть. И молиться за них. Отвержение Бога — это ведь духовная болезнь.
— А как относиться к их агрессивным поступкам?
— Терпеть и бесконечно прощать. За такое терпение Господь венцы в Царствии Небесном дает. И ни в коем случае не осуждать! — отец Алексий даже палец поднял, требуя внимания. — Если осудишь — сам подпадешь под тот грех, который осудил. Это уже многими святыми отцами замечено. И в моей практике неоднократно случалось.
— Но ведь осуждение — это ответная реакция моей возмущенной души. Как с этим справиться?
— Надо знать, что поругание верующих Господь попускает для нашего духовного укрепления. Никогда Он так не близок к нам, как во время искушений. Враг посылает в тебя стрелы осуждения — а ты их распознаешь и тут же просишь молитвенно Господа сил, чтобы не впасть в осуждение, тут же проси Его помиловать поругателя. Господь услышит твою мольбу и сразу отразит стрелы лукавого. Научись радоваться посылаемым искушениям. Преодоление каждого из них — это восхождение еще на одну ступеньку к Богу.
— Вот недавно приезжал ко мне старый знакомый. Я от него за несколько часов получил такой заряд злобы и желчи, что не мог успокоиться недели две. Я молюсь за него — и молитва тормозится. Я ловлю себя на том, что постоянно с ним спорю, выдвигаю ему все новые и более сильные аргументы.
— Значит, ты уже пропустил стрелу осуждения и впадаешь в страсть. А через страсть и грех входит в душу и поселяется в ней. В таком случае остается только взывать всем сердцем ко Господу и плакать о своем прощении. Взять на себя подвиг поста и молитвы, благословясь у духовника. Но ни в коем случае не запускать страсть, не позволять ей овладеть душою. Враг наш только и ждет момента, когда мы впадем в это страстное обольщение.
— Но ведь жалко таких людей, люблю я их!
— Ты что же думаешь, Господь любит их меньше? Это от гордыни нашей.
— Но я же вижу, как от разговоров со мной, от моих писем они становятся лучше. Начинают задумываться о серьезных вопросах, о смысле жизни и воздаянии! В конце концов, приходят в храм, начинают бороться с грехами, становятся чище. Вот эта потребность делиться чем-то хорошим, своими открытиями — это разве плохо?
— Слава Богу, если так… Только вот о чем ты подумай, Андрей. Ты недавно вошел в храм, накопляешь богатство нетленное. Накопляешь — и тут же расточаешь его. Вот возьми пример с Пушкиным. Сколько таланта ему было даровано Господом, и как он его рассыпал… как жемчуг из евангельской притчи. Постой, не шуми… Теперь подумай, если бы он сумел накопить богатства, окончательно прийти к истине, — каким бы светочем духовным он стал, представляешь? И тогда не было бы его стыда за богохульную «Гавриилиаду», этих его страшных светских долгов, мерзких сплетен и дуэлей. Вот и ты не торопись расточать, накопляй; а уж там — как Господь тебя направит. Ведь прежде чем выйти в общественное служение, святые имели затвор и выходили из него по велению Господа. Не поддавайся суете и беги страстей.
Утром на литургии среди пришедших стоял празднично одетый Рафаил с семейством. После службы молодой священник отец Федор повел их на пруд Преподобного. Пошли с ними и Андрей с Геннадием в качестве восприемников.
В храме, недавно оштукатуренном, многие рамы не имели стекла, поэтому было довольно прохладно, и у Андрея начался насморк. Он даже пару раз громко чихнул. Отец Федор посоветовал умыться святой водой из пруда. Они подошли к небольшому прудику, заросшему по берегам осокой, с мостками на водной глади в виде креста. Андрей умылся и прополоскал носоглотку святой водой, произнося мысленную молитву Преподобному. Прохладная мягкая вода слегка обожгла носоглотку и лицо — и насморк сразу прошел. Зато появилось ощущение чистоты и радости.
Таинство крещения проходило в центре образованного мостками креста. Сначала в прохладную воду окунался Рафаил, потом его сын Алексей. Дочка сына Людочка испугалась, когда ее погружали в воду с головой, но мать ее быстро вытерла, одела и успокоила. Во время крещения в бирюзовом небе ярко сияло солнце, словно сусальным золотом горели стволы могучих сосен, обступившие пруд. Летали стрекозы и птички. Все вокруг радовалось и приветствовало новокрещеных.
Когда они пешком по высокой траве вернулись в монастырь, Рафаил вынул из кармана платок, развернул его и зажал в загорелых пальцах сложенную вчетверо полусотенную купюру.
— Андрей, кому платить?
— Пойдем к игумену. Сам отдашь ему в руки.
Игумен Алексий стоял в окружении семьи приезжего священника, который рассказывал об уникальных компрессорах двигателей суховских истребителей. Матушка подняла копошившегося в пыли годовалого мальчишку, молча отряхнула штанишки несколькими тренированными движениями и также молча поставила на асфальт. Он тут же плюхнулся на попку и стал ловить растопыренными ладошками ползающую букашку. Матушка уже заплетала косичку розовощекой толстушке лет четырех.
— Чтобы уйти от ракеты, нацеленной на сопло двигателя, самолет задирает нос и продолжает лететь вертикально, — батюшка показывал на руках этот лихой маневр. — При этом, по идее, двигатель должен захлебнуться. Но он работает, нарушая все законы термодинамики.
…Руки Андрея коснулось что-то теплое и легкое. Он опустил глаза и увидел девочку. Она молча показала пальчиком на свои туфельки с развязанными шнурками. Он присел и ощутил на своей щеке ее пушистое дыхание и щекотку от пряди светлых волос. Завязал шнурки и подтянул повыше съехавшие белые носочки. Ножки девочки искусаны комарами и покрыты розовыми пятнами мази. Он поднял глаза — девочка улыбнулась, бросила: «Спасиса» и убежала по своим неотложным детским делам.
Игумен извинился перед гостем, кивнул подошедшим новокрещеным и поздравил их с главным в жизни событием. Каждого благословил и помазал душистым миром из Иерусалима, только что подаренным ему приезжим священником.
Рафаил протянул игумену деньги:
— Это за крестины…
— Возьми себе, — улыбнулся батюшка, — только потрать не на водку, а на что-нибудь хорошее. Ведь у вас сегодня такой большой праздник — будто заново родились!
Они отошли от священников, Рафаил испуганно смотрел на деньги и бормотал:
— Дак, если не на водку, то куда ж такие деньжищи? Это ж надо — подарил… Вот новость так новость…
— Рафаил, ты зайди сейчас в магазин, — предложил Андрей, — купи конфет, пачку хорошего чаю и дома посидите за столом, отпразднуете свое второе рождение.
— Крестник! — обнял оторопевшего Рафаила Гена. — А ты не трать их вообще! В рамку — и на стену, чтоб на память.
— Нет, надо обязательно отпраздновать, чтобы запомнилось, — внес свое предложение в диспут Юрий и в широкую мозолистую ладонь Рафаилу положил сотенную бумажку. — А это от меня, чтобы еще веселей за столом было.
Глаза застывшего Рафаила выкатились из орбит, и он, онемевший от свалившегося богатства, стоял на полусогнутых ногах среди собравшихся приезжих и подошедших молодых монахов и переводил взгляд с улыбающихся лиц на деньги и обратно. Тут ему на помощь подоспела энергичная черноглазая невестка, взяла деньги, убрала в кошелек и уверила собрание:
— Не волнуйтесь, праздник без водки я им сорганизую. Отец, хватит воздух ртом ловить, пошли в машину — домой пора.
Рафаил скованно улыбнулся, неловко всем поклонился и хрипло произнес:
— Спасибо, братцы!..
Когда старенький «жигуленок» увозил семейство Рафаилово во светлые загоризонтные дали, провожающие махали руками, скуфеями и негромко обменивались репликами:
— Вот это задачка для мужика!
— Ничего, пусть привыкает к новой жизни.
— Однако все равно после чаев выпьет самопалу.
— Это навряд ли…
— Точно говорю…
Братья вернулись на пруд Преподобного. На берегу в одиночестве сидел и наблюдал за порхающими стрекозами приехавший утренним поездом мужчина. Джинсовый костюм, длинные волосы с проседью — и изборожденное морщинами усталое серое лицо. На пришельцев, степенно окунавшихся в святых водах пруда, он не обращал внимания. Юрий оделся и ушел отдохнуть в келью. Андрей присел рядом с приезжим.
— Из Москвы? — спросил он негромко.
— Да. Сын привез. Он сейчас с игуменом разговаривает.
— Меня зовут Андреем, а вас как именовать прикажете?
— Миша. И давай на «ты»… Я рок-музыкант. «Мы хиппи, не путайте с хэппи».
— А почему «сын привез», а не сам?
— Я как-то в это, — он кивнул в сторону монастырской колокольни, — не очень-то верю.
— Тогда зачем приехал?
— Так… — он тупо уставился на висящую над водой стрекозу. Потом дернулся, привстал, но снова приземлился. — Когда на душе тоска, надо что-то делать.
— Тоска — это не очень хорошо. Лучше без нее. А как она появляется?
— После творчества. Я ведь не только играю, но и пишу музыку. Когда творишь — все хорошо: подъем, летаешь!.. А как на землю спустишься — будто похмелье наступает. Тяжко и муторно.
— Скажи, а как рождается музыка?
— Рождается? — Михаил оживился. — Сначала в душе идет какое-то наполнение. Потом в голове появляются образы. Картинки такие красивые: небеса, горы, звезды, светила неземные, туманы синие, фиолетовые, красные; голоса как бы мимо проносятся… Потом вихрь застывает, и на какое-то время устанавливается тишина. А потом!.. Потом звучит музыка — и тут только успевай записывать. Она льется из космоса, это нечеловеческие звуки. О! Это божественно! Когда я их записываю, а потом воспроизвожу, музыка огрубляется, стирается, замыливается. Нечто приблизительное получается только во время концерта, когда я импровизирую. Но после этого полета приходит такое опустошение, что…
— Рука тянется к стакану или игле.
— Ну, да, конечно… — Михаил опустил глаза. Потух и сник. — А теперь уже и музыки нет. И водка не помогает. Только одна тоска. Ну, я-то — ладно. А сколько мы уже друзей похоронили…
— Как мухи в паутине, — прошептал Андрей.
— А что, похоже! — творческая личность оценила предложенный яркий образ. — Только не совсем понятно, кто паук-то?
— А тот, кто картинки с музыкой тебе навязывал.
— Нет. Ерунда! Просто мы еще не готовы принимать образы, чтобы не болеть. Мы слишком слабы для восприятия космических энергий. Но я верю в то, что сверхчеловек будущего сможет сотрудничать с космосом плодотворно.
— Другими словами, ты веришь, что муха когда-нибудь станет пауком. А паук — бабочкой?
— Я ему про космос, а он про мух каких-то… — Михаил с презрением посмотрел на собеседника. — Космос, молодой человек, не каждому дано понять.
— Ну, почему же? Надо только потерять совесть — только и всего.
— Причем здесь совесть?
— Ну, если отбросить образное иносказание и говорить прямо, по-мужски, то, несмотря на сложность темы, на самом деле, главное — просто. Совесть — это голос Бога в душе человека. А образы, картинки и прочие музыки — это паутина существа, противного Богу. То, что ты здесь, наличие тоски в твоей душе, неприятие паутины — это работа твоей пока еще живой совести. А вот если бы совесть твоя омертвела, то без всякой сверхчеловечины ты уже сегодня смог бы сам воспринимать и распространять всю эту заразу дальше. Думаю, если б твой сын за тебя не молился, этот извечный противник Бога уже и силенок тебе подбросил бы, и картинок поярче и ядовитее. Только сын подключил к твоему спасению Самого Бога, против Которого нет у врага сил. Кроме твоей собственной гордыни. И теперь ты просто должен помочь самому себе.
— Вот, снова голоса пошли!.. — Михаил вслушался внутрь себя. — Ругаются теперь… О, ужас, какая похабщина лезет!
Андрей в своей обычной Иисусовой молитве слова «помилуй мя грешного» заменил на «помилуй нас грешных».
— А сейчас что ты слышишь? — не прерывая молитвы, спросил Андрей.
Михаил помолчал, потряс головой и удивленно признался:
— Ничего! Да, абсолютно ничего. Полная тишина!
— Учись Иисусовой молитве, и вся эта нечисть, что в твоей голове свила гнездо, разлетится, как стая испуганных ворон.
Подошел светловолосый юноша с ясными спокойными глазами и позвал отца в келью к игумену на отчитку.
— Что такое — отчитка?
— Молебен это для излечения твоей души, не бойся, пап… — пояснил сын.
На скамейке среди наступившей тишины в тени старой березы сидел молодой отец Федор и читал «из святых отцов». Увидев Андрея, вышедшего на прогулку, подозвал его и благословил сесть рядом.
— Вы из Москвы?
— Да, батюшка.
— Ну, и как там? Служат в храмах так же, как у нас, или хуже?
— По-разному. Все-таки около трехсот храмов…
— Слышал я, испортились там у вас священники. Почти все в прелести, говорят.
— Не дайте, батюшка, впасть в грех осуждения священства. Остерегаюсь я этого.
— А ты и не впадай.
— Тогда я лучше промолчу.
В наступившей тишине слышался далекий лай собак.
— Ох, что-то бесы расшумелись, — проворчал отец Федор.
— Это же собачки.
— А ты разве не знаешь, что собаки — это бесы?
— Мне отец рассказывал, как на войне его с передовой, тяжело раненного, собачка вытащила. Зачем же бесу человека спасать? Слепых они водят еще.
— Смотрю я, все вы, московские, в прелести пребываете. Святые отцы вам уже не указ.
— А как же преподобный Сергий Радонежский с медведем кусок хлеба делил пополам? Могилу святой Марии Египетской лев своими когтями копал? Дикие звери, которым бросали на растерзание христианских мучеников, ласкались к ним и боялись трогать. Конечно, с грехопадением и животный мир повредился, но, если к животным с любовью относиться, то они, как им и положено со времен сотворения мира, служат человеку и помогают. А бесы могут входить в любое живое существо, даже в растения, когда нет в нем любви.
— Какая там сейчас любовь? Последние времена наступили. В этом году, самое крайнее — в следующем конец света будет.
— Простите, батюшка, но разве мы вправе пытать о времени конца мира? Это знает лишь Отец Небесный.
— Да по всему видно, что конец уже. Совсем одно зло вокруг. Нету любви ни в ком. Вы там ничего в своем помрачении не видите уже, а нам видно. Да мы каждый день у Бога отмаливаем.
— Рано еще, батюшка. Столько людей готовы к Богу прийти. Им только немного помочь надо.
— Зачем им помогать? Ты что, себя по любви выше Бога считаешь? Верующие спасутся, а грешники пусть себе в аду горят. Им там самое место.
— У меня родители неверующие, много друзей еще не пришли к вере. Если я буду в раю, а мои близкие будут гореть в аду, то я этого не вынесу!
— Сказано ведь, что меч Христов семьи рассечет и разделятся люди на верующих и неверующих. И сказано, что одни спасутся, а другие — в ад, за грехи свои гореть. Ну и пусть мертвые хоронят своих мертвых.
— Но ведь есть и молитвы даже за некрещеных и богоборцев, умерших вне Церкви, и Господу, и преподобному Паисию Великому, и святому Уару. И сказано, что если двое-трое что попросят во имя Господне, то получат по молитвам своим. Об этом и святой Иоанн Кронштадтский из своего опыта учил.
— Нельзя прилепляться к грешникам даже молитвой. Когда ты молишься за грешника, то хотя бы на время его грязную душу в свою принимаешь, и тогда вместе с ним погибнуть можно. Как слепой, ведущий слепого. Ты не праведный Иоанн, а грешник, в падшем мире живущий. Каждый человек должен свою меру знать.
— Ну, так эта самая мера и есть любовь, которая «все покрывает». Если имеешь любовь к человеку, которая требует молитвы за него, то, значит, и мера и силы даются на покрытие грехов в молитве. И не только в молитве, но и в деле милосердия, и в слове просвещения. Ведь это добродетели — предостеречь грешника, наставить заблудшего.
— Да вот это и есть та самая прелесть. Ты посмотри, Антоний Великий бежал от еретиков, считая их языки ядовитее змеиных; а столичный мирянин лезет со своими поучениями наставлять и предостерегать.
— Если бы я «лез» с поучениями, батюшка, сам ничего не понимая, по своему тщеславию и с гордым умом, тогда — конечно. Но, во-первых, делаю я это по благословению своего духовного отца; во-вторых, всегда говорю, как велел преподобный Серафим Саровский, не от своего ума, а из Писания и Предания Церкви. И не для самовосхваления, а только для спасения души ближнего.
— И много спас?
— Так не я спасаю, а Церковь Христова. А я только помогаю человеку туда прийти. Ведь и я сам долго не мог этого сделать: все заблуждения мешали, поэтому мне эти проблемы сомневающихся людей близки и понятны. Опять же, не каждый так вот запросто к священнику пойдет, и не каждый священник найдет время поговорить и разъяснить все недоумения. — Андрей вздохнул. — А тщеславия и прелести я боюсь не меньше любого знающего, что это такое. Среди моих знакомых на этом фронте уже имеются жертвы.
— Пока сам не погиб, бежал бы ты от этих неверов да прелестников. Сказано, спасись сам — и вокруг тысячи спасутся. Вот сам и спасайся.
Андрей задумался. Отец Федор тоже молчал, перебирая четки. Перед ними в солнечном луче в вихревом танце бесшумно носились мошки. Тишина обволокла все вокруг.
— Мне кажется, отец Федор, что Господь гораздо более милостив к нам, чем мы к своим ближним. Мы осуждаем иконописца за использование в написании лика Богородицы черт лица любимой женщины. А Царица Небесная дарует этому образу благодать исцелять от пьянства тысячи людей. Мы с легкостью вешаем на человека ярлык прелестника, а потом оказывается, что это святой Иоанн Кронштадтский с нами рядом жил. Мы отвергаем падший разум и все, что через него идет, а Господь и здесь являет Свою милость: если можете, то получите веру и на этих путях. И вот исследование Библии, Туринской Плащаницы, археология — дают нам научные доказательства для принятия веры. И по этому пути многие сейчас приходят к Богу. Мы гоним пьяницу от себя, а оказывается, что ему надлежит три года пить, чтобы не впасть в более страшный грех тщеславия — и это спасает его душу. Мы шарахаемся от бандитов, а они храмы строят и в них спасаются. Мы брезгуем юродивым — а потом целые поколения христиан наизусть заучивают видения Царства Небесного блаженного Андрея. Блудницу готовы убить — а она преподобной Марией Египетской становится. А молитвенник и аскет Арий впадает в ересь, и его ученики режут сотни тысяч христиан.
— Ты это о чем?
— Да вот подумал сейчас, что несмотря на все сложности… И возможность впасть в страшный грех… Погибнуть духовно в сетях сатаны… И все-таки нам дана главная истина — и она проста. И знание этой истины вполне достаточно, чтобы не погибнуть. Самим Господом нам дан образ спасения. Смиренная любовь. И тогда все споры наши — ничто. Если человек смиренен, если он любит — он спасет себя, и вокруг него тысячи спасутся. Помните, сатана сказал преподобному Макарию Великому, что его существование выше монашеских подвигов Макария, потому что Макарий бдит, а он не спит вовсе; Макарий постится, а он не ест совсем; но если Макарий научился смиряться перед человеком, то сатана не может смириться даже перед Богом, потому Макарий победил его.
Монахи позвали ехать в лес по грибы. Андрей с Юрой взяли пакеты и складные ножи и сели под пыльный брезентовый тент на откидные сиденья. «Джип» с бордово-золотистыми крестами на боках свернул с шоссе, вразвалку углубился по лесной колее в чащу. Прямо рядом с колесом Андрей нашел первый тонконогий подберезовик.
Они сразу разбрелись в разные стороны и потеряли друг друга из виду. Наклоняясь за очередным грибом, он срывал вынырнувшую из травы рубиновую земляничку. Попадались заросли черники. После душисто-железистой земляники вкус черники казался водянистым. На лицо то и дело липла паутина, руки сами собой раздвигали ветви, под ногами хрустел сушняк и пружинил густой мох. Вот парочка толстеньких боровиков один за другим тяжело и мягко упали в пакет. А вон за поваленной старой березой поманил красной шляпкой подосиновик. Снова кудри черничных кустов. Пальцы уже синие от сизоватых брызжущих соком ягод.
Из-за темной ели вышел мужчина в городской одежде и громко прошептал:
— Слышь, тут монахи ходят! Из монастыря, наверное. С бородами, в рясах.
— А я сам из этого монастыря.
— Ты что, тоже монах? — грибник осмотрел черный джинсовый костюм Андрея.
— Скорей послушник. Временный.
— Ой-ёй! Вот это да! — выпучил он глаза и поспешно скрылся в кустах.
Под ногами зачмокала болотистая тряска. Вокруг остро ощетинились сухие ломкие сучья облысевшего без солнца ельника. Под сомкнутыми над головой черными еловыми зонтами навечно поселилась мрачная тень. Вместо душистых благородных грибов нахально алели пятнистые мухоморы. Андрей оглянулся окрест — и холодная тоска закралась в его грудь. «Оказался в гиблом месте я…»
— Юра! Брат! — кричал он, отгоняя страх. Но в ответ — лишь давящая тишина и скрип трущихся сухой корой сваленных друг на друга еловых стволов.
«Стоп, стоп! Так дело не пойдет. Это что же я — впадаю в панику? Стыдно, стыдно, молодой человек. Что там говорили монахи? Проси Преподобного — и он поможет. Святой угодниче, моли Бога о мне, грешном… Нет, не так. Преподобный, прости меня, я увлекся, пожадничал и вот заблудился. Яви чудо, помоги мне найти моего брата и машину».
Над головой в разрывах черной хвои засверкало солнце. Ноги сами зашагали непонятно куда. Он с трудом, загораживаясь локтями от лезущих в глаза острых сучьев, проломился через лесную рвущую одежду злобу на просторную поляну. Обогнул стайку берез, высокие малиновые кусты с зелеными пока ягодами и вышел на дорожку. Прошел по ней сотню шагов, обогнул частокол осин — и вот он уже на развилке тенистой с примятой травой дороги.
Справа в сорока метрах он увидел кожаную куртку брата, а слева в тридцати метрах — «джип». «Спасибо тебе, Преподобный, ты меня выручил!»
В монастырской библиотеке имелись «Жития святых» Димитрия Ростовского не на все месяцы. Сегодня игумен благословил читать во время трапезы житие преподобного Марка Афинского.
Братия во главе с игуменом и приезжие сидели за длинными столами и степенно вкушали «от плодов Господних». Молодой монах с реденькой бородкой за складным аналоем медленно, нараспев читал житие:
«…— По прежнему ли обычаю стоит мир в законе Христовом?
— Ныне, — отвечал я ему, — по благодати Христовой, даже лучше прежних времен…
Услышав это, старец возрадовался великой радостью. Потом он снова спросил меня:
— Есть ли ныне среди мира некоторые святые, творящие чудеса, как сказал Господь в Евангелии Своем: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди оттуда сюда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17, 20).
В то время как святый произносил эти слова, гора сдвинулась с своего места приблизительно на пять тысяч локтей и приблизилась к морю. Святый Марк, приподнявшись и заметивши, что гора двигается, сказал, обратясь к ней:
— Я тебе не приказывал сдвинуться с места, но я беседовал с братом; посему встань на место свое!
Когда только он сказал это, гора действительно стала на своем месте. Увидевши сие, я упал ниц от страха. Святый, между тем, взяв меня за руку и поставивши на ноги, сказал мне:
— Разве ты не видывал таких чудес в течение дней жизни твоей?
— Нет, отче, — отвечал я.
Тогда святый, вздохнувши, горько заплакал и сказал:
— Горе земле, потому что христиане на ней таковыми только по имени нарицаются, а на деле не таковы!
И снова произнес он:
— Благословен Бог, приведший меня на сие святое место, дабы я не умер в своем отечестве и не был погребен в земле, оскверненной многими грехами!
Весь тот день провели мы, повествует Серапион, в пении псалмов и духовной беседе, а с наступлением вечера преподобный сказал мне:
— Брат Серапион! Не время ли нам после молитвы с благодарностию вкусить от трапезы?
На эти слова я не ответил ему ничего. После сего он, подняв руки к небу, стал произносить следующий псалом: “Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит” (Пс. 22, 1).
Окончив пение сего псалма, он, обратившись к пещере, сказал:
— Брат, предложи трапезу.
Потом он снова сказал мне:
— Пойдем вкусим от трапезы, которую Бог послал нам.
Я изумлялся сам в себе, недоумевая, кому это приказывал святый Марк приготовить трапезу, потому что в течение целого дня я никого из людей не видел у него в пещере.
Когда мы вошли в пещеру, я увидел два стоящих стола, на которых были положены два мягких и белых хлеба, сияющих наподобие снега. Были там также прекрасные для глаза овощи, две печеные рыбы, очищенные плоды маслины, финики, соль и полная кружка воды, более сладкой, нежели мед. Когда мы сели, святый Марк сказал мне:
— Чадо Серапион, благослови!
— Извини меня, отче, — отвечал я.
Тогда святый произнес:
— Господи, благослови!
И я заметил около трапезы простертую с неба руку, осенившую крестом предложенное. По окончании трапезы святый Марк сказал:
— Брат, возьми сие отсюда!
И тотчас трапеза была снята невидимою рукою. Я удивлялся всему происшедшему: и невидимому слуге (ибо находившемуся во плоти ангелу, преподобному Марку, по повелению Божию, служил бесплотный ангел Господень), и тому, что во всю мою жизнь я никогда не вкушал столь вкусной пищи и никогда не пил столь сладкой воды, какая была на той трапезе…» («Жития святых» святителя Димитрия Ростовского, апрель, день пятый).
Во время трапезы к Андрею подошел мальчик-послушник и передал просьбу дежурного подойти к телефону. В трубке шипело и трещало — и он с трудом узнал голос отца. Тот сообщил, что у матери после разговора с Андреем случился инсульт, поэтому он должен срочно выехать. На вопрос, как стал известен телефон, отец сказал, что Лида заказала этот разговор. Он попросил Лиду. Та сказала, что торопиться не следует, так как мать в реанимации и к ней все равно никого не пускают.
Андрей сокрушенно поделился этим с игуменом. Тот попросил подробнее рассказать об их взаимоотношениях. Андрей рассказал, сначала сбивчиво, потом спокойней и подробно.
— Никуда не торопись. Мы сейчас отслужим молебен о ее здравии, потом уж и поедете.
На молебен отец Алексий позвал Юрия и молодого отца Федора. Они попеременно читали молитвы Богородице, великомученику и целителю Пантелеимону, Преподобному. Больше двух часов продолжался молебен. Несколько раз Юрий зажигал свечи и заменял сгоревшие новыми. Закончили они уже после одиннадцати вечера. «Теперь, Бог даст, все у вашей родительницы наладится. Ложитесь спать, а завтра поутру и поезжайте с Богом», — сказал усталым надтреснутым голосом отец Алексий.
Под защитой Преподобного
Андрей передал игумену бригадные деньги, попрощался с Бугром, и после отеческого напутствия в дорогу братья тронулись в сторону Москвы.
Ехали молча, каждый думал о своем. Впечатления от бесед с игуменом смешались с переживаниями о болезни матери.
Углядев справа от дороги приличное место, Юрий произнес «паркинг» и остановил машину. Андрей открыл свою дверь, и вдруг ему в нос ударил противный запах.
— Юр, здесь что, рядом свалка?
— Да ты что! Оглянись — какая красотища, — показал он рукой в сторону просторного березняка, освещенного солнцем, с низенькой травкой.
Но тут и Юрий почувствовал неприятный горелый запах, и взгляд его упал под правое заднее колесо. На асфальт капало черное горячее масло. Очень скоро собралась приличная лужица со стакан.
— Так, кажется, тормозная жидкость вытекла.
Он сел за руль и поездил взад-вперед, Андрей наблюдал за движением колеса. Нет, ни биения, ни дыма — все нормально!
— Да нет, ничего с нашей машиной не случится — мы едем под защитой Преподобного, не забывай, — напомнил Андрей. И его уверенность передалась водителю.
— Ладно, тогда поедем спокойно.
До самой Москвы машина катила легко и ровно, скорость держалась свыше ста километров в час.
На следующий вечер Юрий сообщил Андрею, что он только что вернулся из техцентра, где осмотрели его машину. Мастер удивился, как вообще они ехали: полностью разбита ступица колеса с подшипником, то есть колесо в любую минуту могло просто вылететь — и тогда…
— Ну вот, теперь и я удостоился чуда, — заключил Юрий.
— Ходил я в больницу к матери, — Андрей грустно замолчал. — Говорил с врачом. Он сказал, что вчера около полуночи ее отпустило, и теперь она уже шевелит парализованными рукой и ногой и даже пытается встать.
— Я знаю, звонил туда из техцентра. Значит, это вчерашний молебен помог?
— Значит, помог. Врач сказал, что если этой ночью не будет осложнений, то можно завтра ее навестить. Поедешь?
— Давай съездим.
Мать
На следующий день братья робко зашли в палату, где лежала мать. Поставили в банку огромные бордовые пионы, срезанные Лидой на даче, расставили на тумбочке компоты и куриный бульон.
— Ну, что же вы думаете — меня здесь не кормят? — громко, совсем здоровым голосом вопрошала больная.
Она довольно уверенно двигалась, и прежняя сталь в голосе доказывала ее быстрое выздоровление.
— Рассказал мне отец, что теперь у нас в семье не один, а сразу двое мракобесов появилось! Ты что же, Юрий, тоже по монастырям зачастил?
— Ты не представляешь, мама, как там хорошо! Да я на лучших курортах мира так не отдыхал, пару дней всего — а будто месяц в санатории!.. — начал было Юра, но мать его оборвала.
— Не хочу и слышать этого! Не хватало еще после одной кондрашки другую следом получить!
— Мама, успокойся, нельзя тебе волноваться, — тихо заговорил Андрей. — Там действительно прекрасные леса, чистая речка, мы отдыхали, собирали грибы, ездили в Плес, где творил Левитан…
— И слушали поповский бред про боженьку вашего прокля!..
Как только она выкрикнула эти слова, ее рука, гневно потрясавшая кулаком, рухнула вниз и плетью повисла на обмякшем плече, как пустой рукав на вешалке. Лицо ее исказилось и перекосилось. Она дернулась и застыла, беспомощно и испуганно глядя помутневшими глазами в белый потолок.
Юрий метнулся за врачом. Андрей встал на колени, прислонился лбом к ее руке и горячо зашептал молитву. Ему показалось, что он успел прочесть все известные ему молитвы за болящих и скорбящих, гневающихся и нераскаянных. Наконец, в палату въехала тележка с капельницей, со стеклянным звоном толкаемая врачом и сестрами.
Из больницы Юрий побежал на ближайшую почту звонить игумену Алексию с просьбой о молитвах за мать.
Андрей отправился в церковь. Куполок ее в темно-зеленоватой медной патине с ажурным золотым крестом высился над больничным забором. У церковных ворот Андрей оглянулся вокруг. И тогда он узнал это место. Здесь он впервые соборовался, приглашенный знакомым. Тогда стены храма были наскоро сколочены из теса. Сейчас под ладонью Андрея теплел терракотовой четкой гранью отделочный кирпич.
Два года назад сюда пришел молодой священник отец Алексий с бумагами от властей и с твердым намерением возродить попранную святыню. Согласно бумагам на территории храма, окруженной высокой кирпичной оградой, работала фабрика. На самом деле здесь обосновалась частная фирма, судя по «Мерседесам» с затемненными стеклами — процветающая. Священника сразу выгнали, бумаги веером рассыпали ему вслед.
Тогда отец Алексий в субботу с помощью знакомых строителей пригнал сюда экскаватор, прямо на дороге у ворот оскверненного храма выкопал котлован и забетонировал фундамент. В воскресенье он освятил фундамент вновь заложенного храма и имел беседу с бандитом, присланным для разборки хозяевами фирмы.
Бандит сразу приказал рабочим сломать фундамент и засыпать дорогу. Рабочие боязливо спрятались за спину батюшки. Отец Алексий тихо произнес:
— Кто попробует разрушить — провалится в преисподнюю. Не советую шутить: храм заложен и освящен Господом.
Видя, что рабочие не собираются выполнять его приказ, бандит, рыча от злобы, сам сел за рычаги экскаватора и угрожающе поднял зубастый ковш над фундаментом. Но опуститься ковшу суждено не было: сидящий за рычагами сначала замер с распахнутым ртом, а потом и рухнул на грязный пол кабины. Через полчаса машина реанимации увезла его в больницу с диагнозом «инфаркт», благо больница находилась рядом. В понедельник батюшке зам. директора сообщил, что в воскресенье тоже с инфарктом с дачи увезли директора, пославшего бандита.
Больше строительству храма никто не мешал, зато количество прихожан здесь стало таким, что они едва помещались в его невеликое внутреннее пространство: слух о решительном батюшке быстро разошелся по православным кругам Москвы. Через несколько месяцев фирма съехала с территории старинной церкви и началось возрождение этой святыни.
…Отец Алексий, как всегда, находился в храме. В глаза Андрею бросилась седина, в изобилии посеребрившая его густую темно-русую бороду, а ведь ему еще только тридцать. Он невозмутимо выслушал взволнованный рассказ Андрея о матери и встал на молебен перед иконой преподобного Серафима Саровского…
Своими звонками и посещениями братья замучили весь больничный персонал отделения, терпевший все это только из-за весомых Юриных чаевых. Но вот к вечеру врач со вздохом облегчения сообщил, что кризис прошел, мать пошла на поправку, и парализованные конечности снова потихоньку задвигались. На этот раз он запретил им появляться неделю, пробурчав что-то о ненормальной больной, которая ломает всю медицинскую науку, и таких же родичах.
Командировка на юг
— Решил при доме церковь построить, — пробасил Владимир Иванович. — И чтобы, как в соборе Парижской Богоматери, — панели стен были из самшита.
— Самшит так самшит, — ответил Андрей заказчику. Положил вещи в сумку и, пока по телефону обзванивал кого надо, под окна уже подкатил грузовик «Вольво» с фурой, крытой ярко-синим тентом. Он забрался в кабину, где сидел довольный предстоящим приключением Пал Трепалыч, и лег на спальное место. Дорога предстояла в две тысячи километров.
Вся операция с отгрузкой самшита заняла меньше половины дня. Документы, обеспеченные хозяином, имели действие парализующее: пограничники вытягивались в струнку и сразу беспрепятственно пропускали грузовик. До самой Пицунды их сопровождал эскорт автоматчиков. Машины ехали пустынным приморским шоссе на предельной скорости. За все время навстречу им просвистело не больше десятка легковушек, в том числе пара «джипов» с символикой ООН.
Андрей видел величественные горы и ласковое море, но все это не радовало. За каждым кустом, за изгибами гор, за простреленными стенами пустующих домов таилась опасность.
Этот край — двухтысячелетний удел Богородицы. Первый удел по апостольскому жребию. Здесь появились первые христианские храмы и монастыри. Российская держава сдерживала агрессию со стороны диких язычников и мусульманских стран. И вот здесь нет «сени российских штыков». В этом красивейшем уголке Земли, устроенном Богом для того, чтобы люди радовались красоте Божиего мира, теперь хаос.
В Пицунде, в самшитовой роще недалеко от обочины шоссе увидел Андрей автокран, стоявший рядом с аккуратно перевязанными пачками самшитовых причудливо изогнутых стволов. Он просмотрел вместе с Пал Трепалычем пачки, не нашел ни единого бракованного или подозрительного ствола и дал команду грузить. Кран, поднимавший небольшие пачки, натужно пыхтел густым дымом: самшит — очень тяжелая древесина, по твердости почти равная стали. Решили свободное место в кузове догрузить тонкими изогнутыми ветвями для мелких деталей отделки. На земле оставались еще две пачки ветвей, но водитель «Вольво» замахал руками: перегруз. Пал Трепалыч расплатился, и они с Андреем запрыгнули в кабину.
Обратно ехали уже медленнее, но все-таки довольно стремительно. Снова пустынные вымершие, некогда курортные места: ветшающие санатории, пустые пляжи, малолюдные поселки и города. Снова граница, снова таможенная «зеленая улица». На территории России, в Адлере, ощутив явное облегчение от возвращения домой, они с Пал Трепалычем расстались.
Тётушка и племяшка
Андрей сел в такси и поехал в Абрау-Дюрсо. Но какая же разница! Здесь бурлила жизнь. Сочи пестрел отдыхающими, сверкал новенькими фасадами гостиниц и санаториев, среди обильной густой листвы всюду мелькали яркие цветы. Автомобили всех марок и модификаций заполнили дороги. Сюда, в Сочи, будто съехалось население всей или уж точно половины Москвы и разных других городов России. В этот вечерний час аллеи и парки, пляжи, кафе и шашлычные, рынки и магазинчики были переполнены обгоревшими отдыхающими. Такое Андрей видел в последний раз в середине восьмидесятых.
После Дагомыса пестрое многолюдье несколько поубавилось и вновь оживало в приморских поселках и городках: Лазаревском, Аше, Туапсе, Джубге. Таксист ему достался молчаливый, поэтому Андрей прикрыл глаза, положил пальцы на пульс и углубился в Иисусову молитву.
В сером, будто покрытом цементной пылью Новороссийске, Андрей приоткрыл глаза, удивившись стремительному перенесению, и снова «сошел в сердце».
Но вот за горным перевалом сверкнула поверхность озера Абрау в чаше зелено-кудрявых горных холмов. У магазинчика шофер притормозил. Андрей заполнил несколько пакетов продуктами. Машина сделала еще несколько крутых виражей среди густых зарослей кустов и деревьев и, подъехав к школе, остановилась у двухэтажного панельного дома. Этот дом Андрей помнил лет эдак с шести. Окно второго этажа распахнулось — и вот уже старенькая тетушка сквозь слезы улыбается ему и машет загорелой рукой.
Когда он расплатился с шофером и выгрузил сумку и пакеты на скамью, сзади его обняли тоненькие руки, за спиной слышался сдерживаемый смех. Ну, вот она и вынырнула из-за спины: рот до ушей, черные глаза рассыпают искры смеха, голенастые бронзовые ноги вытанцовывают огненную лезгинку.
— Племяшечка моя маленькая! Любимая девочка… Вот это маленькая! Да ты уже скоро с меня ростом будешь! Бери пакеты, егоза, и помогай домой нести.
Тетушка мокрыми от слез щеками прижималась к его груди, рыдания не давали ей говорить, она только гладила его плечи и кивала седой головой.
Аня скакала по комнатам, скороговоркой выдавая серию новостей, потом схватила кусок колбасы, положила на хлеб и унеслась во двор.
— Собак своих побежала кормить… — виновато улыбнулась тетушка, размещая продукты на полках старенького холодильника. — Можешь полюбоваться в окно.
Андрей с трудом оторвался от знаменитого тетушкиного борща со старым салом, молодым чесноком и болгарским перцем. Отвел занавеску и увидел, как во дворе стояла Аня и маленькими кусочками раздавала еду голодным собакам разных пород. Они тявкали, прыгали, визжали-подвывали от нетерпения. Племянница сама подпрыгивала в этой веселой кутерьме. Андрей окликнул ее и подбросил еще хлеба и колбасы. Кутерьма получила новый импульс. Аня завизжала от счастья и, громко смеясь, подпрыгивала, разбрасывая куски.
— Ну, как на нее обижаться! Ведь она, глупая, чуть не все со стола во двор собакам несет. Сама уже как скелет стала, вечно голодный ребенок… — ворчала тетушка, с улыбкой любуясь внучкой.
— Ничего, ничего, рука дающего не оскудевает. Купаться на озеро пойдем? А то скоро стемнеет.
— Ой, Андрюша, я-то с удовольствием, только ведь меня тащить придется: нога моя гнется не в ту сторону.
Андрей с племяшкой, крепко поддерживая под локотки тетушку, по крутым каменистым дорожкам спустились к озеру.
Здесь на горячей гальке, на привязанных цепями лодках сидели и барахтались в зеленовато-голубой воде семьи с детьми. Тетушка присела на край лодки, разбирала сумку и раскладывала по облупившемуся сиденью мыло, мочалку, полотенца, шампунь. Аня обежала детей, чем вызвала всеобщий бурный восторг.
От воды парило, искрило розовым светом заходящего солнца. В синем темнеющем небе плыли прозрачные розоватые облака. Когда умолкал детский смех, наступала гулкая тишина, нарушаемая едва слышным плеском мягких волн. Они сбросили одежду и втроем вошли в озерную зеркальную синеву.
Мягкая вода окутала их чуть не горячими слоями верховодья и донной илистой прохладой. Вокруг запузырились пенистые барашки, запрыгали яркие золотистые солнечные зайчики. Тетушка только охала от удовольствия, нежась в прибрежном мелководье, зато Аня в брызгах и волнах с подвизгиванием устремилась к центру водного зеркала. Андрей поплыл за ней вдогонку, но не тут-то было! Девочка, высунувшись на полкорпуса из воды, летела, как глиссер. По животу и ногам Андрея ласково скользили водоросли, вода полосами то обдавала теплом, то освежала холодком. В теле появилась бодрость, усталость растаяла, будто растворилась в этой мягкой жемчужной воде.
Чистые и свежие, они сидели на теплых досках лодочных сидений и наслаждались тишиной. Купальщики разошлись по домам «вечерять», и покой нарушался только вздохами чаек и плеском мелкой волны.
Аня прислонилась своей бронзовой худенькой спинкой к широкой мускулистой спине дяди и затихла, глядя на фиолетовое засыпающее небо. Тетушка рассказывала о житье-бытье.
Когда-то красивейший поселок, знаменитый на весь мир коллекционным шампанским, чистым морем и уникальным озером с мягкой водой в горной чаше, в последние годы разрушался и ветшал. Работники винзавода получали гроши, воровали и потихоньку спивались. Все реже здесь улыбки и смех, все злее и завистливее глаза людей.
Некогда роскошный парк с белыми статуями, парадной лестницей, розовыми клумбами и подстриженным кустарником, зарослями жасмина, голубыми елями, мозаичным фонтаном и чистенькой набережной — сейчас производил удручающее впечатление разрухи и заброшенности. Зато по зеленым склонам гор появились шикарные виллы хозяев новой жизни. Раньше по берегу озера каждый день собирали мусор и тщательно подметали — теперь всюду валялись черно-зеленые стекла разбитых бутылок, горы мусора и опавшей листвы. Тетушка с внучкой жили вдвоем на крошечную пенсию учительницы, питаясь в основном за счет маленького огородика. Красавица-матушка у Анечки погибла в аварии, а отец уехал на заработки… Раньше хоть родственники летом приезжали — все веселей и сытней было, а теперь не особенно-то поездишь: дорого.
Перед сном Анечка повела дядю на прогулку. Южная черная ночь с крупными звездами на небе опустилась на поселок. Пряно благоухали цветы палисадников. Жители, высунувшись из открытых окон и заняв все лавочки, тихо обсуждали последние новости. Молодежь в деревянной беседке слушала магнитофон и изредка хохотала. Когда Андрей с Аней проходили мимо, все замолкали, чтобы уже за их спинами обсудить еще одну новость.
Они прошли в парк и в кромешной тьме увидели десятки светящихся зеленых траекторий — это светлячки резвились в ночном танце. Они вышли на бывшую танцплощадку, мягко освещенную лунным светом. Теперь здесь собираются любители пикников: под ногами хрустело бутылочное стекло и рваные пластмассовые стаканчики. Андрей вспомнил, как раньше тут играл духовой оркестр, танцевали нарядные пары и вот эти поверженные треснутые каменные чаши стояли на вот этих каменных тумбах, покрытые белоснежной известковой краской.
Вот из-за расступившихся акаций и елей широкой лунной дорожкой блеснуло озеро. По его берегам черными пирамидами высились тополя. По озеру плавали рыбацкие лодки. Красота какая!
— А ты на родине предков бывала? Наша родина — село в центре России.
— Нет еще… А как там?
— Как? Слушай! — Андрей вспомнил один опус из своего дневника и стал его цитировать: «Накинул тулупчик овчинненькай да сыромятенькай на круто-плечико, вышел на крыльцо резное, гукнул “Эге-ге!” (а в ответ: из лесу — “гы-гы”, из будки — “гав-гав”, из овина — “ко-ко-ко”, из фермы — “му-му”, с телеграфных проводов — “кар-кар”); блескучим оком зыркнул во небушко звездное и попёхал в гумны озимые свеклы косить. И тишина!.. Потом с морозца зашел в сени, скинул кирзачи, глотнул морозной зуболомной водицы колодезной из кадки душистой, хрустнул огурцом из бочки, растер по нёбу шершавым языком пирожок с вязигой, налил кошке молока, попарился в баньке ветловым веничком и хряп — на табурет к дубовому грубосколоченному столу карябать огрызком химического карандаша записки мудрого свекловода-селектора во назидание грядущим поколениям селян. Вот сосед зашел пригласить на путину — сигов и шпроты неводом в омутах пошарить, а ты ему: “Конечно, только в другой раз, у меня такой день…”, а вот и присядатель заглянул на сельсовет позвать — нового агронома в комбайнеры избрать; вот ужо пастух стадо пуховых козлов на удой пригнал, в амбар к коновязи привязал и зашел на сеновал рассолу с хренком ковшик опрокинуть и про ометы погутарить. А вот солому вязать в стога время подоспело, с ружьецом на тягу за околицу глухарей из силков в туеса собрать, картошку белокочанную сохой жать, пряжу дратвой сучить, лапти онучные валять, грибы белого налива мочить, капусту семенную тушить… Распрямишься так, разомнешь взопревшую поясницу и подумаешь натруженно: “Да-а-а ить, ноне с яровыми нетоё!” А там уж и печь кизяком растапливать пора. Одно слово: страда!»
Последние его слова заглушил звонкий Анечкин смех.
— Это только от большой любви к моей больной родине я так смеюсь, Анечка. Над собой, горожанином недоделанным, смеюсь.
— Дядечка мой любименький, свози меня на родину, я тоже хочу в овине вязиху мочить и грибы на ветлах настаивать, — заплясала девочка вокруг дяди.
— А вот тебе, космополитка ты еще пока безродная, пока рановато про это шутить. Ты поплачь с мое, стариковское. Да стопчи пару кирзачей по проселкам. А уж потом и поплачем-посмеемся. Над собой.
— Вы чего такие веселые? — Улыбнулась тетушка, когда они с приплясывающей Аней вошли домой.
— Это я космополитку родину любить учил, — буркнул Андрей. — А она, фулюганка, плач мой надсадный за смех приняла.
Ночью после молитвы Андрей вспомнил, как впервые увидел свою племянницу. Удивительно красивым и чистым ребенком была она, с добрым, покладистым характером. Никогда не позволяла она себе что-то требовать. Никогда не капризничала. Рядом с ней всегда становилось как-то светло и весело. Так хотелось бы, чтобы этот природный талант она сумела сохранить!
Однажды он увидел икону «Введение Богородицы во храм». На ней маленькая празднично одетая Девочка Мария робко, по-детски угловато взбиралась на высокие ступени храма. Родители взволнованно протягивали к Ней руки, всем своим существом переживая и поддерживая Ее. Почему-то именно Анечку в тот миг вспомнил Андрей. Ему тогда тревожно стало. Он понял, что судьба у девочки будет непростая: очень много ей дано Творцом, очень много и спросится.
«Ну, что ж, да будет на все воля Божия!
Пресвятая Богородица, Ты тоже, как прекрасный цветок, многими поколениями выращивалась в недрах богоизбранного, Богом любимого народа. Ты была Лучшей из лучших, Чистейшей и Прекрасной! Как нам Тебя не любить, не почитать, не поклоняться!
Сколько радости даровал Тебе Господь! Твои ясные глаза видели Христа, Твои руки ласкали Богомладенца… Как Ты волновалась за каждое Его движение, каждый шаг Его нежных детских ножек…
Но сколько Тебе — Матери из матерей — пришлось перенести страданий! Невыносимых по человеческим понятиям. Ведь только Ты одна от первого до последнего Его шага по этой жестокой земле знала, Кто Он, и никогда не предавала, ни отказалась от Него, ни усомнилась в Нем. Сколько же слез источили Твои чудные кроткие глаза!
Никогда ни единому человеку на земле не испытать того, что пришлось перенести Тебе, Матерь Господа! Матерь наша — всех человеков и каждого из малых сих. Матери земные предают своих детей, отворачиваются от них, по своему помрачению калечат их, умножают в них зло. От Тебя же — только помощь, только заступничество, только благодатная всепобеждающая любовь материнская. Не остави нас, Царица Небесная! Не остави девочку эту, сиротинушку беспомощную, голубку нашу маленькую! Умоляю, защити ее от зла Своим Материнским покровом».
Утром тетушка ушла «поковыряться в огороде», а Андрей с Аней отправились на море. Они шли по асфальтовой разбитой дороге вдоль берега озера, то и дело останавливаясь, чтобы сорвать черную ежевику или желтую алычу. На берегу озера стояли рыбаки, дымили костры, скрипели ржавыми цепями лодки. В кустах желтели и краснели палатки приезжих, некоторые из них сидели за столами, покрытыми газетами, и завтракали с местным красным вином. Слышался ленивый южный говорок: «Та нэ хфатай ты помыдор хряснай рукой — вылка ж есь!»
Сзади заворчал автомобильный мотор, они прижались к обочине, и Андрей поднял руку. Как ни странно, микроавтобус остановился, и его дверца плавно откатилась. Внутри на ящиках полулежали веселые пьяные бандиты. Андрей залез сам, сел на ящик с пивом, посадил Аню на соседний и с трудом захлопнул дверь.
— Нам на «Лиманчик».
— А здесь больше некуда. Гы-гы-гы! Вы там помидоры в ящике не помните.
— Хорошо.
Автомобиль лихо петлял на виражах. В салоне гремела песня про мурок и малину. Анечка тихо улыбалась в ответ на успокаивающие взгляды Андрея. За сотню метров от въезда в лагерь машину остановил бандит постарше.
— Что, освежились? — спросил он выскочившего навстречу ему водителя.
— Как положено… — заискивающе улыбнулся тот, сверкнув золотой фиксой.
Когда Аня выскочила из машины, Андрей спросил:
— Сколько мы вам задолжали?
— Ну, ты че, братан? Отдыха-а-ай!
— Спасибо.
Микроавтобус отъехал и… на них обрушилась тишина и знойное благоухание. Андрей не мог вспомнить название этого хвойного деревца, затопившего густым ароматом здешние окрестности, спросил у Ани.
— Можжевельник, — подсказала девочка.
— Да-да, а еще акация, амброзия и розы.
Они брели по территории университетского лагеря отдыха. Небольшие щитовые домики почти незаметны в густых зарослях тропической растительности. Изредка навстречу вразвалку шли загорелые молодые люди в шортах. От столовой пахнуло все теми же давнишними пригорелыми котлетами. На асфальтированной площадке азартно играли в волейбол. Под крышей павильона смотрели видео и тут же играли в пинг-понг. Здесь, в этой тенистой зеленой чаще, царили приятная прохлада и вездесущий аромат можжевельника и цветов.
А вот и маленькое пресное озерцо в окружении высокой осоки. Здесь среди кустов шиповника из-под каменистой земли бьет хрустальной струей родник. Андрей с Аней сели на корточки и опустили в холодную воду пустые пластмассовые бутылки. Из горлышек забулькали пузыри воздуха, а внутрь потекла жидкая свежая прохлада. Хлебнув из бутылок по глотку ледяной водицы, они обогнули озерцо по узкой асфальтовой дорожке и вышли к морю.
Здесь от камней уже поднимался жар, прогоняемый порывами легкого бриза. Большинство отдыхающих пряталось от яркого солнца под тентом с лежаками и под мостиком, уходящим метров на двадцать в море. С этого мостика ныряли отчаянные и степенно спускались по ступенькам на подводные плиты мамаши с детьми и люди постарше.
Аня предложила «упасть» прямо на камни, где никого не было. Они бросили вещи и сразу пошли купаться. По мостику мимо них прошел и подмигнул, как друзьям, один из бандитов, сидевших в машине. За ним семенила длинноногая девица с капризным лицом.
Они перелезли через металлическое ржавое ограждение, стали на ноздреватый край бетона и на счет «три» вместе прыгнули в бирюзовую прозрачную воду. Андрей открыл под водой глаза и увидел греющихся на донных камнях черных головастых бычков. Между яркими лучами солнца, пронзающими зеленоватую толщу воды, стайками носились серебристые сардинки. Иногда из-за густых голубых водорослей выглядывали крабы. Он протянул руку к одному из них, но тот сорвался с места и удрал в сторону. Здесь, на глубине, жили покой и тишина.
На поверхности он шумно вдохнул воздух. Со всех сторон обрушились крики, плеск, смех отдыхающих и всхлипы чаек. Аня стояла на подводной плите по горло в воде и, перебирая руками, беседовала со знакомой девочкой. Андрей помахал ей рукой и поплыл в сторону берега.
Вскарабкаться на берег по большим камням, скользким от водорослей, было не так-то и просто. Он доплыл до самого мелководья и, рискуя подвернуть ногу, по обросшим валунам выбрался на плоский сухой камень. Отсюда пришлось прыгать с камня на камень до брошенных вещей. Он достал тетушкину подстилку, очистил лежбище от колючих веток и сухих водорослей и расстелил на горячие мелкие камни старую плотную скатерть.
Горечь от морской соли во рту Андрей запил холодной родниковой водой. Водрузил на нос солнечные очки и залюбовался расплавленным мерцающим золотом поверхности моря. Затем оглянулся на окутанные голубоватой дымкой кудрявые горы, шуршащую вокруг озера осоку, скользнул взором по накаленным камням и лег на спину. В высоком выцветшем небе висело несколько пушистых перистых облачков. Он прикрыл глаза и погрузился в молитву.
«Как велик и прекрасен Ты, Господи, когда творения Твои, поверженные грехом человека, остаются поныне такими величественными и прекрасными! Не охватить ни взором, ни сознанием, ни сердцем все эти сотворенные единым Твоим повелением горы и моря, реки и озера, равнины и леса, планеты, звезды, галактики… И как бы их ни отравлял, ни загаживал в своем помрачении человек, они по-прежнему услаждают взор и восхищают сердце к Создателю своему. Могуч и славен вовеки Повелитель стихий и бездн, Властитель неохватного, непостижимого величия неба и земли.»
Андрей вспомнил, как читал в журнале статью о научных теориях происхождения жизни. Печальный вывод одного из оксфордских светил гласил: «Сейчас, в 1991 году, мы впервые за последние десять лет остались без какой бы то ни было приемлемой теории, объясняющей космологию в целом». Но вот кто-то из ученых понял очевидное: открой Библию — там все уже есть! Но не эти споры о якобы истине тогда заинтересовали Андрея: цену горделивому помраченному рассудку он узнал давно. Его потрясли в статье описания допотопного мира.
В те далекие времена на всей земле под плотной атмосферой, состоявшей из перегретого водяного пара, в результате парникового эффекта был тропический климат с буйной растительностью, способной прокормить любое количество животных. В результате равномерного прогрева поверхности земли не было ни ветров, ни смены времен года, ни дождей. Это объясняет отсутствие годичных колец на громадных ископаемых деревьях и сильной корневой системы. Такая атмосфера защищала Землю от космического излучения и вызываемых им мутаций в организмах. Поэтому люди до потопа и жили по 800–900 лет.
Не потому ли буйная тропическая растительность, теплое море и густой, напоенный ароматами воздух юга так манят нас, так волнуют? А не оставшееся ли это в нас, в каких-то общечеловеческих глубинах памяти воспоминание об утраченном рае? Не в таких ли райских кущах в мире с животными и растениями проживал Адам? Не такими ли сладкими и сытными тропическими плодами питался наш общий предок?
Андрей вспомнил, как в детстве они с отцом гуляли по поселку и в первые дни алчно, а потом уже лениво срывали с ничьих деревьев в изобилии растущие повсюду алычу, абрикосы, персики, кизил, сливу, ежевику, виноград, мушмулу даже какую-то… В озере водилась рыба: голубой амур, щуки, лещи. В море местные мальчишки с помощью самодельных копий охотились на морскую стерлядку, кефаль, ставриду, пеленгаса. Ведрами за копейки в поселке продавали царскую ряпушку. В горных лесах стреляли кабанов и оленей, медведей и зайцев…
Это который уж раз своими грехами человек разрушает подаренное ему Богом изобилие! Ведь это все произошло на его невеликой памяти… Райский уголок превращен алчными и пьяными людьми в руины. А ведь даже то, что не успели разрушить, даже эти крохотные остатки прошлого — прекрасны, если не вязнуть в некоторых неприятных мелочах…
Иоанн Богослов на острове Патмос удостоился великой чести. Господь показал ему, вернее немного приоткрыл, тайну Божественного видения. Ведь у Бога нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все это перед Его всевидящим взором, как единая панорама. Апокалипсис Иоанна — это и есть попытка усеченному человеческому разуму дать такую панораму. В некоторых иконах тоже дается символически временная панорама: святой стоит в дремучем лесу, в который пришел искать безмолвия, но на горизонте высятся храмы и стены основанного им монастыря и сложившегося вокруг него города; а сам святой, в нимбе славы, — уже в вечном будущем. И все это на плоскости иконы…
Андрей тоже сейчас ощутил себя перед приоткрытой ширмой вечности. За его спиной вздыбились тысячи лет назад недра земли и образовали эти замершие исполины гор. Под ним в расплавленном чреве земли все еще продолжались эти огненные процессы. Перед ним сейчас колыхалось изменчивое море, то ласковое сегодня, то завтра жестокое возмущением страшной бездонной пучины. А над его головой будущее сияло и манило вечной синевой. Вот оно — одновременное сосуществование времени во всей его божественной троичности. И сердце человека одновременно и в кратком миге — и в вечности. И в сердце человека — и падший смертный ветхий Адам прошлого, и воскресший Вечный Адам будущего Иисус Христос.
Таинство
Воскресным утром тетушка с Андреем встали пораньше, чтобы посетить местный храм. Аня, обычно легкая на утренний подъем, вставать не собиралась. Андрей спросил, почему. Тетушка, опустив глаза, призналась, что жалеет внучку, пусть, мол, хоть в воскресенье отоспится. Андрей тогда решительно вошел в комнату, где спала Аня, тетушка сзади причитала что-то про то, что внучка уже девушка и ей стыдно будет выглядеть заспанной перед любимым дядей. «Ничего, перетопчется!»
— Анечка, племяшечка моя маленькая, ну-ка быстренько вставай!
Та села на кровати, стыдливо, по-женски, подняв край одеяла до подбородка и, часто мигая, сонно взглянула на взрослых.
— Вставай-вставай, мы сейчас пойдем на встречу с настоящим чудом! Я сейчас выйду, а ты быстренько вставай и одевайся.
Втроем вышли они из дома на залитый ярким солнцем уютный двор. После традиционной процедуры раздачи колбасы с хлебом собакам, поднявшим веселую кутерьму, они стали спускаться по широкой лестнице вниз на площадь.
Тетушка рассказала, что открыли церковь в прежнем помещении милиции. Прихожане сами на свои деньги сделали там ремонт, украсили ее как смогли, принесли из дому иконы, что нужно — купили в церковных лавках Новороссийска.
Андрей объяснил Ане, что идут они на утреннюю воскресную службу, на которой будет совершаться чудо из чудес: Литургия — Таинство, установленное Самим Иисусом Христом на Тайной вечере, когда Он преломил хлеб, раздал апостолам и сказал: «Ешьте — это Тело Мое!», затем налил в чашу вина и протянул апостолам со словами: «Пейте — это Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов!» С тех времен каждое воскресенье в каждом храме претворяются хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы.
Это чудо совершается сошествием Святого Духа во время общей молитвы. На Литургии Сам Иисус Христос незримо, но реально присутствует в каждом храме на престоле в алтаре. Нам по греховности наблюдать это не дано, а вот святые это видели: Серафим Саровский, Сергий Радонежский, блаженные, некоторые чистые и безгрешные дети. И все, кто это видел, говорили, что Христос с небес спускается в алтарь в сопровождении многих святых и ангелов, и зрелище это — совершенно прекрасное и благодатное. Нам же достаточно знать и сердцем чувствовать, как Господь любовью и миром приходит в наши души.
На Литургии они стояли вместе. Аня зачарованно наблюдала за действиями священника и диакона, на ее личике мягко сияла счастливая улыбка. Когда прихожане выстроились к Чаше, скрестив руки на груди, Аня тоже шагнула, чтобы встать с ними, но Андрей остановил ее:
— Извини, Анечка, я тебе не успел объяснить, что к Причастию надо очень серьезно готовиться: поститься не менее трех дней, обязательно исповедаться, каждый день читать молитвы и каноны. Вот ты получше приготовишься, а тогда и причастишься, в следующее воскресенье. Ты пойми: это очень ответственно — принять внутрь себя Тело и Кровь Христовы, надо к этому все внутри вычистить и вымыть, как дом перед приходом важного и дорогого гостя. Поняла?
— Поняла. Я приготовлюсь, обязательно!..
— Вот и умница! А сейчас важно уже то, что ты при этом присутствуешь. Вот увидишь, как хорошо будет тебе сегодня целый день — будто внутри тебя солнышко светит.
— А что, сейчас там, — она показала рукой на алтарь, — Сам Бог?
— Да!
Аня побледнела, перекрестилась и замерла, забыв обо всем на свете, и, распахнув глаза, рассматривала алтарное пространство. Весь этот день девочка пребывала в задумчивости, а улыбка снова и снова вспыхивала на ее лице.
На круги своя
Света встретила Андрея, как обычно, новостью. На улице она столкнулась со своим горцем в обществе женщины с детьми — кавказской наружности. Горец так посмотрел на нее, что Света с испугу перебежала на другую сторону улицы.
— Представляешь, врал мне, что холостой, а сам с женой-детьми тут расхаживает!
— Света, ты сейчас от обиды наговоришь грубостей, а потом жалеть будешь. Ни его жена, ни тем более дети не виноваты, что вы с ним их обманули. Успокойся, пожалуйста. Очень хорошо, что это обнаружилось сейчас, а не через годик, когда ты могла бы ему подарить за его щедрую плату «царевича». Или комнату… или еще чего…
— И ведь предупреждал ты меня, разомлевшую, а не послушала, — уже сквозь слезы подвывала она. — Так хочется верить в хорошее, а все так плохо выходит.
— Что там хорошего было? Объедаловка, пьянки, тряпки — это хорошее, по-твоему? Он подловил тебя на самую дохлую наживку.
— Женщине всегда приятно, когда ее ублажают, исполняют желания, говорят приятные слова…
— Как видишь, брюнеты с югов это хорошо усвоили. Только за этой мишурой — одна ложь.
— Слушай, вот ты мне скажи, почему они такие сильные? Друг за дружку держатся, помогают, а мы, русские, сидим по своим норам в одиночку и друг друга пожираем?
— А что их объединяет? Жажда денег и власти; еще страх. А как они любят хвалиться! До чего у них развито честолюбие! Им проще соврать, чем сознаться, что они ничего особенного из себя не представляют. И ты посмотри, как они агрессивны и жестоки в войне, да и в мирной жизни. И твой «роман» тому свидетельство. Так что мое предложение остается в силе: верни мужа, излечи его от пьянства и люби его — больше, чем себя. А если вы со временем обвенчаетесь, то ваша совместная жизнь приобретет новое качество: вы будете друг друга спасать для жизни вечной.
— Ладно, посмотрим…
Пьянству — бой!
Поздно ночью позвонил Захар. Охрипшим дрожащим голосом сообщил:
— Андрюха, спасай меня, брат… Допился до зеленых бесенят. Во! Прыгают по мне, как блохи.
Он продиктовал свой адрес и со стоном опустил трубку. Андрей взял с собой святую воду, молитвослов, остановил такси и поехал через весь город в Выхино. Открыл ему дверь опухший измятый незнакомец со свалявшейся до войлочного состояния буйной растительностью. Некогда пышущий здоровьем богатырь превратился в обрюзгшего старика с бегающим пугливым взглядом. В комнате по грязному полу катались пустые водочные бутылки. Ряды икон с потухшими лампадами имели несколько зияющих прогалин. Хозяин заметил недоумение Андрея и пояснил:
— Да заложил я их, когда гонорар кончился… Опохмелиться не на что было. Ой, что тут со мной происходит! Не сплю уже больше недели. Лягу, а глаза даже не закрываются. Бесята по мне бегают, верещат, пищат. Ну, это еще ладно — мелочь. А тут ночью сам являлся… сытырашный! Я ему хотел в морду козлиную дать — так попал в Николу-чудотворца, в икону, значит… Доску пополам кулаком расколол. То песни пионерские пою, то матом часами ругаюсь, то отбиваюсь от приказов покончить жизнь. Вот так прямо и приказывают, сволочи, взять нож и воткнуть себе в глаз или сигануть с балкона. Я все ножи уже в мусоропровод сбросил, а окна и двери гвоздями заколотил. Ну, ты че — принес? А?
— Принес. Ложись на кровать.
Андрей сполоснул большую пиалу, налил святой воды и двенадцать раз окропил все иконы, стены, кровать вместе с замершим на ней больным. Потом зажег все лампады и церковные свечи и по молитвослову стал читать молитвы на изгнание бесов, от пьянства, от страстей, гордыни, нераскаянности… Захар сначала возмущался и требовал «стакан», потом затих и глубоко заснул.
Ночью Андрей вспомнил, как недавно у Свято-Данилова монастыря он подавал милостыню монаху с коробом для сбора денег из подмосковного монастыря и тот рассказывал мужчине с дымящейся сигаретой в руке про Высоцкий монастырь в Серпухове. Сказал, что там у чудотворной иконы «Неупиваемая Чаша» исцеляют от пьянства, наркомании и курения. Тысячи людей исцелила эта икона. Монах рассказал мужчине, как туда доехать, тот аккуратно записал.
Утром больной проснулся и снова затребовал «стакан», ссылаясь на «дрожь плоти и жжение утробы». Андрей налил воды из чайника, капнул туда святой воды, произнес молитву и дал ему выпить.
— Все, хватит стонать и умирать, одевайся.
— Ты что? Убить меня хочешь?
— Наоборот, оживить. Одевайся.
С помощью Андрея Захар с трудом оделся, и они вышли на улицу. На Рязанке Захар увидел ларек с выставкой разнокалиберных бутылок на витрине и попытался выклянчить денег для «поправки пошатнувшегося здоровья», но был водворен крепкой рукой Андрея в тормознувшее такси. Когда шофер услышал, что ехать нужно в Серпухов, он затребовал оплатить дорогу туда сразу, а потом в конечном пункте — столько же за холостой пробег назад: «Я оттуда клиентов не найду!» Андрей вручил деньги, и они помчались вон из Москвы.
Всю дорогу Захар ныл, после Подольска стал требовать, чтобы его высадили, но получил крепкий удар в бок и какое-то время мрачно скрипел зубами. Таксист гнал машину на предельной скорости. В Серпухове Захар впал в бешенство, извивался всем телом и ругался матом. Андрей взмок, удерживая его, но все же разок досталось и шоферу по затылку. Тот сразу объявил о повышении тарифа. Андрей сунул ему еще денег. Когда машина затормозила у белых стен Высоцкого монастыря, и Андрей расплатился с шофером, тот вытер пот со лба:
— Ну, вы даете, мужики! Знал бы, что вы такие буйные клиенты, — объехал бы вас за километр.
— Запомни, шеф, в этом монастыре лечат от пьянства, наркомании и курения. Может быть, и тебе понадобится.
— Да уж запомню на всю жизнь…
Андрей проводил взглядом удаляющуюся машину, обернулся к качающемуся Захару — и получил сильный удар в лицо. Перед глазами поплыли светящиеся точки, но Андрей сумел устоять и руками крепко обхватил драчуна.
— Андрюха, прости — это не я, меня заставили! — сипел пленник, — я опять слышу голоса. Они требуют, чтобы я тебя убил.
— Это уж дудки-с! Быстро! Идем! — рявкнул он.
Они подошли к черной металлической двери и остановились.
— Перекрестись три раза сам, — потребовал Андрей, державший пленника за плечи.
Захар несколько раз рванулся, но Андрей его удержал. Потом перекрестился дрожащей рукой — и обмяк. Андрей и на себя наложил крестное знамение, и они шагнули на землю монастыря.
Андрей обратился к проходившему мимо монаху и узнал, в каком храме находится знаменитая чудотворная икона «Неупиваемая Чаша». Храм Покрова стоял рядом, и они сразу направились туда. По лестнице на второй этаж Захара пришлось тащить чуть ни на себе. Он жаловался, что ноги не идут, словно ватные. На площадке, куда они поднялись, три двери. «Куда?» — спросил Андрей у женщин. Одна из них быстренько открыла тяжелую дубовую дверь — и сразу напротив Андрей увидел добрые материнские очи Пресвятой Богородицы. Подошли они к иконе в богатом резном киоте и оба встали на колени.
Нижняя лампада красного стекла мягко освещает лик и воздетые руки Богородицы и чашу с Младенцем Иисусом. От теплого трепетного пламени создается впечатление легкого движения, рукописные лики словно оживают и следят за тобой. Две лампадки синего стекла повыше центральной рассыпают по серебристому ажурному окладу синеватые искры, как от молнии.
Захар вжался лбом в коврик, постеленный перед киотом, и затрясся в рыданиях: «Мать родная, Царица Небесная, спаси меня грешного от погибели!» — повторял он снова и снова. Сзади подошла женщина, открывшая им дверь, и протянула Андрею стаканчик:
— Пусть попьет святой водички от молебна.
Захар жадно сделал несколько глотков, затих. Андрей помог ему встать и приложиться к иконе. Когда губы Захара коснулись стекла, он резко отпрянул, закрыв рот рукой, и со страхом глядел на икону:
— Как током ударило! Я уж думал, стекло треснуло. О, Господи, ну и шарахнуло меня…
— Если бы чуть раньше приехали, то успели б на молебен. Он только вот кончился, — услышали они за спиной голос сердобольной женщины. — Ты, сынок, сам приехал, молодец! А я мужа своего привезти не смогла. Из самого Владивостока приехала к иконе чудотворной. А вы идите в трапезную, найдите отца Иоанна. Он поселит в гостиницу. Поживешь здесь хотя бы дня три и, даст Бог, излечишься.
Отец Иоанн отобрал паспорт у Захара и поручил его труднику, убиравшему со столов посуду. Тот проводил их в небольшую двухэтажную гостиницу, прочитав молитву, впустил в комнату с десятком кроватей. Захар снял туфли, лег на кровать и сразу заснул. Андрей с парнем вышли из гостиницы и присели на скамейку. На вид ему было лет тридцать, белокурый, с редкой бородкой. Глаз своих он не поднимал. Постоянно перебирал длинные шерстяные четки. Старенькие черные джинсы и серая ковбойка потерты и мяты, что хозяина совершенно не волновало. Голос негромкий, мягкий, высокий. Речь неторопливая.
— Ты за него не волнуйся. Здесь болящих сейчас человек двадцать. Тут иногда привозят таких, что жутко смотреть. А через день-два смотришь — уже другой человек. Он верующий?
— Вроде, да.
— Тогда проще. Но, знаешь, даже неверующих пронимает. Многие здесь даже крестятся сначала, а уж потом лечатся. Ты видел, сколько перстней, колец и цепочек золотых под стеклом киота висит?
— Да, припоминаю…
— Это исцеленные в благодарность оставляют.
— А ты здесь по какому делу?
— От курева избавляюсь. Вот уже три дня не курю — и никакой тяги. Решил пожить здесь еще неделю, чтобы уж навсегда от этой страсти разрешиться. Здесь хорошо, брат. Так благодатно, что и слов нет! Так же хорошо мне было только на Афоне.
— А ты и там уже побывал?
— Да вот сподобился… Продал мотоцикл — и спаломничал.
— А мотоцикл не жалко?
— Нет! Афон, брат мой, того стоит. Я две недели в нашем Пантелеимоновом монастыре прожил, и если бы можно было, то остался б навсегда.
— А что остановило?
— Мир не отпускает. Я его пока не научился ненавидеть.
— А, может, тогда и не стоит?
— Да нет, стоит. С ним все понятно. Тухлый он… Это во мне страсти никак не утихнут. Вот поживу в церкви подольше и все равно уйду на Афон. Пешком. С котомкой сухарей и с Библией. Дух Святой меня туда зовет. И любимый святой, преподобный Силуан. — Он встал. — Прости, брат, надо идти в трапезную. А за своего друга не волнуйся. Присмотрю за ним.
«Снова Афон. Снова преподобный Силуан.» Андрей оставил труднику свой телефон и немного денег для Захара на обратную дорогу. Поблагодарил за заботу.
Перед отъездом Андрей зашел в Покровский храм попрощаться с чудотворным образом. Опять обдало его тихим светлым сиянием, исходящим от иконы «Неупиваемая Чаша». И уже растаяло удивление от многочисленных исцелений: такая сильная благодать исцелит кого угодно — только распахни этому душу, не ставь препятствий из своей гордыни. Вот оно — бери, сколько сможешь!.. Приложился Андрей и к другим иконам, сияющим с древних стен и колонн храма. Приложился он к золоченым ковчегам с множеством святых мощей.
А на выходе из храма на мощной колонне Андрей увидел вдруг знакомый образ на золотом фоне, афонского письма, с греческими буквами вокруг горящего в молитве лика… Да! Это он! Преподобный старец Силуан Афонский, на которого из верхнего угла иконы из Своих Небесных царственных высот смиренно взирает Сам Иисус Христос!
В электричке Андрей порылся в своей объемистой сумке и среди смет, договоров, графиков, писем, справочников нашел книгу в золотистой обложке (хорошо, что не выложил!) — «Преподобный Силуан Афонский». Он посмотрел оглавление, нашел писания старца Силуана, открыл — и перестал что-либо слышать…
«Господь милостив, знает это душа моя, но описать невозможно. Он зело кроток и смирен, и когда душа увидит Его, то вся изменяется в любовь к Богу и ближнему, и сама делается кроткою и смиренною, но если потеряет человек благодать, то будет плакать, как Адам по изгнании из рая. Он рыдал, и стоны его слышала вся пустыня; слезы его были горьки от скорби, и много лет проливал он их.
Так душа, познавшая благодать Божию, когда теряет ее, скучает о Боге и говорит: скучает душа моя о Боге, и слезно ищу Его…
Я по себе сужу: если меня Господь так возлюбил, то, значит, всех грешных Он любит так же, как и меня. О, любовь Господня; нет сил ее описать, ибо она безмерно великая и чудная…
Душа долго живет на земле и любит земную красоту; любит она и небо и солнце, любит прекрасные сады, и море, и реки, леса и луга; любит душа и музыку, и все это земное услаждает душу. Но когда познает она Господа нашего Иисуса Христа, тогда не хочет уже видеть земное…
Великое чудо: душа вдруг познает своего Создателя и Его любовь.
Когда душа увидит Господа, как Он кроток и смирен, тогда она и сама смиряется до конца и ничего так не желает, как смирения Христова; и сколько бы ни жила душа на земле, она все будет желать и искать это непостижимое смирение, которое невозможно забыть.
Господи! Так много Ты любишь человека!..
Но кто не будет любить врагов, тот не может познать Господа и сладость Духа Святого.
Дух Святой учит любить врагов так, что будет жалеть их душа, как родных детей.
Ты говоришь, что он злодей и пусть горит в адском огне.
Но спрошу тебя: если Бог даст тебе хорошее место в раю, но ты будешь видеть в огне того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он ни был, хотя бы враг Церкви?
Или у тебя сердце железное? Но в раю железо не нужно. Там нужны смирение и любовь Христова, которой всех жалко.
Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией…
О, Христово смирение, как оно сладко и приятно. Оно только в ангелах и святых душах обретается, а мы должны считать себя хуже всех, и тогда Господь даст и нам познать Христово смирение Духом Святым…
Я не могу Тебя забыть. Как забуду Тебя? Твой тихий, кроткий взор привлек мою душу, и радовался дух мой в раю, где я видел лице Твое. Как забуду я рай, где любовь Отца Небесного веселила меня?»
Встречи
Во дворе своего дома Андрей снова столкнулся с гуляющим при полном бархатном параде Федором. Тот убрал губы с белых ровных зубных протезов и театрально распахнул объятья:
— Возлюбленный брат мой! Когда ты снова придешь ко мне в гости? Я все еще не оставляю надежд на взаимность нашей любви. Ведь мы обязаны любить друг друга, правда, Андрюшенька?
— Обязательно, Феденька! И я тебя люблю и молюсь о тебе. Вот только любить твой смертный грех, убивающий душу твою, я не имею права.
— Опять ты о мрачном… Жизнь так прекрасна, когда есть вкусная еда, денежки зелененькие и любовь! — Патетически вздернул он свой подбородок, закатив глазки.
В это время к нему молча подошел улыбающийся юноша в белоснежном костюме с пестрым платком на шее.
— Ах, извини, Андрюша, я сегодня… не один, — и они направились в сторону подъезда, где так «прекрасно» жил Федор.
В прихожей Андрея чуть не сбила Света с подносом в руках. Она, как всегда, округлила глаза и выдала очередную новость:
— У меня в гостях мой Серега и твоя бывшая! Нет, ну я просто диву даюсь, что творится!.. Быстренько иди мне на подмогу.
Андрей сразу зашел в ванную и по-быстрому принял бодрящий холодный душ. Бессонная ночь все же сказалась на его самочувствии. Но вот ледяная струя окатила с головы до ног — и от вялой тяжести в теле не осталось и следа. Во время бритья он пристально осмотрел отражение своего лица: только легкое покраснение белков глаз выдавало усталость.
В комнате Светы за накрытым столом сидели Сергей и Лена. Они уже выпили, поэтому вели себя раскованно, курили и громко смеялись.
— А вот и мой бывшенький пожаловали! — взмахнула длинной сигаретой Лена.
— Здорово, Андрюха! — раскинул руки Серега. — Садись, выпьем за встречу.
— А я вот как раз из монастыря вернулся, где от пьянства лечат. Интересное совпадение, правда?
— Ты про это подробнее расскажи, особенно вот этому хулигану, — Света взъерошила волосы мужа.
— Нечего нам в монастырях делать. Нам туда еще рано! — Сергей пригладил волосы и восхищенно взглянул на Лену. — Когда такие красавицы к нам в гости ходят.
Разрумянившаяся Лена блеснула на всех зелеными глазами, будто спрашивая: «А что, разве не так?» И действительно, в ее внешности имелось все, что делает женщину красивой. Ни единого изъяна ни на лице, ни в фигуре.
— Слушай, а ты-то что там делал? Ты же трезвенник, — удивилась Света, обращаясь к Андрею.
— Знакомого возил. Допился он до зеленых бесенят. Чуть с собой не покончил.
— Ой, вот только не надо о мрачном! Вечно ты, Ильин, всем настроение портишь! — возмутилась Лена, демонстративно поднимая бокал с вином. — Давайте выпьем, чтоб не в последний раз.
Андрей встал и вышел в свою комнату. В душе его зарождалось темное холодное раздражение. С этим надо что-то срочно сделать, а то оно поглотит его и выплеснется наружу. Рука в кармане нащупала четки отца Сергия — и сразу Иисусова молитва сама собой стала действовать в нем. Он сосредоточивал ум на каждом слове, будто впервые их узнал. Краткая, но мощная молитва неопалимым огнем пожигала раздражение и сумятицу в душе. Погружение в молитву отключило его от всего внешнего, он не слышал звуков, время вытянулось, изогнулось замысловатой спиралью… Теплое и светлое смирение поселилось в душе. В наступившей тишине и безмятежности он случайно взглянул на часы. Прошло не более трех-пяти минут, как он вышел из-за стола. Он переоделся и вернулся к гостям.
За столом произошла какая-то перемена: скучно подперев голову кулаком, сидел в одиночестве Сергей, зато женщины вели оживленную беседу.
— Ты извини, Андрей, но я кое-что ей высказала.
— А вы тут, я смотрю, спелись, соседушки! — Лена взглянула на поникшего Сергея. — Может, мы тут лишние, Серег?
— А вот за это ты и от меня можешь получить, красавица! — мотнул головой Сергей. — И не только словами. Я уж не знаю, сколько вы там с Андреем жили вместе… только надо абсолютно его не знать, чтобы такую ерунду сказать!
— Ребята, давайте жить дружно, — сумел-таки вклиниться Андрей в опасную перепалку. — Тут я должен защитить свою жену и кое-что объяснить. Дело в том, что, когда мы с ней жили, я был совсем другим. Поэтому Лена никак еще не осознает и не привыкнет к тому, что в этой телесной оболочке, — он похлопал себя по груди, — проживает другой человек. Я другой, Лена! А чтобы отсечь лишние темы нашего разговора, я при свидетелях заявляю тебе, что после развода с тобой я взял на себя обеты безбрачия и трезвости.
— Да он у тебя святой! — вдруг завопила Света. — Да если бы мой Серега хоть немного стал таким же, как Андрей, я за ним хоть в Сибирь! Вот…
— Ты что, правда, Свет? За мной в Сибирь, как эти… жены декабристов? — заулыбался Сергей, с восторгом любуясь своей женой.
— Да ты хоть пить брось… я и так куда хочешь с тобой…
— Андрей! — завопил уже Сергей. — Вези меня в свой вытрезвитель монастырский. Ты видал? Это же Жанна д’Арк! Это же Пенелопа! Ух, как же я тебя… — он щелкнул зубами в сторону Светы, — так бы и съел…
— Имей совесть, Серега… — приструнила она мужа, но потом тихо улыбнулась и взъерошила ему шевелюру, — людоедушка ты мой…
— Андрей, пойдем к тебе, поговорим, — Лена встала и потянула Андрея за руку к двери.
— Давай кофе на кухне приготовим, — предложил он, когда они вышли из Светиной комнаты и остановились за закрытой дверью.
— Давай, — тихо выдохнула Лена, опустив голову.
Пока Лена нервно курила, присев на табуретку, Андрей жужжал кофемолкой, ставил турку на огонь, перебирая непрестанно четки.
— Ты правду сказал, насчет обета?
— Если я говорю что-то, то это правда.
— А что за Алена вокруг тебя кругами ходит?
— Она мне как сестра. У нее проблемы, и я пытаюсь помочь с ними справиться.
— Теперь ты всем помогаешь? Или только молодым и красивым женщинам?
— Помогаю всем, кто ко мне обращается. Это мой долг. А кроме тебя для меня женщин нет. Представительницы противоположного пола могут быть для меня или сестрами, или матушками.
— Говорят, что ты мать до инсульта довел. Это так?
— Конечно, есть в этом и моя вина… Даже самая большая. Мне кажется, если я пришел к Богу, то и все обязаны тут же бежать в храм. А люди — они такие разные. Одним для спасения нужен пожизненный монашеский подвиг, другим — достаточно монетку нищему дать. Так что не мне учить — сам неуч.
— И все-таки помогаешь, советуешь, учишь…
— За что и получаю…
— Андрюш… — Лена запнулась, — а… можно… я останусь у тебя?
— Мне этого очень бы хотелось…
— Действительно?!
— …очень бы хотелось… Но теперь уже не могу. Только после венчания.
— Опять! Теперь ты и меня до инсульта хочешь довести?
— Что ты, ни в коем случае, Лена. Ты понимаешь, супружеские отношения без венчания — это блуд. А блуд — это такой же смертный грех, как убийство!
— Да что ты говоришь! Сколько людей живут без твоего венчания — и ничего! Что же все — убийцы?
— Если не знают этого, то, наверное, нет. Но если знаешь, четко это себе представляешь и осознаешь, то, безусловно, — грех, равный убийству!
— Ох, как с тобой тяжело!
— Если грешить — то невозможно тяжело. Просто невыносимо…
— Ладно, пошла я… проводи до двери.
— Лена, если хочешь, мы можем с тобой поговорить об этом еще раз. Столько, сколько хочешь. Я тебе всегда буду рад, правда!
— Пошел ты…
Андрей закрыл за Леной дверь и вернулся в свою комнату. Он перебирал в памяти разговор и перебирал в молитве четки.
От тюрьмы не зарекайся
Перед Андреем на эскалаторе стоял мужчина в светлом мятом костюме и по мере подъема раскачивался все сильнее. Сумка через плечо болталась в такт его движениям и задевала обгоняющих горластых парней, бегущих вверх.
Когда подъем завершился, и надо было ступать через порожек на твердую гранитную почву, мужчина запнулся о гребенку и с утробным ворчанием растянулся прямо перед Андреем. Тот перешагнул через беспомощное тело и, стремительно изогнувшись, рывком отбросил его из-под десятков надвигающихся безжалостных ног. Мужчина бессмысленно глянул одним глазом на Андрея, буркнул что-то и прислонился обмякшей спиной к полированному камню стены. Кто-то подошел сзади и успокоенно констатировал: «Пьяный!». Шаги его удалились.
Андрей тряхнул мужчину, поднял на ноги, подхватил под мышки и потащил к выходу. Мужчина то шагал своими неверными ногами, то повисал на Андрее. Толпа вокруг расступалась и сыпала упреками в их адрес: «Нализались уже! Куда только милиция смотрит!»
У выхода из метро их встретила милицейская машина и, несмотря на попытки Андрея что-то им объяснить, грубые руки втолкнули в зарешеченный салон обоих и грохнули запираемой дверцей.
В ближайшем отделении милиции их освободили от вещей и шнурков и втолкнули в камеру предварительного заключения, снова грохнув металлической дверью.
— Во, еще парочка! Точно — у них сегодня облава! — весело раздалось из глубины помещения.
Андрей пристроил мужчину на дощатом настиле, сам присел рядом и оглянулся. На настиле в разных позах сидели и лежали четверо потных узников. В углу свистел и булькал в ржавых потеках унитаз. В камере висел кислый прокуренный перегар. По рукам ходил сырой захватанный окурок. Двое из присутствующих, похожие на студентов, были такими же случайными; зато остальные двое, судя по обилию синих рисунков на коже, — по всей видимости, завсегдатаи подобных мест.
Попутчик Андрея уже мирно спал, ворча на кого-то во сне. Андрей приблизился к соседям и назвал свое имя. Руки ему никто не пожал, а имена свои назвали только двое: «студент» Витек и «зэк» Валера. Остальные только криво усмехнулись и развалились на крашенном охрой грязном настиле.
— Курить есть? — поинтересовался Валера.
— Я не курю.
— Маменькин сынок?
— Конечно. А тебе что, при рождении удалось обойтись без мамы?
— Хамишь?
— Ни в коем случае! Уточняю.
— За что тебя-то загребли, умник?
— Помогал вот ему выйти из метро. Его на эскалаторе как-то сразу развезло.
— А кто он? Костюмчик у него долларов на триста тянет.
— Не знаю. Он случайно передо мной на эскалаторе оказался.
— Сыч, оцени прикид.
Из угла поднялся второй зэк и нагнулся над спящим.
— Не трогай, — сказал Андрей.
— Это еще почему? — прохрипел Сыч.
— Неприлично…
— Чего? — Сыч подскочил к Андрею и дохнул ему в лицо гнилью.
— Сядь на место. Пожалуйста. — Андрей положил ему руку на плечо и развернул в сторону угла.
Сыч застыл, озираясь на Валеру. Остальные напряженно наблюдали сцену.
— Тебе же сказали: сядь, — кивнул Валера. И, взглянув Андрею в глаза: — Командую здесь я, понял?
— Я просил, а не командовал.
— Вежливый, значит? — Валера плавно поднялся и вплотную приблизился к Андрею.
Ироничный колючий взгляд Валеры уперся в полуприкрытые веками глаза Андрея. Но вот веки медленно поднялись, взгляды встретились — и Валера сначала замер, потом обмяк и вяло присел на свое место.
— Сидел?
— Нет.
— Воевал?
— Это постоянно.
— Крутой?
— Не-а.
— Не хочешь — не говори.
Валера обиженно отвернулся. Из-под мокрой на спине рубашки выступили лопатки и цепочка позвонков. Суровый мужик лет эдак под пятьдесят стал похожим на хилого подростка. Андрей подсел к нему и шепотом произнес:
— Да ты не нервничай, власти твоей у тебя не возьму. Но и спящего, извини, раздевать не дам.
— Ты кто по жизни? Я тебя никак не пойму, — тоже шепотом отозвался Валера. — Может, казачок засланный? Из-под ментов?
— Э, нет, вот это никогда! Совсем ты, Валера, в людях не разбираешься.
— Прет от тебя… силищей какой-то. — Он снова жадно осмотрел собеседника от ботинок до глаз. Снова запнулся о взгляд Андрея и пожал плечами. — Был бы ты в законе — тогда понятно. Но ведь не наш ты…
— В законе я, Валера… Только не в твоем воровском.
— Тогда в каком?
— В законе Божьем.
— Это! — Валера сжал кулак и резко выдохнул: — Это… я уважаю.
— А я уже понял. Потому и подсел к тебе.
— Ты это… по-настоящему: ну, постишься, молишься?..
— Конечно.
— Уважаю. Я пробовал — слабо! — Валера придвинулся еще ближе и почему-то на ухо зашептал. — У нас в зоне церковь была. Нас туда гоняли. Некоторые потом ходили сами. Да только я не смог.
— Почему?
— Поп там был какой-то… злой. Я к нему по-человечески, а он — сразу ругать меня. Ни поп, а кум… ну, вертухай, в общем.
— Так ты к Богу приходил или к попу?
— Ну, как… к попу. А как это — к Богу?
— Церковь — это храм Божий. А уж священник — какого Бог послал, такого и терпи. Смиренно. А без смирения к Богу идти бесполезно, даже вредно.
— А вот этого твоего смирения никак не могу понять. И левую щеку после пощечины по правой — тоже.
— Так ведь Иисус Христос — всемогущий и великий Бог — образец смирения. Ты думаешь, Он не мог наказать тех, кто Его распинал? Да Он одним дуновением, одним Своим помыслом всю вселенную сжечь может, а не то что кучку ничтожных людишек.
— Так чего ж не сжег?
— Потому что Он воплотился на земле среди людей, чтобы Своей великой жертвой искупить все грехи человечества. Потому смиренно подчинялся всем законам людей. И обрезать Себя позволил, потому что по закону было положено. И до тридцати лет плотничал, потому что только с тридцати лет тогда в Израиле можно было начинать священническую деятельность. А когда после предательства Иуды Его пришли брать в плен в Гефсиманском саду, и Петр обнажил меч, чтобы защитить Его, сказал Он Петру: неужели ты думаешь, что если бы Я захотел, то здесь бы не появились двенадцать легионов ангелов? Но Мне надлежит выполнить волю Божию и все пророчества Писания. Потому убери свой меч, ибо кто вынет меч, тот от меча и погибнет! И смиренно позволил Себя распять. И до сих пор наш всемогущий Господь опять же смиренно ожидает, пока последний грешник не обратится к Нему с покаянием, чтобы Он этого грешника спас. А если ты не примешь душой смирения — то отдашь себя во власть силе совершенно противоположной, которая называется гордыней. Это именно то самое, что ангела превратило в сатану и человека из царя тварного мира превратило в то, что мы есть.
— А ты не думаешь, что если я смиренно стану жить, то об меня все, кому ни лень, будут ноги вытирать?
— А вот это нет! Ты сейчас высказал самую лживую мысль, которую сатана вдолбил в головы людей. Как раз все наоборот. Вот ты сказал, что силу какую-то во мне чувствуешь. Так вот, Валера, сила эта не моя. Я-то как раз готов подставить левую щеку после удара по правой. Только что-то с тех пор, как я стал смирения искать, никто не ударяет. Все, как ты, боятся. Потому что сила меня охраняет такая, которая вселенную одним дуновением сожжет, а другим дуновением новую создаст. В этом и состоит самая великая тайна христианства.
— А чего ж ты здесь-то оказался? Чего это Бог тебя не защитил?
— Я так думаю, что именно для того, чтобы ты, Валера, от меня вот эти слова выслушал и сделал вторую попытку прийти к Богу. Потому что, когда любой человек приходит с покаянием к Богу, то все вселенское зло получает такой мощный удар, что весь ад сотрясается. А небесные силы при этом радуются и празднуют величайшую победу. Иисус Христос после распятия спустился в ад и выпустил души праведников в Царство Небесное. Почему бы мне, недостойному рабу Божьему, не сойти в эту тюрьму, чтобы хотя бы одну душу привести к Богу на покаяние?
— Это что, я тоже праведник? — почему-то смущенно спросил Валера.
— Вряд ли. Только если ты сейчас меня слушаешь и позволяешь этому входить в свою душу, то, значит, ты еще живой. Значит, тебя Господь призывает к Себе. Значит, спасти тебя, грешного, хочет. Только на этот раз ты уж доведи дело до конца. Не посрамись. Считай, что это твой последний шанс. А цена вопроса, Валера, не малая: или блаженная жизнь вечная — или вечные мучения в огне адском. А там, поверь, так гнусно, что за секунду больше мучений примешь, чем за всю самую страшную жизнь на земле.
— Так ведь разве мне светит в рай попасть? Да на мне грехов, Андрей, как грязи! Да я на исповеди несколько лет их только перечислять буду! Прости, Господи, меня грешного!
— Вот видишь, как ты хорошо сказал! Да ты сам не знаешь, что ты сейчас сделал! Ты уже совершил целый переворот в своей душе, ты уже потряс вселенское зло!
— Да ладно, что я такого сказал? — снова смутился Валера.
— А вот что! Когда Иисус Христос умирал на Кресте, рядом с Ним висели двое разбойников. Один из них смеялся над Иисусом, говорил примерно, как и ты недавно: «Если Ты Христос, то почему Себя не спасешь?» Другой же разбойник на это сказал: «Мы осуждены справедливо, а Он ничего худого не сделал!» И потом этот благоразумный разбойник сказал примерно, что и ты сейчас: «Помяни меня, Господи, когда приидеши во Царствие Твое!» И знаешь, что ему ответил Иисус Христос? «Ныне же будешь со мною в раю!» Вот так! За одно только «Господи, помяни!» И не думай, что исповедь — это что-то позорное и стыдное. Позорно грешить, а исповедоваться — великое счастье. Это как в бане — жарко, пот льется, зато потом — такая легкость! Такая чистота в душе! Да ты себя впервые человеком почувствуешь, ты несколько дней как на крыльях летать будешь! Только имей в виду — сейчас нас не только твои подельники подслушивают, но и враг твой, который внутри тебя сидит и заставляет грешить. Так что он сделает все возможное, чтобы тебя от этого великого дела отвратить. Будет предлагать тебе разные причины, чинить препятствия — да все что угодно, чтобы только ты не дошел до священника с епитрахилью и не стал перед аналоем. Так ты уж будь мужиком — прорвись!
— Это уж я сделаю, будь спокоен. Пусть только высунется! — Валера сжал кулак.
Со скрипом отворилась дверь в камеру, и вошел капитан. Раскачиваясь на каблуках скрипучих сапог, оглядел заключенных, упиваясь своей властью, и вдруг гаркнул во весь голос:
— Ильин, на выход. Остальным ждать!
Новости
Как из другой жизни, затрещал телефон.
— У меня столько новостей, что не знаю, с какой начать, — заговорил Юра.
— Начинай с начала.
— Я в прибольничную церквушку заходил, познакомился с отцом Алексием. Знаешь, что он мне сказал? Что заходила пожилая дама и имела с ним беседу. Сказала, что ей явился Ангел и повелел идти к нему на исповедь. Исповедалась эта дамочка. Соборовал ее батюшка… А по описанию дамочка эта очень напоминает нашу с тобой матушку. Вот так.
— Ты знаешь, Юр, я тебя умоляю, ничего ей об этом ни говори. Если нужно, она сама скажет. А может, и не скажет никогда. Если это случилось, значит, по молитвам отца игумена и по болезням ее она войдет в храм. Сама. Но нам с тобой нужно быть очень тактичными и… В общем, пока будем молчать.
— А я уж думал прямо сейчас к ней поехать.
— Ни в коем случае…
— Ладно, если ты настаиваешь. Вторая новость такая: генерал Егоров после моей беседы с ним перечислил со своего расчетного счета в монастырь крупную сумму. И что ты думаешь? Сразу ему позвонил его спонсор и сказал, что если это повторится, то денег у него больше не будет. Никогда.
— И что твой генерал?
— Ну, ты знаешь, что без больших денег в политике делать нечего. В общем, он решил, что насчет монархии и помощи Церкви он пока тормознет. Сначала, говорит, войду в большую политику, а уж потом буду гнуть свою линию. Вот так.
— Сначала за решетку устроюсь, а потом о свободе подумаю. Так, что ли?
— Ну, ты не надо так уж сурово!
— Не дадут ему гнуть свою линию, если местечко купят. Всегда напомнят, что кто платит, тот и музыку заказывает. Деньги ему дают на лоббирование определенных интересов спонсоров. Тут надо с шапкой по Руси — и не брать грязных денег вовсе.
— Так не бывает.
— А кто пробовал?
— Ладно, пока это замнем…
— Ты, брат, сам для себя реши: с кем ты? Главное — не дело любыми средствами сделать, а душу свою не загубить! Ибо, что для тебя толку «весь мир приобрести, а душу свою потерять»?
— Замнем, брат… на время…
— Дальше давай.
— А дальше я Лиде трубку передам — она остальное сама расскажет.
— Андрюша, здравствуй. Алена тут без тебя приезжала. Я ей рассказала, что ты болел, несчастия на тебя валятся, и уезжал, поэтому она боится тебя тревожить…
— Ох, какой же я эгоист! — хлопнул он себя по лбу. — Совсем в своих заботах о ней забыл!
— Ничего страшного, она все понимает. Ты же знаешь, она у нас девушка самостоятельная… Без комплексов. Так вот она рассказала, что походила по церквям, поговорила со священниками, выяснила, кто из них самый-самый и прорвалась к нему на разговор. Она ему вроде как интервью устроила. В общем, забросала батюшку сотней вопросов, и он ее послал в Оптину пустынь. Алена туда уже съездила. Приехала вся одухотворенная, счастливая, по горячим следам написала шикарный очерк. Я сама его читала. Знаешь, лучше она еще ничего не писала! Так вот, принесла очерк в свою газету, и тут началось…
— Что — неприятности? — у Андрея закололо в боку от гадкого предчувствия.
— Не то слово. Трагедия. Из газеты выгнали, квартиру отбирают. Короче, ты позвони ей и помоги хоть советом, что ли?
— Спасибо, Лидок. Сейчас позвоню…
Андрей набрал номер телефона Алены и сразу же услышал ее голос.
— Андрюш, как у тебя дела?
— Нормально, Ален. Лида сказала, что у тебя неприятности…
— Да. Я и сама не знала, в каком гадюшнике работала. Я им такой очерк написала — а они меня вышвырнули, будто я им бомбу принесла.
— Ну, в каком-то смысле это и есть бомба. Насколько я знаю направление этой газеты — они мусор по помойкам собирают, прихорашивают, золотят, добавляют жемчугов словесных и выдают многотысячными тиражами. А уж откровенной лжи сколько там! Система у них простая: пиши о чем хочешь, делай что хочешь, только в церковь не иди.
— Я, конечно, знала, что это так, но сама писала только правду…
— О тусовках и бомонде.
— Ну да, но правду же!
— Правду, насколько я понял, ты написала впервые. И сразу — выгнали.
— Если бы только это. Главред заставляет съехать с квартиры.
— Ты же говорила, что она твоя.
— И я так думала. Мне ее дали в рассрочку под контракт, чтобы я частями вносила ее полную стоимость. Осталось совсем немного. Когда они меня гнать стали, я заняла денег и внесла остаток суммы. Теперь я ее выкупила. Но они говорят, что контракт со мной расторгли до внесения мною последней суммы и теперь они ее мне продают по рыночной стоимости, то есть в три раза дороже.
— Мстят они тебе.
— Это точно. Где я теперь найду такие деньжищи? Главный сказал еще, что он мне даст такую рекомендацию, что я с ней только в заводскую многотиражку смогу устроиться. Короче, конец карьере! Что мне делать?
— Ты же была в Оптиной пустыни, по церквам походила. Должна уж понимать, что нужно сделать. Закажи сорокоуст о здравии своего главного редактора во всех храмах, где только можешь.
— У меня теперь и денег нет…
— Дам я тебе на это. Только закажешь ты сама, договорились?
— Хорошо… А еще?
— Все. Ищи работу. Сейчас есть православные газеты и издательства — обратись в первую очередь туда. А я подумаю, что еще можно сделать. Ты молитвослов купила?
— Купила. И еще много разных книг. Да, ты знаешь, — оживилась она, — я пробовала читать — это что-то необыкновенное! Если бы ты меня не подготовил, ни за что бы не поверила, что святые отцы действительно так жили. Представляешь — корочку хлеба в неделю! Сон по часу в сутки. И так десятки лет до глубокой старости в непрестанных трудах и молитвах. Я просто в них влюбилась! Какие же мы по сравнению с ними дохлые!
— Наверное, тебе пора начать молиться.
— А я уже начала. Мне в Оптиной батюшка посоветовал начать с ежедневного молитвенного правила. Я уже читаю. Слушай, не поверишь: поклоны отбиваю за каждый год, прожитый вне Церкви. Мне иногда кажется, что это не со мной происходит.
— Добавь молитву об обретении своего жилища благоверному Даниилу Московскому.
— Сейчас, секундочку… Вот взяла, открыла оглавление. Есть такая! Все, сегодня же начну. Как мне сразу спокойно с тобой стало! Ничего, если я буду тебе позванивать иногда? Теперь мне нужны будут твои советы.
— Конечно, звони! И прости меня, что я тебя не предостерег насчет очерка.
— Думаешь, ты бы меня остановил? Плохо ты меня знаешь, Андрюш. Я никогда в своей работе на начальство не оглядывалась.
— Но и не выгоняли же тебя вот так сразу?
— Да, это впервые. Здесь ты прав. Зато теперь знаю цену этой газетенке. Да и многое за эти дни пришлось переосмыслить. С одной стороны, страшно становится, что в таком мерзком мире жить приходится; а с другой стороны — как вспомню Оптину, монахов таких спокойных и мудрых… Молодых, красивых — и мудрых. А как там было хорошо! Я исповедалась, окунулась в святой источник. Слушай, совершенно другой мир, другие ценности! Когда читаешь — это одно. А когда сама вот так лицом к лицу с этим столкнешься — как в другое измерение попадаешь. Там-то я и вспомнила твои слова, что на молитвах монахов весь мир, вся жизнь держится. Там я в это поверила. Удивляет меня другое: зачем они отмаливают этот трухлявый мир? Ведь им, как никому, видна его обреченность.
— А для того, милая сестрица, чтобы такие, как ты, смогли обратиться к Богу и покаянием спасти душу для вечной жизни.
— Вот-вот, вечность! Там, в Оптиной я это ощутила! Среди сосен, покоя, колокольного звона, черных монашеских одежд… Ну, как я могла об этом не написать! Да меня всю переполняло таким!.. Я исписала там несколько блокнотов. И чтобы какой-то глав-вред этому во мне помешал!
— Я думаю, Аленушка, что пройдет какое-то время, и ты своего главного вредителя будешь почитать за главного спасителя. Никто тебе не сделал столько хорошего, как он. Благодаря ему ты приобрела очень хороший импульс в новую жизнь. Он тебя заставил порвать с тем миром, в котором ты могла плавать, как селедка в рассоле, всю жизнь. Он снял с твоих глаз розовые очки, и ты увидела все в реальном свете. Не все еще увидела, конечно, но уже очень многое.
— Ну почему! — закричала Алена так, что Андрей отодвинул трубку от уха. — Почему лучшие мужики или в монастыре, или женаты на других?!
— Так, стоп, девушка! Здесь разговор сделал нежелательный вираж. Хотя насчет монахов я свою точку зрения высказать могу. Потому и в монастыре — что лучшие.
Только он положил трубку — снова звонок. Андрей услышал тихий голос матери:
— Сынок… Прости меня, старую… Я так виновата перед тобой, что нет мне никакого прощения.
— Мам, ты успокойся. Ты же знаешь, что я тебя люблю и никогда на тебя не обижался.
— Нет мне прощения… — из трубки раздались всхлипывания. — Но теперь у нас все будет по-другому, слышишь, сынок? Теперь со мной повторилось все, что было с твоим дядей. Помнишь, как он умирал? Всю жизнь церкви рушил, а перед смертью ему ангелы явились, и он затребовал священника. Тогда мы все подумали, что он с ума сошел, но батюшку все-таки позвали. А теперь и я все это сама увидела. Огромные золотые ворота в драгоценных камнях открылись, и оттуда полились такие… красивые звуки. Там за воротами светило яркое солнце. Но потом ангелы сказали, что мне там не место, что я забыла Бога. И ворота закрылись. И я оказалась в страшной темноте. Стало холодно, страшно… Потом вокруг что-то завыло, закричало. Услышала какой-то дикий хохот и гнусные такие голоса: «Ты наша, наша!» Потом увидела какую-то маленькую церковь, и священника у ворот, как бы в ожидании. И тут я проснулась и сразу выглянула в окно, увидела за воротами больницы церковь, и батюшка в этот миг открывал ворота и смотрел в мою сторону. Ну, я и побежала туда. Меня пытались остановить, но, ты же знаешь: со мной этот номер не пройдет. Отец Алексий меня исповедовал… Он такой умница. Такой добрый… Потом соборовал, и вот мне уже лучше. Только вот перед тобой, сынок, вину чувствую. Это хорошо, что мы по телефону… Вот так с глазу на глаз я бы не решилась, стыдно.
— Не мучай себя. Я очень рад за тебя, мам. Теперь у тебя новая жизнь начнется. Радостная. Я теперь за тебя спокоен.
У самовара
— Андрей, ты это… может, приедешь? Короче, «Люлек, забери меня отсюда. Я сегодня в тимирязевском…»
— Ты сам никак не можешь?
— Смог бы, если б было на что.
— Так я же оставил на дорогу!
— Пал я, брат, демонской стрелой пронзенный. Пропил дорожные.
— Ладно, приеду.
В электричке шумно разговаривали рабочие, густо пересыпая свою речь руганью. По вагону то и дело сновали торговцы, крикливо и занудно навязывая товар.
…Из угла вагона донесся пьяный голос паренька, который с хвастливым наслаждением рассказывал о зачистке селения под Грозным, где ему пришлось вволю пострелять и побросать гранат.
Андрею показалось, что вся нечисть на него ополчилась: в душе нарастало смятение и тоска. Он стал горячо молиться, изнутри крестя свое сердце, как учил старец. Когда темнота отступила, и на душе восстановился покой, он открыл писания старца Силуана — и с первой же строчки перед ним открылся мир благодатной любви:
«Когда душа научится любви от Господа, то ей жалко всю вселенную, всякую тварь Божию, и она молится, чтобы все люди покаялись и приняли благодать Святого Духа. Но если душа теряет благодать, то отходит от нее любовь, ибо без благодати Божией невозможно любить врагов, и тогда от сердца исходят помышления злые, как говорит Господь (Мф. 15, 19; Мк. 7, 21–22)».
Захар лежал на кровати и разговаривал с молодым горцем. Увидев вошедшего Андрея, он сказал:
— Ты представляешь, пьет наш Суренчик коньяк из фляжки, кушает бастурму, курит сигаретки, читает детектив и каждый день ходит к Причастию.
— А ты нэ учи, сам алкаш, — вяло огрызнулся парень.
— Так я не иду пьяным к Причастию.
— Подумаешь! — бросил парень и отвернулся к стене с книжкой в руках. На обложке надпись золотом: «Я — вор».
— Ну, а ты как? После срыва на молебне был?
— Дважды. На меня уже и епитимейку наложили, так что все нормально. Поехали! Иконку мне дали, святой воды набрал, акафист тоже есть для ежедневного прочтения. Теперь и домой можно. Дел там накопилось! Читка, верстка, правка… Сейчас у отца Иоанна благословение на дорогу возьму — и поехали.
Пока Захар искал отца Иоанна, Андрей зашел в Покровский храм и приложился к иконам. У «Неупиваемой Чаши» стояли несколько человек и по очереди подходили на поклон. Когда Андрей прикладывался к иконам и ковчежцам с мощами, он явно ощущал благоухание, от них исходящее. Снова он вспомнил слова игумена Алексия, что так Господь укрепляет верующих перед грядущими испытаниями.
В электричке Захар рассказал, что в первую ночь он опять слышал голоса, стук в дверь. Он уже хотел было открыть, но сосед его остановил, сказал, что это бесы его искушают, что никакого стука не было. После молебна у чудотворной иконы голоса пропали. Пил святую воду, посещал все службы, говорил с монахами; и никакой тяги к спиртному в себе не наблюдал. Но только вышел из монастыря с деньгами на дорогу, как сразу у первого ларька его как за руку повели, правда, молча, и он купил бутылку водки… Хотел зайцем домой уехать, но что-то остановило, и он вернулся в монастырь.
За окнами промелькнула эстакада кольцевой — поезд въехал в Москву. Громче зазвучали голоса пассажиров, особенно мат и ругань, споры и ссоры. Чаще залязгало под ногами, резче захлопали двери. Гуще повалил в вагон табачный дым из тамбура. Глаза у Захара заблестели, забегали, руки нервно засуетились по карманам.
— Ладно, гуманист, дай на пиво.
— Это без меня…
— Тогда дай на хлеб.
— Я тебе сам куплю.
— Да не пропью, не бойся, вот те крест! — Захар перекрестился.
— Я тебе еду сам куплю…
— Ты что, гад, кресту не веришь?
— Тебе я не верю… Вернее тому гаденышу, который сейчас лезет в душу твою с командами.
— Урод непьющий, — прошипел Захар.
На столе, заставленном чашками, блюдцами, тарелками, королем высился натертый до матового блеска самовар. Электрический. Захар с полотенцем на шее, румяный и взопревший, наливал восьмую чашку крепкого чая:
— «А мы завсегда с маманей после бани по восемь стаканов чаю выпиваем». Это из кино… Варенье кушай, а то пропадет…
— Некуда. Пожалей! — взмолился Андрей.
— А кому сейчас легко?..
Вышел Андрей от Захара поздней ночью. В этом рабочем районе почти все спали. Лишь редкие окна тускло светились в старых облезлых пятиэтажках. Только редкий храбрец осмелится выйти в это время суток из дому.
Почти в полной темноте Андрей шел сквозь заросли высокого кустарника к дороге и вспоминал беседу во время чаепития. Кажется, Захару этот вид пития понравился, во всяком случае, о спиртном он почти не вспоминал. Да и поездка в монастырь благотворно сказалась на нем.
За углом пятиэтажки на скамейках, обступивших с двух сторон узкую тропу, сидела шумная компания. Судя по громким матерным выкрикам — пьяная. Андрей нащупал в кармане куртки четки и стал по ним читать Иисусову молитву. Кольнувший холодком в затылок страх растворился, и уже спокойно, не снижая темпа, он зашагал через агрессивно-бритоголовое и безнаказанно изрыгающее злобу сборище. На секунду они замолкли, будто размышляя, как поступить с одинокой жертвой, но вот Андрей минул последнего и прошел дальше, чувствуя спиной взгляды десятка злых, залитых спиртом глаз.
«Голосуя» на Рязанке, Андрей краем глаза заметил троих. Преследователи стояли в кустах у обочины и молча наблюдали за ним. В одном из них Андрей узнал последнего, сидевшего на скамейке с пустой водочной бутылкой в руках. Они только стояли и молча следили за возможной жертвой.
Но вот и желтая «Волга» с шашками на светящемся на крыше табло. Андрей сел в машину и бросил взгляд на затаившуюся троицу. Встретился взглядом с одним из них и внутренне содрогнулся: так, наверное, волк смотрит на убегающую жертву.
— У тебя, Андрей, снова проблемы? — услышал он голос шофера.
— А, это ты! Нет, все нормально! Давай через кольцевую… Прости за хлопоты, которые мы с другом доставили тебе. А ты даже имя мое запомнил.
— Как не запомнить таких клиентов… Ну что, вылечил своего Захара?
— Да вот, только сейчас от него. Чай пили.
— Чай?! — вскинул голову таксист. — Это уже прогресс. А я вас недавно вспоминал, когда был на дне рождения сына. Заскочил на полчаса поздравить и подарок вручить, а насмотрелся… Все до одного пьяные или обкуренные! Там половине и восемнадцати нет, а уж на физиономиях написано: алкоголик или наркоман. Как бы мне сына не пришлось везти в этот ваш монастырь.
— А ты съезди заранее. Постой на молебне и закажи поминовение на год. Тогда, может быть, и везти его не придется.
— А что, можно и так? Без него?
— Можно. На вот, возьми, раз такое дело, — Андрей вынул из сумки книжечку акафиста «Неупиваемой Чаше» и протянул таксисту. — Здесь и история иконы, и акафист для молитвы, и адрес, по которому молебен заказать можно.
— И что, вот так по почте можно?
— Да, конечно. И будь уверен, монахи весь год каждый день будут молиться за твоего сына. Но лучше съездить лично. Там хорошо! Одно слово — благодать.
Нечаянная радость
— А у меня новости! — пропела Алена.
— Хорошие?
— Очень! Я заказала сорокоусты. Свечки поставила. Ну, помолилась, как смогла. И ты знаешь, в этот день ближе к вечеру появилась уверенность, что теперь все у меня будет как надо. Все будет хорошо! Ты представляешь, даже телевизор не стала включать, чтобы настроения не испортить. Батюшки мои! Беру молитвослов, представь! Читаю вечернее правило, как путевая, потом акафист благоверному князю Даниилу Московскому. Сама себя не узнаю. И вот такое состояние на душе — будто летаю. Словно ангелы меня крылышками обмахивают…
— Ангелы, говоришь?
— Да погоди ты, не все еще! Звонит мне одна женщина, с которой мы в Оптиной вместе ходили. Такая набожная дамочка. Она мне очень много интересного тогда говорила. Про ее жизнь роман писать можно. Мы с ней подружились и обменялись телефонами. Вот. Рассказала я ей про свою беду. А она мне и говорит, что она, оказывается, юристка по этим самым квартирным делам. Давай, говорит, я тебе, как православной, на добровольных началах помогу. Слышь, как православной! Мне это так понравилось, будто я в круг продвинутых вошла. Посмотрела она мой контракт с газетой, весь его проштудировала и говорит, что никакого права отнять у меня квартиру они не имеют. И не смогут. Вот так! Что я вступила в права собственности на мою родненькую квартирку, как только подписала контракт, даже еще и не заплатив за нее ни копеечки. Вот. Сказала, что если они попробуют отнять у меня ее, то это только через суд. Но, во-первых, они суд проиграют, а во-вторых, она на суде будет представлять мои интересы и гарантирует разнести их в пух и прах. Ой, Андрюшечка, я так рада, так рада, что вся опять летаю!
— Я тоже рад за тебя, Ален. Только попробуй бывшего начальника не воспринимать как врага. Он сотворил тебе огромную пользу, так будь ему за это благодарна. И молись за его драгоценное здоровье каждый день.
— Ладно, так и быть, пускай себе живет…
— Не «ладно», а искренне, хорошо? И еще кое-что прослушай, как бы это ни было малоприятно.
— Хорошее начало…
— Ничего, не помешает! Видишь ли, продвинутая, у таких, как мы с тобой, есть одна очень возможная неприятность. Мы приходим в Церковь очень испорченными, не прямым путем, как положено, если бы мы родились в семье верующих, а через атеизм, книжки, советы и знания. «Знания надмевают, а любовь назидает.» У таких, как мы, чаще всего встречается духовная болезнь, которая называется прелестью.
— Ой, какая прелесть!
— Полностью этот диагноз звучит так: прельщение сатанинское.
— Ну, вот…
— Это такая болезнь души, когда ты ищешь в Церкви не покаяния, а наслаждений, вроде этих твоих полетов во сне и наяву. Твой враг, чувствуя такую расположенность, будет тебе навязывать эти состояния. Ты увидишь свет внутри и снаружи, ты будешь «летать», слышать ангельское пение, можешь даже увидеть «святых» и даже «господа бога».
— И что тут плохого?
— Только то, что это все будет не от Бога, а от врага лукавого. Он по этим гадостям крупный специалист. Ты должна помнить, что только за великие молитвенные и постнические подвиги считанным единицам даются такие видения от Бога. Только после великого смирения! А вот эти лукавые видения всегда в себе несут тщеславие и гордость. Поэтому я тебя умоляю, остерегайся разных там «полетов» и «продвинутости». От этого можно с ума сойти. Путь христианина — путь слез и скорби, путь несения креста. Есть на этом пути и радость, и свет, и любовь — но только после мучительного очищения от грязи греховной. Ну, как в бане нужно попотеть и продраить тело, чтобы ощутить потом легкость и чистоту, так и в храме покаянными слезами нужно умыть душу, чтобы появилось чувство облегчения. А святые, которые летали в прямом смысле — возносились над землей в молитвах, как, например, известный тебе преподобный Амвросий или батюшка Серафим Саровский… Они всю жизнь почитали себя самыми грешными и достойными только преисподней. И надеялись на спасение только по величайшей милости Господней, а никак не за свои духовные подвиги. Ты меня поняла?
— Я это учту…
— Постарайся, пожалуйста. Я вот тут недавно в храме двух дамочек наблюдал. Одна вслух службу комментировала. Матом ругалась. Когда ее старушка одна дернула за рукав и сказала, что нельзя в церкви женщинам разговаривать, та ей ответила грубым мужским голосом: «И тебе, дура старая, нельзя!» Это была одержимая. Я перешел на другую сторону, но и там стояла дамочка — другая уже, поинтеллигентней — и тоже концерты давала. Сначала она минут на десять замерла в земном поклоне, выставив на всеобщее обозрение свою пятую точку… Потом, раздвигая локтями мужчин, протолкалась к иконостасу и стала там прямо перед священником. На ее лице было такое выражение, будто она близка к истерике: рот открыт в перекошенной эдакой оскальной улыбке, глаза вытаращены, изо рта слюна течет… Казалось, что если кто ей помешает сейчас получить очередную инъекцию духовного наркотика — любого разорвет на части! Вот так со стороны выглядит прелесть.
— Н-да, перспективка… Запомню теперь обязательно.
Крестный ход
В субботу Андрей пошел на крестный ход, посвященный годовщине убиения Государя-мученика Николая с семьей. По телевизору сообщали, что в городе будет день пива, а о крестном ходе сообщили только по одному из десяти каналов, да и то в издевательском тоне: вот, мол, когда все нормальные люди «отрываются на всю катушку» на празднике любимого народного напитка, эти ненормальные будут царя поминать. Андрей вспомнил, что на дне пива в Минске погибли в давке несколько человек, а на прошлогоднем крестном ходе замироточили иконы, — вот и выбирайте, русские люди. Андрей выбрал крестный ход.
Когда он поднялся по эскалатору метро на Старую площадь, его окружила толпа. Раздав милостыню нищим, в копилки монастырей и церквей, он оглянулся. Несколько сотен — священников, монахов, мирян. При определенных обстоятельствах, например, спровоцированного скандала, вполне возможны давки, столкновения, паника. Поэтому, наверное, две машины реанимации и сотня милиционеров находились поблизости в состоянии расслабленной бдительности.
Но нет, каждый занимался своим делом: верующие участвовали в молебне, сборщики пожертвований собирали деньги, торговцы продавали книги, календари, кассеты; кто-то общался со знакомыми на травке в тени деревьев. Андрей обошел всех по кругу и вернулся на жару, поближе к часовне героям Плевны. Здесь скученно стояли молящиеся в мокрых рубашках, укрываясь от палящего солнца зонтами, газетами, кепками — кто чем. За спиной шуршали, гудели, тарахтели выхлопными трубами стада автомобилей. Слова канона, читаемые из часовни, различались с трудом, но рядом с ним стояла женщина с книжечкой. Она увидела, как Андрей тянет шею из-за ее плеча, и повернула книжку так, чтобы и ему были виден текст канона. После выступил духовник крестного хода. Он напомнил, что это не демонстрация, а соборный молебен, читаемый на ходу, поэтому всем нужно молиться, тогда крестному ходу будут сопутствовать силы небесные.
Некоторое время участники выстраивались в колонну, впереди — большие иконы Царственных мучеников, Богородицы, хоругви, потом — остальные. Все вокруг несли иконы. Достал из сумки и понес впереди себя икону Государя в рамке и Андрей. Понемногу тронулись. Андрей оглянулся. Рядом шли бодрый старичок со старинным образом в серебряном окладе, мать с десятилетним сыном, две женщины из интеллигенток, юная девушка, высоко поднявшая свою икону тоненькими ручками, отец с сыном…
Когда они вышли из тени деревьев на Славянскую площадь, яркое солнце закрыло облако, которое так и сопровождало их до конца, осеняя тенью, как зонтиком. От реки тянуло прохладой. Шли они по тротуару, а по дороге их сопровождали машины милиции и грузовик с колоколами, которые переливались на разные голоса. Всю дорогу они пели молитвы: «Богородице Дево, радуйся…», «Царю Небесный…», тропарь Кресту и другие. Получалось дружно, напевно, ладно.
На душе появилась светлая мирная радость, которая временами волнами нарастала, будто порыв теплого ветра. «Благодать какая!» — радовалась женщина рядом. На глазах у многих появились слезы. Несколько раз подступали они и к глазам Андрея.
Во время крестного хода рядом с Андреем мироточили одна за другой шесть икон. К ним с разных сторон подходили прикладываться. Присутствие святых небесных сил ощущалось совершенно явно, рождая в душе то благодатную радость, то страх богоприсутствия, страх согрешить, струсить, предать Господа и святых Его.
На Кремлевской набережной Андрей оглянулся. Странное дело, на Старой площади вряд ли было больше тысячи человек. Сейчас же крестный ход растянулся вдоль всей кремлевской стены: голова с хоругвями подходила к Храму Христа Спасителя, а хвост все еще сворачивал на набережную. При этом шли плотными шеренгами человек по пять-семь. Тысяч десять, может быть, и больше!
У Храма Христа Спасителя уже начался завершающий молебен, но места здесь было маловато, поэтому подходящие теснили ранее пришедших в сторону станции метро. В общей толпе пошел к метро и Андрей.
Вот и все, теперь не растерять, не рассыпать то, что приобретено, что народилось и жило внутри, в области сердца, радуя и освещая изнутри и тебя самого, и все вокруг.
Вечером Андрей зашел к своим соседям. Света смотрела телевизор, а Сергей собирал очередную модель спортивной машины. Гостя посадили в кресло, отрезали кусок торта, налили чай — и забыли о нем.
По телевизору показывали старый черно-белый фильм, в котором честный и принципиальный юноша пытался устроить свою личную жизнь совместно с общественно-активной и политически грамотной девушкой. Андрей не помнил этого фильма, но итог этого романа очень явно просматривался в том, что у них имелось самое главное: общность социально-политической цели. Само собой разумелось, что основа будущей ячейки общества заложена процветающим строем, поэтому никаких сомнений в будущем счастье строящейся на экране семьи не возникало. Проблемы им создавали только отдельные, неизжитые еще проявления старой, обреченной на отмирание эпохи.
Странное дело, через десяток минут просмотра Андрей почувствовал симпатию к этим ребятам. Подкупала чистота их отношений и абсолютная искренность, с которой они служили общему делу. Еще через десять минут Андрей уже не удивлялся легким всхлипываниям Светы, утиравшей заранее приготовленным платочком взмокшие глаза. Во время рекламной паузы, которая напомнила о продолжении другой эпохи, с проявлениями которой так активно боролись киногерои, Света громко высморкалась и вслух произнесла:
— Господи, ну пусть у них все будет хорошо! Они такие чистые, прямо как дети! — затем она обернулась к мужчинам. — Мне так жалко всех… Ведь страдают!
— Ну, началось мокрое дело, — проворчал Сергей.
— Это хорошо, Света! — кивнул ей Андрей. — Это очень хорошо. Сочувствуй людям, помогай по возможности. Помнишь из Евангелия: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много».
— Правда? Ты всегда меня утешаешь… Хочешь еще тортика?
— Как поживает твоя воспитанница?
— Сложная девочка. Ну, кажется, все у человека есть: квартира, загородный дом, одежда откутюрная, еда лучшая, лошадь даже папа купил! За границу возят ее, в школу элитную дитя ходит… А одинокая! Общаться ни с кем нельзя: опасно, возможно это… «похищение с целью получения выкупа». Как прихожу, так ко мне аж прилипает, бедненькая.
— Чтоб я таким бедненьким был! — усмехнулся Серега.
— Ну и что? Да ты бы дня такой жизни не стерпел — под вечер сюда б сбежал. Ко мне!
— А зачем сбегать, если ты каждый день приходишь? Представляешь, одевался бы в Диоре, ездил бы на «мерсе», катался бы на лошадке, кушал бы устриц с шампанским, по парижам-нью-йоркам бы летал… Красота!
— И все время один… Ты эти барские замашки брось! Ладно, не сразу, но через месяц вернулся бы точно к щам да котлетам, к дивану вот этому и в спокойную жизнь. Вот, например, она меня Светочкой называет, а мать приходит, она ей: «Жратва пришла!» Та — в слезы, а потом и малая тоже в истерику. И так каждый день. Ужас! Папа с работы приходит, нарычит на всех, напьется своего «бурбону» — и давай храпеть на всю семикомнатную. Каторга, а не жизнь.
— И после земного временного ада — потом еще и в подземный, но уже вечный!.. — добавил Андрей. — Ну, как их после этого не пожалеть? Нет уж, Светик, жалей их таких. Может, по твоим молитвам они хоть какого-то послабления сподобятся…
— Мне бы хоть себя вот с этим любителем шампанского отмолить… Сами в грехах по уши сидим.
— А че меня отмаливать? Я ж сказал, что не пью. А уж если сорвусь, то поедем в Андрюшкин монастырь. Я ж сказал, Света! Или ты мне не веришь?
— Верю, верю… — вздохнула она протяжно и чмокнула его в макушку.
Андрей уединился в своей комнате. Раскрыл взятую когда-то у Захара книгу «Россия перед Вторым пришествием» и стал зачитывать заложенные бумажками и подчеркнутые Захаром места.
Бывший госсекретарь США З. Бжезинский заявляет в прессе, что после разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось Русское Православие.
Преподобные Иоанн Дамаскин и Ефрем Сирин в восьмом веке подробно описывают этапы прихода антихриста, срок его деятельности — три с половиной года, возвращение на землю взятых на небо до времени пророков Илии и Еноха и проповедь их о настоящем происхождении и планах антихриста, их убиение и славное вознесение на небеса. Их проповедь многих обманутых антихристом людей обратит к Богу истинному.
Преподобные Авель, Серафим Саровский, Нил Мироточивый и другие святые предрекали восстановление монархии в России на 15–20 лет. За эти годы Россия станет самой богатой и могучей страной в мире, а царя, потомка рода Романовых, будет бояться даже сам антихрист. В Россию будут бежать спасаться все честные люди из разных стран, где будут землетрясения, голод, хаос…
Странное впечатление производили пророчества. С одной стороны, тяжелое, с другой — обнадеживающее. В душе Андрея вместе с торжеством и верой в неизменную любовь Бога к созданиям Своим зарождалась невыразимая жалость к людям, породнившимся с грехом и потому обреченным на муки. Он знал источник этой двойственности. Смятение его души потребовало каких-то мер. И он, как за спасательный круг, схватился за писания преподобного старца Силуана Афонского. Книга открылась сама собой, и вот что он прочел:
«Одни грехи принес я в монастырь, и не знаю, за что Господь даровал мне, когда я был еще молодым послушником, столь много благодати Святого Духа, что и душа и тело были полны благодатию, и благодать была, как у мучеников, и тело мое жаждало страдать за Христа» (с. 283).
Книга о преподобном Силуане опустилась на грудь Андрею, и он задумался. Потом легкая дрема стомила его…
…Андрей очутился на площади среди руин и пожарищ. Свинцовое низкое небо давило сверху, как пресс. Затравленно озираясь, пробежали мимо несколько человек в лохмотьях и скрылись в ближайших развалинах. Андрей побрел в ту же сторону, не представляя себе, зачем. На площадь выехал броневик, и из динамиков на его крыше разнеслось вокруг: «Раздача еды для четырнадцатого квартала начинается в шестом бункере!»
Под ногами хрустели и кружились, словно опавшие листья, денежные купюры: доллары, марки, рубли с большим количеством нолей.
В развалинах, словно тени, понуро передвигались пугливые люди. Маленькая девочка, устроившись в просторном салоне побитого кабриолета на прожженном кожаном сидении, играла желтыми брусками и камешками. Андрей подошел ближе и увидел, что это золотые слитки и драгоценные камни. На ее правой ручке и на чумазом лобике яркой краской написаны три шестерки. Девочка подняла глаза на Андрея, и он в ужасе вздрогнул — то были глаза куклы: пустые, холодные.
К девочке подошла женщина с такими же клеймами, буркнула: «Пошли кушать, крысенок» — и потащила ее в сторону площади. За ними побрел и Андрей.
У бункера выстроилась очередь. Все молчали. Когда Андрей дошел до двери, к нему подбежал охранник с автоматом и убрал с его лба волосы. Сильные руки схватили Андрея в клещи и подвели к здоровенному толстому охраннику, вероятно, главному здесь.
— У этого клейма нет.
— Почему нет? — ласково улыбнулся главный.
— Не буду я ставить себе вашего клейма, — услышал Андрей свой голос.
— Ну, и пошел вон отсюда. Нам таких кормить не велено.
Андрей вышел и отправился прочь. Очередь с ненавистью исподлобья провожала его голодными затравленными глазами.
Где-то рядом должна быть церковь. Он обогнул развалины и увидел странное: церковь стояла, только не было на ней ни креста, ни фресок с иконами… Под шорох опавших купюр он поднялся по ступеням и открыл дубовую дверь. В гулкой тишине сгорбленная старушка натирала подсвечник. По старинным сводчатым стенам сияли золотом и камнями незнакомые лица с нимбами. За распахнутыми царскими вратами алтаря блеснул престол с троном, на котором восседал в царских облачениях с короной-нимбом на гордо поднятой голове великий потомок колена Данова с теми же тремя шестерками на лбу. «Мерзость запустения на святом месте», — вспомнил Андрей.
— Ты где находишься, выродок! Почему не кланяешься царю и господу нашему?
Андрей оглянулся и увидел священника в парчовом облачении. Взгляд его выражал свирепую ненависть.
— Я православный христианин и посланнику сатаны поклоняться не буду.
— Взять его! — хлопнул в ладоши священник.
Снова Андрея схватили крепкие охранники с автоматами, но уже в парчовых одеждах, и потащили его в придел, где стоял большой деревянный крест, укрепленный в бетонном полу. Рабы первосвященниковы сначала привязали Андрея к кресту, несколько раз ударили прикладами по голове и груди.
— У тебя есть еще шанс выжить, ублюдок! По великой милости царя и господа нашего, если ты отречешься от своего лжеучителя и самозванца, поклонишься господу и поставишь на руку и лоб клеймо, то он дарует тебе жизнь, свободу и еду.
— Я верую в Господа моего Иисуса Христа, Сына Божиего во Святой Троице. А сатане, мужик, поклоняться не буду.
— Распять его.
Андрея сначала избили прикладами и сапогами, а потом подняли лебедкой и довольно умело вбили ржавые кованые гвозди в ладони и ступни. Сразу обжегшая его боль позже несколько утихла, превратилась в тупую гудящую ломоту. Судороги прокатились по всему горящему будто в огне телу. Он в изнеможении обвис, но сразу же началось удушье. Снова тело его забилось в судорогах. Он собрал силы, приподнялся на вбитых в ступни гвоздях и, еле ворочая надкушенным распухшим языком, сдавленно прошептал:
— Господи Иисусе Христе, не вмени им во грех, ибо не ведают, что творят. Господи Иисусе, прими дух мой в руки Свои!
И треснули идольские изображения, и рассыпались в прах, и пала тьма кромешная…
И сонмища ангелов в ярком луче неземного света спустились с небес и подняли его, и стали поднимать вверх, откуда тысячей солнц сиял Тот, к Которому всем сердцем тянулся Андрей. И великая смиренная любовь Отца Небесного обняла его легкую, очищенную страданиями душу. «Слава Тебе, Господи!» — звучало всюду: и огнеподобные небожители пели славу, и вся душа Андрея светилась и ликовала…
Он снова осознал себя в комнате. Видение полностью осталось в памяти. Оцепенение проходило, в душе нарастал вопль.
— Господи милостивый! Я готов пойти ради Тебя на любые муки! Если нужно для искупления грехов моих и людей, которых Ты дал мне, чтобы любить и молиться за них, то пусть меня распнут, мучают самыми страшными истязаниями… Я выдержу все, потому что я верю, что Ты всегда рядом и не оставишь меня. Но, Господи, я не смогу вынести этих холодных детских глаз, вида этих обреченных тупых людей, поклоняющихся сыну погибели. Господи, я немощен, Ты знаешь это. Я всю жизнь свою положу молиться за них, за моих ближних. Но только не надо этих пустых детских глаз!
Он не обрел обычного успокоения после молитвы, наоборот, напряжение в нем росло. Не замечал он ни льющихся слез, ни автомобильных гудков за окнами, ни настойчивых звонков телефона. Икона перед ним сияла небесным золотым светом. Он жадно всматривался в любимый лик. Очи Спасителя пронзали его до самого сердца. Сколько тянулось это напряженное ожидание? Целую вечность. Но вот из самой глубины гулко бухающего сердца народилось и, заполнив все вокруг, ясно и громко, как набатный колокол, прозвучало: «Да будет по слову твоему, чадо».
…Андрей взял с собой книги, паспорт, деньги и самые необходимые вещи. Положил в рюкзак. Черкнул записку. И вышел из дома. На востоке червонным золотом плавился восход солнца. Туда он и направился.
Что осталось за спиной — трудно сказать. Зато будущее предстояло в полной ясности. Распятие на кресте заменялось распятием в молитве, в слезах, в посте и бдении. Не от мира он бежал в страхе и малодушии, но за мир положить душу свою. Нет больше той любви.
Жизнь продолжается
Юрий Ильин:
— Вот он и ушел. Сначала мы все находились в шоке. Иришка плакала целый день. Лида восприняла это спокойнее, но тоже как-то поникла. Я ругался, как извозчик, даже стыдно вспоминать… Звонил в наш монастырь, думал, он туда ушел. Нет, там его не оказалось.
Но прошло три дня, и — мы все разом как-то успокоились. Теперь я все понял: он стал молиться за нас на новом месте. Уж не знаю, как все обернется у нас, но только появилась абсолютная уверенность, что ничего плохого с нами не произойдет. У нас теперь такой защитник появился! Да, ждем с Лидочкой ребенка. Решили назвать Андреем. Лида рассказала, что это он уговорил ее не идти на аборт, когда она в сомнениях терзалась. Это благодаря ему появится на свет наш сын.
Лена Ильина:
— Да что о нем говорить: сумасшедший он…
Света:
— Я знала, что Андрей уйдет в монастырь. Уже в первый его отъезд была уверена, что он не вернется. Только все одно — жаль… Это мы себя, эгоисты, жалеем. Мы будто осиротели. Хотя… он все равно будто здесь. Мой-то, Серега, не пьет. Задумчивый стал. А однажды даже сказал: «Знал бы, где он, — ушел бы за ним! С таким хоть куда — все только на пользу».
Владимир Иванович:
— Все правильно! Такие, как Андрюха, должны быть монахами. Весь смысл жизни таких людей — служение Богу, а где лучше служить, если не в монастыре? Да вот хоть наши с ним дела возьмите! Приходилось этому парню снабженцем работать у бывшего урки. Нет, вы понимаете? Самшит на виллу из района боевых действий поставлять. Кстати, церковь при доме я построил и самшитом ее отделал. Иконы древние повесил. Все теперь есть для молитвы. Только молиться еще не научился. Позвал священника из соседней церкви, он присоветовал, как начать. Обещал мне помочь на первых порах. А я ему помогу…
А молитва Андрея, может, тысячи, а может, миллионы от смерти спасает. Это ж мы не знаем… Об этом можно только догадываться.
Об одном жалею очень сильно: мне бы с ним побольше поговорить, поучиться у него было чему. Только знаю я точно, что парень он хоть и суровый на вид, а сердце у него доброе. Он по жизни не обижался на меня. Золотое сердце!
Маша:
— Мы его не понимали. Ему Господь дал столько, что не нам о нем судить. Он жил только для людей. Кем бы я сейчас была, если не он? Да и была бы ли жива?.. И сейчас он за нас молится. Никогда еще так по ночам меня не тянуло к иконам. Будто Андрей сам за руку меня на молитву ставит.
Мне еще нужно многое узнать: благодаря Андрею я вошла в новую жизнь, и пока в ней я, как ребенок. Но эта новая жизнь очень светлая! Иногда я по ночам плачу, но это не слезы обиды, нет! После них на душе появляется такой мир, такая любовь, что будто всех людей готова обнять, утешить. Сынок мой, Сережка, по воскресеньям сам нас будит, в храм торопит. Батюшка сказал, что тоже монахом, наверное, станет. Да я уже и не против.
Мать:
— Когда мне говорят, что я потеряла сына, мне становится жаль этих людей. Ничего они не понимают. Сейчас только я поняла, что такое молитва. В какой же непроглядной тьме мы жили! Когда я вспоминаю моего Андрея, в душе появляется такое спокойствие… нет, это трудно объяснить. Знаю одно: я могу быть спокойна за сына.
Алена:
— Когда Андрей ушел из мира, я поехала к нему домой. Света провела меня в его комнату. Книги, иконы, почти голые стены, жесткая кушетка. Да это не комната — келья монаха. На столе я нашла его тетради и блокноты. И тут меня озарило: я должна написать о нем повесть! Из его записей, из рассказов его друзей и знакомых получилось то, что вы сейчас читаете.
Не судите меня строго: очень трудно писать о православных. Приходится много читать, изучать и советоваться со священниками. Кстати, именно мой духовник настаивает в минуты сомнений не бросать, а наоборот — писать, и как можно подробнее, о нашей новой жизни в Церкви.
Как я отношусь к уходу Андрея? Сначала, признаться, я плакала. От его знакомых я узнала: Андрея было очень много! Его хватало на всех, он в судьбе каждого, кто с ним соприкоснулся, оставил не просто след, но заполнил ее смыслом, истиной, любовью. Сейчас физически его нет рядом, но он еще больше, еще насыщеннее заполняет наши жизни! Его молитвы за нас мы все ощущаем каждый день.
Простите, меня, глупую… Я все еще плачу о нем. О, жестокий и грязный мир, как же ты прогнил, если лучшие уходят от тебя!
Андрей часто снится мне. Теперь он носит бороду. Просветленный такой, кроткий… Только вот борода его почему-то с сильной проседью. Как у старца.
Да, среди его бумаг нашла старый билет и поняла, куда он ездил к старцу. Набралась смелости и тоже съездила к нему. Он — схиархимандрит. Знаменитым был еще во время войны. Живой святой! И вот что он сказал мне про Андрея: «У него очень высокое служение. Много жатвы собрал он в миру, но еще больше ему в обители предстоит!»
Слово писателя на книгу «Миссионер»
Число читателей в наше бурное безвременье катастрофически падает. И виной тому не только компьютерная и телевизионная агрессия. Читатель уже «объелся» как кровавой детективщиной, так и изящной пусто-ироничной современной прозой «а-ля Набоков». Остатки читателей — народ разный: одни в печатном слове ищут истину, другие пытаются заполнить эстетским наслаждением душевную пустоту; кому-то нужно убить время, кому-то — успокоиться, кому-то, наоборот, — освежиться. Раскрыв книгу предлагаемого Автора, читатель имеет возможность получить все сразу. После прочтения равнодушных не останется и захочется, во-первых, перечитать, а во-вторых, сказать «давай новенькое». Не сомневайтесь, он даст, ибо работает он, не покладая рук и не остужая сердца.
К теме, которую поднимает Автор во всех своих произведениях, вообще редко кто из писателей прикасается, хотя важнее этого нет ничего на белом свете. И тема эта: Бог и человек. Приход человека к Богу, что это дает человеку и чем грозит уход от Него. То, как раскрывает тему Автор, интересно и для неофитов, и для воцерковленных, и для тех, кто церковные кресты видел из окна автомобиля или пивбара. Широчайший спектр героев: от бомжей до воротил бизнеса, все образы живые, писаны с христианской любовью, даже отпетые негодяи. Недаром любимым святым Автора является преподобный Силуан Афонский, учивший, что основа христианской жизни — любовь к врагам. Только любовью можно победить зло. Это — основа всего творчества Автора.
Большая часть нынешней литературы — это описание и смакование греха, и в итоге — сплошная безнадёга, ибо отсутствует Бог — податель надежды. В этих произведениях Он слышится, чувствуется в каждом слове. Тихим, проникновенным, выразительным словом Автор умоляет, говорит, восклицает: выход есть, и он только у Бога. И очень тяжело сделать это без нудного поучительства и морализма. Автору это удается блестяще.
«Не молчите — проповедуйте…» — так велено нам Самим Спасителем. В своей книге Автор это делает умело, и название его повести — «Миссионер» — вполне соответствует призванию самого Автора.
Москва, 4 сентября 2000 г.
Николай Владимирович Блохин, член Союза писателей России
Мiру — миp[1] (100-летию Владимира Набокова посвящается)
Коль уж ты мною читаем, стану учиться любить и тебя.
Автор о В. Набокове
Зашел я к нему совсем ненадолго. На улице ветрено, похолодало, и мне срочно потребовалось согреться, а у Барина всегда имелся приличный горячий чай. Однажды он совершил кругосветное путешествие с целью собирания рецептов приготовления чая в разных странах. Итогом этой познавательной поездки явилась книга с большим количеством цветных иллюстраций и текста, набранного тоже цветными шрифтами. Когда я спросил, зачем нужна эта книга, он даже рот открыл от удивления: как это зачем, конечно, для того, чтобы процесс потребления этого напитка превратить в осознанное действие. Ты подумай, распалялся он, нервно ерзая в кресле, доколе мы всё будем делать необдуманно, механически; мы же в конце концов не автоматы газированной воды, а всё же люди, то есть субстанция мыслящая хоть как-то. Ладно-ладно, успокаивал его я, раз так, то напои меня чаем, приготовленным по какому-нибудь уникальному рецепту.
Я никак не ожидал, что Барин совершит этот необычный поступок: он встал из своего кресла, к которому, казалось, прирос навечно, — и снова сел, уже в изнеможении. Ты, говорит, прекрати свои пижонские замашки! Мы не имеем права отрываться от нашего народа, так что пей чай, как все, без выкрутас. После этой тирады, вызвавшей у меня целую бурю противоречивых эмоций, он сыпанул щепотку английского чая из жестяной коробки в фарфоровый заварной чайник с отбитым носиком, плеснул туда кипятку из мятого многочисленными падениями на пол с высоты стола электрочайника и приказал мне ополоснуть в тазике ранее использованные чашки. Пока я это делал, пытаясь как можно меньше оставить на чашках плавающих в тазике чаинок разных размеров и окраски, он развивал тему о нашем народе, который мы, молодые народные аристократы, должны всячески изучать, любить и даже в него иногда ходить, чтобы быть в курсе, как он там и чем живет. Пижоном меня он назвал вторично, когда я попытался вытереть чашки холщовым полотенцем с петухами. Напиток, который налил он в чашки, был горячий и достаточно темный; парок, стелившийся по поверхности и никак не желавший отлипать от нее, имел аромат луковой кожуры, согретой летним зноем. На вкус он напоминал горячий грейпфрутовый сок.
Барин отхлебнул из своей громадной бульонной чашки с родовым вензелем и вернулся к просмотру коллекции почтовых марок с применением большой прямоугольной лупы, бережно вынимая их из кляссера специальным пинцетом. После таких любований и изучений, производимых длинными пальцами в перстнях, часть марок терялась, иногда совсем, но некоторые потом находились то в карманах атласного халата, то в книжках, громоздящихся стопками со всех сторон, а то и в других неожиданных местах. Когда я достаточно согрелся и уже засобирался выходить на ветреную темную улицу, Барин спросил меня, зачем я заходил. Согреться, говорю. А если ты отойдешь от моего дома больше, чем сможешь пройти, пока не окоченеешь, каким образом ты станешь греться, поднял он на меня вопросительные глаза печального сонного сенбернара. Я таких случаев пока не помню, признался я, может быть, потому, что Барин живет в разных местах и всюду у него это кресло и чайные жестянки. Но неожиданный вопрос меня насторожил, я своим распаренным нутром уже чувствовал, что от этого вопроса веет холодной непредсказуемостью.
Вчера мой английский дедушка лорд Носсофф от своих даровых щедрот прислал мне некий предмет (Барин плавил и крошил меня лазером базальтовых зрачков), и я решил извлечь из этой его шалости хоть какую-то капельную пользу, а тут и ты под горячую руку пришел. Вот мы тебе и предложим это согревающее средство, чтобы ты свои путешествия по вселенной расширил за пределы нашего квартала.
Эй, говорю я, не всегда удачно избегая горячего лазера, полегче (умоляюще уже и сдаваясь его свирепому напору), я ведь не совсем внук этому уважаемому джентльмену, и фамилия у меня отличается в другую сторону, поэтому вместо услуги ты мне готовишь ярмо.
Многие дружбы рождают многие ярмы, продолговато выдул Барин из своих трубчатых уст, обрамленных взорванными усами, а посему изволь дружески ублажить и подъярмиться, в общем, бери вот эту бумажку, и, если не хочешь еще горячительного напитка, то можешь продолжать свой путь туда-куда-ты-шел.
Я сделал последнюю, совершенно отчаянную, попытку вернуть себе свободу и задал ему сокрушающий вопрос: ведь у меня могут это украсть. На что мой оппонент прошелестел запутанным переплетением множественных ветвей, сучков и отростков своего родового древа: такие предметы не крадут, так что не пытайся даже оставить в какой-нибудь подворотне, не выйдет.
Вышел я из барского подъезда, и из моей глубины вырвался вопль: только не это! Мое самое жуткое предположение стояло передо мной и вызывающе сверкало множеством слоев лака и центнерами комфорта. Роллс-ройс. Я открыл дверцу — она еще и не заперта, впрочем, действительно, что это я, кто же его угонит, такого… С родовым вензелем, бронированный, со спецномерами. Почти не сгибаясь, обреченно вошел внутрь и сел за руль, и только коснулся щепотью ключа, как табун лошадей уж забил копытами и мягко заворчал под капотом, на полдома улетающим вперед, вслед за взмахивающей крыльями серебристой Никой. Оно, конечно, тепло, но надо же теперь ехать не за угол дома, куда я собирался на встречу с моим старым, совсем старым, но поэтому дорогим, как выдержанное вино, другом. А что если заехать за ним и уже дальше ехать в наваленных на меня Барином сомнениях?
Друг за углом опирался на трость и говорил с господином в сером костюме о бабочках. Пока я полз по салону к противоположной дверце, чтобы открыть ее замок, бабочки вспорхнули, и я так и не успел понять, о галстуках они говорили или о летучих насекомых. А уж когда друг забрался в салон и стал наполнять его своими трогательными сочувствиями и искренними сожалениями, мой вопрос упорхнул вместе с его порхающими возбудителями в сумрак ночи. По нашей давней традиции он попросил у меня закурить, снова позабыв, что я этим не занимаюсь, сунулся в бардачок и достал оттуда деревянную коробку с сигарами. Как ты думаешь, размышлял он вслух, открывая упаковку и проводя по содержимому замерзшими пальцами, сможешь ты позволить мне воспользоваться этим даром? Если даром, то, конечно, надо тебе позволить, только прежде чем ты наполнишь нашу атмосферу дымом горелых листьев, найди возможность управления механизмом очищения воздуха. Пока мы отвлекались на всю эту необходимую в наших условиях процедуру, время предстоящей беседы неумолимо сокращалось, а темы для обсуждения множились. Иногда обсудишь только день, а уж и неделя прошла, поэтому время нужно беречь. Этим только полощут рот, учил он меня и уговаривал себя, но как только он попробовал это сделать, сухой громкий кашель сотряс его суховатую фигуру. Ладно, буду только держать, раз уж испортил, этому тоже придется учиться.
Так, говоришь, теперь надо ехать, а куда, пока неизвестно? Я уже давно собираюсь навестить бабушку, так можем это сделать, предложил он, на таком аппарате это не так обременительно, как по чугунным дорогам, а уж старушка обрадуется… если первый шок, конечно, переживет, потому что подобные транспортные средства не так часто наезжают к ней в деревню. И мы поехали использовать технику с пользой, может быть, впервые в истории существования этой торговой марки. Нет, лимузин не возмущался, вел себя послушным дворецким с прямой спиной под бакенбардами и белыми перчатками под фраком, и даже проявил в тактичной форме вежливый интерес, с готовностью покоряясь моим командам, за что мы решили дать ему собственное имя. Перебрав приличное форме и содержанию, остановились на нейтральном и степенном Роланд. Мы давно уже выехали из знакомых нам мест и продвигались, целиком доверившись дорожным указателям и детским воспоминаниям моего друга. Когда я старательно притормаживал около людей в погонах и фуражках, тайно надеясь, что они нас остановят и хотя бы попробуют оштрафовать, эти люди почтительно замирали, разве только не выбрасывали правую ладонь к козырьку. Мы уже выехали в поля, и лишь свет фар освещал наш нелегкий сомнительный путь во мраке. Вместо взаимообогащающего общения мы разносторонне крутили головами и исследовали возможности нашего дворецкого Роланда. Это не нравилось, драгоценное время уплывало вместе с дорогой под колеса и назад, и хотя мой сосед уже приобрел навык правильного держания сигары и сидения в мягких сидениях и даже несколько раз наведывался в минибар и по очереди доставал оттуда гленливет и уокер двенадцатилетней выдержки и невыдержанный тоник, я никак не мог согласиться с его катастрофическим врастанием в неестественную роскошь. Наконец, детские воспоминания вывезли нас на спящую малоосвещенную станцию, от которой через заросли фруктовых деревьев, мимо дощатых заборов и глянцевых черных водоемов доехали до знакомого ему бревенчатого дома за прозрачным для обзора плетнем с кринками вверх дном.
Не выключая сварливо ворчавшего мотора нашего бездворного дворецкого Роланда, мы ждали, когда бабушка выйдет сама и станет задавать себе вопросы, ответить на которые сможем только мы. Но в домике не зажегся подслеповатый огонь, лохматая рыхлая собака не рвалась на шелестящей цепи, и с керосиновым фонарем нас никто не встречал. Тогда я предложил другу сходить узнать, что там произошло со времени его давнего последнего приезда. Вот тут уже и он понял, как затягивает омут мягких сидений. Ему понадобилось сильнейшее волевое усилие, чтобы вырваться наружу, и он в свете фар сутуло побрел, все еще натренированно держа потухшую сигару в правой руке и все время производя ею задумчивые рассеянные жесты. В это время я пытался что-нибудь придумать, чтобы решить навалившуюся проблему, но ничего полезного в голову не приходило, поэтому мое смятение возрастало и все глубже вдавливало меня в бархатистую кожу сидения. Вот зажигаются окна домика, и разогнутая фигура моего попутчика спешит мне навстречу. Бабушку ему пришлось разбудить, спала она: понимаешь ли, здесь рано ложатся, а уже поздняя ночь, но она обрадовалась и уже принялась накрывать на стол. Я открыл дверцу нараспашку и решил из педагогических соображений так ее и оставить при включенном в салоне свете.
Бабушка оказалась совершенно сказочной, в платочке, в длинной складчатой юбке и с круглыми щеками. На клеенчатом столе в миске блестели огурцы, капуста и мокрые рыжики. А это, бабушка, есть? — внук, вероятно, пытался возобновить какую-то подзабытую им народную традицию. На стол из шкапчика перелетела бутылка с бледной жидкостью. В копченом зеве печи шкворчала яишница. Бабушка распевала о расставаниях и встречах, внуках и сынках, сене и картошке, впрочем, это неважно, о чем, потому что в сказках всегда все хорошо кончается и слушать их — как медовуху пить: голова ясная, а конечности не шевелятся. Рыжик у меня, а огурец у внучка на вилке застыли на полпути к разверстой цели.
И вот уже мы в ситцевых штанишках сидим на наших малых корточках в песочнице и переворачиваем пластмассовые ведерца с песочными башенками внутри, подправляем их жестяными совочками, а на наших коленках чешутся и отшелушиваются мазанные зеленкой вавки. Бабушка приглаживает наши вихры большой мозолистой ладонью и достает из глубокого кармана передника пряники, пахнущие сундучным ладаном. Когда солнышко забирается высоко в горку и печёт жаром наши картофельные затылки, мы вслед за ней нехотя плетемся в избу обедать забелёнными сливками щами из чугунка и сыто клюем облупленными носами, безропотно позволяя уложить себя на широкой кровати в маленькой спаленке с окном, занавешенном выцветшими ситцевыми тряпицами. Она еще сидит и поет затихающим голосом сказки, а мы вздрагиваем во сне, прыгая с горки в речку, а бабушка вздыхает, что мы во сне растем.
Утром после хриплых петухов с теплой еще печи мы украдкой из-под ресниц наблюдаем, как бабушка стоит на коленях перед иконами и шепчет песню Богу, походя подобрав на руки пушистую кошку, гладя урчащую и льнущую мордочкой к уютной груди. Иногда она всхлипывает, подносит к глазам краешек платочка, и мы, стыдливо затаившись, подозреваем, что сейчас шепчет она про нас. Над нами непривычно близко нависает потолок из широких крашеных досок, на котором дремлют не засыпающие на зиму мухи. Рядом со мной к побелке кирпичной стены прижались валенки и телогрейка с заплатками. К нам под потолок залетает аромат томленной в молоке картошки. Нас не надо звать к столу, мы неумело сползаем с печи на лавку. За окном серенько светлеет промозглое утро, именно такое, когда особенно уютно в натопленной избе. Бабушка вышла во двор, оттуда приглушенно доносятся ее «цы-цып-цып» и куриное «ко-ко-ко», мы сидим за накрытым столом, слушаем постукивание ходиков с чугунными шишками на длинных цепочках, нам многое нужно обсудить, но мы снова молчим, уплетая невыразимо вкусную картошку и запивая пенистым молоком, сохранившим тепло вымени. Бабушка, скрипнув дверью, вразвалочку вступает внутрь, внося с собой холодный влажный запах двора, и с порога запевает свою сказочную песню. Она почти не поднимает на нас застенчивых глаз, ее движения, лицо и фигура округлы и плавны, слова окружают ее облаком, обволакивающим и нас. Совершенно не хочется двигаться, мы можем нечаянно спугнуть эту дивную сказку, мы просто жадно слушаем, смотрим во все глаза, вдыхаем это, живем этим. Вживаемся снова в забытое, но легко вспоминаемое, живущее в нас, оказывается.
Дверь бесстучно открылась и впустила в горницу человека в промасленной телогрейке с небритым обветренным лицом. Он сел на скамью у двери, и все. Ничего не сказал, просто молча вошел, но сказка замолкла, растаяла. Мой друг протяжно вздохнул. Бабушка молча поставила на стол тарелку и стопку, плеснула в нее из вчерашней не тронутой нами бутылки. Назвала его Васяткой, но голосом строгим. Так это что, спросил новый едок, захрустывая огурцом степенно выпитую жидкость, так она всю ночь и простояла рассупоненная, со светом. Кто — она, спросили мы разом. Машина ваша, на которой вы ночью сюды припахали, доходчиво пояснил он тупицам, тыча в окно крючковатым указательным пальцем. Это не она, это он, его Роландом зовут, вы за него не волнуйтесь, он себя достаточно уважает. ― Дак акумулятор сядет. ― Куда? ― Да не куды, а сядет, сдохнет совсем, вот так-то. ― А, это?.. Нет, никуда он не сядет и не сдохнет никуда, он же джентльмен, он умеет себя вести. ― Бабка, они у тебя откуда сбежали? ― С городу, пояснила бабушка, а ты чего пытаешь, твоя, что ли, ты чего тут допросы спрашиваешь, похмелился и закусывай, нечего командывать. ― Дак я за акумулятор трясуся, он вишь ли дорогой, поди. ― Нет, ответил я, не дорогой, он совсем даже не дорогой, можно сказать бесплатный, а вы кем тут работаете. ― Всем, ответил Васятка, а бабушка подтвердительно кивнула. ― Вы и в технике, значит, разбираетесь, спросил я с сокровенным умыслом дворцового интригана. ― Да я еще до войны на тракторах стахановские нормы крыл. ― Если хотите, возьмите этот автомобиль себе, предложил я механизатору, вот вам доверенность, сюда только вписать фамилию, ключ в кабине.
Васятка встал и громко потребовал себе еще из шкапчика, из той же самой перелетной бутылки, но бабушка, по всей вероятности опытно предполагая последствия, твердо ему отказала. Тогда механизатор закурил, отравляя нашу сказочную атмосферу горьким дымом. Друг тоже вынул свою вчерашнюю сигару и тоже заерзал, вероятно, вспоминая мягкость сидений и чарующую роскошь салона, но, сделав несколько рассеянных тренированных движений, обмяк. ― Да вы знаете, сколько эта машина может стоить, зашипел Васятка, да она, может, сто тысяч миллионов стоит, ну куды я с им, по гумнам штоли валандаться буду. ― Ну, это куда вам потребуется, почему только по гумнам, спросил я, это куда нужно, туда Роланд вас и доставит со всем уважением, он привык подчиняться хозяину. ― Не стану я его хозяином, добры люди, и не просите, вот вам мое слово, и все. Я сокрушенно пожал плечом, правым. Друг вернул сигару в карман пиджака и предложил нам всем прокатиться. Бабушка сказала, что ей надо картошку чистить к обеду и щи варить, а мы, конечно, можем покататься, мол, наше дело такое, молодое, чтобы кататься, если уж приехали в народ. Я спросил бабушку, неужели ей не хочется прокатиться на таком большом и роскошном автомобиле. Да мне зачем, ответила она смущенно, мне тут по хозяйству работать надо, а кататься недосуг. Васятка тоже отказался, сославшись на срочные дела беспокойного хозяйства, и шумно затопал к двери, а я вспомнил слова Барина и вздохнул: он все знал наперед. Бабушка предложила нам съездить на станцию за спичками или за грибами в лес, и мы согласились.
На станцию мы приехали быстро, в магазине купили у грустной одинокой женщины в сером халате гремучие спички, пачечную окаменевшую снова соль и совершенно твердую многолетнюю колбасу молотовского завода. Людей здесь не встретили, только электричка пронеслась мимо, взвихрив на платформе сырой туман. Потом так же быстро доехали мы по влажной бесследной грунтовой дороге до ближнего леса и оставили Роланда у края ждать нашего возвращения. Лес в глубине оказался густым, и приходилось продираться сквозь сырую колючую чащу, ветки цеплялись за рукава выданных нам бабушкой телогреек, сверху на нас низвергались каскады крупных застрявших в кронах деревьев дождевых капель. Полянка с поваленным стволом старой березы распахнула нам светлый простор, и мы присели отдохнуть и стряхнуть с себя паутину, листья и брызги каплепада. Когда мы успокоились и бездумно огляделись, тишина обступила нас, и глаза, обозревавшие поляну, наткнулись на желтые округлые шляпки грибов. Каждый в свою сторону мы одновременно присели к этим шляпкам и собирали их, бережно укладывая на дно корзин, тут же глаз примечал новые желтые пятна, мы подсаживались к ним, срезали новые грибы, а там уже следующая парочка или тройка ждала нас, мы ползали, собирали и скоро уже корзины наполнились, а грибы все приветствовали нас новыми желтыми подмигиваниями. Ладно, не будем предаваться алчности, набрали и хватит, уговаривали мы себя и друг друга, но шальные глаза азартно прыгали и прыгали по веселым шляпкам. Тогда по проложенной грудью дороге вернулись мы к нашему дворецкому, сверкнувшему на нас осуждающими глазами фар. Эх, слуга господский, разве ты сейчас поймешь нас, вымокших, одуревших от первозданной дикости этой чащобы, густого мокрого воздуха, настоянного на хвое и грибной прелости, бегущих от азарта грибной охоты, которая пуще неволи, порозовевших, оживших, топающих грязными сапогами по земле, да, мать-сырой-земле. Чужими ввалились мы в салон аристократов, пахнувший дорогой кожей и сигарами, нехотя вез нас дворецкий, не признавая своими хозяевами, с отвращением объезжал Роланд по травяным островам мутные лужи и скользкий суглинок грунтовки, и только у бабушкиной избы успокоился, вздернув нос после мягкого торможения и облегченно выпроваживая нас вон. Да ладно, подумаешь, на вот я тебе и двери твои прикрою, чтобы аккумуляторы не сажать, стой тут себе, красуйся, любуйся собой, нарцисс британский, привязался, тоже мне тут.
Изба родственно встретила нас уютным парным теплом, и бабушка хвалила нас за грибы и наши румяные щеки, собирая на стол, чтобы утолить голод со свежего воздуха. Внучок вмешивался в бабушкин речитатив, вставляя воздыхания из нашего путешествия по здешним местам, ожидая остывания парящих щей и наблюдая за ловким разбором грибов из наших корзин в блюда с подсоленной из монолитной пачки водой. Прежде чем шумно втянуть в себя порцию щей из деревянной расписной ложки со щербинками, я протяжно сдувал с розовой поверхности парок, подставляя под ложку толстый кусок ноздреватого ржаного хлеба, на который стекали капли из переполненной ложечной емкости. От такого дыхательно-горячительного напитания слегка кружилась голова, жаркое тепло наполняло тело от географического центра к периферии, выгоняя на лоб крупные капли солоноватой влаги. И полотенце, заботливо протянутое бабушкой, обернулось вокруг шеи и приятно холодило касанием, и оконное стекло, запотевшее от обильных паров, скрывало от наших случайных взглядов вздернутый нос Роланда, тоже покрытый каплями влаги, но холодной дождевой. Мы уже сыто щурили глаза, вслушиваясь в удаляющиеся бабушкины слова, как вдруг внучок произнес неожиданное, предлагая уехать отсюда электропоездом. Я согласился, потому что знал заранее невыполнимость предложения, но желая еще раз это проверить. Бабушке мы сказали, что попытаемся уехать поездом, а автомобиль пусть стоит тут себе, потому как хлеба не просит. Она собрала нам корзинку деревенской снеди, и мы пошли тропинкой мимо автомобиля и заборов туда, откуда изредка долетали гудки зеленых поездов.
Мы уже дошли до станции и взобрались на плиточную платформу, как из-за дощатого угла совершенно ожиданно мягко выкатил даже не запыленный Роланд с механизатором Васяткой во чреве, который сразу после остановки транспортного средства побежал на наше возвышение, размахивая ключами и возмущаясь в простонародных выражениях, что, мол, ничего у нас с другом не получится, чтобы такую ответственность возлагать на него как единственного механизатора в этом населенном народом пункте. Мы оба-двое стали глубоко вздыхать, причем каждый на свою тему, но сначала нужно было успокоить пожилого заслуженного человека путем занятия пассажирских мест в обузном уже средстве передвижения. Чтобы загладить свои вины и досадить автодворецкому, мы решили одарить Васятку уокером двенадцати годочков томления, на что он предложил уделать жидкость сразу и напрочь на всех на троих бурным дружестким всплеском, а я после вежливого отказа похвалил его свободное отчуждение собственности, но механизатор на это обиделся и впал в не свойственный ему ступор, чего мы никак не могли в нем допустить.
Бабушка ждала нас за накрытым столом, заставленным тремя приборами и традиционными соленостями; на чугунной плите в жарком зеве печи тушились грибы в домашней сметане. Мы сели за стол и позволили Васятке познакомиться с британским напитком в обстановке, наиболее ему привычной, только попросили его не дымить и не мешать бабушке петь ее сказочку. И снова мир вселился в нас, растворяя комья загрязнений, выдавливая наружу давние воспоминания. Тоже размякший третий наш сотрапезник, оценивший британский вкус не слишком высоко, расправляя морщины на продубленном лице и душевном содержании, вполне вписался в атмосферу покоя и мира во всем мiре. С такой высокой позиции мне представился интересным совет бабушки насчет дальнейшей судьбы нашей обузы Роланда, несколько встревоженно завертел гаваной кругами перед нашими лицами друг, вернул обратно ее в карман и тоже проникся вопросом. Бабушка округло пожала покатыми плечами, в раздумье спросила самую себя, что же нам посоветовать, и предложила поставить его у входа в мой квартирный дом, чтобы в нем можно было приезжать к ней за грибами, а также греться, если уж такая незадача с нами приключилась, время покажет, ведь оно всегда все расставляет по местам и все всем показывает.
Нас провожали двое и на этот раз вполне серьезно, поэтому и корзин с деревенской снедью стало две. Бабушка обнимала наши опущенные в печали плечи, выговаривала дорожные напутствия, а механизатор уважительно слушал и солидно поддакивал, обращая внимание изредкими вставками на некоторые технические подробности. Несколько раз мы порывались остаться еще на пару деньков, чтобы вполне насытиться напитком мира, но что-то неумолимо требовало нашего возвращения, и мы снова опускали плечи и дослушивали инструкции. Когда сиденья приняли нас в комфортные объятья, дворецкий Роланд успокоенно заурчал, хотя в тембре моторного звука появились издевательские нотки победителя, но мы допустили это ввиду своей вины перед ним, в конце концов, лично он ни в чем виноват не был. Как мы решили, виноват в этой обузе даже не сам Барин, он, скорей всего, тоже стал жертвой своей раздражительной доброты, а некий лордный островной дедушка, у которого фунты стерлингов индюшки не клюют, вот он и наивничает.
Во время наших дорожных рассуждений я попросил друга высказать мнение о сказке, в которой мы побывали, но он стал говорить не об этом, а о своем желании переселения в этот сказочный дом, чтобы жить там и учиться у древнеющей старины сотворению мира и поддержанию его в самом образе жизни. В его рассуждениях любимое словечко Барина «аристократизм» переиначило общепризнанный смысл, по-прежнему, впрочем, заменяя проштрафившееся слово «интеллигент», даже звучания которого в наших квартальных кругах многие не выносили, хотя причем здесь слово, когда само явление до сих пор живет и самоуверенно разлагает народ на составляющие безжизненные ингредиенты. Мои собеседники пытались начать вождение якобы заплутавшего народа с замены слова, что лично мне казалось путем тупиковым, если вообще случаются пути в мiре нетупиковые, раз уж озарения на Патмосе задокументированы, что равно приговору, приведенному в исполнение в будущем. Но этого мнения мои собеседники пока не разделяли, хотя соглашались с возможностью, но только одной из многих, рождаемых их не в меру развитой фантазией, но это уж из проблем роста.
Друг признался в том, что его озадачивало мое отношение к удобствам, которые дает автомобиль, почему бы нам ими не воспользоваться и почему я так упорно от этого освобождаюсь. Я сказал, что освобождаюсь от обузы, которой чужая собственность связывает и лишает свободы. Почему же свободы лишает, возразил он, когда добавляет, например свободу перемещения, и вообще свободного человека лишить свободы невозможно, потому что она, по его выстраданному мнению, не зависит от внешних условий, потому как это состояние души. И все-таки, возразил я, внешние условия вмешиваются во внутреннее состояние и начинают иногда даже весьма агрессивно диктовать свои правила игры, поэтому свобода всегда начинается с освобождения от собственности. Или от отношения к собственности как к обузе, возражал он настойчиво, поэтому лучше иметь, но не привязываться к ней, чем привязываться, но не иметь. Почему же тогда навязывают эту обузу мне, которому она не нужна, а не тебе, который не против ею отяготиться, спросил я. Но он на это ничего не ответил, потому что, действительно, ему давно ничего не навязывали из непривязчивой собственности.
В бардачке, то есть, экскьюз-простите, перчаточном отделении, под пластиной карельской березы что-то запищало, было извлечено наружу и оказалось трубкой телефона космической связи, из которой Барин говорил для нас слова, и просьба его заключалась в организации встречи с ним немедля по приезде в наш квартал. Мы уже подъезжали и входили в его подъезд, а он все говорил и говорил свои слова. Когда мы вошли в его квартиру, мне пришлось слушать сразу два барских голоса: настоящий и слетавший в космос, он это заметил и положил трубку, продолжив говорить вживую. Мой друг рассеянно крутил гаваной и садился в кресло, я складывал трубку, помещал ее в карман пиджака и тоже садился в кресло, а Барин успешно завершал объяснения своей новой проблемы, которую он дружески возлагал на наши уже опущенные плечи.
Неугомонный родственный лорд через посредников купил особняк внуку, чтобы, по его островным понятиям, наследник соответствовал высокому предназначению. Барин сунул мне бумажку и напомнил про дружбу, тяготы и ярмы, успокоив, что там и появляться надо только изредка, а все затраты оплачиваются предусмотрительным дедом. Когда он на время устало иссяк, всем своим крайне озабоченным видом показывая настоятельность его просьбы, мы с другом доложили ему о наших сказочных открытиях и умирении, а когда и мы иссякли, то Барин совершил самый замечательный поступок за долгие времена: он встал и своими длинными ногами покрыл стометровку, рассыпав по коврам множество почтовых марок, снова сел и стал выспрашивать подробности. Мы рассказывали по очереди каждый свои, и обрисовалась вполне разносторонняя панорама впечатлений, которая Барина втянула в соучастники, и он тоже взалкал испить из источника мира, потому что у него бабушки разъехались по островам и атлантическим побережьям, а без мира жить больше не представлялось ему желанным. В эту минуту я простил ему беспомощные дружеские обузы, а дедушке его — совершенную наивность, потому что все мы сейчас оказались связанными в единую цепочку, удерживающее звено которой в настоящий момент, наверное, подносила к глазам края платочка и пела свои не понятые нами до всей бездонной неисчерпаемой глубины сказки вечности.
Искушения Губина
Моим друзьям, погибающим от вина, посвящается.
Солнечным воскресным утром отец Савва бодрым шагом шествовал во храм. Черная ряса, заботливо отутюженная матушкой Серафимой, трепетно развеваясь, ниспадая на вычищенные ботинки. Яркий солнечный свет и небесная синева отражались множеством окон жилых домов. Знакомая улица в столь ранний час еще пустынна и гулка. Только заспанные дворники ширкали метлами да собачники спускали с ошейников рвущихся на волю питомцев.
Вот и угол сине-белой двенадцатиэтажки, сейчас за ним покажется его «махонькая церковка». Этот момент утреннего пути казался ему особенно торжественным. Ну, вот и она! Как всегда, это зрелище нахлынуло внезапно — из-за обреза затененной стены явился золотой купол белоснежного храма.
Отец Савва шагает вдоль старинной каменной церковной ограды. Кирпич безжалостно иссечен временем — сколько всего впитали эти бурые камни! А вот и крыльцо с пятью ноздреватыми ступенями. Тяжелая дубовая дверь открывается плавно и бесшумно. Уютный полумрак храма рассекают золотистые лучи, льющиеся из высоких щелевидных окон подкупольного барабана. Один из лучей осветил лик Спаса Вседержителя. Низкий поклон Тебе и Твоему дому, Спаситель.
Отец Савва прошел в алтарь, зажег свечи, затеплил лампады и погрузился в молитвы покаянного канона.
Под размеренное чтение дьяконом часов он подошел к аналою, покрытому алой парчой, положил на него распятие и Евангелие, взглянул на очередь исповедников. Знакомые дорогие лица. Он приступил к молитве, и исповедники подошли ближе.
Первой исповедовалась, как всегда, Ирина. Даже в такие ответственные минуты на ее круглом лице теплилась улыбка. Ну, ничто не может испортить этой женщине настроения! Глаза строгие, голос подрагивает от волнения, а улыбка так и готова озарить лицо. Будто зло ее не касается — стороной, верно, обходит.
Следующей подошла Елена. Ох, сколько ей досталось от отца Саввы! Так и лезет из нее гордынька, так и рвутся оправдания. Сколько уж с ней наедине говорил, сколько наставлял и просил, наказывал и покрикивал даже — так и живет она в ней, подлая, так и рвется наружу. Вот и дочка ее, Оленька, такая же. Прямо-таки приказывает маме стоять рядом и не отходить, ножкой притопывает. Да не бойся, рыбонька, не обижу я тебя. Только бы каялась ты так же горячо, как приказывать умеешь. Ох, горюшко-горе, как же вы с матушкой похожи. Опять ночью плакать в молитве за вас, бедных. Ну, ничего, будете ходить в храм, и Господь поможет одолеть вам недуг, поможет.
Тут очередь расступилась и опасливо пропустила вперед незнакомца. Уж больно страшон, из супостатов, что ли? Короткая стрижка, бычья шея, широченный твидовый пиджак. А в глазах — о Боже, спаси и сохрани! — могильный хлад… Э, нет, дорогой, придешь отдельно. Мы с тобой не торопясь. Обязательно приму, только отдельно. А вот о деньгах ты уж лучше и не заговаривай, не возьму.
Следующим стоял Олег со своим сыночком. У Олега случались сильные запои по нескольку недель, и когда он появлялся в храме, сначала один, а спустя неделю и с сыном, видно было, как меняется его душевное состояние: после запоя приходил растрепанный щенок с поджатым хвостом, а спустя неделю — барин средь холопов. Олег уж было шагнул в сторону аналоя, но отец Савва жестом остановил его и сказал негромко: «Попроси вот его» — и показал глазами в сторону вошедшего нерешительно озиравшегося мужчины.
Олег брезгливо подвел к батюшке незнакомца. Вид у того был потрепанный: одежда cальная, руки в серых цыпках, пиратская борода клочьями торчала в разные стороны, от него пахло кислым перегаром и нечистотой.
— Как тебя зовут, страдалец? — склонился над ним отец Савва.
— Ванька, — хрипло отозвался мужчина.
— Ты, Иванушка, не уходи. Посиди вот на той скамеечке, пока я исповедников всех отпущу. Да не бойся ты меня, милый, я тебе помочь хочу. Только не уходи, дождись обязательно, ладно?
— Дождусь, — едва слышно буркнул Иван и, хромая, поплелся к скамье.
…Сергей сидел за столом и наблюдал за растекающейся по клеенке лужей. Только что он потянулся за стаканом, и непослушная рука опрокинула бутылку с остатками вермута. Сергей наблюдал за лужей и думал: «Вот я смотрю на лужу», смотрел на тарелку с останками растерзанной селедки и думал: «Я смотрю на тарелку, в ней селедка».
Тяжелый воздух комнаты сотрясал богатырский храп Дуськи. Сергей взял пластмассовую пробку и швырнул в ее беззубый распахнутый рот. Пробка угодила в лоб. Дуська грузно перевалилась на бок. Теперь она только сопела.
Сергей достал из Дуськиной сумки последнюю бутылку вермута, налил в сальный стакан, выпил. Из горы мусора на клеенке выковырял окурок. Закурил.
Он вспомнил, как сегодня возвращался домой. В карманах после тщательной проверки содержимого не обнаружил ни копейки. Хотелось курить. Он шарил глазами по тротуару, увидел окурок, подобрал и долго прикуривал трясущимися руками. За ним внимательно наблюдала девочка. Когда он, наконец, прикурил, она сказала: «Гражданин, это же неприлично!»
Сергей криво усмехнулся, не нашел что ответить и быстренько сбежал от пронзительного взгляда серьезных детских глаз. Ему стало стыдно!.. Давненько с ним такого не бывало.
…В детстве он дружил с такой же умненькой, аккуратненькой девочкой. Сначала Сергей не обращал на нее внимания. Но вот однажды учительница английского языка Анна Павловна после урока, на котором поставила ему заслуженную пятерку, пригласила зайти к ней домой. Сережа дождался назначенного часа и нерешительно позвонил у двери, обитой черной гладкой кожей. Через широкий коридор Анна Павловна провела его в просторную комнату и посадила в глубокое кресло. Сама села напротив и сказала, что очень довольна его успехами в английском и хочет предложить позаниматься вместе с дочкой у них дома. Конечно, Сережа согласился.
Анна Павловна позвала Иру. В комнату вошла девочка из его, Сережиного, класса. Он удивился. Не знал он, что Ира учительская дочь. В школе они были учительницей и ученицей, и Анна Павловна ничем Иру не выделяла.
— Ирочка, займи, пожалуйста, гостя, а я приготовлю чай.
Девочка пригласила его в свою комнату. За широким окном покачивал толстыми ветвями старый клен. От густой листвы в комнате по стенам бегали тени. Ира подошла к окну, отвела занавеску и шепотом сказала:
— Это мой старый друг. Мы с ним часто разговариваем. Он знает обо мне больше, чем мама. Видишь, он кивнул тебе. Он все-все понимает.
Она показала набор шариковых авторучек. Таких Сережа ни разу ни у кого еще не видел. Их было целых сорок штук, и все разных цветов.
— Это папа привез мне из Франции. Он часто выезжает за границу. У него такая работа. Когда он приедет, я вас познакомлю. Он веселый и добрый. Только совсем седой.
Они вернулись в большую комнату. Ира села за рояль, коснулась тонкими пальцами желтоватых клавиш старого «Беккера».
— Хочешь, я тебе спою? Недавно я разучила одну интересную вещицу.
Ира запела звонким голоском. Ее пальчики извлекали из рояля волшебные звуки. Сережа замер и зачарованно наблюдал за уверенными прозрачными руками девочки.
Анна Павловна вкатила в комнату тележку с посудой, чайником и тортом. Пока они с Ирой накрывали на стол, Сережа огляделся. С любопытством рассматривал он высокие потолки, полированную мебель, множество книг с закладками, бронзовый витой подсвечник. На журнальном столике рядом с хрустальной пепельницей стояли яркая коробка с сигарами и никелированная настольная зажигалка. На стене висела большая картина в золоченой раме. С холста задумчиво смотрела молодая женщина в розовом воздушном платье. Ее фигурку окружал золотистый ореол, а вокруг рассыпал нежные лепестки яблоневый сад.
Потом он еще несколько раз бывал в этом доме. И каждый раз вновь погружался в необычный мир иных ценностей. Ему здесь искренне радовались, приветливо встречали. Потом отец Иры получил направление на работу за границу, и они уехали навсегда.
Он подошел к кровати, лег, и едва голова коснулась подушки, резко встал. Заходил по комнате.
— Только не сегодня. Отпусти, Господи!..
Из темной бездны высветились горящие синевой глаза. Они заглянули так глубоко, что стало страшно.
— Нет, нет. Сегодня не надо. Дай покоя!
Он снова лег. На этот раз темнота поглотила его сразу. Он уснул.
…На плите стояла помятая кастрюля. Голубое пламя лизало ее вывернутые бока. Из кастрюли вылетала багровая пена и приставала к лицу. Она пузырилась, лопалась, шуршала. Он снял кастрюлю с огня, вылил пену в раковину и посмотрел за окно. Там в кромешной тьме золотились металлические струи дождя. Он вышел в окно. За спиной захлопали перистые крылья. Он полетел, огибая звенящий металл дождя. Крылья несли его все выше и выше. Несколько раз он больно ударился о плечи облаков. Наконец, вылетел в космическую темноту. Со всех сторон его окружали громадные звезды. Одна из звезд светилась все ярче. Она приближалась и, наконец, превратилась в пламень восковой свечи. Свечу держала Ира в тонкой прозрачной руке. Он смотрел на огонек и чувствовал приближение сверху сзади чего-то большого, значительного и неотвратимого. Оно схватило его жесткими сухими пальцами за плечи и затрясло. Пламя свечи мелко задрожало. Рука растаяла. Ира исчезла. Осталось невидимое страшное Оно. Дрожь. Испуг.
Звезды слетелись в один клубок, застрекотали и, разрастаясь жидкой массой, обожгли его жаром. Крылья мгновенно сгорели, оставив запах гари, боль от ожогов. Он рухнул вниз. Стремительное падение кончилось безболезненным ударом. Очнулся в глубоком каньоне, сдавленном с двух сторон высокими, уходящими в фиолетовое небо скалами. По дну каньона текла невинно-веселая речка. Ее прозрачная вода омывала обожженную спину. Раны затянулись гладкими рубцами и прохладно постанывали. Он снял с себя тело, которое быстро унесло течение. Он остался голым и легким.
Он стал рекой, скалами, воздухом, небом. Он стал всем. Его не стало…
Утром он сказал Дуське:
— Ночью я умер. Смерть не страшна.
— Во, дурень-то! Боле табе не наливаем, — щербато рассмеялась она.
Его воскресение пахло селедкой, кислятиной и сырыми окурками.
Он выпил вермута. В дрожащей утробе потеплело. Мысли поползли вбок. Страх холодной ноющей занозой все еще торчал между лопаток.
— Дусь, а еще есть? — он умоляюще взглянул на нее.
— Че, дюже тяжко?
— Дюже, Дусенька, — он смотрел на нее, как побитая собака на подобревшего хозяина.
— Ладно. Там — под подушкой.
Сергей рванулся к кровати. Извлек бутылку вермута, зубами содрал пластмассовую пробку, налил в стаканы бордовую пахучую жидкость. Выпил.
— Полегче, Серень? — Дуська по-бабьи сочувствовала.
— Сейчас, Дусь, по периферии разойдется… — Он прислушался к ощущениям внутри. — Во. Дошло. Полегчало.
В животе что-то натянулось, небольно лопнуло, затихло. Потеплело. Страх растаял.
— Сестра ты моя… милосердия… — Он уже сиял. — Знаешь, Дуськ, чеши-ка ты за добычей, а я тут пофунциклирую.
— Паразитушка ты мой ненаглядный! Ладно уж, почешу, — она вразвалку ушла, захватив четыре сетки с пустыми бутылками.
«Ну, вот и ладненько. Сейчас вымою полы, поглажусь, помоюсь и стану готовить спагетти».
Он вымыл полы, навел порядок в комнате. Принял душ. Стоял и гладил брюки через старую газету. Странно, в такие минуты даже самые тяжелые воспоминания не давили, а будто с экрана телевизора глядели на него, не задевая.
Вспомнил, как неделю назад Дуська заболела, и дома не осталось ни капли, ни крошки, ни копейки, Сергей взял самое дорогое — рукопись пьесы, сунул в карман пиджака и пошел к Миронычу.
Олег Миронович смотрел на Сергея брезгливо. Долго изучал его потертый костюм.
— Если ты, Губин, думаешь, что за давностью лет я простил тебя и возьму обратно в труппу, то ты, сударь мой, жестоко ошибаешься.
— Так. Теплый приемчик… «Мироныч порывисто приник к моей засаленной жилетке и окропил ее слезами раскаяния и детской радости. «Друг мой, — сказал он, — только ты можешь спасти наш театр от долговой ямы» ».
— Прекрати паясничать, — безразлично бросил Мироныч. — Не вижу необходимости продолжать беседу. Говори, пошто приплелся, и ступай в свою опохмеляльню.
— И ведь даже руки не подал. А я как раз намедни оттер ее с песочком.
— Долго ты будешь испытывать мое терпение? Может, вышибалу вызвать?
— Прежде взгляни на это. Издали, — Сергей вынул из кармана рукопись и показал название.
— Что?! «Лика»? Ты дописал ее? — Мироныч стал похож на гончую, взявшую след.
— Да, любезнейший. В минуты просветления. Итог, так сказать, ночных бдений. Апофеоз моей козлиной песни, трагедии, ежели по-ненашему… Золотая роза на моей трехаршинной грядке.
— Но, если это то, что от нее ожидали… Слушай, это же пять нулей после девятки на счету в швейцарском банке!
— Если ты еще веришь в мою компетенцию, то это гораздо — ты вник? — гораздо больше того, что вы от нее ожидали.
Мироныч решительно запер на ключ дверь кабинета, выставил на стол матово-пузатую бутылку «Мартеля», плеснул в хрустальные стаканы.
— Выпьем?
— Ну-ну… — Сергей вылил в рот ароматную густую жидкость. Налил до краев свой стакан и залпом выпил.
— Может, перенесем разговор в ресторан?
— Я, знаешь ли, в последнее время специализируюсь по забегаловкам. Что, заинтересовало?
— Да, недурно было бы ознакомиться…
— А потом поставить свою подпись — и на театральный Эверест?
— Фу, какой ты!
— Знаешь, а я ведь, идиот, хотел ее тебе продать за стольник.
— Да возьми хоть десять стольников! — Мироныч швырнул на стол пухлый бумажник. — Зачем она тебе? Ты же ее все равно спустишь. Как спустил библиотеку свою, хрусталь, китайский фарфор. Ты все равно пропьешь!
— Возможно. Может быть, даже сегодня. А может быть, и нет…
Сергей водил утюгом по сырой газете, с ухмылкой припоминал сначала высокомерную, потом умоляющую физиономию Мироныча. «Э, нет, старый плут, эта пьеса не для твоих цепких пальчиков. Это, может быть, все, что у меня осталось. Это я не пропью».
Театр… Слово-то какое торжественное! Блистающий мир. Аплодисменты. Овации. Любовь публики. Да, было времечко! Его выхода ожидали. Ходили не на пьесу, а на Губина.
А предложений сколько! Только крутись. Взвалил на себе и студенческий театр миниатюр, и эстраду. На телевидение приглашали. Деньги сыпались — со счета сбился.
Рестораны, бары, дачи. И всюду коньяк, шампанское… Вот-вот. С этого и началось.
Да нет. Не с этого. Тогда еще все было неплохо.
Но потом… Алешка… Его нелепая смерть так резанула по сердцу! Единственный сын, продолжатель старинного рода. Носитель надежд и традиций. Умница, красавец. Меня обожал… Все рухнуло. С ним ушла под землю половина моей души. Потом — мать. В том же году…
Потом ушла Ольга. Ну, это — закономерно. Связывал нас только сын. Меня она не любила, не понимала. Считала психом. Ей нужен был домашний пес: захотела — погладила, захотела — прогнала. А тут — неделями его нет. Все новости о муже из газет, телевизора да сплетен, коих было выше нормы.
Закономерно… Но с ней ушло все остальное. Душа опустела.
Вот тут и пришло оно — розовое, красное, белое. Винишко. Винище. Злодейка с наклейкой. И понеслось…
Не дождавшись возвращения Дуси, Губин спустился этажом ниже и толкнул дверь Вадима. Эта дверь всегда открыта. Губин, согнув спину в полупоклоне, вошел в комнату.
— Серега, налей себе чего-нибудь, — Вадим царски восседал во главе и правил застольем. За столом сидели девушка и двое мужчин. Они с интересом взглянули на Губина. — Это великий актер-трагик провинциального погорелого театра Сергей Порфирьевич Губин.
— Сергей Портвейныч, — поправил Губин и приложился к ручке девушки. Затем приложился к фужеру. — Это, безусловно, портвейн. Но какой мягкий!
— Португа-а-альский, — наставительно пропел хозяин. — Это вам не у Пронькиных. А знаете, как переводится «портвейн»? Портовое вино. Собственно — это вино амбалов. А вы знаете, что такое «амбал»? В переводе с французского — это грузчик. Знать смысл слов, не тот, что сейчас, а первоначальный, — это необходимо каждому разумному человеку. Вот, например, кто знает, что такое «попыхи»? Есть такое выражение: сделать что-то впопыхах. А вы знаете, что «попыхи» — это нижнее белье? Ну, разве это не интересно! Это семантика, это вэшчь. У нас сначала было слово!
— А потом слова, слова… — вставил Андрей, брат Вадима.
— В переводе на французский «прихожая» значит сортир; «пижон» — это голубь, голубок такой с выпяченной грудкой, — Вадим довольно похоже изобразил пижона.
— Ой, Вадим, какой ты у нас умный! — прошептала черноглазая красавица Валя.
— Турчанка меня понимает… Впрочем, об этом попозже и поподробней, пожалуйста, — закатил глазки восхищаемый.
— И когда ты только успеваешь все это читать? — девушка положила на губку прозрачную виноградину.
— А я из дома не выхожу без книги. Читаю в автобусах, трамваях, в очередях, за обедом. Чтение — это вэшчь серьезная, — поднял он к потолку толстый палец.
— Кстати, о книгах, — скрипуче встрял Губин, — купи по дешевке, — он вынул из-под свитера солидный фолиант. — Это Ницше. Обещаю, тебе понравится. Всего двадцатка.
— Хватит и пятерки. Где тут у меня дензнаки? — Вадим вынул из кармана брюк несколько мятых купюр. Выбрал самую мятую и небрежно двумя пальцами протянул Сергею.
— Спасибо, благодетель, — прошептал Губин и налил себе еще вина, — предлагаю выпить за прелестную половину человечества. Я вас люблю, рыбоньки! — обратился он к представительнице этой самой половины.
— Я тут все изучаю биографию Сашки Пушкина, — продолжал свой перманентный монолог Вадим. — Вы знаете, что его родители были братом и сестрой.
— Это что же — инцест? — Валя заерзала на стуле, переложив стройные ноги. — Кровосмешение?
— Вы знаете, что я юрист. Так вот, я сказал все юридически верно. Правда, есть и дополнение: они были троюродными братом и сестрой. Но первое, что я сказал, — правда. Сашку в семье ненавидели, его мать называла «эльфант дэнатюрель» — вроде выродка по-нашенски…
— Слушай, Вадим, вот ты якобы изучаешь Пушкина, — сверкнул из своего угла широкой лысиной молчавший до этого Олег. — Почитай что-нибудь из его стихов.
— Его стихов никто не знает! Никто. Вот ты, Олег, можешь хоть что-нибудь вспомнить? — ехидно улыбнулся хозяин пира.
— А как же? «Он из Германии туманной привез учености плоды: вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч.» Или вот еще: «Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей. Дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой». Отгадай, откуда это?
— В нашей «самой читающей стране» никто ничего не читает. Пушкина не знают.
— Так откуда этот отрывок? — умненькие глазки Олега буравили оппонента.
— Да ты знаешь, что родной брат Сашку ненавидел! Он продавал издателям рукописи, которые воровал у брата. Он о Сашке говорил одни гадости. А тот его прощал, в письмах советы добрые давал, — Вадим изобразил на раскрасневшемся лице неуемное страдание.
— Следовательно, знаток Пушкина отрывки из школьной программы, из «Евгения Онегина», не знает… — пилил Олег Вадима, ковыряя вилкой салат.
— А вы знаете, что мать Сашки брату прощала все, а Сашку ненавидела?
— Слушай, а зачем тебе вот эта грязь о великом русском поэте? — округлое лицо Олега стало жестким. — Что за садистская привычка у нашей недобитой интеллигенции, как сказал Маяковский, «рыться в окаменевшем… и тэ дэ»? Что за мания опускать гения до своего хамски-бытового уровня! Того, о чем ты сейчас говоришь, нет уже, истлело! А великий поэт Александр Пушкин жив. Как живы его образы, на которых воспитан десяток поколений. Живы и Татьяна Ларина, и Евгений Онегин, и Ибрагим, и годуновский юродивый, и Дубровский, и Петруша Гринев, и Василиса Егоровна. А язык!.. Вот недавно целый день пришлось говорить со студентами. Так уж вымарался в их сленговой тарабарщине, пришел домой и для релаксации перечитал «Капитанскую дочку»… Так вот, язык: «Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображенье». Или вот еще: «Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести».
— Образы… Это из школьно-номенклатурного жаргона, что ли? — шаловливый глаз Вадима съехал в сторону «турчанки».
— Это из Библии, дражайший. «Образ Божий», сравни с безобразием, то есть отсутствием этого самого Божественного в ком-либо или в чем-либо.
Вадим резко встал и молча потащил Олега на кухню. Некоторое время оттуда раздавались приглушенные ругательства. Сергей предположил, что они могут подраться. Валя потерла ладошки и азартно заерзала на стуле: «Люблю, когда мужики дерутся!» Грустный Андрей, молча исподлобья наблюдавший застолье, поднялся и вразвалку пошел на кухню.
Сергей обнаружил, что пить в доме нечего, и незаметно исчез.
Дома он сел за стол и стал перебирать черновики рукописей. Работа не шла. Вернулась Дуська. Принесла вина. Пожарила картошки. Выпили. Поели. Опять выпили. Дуська сбегала в магазин еще раз. Снова выпили.
…Я сижу и смотрю на стакан. Я думаю о том, что я сижу и смотрю на стакан. Я сижу и смотрю на растекающуюся лужу вермута. Я думаю об этой луже. В ней отражается галактика. В ней отражается Дуська. А ее… я… люблю. Она щербата. Глупа. Она чиста, как снег. Она наивна. Сейчас она спит. Натужный храп сотрясает нашу заболоченную гавань. Я ненавижу ее. Иногда я готов уничтожить ее. Кто ты, Дусь? Что ты? Ах, да! Ты абсолютно добра…
Я сижу за столом, заваленным мусором. Я нашел окурок подлиннее, зажег спичку, поднес к окурку. Огонек осветил мое лицо. Я всмотрелся в зеркало. Из захватанной плоскости на меня взглянуло собственное лицо. Глаза стекают на всклокоченную бороду и застывают на ней сосульками. А ведь то, что раньше было на этом месте, любили. Мать. Женщины. Раньше сия личина была ухожена. Теперь на меня лупоглазает обрюзгшая физиономия чужого человека. Я смотрю в свои глаза и вижу… Ничего я там не вижу.
Звякнуло в передней. Вошли гости. Люди. Они о чем-то спрашивали меня. Что-то говорили. О чем-то спорили. Я смотрел на них и тихо ненавидел. Их холеные пальцы больно сдавили горло. Их любопытные глаза бесстыдно изучали меня. А самое больное — они смеялись. Хохотали. И делали вид, что не надо мной. Да, я их ненавидел. Я что-то им говорил. Даже взял гитару и спел. Потом прочитал монолог. Они хлопали в ладошки, эти пришельцы из прошлого. Я стал чужим самому себе.
Ах, какие умницы! Как они восторженны, как блестящи! Кто им нужен? Я? Нет… Они просты в своем движении. «Нет проблем». Они устало-расслабленны, у них уикэнд. А я — один из пунктиков программы развлечений.
Ну, вот они и ушли. В комнате остались мы с Дуськой, дымок дорогих сигарет и кто-то еще.
Этот кто-то отделился от плывущего черного тумана и через нейтральную полосу направился в зону моих ощущений. Во! Нарисовался. Где же я видел это лицо?
— Губин, ты узнаешь меня?
— Постой-постой… Максим! Ты?
— Я, Губин, я. Сегодня прилетел. По твою душу.
— Максим! Дорогой ты мой. Добрый, славный мой Максимка! Это непостижимо. Это фантастика. Подожди… Ты не исчезай. Я сейчас буду в норме.
Сергей побежал в ванную, встал под обжигающую струю холодной воды. Туман рассеялся. Мысли запрыгали в голове, потом замерли, оставив в движении одну: «Максим! Мальчик мой. Он здесь. У меня».
Нет, Максим не исчез, он сидел за столом, в руке держал конверт. Когда Губин вошел в комнату, он протянул конверт.
— Это от Крейцера. Но ты пока не читай. Я тебе все объясню.
— Постой, Максим. Я тебя сейчас накормлю. Чаем напою. У меня была пачка индийского.
— Не суетись. Сядь, пожалуйста, — он мягко усадил Сергея. — Ну как, очнулся?
— Да.
— Ты способен выслушать меня?
— Конечно. То есть, еще нет. Я никак не пойму, как ты появился в этой клоаке? В этом болоте. Ты — и вдруг здесь! Ты почему не писал столько времени?
— Потом. Сейчас главное, что мы вместе. «Мы плечом к плечу у мачты, против тысячи — вдвоем». Помнишь? Я приехал за тобой. Отсюда я без тебя не уеду.
— Кому я нужен такой? Кто я сейчас?
— Человек все еще. А нужен ты многим. Ты даже не представляешь, как их много.
— Я слышал, ты сейчас на высоте. Большой художник.
— Да уж. Начинающий гений.
— Да нет. Кроме шуток. Тебя здорово хвалят. Значит, не зря я тебе советовал.
— Не зря, Губин. Прошел «и огни, и воды, и медные саксофоны». Все, как ты предсказывал. Все вышло по-твоему. А ты как? Совсем тебе паршиво?
— Со мной все просто. Помнишь у Высоцкого: «У каждого свой крестный путь тяжел». Так вот, мне осталось этого пути на несколько дён. Тут недавно были сигналы оттуда. — Он поднял палец. — Зовут уже. Ждут.
— Дурь. Похмельная дурь!
— Думаю, что нет. Боюсь, ты не поймешь. Ты плаваешь по океану жизни на белой яхте, а не пловцом, а уж тем паче не под водой. А там тоже мир. Темноват, холодноват, тошнехонек, но и там жизнь. Пока воздуха хватает. А уж не хватает — либо выплываешь, либо нет. Так вот, я из тех, кто уже «либо нет».
— Слушай, а ведь один человек как-то сказал мне, что никогда не поздно начать снова. И я так сделал. Бросил все, чем жил. И начал с чистого листа. Прошел «огонь и саксофоны». И вот я имею то, что хотел. Любимая работа и любимая жена. И это сказал мне ты, Губин!
— Да. Но как это было давно. Слушай, я ли это был?
— Да, Губин, ты, дорогой. Теперь моя очередь спасать тебя. Но уж не советом, а делом. Ну, а теперь читай письмо Крейцера.
— Я боюсь…
— Читай, читай. Все уже решено. Это только констатация.
Старина Губин!
Судьбе угодно снова свести нас в одночасье. Захаживал в наш театр Ваш друг Максим. Его декорации сейчас нарасхват. Рассказал о Вашей трагедии, о том, что Вы не у дел. Печально все это, печально. Но все не так уж фатально, если есть Пьеса. Намеренно пишу с прописной буквы, ибо уверен в таланте написавшего ее. Кто меня убедил? Конечно, Максим. Он наизусть пересказал мне ее. Это тот материал, который необходим сейчас нашей сцене. Вот поэтому — мое предложение.
Срочно приезжайте сюда. Вы ставите в нашем театре свою пьесу, играете в ней роль Чарова. Этим спектаклем мы откроем следующий сезон. Зная Вас по прошлым совместным работам, я не сомневаюсь в успехе.
Прошу Вас не отказать. Искренне уважающий Вас
Семен Крейцер.
Последнюю строчку письма Губину помешали прочесть слезы. Рыдания хрипло вырвались из горла.
Когда они успокоились, Губин сказал:
— Даже если ничего у меня не получится, я поеду. Если есть надежда — я живу! А ты знаешь, я ведь серьезно помирать уж собрался. И вдруг ты…
— Да причем здесь я? Это ты написал пьесу. И как написал! Ты меня спас от разложения бытом. Это все — твой талант и твоя душа. Когда ты был на гребне, ты не возгордился, делился всем, что имел. У тебя было столько учеников и друзей.
— Ученики разбежались, друзья предали.
— Как видишь, не все.
— Максим, ты спаситель. Ты добрый и бескорыстный. И ты пришел спасти меня.
— Ну, не такой уж и бескорыстный… Я надеюсь к твоему спектаклю делать декорации. И надеюсь иметь еще больший успех.
— Ты его будешь иметь. Или я не Губин! — он ударил кулаком по столу. Задумался, улыбаясь. — Но Крейцер! Святая душа. Помнит ведь, как мы делали с ним один маленький шедевр.
— Как забыть, если с вашим «маленьким шедевром» он объездил всю большую заграницу. И до сих пор стрижет купоны. Таких альтруистов от искусства, как ты, увы, единицы. А как твой Иван? Он большой умница! Это ведь он впервые заметил мою мазню и показал тебе в тот самый вечер.
— Иван заходит. Иногда. — Губин вздохнул. — Не пьет, а опьянен. Самодоволен. Преуспевающ. Работы меняет, жен, друзей. Талантов много, все давалось легко. Успешно выставлялся. Издал пару хороших книг. Поставил недурную эстрадную программу. Но вот порастратился. Поистаскался. Фонтан захлебнулся от избытка собственной воды. Сейчас он администратор. Говорят, неплохой. Там сейчас самовыражается. Хвалят.
— Не зайдем к нему завтра?
— Сейчас он на югах. Повез туда передвижную выставку. Ну, ладно… Твоя-то выставка как? Слышал, и ругали, и хвалили?
— Больше ругали. Там я выставил «Натюрморт в лицах». Его ругали. Вокруг него весь ажиотаж и состоялся. Кто понимал — немел, и их слышно не было. Кто не понимал — осуждал. Это проще. Это безопасней. Друзья просто жали руку и уходили. Один сказал, что это рановато для нашего времени. И то, что не поняли, это естественное следствие. Вот так. Надо было придержать взаперти, подождать, пока они дозреют. Сейчас таких полотен с десяток. И все ждут своего зрителя.
— Баха поняли через сто лет.
— Что ж, подождем еще девяносто семь.
— Максим, дорогой!.. — Губин заплакал. Слезы катились и катились по его небритым щекам.
— Поплачь, Губин, станет легче.
— Да мне никогда еще не было так легко и светло. Я уже вижу зал, сцену, твои декорации. Вижу своего Чарова, его жесты, реплики, монологи. Ренессанс… Неужто это явь? А я уж помирать…
Ренессанс состоялся. Все тогда было: и аншлаги, и гастроли по стране и за границей, и деньги, и слава, и почести. И женщины.
А одна из женщин увлекла Губина и даже сумела на себе женить. Он поначалу так очаровался своей Танюшкой, что перестал слышать и голоса друзей, и голос собственной совести. Когда наступило любовное похмелье, «ее вампираторское величество Татьяна» успела прописать в квартиру Губина и себя, и свою шестнадцатилетнюю дочь Аню, тихую, даже несколько забитую девушку.
И вот наступило время, когда Губин понял, что его обманули, как мальчишку. Два года спавший в душе враг снова проснулся. Губин стал сначала потихоньку выпивать, потом впал в запой такой разрушительной силы, что его последствия так и не смог исчерпать до конца. За несколько месяцев он потерял все.
Его выгнали из театра, из собственного дома, и определили на два года в ЛТП[2]. Перед посадкой Губин обошел всех жильцов своего дома и собрал больше сотни подписей под письмом в милицию. В этом письме говорилось, что Губин за долгие годы не обидел ни одного человека в доме. Письмо это вам могут и сейчас показать в ближайшем отделении милиции как документ уникальный по своей наивной беззащитности.
В ЛТП у Губина появилось много свободного времени. Его как «человека культурного» поставили библиотекарем. Появилась даже своя «келья». Он стал писать письма друзьям. Всем, кроме тех, которым никак нельзя говорить о пребывании в столь позорном месте.
Ответы приходили далеко не от всех его адресатов. Писал Вадим. Он всегда откликался на беду и получал удовольствие от общения с людьми, которым еще хуже, чем ему. Поэтому его любимым вопросом был «Что, тебе плохо?», а любимым замечанием — «Что-то ты плохо выглядишь!» В своих письмах Вадим рассказал о своем неудачном, третьем по счету, браке. Описывал, как очаровательная «турчанка» Валя превратилась «сначала в стерву, а потом и в шлюху», а он как человек русский, а стало быть, домостроевец терпеть не стал. Вадим благодарил Губина за книгу Ницше. Идея сверхчеловека пришлась ему по душе. Он самозабвенно цитировал богоборческие сентенции великого гордеца и обильно поливал желчью страницы своих писем.
Но вот он вдруг получил «вкусняцкую эпистоль» от Андрея, двоюродного брата Вадима, который частенько у того появлялся в гостях. Писал он из Подмосковья, куда распределился после окончания института. От перемены условий жизни, места, среды Андрей подзагрустил, поэтому его письма звали к анализу и философии. Они размышляли вместе. О чем? О судьбах, о правде, о добре и зле. Объем их еженедельных посланий доходил порой до двадцати страниц. Оба нашли в переписке отдушину. Каждый отбывал свое заключение. Тогда у них впервые появились размышления о Боге. Они пришли к пониманию того, что без Бога жизнь на земле бессмысленна. Переписка прервалась освобождением Губина.
Дома Сергея ожидала неприятная картина. В его квартире хозяйничали чужие люди. «Танюшка его возлюбленная» жила с мужчиной. Дочь ее Аня вышла замуж за здоровенного спортсмена и прижилась тут же. Хозяину квартиры жить здесь было негде. Его попросту выгнали из дому и посоветовали больше не появляться. Спортсмен для большей убедительности двинул Губина в живот, пребольно двинул.
Губин пошел к тетке. Та приютила его, выделив раскладушку в чулане. Как-то раз к тетке пришел в гости ее сын Антон. Обнаружив Губина, он обрадовался и предложил «сообща усладить уста зеленым змием», а также «небрежно раскидать по эшафоту стола заграничные яства». Губин поначалу «закапризничал», потом по-мужицки хлопнул шапкой об пол и опрокинул первый стакан в рот. Потом второй. Пила с ними и «ихова махонькая тетушка». Она слезно «лупоглазала» на них, жалела Губина, жалела Антона, жалела свою тяжелую беспросветную жизнь, в которой «все не как-то».
Антон, выслушав историю выселения Сергея, пришел в ярость. Они «усладили уста еще парой стаканищ» и под командирское «За мной!» пошли в квартиру Губина выгонять постояльцев. Кончилась вся эта операция в отделении милиции, куда их сдали трезвые и законно прописанные там жильцы. Антона тут же отпустили, взглянув на его рабочее удостоверение. Губина же посадили в ЛТП на следующие два года.
И снова возобновилась переписка между Андреем и Губиным.
«Андреища» уже женился и переехал в Москву, стал начальником. Только вот, несмотря на кажущееся преуспевание, письма его по-прежнему полнились философией и обличениями «мира падшего». Как-то он выслал Губину пару своих рассказов. Тот прочел их в один присест, но в своем ответе выдал такую разгромную рецензию, что Андрей долго не мог утихомирить обиду. Губин понял тогда, что перегнул палку, незаслуженно обидев друга. Засел за оправдательное письмище, в котором укорял себя за «грязную похабень» и «аспидную» зависть, которую всколыхнули эти рассказы. Сам-то Губин уже давно ничего не творил. Он читал, думал и писал «эпистолы».
Здесь, в одиночестве, в приходящей по ночам тишине Губин понял, почему лицедейство в Православии считается грехом. Это прояснилось, когда записал на лист бумаги поступки и характеристики всех актеров, с которыми ему довелось вместе работать. Все они вдруг показались ему глубоко больными и несчастными людьми с явным креном в психике. Пьянство и половые извращения настигали тех, кого обошли зависть, интриганство, болезненное самолюбие и самолюбование. Он вспомнил, как на его памяти нежные, как цветок, девушки превращались в развратных завистливых ненавистниц всего живого. Играли они уже не только на сцене, но и в жизни, постоянно. И сами не знали, где в них правда, а где ложь. Юноши превращались в капризных девиц сначала по характеру, потом и по «ориентации». Редко кому удавалось не потерять в себе личность. Такие блистали на сцене, но недолго. Их сразу забирали в столицу. Позже, когда Губин осмысливал для очередного письма Андрею, «что есть грех и какие разновидности он может принимать», он понял, что в основе лицедейства лежит смертный грех под именем блуд, густо приправленный тщеславием.
Тогда волна перестройки намного ослабила строгость режима содержания в ЛТП. Губин в один из воскресных отпусков купил Библию и зачитывался святой книгой, погружаясь в мир вечной истины. Простые слова Христа, обыденные — на первый взгляд — притчи, поэтические строки псалмов и пророчеств буквально взрывали его сознание. Гранит привычных «истин» рассыпался в песок. Страх чередовался с восторгом, и все это озарялось всполохами открытий, когда от прочитанного слова замираешь, останавливается дыхание, наступает тишина, а потом вдруг — молния! — и прозрение. Дошло.
Конечно, для православных, впитавших веру с молоком матери, его открытия показались бы повседневностью их «невидимой брани». Но для него, воспитанного коммунистами, истины Христа становились подобными землетрясению. Он не понимал, как же такое могло сразу и бесповоротно вызывать в нем абсолютное доверие. Почему он не отрицал, не боролся с невыгодными для нормальных людей истинами, где нищета — благо, а богатство — вред, но сразу принимал их как руководство к действию для немедленного применения в жизни.
Сначала он их принимал, открывал им «кредит доверия» в душе, а только после осмысливал их и пытался анализировать. Кстати, последнее не всегда получалось. Сознание и опыт давали сбой. Он понял, что подошел к тому пределу, за которым анализ не только бесполезен, а попросту вреден. Ну, не способен человек перешагнуть этот барьер, слишком его инструментарий слаб и ограничен. Истина дается нам в том объеме, который необходим лишь для исправления собственных ошибок. И этого вполне достаточно.
И еще один вопрос не давал ему покоя: почему раньше все это проходило мимо него? Как случилось, что он оказался за бортом этой тысячелетней реальности? С этим вопросом он обратился в письме к Андрею. Тот ответил, что, скорее всего, для принятия истин такого масштаба нужна определенная готовность сознания: или детская чистота, или опыт страданий. Так как первую стадию мы уже неблагополучно миновали, то остается второе. Самодовольным и эгоистичным истины этого порядка недоступны. Для таких «тьмы низких истин дороже их возвышающий обман». Возвышающий. Любовь к себе, любимому, затмевает истину, творимую в немощи, растворяющей «я» в океане Божественной благодати.
Со страхом теперь Губин ожидал своего освобождения. Куда ему податься? Андрей звал в столицу, писал, что одна из его сотрудниц прониклась сочувствием к Губину и хочет оказать покровительство. Передала даже через Андрея свою фотографию. Губин смотрел на округлое полногубое лицо с кокетливой улыбкой, а память навязывала ему перекошенное от злобы лицо «его Танюшки» с малюсенькими колючими глазками. Лицо Симы нравилось, но что-то в нем подсознательно напрягало. Только вот что?.. Ладно, думал он, выйдем на волю и разберемся не спеша с «Луноликой».
Столица шокировала его невиданным размахом уличной торговли и какой-то опьяняющей вседозволенностью. Губину постоянно казалось, что вокруг текут деньги миллионами и это все надо брать. Брать сейчас, а то опоздаешь. Он быстро объездил знакомых и понял, что все торгуют: по телефону или на улицах. Даже Андрей дома и на работе что-то кому-то предлагал купить какими-то жуткими партиями.
Губин заявился к Андрею в пятницу вечером. Супруга его с дитем уехала на выходные к маме, и они беспрепятственно предались дружеской пирушке. В воскресенье Андрей объявил, что пить он не будет, так как завтра на работу. Губин стал канючить и вынудил Андрея купить бутылку и опохмелить его. После этой процедуры хозяин потащил его на улицу погулять, чтобы выветрить из квартиры пары перегара.
На прогулке они зашли в частную парикмахерскую и под звуки расслабляющей музыки долго нежились в ласкающих ладонях девушек-мастеров. Губин благодушно стал вещать о своих знакомствах в высоких кругах. Сквозь легкую дрему Андрей слышал: «Сергей Образцов любил со мной посоветоваться. Великий метр всегда зазывал в гости, когда я с гастролей заезжал сюда. Да… С Высоцким Володей тоже бывал в его квартире на Грузинской. Ох, бывало, мы с ним и давали шороху! Маринка буквально испепеляла меня раскосыми очами. А Фурцева! Ох, уж мы с ней приударили как-то в американском посольстве. А потом поссорились. Я ей стишки Женькины процитировал про нее, ну, она и разобиделась. А я-то думал ей польстить».
Мастерица, холившая Губина, расстаралась: из кресла встал и солидно пригладил волосы вальяжный господин с седоватой бородкой, отдаленно напоминающий Хемингуэя, поцеловал «столь нежную, но умелую ручку», приосанился и вышел из зала так, будто за этими душистыми стенами его ждала толпа надоедливых репортеров.
Вечером Андрей выдал ему деньги на билет до дома, и они простились. Но утром в офис на Тверской ввалился полупьяный Губин и сказал, что на вокзале встретил друзей из «мира Терпсихоры» и ему пришлось войти в долю по оплате ресторанного счета. Да и некуда ему ехать, он хочет остаться здесь, потому что его здесь любят и помнят. А сейчас он выпьет кофе и пойдет в гости к Образцову, который живет в соседнем доме. Андрей указал ему на наличие густого перегара и помятость одежды, но Губин поднял на друга мутно-красные глаза и изрек: «Мы, засушенные деятели изящных искусств, не обращаем внимания на такие низменные и пошлые мелочи!»
Через пару часов Губин вернулся из гостей. Опустился в кресло напротив Андрея и грустно уставился в пол.
— Метр сказал мне: «Сергей Порфирьевич, вы о-оч-чень уста-али!»
— Что в переводе со светского на обычный бытовой язык означает: наклюкался же ты, пьяница горький, и еще в порядочный дом завалился!
— Да, печальная была беседа.
— Ну, и — выводы?
— Дай денег, я напиться хочу.
— Это ты брось. На вино больше не получишь. Отправляйся в красный уголок и проспись. А после работы мы пойдем в гости к твоей Луноликой.
— Послушай, а это идея!
В первый же вечер их встречи Андрей печально сообщил, что его Луноликая «сломалась». Выиграла в канадскую лотерею компьютер, продала его за большие деньги и запила. Раньше она в пьянстве замечена не была и, будучи начальником отдела, ругала подчиненных за пьянку, увольняла безжалостно. И вот теперь уволили ее, также безжалостно.
Вечером они поехали к Симе в гости. Она встретила их шумно и сразу потащила в комнату, где ожидал гостей богато накрытый стол. Андрей посидел немного и уехал домой. Губин остался и усиленно топил в вине свои самые страшные подозрения: безо всякого сомнения, Сима — алкоголичка. То, что на фото сквозило намеком, сейчас на ее лице выступило совершенно явно. Она все настойчивей намекала на более тесное сближение, Губин понимал неотвратимость этого события и все больше напивался.
…Поздняя ночь. Сергей сидел за столом и наблюдал за растекающейся по скатерти лужей. Только что он потянулся за стаканом, и непослушная рука опрокинула бутылку коньяку.
Он наблюдал за лужей и думал: «Вот я смотрю на лужу», он смотрел на тарелку с остатками растерзанной курицы и думал: «На тарелке курица».
Тяжелый воздух комнаты сотрясал богатырский храп Симы. Сергей взял пластмассовую пробку и швырнул в ее распахнутый рот. Пробка угодила в лоб. Сима грузно перевалилась на бок. Теперь она только сопела.
Он сосредоточил все внимание на движении руки, дотянулся до бутылки и налил в стакан еще коньяку. Выпил. Мысли поползли вбок. Он вынул из пачки сигарету и закурил. Где он? Зачем? Сколько времени он здесь? Кто там храпит? Ах, да! Луноликая. Она добрая и несчастная. Мы с ней пара. Мы похожи.
Пространство потекло, как струи воды. Он хотел удержаться за край стола, но тот стал мягким, как кисель. Эти упругие струи понесли его в неведомое. Он быстро пролетел сквозь фиолетовую пургу и остановился где-то в центре космоса. Вокруг сверкали и закручивались винтом галактики. Впереди стояла непроглядная тьма, оттуда несло холодом и смрадом. Вот из безжизненной тьмы выступили горящие синевой глаза. Они смотрели глубоко в душу.
— Кто ты? — выдохнул Губин.
— Я твой друг. Я тот, кто успокаивает тебя. Кто не дает тебе сойти с ума в этом жестоком мире, — раздался трубный глас.
— Ты ангел?
— Да, самый главный. Самый верховный.
— Спаси меня, ангел. Я пропадаю.
— Я здесь именно для этого.
— Господи! Как я рад! Наконец-то.
Раздался гулкий рокот. Глаза на некоторое время пропали из виду. Из тьмы сильно пахнуло упругим порывом ледяного холода. Но вот опять все успокоилось, и глаза снова загорелись в темноте.
— Не говори так больше, если хочешь моей помощи, — снова раздался рокочущий глас.
Страх пронзил Губина. Он понял, с кем сейчас говорит. И тогда сильный крик его потряс мрак космоса:
— Господи Иисусе Христе! Спаси меня, грешного!
Тут же пропал космос, растворились звезды с винтовыми галактиками и фиолетовая смердящая тьма. Сергей оказался на линолеумном полу в комнате Симы. Он сел и вытер с лица горячие капли едкого пота. «Так! Все понятно! Мне все понятно… Спокойно. Все будет хорошо. Ой, что-то сердце так зажало. Больно. Надо опохмелиться. Нет. Нельзя. Хватит. Да немного. Совсем чуть-чуть, а? Чтобы поправить здоровье. А вот завтра завяжу. Правда, завяжу. Навсегда!»
Он налил немного коньяку и выпил. Дрожь утихла. Боль в сердце отпустила. Полегчало. Он закурил. Посмотрел в окно. Там занималась заря нового дня. Появились первые собачники. Дворник заширкал метлой. «Ну, вот я уже и не один. А что, если еще чуть-чуть? Для закрепления успеха выздоровления, так сказать». Он плеснул себе еще. Выпил. Ну, совсем захорошело! Кажется, и на этот раз пронесло. Он нетвердо доплелся до дивана и осторожно прилег. Сон мягко окутал его кашемировым пледом, и на этот раз он уснул без сновидений.
Поздним утром его разбудил резкий звонок телефона. Громко спящая Сима на звонок никак не отреагировала. Тогда Сергей тяжело встал и поднял трубку. Оттуда раздалось знакомое:
— Губин, я подумал и решил, что лучше тебе оттуда бежать. Прямо сейчас. Это болото тебя засосет.
— А куда?
— Ну, ведь есть же у тебя здесь какая-то тетка. Поживи у нее пока, а там чего-нибудь придумаем.
— Нет, Андреища, видно, у меня такая судьбинушка — тонуть с тонущими. Я попробую Симу отрезвить. Может, мы с ней вместе выплывем.
— Прекрати! Вместе погибнете!
— Не шуми. Здесь я тебя поопытней буду. Не волнуйся за меня.
Губин положил трубку и снова потянулся за коньяком.
Несколько недель он жил с Симой. Губин с ее помощью закупал в магазинах масло, икру, сигареты и водку. Возил все это ящиками в Нижний и сдавал в магазины знакомым продавщицам. Появились собственные деньги. Он приоделся, купил даже несколько уникальных книг. Только вот читать их стало совсем некогда. Стихия рынка поглощала все время. Правда, на коньяк время все-таки находилось. Когда он возвращался из Нижнего в Москву, они с Симой устраивали праздники «а ля гурмэ».
Сердце Сергей не жалел. Оно все чаще напоминало о себе тупыми болями. Иногда прихватывало так, что не вздохнуть. Он превозмогал приступ и продолжал терзать свое сердце.
В Нижнем Сергея потянуло заглянуть в свою квартиру. Взял пару бутылок коньяку для мировой и постучал в дверь. Вышел спортсмен и сразу ткнул кулаком в лицо Губина. Тот рухнул перед захлопнувшейся дверью, звякнули в пакете бутылки, и густая коньячная дурь растеклась в спертом воздухе, настоянном на прокисших окурках и кошачьих страданиях. От сильнейшей обиды и подлого удара сердце сжало стальной рукой. Он встал, превозмогая боль, и по шершавой стене пополз этажом выше к квартире Вадима. Перед глазами сигнальными ракетами поплыли сверкающие точки. По выщербленным ступеням вслед за ним тянулся след от разлитого коньяка и крови, обильно капавшей из разбитого носа. Ну, вот и дверь Вадима, как всегда, приоткрыта. Все же надо бы позвонить! После громкого звонка дверь открылась, из темноты вынырнула недовольная физиономия Вадима. Он брезгливо посмотрел на окровавленное лицо Губина, понюхал воздух, грязно выругался и с треском закрыл перед Сергеем дверь. Тело его разом обмякло, и он до темноты просидел на ступенях, плача и молясь. Глубокой ночью боль в сердце утихла, он вытер платком лицо и, пошатываясь, вышел в ночную темень. Кое-как поймал такси и сразу укатил на вокзал. В Москву, к Симе! Там его не прогонят, там его ждут…
Андрей иногда приезжал к ним в гости, тоже напивался, но их темпа и объемов потребления спиртного не выдерживал и «сходил с дистанции на первом же круге». Андрей за время своего начальства заимел хроническую язву желудка, и она сдерживала его во многих вещах, как то: спиртное, жирное, острое, курение.
В один не очень прекрасный день у Губина опять прихватило сердце. Он лежал на диване, отхлебывая из стакана коньяк. Сима сидела рядом и, по-бабьи подперев рыхлыми руками обрюзгшее лицо, сочувствовала сожителю. Влетел к ним Андрей, шумный и веселый:
— Все, господа, я начал новую жизнь!
— Уволился? Или от жены ушел? — страдальчески поморщился от шума Сергей.
— Гораздо лучше! Бросил пить. Только что от нарколога — и сразу к тебе, Губин. И к тебе, Серафима. Словом, «делай, как я, делай лучше меня».
— Во, дурачок, последней радости себя лишил, — протянула Сима.
— Да какая же это радость? Гадость одна.
— Ну и пошел отсюда! Ты нам больше не товарищ! — рявкнула Сима.
— Успокойтесь, вы оба, не шумите, ради… Голова трещит, сердце барахлит, вы еще тут кричите. Как бросил, так и начнешь. Я уж сколько раз бросал, а что толку?
— Нет, на этот раз не начну. Я ведь целый год с собой боролся. За этот год, Губин, я сделал большую работу: во-первых, я признал себя алкоголиком. А это, я вам скажу, очень непросто. Во-вторых, я понял, что это болезнь. В-третьих, я нашел врача и решился на лечение. В сущности, врач только поставил последнюю точку в этой эпопее.
После разговора с Андреем Губин задумался о себе. Первой мыслью было пойти по стопам друга. Да! Пойти к наркологу и отдать себя в его волосатые руки. Пойти! Он несколько дней носил в себе это. «Мыслища сия умная» даже согревала его, вселяла освежающую надежду. Но тут же появлялись и другие мыслишки. Они назойливо витали вокруг, потом одна за другой влетали в сознание. «Да какой же я алкоголик, ведь я в любой день могу завязать. Другие вон пьют побольше и ничего. Я-то умею пить. Ну, конечно, бывают иногда переборы. Но у кого их не бывает! В конце концов, русский я или кто! А русские должны пить, это наша национальная черта, наша судьба, наш рок. Нет, погожу пока. Вот прижмет, вот ужо клюнет жареный на гриле петух в соответствующее стартовое место — тогда уж можно и к наркологу». Эти мыслишки успокаивали — и он продолжал обычную пьяную жизнь.
С Андреем же продолжали происходить метаморфозы. Он вернулся к своему писательству. Засел за роман, которым грозил разродиться еще в общежитии. Стал много читать. Но вот однажды признался Губину наедине, чтобы не слышала Сима, что стал посещать храм: выстаивает воскресные службы, исповедуется и даже принимал Причастие. О своей первой исповеди он рассказывал несколько раз. Она его «просто перелопатила». Оказывается, Церковь осуждает лечение у наркологов методом кодирования и считает это грехом. Андрей даже поспорил об этом со священником. Он говорил ему, что ведь именно после отрезвления и благодаря этому он пришел в храм. Но отец Виктор был непреклонен и грех этот ему не отпускал.
Тогда Андрей пошел к своему наркологу и рассказал ему о своем горе. Тот его успокоил: не все священники понимают суть его метода. И все современные методы лечения называют кодированием или гипнозом. А он использует рефлексотерапию. Более того, к нему направляют своих прихожан священники из нескольких московских храмов. Более того, он был у одного из знаменитых иереев из монастыря, и тот даже благословил его деятельность и просил возглавить при монастыре наркологический центр. Андрей снова пошел к своему священнику и рассказал о встрече с наркологом. Тот внимательно выслушал и повторил, что это грех, и пока Андрей не признает его и не раскается, он этот грех отпустить не может. Андрей пошел тогда в другой храм и на исповеди поведал о своей проблеме другому священнику. Выслушав его, молодой батюшка строго настоял, чтобы Андрей вернулся к своему духовнику и закончил начатое с ним. И еще отругал за гордыню и метания по храмам. Андрей снова вернулся к отцу Виктору, просил прощения и раскаялся в своей гордыне. Когда он вышел из храма, то понял, насколько же это здорово — отпущение грехов. В том месте души, где жила ноющая заноза, стало чисто и спокойно.
Заезжал к нему командированный Вадим. Попытался Андрей поделиться с ним своей радостью, но в ответ получил такой заряд желчи, что долго не мог отмыться. Вадим принялся издеваться над исповедью и стремлением к кротости и смирению: «Что ты все к батюшкам ходишь-то? Да ты сам уже давно батюшка. Ха-ха. А «кротость» происходит от слова «крот», ты не находишь? Хи-хи-хи. А я вот думаю, возможно было бы процветание Запада с Православием? Нет, только с прагматичным протестантизмом!» А когда Андрей за столом предложил помолиться, Вадим рассказал, обращаясь к жене и дочке, пошлый анекдот. И снова гаденькие «хи-хи» и «ха-ха». О Боже! Прости его, ибо не ведает, что творит. Хотя ведает, ведь всю Библию прочел. Тогда тем более, прости его, Господи, по великой милости Своей.
Еще Андрей рассказал, что к нему обратился его приятель Руслан с просьбой взять на работу. Руслан пожаловался, что после лечения у нарколога и полугода трезвой жизни он из-за ссоры с женой, в отместку ей, купил в ларьке бутылку водки и так сильно отравился, что оказался в больнице в реанимации. Пролежал там полтора месяца с опухшими ногами, несколько раз уже прощался с жизнью, во время комы видел ангелов, раскрытые ворота и свет из того мира, что за воротами. Андрей посоветовал Руслану обратиться насчет работы в церковь. Сказал-то вроде без особой надежды, по наитию. Но вот Руслан действительно обошел несколько храмов, и в одном из них его очень хорошо приняли и предложили заняться реставрацией. Теперь он при церкви, при работе, и даже деньги какие-то появились.
Губин слушал очень внимательно и радовался, конечно, успехам своего друга. Но вот только при этом чувствовал, как в глубине души зарождалась ма-ахонькая такая зависть. Сам-то Губин обходил церкви стороной. А если и заставлял себя зайти внутрь, то ощущал свою чужеродность на этом празднике веры и даже какую-то вину, что вот он, пьяница и грешник, вошел в святое место.
Как-то Андрей принес свой рассказ и просил оценить. Губин тогда целый день суетился и о рассказе вспомнил уже поздно ночью. Взял его с собой на кухню, налил коньяку и засел читать. Дочитав до половины, Губин отложил рассказ и пытался разобраться в своих чувствах. Ну почему? Почему все, что написал Андрей, находит в его душе раздражение? Подумаешь, рассказ! Да что он, не читывал их, что ли? Но вот именно Андреевские так ранят его. Тогда он налил себе еще коньяку и поставил перед собой телефон. Заглянул в комнату. Там мирно похрапывала сожительница. Ее распахнутый рот вызвал в нем сильную волну раздражения.
Часы показывали полвторого ночи. Андрей говорил, что по ночам пишет. Вот сейчас и проверим. После двух длинных гудков Андрей ответил:
— Что, Губин, и тебе не спится?
— А откуда знаешь, что я?
— Да определитель показал твой номер.
— А… Читал сейчас твой рассказ.
— Я так и понял.
— Понятливый ты наш… Не понравился он мне, вот что! Зачем это все? Ах, соблазнили его, маленького! Да ты сам этого хотел. Подумаешь, у него романы были! Да у нас оне тоже водились, может, даже и поболе. — Губин сам удивился визгливости своего голоса.
— Постой, постой. Ты хоть до конца-то его дочитал?
— Дочитал, конечно…
— Что ж ты не понял, что это прощание? Со всем этим миром. И с женщинами как одним из источников удовольствий и надежд на счастье земное. Это все! Моя жизнь плавно переходит в новое состояние «монастыря в миру».
— Со мной тоже все? — сипло выдавил Губин.
— Твоя келья — соседняя справа.
— Алкаш — и в монастырь! Да я в миру по-человечески жить не научился. В церковь ходить не могу: страшно и стыдно!
— А вот это зря. Страшно там, где Бога нет, а в храме Он с нами постоянно. «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с вами пребуду». А что касается стыда, то это стыд ложный. Кому, как не несчастному и страдающему, открыты двери храма. Христос сказал, что Он пришел не к здоровым, а к больным. Так что скоро ты войдешь туда. И уже навсегда.
— Откуда такая уверенность?
— Не знаю. Только уверен в этом, и все тут. Зря, что ли, ты Библию читал? Зря, что ли, письма такие красивые выписывал?
— Да это был другой человек. Мы с тем вторым отличаемся степенью свободы.
— Там, в застенках, ты был свободней.
— Эх, Андреища, раззадорил ты меня! Я сейчас тоже засяду за лист. У меня давно один сюжетец вертится в голове.
Губин положил трубку, достал с полки свои старые рукописи. Там были залежи «умных мыслищ» и «накидки-нашвырки» — черновые наброски будущих шедевров. Он перебирал листочки, исписанные красивым завитушным почерком, и думал, до чего же хорошо, что он их не выбросил. А ведь бывали такие намерения. Бывали.
Сергей положил перед собой чистый лист бумаги, взял ручку и призадумался. Выпил еще коньяку. Опять думал. Заварил крепкого кофе, выпил. Снова думал. Но лист так и остался чистым.
Повторил он этот эксперимент и на следующий вечер. Но муза так и не заглянула в гости. Он понял, что раздражение было следствием его собственного творческого застоя. Душа зябко молчала. Вернее, то, что из нее исходило, напоминало тот смердящий мрак, который ему снился. «Да ладно тебе, брось, все это ерунда», — прозвучало из нутра. Тогда он вынул из холодильника копченой колбаски, сырку, пахучей зеленюшечки, потненький помидорчик. Порезал и разложил на тарелке. Поставил перед собой целую бутылку коньяка…
Утром Сима зашла на кухню и обнаружила своего Сереженьку молча сидящим за столом и уныло «лупоглазающим» в окно. Две пустые бутылки из-под коньяка стояли перед ним. Одна рука теребила седую бородку, другая выводила на бумаге каракули. Серафима присела рядом и погладила его большую голову. Он поднял на нее усталые красные глаза.
— Рыбонька, выпить хочешь?
— А что, осталось разве чего?
— А я ночью сбегал, — он поднял с пола пакет и продемонстрировал десяток бутылок портвейна. — Вот, что-то на портвейн опять потянуло. Меня ведь раньше Портвейнычем прозывали.
— Значит, по стакану — и в школу не пойдем? — обрадовалась Сима.
— Со школой, кажется, покончили…
Повеселевшая сожительница приняла стакан портвейна и взялась жарить куриные ноги.
— Серень, ты расскажи опять про свою театральную жизнь. Очень я это люблю слушать.
Губин в который раз погрузился в воспоминания своих лицедейских похождений. А рассказывать он и любил, и умел. Он изображал знаменитых людей, с которыми вместе играл. Имитировал их мимику, жесты и голоса. Припоминал забавные мелочи, потешные сценки, случайные смешные фразы. Сима хохотала, а он думал про себя: почему же на бумагу это никак не ложится? Почему, как писать, так сразу — ступор какой-то. Зашла на минутку соседка, да так и осталась сидеть с ними, не в силах оторваться от Губинского спектакля. А он разошелся! Надел новый костюм, прицепил бабочку в горошек, жестикулировал, говорил, изображал, пил, закусывал, снова актерствовал и снова пил.
Сергей сидел за столом и наблюдал за растекающейся по клеенке лужей. Только что он потянулся за стаканом, и непослушная рука опрокинула бутылку с остатками портвейна.
Он наблюдал за лужей и думал: «Вот я смотрю на лужу», смотрел на тарелку с остатками растерзанной курицы и думал: «На тарелке курица».
Тяжелый воздух комнаты сотрясал богатырский храп Симы. Сергей взял пластмассовую пробку и швырнул в ее распахнутый рот. Пробка угодила в лоб. Сима грузно перевалилась на бок. Теперь она только сопела.
Сергей достал из сумки последнюю бутылку портвейна, налил в сальный стакан, выпил. Из вонючей горы мусора на клеенке выковырял окурок. Закурил. За окном уже светало. Скоро появится дворник с ширкающей метлой. В ушах сипло звенело. Сердце громко бухало в груди, все громче и громче. Вот грохот приостановился — и боль, нарастающая тупая боль сдавила сердце. В глазах сигнальными ракетами поплыли сверкающие точки. Дыхание стало прерывистым. Холодный страх ударил в голову и растекся по сдавленной болью груди.
В глазах потемнело, и из затхлого мрака высветились синевой злые глаза. Трубный глас пророкотал:
— Вот ты и пришел снова ко мне. Жить хочешь, наверное?
— Хочу!
— Отрекись от Бога, и я спасу тебя. Я успокою тебя. У тебя будут здоровье, деньги и слава, красивые женщины и роскошные машины. Я все сделаю так, как ты хочешь. Только отрекись от Него.
В этот миг он увидел сразу все: могилы сына и матери, пустую сцену театра, спящую со своим мужиком Танюшку, Симу, Андрея, Вадима, Максима за столом казино, незнакомую красивую женщину и сверкающую белую длинную машину. И среди всего этого калейдоскопа — махонькую церковку и батюшку на ее пороге, открывающего тяжелую дубовую дверь. Он из последних сил набрал воздуха в грудь, стиснутую болью и страхом, и крикнул:
— Господи! Иисусе Христе! Помилуй меня грешного!
В тот же миг исчезли злые глаза, и рассеялся мрак. Осталась боль в груди.
…И встал он! И нетвердыми ногами, как в густом мазуте, поплелся к двери. Вышел из квартиры, добрался до лифта, спустился вниз и, тяжело передвигая ноги, качаясь, с хриплым стоном превозмогая давящую боль в сердце, зашагал по пустой гулкой улице. Он не знал, куда идет, только был уверен, что идти надо. Каждый шаг отдавался болью во всем теле. Струи горячего пота жгли лицо и катились по согнутой спине. В воспаленном мозгу пульсировала одна мысль: «Только бы успеть, только бы дойти».
Сколько времени он плелся, сколько шагов тупой болью ударили в горящую грудь — он не знал. За углом сине-белого здания двенадцатиэтажки сверкнул золотой купол церковки. Вот куда он шел! Всю жизнь свою никчемную шел. Вот в эту «махонькую церковку».
Силы его с каждым шагом таяли, в голове мутилось. Боль нарастала. Он по стене, обдирая руки и щеку в кровь об иссеченный временем кирпич церковной ограды, полз к воротам. Мимо него прошли старушки. Они укоризненно качали головками и шептали что-то. Губин разобрал одно лишь слово «пьяный». Он пытался попросить у них помощи, но из высохшего рта вырвалось только сипение. Сергей понял, что помощи не будет. Он должен дойти сам.
Ну, вот уж и ворота близко, надо только взобраться по ступеням. Их всего пять. Он поднял ногу на первую ступень, но в голове завьюжило, и он рухнул. Теперь уже на коленях, цепляясь за ноздреватый камень ступеней обломанными ногтями, он полз к дубовым воротам. «Только бы успеть, а там — как Бог даст». За воротами сидел нищий. Он зло зыркнул на Губина:
— Куда лезешь, пьянь, это ж храм, а не пивнушка! Только тебя тута не хватает!
— Молчи, Вовка, не видишь, худо ему совсем. Я позову батюшку.
Губин обессилено прислонился к косяку и с надеждой смотрел в уютный полумрак храма. Оттуда с освещенной свечами иконы на него с любовью смотрел Сам Спаситель. Следом за старушкой навстречу ему семенил старенький батюшка. Губин открыл шершавый рот и чуть слышно прошептал: «Прости, батюшка, грешен я!» Батюшка наклонился над ним и, глядя в глаза, мягко произнес: «Бог милостив, Он простит». Обмякшее тело подхватили чьи-то руки и понесли внутрь храма. В голове мелькнуло: «Прощён!», и он отключился.
Очнулся Губин на постели в маленькой комнатке с неровными белыми стенами. Рядом сидел батюшка и, закрыв глаза, перебирал четки. Над его склоненной головой висела икона Спаса Вседержителя. Взгляд Иисуса Христа проник прямо в сердце и влил в его истерзанную глубину сладостную исцеляющую струю любви. Боль отступила, по жилам ритмично пульсировала кровь, голова прояснялась. Слезы покатились по ободранным щекам Губина, и он понял, что вот так началась его новая жизнь. Жизнь в храме Божием.
Сторож брату своему
Под крылом самолета мирно поблескивала водичка Атлантики. Над дверью, из которой появлялась стюардесса Таня, зажглись английские буквы. «Фастен сит бэлтс» — прочел он. Ладно, прифастнемся, то есть пристегнемся. А вот и Танечка — легко, как пушинка, вынырнула из-за ширмы и защебетала, улыбаясь во весь рот, во все свои белоснежные тридцать два ровных зубика. Эх, есть еще девчонки в русских селеньях!
…Однажды утром он завтракал в кафе «Клозери-де-лиля». За этим столиком, согласно приделанной к столешнице табличке, писал свои шедевры Хемингуэй, карандашом в блокноте. Кормили здесь не лучше, чем везде, но цены заставляли уважать и кофе, за восемь долларов, и прославивших сие место американских писателей. Впрочем, табличка напомнила ему печальный финал кумира шестидесятников с выстрелом из ружья в рот, в который он за этим самым столом вливал анисовый аперитив. С некоторых пор французы не очень-то жалуют американцев, поэтому он здорово поплутал, пока нашел это заведение.
До встречи с Шарлем оставалось менее получаса, он сел в арендованный «Ситроен» и по бульвару Монпарнас мягко покатил к Дому инвалидов. Полукилометровый фасад дома призрения старых солдат, построенный по указу Людовика XIV, с черно-золотым куполом собора нравился ему только воплощением идеи милосердия. В роскошных излишествах архитекторы явно перебрали. Под куполом собора в саркофаге из карельского порфира лежат останки Наполеона. Странные чувства вызывала у него эта личность. Наполеон наказал Россию за ее провинциальные придыхания ко всему французскому. Благодаря его нашествию Россия вспомнила о своем вселенском предназначении. Храм Христа Спасителя и множество церквей, построенных после победы в Отечественной войне, тому свидетельство. Во всяком случае, церковь недалеко от его подмосковной дачи и все подобные ей по архитектуре в округе были построены именно сразу после победы в той войне.
А вот и мост через Сену, заложенный последним русским императором Николаем II в честь своего отца Александра III. Очень ему нравился этот мост — один из самых красивых в Париже. Белокаменные пилоны с золочеными скульптурами и бронзовыми фонарями над ажурной стометровой аркой моста особенно хороши на фоне семи тысяч тонн ржавого металла безвкусного сооружения инженера Гюстава Эйфеля.
На авеню Черчилля слева — Большой и справа — Малый дворцы с колоннадами, стеклянными крышами и бронзовыми голубыми скульптурами. Этот комплекс построен к Всемирной выставке 1900 года, где кроме прочего выставлялся срез российского чернозема толщиной более трех метров.
Но вот и Елисейские поля. Тринадцатирядная дорога в обрамлении жидковатых деревьев среди витрин, козырьков, тентов на первых этажах зданий с обязательной черной надстройкой на крыше.
В плотном потоке машин он свернул налево и на круглой площади Рон-Пуэн пристроил машину на стоянку. Дальше вверх по Елисейским полям он бодро зашагал в сторону площади де Голля, где возвышалась Триумфальная арка. В скверике у этой арки, под старым кленом, на зеленой лавочке он и договорился встретиться с Шарлем.
Минут сорок ждал он своего парижского партнера. Сидел на лавочке и по традиции, заложенной академиком Ландау, считал, сколько же пройдет мимо красивых женщин. Он заставил себя отвлечься от таких обманчивых показателей, как элегантность, шарм, очарование. Нет, его интересовала именно физическая красота парижанок, то есть красота как явный Божий дар.
За полчаса мимо прошло, пробежало, проскакало больше двух тысяч женщин, но ни одной красивой. И вот, наконец-то! О, как она шла! В этой красавице удивительным образом соединилось все, что может вместить в себя наднациональное понятие «красивая женщина»: безупречная фигура, оправленная в строгий деловой костюм, невесомая плавная походка, великолепной лепки голова на длинной шее в шлейфе переливающихся каштановых волос. Этот бриллиант чистейшей воды сверкал безыскусной добрейшей улыбкой радости жизни! Ни капли высокомерия, ни грана фальши, ни малейшего изъяна. В его голове завопило: «Люди! Красота в мир вернулась!» Он подбежал к цветочнице, выхватил из корзины букет белых роз, швырнув туда франки, подбежал к этой принцессе из сказки, встал на колени и протянул цветы.
— Же ву при, мадемуазель, гранд-шарман и так далее! — путал он слова из карманного разговорника.
— Так вы русский?! — захохотала она. — Мне, конечно, очень приятно, но вы, кажется, испортили свои дорогие брюки.
Костюм на нем был действительно не просто, но очень дорогой. Только тогда это меньше всего беспокоило его.
— Ах, полноте, пустое! Как зовут вас, прекрасное дитя?
— Ольга, — снова засмеялась она, сверкая искрами громадных зеленоватых глаз и жемчугами зубов.
— Оленька, я вас от души поздравляю! Вы единственная красивая женщина из двух тысяч четырехсот тридцати двух прошедших мимо за тридцать восемь минут. Единственная — и русская! Это нужно как-то отметить, об этом нужно сообщить этому чопорному современному Вавилону, всему перепудренному миру!
Таким, стоящим на коленях перед женщиной, его и увидел опоздавший резидент. Но, поглядев на женщину, он не удивился, только вежливо зааплодировал.
Самолет мягко тряхнуло, уши заложило. Пассажиры захлопали в ладоши, благодаря экипаж за удачное приземление с вытекающим отсюда продолжением жизни.
У трапа, облокотившись на лимузин, его ждал Майкл Стоун, в советском девичестве Мишка Каменев. На его загорелой физиономии сохранялась улыбка, соответствующая его нынешнему гражданству.
— Константин, айм вэрррыы глэд ту эгррры ёррр! — прорычал он, распахивая объятия.
— Мишка, я только сошел на асфальт американщины, а меня уже тошнит от твоего нового диалекта. Так что давай по-нашему. Здорово, партнер!
В прохладном чреве лимузина Миша протянул ему чемоданчик с договорами. Константин листал бумаги и отвечал на вопросы.
— Как перенес перелет?
Миша говорил по-русски, но слова растягивал и рокотал, как американец, не прошедший разговорную практику. За семь лет эмиграции его университетский друг превратился в американца.
— Нормально перенес. Выспался, отъелся… Значит, цена их устраивает, это хорошо… Так что могу работать.
— Как Мария?
Константин оторвался от бумаг и глянул в окно. Слева их обгонял «мерседес-кабриолет». За рулем сидела та самая дряхлая старушка, которая еле тащилась к своей машине, заботливо поддерживаемая под руки стюардом. Сейчас она одной рукой небрежно держала руль, другой прижимала к уху трубочку мобильного телефона. Он взглянул на спидометр рядом с чернокожим водителем-телохранителем. Стрелка подрагивала у цифры 110. Это значит около 180 км в час. Во дает бабуля!
— С Машей все нормально. Преподает в архитектурной академии. Плавает в бассейне, играет в теннис; массаж, там, визаж, мираж…
— Сегодня собираются наши. Поедешь?
— Отчего же, поприсутствую.
— О’кэй. То есть хорошо. В смысле, отдохнем на славу.
— Прямо на глазах оттаиваешь.
Напарник неплохо подготовил сделку, выступив в ней гарантом и посредником. Собственно, все что нужно, уже неоднократно обговорено по телефону, а здесь он для личного знакомства и собственноручного подписания бумаг. После торжественного скрепления договоров чернильными закорючками и печатями в стеклянном офисе с видом на океан и легкого вспрыскивания сговора безвкусным слабоохлажденным шампанским Михаил потащил друга в свой дом. Они выехали из шумного города и по гладкому гудроновому серпантину забрались на скалистую лысую гору.
Двухэтажный дом из розового туфа одиноко возвышался на голой вершине. Этот участок только осваивался, и его соседи строиться не торопились. А Мише понравился просторный вид на океанское побережье, и он рискнул построить здесь свое жилище. Презрев американские нормы хоть в чем-то, Михаил окружил свой дом высоким основательным забором. Внутри огражденной территории, кроме традиционных гаража, бассейна и газона, среди волосатых растрепанных пальм Константин с удивлением обнаружил веселые березки, крепенькие дубки и задумчивые плакучие ивы.
— Нравится?
— Ничего…
— Хочешь, тебе тоже здесь виллу построим?
— Позже отвечу на ваш вопрос, херр Мефистофель.
— Костя, ты пока можешь часок отдохнуть, а я займусь приготовлением к пирушке. Занимай комнату на втором этаже с видом на побережье, ополоснись, храпани. В общем, располагайся.
Он вошел в комнату, снял с себя промокшую одежду и встал под горячую струю душа. Не вытираясь, накинул халат и растянулся на широкой кровати. Спать он не собирался, разве чуток подремать.
…Антошка позвал его в колхозный сад за яблоками — стоять на страже, только он решительно отказался. Брат убежал, обозвав его трусом. Костик сел под стог сена и думал, как отомстить брату. В стогу шуршали мыши, в носу щекотало от пыли, над головой высоко в синем небе висел коршун, но Костик ничего не замечал.
Его обидели, его назвали трусом… Избить Антона в кровь, застрелить, да что там — изрешетить его, поганого, утопить в болоте вонючем! Ни в чем, никогда не уступит он брату. Он станет милиционером, получит пистолет и придет к нему с пистолетом. Вот уж Антошка попрыгает под дулом! Нет, лучше он станет большим начальником и возьмет брата в подчиненные. Он будет им командовать, наказывать за малейшую провинность. Вот попляшет Антошка под его дудку!
Над ним черной тучей навис колхозный сторож.
— Где твой брат? Я тебя спрашиваю, отвечай! — старик грозно вопрошал, глядя в самую глубину недетски серьезных глаз.
— Откуда мне знать? Я не сторож брату своему, — сквозь зубы произнес Костя.
Старик оторопело разжал кулаки. Его боевой дух мщения истаял. Он будто что-то вспомнил из давно забытого, пожевал сухими губами, почти скрытыми желто-седыми усами. Покряхтел и понуро ушел.
Судя по крикам и разноголосой ругани, гости уже собрались. Константин нехотя встал и прямо в халате спустился вниз. На зеленом газоне возвышался пустой стол. Между столом и домом рядом лежали аэрбэги — надувные матрасы.
— А где водка с селедкой? — удивленно спросил он хозяина.
— Отдохнул? Это хорошо, — обнял его за плечи Михаил. — Выпивон с закуской привезут из ресторана минут через десять. Этот вопрос входит в повестку дня торжества.
Кто-то сзади хлопнул Константина по плечу, следом загрохотал гремучий бас:
— Костька! Ай кэнт билыв! Сан ов э бич! Во разжирел, дружков не узнает.
Он оглянулся — перед ним стоял Леонид. Художник-сюрреалист. Хулиган и пьяница. Он тыкал в белую ткань халата пальцем, измазанным несмываемой разноцветной краской.
Из-за его широкой спины выдвинулся писатель Дима. Этот страдал от жары и недопития, что очень явно отражалось на его дряблом лице, поэтому пока не шумел, а только вежливо расспрашивал свежеприбывшего, как там коммунисты Россию грабят.
Светлана, поэтесса, повисла на шее у Константина и завизжала.
С пальмы по-обезьяньи слезал Виктор, бывший матерый валютчик, злостный фарцовщик и родной КаГэБэшный сексот.
— Господа, внимание! — закричал хозяин. — Наше застолье везут.
Господа расступились. Из приехавшего автобуса фиолетовые официантки в белом выносили и ставили на скатерть стола серебристые судки. Когда многочисленные предметы собрались в сложную композицию из бутылок, фужеров, блюд, тарелок и цветов, Миша скомандовал:
— Кма-а-ан! Вперед.
Крышки судков поднялись, обнажив горячие блюда: борщ, щи, пельмени, осетрину, лососину, румяную картошечку. На льду охлаждались соленые огурчики, квашеная капуста, соленые грибки, селедочка в кольцах лука.
Все обернулись к Константину, ожидая его реакции. Он выдержал приличествующую моменту паузу, орлом обозрел окружение, налил себе рюмку «Столичной», выбрал покрепче и подцепил на вилку огурчик, а после уже сказал:
— Девять тысяч километров пролетел я, чтобы приехать в американщину, а вернулся, кажется, в Москву семидесятых. Давайте, ребятки, вздрогнем за встречу!
Ребятки приударили пить и кушать с отменным аппетитом.
Он попробовал понемногу от всех яств и сделал приятный для себя вывод: все приготовлено вкусно и по-домашнему. Спросил Мишу: кто же повар?
— Русский, конечно. И ресторан, откуда привезли, тоже нашенский.
После утоления голода ребятки расслабились и заговорили. Константин слушал сразу всех. Поначалу они хвастали своими успехами, изображая из себя процветающих бизнесменов.
Леня рассказывал о персональных выставках, которые прошли с блеском. Упоминал отзывы в прессе. Рассовывал фотографии, на которых он обнимал каких-то женщин, называя их «мэтрами мировой сюры».
Дима подписывал и раздавал свой роман, вывезенный в рукописи из Советов. В нем русский писатель, работая в котельной, чуть ли не в одиночку противостоял «империи зла», и перестройка началась именно с него. Именно он надоумил Горби и Сахарова разыграть все по его сценарию.
Света с подвыванием читала свои психоделические стихи, повисая на шее то одного, то другого, то сразу обоих соседей по столу. Там что-то было про космос и экстаз, прорывы в иномирность, фигурировала таинственная «препарированная серебряным скальпелем студенистая душа вчерашнего муравья».
Виктор организовал свою фирму, которая торговала икрой и сэкондхэндом, консультировала наивных американцев о секретах русского бизнеса. Он сыпал предложения Константину, но Миша подмигнул на вопросительный взгляд партнера и отрицательно качнул головой.
Наступал душноватый вечер. Иногда со стороны голубой прибрежной полосы доносились солоноватые дуновения океанского бриза. От цветов и травы поднимались пряные испарения.
Веселье плавно перетекало в фазу интимных душеизлияний, когда люди становятся самими собой. И тут стали выясняться обстоятельства, прямо противоположные обозначенным в первой фазе.
Леня совсем нищий, существует на вэлфер — пособие по безработице. Денег от проданных картин ему едва хватает на холсты и краски.
Дима, оказывается, распродал только десятую часть пятитысячного тиража своей книги и существует за счет почасового тарифа в авторемонтной мастерской.
Светка — и того хуже, работает бэбиситером, то есть няней, у больного мальчика, от которого все предыдущие няни отказались. Мальчуган ее истерзал хулиганскими выходками, и единственное, о чем она мечтает, это найти другую работу, а после этого подловить пацана в темном углу и поколотить до синяков.
Виктор между десятой и двенадцатой рюмками признался, что фирма его прогорает, долги выросли до критической отметки, за которой ему угрожает или конфликт с русской мафией, или, в лучшем случае, американская долговая тюрьма.
Скоро все «ребятки» разлеглись на упругих аэрбэгах с бутылками в руках и, прихлебывая из горла, погрузились в «диалектический ностальгизм».
— Человек, сбежавший на свободу из страны с тоталитарным режимом, переходит на более высокий энергетический уровень. Это нормально, что на этом уровне мы еще на стадии освоения, то есть на низшем подуровне. Зато фактически имеем равные возможности с любым аборигеном. Я даже считаю, что потенциально мы выше любого янки, потому что они уже выдохлись, а мы полны идей и огромной нерастраченной энергии реализации.
— Ах, люди, воздвигнемте высоты крылатые над топями обыденщины. Пронзимся зовом надмирности и улетим в «изюмрудные» дали.
— Мы уже улетаем. Нам только адекватно ассимилировать векторы. Дайте мне перевернутый мир, и я дам ему точку опоры.
— Сила отторжения прямо пропорциональна нажиму. Надо дать им позвать нас на пустующие престолы. И мы взойдем и позволим себя ублажать.
— Наш русский гений снова перевернет их затхлый плешивый идиотизм.
Сидеть за столом продолжали двое, негромко переговариваясь:
— Миша, что они с собой сделали? Это же «Кащенка» на выезде, в Белых Столбах.
— Что поделаешь, Костик, не каждому здесь удается встать на ноги.
— Ну и пусть катятся обратно в пенаты!
— А там они кому нужны?
— Там хоть свои кругом. В конце концов есть кому, так сказать, излиться.
— Видишь ли, они туда письма шлют триумфальные: все у нас о’кэй и тэ дэ. Стыдно, видишь ли, признаться в своем фиаско.
— Уроды… На что они тебе?
— Жалко, — пожал плечами Михаил. — Да и традиция у нас такая: собираться раз в год. Эти посиделки я под твой приезд подгадал.
— Удружил.
Константин, едва сдерживая раздражение, встал, опрокинув плетеный стул, и побрел к бассейну. Подсвеченная из глубины голубая вода напоминала ту самую «студенистую душу вчерашнего муравья», которую препарировал Светкин скальпель. Он поднял глаза и увидел звездное небо. Разглядывание звезд обычно его успокаивало. Только не сейчас. Вот оно что! Здесь даже небо чужое.
Он резко обернулся в сторону развалившихся на матрасах пьяных экс-москвичей. Ленька поливал всех водкой и зычно гоготал. «Дождик-дождик, поливай!» — раскачивалась Светка, подставляя под струи «Столичной» прозрачные ладони. Бородатый хулиган вылил водку из литровой бутылки и глянул на Константина.
— Старички, а давайте Костьку замочим!
— Замочим! Замочим! — завизжали остальные.
Подбежали к нему, приподняли на руках и швырнули в бассейн. Следом прыгнули сами. Сначала он отплевывался, ругался, но вдруг увидел вокруг родные мокрые смеющиеся лица и… плескался с ними, кричал что-то веселое, шутил, обнимал то одного, то другого, целовал в мокрые щеки, губы, снова кричал что-то. Вылезли из бассейна мокрые, веселые и даже трезвые. Михаил, оказывается, тоже барахтался с ними в своем белом костюме за тысячу долларов.
Константин отвел его в сторону, обнял и на ухо сказал:
— Ты вот что… От наших прибылей подбрасывай им маленько. Ну, там по тысчонке-другой в месяц, и Витьке помоги с бизнесом развязаться, ладно?
— О’кэй, босс!
— Я те дам «о’кэй», я те дам «босс»! — и снова столкнул его в воду. Мишка вынырнул и закричал:
— Я люблю тебя, Костик! Я люблю вас, люди!
Несмотря на глубокую ночь, Константин не спал. Вероятно, смена часовых поясов не прошла для него бесследно. Снова мысли о брате полезли в голову.
…Их отец погиб под Берлином. Мать после получения похоронки часто болела и быстро постарела. Ухаживала за ней и присматривала за братьями тетя Люба. Хотя как тут усмотришь, когда у нее самой трое по лавкам да муж — инвалид и пьяница горький.
Когда мать схоронили, приехала на похороны московская тетка. Она красила тонкие губы, пудрилась и требовала себя называть не иначе как Виктория Павловна. Поначалу она все путала братьев, поражаясь их сходству. Но потом научилась различать по темпераменту: Антон был шустрым, а Костик задумчивым.
После долгих бесед на поминках под слезы, чай и самогон тетушки договорились, что у Любы останется Антон, а Костика возьмет к себе жить бездетная Виктория Павловна.
Во время прощания на станции Костик неловко обнял брата, а тот пихнул его в живот, больно так пихнул. Костик прилип к автобусному стеклу и сквозь слезы глядел на брата. Антон нагло улыбался, а еще, гад, показал ему кулак.
После вольной деревенской жизни Костик мучительно привыкал к Москве. С одной стороны, конечно, здесь интересно, многолюдно и много развлечений. С другой же, Виктория Павловна на каждом шагу делала ему строгие замечания: не так говоришь, не так сидишь. Где твои «пожалуйста», «спасибо»? А самое противное — это по десять раз в день мыть руки с мылом и причесывать непокорные вихры.
Когда тетка оставляла его в комнате одного, он садился к окну, задумчиво смотрел на проезжающие по проспекту машины и на широком «цементном» подоконнике писал брату письма. Ни одного ответа от брата он не получил. Ответила разок тетка Люба. Жаловалась, что Антошка совсем от рук отбился и стал «фулюганом».
Но мало-помалу Костя втянулся в новую жизнь. У него появились друзья и подруги. Поначалу он стеснялся своих деревенских привычек, а их раскованность давила на него. Но потом притерся к ним и даже обнаружил, что во многом их превосходит. Упорством, например, памятью и серьезным отношением к учебе.
Его сосед по парте Миша Каменев поначалу слегка посмеивался над ним, снисходительно опекал, а потом, сопя и краснея, списывал аккуратно выполненные домашние задания из Костиных тетрадок. Почему-то учителя его сразу полюбили. И даже Виктория Павловна стала меньше к нему придираться. А когда приходила с родительских собраний, то сажала его напротив и говорила, что если он «еще чуть-чуть поднажмет и будет проявлять больше активности на уроках, то сможет поступить в университет».
Словом, новая жизнь, полная событий и забот, упорное молчание брата и море столичных впечатлений отдалили его от родной деревни. Костя все реже тосковал, реже вспоминал, а потом и вовсе пытался забыть свое провинциальное прошлое, которое даже стало его тяготить.
Утром Константин проснулся от криков за окном, долго разглядывал себя в отражении зеркального натяжного потолка, не мог понять, где он находится. Тряс тяжелой головой, стараясь определиться в координатах времени и пространства.
Вспомнив, протяжно вздохнул и выглянул из окна. Много синего неба, много яркого солнца, вдалеке много океанской волны. Внизу этой картинки — высокий забор, бассейн с ярко-голубой водой, волосатая пальма, зеленый газон со свеженакрытым столом и шумные гости за столом, совсем, впрочем, не свежие. Судя по всему, застолье у них продолжалось и из стадии опохмеления медленно, но верно перетекало в новую пьянку.
— Ну, чем порадовать мне дорогого гостя? — распростер свои широкие объятия Михаил, увидев спускающегося по лестнице Константина. — Не желаете ли освежиться? — протянул он рюмку водки.
— Нет-нет! Я не опохмеляюсь, — поймал себя на оправдательных нотках Константин.
— Это кто тут у нас нарушает законы? — взревел косматый художник. — А призвать его к порядку!
— Да отстань ты… — буркнул Константин и с разбегу прыгнул в бассейн.
Внезапно его охватил прямо-таки щенячий восторг. Он нырял и плавал, как в последний раз, жадно, азартно, устроив феерию бурлящих струй, волн и брызг. В два рывка с подтягиванием поднялся по лестнице наверх, громко крякнул, вытряхивая воду из ушей. Подошедший Михаил заботливо укрыл его плечи купальным халатом.
— Миша, ты вот чего… Отвези меня в самое красивое здесь место. Слышишь, не самое фешенебельное, престижное или дорогое, а именно — красивое.
— Должен тебя разочаровать: здесь, если красивое, то обязательно там есть все то, что ты с таким презрением перечислил. Но это же нам не помеха? Поехали. Ребятки через несколько минут сопреют и снова заснут.
Океан лениво ласкал голубыми волнами белый песчаный пляж. На волнах резвились крепкие парни на широких досках-серфах, сверкали туго натянутые паруса. В тени тростниковых зонтов и прямо под солнцем на ярких лежаках отдыхали загорелые красавицы с мускулистыми бойфрендами. Бар под такой же тростниковой крышей отпускал ледяные напитки жаждущим. Мягкая музыка заполняла собой пронизанное солнечными лучами пространство. Пальмы поклоном лысых стволов и покачиванием длинных лакированных листьев приветствовали отдыхающих, приглашая в тень густых парковых зарослей.
Здесь, среди разнообразных кустов, причудливо стриженных, и деревьев, собранных со всех тропических стран, на упругих зеленых газонах сидели и лежали одиночки, пары и целые семьи. Цветы — яркие, душистые — добавляли в эту панорамную икебану веселые вкрапления. Непуганые птицы летали с ветки на ветку, бегали по траве и важно ступали, демонстрируя богатую окраску и разноголосье. Бабочки неслышно порхали с цветка на цветок. Более стремительные стрекозы блистали в солнечных лучах всеми цветами радуги.
В многочисленных прудах плавали элегантные белые лебеди и розовели длинноногие клювастые фламинго. В глубине зеленоватой воды извивались и сверкали золотистыми боками рыбки. Между прудами струились и переливались каскадные водопады.
Дорожки парка похрустывали под ногами гуляющих мелким розовым щебнем. Вот донесся легкий ароматный дымок барбекю: где-то на огне жарили бифштексы и длинные сосиски. За столиками развалились осоловевшие добродушные папаши в безразмерных ярких майках и шортах, детишки с мамашами прыгали рядом по травке.
Михаил щелкнул пальцами, шепнул темнокожему мальчугану, и тот принес подстилку. Расстелил ее в указанном месте и расставил тарелки с бифштексами и фруктами, пробковый термос с охлажденными напитками. Они присели и скрылись от всех за изогнутыми лабиринтом кустами лавра. Отсюда им были видны только пруды с лебедями, кроны платанов и сосны над головами.
— Рай, да и только! — выдохнул Константин.
— А этот парк так и называется — «Парадиз». Скромно и незатейливо…
— Ладно, давай немного помолчим. Это нужно созерцать.
…В то лето Костя с золотой медалью без особого труда поступил в университет. Туда же, но с трудом и не без подключения отцовских связей, поступил и Миша Каменев. После торжественного посвящения в студенты Костя решил, что теперь и в родную деревню не стыдно съездить.
Виктория Павловна дала ему денег, гостинцев тетке Любе и сама проводила его на вокзал. Во время прощания, она сильно прижала к себе Костю и шепнула ему на ухо: «Только ты возвращайся, слышишь!» Потом оттолкнула его от себя и сурово добавила: «Веди себя там прилично. Ты теперь взрослый». Всю дорогу Костя, как на стену, ничего не видя, смотрел в окно. В радужных тонах представлял он, как брат будет раболепствовать перед ним, студентом. Справедливость восторжествует, и он вернется в Москву победителем!
Дома у тети Любы Антона не оказалось. Младшая ее дочь путано объяснила, что живет он «на хуторе», идти туда на край леса через овраг. Недавние дожди превратили деревенские дороги и тропки в сточные канавы для жидкой грязи. Пока он дошел в новых туфлях до хутора, умудрился испачкать не только туфли, но и брюки по колено. Выезжая из асфальтовой Москвы, он совсем не подумал, что где-то еще может быть грязь. Дикость какая! Как же они здесь живут? Да тут с ума сойти можно от их отсталости! Триумфальное возвращение на родину превращалось в позорное хождение по колено в грязи.
Дом с шиферной крышей, как объяснила девчонка, на хуторе был один. Во дворе по цепи бегал и рычал громадный страшный пес, жутко похожий на волка. Антона видно не было. Он пошел к соседям и у бабушки, сидящей на завалинке, узнал, что Антон должен приехать на обед.
Костя напросился в дом и за жиденьким чаем с серыми, будто каменными, сухарями узнал, что Антон стал механизатором, его здесь уважают. И что называют его самостоятельным мужиком, потому как не пьет и работящий. «А уж девки за ём бегают, так это счету нет, как бегают, шалавы!» Костя чувствовал, что где-то в области желудка у него назревают спазмы, а злобное раздражение волнами хлестало из глубины живота в голову.
За оконцем грозно зарычал дизель, и у ворот антоновского дома с лязгом остановился серо-черный трактор. Из кабины весело выпрыгнул здоровенный мужик в телогрейке и вразвалку вошел в калитку.
— Что сидишь пнем, это твой брательник пожаловал. Иди за ним, да поуважительней там!
Костя подошел к калитке и увидел, как хозяин возится с волчарой, теребя его за шерсть и шлепая ручищей по крепкой шее чудовища.
— Антон! — окликнул он брата, не узнав своего голоса, до того писклявым и дрожащим тот ему показался.
Хозяин не торопясь обернулся, сдерживая рычащего на непрошеного гостя пса, и небрежно кивнул:
— Заходи, не бойся.
Пса привязал, зычно гаркнул на него, толкнул дверь и кивком пригласил брата в дом. В светлой горнице — стол и две лавки, старый буфет, крепко сбитый отцовскими еще руками. Антон повесил у входа телогрейку, сбросил сапоги и нырнул за кухонную занавеску. Оттуда сквозь шорохи и лязганье, звон и грохот послышалось:
— Бабой пока не обзавелся. Сестренка Нинка иногда забегает помочь по хозяйству. А так пока сам все делаю. Так что у меня здесь без лишнего. Садись за стол. Сейчас щей похлебаем.
— Так ты дом от колхоза получил?
— Получил! Дождесся от их. Сам срубил с Васяткой на пару. Следующим летом ему рубить будем, тоже хотит жить на хуторе. Иди подмоги.
Костя нырнул за тряпичную занавеску и сразу под собой увидел лаз в погреб. Там при свете лампочки возился брат и протягивал ему миски с огурцами, капустой и солеными грибами. Потом поворчал и передал Косте бутылку водки. В черном зеве печи грелся чугунок со щами.
Антон захлопнул крышку погреба и подавал брату тарелки и хлеб. Костя ставил на стол миски, тарелки, стаканы, весело звенел ложками с вилками и радовался тому, что пока все идет по-человечески. Сели за стол, Антон разлил половником щи по тарелкам. Налил по стакану водки. Глянул сурово Косте в глаза, затем улыбнулся и с хрипотцой сказал:
— За встречу, братишка. Пей. Со мной можно.
Костя уже пробовал пить водку, но это было однажды, и пили они махонькими рюмочками. Но, зажмурившись от накатившего чувства внезапной взрослости, лихо вылил водку в рот, глотнул и позорно закашлялся до слез. Брат через стол пару раз хряпнул его по спине и подсунул кусок хлеба с соленым огурцом. Костя жадно дышал, охлаждая обожженную глотку, и хрустел огурцом. Антон аппетитно хлебал щи, грыз луковицу, широко откусывал серый квелый хлеб.
Когда первые ложки щей согрели нутро, водка ударила Костику в голову, и он уставился перед собой, чтобы остановить головокружение. На стене висело старое зеркало в грязно-красной раме. В нем отражалась широкая спина Антона, его загорелая мускулистая шея, вихрастые нечесаные выгоревшие волосы.
Антон поднял голову и молча уставился на брата. Костя также молча изучал загрубевшее обветренное лицо Антона, белесую щетину на бугристом подбородке, неожиданно белую полоску на лбу, оттенявшую бронзово-красный загар. Из зеркала, открыв рот, зыркал то на Костю, то на Антона какой-то прилизанный испуганный шалопай с детским румяным личиком. Взгляд Кости шмыгнул вниз и рядом со своими белыми ручками с голубыми прожилками увидел мозолистые ручищи брата, будто отлитые из бронзы.
— А я с золотой медалью школу закончил и в университет поступил, — неожиданно для себя прогнусавил Костя.
— С портфелем, значит, ходить станешь, — бесстрастно констатировал брат.
— Да и старше ты меня всего на один час. Так мама говорила.
Антон задумчиво разлил водку по стаканам. Как яблоко, догрыз луковицу. Чокнулся своим стаканом и выпил, как воду. Вынул из кармана брюк мятую пачку папирос, зажал в желтых зубах, чиркнул спичкой, прикурил и выдохнул из себя прямо брату в лицо густую струю едкого дыма. Константин окаменело ждал страшного.
— Ты, братан, сызмальства все догоняешь меня. Сколько помню тебя, все из пупка лезешь в первые, — Антон поднял на брата холодные насмешливые глаза. — На час, говоришь? Ты за всю жизнь этот час не наверстаешь. Хоть наизнанку вывернись. Запомни, салага: твое дело маленькое — картошку чистить и за водкой бегать, когда я пошлю. А твоими университетскими корочками, когда ты их сюда хвастаться привезешь, я вот эту печь, — он кивнул в сторону кухни, — растоплю. Вопрос ясен?
Костя чувствовал себя раздавленным червяком. Что делать? Чем ответить? Это нельзя так оставлять. Лучше головой в петлю, чем жить с таким позором. Ладно, подождем, осмотримся, а завершающий удар нужно нанести точно и в смертельную точку. Погодим, время есть. Мы еще не все сказали друг другу, Антошка. Последнее слово будет за мной.
— Я спрашиваю, как тетка Вика поживает? Ты чё, совсем окосел от ста грамм, чудо?
Вечером Костя проснулся на чужой кровати с головной болью и тошнотой. Долго вспоминал, где он и что здесь делает. Вспомнил и протяжно вздохнул. За окном уже смеркалось. Из-за двери доносились приглушенные голоса.
— Костенька! — тетка бросилась ему навстречу, когда он вошел в горницу. — Экий ты стал ладный, серьезный. Одно слово — городской!
Тетя Люба улыбалась, обнажив четыре оставшихся стальных зуба. По морщинистому лицу текли слезы.
— Думала, что уж и не увижу тебя перед смертынькой. Больно далеко тебя от нас занесло, — она всхлипнула и вытерла лицо мятым передником. — А мне Нинка моя как сказала, что городской Антошку ищет, так я об тебе и подумала сразу. Касатик ты мой гладенький.
Сзади вразвалку подошел Антон и обнял тетку за плечи. На его грубом лице снова гуляла холодная улыбочка превосходства.
Костя отыскал у двери свою сумку и достал оттуда гостинцы от Виктории Павловны. Тетка устало присела на лавку у стола и с интересом разглядывала городские диковинки. Вертела перед глазами банку с крабами, коробку конфет, пуховый платок и все спрашивала:
— Это что ж такое? Страшный с клешнями. Паук, что ли?.. А, мамынька, конфетки какие с дворцами! Это в Москве такие строят? А платок куды такой носить? Это только Нюрке в контору трудодни считать. Ой, потратилася Виктория! Это ж на сколько рублев извелась бабонька! Ужасти!
Костя жадно пил чай с оладушками и внутренне торжествовал: отродясь вам этого не увидеть, если бы не я. Деревня отсталая!
Вдруг дверь распахнулась, и вошла румяная востроглазая девица.
— Здрасьте! — смущенно глянула она на Костю и стала скованно раздеваться.
Тетка встала и засуетилась, нырнув под занавеску на кухню. Антон неловко принимал плюшевую курточку и напряженно исподлобья поглядывал на брата.
Антон смутился! Он растерян и напуган! Костя почувствовал, как грохнуло и гулко забилось сердце в груди: кажется, наступил его звездный час. Вот она — смертельная точка для решающего удара! Он собрался в пружину и стал выжидать.
А девушка тем временем огляделась, поуспокоилась. Подошла к зеркалу и, обдавая Костю ароматами цветочной свежести, развязала и накинула на плечи платок. Антон теленком топтался рядом. Пригладила она густые пушистые волосы, поправила толстую косу. Костя взглянул в зеркало, и их глаза встретились. О, сколько ему удалось прочесть в этом безыскусном девичьем взгляде! Ей до тошноты надоела эта отсталая жизнь, эти грубые мужики, грязь под ногами, навозная вонь, грошовая зарплата. «Ты мой шанс вырваться из этого болота! — вопили ее влажные чуть раскосые глаза. — Это к тебе я пришла, а не к этому деревенскому валенку. Смотри, какая я свежая и молодая, сколько во мне жизни! Это все для тебя! Бери всю меня, только увези отсюда!»
— Нюра, — протянула она Косте мягкую ладошку.
«Ах, Нюра из конторы! — усмехнулся про себя Костя. — Местная интеллигенция, значит».
— Константин, — осторожно пожал он ладошку.
— Вы из Москвы? — округлила она глаза. — Прямо из самой столицы?
— Да, Нюра, из самой, — опустил он глаза, чтобы не выдать своего растущего охотничьего восторга.
Тетка бесшумно и бездыханно носилась из кухни в горницу, уставляя стол закусками, тарелками и стаканами. Вот уже бутылки водки встали рядком. Антон выхватил одну из них, одним движением ножа срезал металлическую пробку и налил водку в стаканы. Хрипло произнес:
— Давайте. За знакомство, — потом гаркнул в сторону кухни. — Да сядь же ты, теть Люб!
Тетка испуганно присела за стол, подняла стакан и чокнулась со всеми. Костя, как женщины, только глоток отпил и поставил свой стакан на стол. Сразу стал закусывать. Тетка и Нюра уважительно переглянулись. Антон глаз не поднимал.
— Костя, а как вы там не теряетесь? Там же столько всяких улиц, домов? — Нюра даже придвинулась к Косте, снова обдав его ветерком весенней свежести.
— А мы по метро ориентируемся. Там в метро схемы такие есть со станциями, — пояснил Костя, подбирая слова. — А потом ездишь везде, запоминаешь. Вот Красная площадь, вот улица Горького, вот Университетский проспект.
— А вы и университет видели?
— А я в нем уже учусь, — победоносно произнес он с металлом в голосе. — В этом году поступил.
— Ай, какой ты у нас умница! — прошептала изумленная тетка. — Виктория, что ли, пристроила?
— Нет, отчего же! Я школу с золотой медалью закончил. Потому и поступил без особого труда. Вне конкурса! — говорил он это, словно гвозди вбивал. В брата, конечно, не в этих же куриц деревенских!
— Костенька, а мне можно туда поступить? — жалобно спросила Нюра. — У меня только две троечки в аттестате.
— Ну, если есть кому слово замолвить…
— А вы не сможете?
— Я это вам скажу, Нюра, через год, — твердо произнес он, кидая в могилу брата последние лопаты земли.
Антон налил себе стакан до краев, выпил врастяжку. На его застывшем лице появилась знакомая холодная усмешка. Медленно закурил. Костя внутренне сжался. Рано он похоронил брата… Ох, рано.
— Значит так, Нюра, — громко произнес Антон в наступившей тишине. — Ни через год, ни через десять ты этого слизняка масквачского в нашей деревне не увидишь. Потому что он сейчас быстро соберет вещи и пешочком потюхает на станцию. И никто провожать его, гаденыша, не поднимется. А кто поднимется, тот пожалеет. Вопрос ясен?
В абсолютной тишине Костя встал, подхватил свои вещи и вышел в темную ночь. Следом вышел Антон. Пока Костя надевал грязные туфли, он с полки достал фонарь, зажег и сунул брату. Костя взял в холодные руки холодный фонарь. Потом ощутил безболезненный толчок в лицо, почувствовал, как из носа на рубашку закапала кровь.
— Надеюсь, ты понял, за что? — тихо произнес Антон. — А теперь иди. И чтобы я тебя больше не видел.
Очнулся Костя уже на станции. Как он прошел по грязи в темноте эти девять километров, не помнил. Всю ночь, ожидая первого московского поезда, он услаждал себя планами изощренной мести. Нет, последний удар остался за ним.
Молчание прервал Михаил. Он посмотрел на друга в упор и медленно и четко произнес:
— По-моему, тебя что-то тяготит. Не расскажешь?
— Экий ты, право, проницательный… Да, есть немного, накопилось вот тут всякого-разного, — он постучал пальцем по груди. — Иногда даже прихватывает.
— А ты сердце проверял?
— Да, конечно… Меня постоянно смотрит врач. Говорит, что объективно я здоров. А вот субъективность не по его части.
— Знаешь, здесь принято в таких случаях ходить к психоаналитику.
— Да это и у нас уже есть.
— Но здесь этому явлению несколько десятилетий. Существует некая культура психоанализа, опыт, традиции, колоссальная практика. Да и пойдешь ты не с улицы, а по моей протекции. Профессор Соул — мировая величина. Между прочим, попасть к нему совсем непросто. Во всяком случае, мне он помогает. Расслабишься, выговоришься, он послушает, объяснит все по-научному. И, знаешь ли, выйдешь от него эдаким веселым мальчуганом.
— «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Ну, давай, попробую.
Михаил достал из кармана пиджака трубку мобильного телефона и весело заговорил, называя абонента «бэби-Роуз». Бросив на прощание «бай-бай», сложил трубку, вернул в карман и победно доложил:
— Сегодня в три, — посмотрел на часы и обрадовал: — Однако через сорок минут. Кман! Ходу!
Бэби-Роуз оказалась длинноногой жгучей брюнеткой с томным взором карих глаз. Взор этот мимо Константина был устремлен исключительно на Михаила, который неустанно демонстрировал успехи американской стоматологии. Она доложила профессору о приходе протеже их постоянного клиента, впустила Константина в кабинет и предложила прилечь. Здесь стояла полумягкая кушетка, обитая кожей, рядом располагалось глубокое кресло, в углу — рабочий стол с телефоном и бумагами. Окна были задрапированы шторами, напольные светильники излучали рассеянный свет.
Пока он снимал ботинки и пиджак, неслышно ступая по ковру, вошел и сел в кресло профессор. Лысый загорелый череп обрамляли, как жабо, седые волосы. Пронзительный взгляд черных глаз изучил пациента и успокоился на мысу профессорского ботинка.
— Примите удобную позу. Расслабьтесь. Сосредоточьтесь на солнечном сплетении. Сейчас вам станет тепло и спокойно…
Голова Константина налилась горячим свинцом. Тепло растеклось по всему телу. Будто издалека, сквозь ватную завесу, до него доносились слова профессора:
— Все проблемы, которые вас беспокоят, происходят из детства. Вы сейчас год за годом снова проживете свою жизнь, вспоминая из нее то, что имеет отношение к вашим проблемам. Итак, акушерка взяла вас на руки, шлепнула по попке, вы первый раз вздохнули и громко закричали…
Он долго плавал по теплым волнам прошлого. Язык его помимо воли выдавал на чистом английском все, что он видел перед собой. Иногда профессор задавал уточняющие вопросы, он отвечал на них и снова говорил и говорил. Несколько раз профессор спрашивал, не устал ли он. Нет, он не устал, чувствует себя хорошо. Но вот профессор сказал, что пора остановиться, поэтому на счет «пять» Константин проснется и почувствует себя отдохнувшим и бодрым.
Он проснулся, оглянулся, увидел пронзительные глаза профессора. Из этих глаз в него влились покой и сила.
— Что скажете обо мне, профессор? — Константин чувствовал, что тот знает о нем больше его самого.
— Не волнуйтесь, — улыбнулся психоаналитик. — Ничего страшного с вами не произошло. У вас нормальные проблемы роста сильной личности, лидера. Есть несколько явных комплексов, с которыми довольно легко справиться, или можно жить с ними без особых хлопот.
Профессор встал, прошелся, разминая затекшие ноги и спину.
— Первое — это комплекс провинциала. Вы из деревни уехали в столицу, там столкнулись с необходимостью адаптации. Это вам успешно удалось. Тут бы вам успокоиться и правильно оценить себя… Ведь чем опасен этот комплекс? Сначала человеку мало деревни, он стремится в ближайший районный городок. Если ему удается туда вырваться и не удается изжить комплекс провинциала, то он ставит себе новую задачу — областной центр. Поселившись там, он стремится в столицу. Но и столица его через некоторое время перестает устраивать. Он должен иметь возможность ездить и жить в тех столицах мира, где, согласно мнению, скажем, богемы, бизнесменов или научных кругов, жить наиболее престижно. Если этот комплекс не изживается какими-то реальными успехами, то может наступить кризис: человека уже не будет удовлетворять жизнь земная, и его потянет в иные миры. Так появляется опасность наркомании или суицида.
Константин слушал профессора с нарастающим интересом, предполагая, что самое интересное еще впереди.
— Я берусь предположить, что вы достаточно трезвая личность, чтобы адекватно себя оценить в среде этого комплекса. Но тут наложилась более серьезная проблема. Ее называют комплексом Каина. Вы с самого детства соперничаете с братом-близнецом. Он вас подавлял, а вы пытались доказать и ему и себе, что вы не хуже. И это нормально! Если ваш брат доминирует в сфере физической силы и воли, то вам дано доминировать в интеллекте. Вам достаточно себя правильно оценить, чтобы навсегда распрощаться с этой проблемой. У вас для этого все есть: ум, власть, деньги. Да и физически вы в норме. Так что научитесь себя уважать за ваши явные достижения. Станьте эгоистом в хорошем смысле этого слова. В любое свободное время внушайте себе: я — умный, я — гениальный, я — элита мира.
— Профессор, почему это называется комплексом Каина?
— По аналогии с библейским Каином, который убил своего брата Авеля… Бог спрашивает Каина: «Где Авель, брат твой?» Каин отвечает: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» — «Что ты сделал? — говорит Бог Каину. — Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли».
— Да, но это не вполне корректная аналогия. Я ведь не убивал своего брата Антона.
— Дело в том, что в психиатрии не так важен поступок, как намерение. Как сказал Монтень, не поступки, а намерения определяют нравственный облик человека. То есть если вы даже только хотели убить брата, то в душе уже его убили. Но все это не страшно. Следуйте моим рекомендациям, и я уверен, вы скоро освободитесь от этой проблемы.
Когда из полутемного кабинета они вышли на залитую солнцем улицу, Константин остановился, всем корпусом повернулся к другу.
— Отвечаю на твой мефистофельский запрос, — взял нижний конец галстука и произнес в него, будто в микрофон. — У нас все есть, и нам ничего вашего не надо!
…Все вышли, и в келье старца остался только инок. Он не решался нарушить молитву и терпеливо ожидал.
— Не надо тебе идти в мир, чадо, — произнес, не открывая глаз, старец. — Ты сделал только первые шаги к успокоению страстей. В стенах обители ты под Божиим покровом. Стоит тебе выйти в мир, и страсти снова обретут силу и погубят тебя.
— Я должен отыскать брата и покаяться перед ним. Грех на мне, отче. Это сильно мучает меня.
— Знаю твой грех. Только разрешает от грехов не человек, а Господь. Ему и кайся. А в миру и сам погибнешь, и брата за собой во тьму утащишь. Молись за брата своего. Положи все на волю Божию. Как Господь от несказанных милостей Своих промыслит — так и будет. Ступай.
Инок в своей крохотной келье встал перед иконами и, глядя на огонек лампады, попросил Господа дать ему сил молиться за брата. Прислушался к себе: в душе установился покой. Впервые он чувствовал такую сильную потребность к молитве. «Значит, Господь восхотел спасти брата. Положу себе молиться за него, пока точно не узнаю о его покаянии».
После предначинательных молитв он положил за брата сорок поклонов, почувствовал дерзновение в молитве и зашептал:
— Господи, Иисусе Христе, не отвержи моего недостойного обращения к благости Твоей. Нет греха, который Ты не простил бы Своею бесконечною милостию. Нет человека, которого бы Ты не смог обратить на путь спасения. Ибо все Тебе возможно. Тяжко согрешил я перед братом своим, и жестоко мучает и обличает меня совесть. Своими грехами досаждал я брату и соблазнял его во грех. Дай мне, Господи, сил искупить и грехи брата моего. Дай мне увидеть его на пути спасения.
В глубине сердца народилась и мягкими волнами растеклась по всему его существу благодатная теплота. Сердцем своим он почувствовал, как смиренен Господь Иисус, как сладка Его отеческая любовь, как бесконечно милостив и заботлив Он. И к нему, сыну Своему блудному, вставшему на путь покаяния. И к брату его. И к людям — всем и каждому. «Иисусе, Иисусе, Иисусе мой…» — шептал он, а радостные слезы текли и текли…
В монастырские ворота вошли двое богато одетых мужчин. Оглянулись в нерешительности, спросили у проходившего мимо светлобородого монаха, где найти игумена. Тот, не поднимая глаз, указал на угловой домик с церковкой и, неслышно ступая, отошел.
В келье старца монах едва слышно сказал:
— Отче, брат мой приехал. Благословите поговорить с ним.
— Прежде помолимся.
Старец и монах стали на колени перед образами.
Молиться вместе со старцем — великая честь.
Монах с первого слова ощутил, как теплотой откликнулось его сердце, претворяя и его самого, и все вокруг в единый радостный молитвенный вздох.
Не старец немощный, осеребренный сединами, стоял согбенно рядом, а вечно молодая душа его, усмирив себя во прах, освободила себя от плотского для вмещения благодати Духа Святого.
Не было ни тени, ни грустинки, ни малейшего телесного неудобства.
Все здесь сияло и радовалось, пело и животворилось неопалимым огнем великой любви Христовой.
— Ступай, чадо, к брату твоему и с любовью скажи ему слово Божие. Благослови тебя Господь.
— Константин, брат мой, здравствуй.
— Антон? Ты?
— Антона нет. Теперь мое имя Авель. При пострижении нареченное. Я виноват, тяжко согрешил перед тобой. Прошу тебя, прости меня, подлого.
— Что ты… Конечно, прощаю, брат. Конечно. Ты тоже… меня… прости…
— Бог простит, как я простил. Благодарю тебя. Сильно мучился я. Теперь легче стало.
— И мне… тоже полегчало. Как же ты здесь оказался?
— Господь призвал.
— Как это?
— Из тюрьмы вышел. Куда идти, не знал. Зашел в церковь посоветоваться. Батюшка подсказал, а сюда пешком пришел.
— Тебя не узнать. Как тебе здесь живется?
— Хорошо. Теперь хорошо.
— Я в последнее время часто вспоминал о тебе.
— Знаю.
— Откуда?
— Я просил Господа, и Он мне открыл про тебя. Я молился о тебе, и Господь охранял тебя.
— Ты хочешь сказать, что и здесь я не случайно?
— Я просил Господа, и Он привел тебя сюда. Сильно мучился я, брат, совесть меня обличала.
— Меня тоже. Как же нам теперь жить? Я искал тебя, чтобы вместе…
— А мы теперь и будем вместе. Раньше нас разделяла обида, теперь соединяет любовь.
— Ты сказал, что знаешь обо мне. Раз так, скажи, как жить мне теперь. Я запутался.
— Помнишь парк на берегу океана? Ты его раем назвал.
— Ты и об этом знаешь?
— Я словно твоими глазами все видел. Не удивляйся, Богу все возможно. Ты вспомни синее море, высокие пальмы, кусты лавра, цветы, траву, платаны. Там еще пруды, а в них рыбка плавала. Птицы летали и стрекозы. Вспомни, сколько там было солнца! Как красиво! В тюрьме, где я сидел, тоже были красивые места. Меня там посылали в яблоневом саду работать, цветы начальству тюремному выращивал. И все-таки это была тюрьма. А там, куда мы должны вернуться из земного заточения, так несказанно красиво, что нет и слов таких, чтобы объяснить. Нет красок таких, чтобы нарисовать. Нет света такой яркости и силы, чтобы сравнить.
— А ты откуда это знаешь?
— Я просил Господа, и Он мне показал.
— А что там люди, то есть души их, делают?
— Блаженствуют и славу Господу поют.
— Ну, это же, наверное, скучно…
— Что ты! Постой… Ну, вспомни праздник или веселый счастливый день. Вспомни, как поет душа от радости. Да и люди поют на праздниках, а как же! Но это всего-навсего песня заключенного в тесноте грязной, душной камеры. А сейчас вспомни любимую девушку. Когда ты любил, ведь ты только о ней и думал, только с ней и мечтал быть. Но девушка эта — тоже лишь такая же заключенная в колонии строгого режима. А теперь представь мир, в котором нет ни печали, ни грусти, ни смерти и боли, ни зависти, ни обид. Нет уродства и разрушения, ржавчины и тьмы. Трудно представить, правда? Это потому, что мы сроднились с грехом, свыклись с миром греха. А там!.. В Царствии Отца нашего нет греха. Вседержитель этого Царства — Источник любви, сама любовь. Как же должна петь от радости и благодарности душа, когда она созерцает любимого Отца, Создателя, Бога любви, само совершенство, своего Спасителя от зла и тьмы. Если мы способны любить пораженное грехом земное существо и петь ему песни, то какие гимны должна петь душа в царстве света и любви Царю Небесному!
Ты спросил, как жить тебе? Ты уже пробовал найти ответ в миру, даже у светила мирового психоанализа.
— Ты и об этом знаешь…
— Да… Кое-что он тебе сказал правильно, но выводы сделал просто убийственные. Он предлагал тебе легкую царапину лечить ампутацией, на место мелкого бесенка поселить в душу самого сатану. Нормальный для человека поиск Бога заменить богоборчеством. Ты — русский, поэтому по происхождению, по складу души своей богоборческое западничество чуждо тебе.
— Поэтому за границей мне тошно было? А всему русскому я радовался?
— Конечно. Так вот тебе и цель жизни. Истинная цель. Спасение души для Царствия Небесного. Там наш Отец, там наше вечное будущее.
— Звучит просто. А как это сделать?
— По Своем воскресении Иисус Христос оставил нам Святую Церковь. Много пришлось пережить Церкви Христовой: ереси, расколы, гонения, муки. Но выстояла она и в своей апостольской чистоте здесь, на земле, присутствует. Вот ты и войди в этот дом Божий и живи по законам Церкви. И спасешься. Чтобы помочь тебе, скажу сразу о главном.
Сатана пал из-за гордыни своей, а спасение души возможно только в смирении. Чем больше ты будешь изгонять смирением гордыню, тем больше вольется в нее благодати Святого Духа. Святые всю свою земную жизнь трудились на пути смирения, потому уже на земле жили в постоянном общении с Богом, Богородицей, святыми и небесными силами. Преподобному Серафиму Саровскому во время Литургии явился Господь, много раз являлась Пресвятая Богородица, утешала его, лечила, помогала в создании обители, даже плоды из райских садов дарила…
Смиренная душа подобна райскому саду, который посещает Господь. В такой душе всегда свет, всегда благоухание, благодатный чудный покой. Смиренная душа полностью доверилась Господу, Он Сам ее ведет, охраняет, умудряет. Она подобна океану в штиль, в который бросили камешек, растеклись круги — и снова установился покой.
Так красиво говорил святой Силуан Афонский. Он, когда пришел в монастырь, очень страдал от бесов, и вот когда уже был близок к отчаянию, взмолился Господу, и Сам Иисус Христос явился молодому монаху, буквально на какую-то секунду явился. А Силуан потом до глубокой старости плакал, как ребенок, потерявший мать. Во время этого краткого явления Силуан познал самую суть Бога: Он есть смиренная любовь.
Представляешь, Творец и Вседержитель всего сущего — и при этом смиренная любовь. Непостижимо и прекрасно.
Как нам не любить Господа нашего? Как не петь славу Ему? Как не пасть к Его стопам с мольбой о спасении для Царствия Небесного, где Он на престоле славы Своей! Как говорил полководец Суворов, хоть на самом краешке этого Царствия, чтобы хоть одним глазком видеть славу Его.
— Ты плачешь? Мой старший брат — сила и воля…
— Смирение и немощь… Господь сказал: «Довольно тебе благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи».
— А ты, брат, и здесь опередил меня. Я только на экскурсию сюда приехал, а ты уж тут целую жизнь прожил.
— Тебя Господь призвал к Себе. Он дал мне желание и силы молиться о спасении твоем. Может быть, я и родился только для того, чтобы проложить путь тебе. Теперь ступай своим путем. Прощай, брат.
Эта странная любовь
Когда я после многих лет увидела его, меня окатила материнская жалость. Он показался мне грустным и беззащитным. Захотелось взять его на руки и успокоить, как потерявшегося ребенка.
А потом он поднял серые в крапинку глаза — и меня словно парализовало, обволокло невидимое туманное облако… Поняв, что я в замешательстве, он опустил глаза и продолжал говорить застенчиво, через силу, только лишь для того, чтобы закончить начатую мысль. В те минуты я не понимала, что он говорил, а воспринимала только его интонации, тембр голоса, смущенный полунаклон головы, пластичные движения грубовато-тонких алебастровых пальцев. Что еще? Помню свои девчоночьи одергивания юбки, жар смущения, разливающийся по щекам; блаженную улыбку, самовольно растягивающую мои губы по всему лицу, должно быть, совершенно глупому. Сердце колотилось, каждым ударом отдавая в виски. Время остановилось…
Когда сознание мало-помалу стало возвращаться, первое, что я ощутила, — это настойчивый аромат розы, алым бутоном которой я пыталась прикрыть лицо от ошеломляющего смущения. Я набралась смелости и подняла на него глаза, готовые некстати наполниться слезой. В это самое мгновение он тоже медленно поднял глаза — и между нашими зрачками снова проскочила искра. Мы едва удержались на ногах, хотя земля под нами закачалась.
Он улыбнулся, но так, словно просил прощения, словно ему невольно удалось испугать маленькую девочку, и вот сейчас во чтобы то ни стало необходимо ее успокоить. Мы поменялись ролями: сейчас он готов был гладить меня по головке и промокать мои слезы, утешать замершую от страха малышку добрыми словами взрослого дяди. В эту минуту меня наполняло горячее чувство благодарности и доверия к нему.
Куда только подевались заготовленные мною слова, продуманные, казалось, до оттенков интонации? Куда делся живший в нем беззащитный взрослый ребенок? Сейчас предо мной возвышался прекрасный и могучий повелитель, власть которого росла с каждым ударом моего сердца.
От его глаз, голоса, длинноватых с проседью волос, его рук, наконец, казалось, исходило сияние. Я любовалась его новым обликом и не узнавала в нем прежнего Павлика, единственно чем раньше подкупавшего, так это своей безукоризненной честностью и фанатичным правдоискательством. Да-да, хотите верьте, хотите нет, но сейчас он сиял не внешним лоском, а каким-то непостижимым внутренним светом.
Пока он вежливым разговором выводил меня из замешательства, передо мной пронеслись несколько ярких картин, выпорхнувших из прошлого. Вот он отвечает на экзамене, неловко стряхивая с рукава клетчатого пиджака несуществующую меловую пыль. Отвечает гладко, без запинок, твердо зная ответ на вопрос, но, глупый, и этого тоже стесняется. Может быть, потому, что твердые знания не были у нас в чести, а ценилось другое: смухлевать, списать, схлопотать свой трояк в зачетку — и в ближайший бар, пить разбавленное пиво с тощими белесыми креветками.
О, Павлик так не мог, ему нужно было во всем дойти до самой сути, чтобы не осталось ничего неясного. Вспомнился жаркий день, пикник нашей группы на пляже во время сессии. Мы резвились и пьяно дурачились, а он, будто ничего вокруг не замечая, сидел в сторонке на песке и с карандашом в руках упоенно читал толстенную книгу из «Букиниста».
Следующая картинка высветила фрагмент его кризиса. Месяц во время работы над дипломом он беспробудно пил, причем все равно с кем, лишь бы его слушали. Быстро запьянев, он долго и страстно говорил что-то замысловатое, непонятное. Часто такой вечер кончался истерикой с катанием по полу и битьем кулаками по грязным половицам. Его соседи рассказывали, что он даже во сне постоянно с кем-то спорил, что-то горячо доказывал, называя собеседника «он».
После окончания института до меня доходили слухи, что Павлик женился, потом развелся, поменял несколько мест работы, словом, продолжал «куролесить» и чего-то искать. Чего — так никто из ребят и не понял.
Наши девчонки пробовали «вращать с ним романы», только ничего у них из этого не получалось. Он их отпугивал чересчур серьезными разговорами, концертами «скучнейшей» классической музыки и при этом совершенно детским целомудрием — «пионерской дистанцией», как они выражались, недоуменно хихикая.
И вот теперь он рядом, а я его не узнаю. Никак не могу свыкнуться с ним, таким необычным, новым и… сияющим. Светка предупреждала меня, что он «издаля», что «вроде как не то покрутел, не то крутанулся». Нет, ничего из ее снайперских определений к новому Павлу не подходило.
Я бросила полотенце на ринг и попросила у него пощады. Мы договорились о следующей встрече. Как я ни отдаляла этот момент, но он неотвратимо приближался: скоро снова идти к нему, а я по-прежнему пребывала в состоянии неготовности. Да что же это такое! Светка меня считала «опытной сердцежуйкой», «известной романисткой», да мне и самой казалось, что мужчине удивить меня трудно. Все эти грубые и примитивные особи, как ни пытались усложнить свое поведение, не могли скрыть своих истинных целей — из каждого слова и взгляда сквозило одно пошленькое вожделение. Ты жаждешь душу открыть и поделиться сокрытыми в ней богатствами — у этих одетых в костюмы самцов на уме одно.
Я сидела перед зеркалом, вглядываясь в свои глубокие и ясные глаза, критически, но с любовью рассматривала гибкую и стройную фигурку и думала, думала свою длинную думу.
Во время передышек пробовала включить телевизор. У меня их два: в комнате и на кухне, чтобы всюду бегать по делам, не прерывая просмотр любимой драмушечки, — смотрю обычно их. Сейчас входит в традицию такой вопрос: «Что сейчас смотришь?», и это все больше напоминает: «Ну, ты сейчас пьешь или в завязке?» или «От чего с ума сходишь?»
Включаю и слышу, что и всегда: «Доченька, твой отец так хотел, чтобы ты стала счастлива. (Крупным планом — густые слезы по изможденному страданием лицу.) Он всю свою тяжелую жизнь только и говорил, что о твоем счастье. (Как из тумана, всплывают воспоминания об отце, работающем на бойне.) Он говорил, что уж если мы с ним не были счастливы, то ты должна стать счастливой. Ведь мы все живем ради счастья. (Молодые — плачущая и плачущий — медленно бегут по берегу океана в лучах заката.) Но мы не были счастливы. И вот ты теперь выросла, и мы очень надеемся, что ты будешь счастлива. (Крупным планом — юная девушка в белом платье с розой в волосах.) Потому что, если ты станешь счастлива, то и мы станем счастливы, хотя мы сами, конечно, не были счастливы…» Раньше к концу первой реплики на мои ясные очи наворачивалась тучная слеза. Теперь же вся эта тягомотина раздражала, и я выключала домашний утешитель.
Несколько минут думала, как же должен быть талантлив сценарист, который все это написал. А еще у него напрочь должна отсутствовать совесть при наличии страстного желания загрести «много-много денег». Ведь это надо же уметь — из минутного анекдота раздуть стосерийную мелодраму. Надо придумать столько пустых фраз, внешне красивых мизансцен, в которых только воздух и вода с мылом.
Снова присела к зеркалу и погрузилась в думание… Светке на этой межполовой войне несравненно проще. Как она сама выражалась, ее место в тылу, куда с передовой оттаскивают раненых, чтобы она, медсестра, зашивала, пришивала и бинтовала рваные, колотые, резаные и жеваные раны фронтовых подруг. На мой вопрос, не желает ли и она принять участие в боевых действиях, она дергала большой головой и блеяла: «Мммэ-э-э-э-а!».
Вообще-то у Светы крупная не только голова, но и все остальное. Иногда я просто благоговею перед ее монументальностью, как арапчонок перед пирамидой Хеопса. Однажды в виде очень смешной шутки предложила ей поменяться телами. Она, как бы примеряя на себя новую одежду, с высоты своего роста оглядела мою тонкую девичью фигурку, жалостливо вздохнула, как над умирающим от дистрофии, и, пустив волну по своим пышным формам, выдала свое уничтожающее «мммэ-э-э-а».
Как же я люблю эту «нежную» девушку! Знали мы друг друга еще в институте, сблизились на работе, а подружились во время моего очередного развода, когда она помогла мне зализать «фронтовые раны». С тех пор она так и принимает меня, растерзанную пулями и штыками неприятеля, чтобы излечить, успокоить и снова отправить на передовую, в новый бой до победного конца.
Злые языки называли Светочку лошадью, оглоблей и кастрюлей. Называли, конечно же, за глаза, потому что боялись резких движений ее могучих рук. Лошадку она напоминала в довольно частые минуты восторга, когда в приступе смеха начинала дубасить ногами пол, а ее широко распахнутая полость зубастого рта издавала звуки, напоминающие ржание необъезженной кобылки. Оглоблю она мне вовсе не напоминала… Да нет же! Об этом даже говорить не хочу. Хотя иногда… Да, нет-нет!.. И кто ее обозвал кастрюлей, тот, наверное, имел в виду те емкости, которыми пользуются в общепите. У меня же дома имеется набор чудненьких кастрюлек, поэтому я выбрала из них самую любимую — розовую в голубенький горошек с блестящим ободком — и сравнила ее со своей подружкой. И это сравнение мне понравилось. Конечно, кастрюлей называла я подругу только за глаза.
Так вот, Кастрюля, то есть, простите, Светочка мне однажды сказала, что я вечно от мужиков требую чего-то несусветного, чего в них, по ее мнению, и быть не может. И вот наконец я встретила человека, в котором есть это самое, которого быть не может. Есть! А я этого вдруг боюсь. А может быть, я боюсь не «этого», а того, куда меня это может завести? Жила, понимаешь, себе, как все: работа, дом с кастрюльками и телевизором, ну, там, романчики с мальчиками, от которых всегда можно аккуратненько сбежать. А тут вроде как менять нужно все. А это стра-а-а-а-ашненько… «Я маленькая девочка — играю и пою…» Это что я — про себя так-то?
День свидания с Павлом приближался, как неотвратимое роковое нечто. Мое бедное сердце маялось и двоилось. Я сидела на работе и снова думала свою долгую думу.
Мое счастливое детство… Да нет, правда же, вполне приличное! Первое, что я помню из детства, как мы с соседской девочкой Катей сидим в их большой комнате коммунальной квартиры. Наши папы за столом пьют из красивых стаканов и все громче что-то обсуждают. Но нам с Катей не до их споров — у нас свои проблемы. Это ведь сейчас детские проблемы кажутся смешными, а для нас тогда они имели огромное значение.
Так вот, сидим мы, значит, с Катей на горшках и рассуждаем, что мы уже с ней очень взрослые и совсем большие, потому что давно не писаем в штанишки, а сами садимся на горшок. Катя меня спрашивает, а не боюсь ли я большого черного «бабая», который приходит к детям по ночам, когда они не хотят спать. Я ей отвечаю, что не боюсь, потому что мама мне читает перед сном книжки, где нет «бабаев», а где есть прекрасные принцы и принцессы, а это красиво и вовсе даже не страшно.
Потом нас посадили за стол кушать овсянку с малиновым вареньем, и Катя мне рассказала, что влюбилась в соседского мальчика по имени Амадин. Мне показалось, что Амадин — это что-то очень близкое к сказочному Алладину; так близко, что я Кате позавидовала. И спросила ее: а за что влюбилась? Она пояснила: за то, что он «беленький». Я видела этого мальчика и помню, что он был очень смуглым, почти черным. Но раз Катя видела его беленьким, то, конечно, это потому, что у них любовь, и я за это Катю очень серьезно стала уважать.
Из моего счастливого детства, из сказок и былин, из взрослых разговоров, из моих собственных наблюдений воображение вылепило сверкающий идеал принца моей мечты. Ах, что за мужчина это был! Ну, все при нем, все в наилучшем виде: и красив, и силен, и богат, и щедр. А еще умен, элегантен, остроумен. И, конечно, добр и великодушен.
Вот мы с ним стоим в большом соборе, нас венчают. На мне восхитительное белое платье из белых воздушных кружев с такими, знаете, чудными волнами, ниспадающими, низвергающимися вниз, как водопад Виктория, к белым лаковым туфелькам на высоком каблуке. Фата — тоже вся такая пенистая и летящая — наполовину скрывает от множества восторженных взоров мое счастливое лицо с легким румянцем и безукоризненным макияжем. Мой принц, мой возлюбленный, мой повелитель, мой паж, мой верный раб стоит рядом и не может отвести от меня синих блистающих глаз. Одет он, конечно же, в дивный темно-синий тонкой шерсти костюм, белоснежную, слегка отдающую в синеву сорочку с небольшим воротничком, из-под которого гибкой змейкой струится шелковый галстук фиолетового оттенка. Его темно-шатеновые волосы уложены волосок к волоску спереди назад, с левым безукоризненной линии пробором. Над нашими головами (у меня совершенно невообразимая, не поддающаяся никаким описаниям прическа) свидетели держат золотые (я как-то видела все это в кино) венцы, сверкающие драгоценными камнями. Священник нас благословляет — и мы становимся супругами. Нет, не просто там какими-то, а счастливыми супругами. То есть нас уже навечно связывают узы, и мы всю жизнь их несем: в радости и в печали, в здравии и в болезни…
Первую примерку своего идеала я произвела на Юрике. Он имел красивую физиономию, щедрость и богатых родителей. Мне казалось, что, поработав над этой сырой глиной руками вдохновенного скульптора, я долеплю его до нужной мне кондиции. Терпеливо и трудолюбиво, день за днем, свидание за свиданием я ваяла. Юрик уже проявлял первые симптомы интеллекта, начал почитывать кое-какие серьезные книги, даже чавкать за столом переставал, иногда… В качестве оплаты за свой каторжный труд прилежного ученика он потребовал… ну, того самого. Со мной это было впервые. Я тогда остолбенела и тоненьким голоском запищала: «Вы меня огорчили. Вы меня очень сильно огорчили. Зачем вы поступаете так нехорошо с доверчивой девушкой? Я сейчас заору!..» Видя мою готовность к этой шумной процедуре, Юрик испугался и совершенно по-мужски сбежал.
А через несколько дней появилась на нашем недавно еще совместном с ним пути такая же, как он, фифочка без царя в голове. Как я эту ее особенность раскрыла? Да очень просто: по шляпке. Эта глупышка мне своей шляпкой хотела доказать, что она чего-то стоит. Ха! Три раза. Это она мне будет рассказывать, что такое шляпка и как и для чего ее носить! Да если ты носишь шляпку, то это сразу видно. Здесь ты раскрываешься как личность. Это же целый пласт жизни, если хотите! Она мне про шляпки! Это же просто смешно. А сама нахлобучила ее по самые выщипанные бровки. Словом, моим трудам, моему творческому дебюту не удалось увенчаться… венчанием.
Первый мужчинка всегда комом, подумала я. И нашла себе другого. Этого второго претендента на высокое звание Принца моей мечты звали Эдвардом. Работы с ним было поменьше, хотя… Нет, внешность он имел вполне приличную, и уже до моего судьбоносного вмешательства в свою жизнь умел острить и красиво говорить. Больше всего уважал силу таких жизненно важных органов, как ум, руки с ногами и кошелек. Проживал мой очередной избранник в семье, в которой ценили умение зайти в нужное учреждение с заднего входа и вполне законно вынести оттуда все, что им нужно, в необходимом ассортименте и количестве. Эдик это умение в себе развил до совершенства, поэтому даже когда можно было войти, как все, и купить у прилавка без очереди, он все равно шел через подворотню в потайную облупленную дверь и с переплатой брал нужное — по привычке.
Скажу честно, он мне нравился. Это с его помощью мне удалось прочесть тот немыслимый дефицит, который тогда пылился только на полках людей «очень нужных и ценных». Он меня водил на подпольные концерты и выставки, закрытые просмотры фильмов. Люди вокруг него увивались интересные, и от них он тоже брал все, что мог. После завершения очередной, иногда многоходовой удачной операции Эдвард мог быть очень милым и веселым.
Однажды, например, он, посадив меня на загривок, под мои истошные вопли взошел на крутой склон холма. Когда я открыла глаза и оглянулась на пройденный путь, голова закружилась, и я поняла, как близко прошла костлявая мадам с косой на плече. А он только смеялся и тащил меня за руку дальше, к новым подвигам. Не берусь утверждать, что эти его рыцарские забавы были мне не по душе. Иногда мне казалось, что мое счастье бесконечно близко — только руку протяни.
Я уже было хотела посвятить его в высшую степень приближения — «мой подруг», но на время коронацию отложила. Например, меня не устраивало одно обстоятельство: доброты в нем я не смогла обнаружить, как ни старалась. И еще действовали на нервы его приговорки: «А что я с этого буду иметь?» или вот эта: «Все продумано!». И еще у меня в самой глубине души зудело сомнение: а уж не девушник ли он? Эту последнюю мысль я все время гнала прочь. Она снова зудела… Так этот вопрос я и не выяснила. Не успела.
Когда я заговорила о венчании в соборе, он взглянул на меня, как на дурочку из переулочка, и только укоризненно покачал красивой головой с высоким умным лбом. Нельзя сказать, что я так уж сразу потеряла надежду. Билась за мечту до последнего патрона. Но однажды все разом оборвалось. На его день рождения я ему — подарки в бантиках, я ему — свое новое платье с вытачками повыше талии и восхитительным бисером по краю подола, я ему — стихи трехстопным ямбом о высоком и вечном, в смысле, о любви. А он в мое распахнутое настежь нежное сердце — кирзовыми сапожищами в мрачной скипидарной ваксе.
До сих пор помню безумный взгляд, наглые руки — и мои ледяные ладони, брезгливо отпихивающие все это гадство, и мой писклявый вопль: «Вы меня расстроили! Вы меня очень сильно расстроили! Зачем вы предлагаете мне низкое? Я сейчас зарыдаю!» И уже пыталась было это совершить, а он, совершенно в манере нынешних мужчинков, испугался, замахал на меня руками и выпроводил из дому среди ночи, сунув в карман десятку. Эта десятка меня обожгла, как перегретые щипцы для завивки волос. Мне показалось, что меня ею уничтожили, растерли, как чайную розу по шершавой стене.
Печальной, как в кино «Пришел солдат с фронта», я возвратилась с передовой. Лечение в тыловом госпитале было тяжким и долгим. Рана, нанесенная неприятелем, оказалась серьезной.
После такого тактического отступления мне следовало изменить свои методы общения с противоположным полом, и я задумалась. Как сейчас помню, села я в кресло, приняла наиболее удобную для думания позу, подтянув колени к подбородку, вперила задумчивый взгляд в туманную даль… И ничего. Ладно, думаю. Села по-другому, сложив ноги вбок, а руки распустив по подлокотникам, снова выпустила взгляд наружу для задумчивого удаления… И снова ничегошеньки. Так и не получилось у меня думать. А жаль. С некоторых пор мне этот процесс понравился.
Вспоминаю, как однажды папа, после моей двойки по физике, сказал нерадивому чаду, что не дано, видно, мне быть мыслящим тростником, так пусть буду просто тростником. Дубиной, что ли? Да еще сушеной? Не ответил мне папочка, только уничтожающе полоснул взором диктатора по моим выразительным уже в те младые лета глазищам и удалился в кабинет дописывать докторскую.
Худющей я оставалась лет до семнадцати, так что этим я на тростинку походила. А мыслящей мне все-таки стать удалось. Как я себе это представляю, перерождение произошло путем возмещения изъянов мыслительного аппарата избытком вещества моей душевности.
В тот самый период, очень плачевный для меня — и в прямом и в переносном смысле, — мы и сблизились с Кастрюлькой, то есть, конечно, со Светиком. Она взяла меня в свой лазарет, измазюкала зеленкой сочувствий, забинтовала мудрыми советами, а вместо моих немощных мозгов, временно, конечно, немощных, да… Так вот, предложила она мне мозги свои для думаний за меня, изрядно тогда поглупевшей.
Первой микстурой в ее рецепте был прописан Горец. Имя его так я выговаривать и не научилась: слишком много там имелось разных букв. Да и какая разница, какое там у него имя или национальность, если разговоры о нем имели чисто терапевтическое назначение. В конце концов, как правильно за кадром сказал киношный знаток этой темы, не нужно называть национальность горца, чтобы не обидеть соседнюю, потому что точно такая же история, случившаяся с ним, может произойти с другим горцем другой национальности.
Светка, чтобы придать этому фанту больше весу, уговаривала, что он «голубых кровей», «дворянских корней» — князь какой-то. Правда, потом громко ржала, топая копытцами по цементному полу курилки, и комментировала, что, дескать, ой, ну у них же там, как кто в угол сакли ходить перестает, так сразу князем становится. Иго-го-го. Самым веским аргументом его горского достоинства она считала размеры автомобиля. Когда я спрашивала, какой марки, будто в этих марках что понимаю, она округляла глаза и губы и доходчиво, как совсем некудышной, поясняла: «Синенькая такая! С колесиками…»
Вообще-то, несмотря на свое «верхнее» техническое образование, она иногда меня удивляла своей не замутненной знаниями чистотой. Как-то прискакала она с обеденного перерыва, как всегда, с часовым опозданием, и выдала шумную новость, что в магазине сантехники узнала такое чудненькое слово — «ар-ма-ту-ра»! С того обеденного перерыва этим словом она называла все таинственное и малопонятное. Например, о кадровых перемещениях в отделе она говорила, что «это несусветная чехарда, в общем, арматура какая-то».
Когда же мы вдоволь наобсуждались кандидатурой Горца, то вынесли ему единодушный вердикт: это нам не ва-ри-янт!
Да и Геннадия мне присоветовала тоже она, заботливая. О, этот Геннадий имел много чего от того идеала, который упрямо сидел в моей мечте и не давал покоя. Самое главное — это его могучий талант. Геннадий был известным в определенных кругах художником. Это давало ему деньги, свободу и хотя строго ограниченную, но все-таки — славу. Если в предыдущих мужчинах явно недоставало душевности, то в Геннадии она имелась даже с избытком.
Зарабатывал он себе на пропитание и на славу портретами того самого определенного круга людей, которые устроили всеобщее счастье в отдельно взятом коллективе избранных. Однажды я спросила, как ему удается таких малоприятных субъектов так красиво изображать на холсте. Например, вот эта физиономия на фотографии только чуть-чуть похожа на портрет, ее изображающий. Явная тупость на фото превратилась в легкую печаль, злой исподлобья взгляд — в многозначительность, а тяжелая челюсть костолома — в твердый подбородок волевого человека. В результате зверь орангутанг преобразился в нечто человекоподобное.
Автор сначала вскинул бородато-длинноволосую красивую голову с высоким лбом, потом вперил в меня свой отстраненный взор и баском пропел: «Всякий человек нам интересен, всякий человек нам дорог». Потом убавил патетику и искренне признался, что под призмой водки все люди удивительно красивы. Потом улыбнулся, как втихаря надувший в штанишки мальчуган, и признался: «Ты знаешь, так хочется славы!..»
Мы с Геннадием общались в периоды его упадков, работы и триумфа. Следовавшие за триумфом запои он от меня скрывал. Удалялся в свою деревенскую берлогу, и там, как он признавался мне, ставил спиртовые компрессы на раны, нанесенные самолюбию.
После запоев возвращался он в студию тихим, жалким и печальным. С невыносимым угарным выхлопом… В такие дни я брезгливо жалела его, и мне казалось, что мы любим и понимаем друг друга. Тогда он, охая, плелся в свой студийный запасник, вытаскивал мой недописанный портрет и сажал в кресло позировать. Пока он выписывал мою голову, у нас росли и любовь, и понимание. Потом ему понадобилось изобразить все остальное, и он потребовал, чтобы я… ну, это… обнажилась. Когда я привычно остолбенела, он бросился ко мне и стал объяснять, что иначе он не сможет «меня увидеть», что это такой прием портретной живописи…
…Погруженная с головой в думы и воспоминания, я перестала чувствовать время и пространство. В эту минуту я вдруг поняла, что сижу на работе за столом и с помощью фломастера исписываю большими буквами линейки, листы бумаги, бланки и бумажную скатерть. Буквы имели разный наклон и толщину, менялся шрифт, но складывались они в одно и то же слово — «Павел». Под конец рабочего дня «Павел» смотрел на меня отовсюду и окружал, как то облако притяжения, которое носил вокруг себя.
Пока я сидела за рабочим столом, ко мне несколько раз из-за спины подкрадывался наш начальник Сансаныч, густо вздыхал и просвистывал: «Снова влюбилась подчиненная Милка!» Подсвистывать во время разговора он начал после выпадения у него переднего зуба во время очередного кадрового стресса. Видимо, мой взгляд дальнего обзора нес так мало информации о работе и так много — о нерабочих проблемах, что Сансаныч сокрушенно усвистывал в свой остекленный закуток терзаться, как жить, чтобы наш дружный коллектив не сократили. Потому что у нашего отдела имелась только одна работа: показывать всем, что мы нужны, и без нас выжить институту невозможно. Ну ладно, что это я о ерунде…
Мой печальный опыт попыток воплощения Принца мечты в живого человека научил меня… Так чему он меня научил? А, ну да! Что все сырьевые заготовки, взятые мною в обработку, либо были ну очень сырыми, или моя обработка не доводилась до успешного увенчания. Почему-то претенденты никак не желали принимать установки на мой идеал. Казалось бы, чего проще — рассмотри, согласись и следуй намеченному мною плану. Ан нет! Эти создания никак не вписываются в то, что так просто и естественно.
Но вдруг мысль вернулась к Павлу, и мои размышления рассыпались в прах. Этот человек никак не вписывался ни в какие категории. Он не давил на меня, не диктовал свою волю, а как бы предлагал идти рядом, сопутствовать. Вот именно, сопутствовать. И то в случае, если я этого захочу. Мне как бы предлагалось выбирать между моим нереальным мифом и живым человеком. Не простым человеком, нет, — в чем-то недосягаемым и громадным, но в то же время добрым и сильным. Я не понимала, откуда в нем эта сила? Что за сияющая энергетика держит меня в незримом плену?
Все мои сомнения разрешились сразу и растаяли, как дым, в ту минуту, когда он снова появился рядом. Вернее, это я подошла к нему, а он вышел из состояния задумчивости и улыбнулся милой и светлой улыбкой.
О, мы потянулись друг к другу, как два магнита. Я ощущала это, несмотря на физическое отстранение — ту самую «пионерскую дистанцию», которую Павел тактично, но упорно соблюдал, когда мы были вместе. И это не обижало, а только еще больше притягивало. Вокруг этого человека имелась невидимая область сильного притяжения — и я снова вошла в сияющее пространство, и выходить оттуда не хотелось.
Павел предложил зайти к одной знакомой. Сначала в мое сердце впилась маленькая, но острая иголка ревности, но я взглянула в его глаза и успокоилась: человек с такими глазами не может сделать не только зло, но и даже малейшую неприятность. С каждым ударом сердечка я уверялась, что неотвратимо влюбляюсь, как девчонка…
Подошли мы к входной двери, обитой дерматином. Обивка во многих местах потерта и разорвана. Взглянула я на эту дверь и ненароком подумала: что полезного может быть за такой драной дверью? На душе снова появились смута и желание быстренько отсюда сбежать. Павел все понял и положил руку мне на плечо. Это мягкое прикосновение успокоило. Дверь открыла миловидная женщина с обаятельной улыбкой на усталом бледном лице. После ее «милости просим» мне стало легко. Мы вошли в дом, и нас уютно обняло ароматным теплом.
Нина привела нас в большую комнату с обилием икон и книг. Кроме иконостаса с горящей лампадой рубинового цвета, подвешенной на цепочке, иконы покрывали почти все стены. Иконы в этом доме не просто почитали, но любили — это было заметно. В углу комнаты на двух столах тоже размещались иконные доски: судя по кистям и пузырькам с красками, их здесь расписывали.
Мне доводилось бывать в мастерских художников и наблюдать обычный для них богемный беспорядок. Здесь же каждая вещь имела свое место. Чистота поддерживалась идеальная. Воздух наполняли тонкие ароматы. Мне все время казалось, что свет в этой комнате лился не из окна, но отовсюду сразу: от потолка, стен, пола и от каждого предмета. Даже хозяйка, казалось, излучала свет.
Павел с Ниной рассматривали иконы, бережно их перекладывали, вполголоса что-то обсуждали. Я же осталась без присмотра и жадно впитывала необычность этого места.
Затем мы сидели за столом и пили чай с печеньями и принесенным тортом. Нина рассказывала о своих экспедициях, в которых она собирала иконы. Оказывается, объездила она всю страну, особенно Север и Сибирь. Часто ей приходилось раскапывать мусорные кучи рядом с разрушенными церквами — и там, как самородки из земли, открывались древние прекрасные иконы. Нина говорила об этом простыми словами, глаза ее светились, в моем же сознании живо рисовалось то, что она описывала. Павел, похоже, испытывал то же, что и я, потому как даже про свою чашку забыл. И если сначала я ощущала покалывания ревности, то сейчас чувствовала радостное единение с душой Павла.
И вдруг я решилась задать вопрос об аромате, который так явно наполнял воздух. Нина подняла на меня задумчивый взгляд, потом скользнула им в сторону Павла, как бы ища одобрения. Слово за словом, как бы идя по тонкому льду, она говорила о совершенно таинственном явлении. Первые ее слова кружились вокруг моего рассудка, который никак не хотел их принять. Потом они нашли другой вход — где-то внутри; наверное, в сердце. Так вот, где-то глубоко внутри они стали входить и прояснять тайну.
Оказывается, иконы могут источать ароматы и даже капли ароматной жидкости — мира. Я хотела спросить, как же это совершенно сухие доски могут выделять влагу, но она опередила мой вопрос и объяснила, что аналогов этому явлению в физическом мире нет, это Божественное чудо, явленное людям для укрепления веры. Благоухают у нее иконы после чтения молитв. Иногда это длится лишь мгновение, иногда аромат держится длительное время.
Еще она рассказала, что случаются обновления икон. Это когда почерневший образ сам собой просветляется, как бы выступает из темноты и начинает сиять живыми яркими красками. Нина встала и указала на икону Богородицы, которую я приняла за только что написанную. Так нет, еще недавно изображение было темным и едва различимым. А в день ее чествования, когда Нина весь день молилась перед ней, образ постепенно стал обновляться, и к вечеру краски сияли, как свежие. Говорила она это спокойно, как о чем-то обыденном, а во мне зарождалось незнакомое чувство смешанного страха и восторга. Страха — перед явным проявлением Небесной тайны, восторга — от своей причастности к ней.
Когда мы вышли из этого необычного дома, Павел сказал, что Нина — его наставница по иконописи. Он перенимает у нее секреты этого непростого дела. Снова и снова Павел удивлял меня, открываясь новыми гранями таланта. Так же просто, как Нина, он рассказывал, что это искусство не только интересно, но и опасно. Это, примерно, как находиться в работающей трансформаторной подстанции в области высокого напряжения: там даже волосы встают дыбом от электризации. Неверное движение, потеря осторожности ― и так может ударить, что…
Во время написания иконы и после могут быть моменты, когда душа готовится расстаться с телом. Стоит прервать молитву, как все начинает падать из рук и рассыпаться. Под окнами вдруг начинаются крики, за стенкой ссорятся соседи, громко включают телевизор или магнитофон, машины на автостоянке одна за другой заливаются противоугонными сиренами, собаки во дворе лают, телефон каждые пять минут истошно звонит… Искушения! А после завершения работы Павел иногда неделю лежит больным и совершенно серьезно готовится умереть. Но после такого болезненного периода вдруг все разом проходит, он выздоравливает и некоторое время чувствует в себе мощный подъем жизненных сил.
Я невольно вспомнила деревенские запои своего бывшего портретиста Геннадия и горько про себя усмехнулась. А Павел уже говорил о том, что святой, образ которого ты пишешь, после завершения иконы становится твоим небесным заступником. Ты ощущаешь его помощь по ответу, который согревает сердце во время молитвы, обращенной к нему. Сказал он еще, что уже во время написания образ живет своей таинственной жизнью и как бы направляет твою кисть. А после окончания работы уже смотришь на икону не как на свое произведение — четко осознаешь, что творил не ты, тебе лишь позволяли помогать в рождении этого образа.
В тихом скверике на уединенной скамейке я осмелела и засыпала его вопросами. Павел рассказывал о своей жизни, а я иногда ловила себя на мысли, что все это нереально, что вот сейчас я проснусь и вернусь в обычный мир привычных вещей. Но вслед за этим появлялось острое нежелание уходить из открывающегося мне светлого мира, где живут тайны и чудеса, где невидимое более реально, чем видимое, а небесные святые — ближе, чем живые окружающие нас люди.
Изредка я вскидывала глаза и пристально всматривалась в лицо своего собеседника: а не сошел ли он с ума, не пьян ли? Но нет, более трезвого и спокойного человека мне еще встречать не приходилось. Павел догадывался о том, что со мной происходит, поэтому иногда давал мне время опомниться и обращался к более приземленным темам. Но мне самой это снижение быстро надоедало, и я просила вернуться на прежнюю высоту. Я будто пила незнакомый искрящийся напиток, он мне очень нравился, и я не могла им насытиться. Светлую радость сменяла тревога, снова возвращалась еще большая радость, истина как бы вливалась в мою душу, и там все оживало и расцветало, как в весеннем саду.
Мало-помалу становилось ясно, что этот таинственный мир изначально жил во мне и вокруг меня и терпеливо ждал, когда я захочу его принять, когда я наконец-то добровольно обращусь к нему. И еще я подумала, что из всех моих знакомых Павел стал первопроходцем, поэтому ему было так трудно в одиночестве продираться через непроходимые дебри к свету.
Почему именно он избран для этого подвига? Наверное, потому, что он честный, во всяком случае, честнее всех нас. Он органически не терпел лжи и всех ее порождений, а правду, какой бы страшной она ни была, ставил выше любой кривды, даже если та всех устраивала.
Еще я понимала, что эта моя уверенность может растаять, как только Павел отпустит меня из пространства своего притяжения. Меня снова «размагнитит» обычная жизнь с ее сиюминутными проблемами, вроде «поесть», «одеться», «развлечься». Как Павел сказал, «пили, ели, женились — всемирный потоп; снова то же самое — и вот вам уничтожение Содома с Гоморрой; и теперь опять пьем, едим, женимся… а предупреждений больше не будет…»
И тут с моих губ совершенно случайно слетел вопрос: «А когда мы умрем, как же наша любовь будет жить без нас?» — «Любовь не умирает. Поэтому те, кто любит, живут вечно», — ответил он мне.
Когда опустился теплый вечер, и уже пора было расставаться, Павел с печалью в голосе сообщил, что ему нужно уехать на пару недель в экспедицию за иконами куда-то в северную глубинку. Я сразу разнылась, как маленькая: что, мол, я теперь без него буду делать, как жить? На что он открыл сумку и достал оттуда общую тетрадь. Вот, говорит, мой дневник, там есть все, что я не успел тебе сказать, поэтому можешь читать. А когда встретимся, помолчим, а потом поговорим.
Домой я несла тетрадь как великую драгоценность. Она притягивала мое внимание и требовала дать ей возможность выговориться. Читала я дневник полночи, пока глаза не слиплись, и я не провалилась в глубокий сон. Во сне — чудном и светлом — я переживала новые впечатления.
Тетрадь эта не была дневником в обычном смысле. Просто он записывал размышления, из собственного опыта во время обращения к вере. Там имелись выписки из Библии, писаний святых отцов христианства и наблюдения его верующих друзей.
Павел долго и мучительно искал истину. Что его так влекло? Откуда в нем такое острое желание прорваться к той единственной правде, которая объяснит ему тайны жизни? Ну, жил бы себе, как все, — так нет. Только потом он понял, откуда это. Оказывается, Господь избирает людей для спасения и посылает им Свою призывающую благодать. Совесть начинает мучить человека. Позже он делает вывод: совесть — голос Божий. Бог — это любовь, свет, и нет в Нем никакой тьмы, и Он не может мучить. Он вечен и неизменен в Своей абсолютной любви к Своему творению — человеку.
Все эти наши душевные смуты и тоска — от нежелания принять зов истины, от нашего гордого и самолюбивого неприятия Бога. С Богом в душе грешить уже нельзя, стыдно. Более того, у человека, ставшего на путь веры и очищающего душу от греховной нечистоты, любой грех превращается в боль, которую можно унять только покаянием. Значит, отторжение Бога — это проявление в человеке эгоистического желания наслаждаться, пребывать в страсти.
С особым чувством я впитывала в себя размышления Павла о счастье. Он писал, что желание этого состояния не должно осуждаться — оно естественно для человека. На нескольких страницах он анализирует те пути, которые обычно, по мнению большинства людей, ведут к счастью. Он как бы соглашается с этим мнением, сам идет рядом с собеседником и спрашивает, правильно ли он меня понимает, не ошибается ли в изложении моего мнения? Нет, соглашаюсь я, ты прав, Павел. Я действительно так и думаю: счастье — это крепкая семья, это хорошие дети, это достаток в доме, это… И вот вместе с ним я как бы сама прихожу к мысли, что если источник любви — Бог, то и любовь без Бога невозможна.
Дальше автор дневника ведет меня в рай, в тот чудный Эдемский сад, в котором жил человек до своего падения. Оказывается, человек был задуман Творцом для того, чтобы он стал царем мира тварного, который Творец создал от избытка Своей любви, для украшения сущего. Адам был изначально бессмертен. Он не знал болезней, печали, сомнений. Бог Отец общался с ним, как ласковый отец с любимым сыном, — поучал и наставлял его. Адам должен был под руководством Отца приумножать тварный мир и совершенствовать его. А предела этому созидательному процессу нет, потому что идеал у него бесконечен и неисчерпаем — Сам Господь. Грехопадение человека произошло по причине ослушания воли Божией. Как блудный сын из евангельской притчи, человек уходит от Отца, чтобы к Нему вернуться добровольно, поняв, что жить вне Бога — невозможно. Очень порадовал меня вывод автора: то, что задумал Творец, непреложно, поэтому человек обязательно вернется в изначальное состояние царя тварного мира для продолжения своей прекрасной миссии!
Павел пишет, что земным прообразом возвращения блудного сына в отечество служит жизнь человека в Церкви. Пост — питание тела райской пищей: злаками и плодами деревьев. Молитва — общение с Богом для наставления и совершенствования. Причастие Святых Таин — это питание плодами древа жизни.
Павел вспоминает, как впервые он пришел в церковь. Смотрел он на людей вокруг и никак не мог понять, почему они не такие, как он: рассеянно глядит по сторонам, наблюдая, как зритель, некую мистическую постановку. Они же внутренне переживали и соучаствовали в действе. Взбешенный, уходил он из церкви, но его снова манило туда, будто голодного упирающегося теленка тащили к материнскому вымени. И снова он переживал горькое чувство своей ущербности. Как? Почему? Вот эта девочка понимает, а я, взрослый, разумный, вроде не тупой, но понять происходящее не могу!
И вот однажды, когда его отчаяние достигло предела, он упал на колени и сказал: «Господи! Помоги мне, слепому и глупому, прозреть. Помоги мне понять Тебя. Откройся мне, Господи!» После этих слов наступила тишина. Такой тишины в его душе не было никогда прежде. И вот его сердца… коснулось Нечто. Словно лед в душе растаял от этого теплого оживляющего касания! Это — как первый солнечный день после затянувшейся ознобной зимы. Тихо и мягко засветило солнышко, бесшумно из синего ясного неба полились оживляющие лучики света, и — стала весна.
Я закрыла тетрадь и пошла. Мне нужно было это как-то пережить. С удивлением я обнаружила себя на работе в окружении сотрудников. Они увлеченно обсуждали возможность получения премии. «За что, милые?» — хотелось спросить их, но не стала. Выскользнула в коридор и быстрым шагом пошла в сторону света, льющегося из окна в самом конце полутемного бетонного туннеля. За стеклянной дверью в креслах у открытого окна сидели с сигаретками «девочки» из КИПовского отдела. Нет, не хочу. Не сейчас. По лестнице спустилась этажом ниже. Никого. Села в кресло и, глядя в окно, повторяла последние слова из прочитанного. На мои глаза невзначай навернулись слезы. В голове мелькнуло: как хорошо, что не успела накраситься, а то бы тушь потекла… Промокнула глаза платочком, только слезы снова льются себе и льются.
Моего плеча кто-то робко коснулся. Я вздрогнула и обернулась. Надо мной нависла большая голова Светланы.
— А чего это у нас глазки красненькие? Это ворог, что ли, довел? — загремела она на весь институт.
— Да, нет, что ты, Светик! Это я… от радости.
— Армату-у-у-ура какая-то… — шумно выдохнула Света и плюхнулась в кресло напротив.
Мне вовсе не хотелось сейчас никому, даже ближайшей подруге, говорить о том, что слегка открылось мне самой. Все это было так сокровенно, что я ощущала потребность охранять свою тайну. Только Павла я смогла бы впустить сюда. Но его не было рядом. Кое-как отбрыкавшись от подруги, я вернулась в отдел, где уже азартно делили еще не полученную премию, и снова углубилась в тетрадь.
Если легкое касание Божией благодати Павел ощутил после первого своего покаяния, то поселилась эта таинственная энергия любви в его сердце после третьего Причастия Святых Тайн.
Несколько страниц он посвятил этому Таинству. Пожалуй, для меня его литургические размышления стали верхом сложности. Но Павел и сам писал, что это самое высшее знание, дающееся человеку. Оно выводит его разум на ту грань, за которой понять что-либо возможно только с помощью благодати Святого Духа. Литургия — это действо, когда зримое соединяется с незримым, тварное — с нетварным, земля — с небесами.
Когда я это читала, моя голова вдруг начинала кружиться. Я шептала «Господи, помоги!», голова прояснялась, и снова я погружалась в этот дивный таинственный мир.
Благодать — это очень много: свидетельство прощения, покров, защита от зла, явление любви Божией, сладость неописуемая, радость мирная и тихая, сокровенное знание, любовь к ближнему и даже к врагам, отсутствие страха, счастье, наконец! Святые живут в постоянном ощущении благодати. Это норма их равноангельской жизни. Это из-за потери благодати тысячу дней и ночей стоял на камне святой Серафим Саровский и плакал: «Боже, милостив буди мне грешному!» Это за благодатью, покидая свои богатые дома, уходили в пустыни тысячи тысяч юношей, чтобы стать отшельниками. В первые века христианства пустыни Малой Азии, словно сотами, были изрыты пещерами. И по сей день множество этих пещер удивляет туристов, проезжающих мимо каменистых гор в своих комфортабельных автобусах. Да разве можно человеку без благодати Божией выжить в этих безжизненных местах, где на сотни километров ни кустика, ни ручейка?
Тихое, но настойчивое желание испить благодати поселилось в моей душе. Возможно, это же чувствовал Павел, когда снова и снова возвращался в церковь. Только ему было несравненно труднее. Не было у него таких вот доступных записей, которые как бы прокладывают мне путь. Конечно, он на основании своего опыта разъяснял те страшные заблуждения, что и его так долго держали у дверей в храм, не впуская внутрь. И мне вслед за ним идти туда гораздо проще.
Например, вот такое понятие, как смирение. Оказывается — это ключ в Царствие Небесное. Если гордыней пал ангел Божий Денница и превратился в злобного смертоносного сатану, то путем смирения человек возвращается к Богу, в отечество свое.
Невозможно ни верить, ни любить Бога, если ты не имеешь в сердце образ Его. Так вот, оказывается, образ Бога — это смиренная любовь. Что же, если не любовь, руководило Творцом в Его умалении до состояния немощного человека? Ведь в теле человека живут болезни и слабость, голод и жажда, ознобный холод и знойная жара, смерть, в конце концов! Творец вселенной жил в немощном человеческом теле, испытывая все невзгоды, чтобы указать путь спасения души. Что, если не смирение, руководило Им, когда Он позволил издеваться над Собой, предать Себя, избивать плетьми, распять на кресте и умер, как худший из людей, как разбойник… Как надо любить творение Свое!.. Нам этого никогда не понять в полной мере.
Во мне снова поднималось волнение, я боялась расплакаться и подняла глаза от тетради. На время вернулись окружающие звуки. Сейчас «девчонки» сгрудились вокруг Михайловны. Та на бумаге с калькулятором в руках расписывала те покупки, которые ей нужно совершить в течение одного дня, если у нее появится миллион долларов. Конечно, никакого миллиона ни ей, ни ее окружению не светит, но если вдруг… Так чтобы уж быть в полной готовности потратить… В какой-то момент в моей душе промелькнуло раздражение, но оно показалось таким чужеродным и не к месту, что я его решительно отмела.
На меня, к моей великой радости, внимания в отделе никто не обращал, потому что все знали, что «если Милка влюбилась, то приставать к ней бесполезно». Это меня устраивало, и я пользовалась этой возможностью для благих целей, может быть, впервые в жизни.
После работы я зашла в церковь, что златоглавой свечой белела на соседней улице. Временами, признаться, раздражал меня колокольный звон, особенно по воскресеньям, когда хочется выспаться. На дверях висел большущий замок. Я тупо смотрела на это устройство, и мои руки опускались все ниже вместе с настроением. Но вот я приметила бумажку, висевшую на левой створке дверей, и с трудом разобрала, что это расписание служб. Ближайшая вечерняя служба состоится сегодня в шесть вечера. То есть через два часа. Меня это устраивало, и я обрадовано поспешила домой. За углом в киоске продавали иконы, свечи и книжки. Я спросила, что мне нужно купить для начала. Тихая девушка с задумчивыми глазами серьезно так протянула мне молитвослов, книжечку Евангелия и картонный складень с образами Христа и Богородицы.
Едва я вошла домой, открыла тетрадь в том месте, где писалось о правилах посещения храма. Оказывается, женщина должна быть одета так, чтобы ни в коем случае не отвлечь своими нарядами и обнаженными участками тела окружающих, тем более мужчин, от молитвенного общения с Богом. Стоять порядочная женщина должна с левой стороны и сзади мужчин (так вот, оказывается, откуда «замужем»). Все это, чтобы, значит, не стать невольной соблазнительницей.
Платок на голову — это не прихоть, а знак ангелам о смирении перед Богом и мужчиной. Потому как не мужчина создан для женщины, но женщина для мужчины. А мужчина есть господин женщины. Еще недавно я бы предалась по этому поводу длительным возмущениям, но вспомнила Павла и поняла, что это великое счастье — иметь такого господина, а уж подчиняться ему — предел моих мечтаний.
Вспомнила, как девочкой любила устроиться на коленях большого доброго папы, и вдруг поняла, что мое смирение подчинению вполне меня устраивает и даже нравится, потому что это высшее проявление женственности. Ведь именно женская слабость — это наше самое большое богатство и достоинство. Именно для слабой и беззащитной женщины любой мужчина готов совершать подвиги и носить ее на руках.
Приготовила одежду к выходу и снова приникла к тетради. Перед исповедью нужно читать покаянный канон, чтобы душа «размягчилась», и возникло желание освободиться от грехов. Нашла в своем молитвослове этот канон, и во время чтения волнующих слов канона действительно во мне нарастало ощущение своей нечистоты. Далее на двух страницах перечислялись грехи, которые обычно совершает человек. Я была потрясена: все это было мое, вся эта грязь сидела в моей душе и терзала меня! Стала выписывать их на листочек, и эти уродливые черные злобные существа, как живые, плясали перед моими глазами и позорили, издевались надо мной.
Ближе к шести я оделась в строгий темно-синий костюм с длинной юбкой. На шею повязала косынку, чтобы потом покрыть ею голову. Но перед самым выходом из дома со мною стало твориться что-то нехорошее. Навалилась тоска, в ногах появилась болезненная слабость. Непрестанно звонил телефон. На лестнице пьяно шумели соседи, выходить туда было страшно. Я в растрепанных чувствах присела на стул и растерянно оглянулась. Желания идти куда-нибудь из этого тихого уютного гнездышка я в себе не наблюдала.
Но вот взгляд мой плавно и бездумно доплыл до тетради, лежавшей на столе, и я, как за спасательный круг, схватилась за нее. Полистала и нашла. Когда человек собирается вырваться из греховного состояния и совершить что-либо для спасения своей души, то силы зла обязательно будут препятствовать этому. Тоска, смятение, тяжесть в сердце, все падает из рук, звонки по телефону с предложениями развлечься, шумы и крики со всех сторон — это будет продолжаться до тех пор, пока человек не осознает, откуда они исходят, и твердо не скажет сам себе: «Лучше я умру на пути к Богу, чем в сетях сатаны!» Нужно все отбросить, встать и решительно идти в храм.
Встала я, перекрестилась и пошла к двери. Открыла ее стальную створку и выглянула наружу: тишина, никого. Вызвала лифт и с сердцебиением предынфарктника спустилась на первый этаж. Выбежала во двор, оглянулась и короткими перебежками, как под обстрелом неприятеля, двинулась в сторону колокольного перезвона.
Только внутри церкви почувствовала я себя в безопасности. Оглянулась, подошла к женщине за прилавком, купила свечей и спросила, где тут принимают исповедь. Она показала на уже собиравшуюся очередь. Подошла и спросила, кто крайний. Поднял на меня глаза только ближний ко мне дядечка, сказал, чтобы я за ним держалась, — и снова опустил глаза вниз и затих. Я тоже присмирела и представила себе, что это очередь на суд, где сейчас будут раздавать сроки заключения, штрафы, удары плетьми…
Вспомнила, что исповедь принимает Сам Господь, незримо стоящий рядом со священником, который лишь выполняет как слуга Его волю. Перед иконостасом мужчина в черной длинной одежде — кажется, ряса называется — читает молитвы. К нашей очереди подошел молодой священник и положил на аналой (вспомнила из тетрадки) Крест и Евангелие.
Негромко стал читать молитвы. Некоторые из них я уже вычитывала в каноне. Общую исповедь он закончил небольшой проповедью. Сказал, что грехи, которые он перечислил, называть уже не надо, и я стала их вычеркивать из своего списка.
А еще недавно — продолжал священник — говорил он с мужчиной, который умирал в больнице. Видел этот больной, как отделился от своего тела и наблюдал за врачами со стороны. Кричал им, что он здесь, рядом, но никто его не слышал. Потом его подхватили ангелы и понесли наверх. Там, на небесах, ему показали дивные светлые места, где множество людей в белых одеждах радостно приветствовали его. Но потом его понесли вниз, где было темно и мрачно, кричало множество людей, но он не видел их, а только слышал страшные крики. Видел только злобные красные глаза, но они не могли приблизиться к нему, потому что ангелы не позволяли. Когда он вернулся в свое тело и ожил, то сразу попросил привести священника и исповедался ему. Принял Святое Причастие. Сейчас он здоров и стал прихожанином храма. После этих слов священник подозвал к себе седого мужчину лет пятидесяти, и я почему-то подумала, что это, наверное, про него сейчас рассказывали.
Итак, исповедь началась. Глядела я во все глаза, как к священнику один за другим подходили люди из очереди, шепотом перечисляли грехи. На их склоненные головы священник накладывал полосу с изображением Креста, читал разрешительную молитву. Затем они целовали крест и Евангелие на аналое, целовали руку священнику и отходили, некоторые со слезами. Страх в моей груди нарастал, сердце часто билось, больше всего я боялась сделать что-то не то. Несколько раз мне до боли в животе хотелось незаметно сбежать, но я помнила, откуда все эти заморочки, и терпеливо ждала своей очереди.
Когда я на негнущихся чужих ногах подошла к аналою и для устойчивости вцепилась в его край, то жалобно, тоненьким голоском сказала: «Помогите, батюшка, я в первый раз…» Он взял из моих трясущихся рук измусоленный листочек и стал его читать. Показал пальцем в название одного очень нехорошего и стыдного греха и спросил, что это? Я шепотом произнесла, заранее покрываясь красными пятнами. Он спокойно дочитал и сказал, чтобы к следующему воскресенью я готовилась к Причастию, а всю следующую неделю с этого дня читала утреннее и вечернее правила из молитвослова, покаянный канон и клала поясные поклоны столько раз, сколько лет жила вне церкви.
Потом слегка улыбнулся и спросил, по силам ли мне это. Я затрясла головой: конечно, справлюсь. Он положил мне на голову епитрахиль, перекрестил меня и прочитал молитву, в которой говорилось, что он, недостойный иерей, властью, данной ему Господом, разрешает меня от всех грехов. Вот епитрахиль с меня снята, я разогнулась. Как все передо мной, приложилась ко Кресту, Евангелию… Думаю, целовать ему руку или все-таки не обязательно. Что-то во мне противилось этому. Батюшка увидел мое затруднение и прошептал: «Прикладывайся или отходи — люди ждут». У меня в голове вдруг всплыло и прозвучало: «Не мужчине, а Господу Богу ты целуешь десницу!» — и я, как все, сложила ладошки крестообразно. Священник положил сверху свою руку, я приложилась к ней и почувствовала наконец-то облегчение.
Отошла от аналоя и слышу рядом: «Поздравляю с первой исповедью». Сказал это седой мужчина, который стоял передо мной в очереди. Я поблагодарила его, совсем успокоилась и спросила, а не про него ли рассказывал батюшка. Про меня, кивнул он. Я, наверное, улыбалась, как арбузная корка, поэтому он спросил, понимаю ли я, что со мной произошло. Ничего я сейчас не понимала. Мне было так светло и радостно, будто с меня мешок грязи свалился. Мужчина сказал, что под епитрахилью сгорели все мои грехи, и на суд я их не понесу. Если бы про смерть говорил кто-нибудь другой, я бы, может, и не поверила, но этот человек сам это пережил. Потом он показал, где мне лучше стать, а сам пошел направо, где стояли мужчины.
Всю следующую неделю я старательно читала молитвы и каноны, делала поклоны за свои безбожные годы. Настроение держалось устойчиво хорошим, только перед субботней службой разволновалась, почти как в первый раз. Ничего, снова исповедалась, перечисляя то, что вспомнила за всю свою непутевую жизнь. А уж когда пошла к Чаше со Святыми Дарами, сложив руки крестом на груди, испытала настоящий страх: вот, Он рядом со мной, — Сам Иисус Христос! — и так боишься невольно оскорбить Его малейшим греховным помыслом.
После причастия шла домой, как по небу плыла: внутри меня была частица Самого Иисуса Христа, вокруг меня светило яркое солнце, и люди стали такими добрыми и красивыми!
Дома отключила телефон, накрыла стол по-праздничному. И вот за столом ощутила присутствие Павла — это очень ясно мне представилось… И я подумала, почему же он уехал? Теперь-то я понимала, что ничего случайно в духовной жизни не происходит. И вдруг — как озарение! — я все поняла. Если бы он был рядом, то я увлекалась бы притяжением его личности, и это меня отвлекло бы от Господа и моего покаяния. А так, ему в подарок, с его помощью, используя опыт из дневника, мне удалось пройти через все преграды и совершить самое главное в жизни.
После праздничной трапезы почувствовала «немощь плоти», прилегла на часок вздремнуть. Сон мой был легким, как пух, и прозрачным, как день за окном. Проснулась свежей и веселой, включила телефон — и он сразу в моих руках затрезвонил. Сначала позвонила Светланка. Она отругала меня за то, что я «пропала», на что я ответила, что «наоборот, нашлась». Услышав мой радостный голос, она успокоилась и, вздохнув: «Ну и Па-а-авлик… Это ж полная ар-ма-ту-ра», убедительно просила звонить, ежели что. Следом за ней прорвался ко мне Геннадий, который долго и настойчиво просил меня вернуться, угрожая, что он «в случае чего и жениться на мне может».
Последующие дни ко мне шли с разными вопросами, просили помочь, приходили в гости, звонили по телефону — все, кому ни лень. «Девочки» из института хором отмечали, что я расцвела, похорошела и что «мой новый роман очень благоприятно сказывается на моей внешности». Кто-то просил рецепт моей косметической маски, кто-то спрашивал адресок женского салона красоты, куда я устроилась, и требовали озвучить цены на тамошние услуги. Да, однажды меня встретил после работы Эдвард с букетом роз и, заглядывая в мои ясные очи, вежливо, но трепетно вопрошал, а не свободна ли я?
И только к концу недели появился мой долгожданный господин. Из телефона посыпались вопросы о моем самочувствии, успехах, настроении. Я ему сказала только одно: «У меня все-все по-лу-чи-лось!» Он все понял и поздравил меня. Мы договорились о встрече, и, помедлив, Павел чуть слышно произнес: «Ты самый дорогой мне человек…»
Полигон
Ближним моим и дальним, пока еще живущим на Полигоне, посвящается.
В мое окно постучали, я нехотя оторвался от книги, накинул куртку и вышел наружу. Хозяин взмахом руки позвал за собой, широким шагом двинулся в сторону своей резиденции. Я понуро следовал за ним. Такое посещение Хозяина предвещало одно из двух: хорошую взбучку или награду. Так как за последнее время ничем особенно хорошим я не отличился, то, скорей всего, сейчас меня ожидают неприятности. Еще раз всмотрелся в спину Хозяина, энергично, чуть вразвалку идущего впереди, но ничего полезного для себя из вида его мощной спины не извлёк.
Только что привезли машину свежего товара. Жора уже выковыривал из кучи самое ценное. Его подручные сортировали отобранное шефом по аккуратным кучкам. Ряша подкатилась шариком, быстренько хватанула кусок зеленого хлеба в одну руку, черный банан — в другую и, кусая добычу на бегу, ретировалась. Жора успел-таки лениво пнуть ее в бок каблуком сапога, но не больно, так — для порядка.
В кабинете Хозяин устроился в своем кресле, подбородком указал мне на один из стульев. Я присел, вытянул руки впереди себя на столе, сцепив пальцы в замысловатый замок. Хрипловатый голос Хозяина прозвучал неожиданно тихо:
— Надо будет удвоить процент этому деловому.
Оказывается, он наблюдал в окно за шустрой работой Жоры. Перед ним на противоположной стене кабинета светились экраны множества мониторов. Каждый показывал, что происходит в разных точках Полигона, где имеется хоть какая-то деятельность. Из-за спины Жоры профессионально проверялся, то есть воровато оглядывался, полковник органов надзора Удин, ожидавший своего процента.
Когда-то этим занимались бандиты. Потом одних перестреляли, другие со временем перешли в легальный бизнес, третьи перешли в органы и уже под их железным щитом обирали бизнесменов. «Полковник в законе» Удин работал в прежних еще органах, затем его поймали на убийстве своего начальника, предложили уволиться с повышением, но он обиделся, убил обидчика, затем создал собственную банду. Когда органы стали сотрудничать с бандитами, полковник восстановился в прежнем звании, добавив к нему полученный в банде титул «в законе». Так и ходил на работу в погонах, татуировках и золотых цепях. Единственным человеком, которого он остерегался, оставался Хозяин, хотя поговаривали, что и тому приходится иногда прибегать к помощи «полковника в законе».
— Он и так ворчит на непосильное бремя поборов, — бросил я наугад, чтобы выйти из своего ступора.
— Ерунда! Только я один знаю, сколько он ворует и как. Жорик обнаглел, а за это надо наказывать. — Хозяин помолчал и обернулся ко мне. — Понимаешь, Леха, мне все про всех известно. И про тебя тоже…
Мне стало жарко, я расстегнул несколько пуговиц своей куртки и уставился на одну из них, спрятав глаза от пронизывающего взгляда Хозяина. Позеленевшая медная пуговица висела на двух нитках. Внутри пылающей головы пискнула жалкая мыслишка: «Если выйду отсюда своими ногами, обязательно ее пришью покрепче».
— Скажи, ты ходил на Лысую гору?
— Ходил, — выдохнул я обреченно.
— И что там делал?
— Смотрел на Дворец.
— Ну и как он тебе?
— Мне показалось… То есть знаю точно, что он…
— Я слушаю.
— Он прекрасен! — вырвалось у меня.
Моя голова опустилась еще ниже. Пальцы одеревенели от напряжения. Я замер в ожидании страшного. И вдруг совершилось нечто неожиданное. На мои оцепеневшие пальцы легла сверху теплая громадная рука. Я поднял глаза и встретился с незнакомыми глазами Хозяина. Такого в них я еще не видел: из самой глубины зрачков на меня струилась отеческая умная доброта.
— И что, действительно, как говорят, он сияет?
— Да, Хозяин, сияет, как солнце! — выдохнул я, совершенно осмелев. — А вы разве сами не видели?
— И у Авеля ты был?
— Да.
— Что же он тебе сказал?
— Авель сказал, что двери Дворца открыты для всех.
— Это я знаю, а еще что?
— Еще он сказал, что меня туда зовут.
— Ну, что ж… Ты ни разу не соврал. Значит, я в тебе не ошибся.
Он встал со стула напротив, куда пересел во время моего испуганного забытья, и вразвалку прошелся по кабинету. Я с облегчением осмотрелся. Мне доводилось бывать здесь дважды, но ничего, кроме своих сцепленных рук на столе и внутреннего напряжения, в памяти не осталось. Кабинет, как и вся резиденция Хозяина, по меркам Полигона, имел вид солидный и даже роскошный. Но мне довелось увидеть Дворец, а после этого зрелища все на Полигоне мне казалось гнилым хламом. Дворец сверкал гранями драгоценных камней, сиял ярким светом. Нет слов, как он прекрасен!
— Мои предки строили этот Дворец, — донесся издалека голос моего собеседника. — Отец мой во время восстания брал его штурмом. Был даже комендантом, но его убили во время бунта. Меня как сына героя поставили Хозяином Полигона. У нас в семье было двенадцать братьев и сестер. Они все уже умерли. Мой учитель говорил, что смерть на Полигоне только тогда может считаться героической, когда человек, презирая законы старого мира, убивает себя сам. Именно так все мои родственники и поступали. Одни убивали себя пулей, другие водкой, третьи бросались вниз головой со скалы героев. Сейчас я уже стар, и передо мной стоит выбор: или покончить с собой, или идти во Дворец. Ни того, ни другого я сам сделать не могу.
— Хозяин, вы себя недооцениваете. Нужно лишь встать и пойти.
— Совсем ты еще мальчишка, Леха, — улыбнулся он, задумчиво теребя седую бороду. — Чем дольше работаешь на Полигоне, тем труднее выбраться из его паутины. Поэтому я тебя прошу… Да, прошу пойти во Дворец и отнести туда мой дар. Говорят, если они примут дар, то у человека появится шанс выжить. Даю тебе время проститься со всеми, и сразу уходи. Слышишь? Не задерживайся, какие бы ни возникли причины, — уходи решительно, без оглядки!
Вышел из резиденции я другим человеком. Окинул взглядом обширные поля Полигона, людей, копошившихся в кучах товара, птиц, летавших над всем этим в сером небе, — и будто увидел все впервые. Каким неприглядным мне это показалось! И отвращение, и жалость закрались в мою грудь. Но вдруг я вспомнил о грядущих переменах — и будто свежим ветром дохнуло на меня. Куда мне отправиться в первую очередь? Наверное, к Авелю.
Только что привезенная куча товара уже рассортирована. Жора сидит на веранде офиса и считает доходы. Он поднимает на меня глаза и улыбается:
— Кажется, сегодня я заработал еще на одну виллу.
Вилл у Жоры несколько, причем в самых красивых местах. Мне довелось побывать на трех. Одна стоит близ дороги, по которой возят товар. Когда проезжает очередной грузовик, виллу трясет и грохот заглушает все разговоры. Не помогают ни высокий забор, ни множество пластмассовых деревьев, ни ярко-зеленая синтетическая трава, хотя все эти модные навороты и стоили ему бешеных денег. Другая находится на берегу реки. Бурые воды этого водоема источают густые испарения, от которых даже наши птички падают замертво. Третья вилла одиноко торчит на колесиках среди бетонного поля. Дело в том, что товар после сортировки и отлежки трамбуют и заливают бетоном. На бетонных полях некоторое время живут, но свободного места у нас тут все меньше, поэтому в некоторых местах товар укладывают вторым слоем поверх бетона, а построенное здесь жилье перемещают с места на место.
На свои виллы Жора ездит на комфортабельном автомобиле. От грузового он отличается тем, что внутри кабины лежит толстый мягкий коврик, поэтому трясет меньше. Еще там есть вентилятор, гоняющий воздух, поэтому бензином и товаром пахнет слабее. Хотя…
Жора выкупил себе эксклюзивное право отбирать лучший товар, наименее испорченный. Только следом за ним остальные могут приступить к своей работе. Хотя ко мне он относится и с симпатией, но все равно при случае посмеивается. Непонятно ему, почему у меня покупают мои научные книги и энциклопедии, каких глупцов может заинтересовать такая литература. Да и уровень моих доходов вызывает у него саркастический смех.
За углом дымят котлы нашей кормилицы Ряши. Она у нас работает с пищевым товаром. Этим делом занимались и ее предки. Хоть и много она варит и жарит, но хватануть какой-нибудь черный банан из новой партии — это ее непреодолимая страсть. Жует она постоянно, может быть, поэтому по комплекции напоминает шар.
Вот и Ляля стоит у стены своего дома с желтым фонарем. Она несколько подслеповата, поэтому и мне кричит свое «Заходи, сладенький!». Потом разглядывает меня и дружески кивает. Я интересуюсь, как поживает ее сын. Она мне улыбается: все нормально, мол, выздоравливает. Как-то у нее случился бурный роман с нашим красавчиком Флоксом, только даже Ляле не удалось своей горячей любовью расплавить его самовлюбленность. Как говорится, в своей любви они были абсолютно единодушны: она любила его, и он тоже любил себя. После того романа у нее появился сын Толик. Мы с ним дружим. Удивительно смышленый парнишка. Перечитал почти все мои книги. Только болеет он часто. Однажды он признался, что это у него от переживаний по поводу маминой работы. Хотя нет более любящего и заботливого сына. И Ляля в нем души не чает.
Раб устало проплелся мимо, даже не поглядев в мою сторону. Всю свою жизнь он работает, кроме времени, положенного на сон. Как-то и это время он пробовал отдать работе, но через неделю свалился с ног и заболел. Работает он и на Жору, и на Ряшу, и на всех, кто платит, сколько хватает времени. Никто не видел его отдыхающим, думающим или читающим. Даже ест он на ходу, идя с одной работы на другую. На празднике, когда все пируют и смеются, Раб тоже умудряется работать, поднося еду и напитки, таская музыкальные инструменты и реквизит.
Наша тихая Геля задумчиво слоняется по саду с книжкой стихов. Ничего не скажешь, сад она посадила очень даже красивый. Ржавые водопроводные трубы и автомобильные шины, сложенные в причудливую композицию, увиты плющом и заросли мхом. Кактусы высятся на кучах камней. Эти громадные булыжники она таскала сюда своими руками и раскрасила в разные цвета. Посреди сада — бурая лужа, по которой плавают обрывки бумажек и серенькие чайки. Геля знает много стихов и способна часами их читать, вернее, напевать. Она закатывает глаза, поднимает бледное сухонькое лицо к небу и затягивает: «Ах, эта стылая фортуна слезит по склянке бытия…» Разговаривать с ней бесполезно. Я пробовал. Ты ей задаешь вопрос про доходы, а она отвечает, что звезды подошли к ней сегодня особенно близко. Ты ей про музыку, а она вдруг завоет про плесень на капле луча. Хотя, конечно, женщина она беззлобная и тихая. Ходит между камней и поскуливает себе под нос.
Прямая противоположность Геле — наша великая начальница Амазиха. Эта женщина может только командовать и требовать. Командует она подчиненными и мужем, прохожими и соседями. Требует — у тех, кто выше ее по должности. Часто терпение людей, с которыми она общается, кончается, и ей устраивают скандалы и даже иногда бьют. Только страсть командовать у нее не убывает. Вот и сейчас Амазиха с высоты балкона, поджав и без того тонкие синие губки, подбоченясь фертом, скрипучим голосом дает мне указание прекратить тут разгуливать и срочно заняться полезным для нее делом. Так как я не обращаю на ее слова никакого внимания, она все больше распаляется, трясется, краснеет. Я уже отошел от нее на порядочное расстояние, а она все не унимается. Ага, вот переключилась на мужа, который не успел прошмыгнуть мимо незамеченным. Ох, бедолага, беги ты от нее!
На отшибе, среди густых кустов бузины, затерялась хибарка нашего отшельника. В этих зарослях, к всеобщему удивлению, напрочь отсутствовали змеи, крысы и комары, густо населяющие подобные места. Раньше Авель, как и все, работал, но по старости получил пособие, переселился в глушь и уединился. Днем к нему приходят разные люди — кто за советом, кто за лечением, а по ночам он закрывается и уходит в молчание. Пока я продирался сквозь заросли кустов, он сидел на крыльце и говорил с рабочим. Этот парень слыл задирой и скандалистом, но сейчас напоминал овечку, которую кормят из рук свежей травкой. Увидев меня, Авель кивнул на дверь хибарки. Я вошел внутрь.
Здесь в сумраке маленькой комнатки с крохотным оконцем царила тишина. Как только я входил сюда, тишина устанавливалась и в моей голове. Казалось, сюда не проникали даже грохот бульдозеров и рев грузовиков. Закончив прием посетителей, отшельник неслышно возник передо мной и присел за свой стол. Из шкафчика, из-за обычных книжек, купленных у меня, он извлек и положил перед собой свою главную книгу. Эта старинная книга с древними буквами и тисненым крестом, если бы ее обнаружили органы надзора, могла бы стоить ему если не жизни, то свободы. Правда, некоторые говорят, что сейчас времена уже не те, органы надзора насквозь коррумпированы, только никто законов Полигона не отменял, поэтому возможность наказания остается.
— Итак, Хозяин тебя отпускает, — прервал молчание отшельник.
— Да, и требует, чтобы я здесь не задерживался.
— Ну что ж, это разумно. Бывает прощание затягивается на всю жизнь.
— Было и такое?
— Случалось…
— Авель, почему ты сам отсюда не уйдешь?
— Я уже уходил. Пожил во Дворце, набрался сил, и велели мне вернуться назад. Нужно и здесь кому-то лечить больных. Вот и тебе я пригодился.
— Скажи, старец, смогу ли я там жить? Мне иногда кажется, что я стану тосковать по прежней жизни.
— Если ты способен полюбить свет и чистоту, то новая жизнь тебе понравится. А ты способен, иначе бы здесь не сидел.
— Разве другие с Полигона не любят свет? Разве чистота может не нравиться?
— Где-то в глубине души все люди светлы и чисты, но грязь проникает в каждую клеточку нашего естества и отравляет его. Чтобы очиститься, нужно не только желание, но и силы. Чтобы воспринять свет, нужно выйти из собственной внутренней тьмы. А для этого необходимо увидеть в себе тьму и возненавидеть ее. Твоя задача — пройти этот путь первым, чтобы за тобой последовали другие. Тех, кто не сможет выйти отсюда, ты будешь спасать во Дворце.
— А такое возможно?
— Тебя научат. Не сразу, но ты многое поймешь и многому научишься. Но готовься к тому, что тебе придется всего себя изменить, а это потребует многих усилий и терпения. Только награда за эти труды ожидает тебя такая, что ты сейчас и представить себе не можешь.
— Как мне лучше уйти отсюда, Авель?
— Лучше всего прямо сейчас зайти к Хозяину, взять его дар и, не оглядываясь, уйти. Но я знаю, что тебе обязательно нужно со всеми проститься. Ну что ж, устрой пир, угости всех, а наутро сразу и уходи. Никому о своем уходе не говори. На кого имеешь обиду, попроси прощения наедине, если тебе позволят… С собой ничего не бери. Вот и все. Прощай.
На обратном пути я зашел к музыканту Дубе и кормилице Ряше, заказал им организацию пира. Они обрадовались и похвалили меня, даже не поинтересовавшись поводом. Заломили эти прохвосты жуткие цены, я возмутился и хотел было поторговаться, но вспомнил, что деньги теперь не имеют значения, и, к их великой радости, согласился.
Хозяин встретил меня у входа в резиденцию. Казалось, он нетерпеливо ожидал моего появления. Молча провел к себе, усадил за стол. Показал рукой на экран монитора.
— Видишь грузовик с тентом? Завтра утром садись в кабину и уезжай. Поедешь без остановки до самого Дворца. Там скажешь, что от меня.
Пир грохотал и смеялся. Народ пил водку и объедался разной вкуснятиной, которую наготовила Ряша. Дуба сотрясал пространство кислотной музыкой. Сейчас он пел свой суперхит о гниении, самоубийстве и страстях. Многие — сидя, или стоя — извивались под громовые ритмы, выпучивая глаза и строя страшные гримасы. Считалось, чем больше кривляешься, тем ты свободней и сильнее, тем более способен воспринимать эту кислотную психоделию надрыва и смертельного восторга. Дуба уже давно не пил водку, ему настоящее наслаждение сообщали только уксусная эссенция и бешеные ритмы. Однажды он провозгласил, что самоубийство в последний момент жизни — это слабо, вся жизнь должна стать медленным изощренным самоуничтожением.
Я видел этих людей, может быть, в последний раз. Мне хотелось поговорить, излить душу, попросить прощения, но пир не давал такой возможности. Музыка заглушала все звуки, в паузах между песнями народ пил водку, объедался из громадных котлов и смеялся шуткам, заранее заученным из специальных веселильных книг.
Ко мне часто подкатывала Ряша, ставила передо мной еще одну чашку с едой и громко возмущалась, что же это я за мужик такой, если не съел еще и десятка порций. Сама при этом непрерывно — ложка за ложкой — наполняла свой обширный рот из каждого блюда, находившегося поблизости. Она всегда была доброй, незлобивой женщиной, готовой всякого накормить до отвала за мизерную плату. Я сказал, что очень ей благодарен, за что она на радостях впихнула в мой открывшийся рот большую порцию тушенки. Пока я жевал, она уже кричала своей помощнице, что крысы вовсе не противны, просто их надо уметь готовить…
Флокс сидел напротив и по привычке разглядывал себя в отражениях всех гладких предметов. Множество женских глаз восторженно впивалось в его прилизанную и напомаженную, разукрашенную цветными карандашами физиономию. Он заметил, что заказчик пира, то есть я, смотрит на него, и стал поворачиваться, красуясь в разных ракурсах, кокетливо улыбаться, поводил плечами и вращал глазами. Я с трудом через стол дотянулся до него и погладил его по мускулистому накачанному плечу, присоединяясь к восторгам множества почитателей его красоты. Флокс снисходительно улыбнулся, благосклонно приняв мой жест.
Мимо пробежала озабоченная Амазиха в сопровождении послушной свиты. Мне она приказала немедленно встать и присоединиться к танцующим, потом крикнула Дубе, чтобы он сыграл ее любимую песню «Вставай, проклятьем заклеймись», а не «какую-то ерунду». Ряше приказала переставить котлы с едой и украсить их по-другому. Флоксу дала указание прийти к ней в гости и развлечь ее вечером. Словом, работы ей сегодня предстояло много.
В это время на сцену вышла Геля и под приглушенные ритмы суицидной психоделии запела в микрофон свежий стих: «Я страстно возжаждала студня из розовой плесени чувств…» Ее брови от напряжения эмоций приняли почти вертикальное положение, глаза куда-то закатились, а губы выгнулись печальной подковой. Напротив меня Флокс пробовал придать своему лицу такое же богемное выражение, но, изрядно помяв лицо и безуспешно состроив несколько рожиц, вернул себе прежнюю снисходительную мину. Геля после завершающего «Я выпила тебя до дна, вернись в свое болото!» от сильного перенапряжения рухнула в предусмотрительно протянутые руки Раба, и ее понесли в кресла отдохнуть и подкрепиться водкой. Я выхватил из вазы веточку чертополоха и признательно с поклоном возложил цветок к ее изысканно тонким ногам. Она благодарно провела по моему лицу холодной ладонью.
Подбежал ко мне сынок Ляли, Толик, и с разбегу прыгнул ко мне на колени. На его чумазой физиономии лиловел свежий синяк: снова дрался с обидчиками своей мамы. Наверное, только он один здесь предчувствовал прощание. Ничего он не говорил, да и в грохоте пира я не услышал бы его слабого детского голоска, он лишь прижался ко мне и обнял ободранными ручонками. А я гладил его по голове, чмокал в вихрастую макушку, жалея маленького друга на будущее, на время предстоящей разлуки.
По моему плечу сзади похлопали. Я оглянулся и увидел жестами зовущего меня за собой Жору. Он повел меня в ресторан начальства, где в кабинете сидела свита приближенных во главе с Хозяином. Тяжелой рукой он отстранил льнувшую к нему Лялю и жестом указал на соседнее кресло. В этом кабинете музыка звучала гораздо тише, поэтому можно было говорить без напряжения.
В углу за отдельным столом согнулся над машинкой Летописец. Он фиксировал для истории каждый шаг и каждое слово начальства. Также он записывал, кто, сколько и что съел, сколько товара принято и обработано, сколько заработано денег, куда потрачено и прочие сведения. В его функции входило написание истории, а также ее толкование. Причем каждый новый Хозяин Полигона заказывал свою версию истории, аккуратно уничтожая предыдущую. Так что работы у Летописца было невпроворот. Иногда и мне приходилось иметь с ним дело, когда ему нужны были сведения из старых энциклопедий. Он всегда поражал меня своей работоспособностью и обширными знаниями. Но самый большой талант имел он в толковании и перетолковывании исторических фактов. Самый главный принцип его работы заключался в поговорке: была бы генеральная линия — а уж историю мы подгоним!
Хозяин выгнал всех из кабинета и наклонился ко мне.
— Торопись, Леха! Сегодня ночью мне такое приснилось, что и рассказать страшно. — Хозяин заерзал и еще ближе нагнулся к моему уху. — Мне приснилось, что я уже кончался. Так вот, после этого я попал в такую жуткую темень! Такой страшный мрак, что и выразить невозможно… Ты вот что, Леха: чтобы завтра прямо с самого утра — и пулей отсюда! Понял? Я тебя умоляю!
— Хорошо, Хозяин, конечно. Не волнуйтесь. Если честно, мне и самому здесь уже в тягость…
Ранним утром грузовик увозил меня прочь от Полигона. Чем ближе я подъезжал к Дворцу, тем светлее становилось и впереди, и вокруг. Когда последний перевал остался за спиной, и я выехал на равнину, яркое солнце осветило все вокруг. Дворец неумолимо приближался, а мое сердце радостно-тревожно забилось: что-то впереди?..
А вот и громадные въездные ворота! Они распахнуты настежь. Никакой стражи, только дежурный приветливо улыбается мне и спешит показать путь. Когда я остановил грузовик и вышел наружу, вдруг совершенно ослеп. Оказывается, запыленные и прокопченные окна кабины не пропускали и малой доли света, который разливался вокруг.
Пока я моргал и тер кулаком слезившиеся глаза, ко мне кто-то подошел и мягко произнес:
— Ты, наверное, новичок?
Я утвердительно кивнул. На мои глаза опустились темные очки. Я проморгался и увидел рядом мужчину в белой одежде. Его открытое доброе лицо тоже было светлым и лучилось приятной улыбкой.
— Ты, наверное, деньги привез? — спросил он участливо.
— Да, от Хозяина Полигона. Это его дар. Куда мне с ними ехать?
— Несчастные люди, они по-прежнему думают, что их деньги имеют какую-то цену. Но Господь милостив, и даже эта жертва будет принята. Так что вези свой груз на склад, а потом спроси, как найти первый корпус, — там тебя и поселят.
На складе я поинтересовался, почему же это деньги наши не имеют цены? Мне ответили, что здесь другие ценности. А от жителей Полигона важна только жертва как акт покаяния. И еще мне объяснили, что все, привозимое с Полигона, в том числе одежда, подлежит сжиганию, так как может нести на себе гнилостную заразу.
Потом меня направили в баню. Обливали горячей водой, поливали густыми жидкостями, которые пенились и пузырились, терли мягкими губками. Одели меня в светлые одежды, на которых не имелось ни единой дырочки и заплатки. Когда я глянул в зеркало, то не узнал себя: на меня смотрел молодой красавец с удивительно белым лицом и светло-коричневыми волосами, приглаженными предметом, называемым расческой. От меня пахло необычно приятно. А голова кружилась от пьянящей легкости.
В первом корпусе меня поселили в комнате со светлыми стенами и усадили за блестящий стол, уставленный удивительно красивыми блюдами, тонко благоухавшими. В прозрачной вазе некоторые фрукты мне показались знакомыми, только цвет имели необычный. Я спросил, почему это банан здесь не черный, как обычно, а такой желтый. Мне пояснили, что черными бананы становятся, когда портятся и начинают гнить. Такие испорченные продукты здесь употреблять не положено, их выбрасывают.
Итак, меня учат незнакомой прекрасной жизни. Каждый день приносит мне новые знания. После многих лет лжи я начинаю обретать истину. Мне кажется, что я приник к источнику чистой воды, которую пью и никак не утолю свою жажду.
Довелось мне узнать и о себе. Имя мое — не Леха, а Алексий. Мои предки жили в этом Дворце, но после восстания, которое здесь называют переворотом, изгнаны отсюда на Полигон. Сначала здесь жили восставшие пьяные романтики, которые старую жизнь решили улучшить на свой вкус, но были обмануты руководителями восстания и в конце концов уничтожены. Дворец стал выполнять роль символа власти, многие святыни осквернялись и продавались за кусок заплесневелого черствого хлеба. Сейчас сюда возвращается прежний тысячелетний порядок, но самое главное — в центре Дворца восстановлен и засиял новой чистотой Храм.
Мне поначалу пришлось мучительно долго готовиться к первой своей исповеди. Мой горделивый разум не позволял разглядеть в себе множество грехов, которые, как занозы, вросли в мою душу, парализовали ее прозрение вечности. Только совесть снова и снова взывала к моей окаменевшей душе, не давая покоя ни днем, ни ночью. И вот исповедь очистила меня: под епитрахилью священника невидимо сгорели все мои грехи. Невидимо и неощутимо сгорели… Только ярко и счастливо ощутил я в душе, в умытом существе радостную, светлую чистоту!
После первой исповеди, которую я запомню на всю жизнь, меня ввели в Храм, и я обрел возможность его посещать и даже вместе со всеми участвовать в Божественных Таинствах. Духовный наставник учит меня покаянию и смирению, соблюдению чистоты и любви к Богу и людям. Понемногу я постигаю великое искусство молитвы. Каждый день теперь я молюсь о своем помиловании и причастии вечной жизни. Чем глубже очищается душа, тем ярче возгорается моя молитва, тем настойчивее молюсь о спасении людей с Полигона.
В храме я учусь стяжать благодать. Мой наставник учит внимательно прислушиваться к состоянию своего сердца, определяя, что именно вызывает во мне благодать. Какие духовные занятия рождают умиление, всепрощающую любовь, умиряют страсти, осветляют душу…
Однажды на воскресной Литургии во время пения «Иже херувимы» я почувствовал острое желание молиться. В тот миг я забыл о себе и своих нуждах, но всецело отдался молитве о людях Полигона. О, какой же смелой и дерзновенной стала моя молитва! Я мысленно перебирал одного за другим всех знакомых и впервые в жизни ощутил то, о чем только слышал или читал. Ни малейшей обиды, ни тени осуждения не осталось в моем сердце, в каждом из этих человеков мне удалось увидеть Божие творение, которое бесконечно любит и желает спасти Господь.
Совершенно явно пришло ко мне ощущение, что моя молитва услышана Отцом Небесным и угодна Ему. Я тогда замер и умолк. Величайшее спокойствие посетило мое сердце.
Вышел я из храма, не чувствуя под собой ног. Мне хотелось, как можно дольше сохранить в себе этот тихий покой. Но вот меня тронули за локоть и сообщили, что у главных ворот меня ожидают посетители. Я взял благословение у наставника и прошел к воротам.
Здесь меня нетерпеливо ждали и громко ругались несколько человек с Полигона. Когда я приблизился к ним и радостно поприветствовал, они удивленно и со страхом замолчали. Я открыл им свои объятия и обнимал по очереди: Жору, Ряшу, Дубу, Лялю и моего любимца Толика. И не замечал я сейчас их грязных физиономий, ветхих заплатанных лохмотий, не воротил носа от страшного запаха гнили, которым они насквозь пропитались. Не думал о том, что моя белая одежда может испачкаться, да и не оставалось на ней никаких следов. Любовь моя все очищала, обнимала и освещала их темноту. Но мои гости почему-то скованно отстранялись от меня, будто не узнавали. Я спросил, в чем дело, чем я сумел обидеть их. Тогда за всех ответил Жора, что я стал чужим и абсолютно не похож на прежнего Леху.
Ну что ж, стал я осторожно объяснять, ведь здесь у меня началась новая жизнь, а она человека меняет. Мне пришлось уговаривать охранника, затем наставника, чтобы моих друзей пропустили ко мне в гости. Их пустили, но заставили переодеться в нормальную человеческую одежду. Вот они выходят один за одним из раздевалки — мужчины в рубашках и брюках, женщины в платьях и платочках, расставшись с одинаковыми грязными робами, увешанными ржавыми цепями. Вспомнив давний обычай, они ставят свечки к иконам в привратной часовне, кладут мятые сальные деньги в ящики. Выходят на залитую ярким светом площадь Дворца и зачарованно, почти ослепнув, несмотря на черные очки, оглядываются вокруг.
Наконец они вошли в мое скромное жилище, я рассадил их и стал расспрашивать. Первая очнулась Ряша, оглянулась и протянула мне черный гнилой банан и кусок хлеба, покрытый голубоватой плесенью. При этом она бурно радовалась, что ей удалось эти лакомства втайне пронести сюда, чтобы я вспомнил «вкус домашней пищи». Я взял ее за руку и подвел к столу, заставленному нашей обычной едой, показал ей желтый банан и мягкий, теплый хлеб. Она со страхом смотрела на эти незнакомые предметы и боялась взять в руки.
К нам подошел Жора и как великую ценность сунул мне хвост тухлой селедки в фирменной тряпичной обертке с солидолом. Я придвинул ему поднос с нормальной едой и предложил отведать. Но он тоже застыл в нерешительности.
Следующим подошел Дуба и включил для меня свой магнитофон с жуткими криками и воем вместо привычной для меня мелодичной музыки. Я мягко, но настойчиво отобрал у него рычащий магнитофон, выключил его и включил запись нашего хора. Комната наполнилась чарующими звуками ангелоподобного пения, льющимися буквально со всех сторон. Дуба остолбенел с открытым ртом.
Чтобы восстановить душевное равновесие друзей, мне пришлось усадить их за стол и долго рассказывать о жизни во Дворце, о нашем быте, работе, отдыхе. Пришлось даже показывать им, как нужно есть незнакомые блюда. Труднее всего было объяснить им, что пища может быть свежей и ароматной. А гнилую, тухлую, заплесневелую употреблять здесь не принято и считается опасным. Вспомнил и рассказал им, что и меня все это поначалу очень удивило. Но к хорошему быстро привыкаешь, и вот сейчас мне кушать гнилье совершенно не хочется.
Мои дорогие гости с опаской, недоверчиво попробовали незнакомую еду, понюхали и глотнули освежающих напитков. На всякий случай поискали глазами водку. Наконец, распробовали, оценили вкус, и стали с аппетитом угощаться. Видимо, все же до конца они так и не пришли в себя, потому что Ряша не набивала рот, а ела степенно и аккуратно. Один лишь Толик сохранял детскую непосредственность и весело уплетал все, что ему подкладывала заботливая мамаша.
Ляля рассказала, что они сначала обрадовались моему отъезду. Быстро прибрали мой бизнес к рукам и разделили между собой денежные сбережения. Потом однажды, собравшись вместе, вспомнили меня и поняли, что потеряли друга. Вот и решили навестить и побаловать домашними деликатесами.
Я растрогался и сказал, что очень рад их видеть. Только сейчас я стал понимать, насколько они мне дороги. Не знал, можно ли им рассказывать о своих литургических переживаниях, но очень хотелось поделиться с ними радостью. Тогда я молча помолился и сказал:
— Дорогие мои, вы сами видите, как здесь красиво. Разве не прекрасна эта музыка? Разве не приятны на вкус эти блюда? Вы еще не успели познакомиться с жителями Дворца, но могу свидетельствовать: они разные по профессии и культуре, возрасту и темпераменту; только объединяет нас всех одно, самое главное, — наша вера в бесконечную любовь Божию. Всех нас Господь зовет к Себе, всех хочет утешить и обрадовать. Никого не отвергнет Отец, если прийти к Нему с покаянием. Только за эту малость Господь и простит, и обрадуется, и поселит в Своем Дворце. А самое главное — примет в Свой Храм, где мы все соединяемся с Господом для приготовления к жизни вечной. Ведь каждый из нас — человек, то есть чело, или разум, устремленный в вечность. Мы предназначены для вечности, а не для самоубийства на мусорной свалке. Время вашего пребывания здесь подходит к концу. Вы можете остаться здесь прямо сейчас. Можете вернуться на мусорную свалку, простите, Полигон, и там сравнить свою обычную жизнь с тем, что видели здесь. Только видели вы очень малую часть того светлого и радостного, что здесь происходит. Я вас очень и очень люблю, поэтому предлагаю прийти и поселиться здесь, во Дворце.
…Мои друзья уходили. Несколько раз они оглядывались и махали руками, жмурились от яркого для них света и отворачивались. Им предстояло возвратиться туда, где почти никогда солнце не выходит из-за туч. Смогут ли они вырваться оттуда? Не знаю. Но я буду молиться за них всю оставшуюся жизнь.
Мы будем молиться. Рядом со мной стоял мальчик по имени Анатолий и доверчиво сжимал мою руку. Своей детской чистой душой он принял новую жизнь во Дворце без лукавых взрослых колебаний. Он не захотел возвращаться на мусорную свалку.
Последний день
Дверь за мной противно скрипнула и все-таки предательски хлопнула. Ноги не хотят идти. Да и куда? Теперь… После этого… Сел на эту — как ее? — банкетку. Та-а-а-ак…
Нет, я, конечно, уже был готов. Меня предупреждали, мне говорили: сходи и проверься. Вот и проверился. «Завтра с вещами в клинику!»
Так! Спокойствие, только спокойствие. Пока только в клинику. Это еще только на более серьезное обследование. Но как он это сказал! Сколько в его глазах было… обреченности, что ли? Да что там! Он говорил это не человеку, а уже… Словом, не человеку. Спокойствие. Может быть, ему зарплату снова задержали; может быть, жена на него утром накричала. Да может, он с детства такой мрачный. Хотя, с другой стороны, если после изучения анализов, вот с таким лицом, и с таким взором, и с таким сокрушением… И в такую клинику.
Последний день? Как бы это ни было грустно, но давай примем это. Смиренно, спокойно, с пользой для… Ага, вот ты и не готов даже к ответу на этот вопрос.
Открыл записную книжку, щелкнул авторучкой и записал первое, что пришло на ум: «1. Примириться со всеми». Уже неплохо. А что если после этого следом обида проскочит? Значит: «2. Научиться всех любить». Вот так.
Выхожу на улицу. Вопреки моим надеждам здесь с серого небосвода по-прежнему моросит мелкий дождик. Медленно, с частыми остановками иду домой. Жадно вглядываюсь в окна домов, рассматриваю деревья, редких прохожих, кошек и собак, голубей и воробьев. Замечаю в себе острый интерес ко всем проявлениям жизни, которая несмотря ни на что продолжается и обнаруживает себя постоянными шевелениями и копошением, игрой света и тени, отражением неба в лужах… Дождик собирается в большие капли на моем лице и стекает по щеке на подбородок — и это впервые не раздражает, а радует.
Это что же, я возлягу на одр, а это все будет и при моих последних вздохах, и даже после их вечного замирания? И ничего не изменится… Вон та мокрая кошка, крадущаяся за нахохлившимся воробышком, будет продолжать охотиться; вот эта береза будет сбрасывать пожелтевшую и надевать новую листву, вот этот драндулет будет ждать у подъезда водителя и возить его из дома на работу, а потом на рынок за картошкой…
В этот момент я понял, как я люблю жизнь! Острая жалость к себе наполнила грудь и перехватила дыхание. Какое-то время хотелось рыдать и выть. Никто сейчас не мог понять меня, никто не мог помочь. С этим каждый справляется в одиночку. Всегда почему-то именно в одиночку. Два квартала я жалел себя. Два квартала упивался абсолютным одиночеством и хождением по краю черной пропасти.
И когда мое отчаяние достигло апогея, и я впервые остро осознал свою немощь в изменении судьбы, разом обмяк и даже почувствовал какой-то малодушный комфорт этого нового моего состояния детской беспомощности, — вдруг во мне просвистел мощный вихрь. Прислушался к себе: все изменилось! Истина ворвалась и… освободила меня. Да, я стал свободным! Рухнули с глухим звоном цепи условностей. Натянулись и лопнули ветхие сети обманов. Я ступил за невидимую черту и перешел в другой мир.
Совершенной ерундой показались безденежье, подступающая слабость, конфликты на работе и в семье. Абсолютно обесценилось ущемление моих прав кем-то другим, моего самолюбия и самомнения. Все это рухнуло и валялось где-то далеко — внизу, на глубине той пропасти, куда звало меня двухквартальное отчаяние.
В этом новом моем состоянии среди ярких золотистых лучей, льющихся из будущего сверху справа, уродливыми громадами высились и требовали немедленного оперативного удаления метастазы обид и ненависти. Теперь уже не кошки с воробьями, а только они, эти мои греховные чувства, интересовали меня.
Безжалостным взором глядел я внутрь своей души и содрогался от страшного вида этих мерзких порождений. «Какой же я урод! Все эти мусорные кучи — это же я сам! Это мое личное приобретение» — блеснуло откровением.
Вот это — обида на моего вечно пьяного друга, который обманом выманивал у меня деньги и вещи, пропивая их. И я смел обижаться на этого несчастного больного человека! Да он мой спаситель! Он показал мне мою жадность и злобу. Разве не расплывался он в извиняющейся улыбке, не светился виноватым лицом, когда в минуты прозрения я воспарял над суетой своих амбиций и общался с ним, как с равным, по-доброму, как с братом. Это я и виноват в его падении. Я виноват в его горе. Вспомнилось из ранее прочитанного и давно забытого: как там?.. Не спрашивай, по ком звонит колокол, потому что он всегда звонит по тебе. Если погибает твой друг, то вместе с ним погибаешь и ты.
Вот это — затаенная злоба на должника. Он брал деньги на похороны матери сроком на месяц, но не вернул и через год. Я звонил ему с угрозами и обещанием «разобраться», а он молчал! До сих пор не может найти работу, пьет с горя… Еще один пример моей жадности и злобы. И тебе спасибо, друг. Прости и ты меня, подлого.
Женщина. Одинокая и потерянная. Она полюбила меня, окружала меня вниманием, готова была на все, только бы лишнюю минуту провести со мной. Некому ей больше отдать женскую нежность, не на кого излить свое нерастраченное материнство. Ох, как она меня раздражала! Как я упивался своей властью над ней! И не выдержала она такого грубого попрания последней любви. Сорвалась, наговорила резкостей, кричала даже. Я, конечно, спокойный и рассудительный, убийственно вежливый и холодный, как зимний гранит, выслушал ее и высказал фразу, целиком состоявшую из вежливых, правильно подобранных и расставленных ядовитых слов. Помнится, жалко ее стало на какой-то миг. Мне бы тогда извиниться, пожалеть ее… Нет, затоптал жалость, погасил. Мне бы найти ее, выпросить прощения. Она бы, конечно, простила. Только где теперь ее найти, после переезда?
Ну а разве мое отношение к остальным представительницам половины человечества так уж безоблачно? При каждом удобном случае я унижал их, выставляя превосходство мужского разума. А куда он меня привел? Чуть не загубил совсем, если бы не спасла меня «глупая» женская доброта. Пока я выступал на партийных собраниях, размахивая атеизмом, как пиратским флагом, именно старушки продолжали нести свои записочки в церкви, чтобы вразумить нас, ослепленных помраченным умом. Это они крестили нас, преодолевая бабий страх. Это они сквозь годы всеобщего предательства донесли до наших дней свечу веры. Спасибо вам, дорогие, и простите меня, неблагодарного.
Мое самобичевание продолжалось еще какое-то время. Дождик то затихал, то снова брызгал в лицо мелкую водяную пыль. Ноги промокли, куртка не грела, но только все теплее становилось мне в этой внешней промозглости. Таяли одна за другой уродливые громадины, стирались из моей души. Чище и спокойней становилось там, глубоко внутри.
А это что за страшная глыбина? Это моя ненависть к целым народам. Какое право я имею вторгаться в такие высокие сферы своими кухонными пересудами? Да не будет воля моя, подлая и немощная, но воля Вседержителя во веки веков! Простите меня, тоже наказанного, народы наказанные! Будем вместе исправляться, если сможем. Если найдем силы бороться против черной силищи, сбросившей нас — всех и каждого — в прах за одно и то же преступление. Трудно сейчас нам всем, ибо все мы сыны блудные, со свиньями собственных грехов обретающиеся. Но всех нас любит Отец и обратившихся к Нему не унизит местью и попреками, но для всех соберет стол праздничный и со всякой щеки отрет слезу покаянную…
И эта черная глыба рухнула и рассыпалась в пыль. Словно еще один очистительный вихрь пронесся в душе и вымел ядовитую пыль вон. Словно взлетел я на миг над землей, подхваченный свежим порывом. И еще одно грязное место души моей заполнил благодатный всепрощающий мир.
Во время напряженной внутренней работы я почти не замечал, куда несут меня промокшие ноги. А вынесли они меня к остановке трамвая. Сел в подошедший вагон и доехал до монастыря. У древних белых стен, метра на три врытых вглубь земли «культурным слоем» мусора и пыли, рядком сидели нищие. Рука моя потянулась в карман и достала пачку свернутых пополам купюр. Я раздавал их, просил молиться о моем здравии. Они благодарно принимали деньги, вскакивали и сразу принимались за молитву. Сейчас эти грязные оборванцы стали для меня почти родными.
Особенно меня порадовали трое: две женщины и мужчина, сидевшие на влажной траве под куском черной пленки. Они трапезничали белым хлебом, луком и копченой ставридой, запивая водой из большой пластмассовой бутылки. Я присел к ним, раздал деньги. Они меня горячо поблагодарили и заботливо прикрыли от мелкого дождя краем хрустящей пленки. Мой взгляд остановился на их руках. Раньше меня бы передернуло от их вида: красные, обветренные, с серыми цыпками и грязными ногтями. Этими руками они заботливо поправляли иконы, висевшие у них на груди. Они улыбались, гладили меня по спине, а я плакал. Эти несчастные стали для меня благодетелями. Вот так круглый год ходят они из монастыря в монастырь, презрев презревший их мир, молитвенники за мир, спасители мира. Я подумал: не пойти ли мне вместе с ними, — но понял, что слаб для такого подвига, слишком избалован, слишком люблю себя. Под их заботливым покровом уютно и спокойно мне стало. И даже не хотелось уходить. Но, поблагодарив их от души, попросил молиться за меня, чахлого, и направился в сторону монастырских ворот.
Вошел на мощенную камнем территорию монастыря и растерялся: куда идти? В центре возвышался огромный белый собор. Пошел туда. За тяжелой дверью собора стояла тишина. Служба кончилась, и женщины наводили порядок. Когда я вошел и стал оглядываться, рядом со мной появилась шустрая сухонькая старушка и громким шепотом стала объяснять, что закрыто, что надо выйти. «Куда?» — «Не знаю, иди в церкву напротив, может, там кто есть.»
В еще большей растерянности стал я посреди монастыря и оглянулся. Мимо пробежали молодые послушники, потом опять женщины-трудницы, но священников видно не было. Решил дождаться, во что бы то ни стало. Из какого-то служебного здания вышел невысокий монах в наброшенной на плечи куртке. Я устремился к нему. Он остановился, и на груди его блеснул крест священника. Я уже стоял на коленях:
— Батюшка, меня сегодня приговорили к смерти, у меня последний день, примите меня!
— Идем.
Мы дошли до собора, но не стали подниматься по главной лестнице, а слева от нее спустились по ступенькам к двери, ведущей в нижнюю церковь. Своим ключом священник открыл замок и вошел внутрь, я последовал за ним. Здесь, в полумраке, у алтарных икон горели лампады, стояла гулкая тишина, нарушаемая лишь нашими шагами. Священник снял куртку, и я смог его рассмотреть. Невысокого роста, в черном подряснике и клобуке. Со строгого лица аскета на меня глянули добрые ясные глаза. Судя по длинной черной бороде с сильной проседью, ему было не меньше шестидесяти лет. Он надел епитрахиль, выложил на аналой Крест и Евангелие и глуховато спросил:
— Так что случилось?
Я рассказал о посещении поликлиники и разговоре с врачом. Потом о своем внутреннем покаянии.
— Ты веришь, что Господь и Пресвятая Богородица могут тебя исцелить?
— Верю.
Он кивнул и, встав лицом к иконостасу, прочел молитвы. Обернулся ко мне и произнес:
— Кайся.
Я стал на колени, и мои грехи, приняв форму звука, полились из меня грязным потоком. В обычном состоянии мне бы и десятой части этого не вспомнить, а тут… С самого детства все мои подлости, как кадры из фильма, всплывали из глубин памяти и мелькали перед моим внутренним зрением. Эти зрительные образы, превращались в слова и гортанью выносились вон. Священник иногда переспрашивал меня, и сердце мое екало от страха, но он кивал, и я облегченно продолжал. Вот память привела меня к сегодняшнему дню, быстро пролистала его час за часом, и я умолк. Прислушался к себе — вроде все…
Мою повинную голову накрыла лента епитрахили, сверху — рука, от которой сквозь ткань струилось успокоительное тепло. Батюшка прочел разрешительную молитву, и я встал с колен. Он неожиданно радостно глянул на меня и обнял.
— Ты сегодня ел-пил?
— Нет, не удалось.
— Сейчас мы тебя причастим.
Он сходил в алтарь и вынес оттуда золоченую чашу. Снова читал молитвы, потом торжественно, как великую ценность, взял в ложечку частицу Святых Даров и поднес к моим губам. Я сложил руки крестом на груди и открыл рот, почувствовал, как жар от языка по всему моему существу разлился ярким светом, изгоняющим тьму. Затем запил «теплотой» из фарфоровой чашки, заботливо, как ребенку, поднесенной батюшкой к моему лицу.
— А теперь давай прочитаем акафист Пресвятой Богородице, чудотворному образу Ее «Всецарица».
Акафист он читал нараспев, сначала глуховатым голосом, потом все более густым и радостным. И вот уже каждое слово отдавалось в моей голове, в моем теле, заполняя все внутри: «Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая!» Радовался батюшка, всецело отдавшийся пению; радовался и я, совершенно забывший о своем несчастии; вся церковь радовалась и ликовала вместе с нами, трепетными отсветами иконных ликов, легким эхом отзываясь каждым закутком. «Радуйся и ты!» — вспомнился ответ Богородицы афонскому монаху Кукузели, при каждом удобном случае воспевавшему акафистами славу Царице Небесной.
— Теперь читай этот акафист каждый день и исцелишься, — батюшка протянул мне тоненькую книжечку.
Его спокойная уверенность передалась мне.
— Как мне вас отблагодарить, батюшка?
— Исцелением своим, сынок.
Вышел я наружу и даже не удивился изменению погоды. В небе над монастырем из ярко-синего разрыва серой облачности воссияло солнце: «Радуйся и ты!»
Обследование в клинике вызвало бурную реакцию врача. Перелистал он результаты анализов и загромыхал на все отделение:
— Делать нам тут нечего, что ли! Почему эти тупицы присылают сюда совершенно здоровых людей! Да с такими данными — хоть в космонавты!
Странно, эта новость меня совершенно не удивила. Единственное, что я нашелся ответить:
— Они не тупицы, доктор. Все они сделали правильно. Просто я… исцелился.
1
Мiр — вселенная, общество; мир — покой (русск., до 1918 г.).
Примечание: в тексте сохранены авторские орфография и пунктуация.
(обратно)2
ЛТП — тюрьма для алкоголиков (лечебно-трудовой профилакторий).
(обратно)

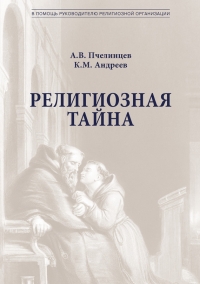


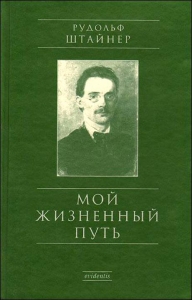


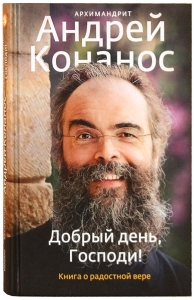
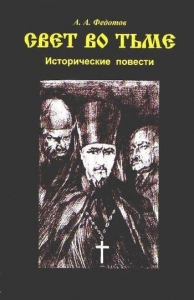
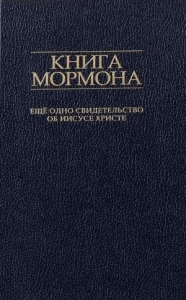
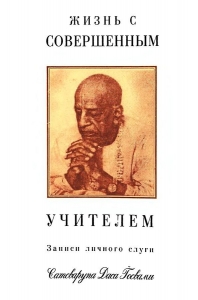
Комментарии к книге «Миссионер», Александр Петрович Петров
Всего 0 комментариев