Монахиня Евфимия Яблони старца Амвросия. Невыдуманные истории
Часть первая
Крушение дома Мары Лейбман
Она проснулась около полуночи. Что поделать, бессонница ― нередкий удел старых людей, живущих воспоминаниями о прошлом. Вдобавок под самым ее окном громко и тоскливо выл старый сторожевой пес Байкал. А это означало, что все попытки снова заснуть заведомо окажутся безуспешными. Поэтому она засунула отекшие ноги в грязные стоптанные тапки и, опираясь на клюку, отправилась бродить по дому. Она делала это каждую ночь, когда ей не спалось.
…Этот дом был воплощением ее давней и заветной мечты. Потому что прежде у нее никогда не было своего дома. Мало того – именно незадолго до ее рождения их семья стала бездомной. Старшая сестра Роза рассказывала ей, что дом пришлось продать после того, как умер отец. Ведь тех денег, что зарабатывала мама, было слишком мало, чтобы расплатиться с долгами и прокормиться самим. Тогда-то и начались их скитания по чужим углам. И именно поэтому ей, родившейся уже после смерти отца, дали скорбное имя Мара – горькая.
Роза очень любила вспоминать и говорить о том, навсегда утраченном ими доме. Холодными осенними вечерами, когда в полуподвальной комнатушке, которую они снимали, становилось особенно тоскливо, она рассказывала Маре, каким замечательным он был. Как в нем было уютно и какие чудесные яблоки и груши росли у них в саду! В воображении Мары эти истории обрастали новыми реалиями. Поэтому дом, о котором рассказывала Роза, представлялся ей чем-то вроде сказочной избушки со стенами из пряников и леденцовой крышей, утопающей в зелени деревьев, усыпанных румяными плодами. И она мечтала, что, когда вырастет, сделает так, чтобы у них – у мамы, и брата Наума, и сестры Розы – появился такой дом.
Прошли годы. Мара выросла. Надо сказать, что за это время в мире, особенно же – в той стране, где она жила, многое изменилось. Но бывает, что легче изменить мир, чем сердце одного-единственного человека. Вот и Мара, став советской гражданкой и студенткой мединститута Марой Самуиловной Лейбман, продолжала жить своей детской мечтой о собственном доме. Поэтому, получив врачебный диплом, она поехала работать на Север. Ей рассказывали, будто там не так много врачей-стоматологов. Стало быть, думалось Розе, она сможет быстрее заработать деньги на покупку дома.
Она поехала туда вместе с мужем, Иваном Тихоновичем, тоже стоматологом. Правда, он имел иную специализацию, будучи стоматологом-ортопедом. Между прочим, он сам мастерски изготовлял зубные протезы, мосты и коронки, так что при необходимости совмещал в одном лице не только врача, но и зубного техника. В отличие от своей деятельной и властной супруги, Иван Тихонович имел крайне мягкий и покладистый характер. Поэтому всякому, кто хоть раз да видел их вместе, было очевидно, что во главе их семьи стоит именно Мара Самуиловна. Она была высокой, красивой, темпераментной женщиной, любившей яркую одежду и украшения. Рядом с нею тщедушный, хромой и близорукий Иван Тихонович в неизменном простом и изрядно поношенном светленьком костюмчике смотрелся более чем скромно. Надо сказать, что главным из всех достоинств своего мужа Мара Самуиловна считала то, что он никогда ни в чем ей не перечил и всегда поступал по ее желанию. Что же до Ивана Тихоновича, то он никогда не задавался вопросом, за что именно любит свою «Марочку», он просто горячо и беззаветно любил ее – и все.
Уезжая на Север, Мара Самуиловна надеялась, что вскоре вернется в родные края. Но вышло так, что она осталась там навсегда. Сначала помешала война, во время которой они с Иваном Тихоновичем работали в местном эвакогоспитале. Затем нужно было выучить детей. Впрочем, узнав, что во время войны погибли все ее родные – и старенькая мама, и брат Наум, и сестра Роза, и их дети, она поняла: путь на родину ей заказан. Ведь там ее больше никто не ждал. И некому теперь было порадоваться, что ее детская мечта о своем доме сбылась.
Она купила этот дом уже после войны. Он был старинным, высоким и очень большим. Первый его хозяин, купец, как говорится, отгрохал его с купеческим размахом, на века. Не ведая, что жить в этом доме ему доведется совсем недолго… Правда, к тому времени, когда Мара Самуиловна приобрела этот дом, он изрядно обветшал. Впрочем, даже в таком плачевном состоянии он смотрелся еще весьма внушительно, этаким барином после семнадцатого года, голым и босым, но все же сохранившим остатки былой спеси. Именно поэтому Мара Самуиловна и купила его.
Вслед за этим у старого дома началась новая жизнь. И сам он – отремонтированный, заново покрашенный, крытый блестящей жестью – изменился до неузнаваемости. Но гораздо большие перемены произошли у него внутри. Там разместилась маленькая, но прекрасно оборудованная частная стоматологическая поликлиника. Сначала ее посетитель попадал в широкий коридор, где над рядом венских стульев у стен красовались портреты Павлова, Боткина, а также Менделеева в тяжелых позолоченных рамах. Из коридора вели три двери, на которых виднелись черные с золотом таблички: «приемная врача», «смотровая» и «лаборатория». За первой из этих дверей находился светлый, блистающий ослепительной чистотой кабинет с массивным деревянным стоматологическим креслом с никелированными подлокотниками и подголовником. Правда, от одного взгляда на соседствовавшую с этим креслом бормашину любопытный посетитель спешил поскорее оказаться по другую сторону двери… Здесь, как грозная и неумолимая жрица, облаченная в белые одежды, безраздельно царила Мара Самуиловна. Два других кабинета занимал Иван Тихонович. За дверью с табличкой «лаборатория» была его мастерская, где он, как скульптор, делал гипсовые слепки и формы и, как ювелир, плавил в тиглях золото. На коронки шли сломанные или ставшие ненужными ювелирные изделия. Например, тоненькое колечко с гербом города Алушты, или дутая, со вмятиной на боку, золотая брошка в виде пухлого сердечка, пробитого стрелой, или пустой медальон с чьим-то вензелем на крышке… Возможно, умей эти вещи говорить, они смогли бы многое порассказать о своих владельцах. Но, к сожалению, а вероятнее к счастью, – вещам этого не дано…
В другой половине дома хозяева жили. Здесь были ковры и старинные зеркала, прекрасная мебель. В большой комнате, служившей гостиной, на видном месте стояла горка, где среди изысканных чашек, ваз и статуэток красовалось большое блюдо саксонского фарфора – подарок хозяйке от одного высокопоставленного пациента. А в углу, рядом с изразцовой голландской печкой, потихоньку рассыхаясь, притулилось трофейное немецкое фортепиано. Под потолком висела массивная хрустальная люстра, в былые времена явно украшавшая не то чей-то особняк, не то какую-то церковь… Часть этих вещей была презентами благодарных больных, часть – приобретениями самой Мары Самуиловны. Нередко пациенты, которым нечем было расплатиться, предлагали ей вместо денег старинные вещи или украшения. Мара Самуиловна придирчиво отбирала понравившееся, втайне радуясь возможности по дешевке заполучить для себя и своего дома очередную ценную вещицу.
Надо сказать, что Иван Тихонович не разделял пристрастия своей супруги к коврам, фарфору и золоту. Однако, по своему обыкновению, предоставил ей полную свободу действий. Сам же поселился в маленькой комнатке, окна которой выходили в палисадник. На ее окнах стояли горшки с цветами, а под форточкой висела собственноручно сделанная им из фанеры птичья кормушка. Там он и проводил почти все свободное время, лишь иногда заглядывая во владения Мары Самуиловны и не проявляя никакого интереса к ее очередным приобретениям. Зато для нее смысл жизни заключался именно в том, чтобы ее дом всегда был и оставался полной чашей.
Поэтому она не сразу заметила и осознала, что эта чаша уже давно дала трещину. Ее старший сын Яков не оправдал ее надежд. Он был ее любимцем. Поэтому, помня собственное полунищее детство, Мара Самуиловна тщательно заботилась о том, чтобы сын всегда был одет лучше других и ни в чем не знал недостатка. Якову было невдомек, что и обилие карманных денег, и прислуга-домработница – не нечто должное и само собой разумеющееся, а итог труда его родителей. Но он быстро усвоил, что мать желает, чтобы он если не был, то хотя бы выглядел самым выдающимся среди сверстников. Но поскольку он не имел ни желания, ни навыка трудиться, то предпочитал обращать на себя внимание совсем иными способами – кутежами да хулиганскими выходками, от последствий которых его неизменно спасала мать. В мединституте, куда Мара Самуиловна пристроила сына, он не проучился и года. А все ее попытки с помощью влиятельных знакомых пристроить его на работу неизменно кончались тем, что Якова увольняли за пьянство и прогулы. А потом у нее стали пропадать деньги, а также кое-какие золотые украшения из заветной шкатулки… Мара Самуиловна знала, что это дело рук ее сына. Однако молча терпела его выходки, боясь, что, предав их огласке, повредит собственной врачебной репутации. Со временем эти кражи стали обычным явлением и продолжались до тех пор, пока однажды вечером, возвращаясь домой после очередной выпивки с дружками, Яков не попал под трамвай…
После гибели сына она часами просиживала в его комнате, перебирая и разглядывая его вещи. Пока однажды в дальнем углу ящика его письменного стола не обнаружила тетрадку в черной коленкоровой обложке. Это был дневник Якова. Наугад раскрыв его, Мара Самуиловна пробежала глазами несколько страниц и… с отвращением швырнула свою находку назад. После этого она заперла комнату сына. С тех пор никто и никогда не переступал ее порога.
Впрочем, у нее еще оставалась дочь, названная Розой в память о погибшей сестре. Она родила ее, будучи уже немолодой, когда убедилась, что сын вырос никчемным бездельником, в надежде, что, в отличие от своего старшего брата, этот ребенок не посрамит ее надежд. К дочери она была строга и требовательна. Впрочем, Роза была очень послушной и прилежной девочкой, хотя, пожалуй, слишком замкнутой, так что подруг у нее не было никогда. Училась она блестяще и после школы, повинуясь желанию матери, поступила в медицинский институт. Радости Мары Самуиловны не было предела. Пока, будучи уже студенткой выпускного курса, после первого сданного на четверку экзамена Роза не угодила в психиатрическую больницу с дебютом[1] шизофрении. Там спустя несколько лет, она и умерла. Но Мара Самуиловна заживо похоронила дочь, едва узнав об ее диагнозе. Дальнейшая судьба Розы ее уже не интересовала. Ведь болезнь дочери означала крах ее врачебной карьеры. И крах ее собственных надежд на то, что та продолжит ее дело.
Вскоре после того, как Розу увезли в больницу, она зашла в ее комнату. Окинула взглядом тщательно разложенные на столе книги и ручки, аккуратно заправленную кровать… И остолбенела – прямо над ней, на стене, углем был нарисован дом, похожий на сказочный дворец, над которым нависла чудовищная черная волна… Почему-то при виде этого рисунка дочери ей стало не по себе. Выскочив из комнаты, она захлопнула дверь и закрыла ее на ключ. И больше никогда не заглядывала туда.
Всю свою обиду на судьбу она выместила на муже, обвинив его и в гибели Якова, и в болезни Розы. Это из-за него у них родились такие неудачные дети! Наверняка он скрыл от нее то, что у него в роду были психически больные. Ведь знай она это, никогда бы не вышла за него замуж! А теперь по его вине они лишились детей, и вся ее жизнь сломана! Напрасно Иван Тихонович, заикаясь, пытался что-то сказать в свое оправдание – она заявила, что отныне они чужие друг другу. С тех пор Иван Тихонович окончательно замкнулся и затворился в своей комнатке, выходя оттуда лишь на работу да на кухню, чтобы поесть. Его присутствие в своем доме Мара Самуиловна терпела только потому, что заменить его было некем. Посторонним врачам она не доверяла. Вдобавок им необходимо было бы платить. А Иван Тихонович безропотно и на совесть выполнял любую работу. Вдобавок являлся полнейшим бессребреником.
Впрочем, даже после всех этих событий жизнь в ее доме продолжала идти по однажды и навсегда заведенному порядку. Так смертельно раненный солдат все еще бежит в атаку, не сознавая, что уже убит. Поскольку супруги слыли лучшими стоматологами в городе, от пациентов у них, как говорится, не было отбою. Правда, Иван Тихонович все чаще жаловался на одышку и тяжесть в груди. Однако Мара Самуиловна не обращала внимания на его жалобы. Как-то утром встревоженная домработница сообщила ей, что накануне вечером Иван Тихонович вопреки обыкновению почему-то не ужинал. И поскольку как раз в это время на прием явился пациент, желавший поставить золотые коронки на передние зубы, Маре Самуиловне пришлось отправиться на поиски Ивана Тихоновича. Она нашла его в мастерской. Он лежал на полу, а по его лицу ползла невесть откуда взявшаяся большая зелено-черная муха…
Лишь тогда она впервые переступила порог его комнаты. Там было прохладно и полутемно. В углу виднелась потемневшая от времени икона, на которой был изображен Христос в терновом венце. Перед нею висела стеклянная лампадка с головками херувимов по бокам. На столе, рядом со стаканом в жестяном подстаканнике, лежали маленькие, истертые до блеска шерстяные четки. В углу стоял шкаф, полный старых книг с кожаными корешками. Мара Самуиловна наугад взяла одну из них и прочла первую попавшуюся строчку: «Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бо сия не веси кому оставиши…» Затем положила книгу назад, вышла из комнаты и закрыла дверь на ключ.
После этого ее дела стали приходить в упадок. Потому что заменить Ивана Тихоновича было некем. Вдобавок Мара Самуиловна старела, и глаза и руки все чаще и чаще подводили ее. Мало того – со временем редкие пациенты и знакомые стали казаться ей злоумышленниками, желающими ограбить ее. Отнять то, что она копила и наживала всю жизнь. Тогда она заперла все комнаты, переселившись в каморку домработницы, и завела сторожевого пса по кличке Байкал, который злобно набрасывался на каждого, кто пытался заглянуть к ней во двор. После чего люди стали обходить ее дом стороной.
Дом Мары Самуиловны старел и разрушался вместе со своей хозяйкой. Вскоре после смерти Ивана Тихоновича, во время невиданного уже лет сто половодья, затопившего старую часть города, он сильно пострадал от воды. После чего покосился и стал уходить в болотистую почву, словно тонущий корабль в морскую пучину. Случайным прохожим он мог бы теперь показаться нежилым. Если бы из-за его ворот не слышался злобный лай, а по ночам – тоскливый вой Байкала.
Мара Самуиловна выходила из своего дома лишь раз в неделю, чтобы купить продуктов в соседнем магазине. И видя жалкую, грязную, неряшливо одетую старуху, некоторые сердобольные продавщицы клали ей в кулек лишнюю булочку, думая, что перед ними – нищая. Потому что никто уже не помнил, какой красавицей была когда-то Мара Самуиловна и какие наряды и украшения она носила. Да если бы кто и помнил, вряд ли узнал бы ее – такой.
Эти выходы в магазин были последним, что еще связывало Мару Самуиловну с миром живых людей. Все остальное время она просиживала в своей каморке наедине с горькими думами и воспоминаниями. А бессонными ночами, под вой Байкала, как тень бродила по дому. Вернее, по той его части, где когда-то они с Иваном Тихоновичем вели прием больных. Потому что жилая половина уже давно была погребена под провалившейся крышей.
…Вот и сейчас, совершая очередной ночной обход своих полуразрушенных владений, она вошла в пропахшую сыростью темную комнату с провисшим потолком. Когда-то здесь был ее кабинет. Впрочем, теперь об этом напоминало лишь стоявшее у окна стоматологическое кресло. Осторожно нащупывая клюкой уцелевшие половицы, Мара Самуиловна подошла к креслу и тяжело опустилась на него. Потом окинула взглядом пустой кабинет с покрытыми плесенью стенами и заржавевшей бормашиной в углу. И заплакала. Впрочем, что еще остается человеку, осознавшему, что дом, который он созидал всю жизнь, оказался домом, построенным на песке?..
Очевидцы
Как-то вечером в квартире врача Нины Сергеевны М. раздался телефонный звонок.
– Алло, Нина Сергеевна! Вы еще не спите? Можно к вам приехать? Да, сегодня, прямо сейчас. Есть разговор…
– Конечно, Александр Иванович… Ой, простите, отец Александр. Благословите. До встречи. Жду.
Спустя полчаса отец Александр уже сидел за столом в маленькой уютной кухне Нины Сергеевны и задушевно беседовал с хозяйкой. Здесь придется пояснить, что еще пару лет назад они были коллегами. То есть работали в одной больнице, хотя и в разных отделениях. Пока Александр Иванович не решил из врача, так сказать, болезней телесных стать врачевателем недугов духовных. Или, попросту говоря, принять священный сан. Приход, на который его направили, находился в полусутках езды поездом от города. Вдобавок, чтобы добраться до станции, требовалось еще несколько часов. Поэтому в город отец Александр наведывался редко, лишь по особенно важным делам. С учетом этого и его визит к Нине Сергеевне явно был вызван некоей насущной необходимостью. О чем гость и заявил ей, как говорится, уже с порога, от волнения перейдя на «ты»:
– Слушай, я тут в «Епархиальном вестнике» читал пару твоих рассказов. Так вот, могу дать тебе хороший сюжет. Про одного священника. Он служил в нашем районе, в селе Н-ском. Это километрах в тридцати от того поселка, где я живу. Все материалы о нем я тебе привез. Мы уже пытались написать про него статью для «Вестника». Только сухо как-то вышло. Одни даты: родился, женился, рукоположился… А человека за ними и не видно. А между прочим, этот священник за Христа пострадал. Вот я и решил поручить это дело тебе. Ну как, напишешь? Тогда – Бог благословит!
* * *
Недопитый чай давно уже остыл, а Нина все сидела в кухне, перечитывая документы, оставленные ей отцом Александром. Это были выписки из следственного дела. Из них явствовало, что священник Никольского храма села Н-ское отец Василий Т-кий, 70 лет от роду, был арестован в 1921 году по обвинению в контрреволюционной деятельности. При этом на единственном допросе он признался, что, пользуясь темнотой и несознательностью местных жителей, вел среди них антисоветскую агитацию. И что именно он организовал имевшую место два дня назад контрреволюционную сходку возле сельского храма, к участию в которой обманом склонил ряд крестьян. Ниже перечислялись имена и фамилии арестованных участников этой сходки. Из них Нине запомнилось лишь одно, крайне редкое среди православных имя – Иуда. Что до самого священника, то спустя три месяца после вынесения ему приговора он умер в лагере. Собственно, это было все. Если не считать кое-каких дополнительных деталей типа того, что отец Василий был сыном дьячка. И после окончания семинарии, женитьбы и рукоположения почти четверть века прослужил вторым священником в одном из городских храмов. А на сельский приход был переведен вскоре после смерти матушки… Конечно, всего этого было вполне достаточно для написания рассказа или статьи о бесстрашном священнике, который в годы жестоких гонений на веру не побоялся открыто обличить богоборную власть. Более того, вдохновил на сопротивление ей и свою паству. После чего принял от Господа мученический венец… А назвать статью вполне можно было так: «Опыт противостояния тьме». Или – «Несгибаемый страстотерпец».
Но тут Нине вдруг пришли на память слова отца Александра: «А человека за этими датами и не видно». Сначала ей подумалось, что он оговорился. Потому что все необходимые сведения были как раз налицо. И на основании показаний священника его нравственный облик вырисовывался вполне четко и определенно. Однако потом ее стали одолевать сомнения: а все ли в этой истории так просто и понятно, как кажется на первый взгляд? Например, почему отец Василий во время допроса так настаивал на том, что именно он был истинным организатором антисоветской сходки? Конечно, его вполне могли заставить оговорить себя. Но даже в этом случае логичнее было бы ожидать, что он хотя бы попытается приуменьшить свою вину или найти себе какое-нибудь оправдание. Однако отец Василий если и стремился кого-то оправдать, то отнюдь не себя, а крестьян, участвовавших в сходке. Тем самым подписывая приговор самому себе. Вдобавок было непонятно и то, почему священника, почти всю жизнь прослужившего в городе, вдруг перевели на отдаленный сельский приход. Причем именно после того, как он овдовел. Короче говоря, чем дольше Нина раздумывала над всеми этими фактами, тем более загадочными они ей представлялись.
И тут произошло событие, которое вполне можно было бы назвать чудом. Из разряда, так сказать, тех обыкновенных чудес, каких в жизни каждого православного человека бывает множество. Окончательно убедившись в том, что история отца Василия полна неразрешимых загадок, Нина решила отвлечься и посмотреть телевизор. Она машинально переключала программы в поисках чего-нибудь подходящего, как вдруг:
– А сейчас я представлю вам свидетелей! – торжественно возгласил с экрана герой какого-то зарубежного детектива.
Нина так и ахнула. Вот он, ответ! Действительно, во всем этом деле как раз не хватало свидетелей. То есть тех, кто мог знать отца Василия. А ведь наверняка в селе, где он служил, еще живы те, кто помнит его. Конечно, для этого ей придется самой съездить в Н-ское. Но разве жаль будет потратить ближайшие выходные ради такого хорошего дела? Вдобавок можно будет заехать и в гости к отцу Александру. То-то же он удивится, когда она нежданно-негаданно нагрянет к нему, так сказать, с ответным визитом!
* * *
Однако радостное настроение Нины изрядно поугасло почти сразу же, как она вышла из поезда. Причем виновата в этом оказалась она сама. Вернее, ее глупое желание устроить сюрприз отцу Александру, заявившись к нему без предупреждения. Ах, если бы вместо этого она, наоборот, уведомила его о своем приезде! Тогда проблем было бы куда меньше. Ведь он сразу сказал бы ей то, о чем она узнала, лишь садясь в автобус. Оказывается, села Н-ского уже давно не существовало. Еще в шестидесятые годы по приказу из столицы закрыли тамошнюю ферму, а весь скот пустили под нож. После чего пришел черед и самого села: часть жителей, лишившись работы, перебралась кто в райцентр или соседние села, а кто и в город. А часть и вовсе – на местное кладбище. Впрочем, ей сказали, что от Никольского храма еще что-то сохранилось. Благодаря его соседству с сельским кладбищем, куда бывшие жители села и их домашние периодически наведывались навестить родные могилы…
И тут Нина сделала очередную глупость, которую можно было бы извинить только тем, что тот летний день оказался не по-северному теплым и солнечным. Завидев из окна автобуса поросший соснами холм, на котором виднелись кресты и какое-то полуразрушенное деревянное здание, она попросила водителя остановиться и высадить ее. И по узкой, еле заметной тропинке, а потом, чуть свернув в сторону, по еще нескошенной траве, направилась туда. Сначала она по привычке шла быстро, но постепенно замедлила шаг. Ведь день еще только начинался, и можно было никуда не торопиться. Вдобавок и все вокруг было исполнено непривычным для городского жителя покоем – и густая трава, в которой кое-где проглядывали полевые цветы, и яркое солнце, и свежий воздух, казавшийся таким же голубым и прозрачным, как небо над ее головой. И тишина, навевавшая мысли о вечности.
Не без усилия поднявшись на крутой холм, Нина оказалась прямо перед храмом. Да, в этом ветхом, покосившемся здании без купола и креста, с трухлявой крышей, поросшей желтоватым мхом, все-таки еще можно было узнать старинную церковь. Вокруг нее рос густой малинник вперемешку с крапивой. Привстав на цыпочки, Нина попыталась заглянуть в один из зияющих оконных проемов. Но увидела лишь часть стены с остатками побелки, испещренную надписями типа тех, которые можно прочесть на заборах или в подъездах. И тут Нина загорелась желанием проникнуть внутрь храма. Разумеется, это было весьма рискованно и глупо. Но любопытство оказалось сильней здравого смысла, и она решительно шагнула в крапивно-малинные заросли…
…И тут же в ужасе отпрянула. В кустах раздался громкий треск. Вероятно, там пряталось какое-то живое существо, которое она нечаянно спугнула. И которое куда больше напугало ее саму. С бешено колотящимся сердцем Нина сбежала с холма, только чудом не переломав себе руки-ноги, и понеслась прочь от страшного места. Она осмелилась остановиться и оглянуться лишь тогда, когда снова очутилась на нагретом солнцем дорожном асфальте. И увидела вдалеке все тот же зеленый холм, на котором среди темных сосен виднелись кресты и развалины церкви. Вокруг опять царили тишина и покой. Правда, вдалеке пылил возвращавшийся из города порожний лесовоз.
* * *
Нина с детских лет усвоила, что голосовать на дороге – поступок более чем неразумный. Но, как видно, в тот день ей было суждено совершать одну глупость за другой. Поэтому через несколько минут она уже сидела в пропахшей табаком и соляркой кабине лесовоза рядом с водителем, еще довольно молодым мужчиной по имени Андрей. Тем более что им, как выяснилось, было по дороге. Поселок, где служил отец Александр, находился по пути следования лесовоза.
Водитель оказался весьма общительным человеком. Впрочем, Нину тоже нельзя было назвать замкнутой особой. Поэтому она рассказала ему, что едет к своему давнему знакомому, местному священнику. В свою очередь Андрей заявил, что тоже хорошо знает отца Александра и недавно крестился у него. А до этого несколько раз завозил ему лес для стройки. По его словам, отец Александр был весьма хозяйственным «батьком». И не только отремонтировал храм, но еще и построил при нем церковный дом и воскресную школу. А также завел двух коров, лошадь, овец, кур и даже пару павлинов… И распахал большое поле под картошку и огород. А сельхозтехника у него лучшая в селе, и управляется он с ней лучше любого из деревенских. Сейчас же он строит возле храма двухэтажную деревянную гостиницу. Потому что народу к нему приезжает много. Даже из самой Москвы… И местные приходят. Сперва из любопытства, посмотреть на новый иконостас да на павлинов. А там, глядишь, и повадятся ходить в храм. А потом и крестятся…
От дел нынешних разговор незаметно перешел, так сказать, на дела давно минувшие. К изумлению Нины, Андрей заявил, что слышал об отце Василии:
– Это, наверное, тот поп, которого мужики Н-ские в Пасху пьяного на телеге по селу возили? Мне про это отец рассказывал. Да еще прибавил, что это как раз мой дед и придумал для смеху его напоить. Да вряд ли сейчас его кто-то помнит. Вот разве что бабка Матвеевна. Если еще не померла, конечно…
Рассказ Андрея несколько смутил Нину. Ведь то, что она услышала от него, вовсе не соответствовало ее представлениям об отце Василии как о человеке «без страха и упрека». Впрочем, его упоминание о бабке Матвеевне было куда важнее. Из дальнейших расспросов выяснилось, что она живет в деревне, мимо которой они вскоре должны были проехать. Разумеется, было бы непростительно не попытаться узнать от нее что-нибудь об отце Василии. И вскоре Нина уже шагала по единственной деревенской улице под приветственный собачий лай из-за заборов. Нужный ей дом она нашла без труда. Потому что он стоял по соседству с местным магазином, одноэтажным зданием, выкрашенным в заметный издали ярко-оранжевый цвет и за это прозванным местными жителями «апельсином».
С первого же взгляда на дом было видно, что живут в нем, как говорится, люди зажиточные, вернее, даже богатые. Он был обит новехонькой импортной вагонкой. Окна обрамляли резные кружева наличников. Слева под крышей торчала круглая тарелка антенны. А прямо перед домом стоял внушительного вида автомобиль, судя по всему – какая-то дорогая иномарка. В добротном высоком заборе справа и слева от дома виднелись две калитки. Поэтому Нина некоторое время раздумывала, в какую из них постучать. Сперва она подошла к левой, но была встречена столь грозным собачьим лаем, что не решилась приблизиться к ней снова. К счастью, за калиткой справа на огороде копошилась какая-то пожилая женщина. Вероятно, это была хозяйка дома.
Предположения Нины полностью подтвердились. Анна Петровна (так звали женщину) действительно была хозяйкой дома. Вернее, его правой половины. В левой жил ее взрослый сын с семьей. Между прочим, именно ему принадлежали и монументальный автомобиль, и ярко-оранжевый магазин. Надо сказать, что поначалу женщина держалась очень настороженно, а потому весьма недружелюбно. Но узнав, что Нина – врач, сразу подобрела. И даже пригласила ее в дом, посмотреть «больную бабушку». То есть свою мать, Таисию Матвеевну. Иначе говоря, ту самую упомянутую Андреем «старушку Матвеевну», которая была жива, но вот уже несколько месяцев после перенесенного инсульта не вставала с постели.
Когда-то Нина читала, что в старые времена врачи, подмечая особенности походки, внешнего вида и поведения очередного больного, входящего к ним в кабинет, еще до беседы с ним могли поставить ему предварительный диагноз. Ей тоже нельзя было отказать в наблюдательности. И по врачебной привычке, едва войдя в дом, она успела разглядеть и цветные половики на блестящем свежевыкрашенном полу, и сервант с полками, прогибающимися от фарфора и хрусталя, и розовые шифоновые занавески с пышными рюшами, и японский телевизор в углу, и большой прошлогодний глянцевый календарь на стене с аляповатым изображением пышной красавицы из какого-то телесериала. Видимо, все это соответствовало представлениям хозяйки о том, как должен выглядеть внутри богатый дом. Зато боковая комнатка, где обитала Таисия Матвеевна, имела весьма убогий вид. Там стоял комод неопределенного цвета, два стула с клеенчатыми спинками (в сиденье одного из них была выпилена круглая дыра, а на другом стояли эмалированная кружка с торчащей из нее ложкой и блюдце с засохшими остатками каши). В правом углу виднелась икона Божией Матери, кажется, Казанской. Под ней, на кровати с никелированными спинками, лежала маленькая худенькая старушка с бледным лицом и запавшими глазами. Большая часть старого ватного одеяла, которым она была прикрыта, сползла на грязный липкий пол, так что Нина сразу же поспешила поправить его. Заметив это, хозяйка пробормотала что-то типа «совсем плоха старушка стала». После чего принялась наблюдать за тем, как ловко гостья осматривает больную и беседует с нею. А вскоре, как видно, окончательно убедившись, что Нина не солгала ей, назвавшись врачом, она вышла из комнаты, оставив ее наедине с матерью. И Нина уже собралась было спросить Таисию Матвеевну, не помнит ли она отца Василия, как вдруг…
– Доктор, миленький… – голосом певучим и тихим, как шелест падающей осенней листвы, произнесла старушка, стиснув ее руку и вглядываясь в нее незрячими светло-голубыми глазами. – …ты бы впрягся в тележку да свез бы меня домой… Дома-то так хорошо было…
– А откуда вы? – спросила Нина, не совсем понимая, что та подразумевает под словом «дом».
– Из Никольского… – прошелестела Таисия Матвеевна. При этих словах Нина оживилась:
– А отца Василия вы знали?
– Как же не знать-то? Это такой жалостный батюшко был… Я тогда еще маленькой была и к нему на исповедь ходила. А он меня и спрашивает – в чем, мол, грешна? А я ему как дома учили: во всем, мол, грешна, батюшко. Тогда он опять спрашивает: «А старших-то слушаешься? Смотри, слушайся их, иначе грех будет… И мачеху слушайся, они с отцом тебе добра хотят… А малину чужую без спросу не рвала ли?» Тут я испугалась – а ну как он мачехе расскажет? Это же мы его малину рвали, а он и заметил… А мачеха-то моя крутенька была, чуть что – сразу за косу, бывало, что и до крови надерет… Ох, думаю, и задаст она мне таску! Стою и молчу, только слезы текут. А он улыбнулся и говорит: «Полно, Бог простит. Только без спросу больше малину не рвите – грех это. А захотите ягод – приходите, я дам». Потом положил мне руку на голову, благословил. Ну, говорит, иди с Богом, будь умницей. Ох, какой же он был утешный батюшко! А каково тяжко ему-то самому было…
Старушка затряслась в беззвучном безутешном плаче. Видимо, своими расспросами Нина разбередила ее давние душевные раны. Но причину ее слез Нина так и не узнала. Потому что в это время вернулась хозяйка и пригласила ее пить чай. Так что взятая Ниной в подарок отцу Александру коробка московских конфет с нарисованными на ней блестящими золотыми куполами оказалась весьма кстати. Впрочем, хотя Анна Петровна стремилась выглядеть радушной хозяйкой, Нине было не по себе. Не только потому, что хозяйку интересовало прежде всего то, как долго еще проживет больная мать. Но и оттого, что все услышанное ею сегодня об отце Василии совершенно противоречило тому, каким она его себе представляла. После этого у Нины пропало всякое желание писать о нем. Равно как и искать еще кого-нибудь, кто мог бы его помнить. И она решила вернуться в город.
Спустя полчаса она уже сидела в пыльном салоне автобуса, едущего на станцию. И даже не заметила, как проехала и старое кладбище, и развалины Никольского храма.
Ей было невдомек, что самой большой глупостью, совершенной ею в тот день, был именно этот отказ от дальнейших поисков.
* * *
Вернувшись домой, Нина, как говорится, с головой погрузилась в привычные заботы. И совершенно забыла о своей поездке. Тем более что и отец Александр с тех пор ни разу не появлялся в городе. Однако спустя пару месяцев дело отца Василия приняло, как говорится, неожиданный оборот. Потому что в нем появился новый свидетель.
Как-то в палату к Нине поступила очередная больная. Звали ее Верой Никандровной. За годы врачебной практики Нине редко приходилось видеть таких красивых старых женщин. Хотя, точнее говоря, речь шла не столько о внешней красоте, сколько о чем-то ином, пронизывавшем весь облик этой старушки, словно некий свет, льющийся откуда-то изнутри. Это сложно было выразить одним словом: благообразие, интеллигентность, благородство… Но им были проникнуты и речь, и поведение этой восьмидесятилетней женщины. Именно поэтому с первых дней, как она оказалась в больнице, ее полюбили не только соседки по палате, но и медсестры, и врачи. Прежде всего – Нина. Тем более что Вера Никандровна, в свое время работавшая завучем в одной из городских школ, была из тех людей, общение с которыми приносит радость.
Однажды, в очередной раз придя с обходом в палату, где находилась Вера Никандровна, Нина обратила внимание на книгу, которую та читала. Такие книги – с кожаными корешками, в переплетах, оклеенных бумагой с мраморными разводами, ей уже приходилось видеть прежде. Но вот держать в руках – крайне редко. Потому что это была какая-то старинная книга, из тех, что иногда можно увидеть на полках букинистических магазинов.
– Это Лесков, – сказала Вера Сергеевна, перехватив ее вспыхнувший взгляд. – Я его очень люблю читать. И мой дядя тоже любил. Это как раз его книга. Хотите посмотреть?
Перелистывая гладкие, пожелтевшие от времени страницы, Нина добралась до титульного листа. И обмерла. Потому что увидела там аккуратную надпись, сделанную черными чернилами: «священник Василий Т-кий».
Вот так, говоря словами поэта, «по воле Бога Самого» Нина встретилась с единственной оставшейся в живых родственницей отца Василия – его племянницей.
* * *
В отличие от многих старых людей, которые и поныне продолжают жить страхами недавнего прошлого, а потому предпочитают хранить молчание, Вера Никандровна охотно согласилась рассказать Нине о своем дяде. Поэтому в ближайшее дежурство Нины они уединились в ординаторской. И там, за чашкой чая, Вера Никандровна приступила к своему повествованию:
– …Он был моим дядей по матери. И, можно сказать, моим приемным отцом. Они с матушкой взяли меня к себе после того, как отец женился вторично. Его жена не любила меня… А у них с матушкой Поликсенией не было своих детей… Таких людей, как они, я больше никогда не встречала. Как они любили друг друга! Можно сказать, души друг в друге не чаяли. Только матушка иногда говорила мне, что хотела бы пережить его – «чтобы он по мне не наплакался, как без меня один останется». Да вышло иначе – она умерла первой… С тех пор он словно сам не свой стал. И пить начал. После этого его и отправили в село служить. Я тогда хотела с ним поехать, чтобы помогать ему. Да он не разрешил, велел к отцу вернуться. Недолго я там пожила – сбежала от них. Потом в прислугах жила у разных людей, на заводе даже работала. А уже после революции приняли меня в комсомол и отправили учиться в институт… А дядя мой все это время так и служил в том селе. Я у него много раз бывала. Он мне никогда не рассказывал, как ему там жилось. Да только я видела – тяжело ему приходилось. Бедно он жил. И по дому все делал сам, никто ему не помогал. А как случится у кого беда, к нему бегут: «Помоги, батюшка». Бывало, он последнее им отдавал. А они за это над ним только смеялись. Особенно один мужик, злой, глумливый, и звали его под стать этому – Иудой. Раз в Пасху, когда дядя с крестным ходом село обходил, зазвал он его к себе и напоил допьяна. Потом со своими дружками посадил его на телегу, да и провез по селу. После того дядя долго болел и пить бросил… Последний раз я к нему приезжала за три дня до его ареста. Он болен был, дома лежал. Если б не я, ему бы тогда и воды подать было некому. А мне через два дня надо было в город вернуться. Вот я ему и говорю: «Не житье тебе здесь, дядя. Пропадешь ты тут один. Давай уедем вместе в город. Там я за тобой ухаживать буду. А что до церкви – разве мало в городе церквей? Ходи в какую хочешь…» Только он отказался. Не могу, говорит, их бросить. Я за них перед Богом в ответе. И тут прибегает какая-то женщина, плачет в голос: «Ой, батюшка, беда! Там у церкви мужики собрались и кричат: “Обманули нас, что советская власть – народная! Какая же это народная власть, если она у нас последнее отбирает! Не нужна нам такая власть!” И Иуда мой там… Их же за это всех заберут! Батюшка, ради Христа, помоги!» Насилу он ее успокоил и назад отослал. А потом говорит: «Не надо было им этого делать. Да поздно уже…» И смолк, словно задумался о чем-то. А потом, хоть дело уже к вечеру было, велел мне немедленно в город возвращаться. Потом я узнала, что после моего отъезда он в правление пошел. И сказал, что это он организовал сходку у церкви. А потому пусть накажут его одного, а мужиков отпустят. Только зря он надеялся, что их отпустят, – всех их осудили. А самый большой срок ему дали. Там, в лагере, он и погиб. Вот и все…
* * *
…Вернувшись домой, Нина еще раз перечитала выписки из следственного дела отца Василия. Теперь, после рассказа Веры Никандровны, все тайны и загадки, казавшиеся прежде неразрешимыми, наконец-то получили объяснение. И Нине стало понятно, почему тогда, два месяца назад, Бог не дал ей написать статью об отце Василии. Ведь она невольно написала бы о нем неправду. А ложь, даже совершённая по неведению или из благих побуждений, неугодна Богу. И если бы она изобразила его бесстрашным и безупречным героем, то умалила бы его подвиг. Потому что священник, добровольно пошедший на смерть за своих врагов, был самым обыкновенным человеком…
…В чьей немощи совершилась сила Господня.
Великая жатва
Тот день начался как обычно. Закончив обход больных в своих палатах, врач-невролог Нина Сергеевна Н. направилась в ординаторскую. И тут заметила, что в коридоре у окна, вглядываясь в проходящих мимо людей и явно кого-то поджидая, стоит терапевт из соседнего отделения Татьяна Игоревна К., слывшая среди коллег особой, весьма неприятной в общении. Но не успела Нина задаться вопросом, чем бы мог быть вызван ее визит и к кому б она могла прийти, как Татьяна Игоревна решительным шагом направилась к ней. Прижав Нину к стене и подозрительно озираясь по сторонам, она громко зашептала:
– Слушай, у тебя, случайно, нет канона о самоубийцах?
И, заметив растерянность на лице Нины, поспешила пояснить:
– Ну, того канона, который читают по самоубийце. Нигде не могу его найти. Может, у тебя есть? Я с него сделаю копию и сразу же верну. Он мне очень нужен. И чем раньше, тем лучше. Можно сказать, от этого зависит моя жизнь.
В юности Нина очень любила читать романы. Особенно те, которые изобиловали всевозможными тайнами и приключениями. Потому что, к сожалению, а возможно и к счастью, в ее собственной жизни ничего этого не было. Но, хотя увлечение романами давно уже миновало, сейчас на Нину вновь повеяло терпким ароматом некой зловещей тайны, словно сошедшей со страниц тех, полузабытых ею книг. В самом деле, с чего бы это вдруг ее коллеге срочно понадобился Канон о самовольне живот свой скончавшем? И почему от этого зависит ее жизнь? Ей было ясно лишь одно: Татьяне Игоревне на самом деле для чего-то крайне необходим текст этого канона. Иначе бы она не решилась обратиться к человеку, с которым была в ссоре уже три месяца. То есть к ней, к Нине.
Они знали друг друга много лет. Еще с тех пор, когда вместе учились в мединституте. И, можно даже сказать, дружили. По крайней мере у замкнутой и неприветливой Татьяны Игоревны никогда не было знакомых ближе, чем Нина. А все ее интересы до недавнего времени сводились к работе, хождению по магазинам, просмотру телесериалов да чтению женских романов, которые она «проглатывала» один из другим, не запоминая содержания. В отличие от Нины, к вере она относилась равнодушно. Или, судя по ее язвительным насмешкам над религиозностью подруги, даже враждебно. Однако после того, как год назад Татьяне Игоревне, с юности не отличавшейся крепким здоровьем, пришлось пройти обследование в онкологическом диспансере, она, ко всеобщей неожиданности, крестилась. После чего изменилась до неузнаваемости. Особенно с тех пор, как четыре месяца назад стала ходить в Рождественский храм, настоятель которого, отец Виктор, слыл строгим подвижником, «яко един от древних отцев». И его прихожане, по известной поговорке, стремились походить на своего батюшку. Неудивительно, что Татьяна Игоревна, став духовной дочерью отца Виктора, тоже принялась вести поистине подвижническую жизнь. Так что если раньше она по примеру многих сверстниц и коллег тщательно следила за своей внешностью, стремясь как можно дольше «притворяться молодою», то сейчас, без косметики и украшений, в темной одежде, с гладко зачесанными назад седеющими волосами, собранными в пучок на затылке, и скорбно поджатыми губами, выглядела намного старше своих лет. И в сумке ее вместо очередного романа теперь всегда лежал пухлый молитвослов со множеством закладок. С ним соседствовала майонезная баночка с винегретом или картошкой, поскольку после крещения Татьяна Игоревна стала строгой постницей. Так что во время обеда ела отдельно от других врачей, считая грехом даже сидеть за одним столом с неверующими и непостящимися. Разумеется, она много раз гневно обличала и поучала своих коллег, надеясь обратить их ко благочестию. Но добилась лишь того, что перессорилась с ними. А напоследок – и с Ниной, когда та отказалась перейти из собора, куда ходила уже лет десять, в Рождественский храм. В итоге Татьяна Игоревна, обвинив подругу в неуважении к отцу Виктору, перестала с ней общаться и даже при случайных встречах делала вид, что не замечает ее. Так что, если после этого она решила обратиться к Нине за помощью, значит, с ней явно случилась какая-то беда. Вот только что же с ней произошло?
Впрочем, Нина не стала приставать с расспросами к своей бывшей подруге. А просто пообещала поискать дома нужный ей канон. И, если он найдется, дать его Татьяне Игоревне.
* * *
Тем не менее Нине все-таки хотелось узнать, зачем ей мог понадобиться канон, читаемый по самоубийце. Вдобавок она не была уверена, есть ли он у нее самой. Именно поэтому, придя домой, она сразу же принялась рыться в своих книгах. И наконец отыскала текст этого канона в одном из молитвословов. Теперь оставалось лишь отдать книгу Татьяне Игоревне. Вот только сделать это можно было не раньше понедельника. То есть через два дня. Потому что завтрашний субботний день Нина, по давней привычке, собиралась посвятить стирке, уборке и тому подобным хозяйственным делам. Конечно, оставалось еще воскресенье. Но, как уже говорилось, они с Татьяной Игоревной ходили в разные храмы. И Нина настолько привыкла к собору, что, к чему таить, ей было совсем не по душе идти на воскресную литургию в другой храм. Даже ради благого дела…
Однако ее все больше одолевало любопытство. В самом деле, с чего бы Татьяна Игоревна так стремилась заполучить этот канон? Может быть, он нужен кому-то из ее знакомых? Но вряд ли она стала бы так стараться для чужих людей. Да и какие могут быть знакомые у столь необщительной дамы, как Татьяна Игоревна… Если же он нужен ей самой, то по ком она собирается его читать? Ведь ее родители умерли своей смертью. Кто же тогда этот таинственный самоубийца? А что если это человек, который когда-то любил Татьяну Игоревну, но был отвергнут ею? И, не вынеся этого, наложил на себя руки. Теперь же она, не выдержав угрызений совести, собирается замаливать грех, который он совершил по ее вине. Нина знала много подобных историй… из романов, читанных ею в юности. Вот только почему ее бывшая подруга сказала, что от того, удастся или нет ей достать текст канона, зависит ее собственная жизнь? Тогда счет времени для нее может идти уже не на дни, а на часы. Но если Нина привезет ей книгу только в понедельник или даже в воскресенье, то успеет ли она вовремя помочь Татьяне Игоревне? А в том, что той действительно нужна помощь, Нина теперь не сомневалась.
В итоге спустя полчаса она уже звонила в дверь квартиры, где жила ее бывшая подруга.
* * *
Судя по тому, что в ее окнах горел свет, она была дома. Однако напрасно Нина, стоя на полутемной лестничной площадке, то нажимала на кнопку звонка, то прислушивалась в надежде уловить хоть какой-то звук за дверью. В квартире Татьяны Игоревны царила мертвая тишина. И тогда Нина поняла, что опоздала. С ее подругой уже случилось нечто страшное и непоправимое. Причем по ее вине… В полном смятении она стала спускаться по лестнице, на ходу пытаясь сообразить, что же теперь ей остается делать. Как вдруг за ее спиной вспыхнул свет. Нина резко обернулась – и от неожиданности едва не скатилась вниз по бетонным ступенькам. В ярко освещенном дверном проеме стояла Татьяна Игоревна.
Да, это была она. Живая и невредимая. Но даже не это удивило Нину. А то, что, судя по выражению лица ее бывшей подруги, она вовсе не обрадовалась ее приходу. Напротив, была раздосадована. И даже не собиралась скрывать этого.
– Прости Христа ради, – процедила Татьяна Игоревна, смиренно опустив глаза. – Просто батюшка не благословляет нам отвлекаться от молитвы. А я как раз дочитывала правило. Но теперь ты уже можешь войти. Если, конечно, у тебя есть ко мне дело.
Едва переступив порог ее квартиры, Нина убедилась, что Татьяна Игоревна сказала ей правду. Потому что сквозь приоткрытую дверь в ее комнату была видна горящая перед иконами лампадка, а ниже, на тумбочке, служившей аналоем, – раскрытый молитвослов, на котором лежали длинные черные четки, какими обычно пользуются монахи. Впрочем, и сама Татьяна Игоревна – в длинном черном платье, с темным платком на голове – сейчас вполне походила если не на инокиню, то на послушницу. Нина не преминула сказать ей об этом – и ее бывшая подруга прямо-таки расцвела от радости. Да, она уже второй месяц по благословению отца Виктора молится по четкам и читает иноческое келейное правило. И собирается вскоре уйти в монастырь. Потому что наступили последние времена, так что спастись уже невозможно нигде, кроме как за стенами святой обители. А ведь на нее возложена обязанность замаливать не только свои, но еще и чужие грехи…
При этих словах Нина, как говорится, навострила уши. Однако Татьяна Игоревна, окончательно войдя в роль гостеприимной хозяйки, предложила ей разделить с нею трапезу. Или, проще говоря, выпить чаю. После чего пошла на кухню ставить чайник, оставив ее одну в комнате. Так что у Нины было достаточно времени, чтобы оглядеться вокруг.
С того времени, когда она последний раз побывала в этих стенах, многое здесь изменилось, причем до неузнаваемости. Вместо женских романов на полке теперь стояло объемистое «Добротолюбие», а также зачитанные «Житие и чудеса старца Сампсона» и книжка «Старец Антоний», из которых торчало множество закладок. Было там и еще десятка два других книг и брошюр, исключительно духовного содержания. Судя по их названиям, Татьяна Игоревна отдавала предпочтение жизнеописаниям современных старцев, а также книгам про чудеса и загробную жизнь. Вот и сейчас молитвослов на тумбочке соседствовал с толстым томом, озаглавленным «Доказательства существования ада», из которого торчала шариковая ручка. Впрочем, поодаль, под сероватой от пыли салфеткой, виднелась еще одна книга. А именно – Новый Завет.
Над диваном, где прежде висел гобелен в рамке с изображением полунагой египтянки, обнимающей гривастого льва, теперь, словно на витрине церковной лавки, теснилось множество икон. Все они были новыми. Кроме одного образа, висевшего на самом верху, темного, с кое-где облупившейся краской. На нем был нарисован Спаситель. Только не таким, каким Его обычно изображают на иконах. Не с Евангелием в руке. И не на царском престоле. А со связанными руками, в терновом венце и багрянице. И хотя Нине прежде уже доводилось видеть подобные иконы, причем гораздо более искусной работы, ни на одной из них на лике Спасителя не было выражения столь безмерной скорби и муки… Так что ей вспомнились слова, сказанные Им апостолам в Гефсимании: «…душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте»[2]. Его мольба, которой в ту страшную ночь не вняли даже самые близкие Его ученики…
– Это икона моего прадеда, – сказала вошедшая в комнату Татьяна Игоревна, перехватив взгляд Нины. – Ее нашли у него в шкафу после того, как он умер. Вернее, отравился. Сам в ад пошел и всю свою семью погубил. Это из-за него и дядя Вася спился, и тетя Агния замуж не вышла. И в том, что я всю жизнь болею, тоже он виноват. Так мне и батюшка сказал: всех вас Бог за его грех наказал. И после этого я же еще его душу и отмаливать должна! Ведь из всей его родни только и остались, что я да мамина младшая сестра Агния. А она как всю жизнь верила в свой коммунизм, так до сих пор и верит… старая дура!
От стыда Нина была готова провалиться сквозь землю. Тоже мне, Анна Радклиф выискалась! Барбара Картленд![3]. Это же угораздило ее придумать такую нелепую историю об отвергнутом женихе-самоубийце! Да еще и самой поверить в нее. После чего мчаться сломя голову на другой конец города. Хотя, оказывается, вполне можно было подождать понедельника! Не зря же говорят: за дурной головой – ногам работа! Вот к чему приводит чтение романов! А ведь на самом деле все намного проще – в свое время прадед Татьяны Игоревны покончил с собой. А теперь она, по благословению отца Виктора, собирается читать по нем канон «о самовольне живот свой скончавшем». Вот и все. И ничего загадочного тут нет.
Однако Нине не верилось, что православный человек решился наложить на себя руки. Тем самым обрекая свою душу на вечную погибель. Может быть, он умер, что называется, при невыясненных обстоятельствах, так что его сочли самоубийцей. Но был ли он им на самом деле?
– Увы, здесь нет никакой ошибки, – вздохнула Татьяна Игоревна, когда Нина поделилась с ней своими сомнениями. – Он действительно покончил с собой. У мамы хранились кое-какие его документы. В том числе и свидетельство о его смерти. Я сама его однажды видела. И там было написано, что он отравился. Сейчас я попробую найти те бумаги. Кажется, я их не выбросила во время последнего ремонта…
Она долго рылась на антресолях, пока наконец не извлекла оттуда серый клеенчатый школьный портфельчик. После чего, усевшись на диван вместе с Ниной, принялась перебирать его содержимое. Там было свидетельство о рождении Татьяны Игоревны, а также дипломы и свидетельства о смерти ее родителей, инструкции к швейной машинке, к стиральной машине «Ока», к радиоле «Маяк» и электробритве «Харьков». Было несколько сложенных вчетверо похвальных грамот, поздравительные открытки советских времен, талоны на продукты, пара акций компаний «МММ», старый лотерейный билет – одним словом, все что угодно, кроме того, что они искали. Но когда в руках у Татьяны Игоревны оставалось всего лишь несколько пожелтевших от времени бумаг и бумажек, из них с глухим звоном вдруг выпал на пол какой-то маленький черный предмет. Нина успела поднять его первой. Это был старый, весь покрытый окисью серебряный крестик.
Вслед за тем Татьяна Игоревна протянула ей наконец-то нашедшееся свидетельство о смерти своего прадеда. В нем значилось, что Павлушков Дмитрий Иванович, 62 лет, умер 3 ноября 1937 года. И указана причина смерти – отравление морфием. То есть самоубийство.
– Он работал врачом в больнице, – пояснила Татьяна Игоревна. – Поэтому и смог достать морфий. В какой именно? Мама говорила, что в больнице ГУЛАГА, где лечили заключенных из здешних лагерей. А он там был фтизиатром[4]. Хотя о каком лечении туберкулеза могла идти речь в те времена! Самому бы не заболеть. Поэтому мало кто из врачей стремился пойти туда работать. Правда, мама рассказывала, что там он очень хорошо получал. Куда больше, чем раньше, когда работал в амбулатории. Да там еще и продуктовый паек давали. А когда он туда перешел, его дочь, то есть нашу бабушку, взяли работать учительницей музыки в лучшую городскую школу. Как бы теперь сказали, в элитную. Там же учились ее младшие дети, сын Вася и дочь Агния. Пока ему не взбрело в голову наложить на себя руки. Тогда бабушку сразу уволили, а ее детей перевели в другую школу, где училась всякая шантрапа. Представляешь, какой это был удар для всей семьи! И все по его вине! Правда, как только о нем заходила речь, мама сразу заявляла: «О мертвых – либо хорошо, либо – ничего». Она его всегда защищала. Потому что в то время, когда все это случилось, она давно уже работала и замужем была. Вот и не пострадала, как все остальные.
– А что это за крестик? – полюбопытствовала Нина.
– Когда его нашли мертвым, этот крестик был на нем, – ответила Татьяна Игоревна. – По крайней мере так рассказывала мама. Разумеется, его сразу же сняли… А позже в гардеробе, за одеждой, обнаружили и икону (она подняла глаза к образу Спасителя в терновом венце). Мама не дала их выбросить. У нее были и еще кое-какие его вещи: деревянный стетоскоп, портсигар, пара запонок. Еще тетрадка была – то ли его дневник, то ли какие-то записки. А в нее разные бумаги вложены. Я только одну видела: не то письмо, не то заявление с просьбой улучшить питание и условия содержания больным туберкулезом… Чтобы снизить их смертность. Кажется, так. Ума не приложу, зачем мама так дорожила всем этим хламом? После ее смерти я его сразу же выбросила.
Тем временем Нина заметила среди оставшихся еще не разобранными бумаг надорванный конверт, из которого торчал краешек какой-то фотографии. Похоже, старинной. И не ошиблась. Судя по тисненной золотом надписи внизу, снимок был сделан в известной городской фотомастерской. Поскольку он выглядел как новый, было ясно, что прежние хозяева бережно хранили его. На нем был изображен священник, на вид лет сорока или чуть старше. С темными глазами, пристально глядевшими из-под мохнатых бровей, с пышной гривой чуть тронутых сединой волос и небольшой окладистой бородой. Но за его красивой, картинной внешностью угадывалось нечто, куда более важное и значимое: ум, сильная воля и тот душевный мир, что отличает людей глубокой веры. Сзади имелась надпись, сделанная черными чернилами: «На молитвенную память другу Мите П. от протоиерея Феодора Адрианова. 10 сентября 1917 г.».
Для Татьяны Игоревны эта находка стала полной неожиданностью. Хотя совершенно не заинтересовала ее. Поэтому она предложила Нине взять фотографию себе. Правда, в обмен на принесенную ею книжку с каноном. И была очень довольна столь выгодным для себя обменом.
Что же до Нины, то все эти рассказы и находки убедили ее в том, что эта давняя история полна тайн и загадок. Правда, теперь не оставалось сомнений: прадед Татьяны Игоревны действительно покончил с собой. Вот только почему он это сделал? Нет ли тут связи с тем письмом, в котором он просил начальство улучшить условия содержания заключенных в лагерной больнице? И эту просьбу потом вменили ему в вину… Или причина была какой-то иной? Тогда что же могло заставить верующего человека совершить самоубийство? Ведь старый врач явно верил в Бога. Иначе бы он не держал дома икону и не носил бы крестик. В те богоборные времена на такое мог решиться лишь верующий человек. Да и вряд ли атеист стал бы хранить у себя фотографию священника. Разве только в одном случае: их дружба была настолько крепкой, что революция и все последовавшие за ней перемены в стране не прервали ее. Причем, судя по дарственной надписи на фотографии, она началась еще в детские годы. Так что для отца Феодора Дмитрий Иванович навсегда остался «другом Митей»… Дружбу этих двух людей прервала лишь смерть одного из них. Но кто же умер первым?
Вдобавок чем дольше Нина вглядывалась в лицо священника с фотографии, тем больше оно казалось ей знакомым. Словно раньше она уже где-то видела его. Однако, обжегшись на молоке, дуют и на воду. И память о недавнем конфузе была еще слишком свежа, чтобы в очередной раз строить домыслы и догадки. Так что Нина решила, что куда разумнее будет встретиться с единственной оставшейся в живых родственницей врача Дмитрия Павлушкова, которая знала его лично. А потому могла пролить свет на тайну его смерти. А именно – с его младшей внучкой, Агнией Васильевной.
На эту встречу Нина возлагала очень большие надежды. Не подозревая, насколько обманется в своих ожиданиях.
* * *
Встретиться с Агнией Васильевной оказалось отнюдь не так просто, как поначалу представлялось Нине. Ибо Татьяна Игоревна отзывалась о своей родственнице крайне недоброжелательно. А потому не хотела и слышать о том, чтобы познакомить с ней Нину. Причем их вражда была вызвана не только, так сказать, идейными разногласиями. По словам Татьяны Игоревны, ее тетка всю свою жизнь ненавидела их семью. Особенно ее мать, приходившуюся Агнии Васильевне старшей сестрой. И началом этой вражды послужило как раз самоубийство их деда, Дмитрия Павлушкова, последствия которого сказались на всех его родственниках. Кроме старшей дочери, к этому времени уже ставшей взрослой и самостоятельной. В итоге сколько та ни помогала матери и брату с сестрой, они никогда не простили ей того, что ей, по их мнению, жилось лучше, чем им. А впоследствии, перестав нуждаться в ее помощи, и вовсе порвали с нею отношения. Лишь много лет спустя, уже после смерти сестры, Агния Васильевна снизошла до общения с ее дочерью, Татьяной Игоревной. Возможно, потому, что с годами она все больше нуждалась в медицинской помощи, а ее племянница как раз была врачом…
Неудивительно, что Нине пришлось долго уговаривать Татьяну Игоревну устроить их встречу. Вдобавок найти для нее благовидный предлог. Поскольку, со слов племянницы, Агния Васильевна отличалась крайней подозрительностью, так что во всех незнакомых людях видела воров и убийц. Хотя как раз тут особых затруднений не возникло: старушка давно жаловалась на головокружения, шум в ушах и снижение памяти. А все эти симптомы были как раз по части невролога, каковым являлась Нина. Так что ее приход к Агнии Васильевне мог сойти за обыкновенный визит врача. Вдобавок врача, настолько хорошо знакомого ее племяннице, что та доверила ему заботу о здоровье любимой тети.
Сначала все шло по намеченному плану. Нина осмотрела Агнию Васильевну. Причем очень тщательно. Потом успокоила ее, уверив, что не обнаружила ничего, угрожающего ее здоровью. Затем назначила ей лечение, подробно объяснив характер действия каждого из препаратов и даже записав на бумаге их названия, дозировку, способ приема и его длительность. В итоге Агния Васильевна, которая поначалу исподлобья поглядывала на незваную гостью, изъявила желание угостить ее чаем. Следуя за старухой на кухню, Нина обернулась – и поймала удивленный взгляд Татьяны Игоревны. Похоже, Агния Васильевна не удостаивала подобной чести даже собственную племянницу…
Чай оказался настолько слабым, что, похоже, заварку уже неоднократно заливали кипятком. А из угощений на столе стояли лишь щербатое блюдце с засохшим вареньем и вазочка с твердокаменными пряниками. Однако благодаря Нине, догадавшейся захватить с собой рулет и коробку мармелада, эти деликатесы так и остались нетронутыми. Потому что даже подозрительная Агния Васильевна, убедившись, что принесенные гостьей продукты не отравлены, набросилась на мармелад, в одночасье опустошив половину коробки. И при этом жаловалась на обнаглевших чиновников и распоясавшихся бандитов, на то, что жизнь теперь стала совсем плохой, не то что раньше, когда врагов народа расстреливали и оттого в стране царил порядок… А как перестали расстреливать, так не стало никакого порядка и справедливости тоже не стало. Где же справедливость, если она, проработав всю жизнь, получает такую крохотную пенсию, что и на хлеб-то едва хватает? А молодежь сейчас пошла бессовестная, ей до стариков и дела нет… Ничего, сами когда-нибудь состарятся… как аукнется, так и откликнется…
Судя по тому, что, говоря все это, Агния Васильевна сердито косилась на свою племянницу, нетрудно было догадаться, кого она подразумевает под «бессовестной молодежью». Кажется, это понимала и сама Татьяна Игоревна. Потому что Нина заметила, как ее губы дрогнули… и тут же сжались сильнее обычного.
Тогда она решила, что пора вмешаться и разрядить ситуацию:
– Что вы, уважаемая Агния Васильевна! У вас такая чудесная племянница. Видите, как она о вас заботится – вот и меня к вам пригласила. И сама она замечательный врач. Наверное, этот дар у нее по наследству. Она говорила, что ваш дедушка тоже был врачом…
Она не успела закончить фразу. Агния Васильевна вскочила, смахнув на пол полупустую коробку и с криком бросилась на Нину:
– Я не хочу о нем слышать! Он сам во всем виноват! Он всегда думал о ком угодно, но не о нас! А тебе до него какое дело? Шпионка проклятая! А ну, убирайся отсюда, не то милицию вызову!
К счастью для Нины, Татьяна Игоревна успела заслонить ее собой. В следующий миг она, сорвав с вешалки куртку и платок и оцарапав руку о ржавую задвижку, уже выскочила в коридор. А вслед ей несся истошный крик разъяренной старухи:
– Это ты во всем виновата, дура богомольная! Зачем ты привела ко мне эту шпионку?!
* * *
Нине понадобилось немало времени на то, чтобы прийти в себя. Когда же она успокоилась настолько, что смогла наконец поразмыслить над увиденным и услышанным, то поняла: визит к Агнии Васильевне не стоит считать неудавшимся. Ведь благодаря ему в истории загадочного самоубийства врача больницы ГУЛАГА появились новые детали. Прежде всего, теперь не оставалось сомнений, что оно произошло по какой-то важной причине. Причем настолько важной, что из-за нее Дмитрий Павлушков решился обречь свою душу на вечные адские муки. Возможно, Агния Васильевна знала эту причину. И именно поэтому обронила многозначительную фразу: «Он сам во всем виноват». Но что означали другие ее слова: «Он всегда думал о ком угодно, кроме нас»? Только ли то, что после самоубийства врача его дочь лишилась работы, а внуки – места в привилегированной школе? А может, Дмитрий Павлушков тайно помогал кому-то из тех, кого тогда относили к «врагам народа»? И когда это открылось, покончил с собой в страхе за собственную жизнь и свободу. Вот только кому он мог помогать?
Тут Нине опять вспомнилось, как Татьяна Игоревна рассказывала ей о письме, найденном среди бумаг прадеда. Том самом, в котором он ходатайствовал, чтобы больным туберкулезом заключенным улучшили условия содержания. В те времена подобный поступок вполне могли расценить как пособничество врагам народа. Со всеми последствиями этого… Впрочем, «врагом народа» тогда мог оказаться кто угодно. Например, кто-либо из знакомых или друзей Дмитрия Павлушкова. Хотя бы тот же отец Феодор Адрианов, некогда подаривший ему в знак дружбы свою фотографию. Если, конечно, он дожил до 1937 года.
Как говорится, утопающий хватается и за соломинку. И Нина решила на всякий случай проверить эту версию. А потому достала с полки недавно купленную книгу, где были опубликованы сведения о православных, пострадавших за веру на территории их области. После чего поняла, что не случайно лицо отца Феодора показалось ей знакомым. Действительно, прежде она уже видела его. На фотографии в этой самой книге. Правда, на ней священник выглядел уже стариком. Судя по тому, что он был снят в профиль и в анфас, а на груди у него висела табличка с фамилией и годом рождения, фотография была сделана после его ареста. Под ней размещалась биографическая справка о протоиерее Феодоре Адрианове.
Она была краткой и представляла собой перечень дат с комментариями к ним. Согласно этим данным, отец Феодор родился в 1875 году в семье дьякона. По окончании духовной семинарии несколько лет работал учителем, а затем, после рукоположения в сан священника, служил в одной из городских церквей. В 1931 году был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и сослан на три года в Северный край. 20 августа 1937 года арестован вторично, на сей раз «за участие в тайных богослужениях и создание контрреволюционной группировки церковников». 14 сентября постановлением тройки УНКВД приговорен к расстрелу. Расстрелян 22 сентября 1937 года; 8 июня 1959 года реабилитирован посмертно.
Итак, отец Феодор Адрианов был арестован и расстрелян за несколько месяцев до самоубийства Дмитрия Павлушкова. Все это время его друг оставался на свободе. Так что, судя по всему, он был совершенно непричастен к делу отца Феодора. Тогда почему же он так ненадолго пережил его?
Увы, эту тайну старый врач, как говорится, унес с собой в могилу.
* * *
Окажись на месте Нины кто-то другой, он бы давно махнул рукой на всю эту запутанную историю. К чему, как говорится, ворошить далекое прошлое? Тем более что речь шла о совершенно чужом человеке. Причем таком, которого ненавидели даже ближайшие родственники, считавшие его виновником всех своих несчастий. Вдобавок становилось очевидным, что поиски зашли в тупик. А потому их вполне можно было прекратить, занявшись вместо этого иными, куда более важными и насущными делами.
Однако Нина решила продолжать их до тех пор, пока остается хоть малейшая надежда разгадать тайну самоубийства Дмитрия Павлушкова. Потому что ей очень хотелось узнать правду. Уже не из любопытства. И даже не оттого, что этот человек был ее собратом по врачебному ремеслу. Просто ей было жаль его. Интуиция подсказывала ей, что Дмитрий Павлушков не заслужил ненависти со стороны своих домашних. Хотя бы потому, что сам он любил их. Ведь это ради них он перешел работать из амбулатории в больницу ГУЛАГА. После чего в их семье появился достаток, дочь взяли на хорошую работу, а внуков – в престижную школу. Но для того чтобы его родные получили все эти блага, сам старый врач рисковал здоровьем. Ибо, работая с больными тяжелыми формами туберкулеза, вполне мог заразиться сам. Можно сказать, он рисковал даже жизнью. Поскольку, как верно подметила его правнучка, о каком лечении туберкулеза могла идти речь в те времена? После этого казалось странным, что человек, привыкший жертвовать собой ради семьи, вдруг ни с того ни с сего совершил самоубийство. Несомненно зная, что от этого могут пострадать дорогие для него люди. Тогда почему он все-таки это сделал?
Но и на этот вопрос Нина не могла найти ответа. И поэтому решила обратиться за помощью к одному знакомому, который куда лучше, чем она, разбирался в людях. Поскольку он был, что называется, духовным врачом. То есть священником.
* * *
Когда-то отец Александр, а в ту пору еще Александр Иванович Т., был ее коллегой. И работал с Ниной в одном отделении. Мало того – тогда он даже писал диссертацию по неврологии. То было в самом конце 80-х годов, когда, после празднования тысячелетия Крещения Руси, словно вернулись времена Владимира Святого и народ – кто просто из любопытства, а кто и в поисках пути и истины – потянулся в храмы. Среди последних был и Александр Иванович. Поскольку же вслед за тем в области начали открываться новые приходы, а потому понадобились и батюшки, уже через полтора года он сменил белый халат врача на черную рясу священника. После чего был направлен служить на приход в один отдаленный поселок. Причем настолько убогий, что иные из старших коллег отца Александра, считавшие его «увлечение религией» – блажью, а уход из аспирантуры – безумием, были уверены: через пару месяцев житья там он присмиреет и поумнеет. А в итоге вернется и в медицину, и в науку… Однако человек предполагает, а Бог располагает. И с Его помощью отец Александр не только не сбежал с дальнего и бедного прихода, но, напротив, так активно занялся его благоустройством, что всем сразу стало ясно: он прочно и явно надолго там обосновался. Он не просто отремонтировал, но фактически возвел заново тамошнюю вконец обветшавшую деревянную церквушку. А рядом с нею построил воскресную школу и даже гостиницу для паломников. Так как со временем его приход стал объектом паломничества не только для местных жителей, но и для горожан, и даже для людей из других епархий. А прозвище «чудотворец», которым кое-кто за глаза называл отца Александра – поначалу, разумеется, иронически, – теперь произносилось, что называется, со священным трепетом. Причем вполне заслуженно. Он действительно совершил чудо, возродив и обустроив свой приход. Хотя, что было не менее удивительно, нисколько этим не гордился.
Однако отец Александр, занятый помимо служения в храме многочисленными строительными, хозяйственными, просветительскими и миссионерскими делами, лишь крайне редко мог позволить себе выбраться в город. Но уж если приезжал, то непременно наведывался к своим старым знакомым. В том числе и к Нине.
Вот и на сей раз, оказавшись в городе по каким-то делам, он заглянул к ней в гости. А Нина, пользуясь случаем, рассказала ему о своих попытках разобраться в загадочной истории, которую она случайно (а возможно, и не случайно) услышала от бывшей подруги. Признавшись, что сделать это в одиночку ей так и не удалось. А потому она очень надеется на помощь отца Александра. Ведь ей хорошо известно, что в городе у батюшки имеется множество знакомых и духовных детей. В том числе и людей весьма влиятельных.
В отличие от нее, отец Александр куда больше заинтересовался судьбой протоиерея Феодора Адрианова. Ведь он уже который год собирал сведения о своих земляках, пострадавших за веру. Причем не только архивные данные, но и воспоминания о них. В будущем же собирался написать на их основе повесть или роман о новомучениках. Чтобы сделать подвиг этих людей понятным даже тем людям, кто еще только приходит к Богу. А потому не знает, какого мужества требует от человека вера. И какое мужество придает ему она.
– А ведь похоже, что у него есть родственники, – заявил отец Александр, изучив биографическую справку об отце Феодоре. – Именно они и ходатайствовали о его реабилитации. Что ж, попробую-ка я их поискать. И как только узнаю что-нибудь, непременно сообщу.
Но проходили дни, недели, месяцы, а отец Александр не спешил объявиться. Так что Нина уже начинала подумывать: а не забыл ли он о своем обещании? Или просто не смог найти родных отца Феодора? И постепенно, за делами насущными, она сама стала забывать, как стремилась когда-то разгадать тайну гибели врача Дмитрия Павлушкова. Мало того, теперь Нине казалось, что не было никакого смысла доискиваться правды. Ведь кому она оказалась бы нужна? Лишь только ей. И меньше всего – теперь уже единственной и последней оставшейся в живых его родственнице – его правнучке Татьяне Игоревне. Которая за это время успела похоронить тетку, продать ее и свою квартиры, рассчитаться на работе и уехать в монастырь. По ее словам, навсегда. Но спустя два месяца Татьяна Игоревна вдруг вернулась. После чего, по слухам, устроилась участковым терапевтом в одну из поликлиник. Где она теперь жила, не знал никто. Лишь однажды, уже много позднее, Нина встретила ее на улице. Она останавливала прохожих, предлагая им номера «Сторожевой башни». Татьяна Игоревна сильно изменилась. Она совершенно поседела и, судя по ее виду, почти не следила за собой. А на ее лице застыло столь злобное выражение, словно весь мир виделся ей теперь исключительно в черных красках. Нина попыталась заговорить с ней – но ее бывшая подруга с такой яростью обрушилась на православие, что дальнейший разговор оказался бесполезен. Больше Нина никогда не видела ее…
После этого неудивительно, что Нину не особенно обрадовал внезапный звонок отца Александра:
– Алло, Нина Сергеевна! Вы меня слышите? Я нашел внучку отца Феодора. И сейчас еду к ней. Хотите поехать со мной?
Нина хотела было отказаться, сославшись на недомогание или усталость после ночного дежурства. Однако все-таки не смогла солгать отцу Александру. А потому ответила:
– Конечно, батюшка. Вы заедете за мной? Я сейчас выйду. И буду ждать вас на крыльце. Благословите. До встречи.
Не прошло и четверти часа, как они уже были на месте. То есть в гостях у внучки отца Феодора, Марии Степановны Р.
* * *
При виде этой низкорослой худощавой старушки Нине вспомнились две другие женщины. А именно – Агния Сергеевна и ее племянница. Одной из них она приходилась сверстницей. Другой, судя по висевшим в ее квартире иконам, – сестрой во Христе. Однако при этом в ней не было заметно ни капли тех злобы и эгоизма, что сквозили в каждом слове, в каждом движении набожной Татьяны Игоревны и ее тетки-коммунистки. Она встретила гостей так приветливо, словно к ней явились ее давние и долгожданные друзья. И не забыв, впрочем, взять благословение у священника, захлопотала, вынимая из холодильника, из стенного шкафчика на кухне, из серванта – посуду, конфеты, варенье, хлеб, закуски и даже непочатую бутылочку бальзама. А под конец еще и ловко вскрыла консервным ножом заветную баночку с красной икрой. Отец Александр попытался было остановить старушку, но Мария Степановна, подобно евангельской Марфе, продолжала «заботиться и суетиться о многом»[5], остановившись лишь после того, как кухонный стол оказался полностью заставленным всевозможными угощениями. При этом от наблюдательного взгляда Нины не укрылось, что хозяйка прожила нелегкую жизнь. Об этом свидетельствовали ее руки, на одной из которых у среднего пальца не хватало фаланги, а суставы были деформированы, как у человека, знакомого с тяжелым трудом. Как не укрылось от нее и то, что Мария Степановна, подобно многим своим сверстникам-пенсионерам, живет более чем скромно. Единственными украшениями ее квартиры были вставленная в рамку репродукция картины В.А. Тропинина, изображающая девушку-пряху со скромной и ласковой улыбкой на румяном юном личике да фотографии на полках серванта. С них, улыбаясь, глядели на отца Александра и Нину многочисленные потомки Марии Степановны. В том числе – серьезный карапуз с соской во рту, похоже, приходившийся ей уже правнуком… Еще там была старая черно-белая фотография молодого парня в кепке, по виду рабочего. Судя по всему, покойный муж Марии Степановны помнился ей именно таким… На верхней полке серванта стояли и книги. В основном – русская классика. Хотя на журнальном столике, рядом с яркой плюшевой собакой, лежал потрепанный библиотечный «Остров сокровищ», явно забытый кем-то из внуков, гостивших у Марии Степановны.
Разумеется, за чаем завязалась задушевная беседа, во время которой старушка рассказала о своем дедушке-протоиерее все, что она смогла вспомнить. Потому что, когда его арестовали, ей было всего шесть лет.
– Но я все равно помню, как его уводили, – сказала она. – И никогда не забуду. Бабушка в тот же день слегла – парализовало ее. Поэтому передачи дедушке носила мама. Еще и деньги ему можно было посылать. По почте. Так вот, как-то раз отнесла она ему в тюрьму передачу. Передачу-то приняли. А через день ей на почте вернули перевод, который она ему еще раньше послала. Со штампом, что-де адресат выбыл. Мама и встревожилась – в чем дело? Пошла в тюрьму выяснять, а там ей женщина и говорит: «Вам сюда больше не следует ходить. Ваш отец осужден на десять лет без права переписки». Потом, когда она запрос сделала на имя начальника тюрьмы, ей письмо пришло. А в нем бумага. Такая серая, вроде бланка, в типографии напечатана… И там тоже написано было, что дедушка осужден на десять лет без права переписки. А у него друг был, который как раз в больнице для заключенных работал. Вот мама и побежала к нему узнать, что если с дедушкой переписываться запрещено, так можно ли ему в лагерь хоть переводы посылать? А он взглянул на бумагу и говорит: «Ему уже ничем не помочь. Только Стефаниде Васильевне (это мою бабушку так звали) не говорите». Да бабушка, похоже, все равно догадалась. И через месяц умерла… Потом этот его друг к нам не раз приходил. То денег принесет, то что-нибудь из продуктов. Пропали бы мы тогда, кабы не он. Ведь, кроме него, никто нам не помог. Видно, боялись… Последний раз он в самом начале ноября пришел. И когда уже уходил, говорит маме: «Простите, Анна Федоровна. Теперь мы пока не увидимся. К нам в больницу приехала комиссия. Вчера нашего главного врача забрали… Поэтому некоторое время я не смогу к вам приходить. Не хочу вас опасности подвергать». А мама ему: «Да, Дмитрий Иванович, вам лучше поостеречься. Вы и так из-за нас рискуете. А ведь у вас у самого семья: дочь, внуки. Случись что с вами, что с ними станется? Конечно, говорят, дети за отца не в ответе…» Как же мама потом кляла себя за эти слова! Он от них прямо-таки в лице изменился. «Простите», – говорит. И ушел. А потом мы узнали, что он в тот же вечер сам себя убил…
* * *
А позже, когда они, по обычаю русской интеллигенции, сидели на Нининой кухне, отец Александр рассказал, как ему удалось найти внучку отца Феодора Адрианова. Вернее, как ему помогли это сделать друзья и знакомые из прокуратуры, из адресного стола и еще многие другие. Вдобавок он упомянул, что навел справки и о Дмитрии Павлушкове. Оказалось, что в начале ноября 1937 года в больнице, где он работал, арестовали главного врача, а вслед за ним целый ряд медработников, вменив им в вину высокую смертность среди заключенных, больных туберкулезом. После чего большинство арестованных медиков было расстреляно, а немногие оставшиеся в живых получили большие сроки и сгинули в лагерях. Разумеется, их родственники сполна изведали горькую участь членов семей «врагов народа»…
Потом отец Александр уехал. А Нина допоздна сидела на кухне, пытаясь связать воедино все, что она знала о враче Дмитрии Павлушкове. Теперь в его истории больше не оставалось тайн. Кроме, разве, одной – почему почти все родные старого врача истолковали его поступок, что называется, с точностью до наоборот? И ненавидя и осуждая его за совершённое самоубийство, не догадывались, что на этот грех его толкнула любовь к ним. Ведь ради того, чтобы спасти их от надвигающейся беды, Дмитрий Павлушков решился обречь на вечную погибель собственную душу. Впрочем, ответ на этот вопрос напрашивался сам собой…
Однако если «…Бог есть любовь»[6], то какой приговор Он вынесет этому человеку? Осудит или помилует? Нина понимала: этому суждено оставаться в тайне до того последнего, страшного и беспристрастного суда, когда Господь станет судить мир и всех, кто когда-либо жил в нем. Не только за их дела. Но и за «помышления и мысли сердечные».
Завещание
В тот вечер врач-невролог Нина Сергеевна Н. осталась в отделении на дежурство. Вместе с молоденькой девушкой, которая несколько месяцев тому назад окончила медицинский институт и теперь проходила интернатуру по неврологии. Между прочим, она была тезкой Нины Сергеевны. Поэтому в отделении ее прозвали Ниной Маленькой. И посмеивались над тем, что она всюду хвостиком следует за Ниной Большой. То есть за Ниной Сергеевной, которая, в отличие от коллег, охотно делилась с ней своим врачебным опытом. Тем более что она всегда помнила, какой жизненный урок в свое время ей преподала эта девушка.
То было несколько лет назад, когда к ним в отделение впервые поступила ее мать, женщина лет сорока, еще совсем недавно преуспевающая и обеспеченная. Но теперь превращенная неизлечимой болезнью в беспомощного инвалида. И вымещавшая свою злобу и обиду на жизнь на тех, кто по долгу работы был обязан молча терпеть ее выходки. То есть на персонале отделения – от санитарок до лечащего врача. А таковым как раз являлась Нина Сергеевна. И хотя ей не раз приходилось читать о том, что оскорбления и уничижения являются горьким, но действенным средством для стяжания чистоты сердечной, тогда она уже готова была возненавидеть озлобленную и скандальную больную. Вот тут-то она и познакомилась с Ниной Маленькой, в ту пору еще студенткой, приходившей в отделение ухаживать за матерью. И изумилась, насколько эта далекая от Церкви девушка превосходит ее в терпении, смирении и любви. Ведь даже учиться в медицинский институт Нина Маленькая пошла ради того, чтобы стать врачом и попытаться вылечить мать. Правда, та умерла незадолго до того, как ее дочь получила диплом врача…
Первые часы их дежурства прошли на редкость спокойно. В приемный покой никто не поступал. Так что обе Нины успели обойти тяжелых больных и, вернувшись в ординаторскую, сделать записи в их историях болезни. После чего Нина Сергеевна достала из сумки недавно купленные в церковной лавке «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского и углубилась в чтение. А Нина Маленькая, маясь от скуки, листала старый медицинский справочник и то и дело поглядывала в окно… Заметив это, Нина Сергеевна уже собиралась было отправить ее домой. Как вдруг раздался телефонный звонок из приемного покоя. И она в сопровождении Нины Маленькой, отважно сжимавшей в вспотевшей от волнения руке неврологический молоток, пошла смотреть пациента, только что привезенного туда бригадой скорой помощи.
* * *
Это оказалась старушка семидесяти двух лет. Звали ее Анна Матвеевна Ефимова. Родом она была с острова, носившего говорящее само за себя название – Лихостров. Потому что житье там всегда было незавидным. А последние два десятилетия, после закрытия местных аэродрома и лесозавода, островитяне и вовсе бедствовали. И хотя Лихостров по какой-то иронии судьбы относился к центральному району города, добраться до него было потруднее, чем до иной окраины, куда мало-мальски регулярно ходили автобусы и такси. В зимнюю пору туда можно было дойти по ледовой переправе. Причем путь этот занимал более получаса. А летом между городом и островом курсировал буксир «Лебедь», который местные острословы метко переименовали в «Лапоть». Это ветхое суденышко являлось, что называется, памятником истории Лихострова и фигурировало в целом ряде местных преданий. Рассказывали, будто когда-то, еще при царе-батюшке, оно принадлежало знаменитому на всю губернию лихостровскому купцу Петру Бакланову. И что именно с него хмельной Бакланов, крича: «Ничего не пожалею, буйну голову отдам!», некогда бросил «в набежавшую волну» сундук, доверху набитый серебром. Правда, иные рассказчики утверждали, будто купец утопил в реке ларец с червонцами. Причем делали это настолько авторитетно, словно сами присутствовали при этом. Но, как бы то ни было, все рассказчики сходились в одном: купец Петр Бакланов являлся поистине эпической личностью, с чьим именем ассоциировалась эпоха былой славы и расцвета Лихострова.
«Лебедь» был последним вещественным свидетельством той эпохи. И единственным, что еще связывало Лихостров с остальным миром. Правда, всего дважды в день. Первый рейс от города до острова и обратно «Лебедь» делал рано утром, а второй – поздно вечером. Впрочем, лихостровцы, особенно пенсионеры, которым было накладно часто ездить в город, считали, что так оно даже и лучше. Потому что в их распоряжении оказывался целый день, за который они успевали сделать множество дел. И в Пенсионный фонд заглянуть, и таблетки бесплатные в поликлинике выписать, и на почту зайти, и на рынке продуктов прикупить, а на обратном пути, если посчастливится ехать сидя, еще и выспаться… Лишь бы, конечно, здоровье не подкачало…
Однако Анну Матвеевну оно никогда не подводило. Да только на сей раз оплошало. И когда под вечер она с полными сумками уже брела на пристань, отказали у нее правая рука и нога. Вот так и попала она в больницу. С подозрением на инсульт.
* * *
Никогда прежде не случалось ей лежать в больницах. Зато много раз доводилось слышать от знакомых и незнакомых людей страшные истории о том, как там больных до смерти залечивают. А потому, когда привезли Анну Матвеевну на приемный покой, а оттуда – на каталке в отделение, поняла она, что настал ее смертный час. И что парализованной правой ногой она уже в могиле стоит, а за недвижимую правую руку ее туда костлявая-безносая тянет. Но, хотя Анна Матвеевна в церкви бывала нечасто, зато в Бога верила крепко. Поэтому не столько смерти испугалась, сколько того, что оказалась к ней неготовой. Так что придется ей держать пред Богом ответ за прожитую жизнь с неисповеданными грехами на совести. И как боярыня Федосья Морозова, о которой ей когда-то бабушка-староверка рассказывала, умирая в темнице, просила стража выстирать ей сорочку, стыдясь лечь в могилу в нечистой одежде, так и Анна Матвеевна стала просить у докторши, что ее на приемном покое осматривала, позвать к ней батюшку. Чтобы смогла она перед смертью исповедаться и причаститься и с чистой душой ко Господу отойти.
Ее просьба повергла Нину Сергеевну в замешательство. Ведь время было уже позднее и все городские храмы давно закрылись. Даже собор, где вечерние службы начинались и заканчивались на час позже, чем в других церквях. Но Нина Сергеевна решила на всякий случай все-таки позвонить туда. В основном, как говорится, для очистки собственной совести. Ведь она прекрасно понимала, что и в соборе уже давно никого нет.
Каково же было ее изумление, когда бесконечные гудки в трубке внезапно оборвались и послышался голос отца Николая! Этот молодой, недавно рукоположенный священник уже успел полюбиться всем прихожанам собора за свою кротость и отзывчивость, граничившую с жертвенностью. Вот и сейчас, в ответ на просьбу Нины Сергеевны, отец Николай заявил, что сейчас же приедет в больницу. Попросив лишь о том, чтобы она провела его в отделение. Поскольку сам он не знает, как туда пройти.
За всеми этими хлопотами Нина Сергеевна совершенно забыла о Нине Маленькой. Зато та внимательно следила за нею. И на то имелась своя причина.
* * *
Нина Маленькая была уже не в том возрасте, когда верят в чудеса. Однако сейчас на ее глазах в отделении явно творилось что-то необыкновенное. Спустя минут десять после телефонного разговора Нина Сергеевна куда-то ушла. Но вскоре вернулась вместе с бородатым человеком в длинной черной одежде. И хотя раньше Нине Маленькой приходилось видеть таких людей лишь в кино, она сразу догадалась, что это – священник. Они вошли в палату, где под капельницей в полузабытьи лежала Анна Матвеевна. Потом Нина Сергеевна вышла в коридор и стояла там, словно ожидая, когда ее позовут. Действительно, вскоре священник выглянул из палаты и что-то сказал ей. После чего она поспешила в ординаторскую. А затем, осторожно держа в руках чайную чашку с водой, тоже вошла к больной.
Любопытство девушки достигло предела. Она на цыпочках прокралась к двери палаты, осторожно приоткрыла ее и увидела, как Нина Сергеевна приподнимает голову старушки, удобно подкладывая под нее подушку. А на тумбочке возле кровати, на расстеленной салфетке, виднеется что-то блестящее, похожее на миниатюрный макет храма, с крестом наверху. Священник стоял рядом, держа в руке маленькую серебряную чашу. Вот он что-то зачерпнул оттуда крохотной ложечкой и поднес ко рту больной… И тут Нине Маленькой вдруг стало стыдно за свое любопытство. Она не понимала, что происходит в палате. Но внезапно осознала: подглядывать за этим – недопустимо.
…Наутро Нину Сергеевну, прикорнувшую на диване в ординаторской, разбудил радостный крик Нины Маленькой:
– Нина Сергеевна, у нее рука и нога задвигались! Это от того лекарства, что он ей дал, да? А как оно называется?
* * *
Теперь Нина Маленькая каждый день забрасывала Нину Сергеевну вопросами не только по неврологии. И тогда она решила дать ей почитать книгу, по которой когда-то сама постигала азы православия. А именно – «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. То было самое первое, репринтное издание этой книги, где текст был напечатан в дореволюционной орфографии. Так что, возможно, Нине Сергеевне стоило бы подыскать для своей юной тезки книжку с более понятным для нее текстом. Однако она надеялась, что если любознательная девушка и не сумеет разобраться в ятях и фитах, то хотя бы посмотрит иллюстрации. А по ним догадается, о чем идет речь в книге.
Но хотя все произошло именно так, как рассчитывала Нина Сергеевна, последствия этого оказались неожиданными. Прежде всего для нее самой.
* * *
На другое утро, едва она вошла в ординаторскую, к ней бросилась Нина Маленькая:
– Нина Сергеевна, а можно я вас еще спрошу? Когда я старые вещи разбирала, то нашла среди них вышитую салфетку. Мне она так понравилась, что я ее сохранила. А вчера смотрю вашу книгу – а там на одной странице похожая картинка нарисована. Тогда, может, это какая-то церковная салфетка? Только как же она к нам в дом попала?
С этими словами она раскрыла книгу. Действительно, там на 685-й странице находилось изображение раскрытого Евангелия, над которым среди виноградных лоз и гроздьев был нарисован Потир. А над ним, в свою очередь, осьмиконечный крест. Вслед за тем Нина Маленькая извлекла из сумки большую холщовую салфетку и, положив ее рядом с книгой, развернула пожелтевшую от времени ткань. И хотя Нина Сергеевна поначалу довольно скептически отнеслась к словам девушки, теперь и ей настало время удивиться. Поскольку посредине салфетки была вышита закрытая книга, на которой стоял Потир, украшенный орнаментом в виде крестиков. А по сторонам от него красовались алая роза и белая лилия – символы жертвенной любви и непорочности. Конечно, оба изображения были не тождественны. Но все-таки, действительно, очень похожи.
– Нет, моя мама не умела вышивать, – решительно отвергла Нина Маленькая предположение Нины Сергеевны. – И бабушка тоже. Да и вряд ли они стали бы вышивать церковное. Ведь они обе в Бога не верили… Разве что баба Лиза могла бы. Хотя она уже почти слепая была. И прожила у нас совсем недолго…
Вслед за тем она рассказала Нине Сергеевне, как давным-давно, когда ей было еще лет пять, у них дома жила какая-то старушка, приходившаяся им родственницей. Звали ее Елизаветой. Разумеется, маленькая Нина называла ее бабой Лизой. И очень привязалась к ней. Раньше баба Лиза жила на Лихострове, где у нее был дом. Но когда от старости ей стало трудно самой заниматься хозяйством, мама и бабушка Нины привезли ее в город. Поначалу они относились к ней хорошо. Тем более что она помогала им по хозяйству и водила Нину в детский сад, который находился неподалеку от их дома. Но однажды утром баба Лиза отвела ее совсем в другое место. Прежде девочке никогда не приходилось там бывать. Оно называлось «церковь». Внутри было очень красиво, даже красивее, чем на новогодней елке. На стенах висело множество икон – и таких, какая висела в комнате у бабы Лизы, и больших, и совсем маленьких. Под ними, на высоких блестящих подсвечниках, горели тоненькие свечки. Ей даже разрешили задуть несколько огарков. Немного погодя пришел высокий человек с длинной седой бородой, совсем как у Деда Мороза, только настоящей. Бабушка о чем-то говорила с ним, называя его батюшкой. Дальнейшее Нина помнила смутно, тем более что поначалу испугалась этого человека. Хотя на самом деле батюшка оказался совсем не страшным, а, наоборот, очень добрым. Он трижды окропил ее водой из огромной, в ее рост, не то чаши, не то ванночки. После чего надел на нее блестящий золотой крестик, принесенный бабой Лизой. Потом Нине дали в руки зажженную свечку, и священник три раза обвел ее вокруг купели. А затем за ручку подвел к красивым золоченым резным дверям и даже приподнял, чтобы она могла поцеловать висевшие справа и слева от них иконы. Напоследок же угостил ее крохотной румяной булочкой, на которой был вытиснен крестик. Нине так понравилось в церкви, что домой она возвращалась едва ли не вприпрыжку от радости. Вот только вечером, когда мама с бабушкой увидели у нее на груди крестик, в доме разразился скандал. Крестик отняли. А на другой день, когда Нину привели домой из детского сада, она увидела, что дверь в комнату бабы Лизы распахнута настежь. Все ее вещи были на месте. Даже икона, привезенная ею с Лихострова. Вот только сама она бесследно исчезла… После этого Нина больше никогда не слышала о бабе Лизе…
– А как звали вашу бабушку, Нина? – перебила ее Нина Сергеевна.
– Александрой… – растерянно произнесла девушка. – А-а зачем вы это спрашиваете, Нина Сергеевна?
– Да просто подумала: может быть, ее звали Розой или Лилией, – нашлась та. – Да вот, оказывается, ошиблась. Что ж, бывает…
Однако на самом деле Нина Сергеевна задала этот вопрос по другой причине. Разглядывая салфетку, она заметила, что в одном из ее углов были вышиты две буквы: «Н.Д.».
Судя по всему, это были чьи-то инициалы. Однако они принадлежали не матери Нины Маленькой, которую звали Кларой. И не ее бабушке. А какому-то другому, неизвестному человеку.
* * *
Едва увидев их, Нина Сергеевна вспомнила романы, которые любила читать в юности. В них вещи, помеченные инициалами, непременно оказывались ключом к зловещей тайне. Например, к убийству или похищению. После этого неудивительно, что она начала подозревать: найденная салфетка наверняка связана с некоей загадочной историей. Тем более что на ней вышиты инициалы какого-то неизвестного человека…
Однако в том, что ей рассказала Нина Маленькая, не было никаких тайн. Напротив, все казалось до крайности простым и понятным. Верующая старушка с Лихострова, гостившая в городе у родни, тайно крестила свою внучатую племянницу. А затем, после ссоры с ее матерью и бабушкой, уехала к себе домой. Вот только странно, почему она оставила у них все свои вещи? И потом так и не вернулась за ними…
Чем дольше Нина Сергеевна размышляла над этой загадкой, тем больше убеждалась в том, что ответ на нее нужно искать на Лихострове.
* * *
Только, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Спустя два дня Нину Сергеевну негаданно-нежданно отправили в командировку в отдаленный лесопункт вместо заболевшей коллеги. А после она недели две лечила привезенный оттуда бронхит. За это время всех больных в ее палатах успели выписать. В том числе и Анну Матвеевну, которая очень сокрушалась, что не смогла лично проститься с понравившейся ей докторшей. Об этом Нине Сергеевне рассказала Нина Маленькая. Прибавив при этом, что старушка приглашала их в гости, если они какими-то судьбами окажутся в ее краях.
И тут Нина Сергеевна поняла – Господь не случайно устроил так, что Анна Матвеевна поступила в больницу именно на ее дежурстве, а потом лечилась у нее в палате. Как не случайно и это приглашение. Ведь для нее это единственный шанс отыскать на Лихострове следы загадочной бабы Лизы. Наверняка Анна Матвеевна была знакома с ней. Возможно, она знала, что случилось с нею после возвращения из города. Хотя с учетом того, сколько времени прошло с тех пор, было ясно: бабы Лизы уже давно нет в живых…
На этот раз Нина решила не терять времени и в ближайшее воскресенье съездить на Лихостров. Вот только без Нины Маленькой. Ибо ее все-таки не оставляла мысль о том, что вышитые буквы на салфетке связаны с некоей тайной. Однако она не решилась говорить Нине Маленькой о своих подозрениях. По крайней мере до тех пор, пока не узнает правду.
* * *
Поездка на Лихостров оказалась для Нины Сергеевны поистине неисчерпаемым источником новых приключений и впечатлений. За то время, пока утлый «Лебедь», пыхтя, словно одышливый старик, преодолевал узкую полоску реки между городом и островом, она успела вдоволь насладиться панорамой города, насмотреться на чаек, круживших над рекой, вдоволь поболтать с попутчиками, немного вздремнуть и ощутить ни с чем не сравнимую радость, когда буксир наконец-то ткнулся бортом в старую деревянную пристань…
Возможно, потому, что Нина Сергеевна успела войти в роль путешественницы, или же оттого, что утро было теплым и солнечным, она решила повременить с визитом к Анне Матвеевне и для начала немного прогуляться по Лихострову. Вернее, по его главной улице.
Она носила имя некоего Г. Бакланова. Эта фамилия показалась Нине знакомой, хотя она и не могла вспомнить почему… Вероятно, оный Г. Бакланов являлся какой-то местной знаменитостью. Потому что именно на улице, названной в его честь, располагалось единственное на острове каменное здание местной администрации. Перед ним стоял выкрашенный серебряной краской гипсовый памятник Ленину, на макушке у которого восседала нахохлившаяся ворона. Судя по тому, что фигура вождя на покосившемся пьедестале, по-купечески подбоченясь, указывала рукой куда-то в конец улицы, именно там, по замыслу ее проектировщиков, находилось светлое будущее Лихострова. В подтверждение этому по сторонам дороги, словно вехи, стояли заброшенные корпуса лесозавода, полусгоревшее здание бывшей рабочей столовой, клуб с заколоченными окнами и висящим на стене фанерным щитом, где еще можно было прочесть надпись: «Мы придем к победе коммунизма», а также несколько домов барачного типа, чьи окна находились вровень с землей, а из одного из них сквозь разбитое стекло торчал угол грязного полосатого матраса. После этого Нина Сергеевна не удивилась, когда улица привела ее прямиком на местное кладбище…
У входа на него стоял обелиск с булыжным основанием, выкрашенный той же самой серебрянкой, что и гипсовый Ленин у здания администрации. Его опоясывала ржавая цепь, в одно из звеньев которой было воткнуто бутылочное горлышко с торчащей из него выцветшей пластмассовой ромашкой. На обелиске виднелась треснувшая табличка с надписью: «Герою Гражданской войны, доблестному защитнику Севера от белогвардейцев и иностранных интервентов Григорию Бакланову от благодарных земляков. Прощай же, товарищ, ты честно прошел свой доблестный путь благородный». Чуть пониже было выцарапано похабное словцо.
И тут Нина наконец-то поняла, почему фамилия этого человека показалась ей знакомой. Ведь еще совсем недавно она была, что называется, у всех на устах. Именем Григория Бакланова нарекали улицы и корабли. А сколько книг было написано о том, как этот юный революционер, желая отомстить белогвардейцам за расстрел своих товарищей-подпольщиков, весной 1919 года поднял восстание на Базарной площади и лично выстрелил в лицо офицеру, руководившему казнью! По одной из них, а именно по роману «Красные сполохи», Нина, будучи школьницей, даже писала сочинение на тему «Мой любимый герой». Кажется, тогда она даже плакала, читая о том, как Григорий Бакланов, уходя на подвиг, прощался с матерью:
– Прощай, мама! – произнес юноша, засовывая в карман заряженный револьвер. – Кровь моих казненных товарищей вопиет к отмщению. Так благослови меня на это святое и правое дело!
– Что ты, что ты, сыночек… – испуганно закудахтала старуха, метнувшись в увешанный образами темный угол и закрывая лицо руками. – Не губи себя! Побойся Бога!
– Я не боюсь Его! – воскликнул Григорий. – И смерти тоже не боюсь! Мы – будущее человечества. Нам на смену придут новые бойцы. И они победят. Я верю в новый мир, полный света! Заря уже близко, мама! И я с радостью отдаю жизнь за то, чтобы поскорее взошло солнце нового дня!..
Увы, солнце нового дня, на восход которого так уповал юный герой романа, сейчас освещало лишь осколки разбитых бутылок вокруг его заброшенной могилы…
* * *
Улица, где жила Анна Матвеевна, представляла собой полную противоположность лихостровской авеню. Казалось, время там остановилось на целое столетие. По обеим сторонам грунтовой дороги стояли старинные, но весьма добротные на вид деревянные дома, утопавшие в зелени деревьев с могучими стволами. И называлась улица тоже вполне по-старинному – Никольская. Как потом узнала Нина Сергеевна, когда-то она вела к местной церкви святителя Николая Мирликийского, снесенной в двадцатые годы.
Дом Анны Матвеевны она нашла без труда. Как, впрочем, и саму хозяйку, которая, присев возле грядки, пропалывала клубнику. При этом она так ловко орудовала обеими руками, что Нина Сергеевна не могла отказать себе в удовольствии понаблюдать за нею. Ведь она помнила, в каком состоянии старушка поступила к ним в отделение. Обычно такие больные остаются инвалидами на всю жизнь. Потому что врачи – не волшебники и не чудотворцы. За исключением Одного, в Чьей власти – жизнь и смерть, болезнь и исцеление. Того, Которого называют Врачом Небесным. И Чье имя – Бог.
Для Анны Матвеевны приход нежданной, но желанной гостьи стал настоящим праздником. Так что вскоре Нина Сергеевна уже сидела за столом, уставленным всевозможной снедью – от блюда с горкой румяных пирожков и тарелки с крупной клубникой до дымящейся яичницы-глазуньи с яркими желтками. А хозяйка тем временем хлопотала у печки и возле холодильника, выставляя на стол все новые и новые угощения…
Потом она предложила разомлевшей от еды гостье немного отдохнуть и провела ее в просторную и прохладную комнату, так называемое зальце, или, по-городскому, гостиную. Но едва Нина Сергеевна вошла туда, как ее дремоту словно рукой сняло. Потому что там, под висевшей в красном углу иконой Спасителя, она увидела точную копию той салфетки, которую ей показывала Нина Маленькая. И поняла: девушка не ошиблась, назвав ее «церковной салфеткой». Это был вышитый плат, из тех, которыми в старину украшали иконы. Иначе говоря, подзор. Причем было очевидно, что оба подзора вышила одна и та же мастерица.
– Это от крестной подарок, – объяснила Анна Матвеевна, перехватив взгляд гостьи. – Она сама его вышивала. Я за нее всегда молюсь. Кроме меня, уже некому…
То, что она вслед за этим поведала Нине, окончательно убедило ее: они встретились не случайно. Как, впрочем, не случайностью была и ее прогулка по улице имени Григория Бакланова – прямиком к его могиле. Потому что загадочная баба Лиза приходилась ему родной сестрой. А отцом их обоих был не кто иной, как сам легендарный ухарь-купец Петр Бакланов.
* * *
…У купцов Баклановых на Лихострове лавочка была. Правда, доход давала столь малый, что городские купцы их себе за ровню не считали. И отзывались о Баклановых крайне ехидно и презрительно. Мол, нищему на паперти за день больше подают, чем они от своей торговли за год выручают. Однако те в ответ лишь усмехались в бороды да приговаривали: и курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Господь же гордых низлагает, а смиренным помогает. Так что, может статься, и Баклановы из последних первыми станут…
Так оно и случилось, когда молодой Петр Бакланов, понабрав у односельчан в долг деньжонок, построил на Лихострове пивоварню и стал в своей лавчонке пивом торговать. Горемычным лихостровцам то пивко сразу по вкусу пришлось, а потому дела у купца в гору пошли. Тогда смекнул он, что водкой торговать еще прибыльнее будет, чем пивом. Особенно если продавать ее не в мелкой таре, а целыми четвертями. В придачу же на обоих концах острова по кабаку открыть… После этого потекли к нему денежки уже не ручейком, а реченькой. А сердобольные односельчане, что когда-то ссудили ему деньги на постройку пивоварни, теперь у него в неоплатных должниках ходили.
Тут уж городские купцы-гордецы Петра Бакланова привечать стали. Особенно когда он в городе дом купил и всех их к себе на новоселье зазвал. Да не просто дом, а двухэтажный особняк красного кирпича, который прежде принадлежал тем лесоторговцам Валуевым, что когда-то больше всего над Баклановыми насмехались, а после сами разорились… А стоял тот дом на самой Базарной площади, где первейшие из купцов торговлю и жительство имели. И обставлен был не с купеческим, а поистине с барским размахом. Так превознеслись Баклановы над всеми, кто прежде свысока на них смотрел, словно орел поднебесный над прочими птицами.
Только не тот орел, кто высоко летает, а тот орел, кто легко седает. А кто другим яму роет, сам в нее и упадет. Многих своих земляков споил и пустил по миру Петр Бакланов, да тем же и сам кончил. Вскружили купцу голову неправедно нажитое богатство да льстивые речи прихлебателей, что вокруг него словно мухи возле меда, увивались. И с ночи до утра, с утра до ночи пошли в его городском доме веселье, да пьянство, да картежная игра… До тех самых пор, пока не прокутил Петр Бакланов все свои денежки и не остался гол как сокол. А потому надумал наконец вернуться на Лихостров к жене Агнии, с которой он уже лет двадцать как в законном браке состоял да уже лет десять как с нею расстался. По пути же туда прохватило его холодным ветром, так что вскорости проводила Агния своего муженька «в путь всея земли», на местное кладбище.
…Петр Бакланов женился не по своему хотению, а по маменькину велению. Матушка его была женщина строгая и властная. И невесту ему выбрала из лихостровских девиц не за ум, не за красу, а за набожность и кротость. Такую, которая бы ей ни в чем не перечила и за великую честь почитала, что из простой крестьянки купчихой стала. Пока жива была маменька, терпел Петр свою жену Агнию. Когда же мать схоронил и стал сам себе хозяином, то переехал жить в город и старшего сына Григория туда с собой увез. Дочь же Елизавету, что обличьем и нравом в мать пошла, Агнии оставил. И строго-настрого запретил жене к нему в город приезжать.
Нет хуже, когда неразумный человек берется дитя воспитывать. Так, как воспитывал своего сына Петр Бакланов. На все застолья брал он Гришу с собой. И сам первый раз, на потеху дружкам-собутыльникам, водкой его угостил… Редко видел мальчик своего отца трезвым, да во хмелю Петр Бакланов к сыну добрее бывал… Пока мал был Григорий, боялся он отца. Когда же подрос, то возненавидел его. Да только к той жизни, что вел отец, и сам пристрастился себе на погибель, своей матери на горе.
Агния Бакланова, несмотря на мужнин запрет, все-таки тайно наведывалась в город проведать любимого сыночка. Втихомолку потчевала его сладостями да поучала, чтобы вел себя примерно и благоразумно, с папеньки пример не брал, не то Бог накажет… Только Гришенька те советы мимо ушей пропускал. А за глаза еще и потешался над матерью. Тем более что и папенька ее иначе как дурой и ханжой не называл…
За полгода до того, как разорился и помер Петр Бакланов, приехал Григорий на Лихостров погостить. С ног сбились Агния с Елизаветой, от радости не знали, куда посадить да чем угостить ненаглядного Гришеньку. Пока вскоре после его отъезда не проведали, что учинил он недоброе дело с их прислугой Глашкой. С тех пор он на Лихострове больше не показывался и жил в городе, а где – о том никому ведомо не было. Видно, боялся, что намнет ему бока родня опозоренной девицы… Агния же Бакланова, как овдовела, сразу половину своего дома Глафире отдала. А ее дочери от Григория, Александре, стала крестной матерью. Но Глафира все равно затаила обиду на Баклановых, что не признали они ее за ровню себе и из милости в свой дом приняли. Только на то и надеялась, что заставит Гришку жениться на себе, когда он от безденежья домой воротится. Тогда же отольются кошке мышкины слезки… Да долго пришлось ей ждать – не довелось дождаться. Лишь спустя пять лет вернулся Григорий Бакланов на Лихостров. Не своей волей возвратился – привезли его туда чужие люди. Да не живого, а мертвого.
Случилось это в девятнадцатом году, при интервентах, когда Гришка Бакланов, выйдя из кабака на Базарную площадь, вздумал по пьяному делу хвастаться, что вон тот двухэтажный особняк красного кирпича, где сейчас английский генерал квартирует, пятнадцать лет назад его папаша у Валуевых купил… Однако собутыльники ему не поверили и принялись над ним насмехаться. Особенно один, из нездешних, одетый в английскую форму. Не по нраву это Гришке пришлось, и хватил он нахала по затылку пустой бутылкой, да так, что тот где стоял, там и повалился. А английский патруль, что в эту пору мимо проходил, в отместку за своего соотечественника пристрелил Гришку. Долго потом жалели британцы о содеянном. Поскольку человек в английской форме, встав с земли, на чистейшем русском языке послал своих спасителей подальше и побрел отсыпаться. Им же пришлось везти тело Гришки на Лихостров и хоронить его там с такими почестями, каких из его предков-купцов никто не сподоблялся. Так пресек Господь род Баклановых.
Когда же вскорости большевики интервентов за моря прогнали, убиенный англичанами Гришка в герои попал. Превратила его людская молва в революционера-подпольщика, что поднял восстание на Базарной площади и сам в нем пал смертью храбрых. Вслед за тем именем его на Лихострове назвали улицу. На доме же, где он родился, водрузили мемориальную доску. А вместо креста на его могиле, что поставили совестливые англичане, воздвигли обелиск. Правда, с тех же времен не бывало на Лихострове лучшего места для выпивки, чем возле того обелиска… Как говорится, по делам и честь…
После того еще дважды посетила смерть дом Баклановых. Сперва, возвращаясь пьяной из города, где у нее мил-друг завелся, утонула в полынье Глафира. А вскоре преставилась и Агния Бакланова. Умирая же, завещала дочери Елизавете заботиться ради Господа о племяннице-сиротке. И та тот завет материнский исполнила…
– …А она с этой своей дочкой Кларкой чем ей за это отплатили… – от волнения голос Анны Матвеевны дрожал и прерывался. – Всю жизнь на ее шее сидели. А как она состарилась, уговорили дом на себя переписать и потом его продали… Ее же в город увезли и сдали в дом престарелых… Она мне потом оттуда письмо прислала… когда ее уже на третий этаж переводили, к лежачим больным, куда никого не пускают. И меня не хотели пускать, да я к директору пошла, пригрозила, что жалобу на них напишу, если не дадут мне ее увидеть. Только тогда и пустили… Захожу я к ней в палату, смотрю – лежит моя тетя Лиза у самого окна, стекло в нем разбито, аж ветер свищет, а она – в одной ситцевой рубашонке, одеяло все сбилось, и поправить некому. Справа старуха лежит, стонет, а другая меня увидела да как заревет басом, и ну кулаком о стену стучать! Лишь тогда унялась, когда ей сестра какой-то укол сделала… А четвертая койка пустая была, рядом на полу матрас свернутый лежит, а на тумбочке стоит тарелка с засохшими макаронами, и по ней тараканы ползают… Страшно мне стало. Я ей и говорю: тетя Лиза, давай я тебя отсюда увезу. Прямо сейчас вызову машину и уедем вместе. У меня тебе лучше будет, чем здесь. Грех это – так людей мучить! И на этих бессовестных, кто тебя сюда сдал, управу найду. Их еще Бог накажет! А она говорит: оставь их, Анюта. Они сами не знали, что делали. Спаси тебя Господь за заботу. Да только я здесь останусь. Мне, говорит, Бог такое испытание послал, я его до конца и понесу. Это для венца. Через неделю я снова туда поехала. Приезжаю, а мне говорят: позавчера, мол, похоронили ее… Видно, знала она, что скоро умрет, вот и захотела со мной проститься… Я за нее всегда молюсь. А после меня уже некому будет…
…После всего увиденного и услышанного в тот день Нине Сергеевне оставалось лишь корить себя за любопытство. Зачем ей только вздумалось затевать всю эту игру в Шерлока Холмса и доискиваться, чьи инициалы были вышиты на подзоре? И вот теперь ей по собственной вине предстоит ломать голову над тем, скрыть ли от Нины Маленькой услышанное от Анны Матвеевны?
Или все-таки решиться рассказать ей правду о самых дорогих и любимых ею людях?
* * *
…Она провела в тягостных сомнениях несколько дней. Пока в пятницу вечером, как всегда неожиданно, ей не позвонил давний знакомый и бывший коллега, а ныне священник отец Александр, служивший в дальнем сельском приходе, но периодически наведывавшийся в город по делам:
– Алло, Нина Сергеевна! А я к вам с просьбой. Тут меня назавтра в дом престарелых пригласили, старушек соборовать. Да я, как назло, где-то ангину подхватил… вряд ли смогу петь и канон читать. Не могли бы вы поехать туда со мной и помочь?
Разумеется, Нина Сергеевна не испытывала никакого желания куда-либо ехать. Тем более что рабочая неделя выдалась на редкость напряженной, и единственное, чего ей хотелось, – это хорошенько отоспаться в ближайший выходной… Кроме того, у нее имелись все основания полагать, что от ее помощи батюшке будет весьма немного проку. И ему было бы гораздо лучше взять с собой кого-нибудь из знакомых церковных чтецов или певчих. Однако она все-таки сочла себя не вправе отказать отцу Александру. В итоге на другой день спозаранку они выехали из города и спустя примерно час оказались возле дома престарелых.
Это было трехэтажное здание из серого кирпича, весьма неприглядное и унылое на вид. По балкону третьего этажа взад-вперед ходила старушка в вылинявшем ситцевом халате, из-под которого торчал подол застиранной ночной сорочки, и непрерывно горланила одну и ту же забористую деревенскую частушку. Однако старики и старухи, разгуливавшие внизу, не обращали на нее никакого внимания… Между ними Нина заметила одну пару. Худощавый, интеллигентного вида мужчина в шляпе, одетый в выцветший черный костюм, бережно поддерживал за руку грузную женщину в зеленом фланелевом халате, которая, подволакивая парализованную ногу, что-то раздраженно выговаривала ему. Похоже, то были муж и жена…
Прямо напротив входа, под плакатом с надписью «Пусть осень жизни станет вам весной», их поджидала пожилая худощавая медсестра с аскетичным лицом, назвавшаяся Анастасией Григорьевной О-вой. Вслед за нею отец Александр и Нина поднялись на второй этаж, где в большой палате должно было состояться таинство соборования.
Там собралось около трех десятков старушек. От внимания Нины Сергеевны не укрылось, что они постарались вымыться и одеться в самую лучшую одежду, которая у них была, и повязали головы чистыми белыми платочками. И вот теперь им предстояло очистить пред Господом и свои души. Для многих из них, возможно, перед переходом в жизнь вечную…
* * *
Когда они собрались возвращаться в город, на улице уже смеркалось. Но гостеприимная Анастасия Григорьевна, заметив их усталость, предложила им выпить чаю в маленькой комнате, где находился медсестринский пост. Правда, обычно общительный отец Александр за все время чаепития не проронил ни слова. Зато Нина Сергеевна решила на всякий случай расспросить медсестру об Елизавете Баклановой. Хотя понимала, что это окажется бесполезным. Ведь со времени смерти бабы Лизы прошло уже слишком много лет. Именно поэтому она предпочла начать издалека:
– А вы давно тут работаете, Анастасия Григорьевна?
– Да уж лет двадцать, – отозвалась та, подливая кипяток в свою чашку, на которой красовалась надпись славянской вязью: «Выпей чайку – разгонишь тоску».
– И здесь у вас все одинокие люди живут? – продолжала расспрашивать Нина Сергеевна.
– Если бы так! – вздохнула медсестра. – У многих здешних и дети есть, и внуки. Только не нужны им старики. Вот они их и сдают сюда. И как только Бога не боятся? Ведь их самих потом то же самое ждет… Да что говорить? Порушили веру, вот теперь и пожинаем…
– А вы, случайно, не помните одну старушку, которая у вас жила? – наконец-то решилась Нина. – Правда, это давно было, лет семнадцать назад или даже больше. Ее звали бабой Лизой… Вернее, Елизаветой Петровной Баклановой.
– Как же не помнить? – печально улыбнулась Анастасия Григорьевна. – С тех самых пор и помню, как ее к нам привезли. Я тогда уже года три как тут работала. Дело было зимой, то ли в декабре, то ли в январе. Сидим мы с покойной Валентиной Константиновной как раз вот здесь, в сестринской, чай пьем. Вдруг слышим – внизу тормоза заскрипели, вроде как к крыльцу подъехал кто-то. Потом дверка хлопнула, и машина назад уехала. Ну, мы и удивились: что, мол, это такое? На всякий случай выглянули в окно, а на крыльце какая-то старушка сидит – в одном сатиновом халатике и домашних тапочках – и плачет. Мы давай спрашивать: кто, мол, ее сюда привез. А она говорит: никто, я сама приехала. Мне, говорит, жить негде… В общем, осталась она у нас. И сперва жила на втором этаже, пока не сломала ногу. После того перевели ее на третий этаж, к лежачим. Там она и умерла. Я к ней туда каждый день ходила. То покормлю ее, то постель перестелю, то пролежни обработаю… Она до последнего дня в сознании была и меня узнавала. Возьмет, бывало, за руку, сожмет крепко-крепко и заплачет… А ни разу ни на что не жаловалась. Что ни спросишь, только и скажет: «Слава Богу». Очень набожная она была. Последний раз прихожу к ней, а она уже без сознания лежит. Я было уже хотела уходить, как вдруг она как запоет тихонечко так, тоненько: «Господи, помилуй»… Потом смолкла. Видно, опять забылась… А я стою над ней и плачу… Никогда прежде не приходилось мне видеть, чтобы люди так умирали. После этого я и стала в церковь ходить. И за нее всегда молюсь. Только я до сих пор не верю, что она одинокой была. Кому же тогда она те деньги посылала, которые ей с пенсии каждый месяц выдавали? Когда ее на третий этаж переводили, я спросила: баба Лиза, может, сообщить кому, чтобы приехали, поухаживали за тобой? Тогда она и сказала, что у нее на Лихострове крестница есть, и адрес мне дала. А еще, говорит, есть внучка Нина. Только она еще совсем маленькая. Я ей завещание оставила. Может, поймет, когда вырастет. Так я ничего и не поняла, что она имела в виду. Потому, наверное, и запомнила про эту Нину маленькую и про какое-то завещание, слово в слово. Да, вот именно так она и сказала: вырастет – поймет.
* * *
В тот вечер Нина Сергеевна допоздна просидела на кухне, раздумывая над услышанным. Пока внезапно не осознала, какую ошибку совершила, поверив в то, что буквы «Н.Д.», вышитые на подзоре, скрывают в себе некую тайну. А ведь на самом деле в них не было ничего загадочного. Если бы она вовремя вспомнила фамилию Нины Маленькой, то сразу бы догадалась, что инициалы «Н.Д.» принадлежат ее юной тезке. Тогда ей не понадобилось бы ехать на Лихостров и в дом престарелых и тратить время на разгадывание мнимой тайны.
Но что если Господь попустил ей ошибиться именно для того, чтобы она ненароком узнала подлинную тайну вышитого подзора? И теперь могла сказать Нине Маленькой, что это – не просто кусок ткани с церковной символикой, а завещание, оставленное бабой Лизой свое крестнице, завет жить во Христе. И если она последует ему, то станет наследницей несметных сокровищ, по сравнению с которыми капиталы ее предков, купцов Баклановых, покажутся жалкими грошами. Потому что речь идет о сокровище православной веры, которое превращает нас, некогда созданных Богом из праха земного, в наследников Царства Небесного.
Трагедия одной семьи
По окончании литургии, когда Нина Сергеевна Н. уже выходила из Свято-Лазаревского храма, ее догнала запыхавшаяся свечница Ольга:
– Вас отец Алексий зовет. В канцелярию. Срочно.
И Нина, теряясь в догадках, зачем бы она могла потребоваться настоятелю, поспешила вслед за ней в пресловутую канцелярию – небольшую проходную комнату, где настоятель отец Алексий, имел обыкновение принимать тех, кто приходил в храм, чтобы побеседовать с ним.
Вот и сейчас священник находился там. А напротив него, за старинным письменным столом с массивной столешницей, обтянутой потертой черной клеенкой, сидела какая-то женщина, как говорится, средних лет. Похоже, она разговаривала с отцом Алексием о чем-то крайне важном для нее. И потому недовольно покосилась на Нину, чей приход прервал их беседу.
– А вот как раз тот человек, о котором я вам говорил, – обратился к ней настоятель. – Нина Сергеевна, наш краевед. И сейчас все вам расскажет.
Нина опешила. Что именно она должна рассказать этой женщине? И кто она сама? В этот миг незнакомка подняла глаза… и Нине Сергеевне показалось, что в них промелькнула тревога. Нет, эта особа пожаловала в их храм явно неспроста. Вот только что ей здесь нужно?
И тут, словно догадавшись, о чем сейчас подумала Нина, женщина обратилась к ней:
– Видите ли… Нина Сергеевна… мой прадед был священником. Он служил в этой церкви. Давно, еще до революции. Даже считался в ней… как бы это сказать… за самого главного. Вот-вот, он был тут настоятелем. И жил неподалеку, на улице Пустозерской, 10. Его дом до сих пор цел… Я и подумала: если он служил в этой церкви, то, может, здесь сохранились документы, относящиеся к нему и к его семье? Ну, которые бы подтверждали то, что у него были родственники… Вдруг у вас тут есть какой-нибудь церковный архив?.. Видите ли, у нас самих не сохранилось ничего, совсем ничего… Вот вам на всякий случай номер моего телефона. Меня зовут Ирина Германовна. Сообщите мне, если что-то найдете. Если надо, я могу вам даже заплатить…
Увы, Нина Сергеевна слишком хорошо знала историю Свято-Лазаревского храма, который после своего закрытия в 1930 году успел побывать и рабочим клубом, и столярной мастерской, и складом…
Так стоило ли после этого надеяться, что в нем могли уцелеть документы дореволюционных времен?..
Нина уже собиралась напрямую сказать об этом Ирине Германовне. Однако прежде чисто из любопытства спросила, как звали ее прадеда-настоятеля.
– Его фамилия была Постников, – ответила та. – Николай Постников.
– Не может быть! – чуть не вскрикнула изумленная Нина Сергеевна.
Потому что именно протоиерей Николай Постников был последним настоятелем Свято-Лазаревского храма. Как раз перед его закрытием в 1930 году.
* * *
Об этом Нина Сергеевна узнала из недавно выпущенной епархиальным издательством книги о судьбах местных священнослужителей в послереволюционные годы, где были приведены краткие биографические сведения об отце Николае Постникове. А именно, что он родился в 1860 году в многодетной семье сельского дьячка. С отличием окончил духовное училище, находившееся в губернском городе Н-ске, потом – тамошнюю семинарию. После чего три года нес послушание псаломщика в кафедральном соборе. Затем был рукоположен во священника и направлен для прохождения службы в один из уездных городов Н-ской епархии, где, помимо служения в храме, преподавал Закон Божий в церковно-приходской школе. И за свою педагогическую деятельность неоднократно получал благодарность от Епархиального училищного совета. Спустя пятнадцать лет отец Николай Постников был переведен для дальнейшего прохождения службы в Н-ск и определен духовником той самой семинарии, которую в свое время окончил. В 1915 году возведен в сан протоиерея. Являлся членом местного училищного совета. В 1917 году был назначен настоятелем Свято-Лазаревского храма, где прослужил до его закрытия в июле 1930 года. Имел троих детей, из которых двое умерли еще во младенчестве. В живых остался лишь самый младший сын, Димитрий…
Единственный выживший ребенок, единственный наследник… И тем не менее у его потомков не осталось никаких документов, подтверждающих их родство с отцом Николаем! Чем дольше Нина Сергеевна размышляла над тем, почему так случилось, тем больше ей казалось: это произошло неспроста. Наверняка Ирина Германовна скрыла от нее что-то важное, касающееся истории своей семьи. Вот только что именно она утаила? И самое главное, почему?
* * *
Впрочем, горький жизненный опыт давно уже убедил Нину в том, что ее догадки и предположения, как правило, столь же далеки от действительности, как небесная высь – от грешной земли. Вспомнив об этом, она решила не тратить время на разгадывание воображаемых тайн, а сразу обратиться к фактам. Итак, отец Николай Постников служил в Свято-Лазаревском храме. И жил неподалеку от него, на улице Пустозерской, где до сих пор стоял дом, когда-то принадлежавший ему. Дом, на восемь десятилетий переживший своего хозяина… Последнее вещественное напоминание об отце Николае. Возможно, именно поэтому Нине Сергеевне вдруг захотелось увидеть его. Причем как можно скорее. Нине казалось, что, если она не поспешит сделать это, последствия промедления могут оказаться непоправимыми. Дом рассыплется от ветхости, сгорит от спички, оброненной случайным прохожим, – одним словом, бесследно исчезнет. Разумеется, Нина прекрасно понимала: эти страхи порождены ее разыгравшейся фантазией. И нет никакого смысла в том, чтобы тащиться на совершенно незнакомую улицу, дабы узреть там какую-то древнюю развалюху. Однако она все-таки решила сделать это. Прежде всего для того, чтобы воочию убедиться в справедливости известной поговорки: за дурной головой – ногам работа…
Разве могла она знать, что вскоре ей придется вспомнить совсем другую поговорку. А именно: человек предполагает, а Господь располагает.
* * *
…В ближайший выходной после литургии Нина Сергеевна отправилась на поиски Пустозерской улицы. И едва отыскала ее в лабиринте окрестных улочек и закоулков. После чего сразу поняла: ей стоило прийти сюда. Потому что лишь здесь, на окраине ее родного Н-ска, еще могли сохраниться такие улицы: немощеные, поросшие по обочинам высокой травой и настолько тихие и безлюдные, словно время здесь тянулось медленнее, чем в центре города, а потому на дворе стоял даже не минувший двадцатый, а еще девятнадцатый век… В свое время почти на такой же улице прошло и ее детство… Ностальгические воспоминания о невозвратном прошлом в одночасье захлестнули Нину, отодвинув настоящее на второй план. И она опомнилась лишь тогда, когда очутилась как раз возле дома номер десять. К изумлению Нины Сергеевны, сие здание, несмотря на свой почтенный возраст, оказалось отнюдь не ветхой лачужкой. Скорее так можно было назвать кособокие и обшарпанные двухэтажные дома советских времен на соседней улице Лаухина, названной так в честь местного революционера-подпольщика Якова Лаухина, в 1919 году расстрелянного интервентами… По сравнению с ними бывший дом священника выглядел как новенький. Тем более что его нынешние хозяева, похоже, основательно занялись ремонтом своего жилища. И уже успели обить дом новой вагонкой и заменить старые оконные рамы на пластиковые пакеты.
Двор перед домом казался безлюдным. Однако, подойдя к самой калитке, Нина увидела на задворках какую-то женщину в пестрой футболке, которая снимала с веревки высохшее белье. Разглядеть ее она не успела. Потому что в следующий миг к забору с яростным визгливым лаем подлетела крохотная, но весьма воинственно настроенная мохнатая собачонка, разгневанная тем, что посторонний человек дерзнул приблизиться к границам ее владений. Женщина в футболке резко повернулась и подозрительно уставилась на Нину. И та поняла: сейчас ей придется объяснять хозяйке, что она всего лишь явилась посмотреть на дом, где более полувека тому назад жил совершенно чужой ей человек. Но, хотя Нина скажет ей чистейшую правду, та все равно не поверит ни единому ее слову. Ведь иная правда может показаться невероятнее самой грубой и отъявленной лжи…
И тут женщина вдруг заулыбалась и устремилась к ней навстречу, словно к долгожданной гостье:
– Ой, здравствуйте! Вы ведь врач, да? А вы меня помните? Нет? А зато я вас помню. Я Галя Копалина… Вы меня год назад лечили. Теперь вспомнили? У меня еще тогда спина сильно болела. А с тех пор больше ни разу не беспокоила. Я так хотела вас найти и спасибо сказать… А-а… что вы тут делаете?
Так Нина Сергеевна в очередной раз убедилась, что не зря их город называют «большой деревней», в которой куда ни пойдешь, везде знакомого найдешь. Но все-таки разве не чудо, что хозяйка дома, который Нине так хотелось увидеть, оказалась ее бывшей пациенткой? Нет, неспроста ее так тянуло побывать на улице Пустозерской… В этот миг Нине вдруг подумалось… Возможно, в другое время она сочла бы эту мысль нелепой, если даже не безумной. Но сейчас, на миг поверив в возможность невозможного, она все-таки рискнула спросить Галину, не сохранилось ли в доме что-нибудь из вещей, принадлежавших его прежним хозяевам.
– Если что и осталось, то только на чердаке, – ответила та. – С повети-то[7] мы уже весь хлам повыбросили, а вот там пока еще порядок не наводили… Решили подождать, пока крышу перекрывать станем… Если хотите, можете сами туда подняться и посмотреть. Вот только… – Она с сожалением покосилась на светлое платье Нины. – Там такая грязь… Вам потом свое платье не отстирать будет…
Но разве Нину Сергеевну могли остановить подобные мелочи! Ведь она уже окончательно уверилась в том, что все происходящее с ней сегодня – промыслительно. Да, в истории семьи отца Николая Постникова действительно есть некая тайна. Но там, на чердаке бывшего священнического дома, она найдет ее разгадку!
* * *
В поисках оной разгадки Нина перерыла кучи хлама, которым был завален чердак. Однако все, что попадалось ей под руки, с успехом можно было найти на любой городской помойке… Поэтому вскоре энтузиазм Нины сменился горьким раскаянием. Ибо она убедилась, что вела себя как последняя дура. И угораздило же ее пойти на эту разнесчастную улицу! А в придачу еще и устраивать эти дурацкие раскопки на чердаке! Да что там могло быть, кроме никому не нужной рухляди?.. И вообще, почему она решила, что в истории семьи отца Николая Постникова есть какая-то тайна? Мало ли по каким причинам люди теряют семейные документы… Любой здравомыслящий человек понял бы это сразу. И не искал тайну там, где ее просто-напросто нет и не может быть.
Раздосадованная Нина изо всех сил пнула подвернувшуюся под ноги связку старых газет. Гнилая бечевка лопнула, и газеты рассыпались по полу, увлекая за собой соседние предметы – истрепавшийся веник, стиральную доску, погнутое велосипедное колесо… За ними показался угол небольшого сундука, обитого проржавевшей жестью. Нина бросилась к нему, подняла крышку… И увидела старинные книги в переплетах из кожи и картона с мраморными разводами. Раскрыв наугад одну из них, она разглядела на титульном листе надпись: «Собственность иерея Николая Постникова». Присев перед сундуком, Нина принялась складывать книги себе на колени. И тут заметила под ними фотографию… одну, другую, третью… Не веря своему счастью, Нина сгребла находки в охапку и с торжеством спустилась с чердака, по пути порвав подол платья о торчавший откуда-то гвоздь.
Изумленная Галина воззрилась на нее с нескрываемым сочувствием и поспешила вызвать ей такси. Зато Нина Сергеевна торжествовала. Потому что была уверена: ключ к тайне семьи отца Николая Постникова находится у нее в руках!
* * *
Дома Нина принялась разбирать свои находки. Она начала с фотографий. Их оказалось одиннадцать: прекрасно сохранившиеся старинные фотокарточки, наклеенные на серый картон с тиснеными золотыми буквами. По ним можно было проследить всю историю семьи отца Николая Постникова. Вот юноша в форме семинариста, с книгой в руке, а рядом с ним – улыбающаяся пухлощекая девушка в белой кофте с пышными рукавами. На другой фотографии те же люди, только молодой человек одет в рясу, а его молодая жена, похоже, ждет ребенка… На третьем снимке в волосах у священника уже пробивается седина. У него на коленях сидит не по-детски серьезная девочка лет двух, а матушка в темном платье, стоя сзади, крепко держит дочку за руку, словно стремясь удержать ее «на земле живых»… Последняя фотография была сделана в 1912 году: немолодой суровый священник в муаровой рясе и седая женщина со скорбным лицом, а рядом с ними – полный кудрявый мальчик в белой рубашке. Были там и фотокарточки родственников отца Николая и его матушки. Причем на обороте каждой из них имелась надпись, сделанная одним и тем же красивым, почти каллиграфическим почерком, где было указано, в каком году сделана фотография и кто изображен на ней. Судя по всему, автором их был отец Николай Постников, стремившийся таким образом сохранить память о своей семье. И передать ее детям. Вернее, своему единственному сыну и наследнику – Димитрию.
Внимание Нины Сергеевны привлекла маленькая фотография подростка в белой вышитой рубашке. Причем дело было не только в том, что пухлощекий кудрявый паренек с сурово сведенными у переносицы бровями, сжатыми в ниточку губами и гордым поворотом головы выглядел крайне комично. Нине показалось, что она уже где-то видела подобное лицо. Вот только где именно?
На обороте фотографии была надпись, сделанная все тем же аккуратным почерком:
«10 ноября 1915 г. Вот ненаглядный Митенька, но только он здесь снялся плохо. На самом же деле он очень симпатичный, беленький кудряш, без этих морщин, которые снялись у него на лбу. Он тут снялся совсем разбойником, на самом же деле он у меня добрый, славный, хороший, и живем мы с ним очень хорошо»[8].
Это была фотография младшего сына отца Николая Постникова, Димитрия. Деда Ирины Германовны. Обычно такие фотографии люди бережно хранят в семейных альбомах как дорогую память. Так почему же эта карточка оказалась среди чердачного хлама? И самое главное, где Нина могла уже видеть это лицо?
* * *
…Но едва Нина Сергеевна раскрыла первую из найденных на чердаке книг, ей стало не до этих вопросов. То было «Училище благочестия», в красном коленкоровом переплете, с цветными иллюстрациями. На обороте одной из них Нина увидела какую-то запись. А потом еще… и еще одну… Похоже, это был чей-то дневник. Вот только чей именно?
...
Вчера читал «Пещеру Лейхтвейса». И тут подходит он. «Что это ты такое читаешь? А ну покажи! – И как вырвет у меня книжку! – А-а, вот оно что! И кто ж тебе дал эту гадость? Какой такой Гришка? Чтобы впредь ты не смел якшаться с кем попало и читать всякую дрянь! Нечего голову ерундой забивать. Вот тебе “Закон Божий”. Выучишь вот эту главу. Вечером спрошу. И если ответишь плохо, на поклоны поставлю. Понял?!»
Все, пропала Гришкина «Пещера Лейхтвейса»! Теперь он мне не даст почитать «Тайны мадридского двора»!
Через два дня. Сегодня, когда мы обедали, он мне и говорит:
«Запомни, Митя: человек должен всегда благодарить Бога за Его великие благодеяния к нам. Вот ты ешь белый хлеб вдосталь и живешь в довольстве. А я в детстве и черного хлеба едал не досыта, и ходил в лаптях, а то и босиком. Но я никогда не роптал на Господа и всегда надеялся на Него. И Он обильно излил на меня Свою благодать и милость. Все, что я имею, дал мне Бог. И если ты будешь всегда надеяться на Него, неукоснительно исполнять свой долг перед Ним и за все благодарить Его, Он никогда не оставит тебя. Помни об этом».
Да лучше есть черный хлеб и ходить босиком, чем изо дня в день слушать его поучения! То не читай! С этим не водись! Почему я должен всегда поступать так, как хочет он? Почему я не могу жить так, как я хочу?
20 июля 1914 г. Эх, все-таки придется мне идти в семинарию! А как бы я хотел учиться в гимназии! Или в городском училище, как Гришка! Вот только он об этом и слышать не желает! Он хочет, чтобы я стал священником! Он всегда только о себе думает! А до меня ему дела нет!
10 октября 1914 г. Теперь я не одинок. У меня появился друг. Его зовут Яков Лаухин. Он учится в среднем классе. Когда Щербатый и Костыль меня дразнили и хотели побить, он заступился. И всем сказал, чтобы впредь никто не смел меня трогать, иначе будет иметь дело с ним. А он в семинарии – первый силач. Какое счастье, что у меня теперь есть такой замечательный друг!
14 декабря 1914 г. Вот уж впрямь: не было бы счастья, да несчастье помогло! Не пойди я в семинарию, где бы я нашел такого друга, как Яков! Вчера он дал мне почитать одну книжку. Называется «Спартак». Только велел ее никому не показывать. Я всю ночь ее читал… Вот это книга! Вот ради чего нужно жить! Бороться за свободу против презренных тиранов! Таких, как он.
…На Святках катался с Гришкой на коньках и провалился в прорубь. Что было потом – помню смутно. Кажется, видел что-то очень страшное… И вдруг слышу его голос: «Господи, смилуйся! Не отнимай у меня моего Митеньку! Лучше возьми мою жизнь, только пусть он живет!» Я побежал на его крик – и очнулся. Смотрю, а он стоит на коленях в углу перед иконами. И, похоже, плачет…
Два дня спустя. Ведь привидится же такое! Чтобы такой, как он, мог плакать? Да не может быть! И вот теперь я лежу дома, а он все время торчит рядом, как будто у него других дел нет, кроме как следить за мной. Век бы его не видеть!
25 сентября 1915 г. Спасибо Якову! Сколько всего я прочел за этот год благодаря ему! И Толстого, и Станюковича, и Горького… Но «Овод» – лучше всего. Вот это человек! Он даже лучше, чем благородный разбойник Генрих Лехтвейс! Как бы я хотел быть таким, как он!
…Какой же я был дурак! Боялся, что Бог меня накажет. А ничего не случилось! Да я потом еще пару раз плюнул на икону, и ничего! Гром не грянул, земля не разверзлась. Говорил же Яков, что они нарочно придумали всяких богов, чтобы людей дурить. Зато теперь я знаю, что никакого Бога нет. И меня уже никто не обманет!
16 ноября 1915 г. Вчера, после вечерней молитвы, когда я, как обычно, брал у него благословение на сон грядущий, он вдруг спросил меня:
– Что с тобой случилось, сынок? Последнее время я не узнаю тебя. Может, ты нездоров? Или тебя кто-то обидел? Пожалуйста, скажи мне правду. Ты же знаешь, как я люблю тебя…
Ишь какой хитрый! Добреньким прикидывается. Думает, я ему поверю… Не дождется!
10 декабря 1915 г. Якова исключили из семинарии. Говорят, что у него нашли целую библиотеку запрещенных книг и еще какие-то листовки… Наверное, теперь его за это посадят в тюрьму. А может, даже казнят, как Овода… Проклятые палачи! Они всегда ненавидят тех, кто борется за правду! И он – один из них! Как же я ненавижу его!
18 января 1916 г. Сегодня в семинарском храме он читал проповедь о том, как-де хорошо страдать за Христа. Да разве он знает, что такое страдание? Он только других страдать заставляет. Как меня. Когда-то я верил в него как в Бога. А он лгал мне всю жизнь. И сейчас лжет. «Страдания очищают и возвышают душу…» Легко ему это говорить! А чтобы сам он когда-нибудь решился пострадать за своего Христа? Да такого не может быть!
И тут Нина вдруг поняла, почему лицо юного Дмитрия Постникова казалось ей знакомым. Да, ей уже приходилось видеть этот гордый поворот головы, эти презрительно сжатые губы… На иллюстрациях к роману «Овод», который она читала в школьные годы. Как раз этим романом зачитывался семинарист Дмитрий Постников. Овод был его любимым героем, его кумиром. Неудивительно, что мальчик подражал ему. Настолько, что в своем дневнике почти дословно процитировал письмо, которое будущий Овод, а тогда еще Артур Бертон, написал своему отцу-священнику: «Я верил в Вас, как в Бога, а Вы лгали мне всю жизнь».
Мог ли новоявленный страдалец и борец за свободу предположить, что в 1930 году человек, которого он избегал называть своим отцом и считал извергом и лицемером, примет мученическую смерть за Христа? И после того, как местный Совет Пролетарского района вынесет решение о закрытии его храма, явится туда и обличит богоборную власть. И за это будет арестован, а спустя два месяца приговорен к расстрелу «за контрреволюционную агитацию». Через три недели, 7 октября 1930 года, приговор приведут в исполнение.
Увы, гордый и самовлюбленный Митенька Постников слишком плохо знал своего отца!
* * *
Теперь Нине стало ясно, почему у потомков отца Николая Постникова не сохранилось документов, подтверждающих их родство с ним. И почему Ирина Германовна стремится любой ценой отыскать их. Наверняка в свое время Дмитрий Постников позаботился о том, чтобы уничтожить все документальные доказательства своего родства с ненавистным отцом-священником. Но теперь, когда родственникам репрессированных возвращают некогда конфискованное у них имущество, Ирина Германовна решила заполучить назад прадедовский дом. Хотя прекрасно знала, что не имеет на него никаких прав. А чтобы облегчить поиски необходимых для этого документов, решила обратиться в церковь в надежде, что для нее, правнучки тамошнего настоятеля, да еще и пострадавшего за Христа, будет сделано все возможное и невозможное. Конечно, это было рискованно: явиться в храм и назваться родственницей отца Николая Постникова, не предъявив никаких доказательств этого. Выходит, не случайно тогда Нине показалось, что Ирина Германовна чего-то боится. Да, она опасалась, что ей не поверят. Однако ей удалось перехитрить и отца Алексия, и Нину Сергеевну. Но теперь, когда Нина знает всю правду о семье Постниковых, она разоблачит обманщицу. И, так сказать, «над неправдою лукавою грянет Божией грозой»…
Едва сдерживая рвущийся наружу праведный гнев, Нина Сергеевна набрала номер Ирины Германовны.
– Здравствуйте. Это Ирина Германовна? Вас беспокоит Нина Сергеевна из Свято-Лазаревской церкви. Да-да, мне удалось найти кое-какие документы. И я хотела бы передать их вам. Кстати, забыла спросить, как звали вашего деда? Нет, не прадеда, а деда… Дмитрий Лаухин? Вот как… Тогда давайте встретимся через два часа у памятника жертвам интервенции. Хорошо. До свидания.
Место встречи Нина выбрала не случайно. Она хорошо помнила, что на памятнике жертвам интервенции высечены имена расстрелянных революционеров. В том числе и Якова Лаухина. Бывшего друга Дмитрия Постникова по семинарии. Чью фамилию он взял после того, как отрекся от своего отца-протоиерея.
* * *
Сквер возле памятника жертвам интервенции был безлюдным и заброшенным. В чугунных вазонах вместо цветов торчали чахлые сорняки, между бетонных плит, ведущих к обелиску с именами погибших героев-большевиков, густо зеленела трава, а сам памятник с растрескавшимся постаментом, испещренным похабными надписями, наглядно свидетельствовал о недолговечности людской памяти… Нина Сергеевна пришла сюда за полчаса до условленного срока. И без труда отыскала на обелиске имя Якова Лаухина. Оно значилось первым в списке подпольщиков, расстрелянных 25 августа 1919 года. Теперь ей оставалось лишь подождать Ирину Германовну. Почему-то Нина Сергеевна была уверена, что та опоздает. И потом начнет плести небылицы об ушедшем из-под носа или сломавшемся по дороге автобусе. Ведь для нее уже наверняка давно вошло в привычку лгать людям.
И тут к памятнику, скрипнув тормозами, подъехало такси, и из него выскочила Ирина Германовна. Еще миг – и она уже стояла рядом с Ниной, теребя пальцами ремешок висящей на плече сумочки.
– Здравствуйте, Нина. Простите, забыла ваше отчество… Я так волнуюсь. Неужели вам и вправду удалось что-то найти?
– Да, – сурово ответила Нина Сергеевна. – И теперь у вас есть шанс заполучить то, что вы хотите. Только зачем было для этого прибегать к обману? Ведь вы прекрасно знаете, куда девались ваши семейные документы. Вернее, кто их уничтожил.
Ирина Германовна испуганно отшатнулась от нее:
– Что? Что вы говорите?
Но Нина Сергеевна уже окончательно вошла в роль беспощадной обличительницы:
– В отличие от вас, я говорю правду. Их уничтожил ваш дед. Неужели вам неизвестно, почему его фамилия не Постников, а Лаухин? Да не может быть! Наверняка вы знаете, что когда он отрекся от своего отца, то взял себе другую фамилию. Фамилию своего друга по семинарии, убитого интервентами. Его звали Яков Лаухин. Вот его имя здесь, на памятнике… А вот дневник вашего деда. Может, вам будет интересно узнать, как он отзывался о своем отце? Вот, читайте… И после этого вы еще смеете называть себя правнучкой отца Николая?!
Она не договорила. Пробежав глазами несколько строк, Ирина Германовна подняла голову. В глазах у нее стояли слезы, а губы дрожали, так что она едва смогла выговорить:
– Не может быть… Это неправда! Мой дедушка не мог такого написать! Вы не знаете, какой он был человек… Зачем в-вы мне лжете? Что я вам сделала?
Захлебываясь от рыданий, она швырнула книгу на землю и побежала к поджидавшему ее такси. Еще миг – и машина, сорвавшись с места, скрылась из глаз. А Нина так и осталась стоять у заброшенного обелиска…
* * *
Поздним вечером Нина Сергеевна сидела у себя на кухне, размышляя о событиях минувшего дня. И все больше понимая, сколь непростительную ошибку она совершила. В самом деле, почему она сочла Ирину Германовну обманщицей? Не потому ли, что с самого начала почувствовала неприязнь к ней? А прочитав дневник ее деда, и вовсе возненавидела ее. Увы, теперь она на собственном примере убедилась, что человек, объятый ненавистью, способен видеть все лишь в черном цвете. И не отличает друзей от врагов. Что же ей теперь делать? Позвонить Ирине Германовне и попросить у нее прощения? Но простит ли она ее? И захочет ли узнать правду о том, почему документы, подтверждающие ее родство с отцом Николаем Постниковым, оказались утрачены? Хватит ли у нее мужества принять эту горькую правду и смириться с ней? Или она предпочтет остаться при своем «не может быть»? Бог весть. Как говорится, человек предполагает, а Господь располагает.
И вполне может статься, что человек, мнящий себя героем и правдолюбцем, отречется и от собственного отца, и от Отца Небесного. Зато другой, казалось бы, неспособный на подвиги, останется верен Господу до конца. Потому что рядом с ним незримо пребудет Тот, Кто на людское «не может быть» властно отвечает: «Да будет!»
Выбор
Вера была еще совсем молодым врачом. Можно сказать, начинающим. И в городской поликлинике, куда она сразу же после окончания института устроилась на должность невролога (или, как раньше называли эту профессию, невропатолога), она работала всего лишь несколько месяцев. Надо сказать, что как раз во время ее учебы в институте в стенах этого вуза произошли столь разительные и радикальные перемены, что заикнись кто-нибудь о них еще лет десять назад, его могли бы посчитать человеком с весьма буйной фантазией, если даже не безумцем. Но тем не менее все произошло именно так: ректор мединститута, вероятно желая прослыть самым прогрессивным из всех ректоров городских вузов, открыл при нем храм. Разумеется, туда был назначен и священник. Им оказался не кто иной, как отец Павел Н., известный своей поистине апостольской ревностью о православии, хотя у этого мужа зрелых лет оная ревность подчас граничила с прямо-таки юношеским максимализмом. И поскольку для темпераментного отца Павла институт представлял собой, так сказать, непаханую ниву, он со всем присущим ему пылом и тщанием принялся насаждать в нем семена православной веры. Благодаря ему все аудитории и практикумы были освящены и в них появились иконы. А каждый учебный год теперь начинался и заканчивался молебном. При этом отец Павел настаивал на том, чтобы на этих молебнах присутствовали все сотрудники института, включая самого ректора. Тех же, кто пренебрегал христианским долгом, он, как говорится, невзирая на лица и звания, публично обличал, в связи с чем иные из солидных и влиятельных преподавателей, бывшие, что называется, людьми старой закалки, относились к батюшке весьма неприязненно. Что до студентов, то во время сессий они наперебой бегали в институтский храм, чтобы поставить свечку перед иконой или заказать молебен накануне очередного экзамена. Надо сказать, что, несмотря на все попытки отца Павла объяснить сим младенцам и младеницам в вере, что к экзаменам выражение «плавать» может быть применимо исключительно в переносном смысле, они, готовясь в очередной раз тянуть билетик, все-таки неизменно заказывали молебны иконе Богородицы «Спасительница утопающих»… Правда, в промежутках от сессии до сессии, когда, если верить старой песне, «живут студенты весело», их религиозность переживала резкий спад, что заставляло вспомнить известную русскую поговорку: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Тем не менее среди студентов было немало и тех, кто регулярно посещал институтский храм, а тамошнего священника считал своим духовным отцом. К их числу принадлежала и Вера, в лице которой отец Павел имел не только внимательную слушательницу его поучений и наставлений, «сохранявшую их в сердце своем», но и их послушную и усердную исполнительницу. Надо сказать, что в пестрой толпе студентов духовные дети отца Павла были заметны сразу. Потому что они выглядели совсем не так, как их однокашники. Особенно это касалось девушек, которые носили одинаковые темные юбки почти до полу и кофточки с длинными рукавами, чаще всего – тоже темного цвета, предпочитали скромные гладкие прически, не пользовались косметикой и не увешивали себя всевозможными звенящими-блестящими побрякушками, на которые были столь падки их неверующие сверстницы. Что до Веры, то она еще и носила на левом запястье маленькие черные четки, по которым, улучив свободную минутку, читала Иисусову молитву.
Четки она купила в Н-ском женском монастыре, куда съездила по благословению отца Павла во время летних каникул по окончании пятого курса. Надо сказать, что прежде ей никогда не приходилось бывать в монастырях. Впрочем, с учетом того, что Вера крестилась всего лишь пару лет назад, это было и неудивительно. В обители она прожила две недели. Ходила на послушания, а когда удавалось – и в храм, слушала разговоры сестер и паломниц о приближении тех последних времен, когда в миру будет как в аду, и грозные пророчества о скором приходе антихриста, который, несмотря на всю свою мощь и дерзость, все-таки не посмеет проникнуть за святые врата Н-ского монастыря. Но, хотя из всех этих откровений следовало, что будущее не сулит миру ничего хорошего, из монастыря Вера все-таки вернулась ликующей и окрыленной. Ведь побывав там, она соприкоснулась с совсем иной, прежде неизвестной ей жизнью – тем самым равноангельным житием во Христе, о котором прежде ей доводилось лишь читать в книгах. И она радовалась, что Господь сподобил ее воочию увидеть сестер-подвижниц, проводящих такую жизнь. Хотя эту радость несколько омрачало то, что две недели в монастыре протекли слишком быстро. После чего Вере, подумывавшей было о том, чтобы остаться там насовсем, все-таки пришлось вернуться домой, в мир.
Одной из причин этого являлось то, что ей нужно было закончить институт. Хотя бы ради родителей, которые, сами будучи врачами, в свое время настояли на ее поступлении туда. Тем более что их весьма тревожили, так сказать, симптомы воцерковления дочери. А ее поездка в монастырь привела их в полное смятение. Особенно маму, которая сразу же по возвращении Веры домой заставила ее снять платок, чтобы воочию убедиться в том, что с ее волосами ничего не произошло. Потому что, зная о Церкви исключительно из фильмов и книг, она считала монашеский постриг некоей разновидностью стрижки… Впрочем, увидев дочкину косу в целости-сохранности, мама успокоилась… Что до отца Веры, то он относился к духовным исканиям дочери более спокойно. Или скорее старался сохранять спокойствие. И в отличие от мамы, он не пытался спорить с нею или переубеждать ее. Мало того, однажды именно отец прервал спор между Верой и ее мамой, произнеся загадочную фразу: «Жить в обществе и быть свободным от общества – нельзя». Вера не знала, кем и когда были сказаны эти слова. Однако сердцем она почувствовала, что в них сокрыта некая тайна. Или, скорее, неясная, но неотвратимая угроза для нее…
* * *
Впрочем, Вера решила не оставаться в монастыре еще и по другой причине. Незадолго до поездки туда она прочитала житие святителя Луки (Войно-Ясенецкого). А, как известно, этот святой и исповедник недавних времен, будучи монахом, тем не менее прожил всю жизнь в миру, сочетая служение Богу и Церкви с работой хирургом. С тех пор Вера стала особенно почитать святителя Луку. Ведь их объединяла не только православная вера, но и профессия. И Вера загорелась желанием подражать ему. То есть служить страждущим людям, врачуя их недуги. И этим подвигом своим свидетельствовать миру о Христе. Так, как это делал хирург-архиепископ Лука.
Именно поэтому, придя работать в поликлинику, Вера так стремилась показать, что она не просто врач-невролог, а именно православный врач. Она повесила в своем кабинете большую икону Божией Матери «Целительница», которой благословил ее отец Павел после получения врачебного диплома. А рядом с нею, прямо над своей головой, – образ святителя Луки. И беседуя с больными, настоятельно советовала им заняться прежде всего исцелением своей души. То есть креститься, ходить в храм, регулярно исповедоваться и причащаться, молиться и соблюдать посты. Она стремилась убедить их, что их болезни вызваны небрежением о душе и ниспосланы Богом в наказание за греховную жизнь. Однако, к великому горю Веры, пациенты отнюдь не стремились следовать ее советам. Мало того, как-то раз, идя по коридору поликлиники, она случайно услышала обрывок разговора двух пожилых женщин, одна из которых только что вышла из ее кабинета, получив подробное наставление насчет подготовки к исповеди и пообещав в ближайшее воскресенье сходить в храм. А теперь почем зря ругала Веру, называя ее чокнутой сектанткой и грозясь написать жалобу главврачу на то, что он позволяет врачам вместо лечения больных заниматься поповской пропагандой.
Вскоре над Верой действительно разразилась гроза. Заведующая отделением, вызвав ее в свой кабинет, заявила, что на нее поступают жалобы от больных, недовольных тем, что она говорит с ними о религии. А потому велела ей прекратить подобные разговоры. Вдобавок убрать из кабинета икону, поскольку это также вызывает нарекания со стороны пациентов.
Так мечты Веры свидетельствовать миру о православии впервые столкнулись с неумолимой реальностью. Впрочем, она нашла в себе мужество перенести этот удар, вспомнив, что «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы»[9]. И даже придумала способ оставить в кабинете икону, заменив образ «Целительницы» на репродукцию известной фрески Васнецова из Киевского Владимирского собора, изображающую Богоматерь с Младенцем Христом. Теперь при необходимости Вера могла объяснить недовольным, что она просто-напросто является большой поклонницей творчества этого художника – автора «Аленушки», «Ивана-царевича на сером волке», «Богатырей» и прочих с детства знакомых каждому человеку картин. И в итоге остаться вне подозрений.
Но, увы, это было, как говорится, лиха беда начало. И чем дольше Вера работала в поликлинике, тем больше убеждалась в том, что ее прежние представления о работе врача как о подвижническом служении страждущим так же далеки от действительности, как монастырская жизнь – от мирской. Потому что среди тех, кто являлся к ней на прием, были не только люди, действительно нуждавшиеся в помощи. Но и наглые симулянты, и озлобленные личности, которые, зная, что профессия врача обязывает Веру безропотно сносить их выходки, вымещали на ней свои обиды. Были и те, кто пытался заставить ее выполнять их желания и прихоти, угрожая в случае неповиновения пожаловаться на нее начальству. И хотя Вера понимала, что, как православная христианка, она обязана смиренно терпеть все эти обиды и оскорбления, ей все труднее и труднее было это делать. И она все больше сомневалась в правильности избранного ею пути.
* * *
Как-то к ней на прием пожаловала молодая девица. Ярко и грубо накрашенная, в дешевой, но броской на вид одежде. С этой девушкой Вере уже приходилось встречаться. Она была больна эпилепсией и поэтому регулярно являлась к неврологам, чтобы выписать таблетки из тех, что назначаются людям, страдающим этим заболеванием. Однако на сей раз она пришла совсем по другой причине. О чем и заявила, едва переступив порог врачебного кабинета:
– Мне надо справку на аборт.
В первую минуту Вере показалось, что она ослышалась. Однако визитерша, плюхнувшись на шаткий стул и закинув ногу на ногу, повторила:
– Гинеколог велел вам дать мне разрешение на аборт. У меня направление от него.
– Но я не смогу этого сделать, – сказала Вера.
– Это как так – не сможете? – в голосе девицы послышались недовольные нотки.
– Потому что я – православная. А аборт – это детоубийство. Понимаете, это же страшный грех. И я, как верующая, не хочу в нем участвовать.
– Это ваши проблемы, верующая вы или нет, – процедила девица, барабаня по столу длинными ногтями со следами ярко-красного лака. – А справку вы мне дать – обязаны. Я рожать не собираюсь. Тоже мне, хорош гусь нашелся: как узнал, что я от него беременна, – так сразу слинял. А мне теперь, что ли, его ребенка растить прикажете? Да? Интересно, на какие такие деньги? Меня ведь с эпилепсией нигде на работу не берут – как узнают про припадки, сразу выгоняют… Самой жить не на что…
– Но зачем же из-за этого убивать ребенка? – пыталась урезонить ее Вера. – Ведь можно же его родить, а потом отдать в детский дом. Пусть он живет. Может, его кто-нибудь усыновит. Сейчас многие люди берут себе приемных детей…
– Еще чего! – возмутилась девица. – Сказочки все это! Я сама из детского дома – знаю, каково там жить… Нет, уж лучше я аборт сделаю… Короче, пишите справку, не то вы меня сейчас до припадка доведете!
– Не напишу, – отрезала возмущенная Вера.
– Ах, так… – тут девица закрыла глаза и, запрокинув голову, начала дергаться. Изо рта у нее показалась пузырящаяся струйка слюны… Это было настолько неожиданно и жутко, что Вера в полнейшей растерянности застыла как вкопанная. Пока не решилась протянуть руку к заходящейся в судорогах девице.
Тогда та вдруг открыла глаза. В них полыхала такая злоба, что Вера невольно отшатнулась.
– Ты не имеешь права! – истошно завизжала взбешенная девица. – Где у вас тут главный врач? Вот я сейчас к нему пойду! Ты мне все равно дашь эту справку, поняла?
И она выскочила из кабинета, напоследок хлопнув дверью так, что побелка с потолка посыпалась вниз, запорошив письменный стол…
Однако, несмотря на свои угрозы, назад она не вернулась. Так что у Веры отлегло от сердца. Но на другой день медсестра, работавшая с заведующей отделением, принесла ей справку, на которой уже красовались печать и две подписи – заведующей и заместителя главного врача по медицинской части, и попросила Веру поставить на ней третью подпись. Пробежав взглядом справку, Вера встала и, глядя ей в глаза, заявила:
– Не подпишу.
Потому что справка эта предназначалась той самой девице, требовавшей от нее разрешение на аборт. Иначе говоря, на убийство нежеланного ею ребенка.
* * *
В тот же день Веру вызвали к заместителю главного врача по медицинской части. Иначе говоря, к начмеду. Нетрудно было догадаться, по какой причине. Равно как было понятно и то, что эта встреча не сулит ей ничего хорошего. Потому что начмед, суровая пожилая дама, держала коллектив поликлиники в ежовых рукавицах и руководила им стальной рукой. И в словах, которыми она встретила Веру, переступившую порог ее кабинета, тоже слышался металл:
– Мне сообщили, что вы отказываетесь выполнять свои врачебные обязанности. Настоятельно рекомендую вам серьезно обдумать свое поведение и впредь не допускать подобных выходок, несовместимых со званием врача.
– Но я вовсе не отказывалась работать, – попробовала оправдаться Вера. – Я лишь сказала, что не подпишу разрешение на аборт. Потому что я – православная…
– Разве вам не известно, что существуют заболевания, при которых беременность может быть прервана по медицинским показаниям? – ледяным тоном оборвала ее начальственная дама. – К вашему сведению, имеется Приказ Минздрава № 302 от 28 декабря 1993 года, где приведен список этих заболеваний[10]. И в него входят, в частности, все формы эпилепсии. Или вы впервые слышите об этом? Как же вы вообще можете работать врачом, не зная медицинской документации? Так что извольте внимательно ознакомиться с этим приказом и принять к сведению то, что в нем написано. Что же до ваших религиозных предрассудков – впредь оставляйте их дома. А здесь, в поликлинике, вы должны выполнять свои обязанности. И раз вы работаете у нас, мы вправе требовать от вас их неукоснительного исполнения.
…Вера знала, что когда-то православие было гонимой верой. Хотя до поры верила, что это осталось в прошлом. И лишь сейчас ей открылось, что она стоит перед тем же самым выбором, который приходилось совершать христианам всех времен. Выбором между Божиими заповедями и волей мира сего.
* * *
Как она хотела, чтобы кто-нибудь посоветовал ей, как поступить! Или хотя бы поддержал добрым словом! Но сделать это было некому. Потому что отец Павел как раз в это время уехал в Святую землю. А родители Веры тоже были далеко-далеко, в отпуске на Черном море. Вдобавок, поскольку они были далеки от православия, то вряд ли смогли бы понять, почему их дочь вдруг отказалась выполнить то, что предписывал ей сделать приказ… И тут Вера вдруг вспомнила о Тане, которая во время учебы в институте была ее лучшей подругой. Хотя дружба между студентками, находящимися на разных курсах, – достаточно редкое явление. Мало того, именно Таня по благословению отца Павла стала крестной матерью Веры. И в Н-ский монастырь они тоже ездили вместе. Правда, вот уже третий год, с тех самых пор, как Таня окончила институт и стала работать врачом в престижной городской больнице, она отчего-то избегала встречаться с Верой и даже перестала звонить ей. Не понимая причину такой перемены в поведении старшей подруги, Вера не решалась докучать ей. Однако теперь она решила набраться смелости и позвонить Тане. Ведь кто, как не крестная, смог бы дать ей столь нужный сейчас совет?
С замиранием сердца она вслушивалась в гудки в телефонной трубке. Неожиданно они оборвались и раздался голос Тани:
– Алло! Что вам нужно?
Вера вздрогнула – в голосе подруги слышались раздражение и неприязнь. Но отступать было некуда. И она взахлеб, от волнения путая слова, принялась рассказывать Тане о происшедшем. Неожиданно та оборвала ее:
– Извини, Верунчик. Ты не могла бы позвонить мне попозже? Сейчас я так занята, что мне не до твоих проблем. Пока.
После чего из трубки снова послышались гудки… А Вера бессильно опустилась на пол перед иконами и принялась отчаянно молить Бога о вразумлении. Потому что больше ей не от кого было ждать ответа и совета.
Она молилась долго. Однако, похоже, что и Бог отчего-то не спешил послать ей благую мысль. И тут взгляд Веры упал на стопку старых книг, засунутых под диван. Когда-то это были ее любимые книжки, не раз читанные и перечитанные, – сказки, приключения, русская классика… Но когда Вера крестилась, их место на полках заняли жития святых и творения отцов-подвижников, а прежние любимцы подверглись опале и оказались на полу под диваном, в пыли и забвении. Она машинально протянула руку к одной из книг и, наугад открыв ее, скользнула взглядом по стихотворению, напечатанному на странице.
То была старинная немецкая баллада о Лилофее, дочери короля, которую злой водяной унес в свое подводное царство И там родила она ему семерых сыновей. Как-то раз, по слезной просьбе пленницы, водяной дозволил ей повидать земной мир. Но, оказавшись вновь на земле, она не захотела возвращаться в неволю. Тогда водяной предложил ей свободу. С одним условием: они поделят между собой детей. Поделят поровну.
Я троих заберу и троих я отдам.
Но, сокровище честно деля,
Мы седьмого должны разрубить пополам,
Лилофея, дочь короля.
Но принцесса предпочла пожертвовать собой, чтобы сохранить жизнь своему ребенку:
Иль ты думал, мне сердце из камня дано?..
Ах, прощайте, леса и поля!
Чем дитя погубить, лучше канет на дно
Лилофея, дочь короля.
И тогда Вера поняла, что эта книжка попала ей в руки неспроста. Как не случайно и то, что она открылась именно на этой старинной легенде. Да, ее отец оказался прав: жить в обществе и быть свободным от него невозможно. И даже если она сменит работу, над ней все равно будет тяготеть власть приказа, разрешающего «по медицинским показаниям» убивать еще нерожденных детей, ненужных своим матерям. Ведь сколько примеров тому, когда женщины, страдающие заболеваниями, при которых показано прерывание беременности, все-таки наотрез отказывались сделать это. Даже зная, что, сохраняя жизнь своему ребенку, при этом рискуют собственной жизнью… Так что Вере в конце концов придется покориться и выполнять приказ. Конечно, всегда можно будет найти себе оправдание в том, что ей не оставили никакого выбора. Но разве существует оправдание для греха? Да и выбор у нее есть. Как был он и у Лилофеи, дочери короля, которая сделала то, что велели ей Бог и совесть… Теперь Вере стало ясно, что последние строки старинной баллады – это и есть ответ, данный Богом на ее молитвы. И если невозможно жить в миру, не став вольной или невольной соучастницей греха, то лучше она покинет мир, нежели согласится на это.
На другой день, зайдя в поликлинику лишь для того, чтобы написать заявление о своем уходе оттуда, Вера уехала в Н-ский женский монастырь.
Драма в Сосновке
Нина Сергеевна уже входила в свой подъезд, когда в ее сумке вдруг заиграл мобильный телефон. Как видно, кому-то из бывших пациентов Нины срочно понадобилась ее помощь. Вот только ей совершенно не хотелось после работы давать кому-либо медицинские консультации по телефону. Да еще и прямо на лестнице, с битком набитой продуктами сумкой в руках. Оставалось лишь уповать на то, что больной в конце концов поймет: Нина сейчас занята, и прекратит попытки дозвониться до нее. Однако пока она поднималась на третий этаж, рылась в карманах, разыскивая ключ, входила в квартиру и рылась среди коробок и пакетов в поисках телефона, он с завидным упорством продолжал наяривать развеселую новогоднюю песенку «Джингл беллз». Раздраженная такой настойчивостью, Нина Сергеевна открыла крышку мобильника, намереваясь объяснить навязчивому незнакомцу, что сейчас у нее неотложные дела, а потому ему лучше перезвонить ей позднее… но уже в следующий миг ее лицо озарилось улыбкой. Ведь ей звонил отец Александр, ее бывший коллега, в свое время ставший, так сказать, из врача телесного врачом духовным. То есть священником. Теперь он служил на дальнем сельском приходе и наведывался в город лишь изредка. Зато уж тогда непременно навещал Нину Сергеевну. Как видно, и на сей раз он звонил, чтобы предупредить ее о своем скором приезде. И даже не обиделся, что она так долго не отвечала ему…
Однако Нина поспешила с выводами. Не успела она сказать отцу Александру, что будет очень рада видеть его у себя в гостях, как из телефона послышалось:
– Нина Сергеевна, вы не смогли бы завтра приехать ко мне? Тут я такую интересную историю узнал… Прямо-таки таинственную историю… Так как, вы приедете? Тогда я буду ждать вас на станции…
Надо сказать, что всевозможные тайны и загадочные истории были давней страстью Нины Сергеевны. И хотя всю неделю она мечтала о том, как в предстоящую субботу наконец-то отоспится всласть, любопытство все-таки взяло верх над усталостью. И она ответила священнику:
– Хорошо, батюшка. Завтра утром я приеду. Благословите. До свидания.
Спустя несколько часов Нина Сергеевна уже стояла на вокзале в очереди за билетами. А потом всю ночь тряслась в холодном полупустом вагоне, отчаянно пытаясь хоть ненадолго забыться сном. И запоздало проклиная собственное любопытство. Понесло же ее, как говорится, за тридевять земель ради какой-то там «интересной истории»! Гораздо разумнее было бы сначала выяснить у священника, что именно он имеет в виду. Наверняка пресловутая тайна в действительности существовала лишь в пылком воображении отца Александра. Или же была какой-то местной байкой, ради которой не стоило жертвовать выходными. С этой мыслью под самое утро Нина наконец-то задремала.
* * *
Отец Александр, как обещал, поджидал ее возле вокзала. И едва Нина уселась в его машину, приступил к рассказу:
– Видите ли, Нина Сергеевна, я хочу попросить вас разобраться в одной загадочной истории. Начну издалека. Недавно в Сосновке – это километрах в сорока от того места, где я служу, только южней, – умер священник, отец Иоанн. И вот владыка Дионисий поручил мне временно окормлять тамошний приход. Конечно, я и раньше слышал, что в первой половине шестидесятых годов там вроде бы убили некоего старого батюшку. Но когда впервые приехал туда и услышал эту историю в подробностях, она мне странной показалась. Оттого-то я и решил позвонить вам. Просто подумал: один ум – хорошо, а два – лучше. Конечно, я мог вам все это и по телефону рассказать. Да только опять же лучше один раз самому увидеть, чем сто раз услышать. Вот оттого я так и хотел, чтобы вы приехали. Потому что, еще раз говорю, история эта какая-то загадочная. Вот давайте-ка, пока мы едем в Сосновку, я вам ее и расскажу.
* * *
…В 1946 году на Н-скую кафедру был назначен епископ Леонид. Человек уже преклонных лет, из вдовых протоиереев, проведший лет десять в лагерях, где лишился он здоровья и левого глаза, да только крепкой веры и пламенной ревности о Господе все-таки не утратил. Как раз при нем и был заново открыт Никольский храм в селе Сосновке, что пустовал с начала двадцатых годов, после ареста и расстрела его настоятеля, отца Доримедонта Петропавловского. А священником туда был назначен отец Михаил Герасимов, в прошлом служивший где-то в центре России и в середине двадцатых годов высланный на Север вместе со своей матушкой Таисией Ивановной. Когда же отец Михаил отбыл свой срок, то не стал возвращаться на родину, а остался в Н-ске, устроившись работать возчиком в хозяйстве по уборке города. Так прожил он до тех пор, пока владыка Леонид, с которым они вместе пребывали «во узах и горьких работах», не отыскал своего сослужителя и сострадальца и не предложил ему место настоятеля в одном из городских храмов. Да только тот от сей чести отказался, а вместо этого ради старой дружбы попросил епископа послать его в дальнюю Сосновку. В тех местах кругом сосновые леса, воздух чистый, здоровый, можно сказать, целительный. А его матушка, Таисия Ивановна, была слаба здоровьем, в последнее же время и вовсе кровью кашляла. Вот и надеялся отец Михаил, что там она поправится. Да только человек предполагает, а Господь располагает: спустя полгода, как переехали Герасимовы в Сосновку, отошла матушка Таисия туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная… Тогда владыка Леонид предложил отцу Михаилу вернуться в город, да тот опять отказался. Чтобы не расставаться со своей матушкой, теперь уже почивающей вечным сном за алтарем Никольского храма.
– Мы, – говорит, – всю жизнь не разлучались. Так не разлучит нас и мать сыра земля. Вместе мы век прожили – вместе нам и в земле лежать.
Вот так и остались отец Михаил с сыном Василием в Сосновке. Если бы не Вася, то нелегко бы священнику пришлось: прихожан в Никольском храме было, как говорится, раз-два и обчелся. Да сын отцу во всем помогал: и по хозяйству, и в храме пел, да читал, да кадило подавал… Лишь незадолго до смерти отца Михаила приехал в Сосновку молодой дьякон, отец Виктор. Потому что стал старый священник здоровьем сдавать – вот новый епископ, владыка Никодим, и прислал ему помощника. А вскоре, в феврале 1964 года, под утро, Василий обнаружил отца Михаила мертвым в его келье…
– Убитым? – переспросила Нина Сергеевна. – Вы же сказали, что он был убит?
– Я не оговорился, – произнес отец Александр. – Просто, мне кажется, будет точнее сказать: был найден мертвым. Хотя старые прихожане Никольского храма, которые рассказывали мне эту историю, единогласно заявляют, что отец Михаил был убит. Причем не кем иным, как собственным сыном Василием. Будто бы парень влюбился в некую девушку-комсомолку, дочь местного партийного активиста, и хотел на ней жениться. А отец Михаил был наотрез против брака своего сына с безбожницей. Тогда девушка подговорила Василия убить отца и даже дала ему для этого охотничье ружье своего папаши-коммуниста. Вот из него-то он и застрелил отца Михаила. А потом почему-то побежал к дьякону и сельскому фельдшеру, умоляя спасти батюшку… Что до пресловутого ружья, то потом отец Виктор будто бы нашел его в келье отца Михаила и изобличил убийц… Ну как, Нина Сергеевна? Не правда ли, все это очень странно?
– Что ж тут странного? – усомнилась Нина. – По-моему, все просто и понятно. Мне даже где-то доводилось читать подобное. Не то рассказ, не то поэму. Правда, там вроде бы у священника вместо сына была дочь. И в конце концов тоже кто-то кого-то застрелил…
– То-то и оно, коллега, – улыбнулся священник. – Когда я впервые услышал рассказ об убийстве отца Михаила, как раз это стихотворение мне и вспомнилось. Я читал его давно, поэтому не помню имени автора и не ручаюсь за точность пересказа. Кажется, речь в нем шла о том, как юноша-комсомолец полюбил дочь священника. А ее отец, узнав об этом, застрелил влюбленных… Возможно, не будь эти истории так схожи между собой, я бы не усомнился в достоверности рассказа об убийстве отца Михаила. Но я не верю, что он был убит. Тем более собственным сыном.
– Но почему? – недоумевала Нина. – Разве, защищая свою любовь, человек не может пойти на преступление?
– Может, – признался отец Александр. – Вот только странно, почему Василий, убив отца, не попытался скрыться? Напротив, он сразу же побежал за помощью в село. Вряд ли убийца повел бы себя так. Кстати, первым, к кому он явился, был отец Виктор. Мало того: если отец Михаил и впрямь был застрелен Василием, почему его сразу же не задержали? Почему тогда никто не заподозрил убийства? Это могло быть лишь в одном случае…
– Тогда кто же мог убить отца Михаила? – перебила его Нина Сергеевна. – Может, кто из деревенских? Или… или… – она осеклась, не решаясь произнести еще одно имя.
– Нет, этого не могло быть, – уверенно произнес отец Александр. – В ту ночь отец Виктор был достаточно далеко от места, где обнаружили мертвого отца Михаила… Видите ли, Нина Сергеевна, Никольский храм находится не в самой Сосновке, а на отшибе, посреди местного кладбища. А вокруг него – сосновый лес. Место там глухое, безлюдное. Скоро вы сами в этом убедитесь… Так вот, отец Михаил с сыном жили при храме, в пристройке, состоявшей из одной комнаты и кухни. В комнате священник устроил себе келью, а Василий ютился в кухне и спал там на печке. Что до отца Виктора, то он жил в самой Сосновке, в доме одной певчей. Оттуда до Никольского храма около получаса ходьбы: летом – пешком, а зимой – на лыжах. Вот так он и ходил: полчаса на службу, полчаса – со службы. Да и как иначе? Ведь пристройка-то была маленькой: и двоим тесно, не то что троим… Вдобавок старые прихожане говорили мне, будто отец Михаил терпеть не мог молодого дьякона: считал, будто тот против него козни строит… Хотя отец Виктор относился к отцу Михаилу по-сыновнему почтительно. И всегда с большой теплотой отзывался о нем. Нет, он явно не имел никакого отношения к его смерти. Правда, есть еще несколько загадочных обстоятельств…
– Каких? – полюбопытствовала Нина.
– Прежде всего то, что почти сразу же после похорон отца Михаила его сын уехал из Сосновки. Кстати сказать, не один, а с местной девушкой-комсомолкой. Причем так поспешно, что их отъезд походил на бегство. Мало того, с тех пор он никогда не приезжал в Сосновку. Почему? Загадка, да и только… И вот еще что. Со слов Василия известно, что накануне своей смерти отец Михаил не ложился спать. Свет в его келье горел всю ночь. Отец Михаил так и не успел погасить его… Странно, не правда ли?
– И что же тут странного? – спросила Нина Сергеевна. – Мало ли чем мог быть занят священник? Может, он читал правило перед литургией…
– Не скажите, Нина Сергеевна, – ответил отец Александр. – Известно, что на столе отца Михаила нашли письменные принадлежности. Перо валялось на полу. Похоже, перед смертью он что-то писал. Вот только что именно – неизвестно. Прихожане рассказывают, будто это было письмо в органы местной власти, в котором отец Михаил обличал богоборцев-гонителей, собиравшихся закрыть Никольский храм, и грозил им за это небесными карами. И будто бы его украл Василий после того, как застрелил отца. Однако опять вопрос – правда ли это? Между прочим, тогда никто не заинтересовался пропавшими бумагами. Видимо, как раз потому, что в ту пору никто не заподозрил убийства. И о пропавших бумагах вспомнили лишь после того, как пошла молва, будто отец Михаил был убит…
– А что отец Виктор? – поинтересовалась Нина Сергеевна. – Он-то знал правду… Почему он с самого начала не пресек эти слухи об убийстве?
– Об этом я и не подумал… – признался отец Александр. – А ведь и впрямь странно, что он отчего-то не стремился их опровергнуть. Хотя вполне мог бы сделать это. Ведь похоже, что Василий, в отличие от отца Михаила, относился к нему доброжелательно. И вполне доверял ему. Иначе он бы не прибежал к нему первому, когда нашел отца мертвым… Но почему же тогда потом он так спешно уехал из Сосновки? Или за это время между ним и отцом Виктором что-то произошло? Прямо-таки детектив какой-то… Одна надежда, что вы сможете разобраться в этой запутанной истории. Ну как, Нина Сергеевна? Вы согласны?
– Благословите, отец Александр! – улыбнулась бывшему коллеге Нина Сергеевна.
* * *
Тем временем слева от дороги показались одноэтажные деревянные дома, а справа, на горизонте, – темно-зеленая полоса деревьев и белая церковь с маленьким серебристым куполом и высокой колокольней, увенчанной остроконечным шпилем. Вокруг нее теснились могильные кресты, выкрашенные голубой краской. Немного поодаль виднелся двухэтажный бревенчатый дом, а рядом с ним – хозяйственные постройки и аккуратные прямоугольники огородов.
– А вот и Никольская церковь, – произнес отец Александр, сворачивая на грунтовую дорогу, ведущую к храму.
Нина Сергеевна хотела было спросить его, кто живет в доме у кладбища. Однако в этот момент из него вышла какая-то женщина в черном. Несколько секунд незнакомка вглядывалась в приближающуюся машину, а потом исчезла в доме. Вслед за тем оттуда выскочило уже четверо женщин, которые выстроились на крыльце, явно поджидая отца Александра. А едва священник вышел из машины, наперегонки бросились к нему:
– Здравствуйте, батюшка! Как мы рады, что вы приехали! Простите-благословите! Слава Богу! Вашими святыми молитвами все хорошо!
– Это Нина Сергеевна, – представил отец Александр свою спутницу. – Она – врач-невролог и певчая из Н-ской Свято-Лазаревской церкви.
Высокая полная старуха с суровым лицом, облаченная в монашеский подрясник и выцветший апостольник, с затертыми до блеска четками на запястье, две немолодые женщины и бледная большеглазая девушка в черном, похожие на монастырских послушниц, смиренно склонили головы и попытались изобразить на лицах нечто вроде приветливых улыбок. Но Нина заметила: ее визит насторожил их. Особенно девушку, на лице которой читалось любопытство, смешанное с испугом. Впрочем, за годы врачебной практики Нина научилась скрывать свои чувства. И одарила обитательниц дома на кладбище безмятежной улыбкой.
– Это наша староста, мать Анна, – представил отец Александр старуху в монашеской одежде. – А это – Ольга Ивановна, свечница… Псаломщица Таисия Степановна… Таня, уборщица… Бессменные и верные труженицы Никольского храма. И Мурка тут как тут!
Крупная трехцветная кошка, похожая на разлохмаченную сапожную щетку, громко мурлыча, принялась тереться о ноги отца Александра.
– А ну брысь! – злобно прошипела староста, и испуганная кошка юркнула под крыльцо. – Вот ведь искушение-то! Простите, отченька, она у нас линяет. У вас весь подрясник в шерсти будет… Наверное, вы устали с дороги? Может быть, хотите отдохнуть? Или чайку выпить? Мы сейчас мигом все устроим… Благословите!
Она повернулась к Ольге, Таисии и Тане. Те в мгновение ока скрылись в доме.
– Благодарю вас, матушка. Вы всегда такая заботливая, – улыбнулся отец Александр сразу приосанившейся старухе и вместе с ней и Ниной Сергеевной вошел в дом. А вслед за ними тенью последовала выбравшаяся из-под крыльца трехцветная кошка…
* * *
Обещанный старостой «чаек» оказался обильной и сытной трапезой, заставлявшей вспомнить поговорку: «Все, что есть в печи, – на стол мечи». После нее отец Александр с матерью Анной занялись беседой о хозяйственных делах, а Нина решила немного прогуляться. Благо летний день выдался теплым и погожим. Она вышла из дома и направилась к Никольскому храму. Помолилась у входа и пошла вдоль южной стены, пока не очутилась за алтарем. Здесь ей сразу же бросились в глаза два высоких, в ее рост, четырехгранных памятника из красноватого, отполированного до блеска гранита, по виду – еще дореволюционных. Подобные ей уже приходилось видеть в городе, возле Свято-Лазаревского храма, давней и бессменной прихожанкой которого она была уже четверть века. Обычно такие монументы во оные времена воздвигали на могилах своих близких купцы и зажиточные горожане. На одном из памятников было высечено: «Таисия Ивановна Герасимова. 1901–1946 гг. Так спи ж в глуши лесов сосновых, подруга дней моих суровых». На другом: «Протоиерей Михаил Герасимов. 1898–1964 гг. Принял смерть от руки ближнего своего».
Нина Сергеевна застыла от изумления. Почему на могилах отца Михаила и его матушки стоят дореволюционные надгробия? Кто сделал эту странную надпись на памятнике: «принял смерть от руки ближнего своего»? И кто был этот «ближний», поднявший руку на отца Михаила? Его сын Василий? Или кто-то другой? И почему отец Александр, имея перед глазами столь неоспоримое доказательство того, что отец Михаил был убит, все-таки сомневается в этом?
Раздумья Нины прервал какой-то шорох. Она вздрогнула и обернулась, успев заметить девушку в темной одежде, испуганно шмыгнувшую за угол храма:
– Зачем вы от меня прячетесь, Таня? Не бойтесь. Как раз вы-то мне и нужны. Вы не могли бы мне рассказать об отце Михаиле?
Татьяна вышла из своего укрытия и робко подошла к Нине Сергеевне:
– Да где мне?.. – дрожащим голоском произнесла она. – Я ведь такая глупая… и крестилась недавно… еще ничего и не знаю… Это матушка Анна, та все знает. Она даже самого отца Михаила в живых застала… Вот она нам про него и рассказывала…
– И что же она вам рассказала? – полюбопытствовала Нина Сергеевна.
– Ну… – замялась девушка. – Что он был очень строгий батюшка. И богоборцев обличал… А они за это его и убили…
– Грех-то какой! – возмутилась Нина. – Неужели кто-то посмел на священника руку поднять?
– Еще как посмел! – оживилась Татьяна. – Представляете себе, его собственный сын убил! Из-за девки-безбожницы! Приколдовала она его. А потом говорит ему: отрекись от Бога! Он и отрекся. Тогда она ему велит: а теперь поди убей отца! И ружье ему дала. Он приходит, а тот как раз на молитве стоял. Навел ружье, а выстрелить-то и не может: руки отнялись. Тут он упал на колени и заплакал: «Прости, батюшка, да только велено мне тебя убить…» Вот он кончил молиться и говорит ему: «Бог тебя простит, чадо. Твори волю пославших тебя». И благословил его. Тогда тот выстрелил и убил его.
– Какая вы прекрасная рассказчица! – похвалила Нина Татьяну, и на бледном лице девушки вспыхнул румянец. – А где это случилось?
– А вот пойдемте, я вам покажу. – Похоже, осмелевшая Таня окончательно вошла в роль гида. – Только сперва в храм войдем… Теперь сюда, направо. Здесь раньше кухня была. А вот, видите, дыра в двери? Вот через нее-то он его и застрелил… А здесь у нас устроена как бы его келья. Это отец Иоанн благословил сделать, чтобы о нем память осталась. Говорил, может быть, еще придет время, Господь и прославит батюшку как страдальца за Христа… Вот и иконы, перед которыми он молился, и стол, и комод, и чернильница с пером… А хотите, я вам ружье покажу, из которого его убили? Его отец Виктор нашел и говорит ему: это ты его убил. Тогда он и сбежал… Вот оно, смотрите…
С этими словами Татьяна взяла лежавшее на комоде охотничье ружье и протянула Нине Сергеевне. Надо сказать, что Нине почти не доводилось держать в руках оружия. Кажется, последний раз это было лет двадцать назад, когда, учась на военной кафедре мединститута, она сдавала зачет по стрельбе из подобного ружья. И потому даже смутно помнила его устройство. Вот приклад, вот ствол, а вот затвор… Однако в ружье, которое она сейчас держала в руках, затвора не было!
А из ружья без затвора выстрелить невозможно.
* * *
Разумеется, Нина Сергеевна понимала: отсутствие в ружье затвора еще не доказывает, что убийства не было. В конце концов, за более чем тридцать лет, прошедшие с момента гибели отца Михаила, он вполне мог куда-то потеряться… Вдобавок ее почему-то гораздо больше заинтересовали надгробия на могилах четы Герасимовых. Она уже собиралась задать девушке еще один вопрос, как вдруг:
– Ты что тут делаешь? – на пороге мемориальной кельи стояла мать Анна. – Ты где должна быть? Где твое послушание! Двести поклонов!
– Простите-благословите! – испуганно пискнула Татьяна и выскочила из кельи.
– Она тут ни при чем, матушка. Это я ее попросила рассказать об отце Михаиле, – вступилась за провинившуюся послушницу Нина Сергеевна.
– Не ее это дело – о нем рассказывать! – проворчала староста. – Тоже мне, нашлась рассказчица: без году неделю назад крестилась! Небось эта дура вам наплела невесть чего…
– Что вы, матушка! – не сдавалась Нина. – Она мне ничего и не рассказала. Вы, говорит, лучше матушку Анну расспросите. Она, мол, еще самого отца Михаила в живых застала…
– Еще бы нет! – подтвердила сразу подобревшая староста. – Как-никак, он был моим крестным. Я у него с матушкой Таисией часто гостила. А мамушка моя, покоенка, при нем в хоре пела. Когда же отец Виктор стал настоятелем, он ее назначил церковной старостой. Он ее очень уважал. Потому-то и благословил, чтобы ее похоронили за алтарем. Не всякому такая великая честь выпадает. Вот пойдемте-ка, покажу вам ее могилу. Там и для меня место приготовлено…
Действительно, рядом с уже знакомыми Нине гранитными надгробиями отца Михаила и его матушки, за высокой, едва ли не в человеческий рост металлической оградкой, увенчанной поверху острыми шипами, виднелся памятник из мраморной крошки с крестом наверху и табличкой: «Бестужева Мария Федоровна. 1901–1973 гг. Душа ея во благих водворится». Судя по фотографии на памятнике, мать Анна являлась точной копией своей покойной родительницы: то же суровое лицо, сжатые в ниточку губы, подозрительный взгляд из-под нависших бровей. Нетрудно было догадаться, что обе старосты походили друг на друга не только обличьем, но и нравом. И в будущем им предстояло вместе почивать вечным сном за алтарем Никольского храма.
– А скажите, матушка, – полюбопытствовала Нина Сергеевна, – откуда у отца Михаила и его матушки такие замечательные памятники? Похоже, их на заказ делали… Наверное, это прежний настоятель их поставил? Говорят, он очень почитал отца Михаила…
– Нет, это еще сам батюшка Михаил их поставил, – процедила староста, и Нина поняла, что этот разговор ей почему-то крайне неприятен. – Незадолго до того, как это случилось… И надписи сам сочинил. Он прозорливый был, вот и знал, что все так будет…
– Что будет? – как можно более наивно вопросила Нина Сергеевна, не подозревая, к каким последствиям приведет ее любопытство.
– А то, что было! – вскинулась староста, и глаза ее яростно полыхнули. – Вот уж правду говорят: не делай добра – не получишь зла! Он-то его как родного воспитал! А он возьми да сбеги с этой Машкой! Да что он в ней нашел? Ох, прости-помилуй, Господи! Искушение-то какое! И зачем вам понадобилось любопытствовать? До греха довели… Ох, положи, Господи, хранение устом моим…
Старуха вперевалку побрела прочь, продолжая ворчать на ходу. Нина Сергеевна благоразумно последовала за ней. Впрочем, перед этим она на всякий случай обошла гранитные памятники кругом. И обнаружила, что одна из граней у каждого из них не гладкая, а шероховатая. Похоже, что прежде там были какие-то другие надписи, позднее зачищенные. Вот только какие именно?
Увы, ответить на этот вопрос, похоже, было некому…
* * *
Нина решила не возвращаться в дом у кладбища, а отправиться в Сосновку. Прежде всего, чтобы немного развеяться. А заодно и поразмыслить по дороге над всем увиденным и услышанным сегодня. Ибо история смерти отца Михаила действительно оказалась весьма загадочной.
В самом деле, почему незадолго до гибели старый священник распорядился сделать на своем надгробии надпись, гласившую, что он принял смерть от руки ближнего? Выходит, он знал, кто хочет его смерти? И, вероятно, подозревал, что этот человек пожелает ускорить ее наступление… А потому решил заранее указать на своего будущего убийцу. Но кого он имел в виду? Сына Василия? Или кого-то другого?
Однако тут Нине вспомнилось, как старые прихожане собора, возле которого был похоронен друг отца Михаила, владыка Леонид, рассказывали ей, что покойный епископ завещал высечь на своем надгробии: «Дети, любите Церковь, веруйте в Бога». Но по требованию властей эту уже было сделанную надпись заменили на другую: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга»[11]. В таком случае вполне возможно, что и на могиле отца Михаила сначала была какая-то другая эпитафия… В таком случае, каков был первоначальный текст? И кто и с какой целью изменил его? Почему-то Нине казалось, что зачищенные надписи на задней стороне надгробий четы Герасимовых являются ключом к разгадке тайны гибели отца Михаила. Впрочем, безвозвратно утраченным.
Вдобавок она никак не могла отделаться от мысли, что, по известной французской поговорке, в этой загадочной истории замешана женщина. Вернее, девушка. Некая Машка, иначе говоря, Мария, с которой Василий бежал из Сосновки. Оставив там другую юную особу, которая страстно любила его. А потом возненавидела его той лютой неукротимой ненавистью, в которую столь часто перерождается отвергнутая любовь. Так что даже состарившись и став монахиней, она все-таки не простила ему то, что когда-то давно, на заре туманной юности, он предпочел ей другую…
Дочь местного партийного активиста, которую звали Марией. Комсомолку и колдунью. Ту, что вложила в руки обезумевшего от любви к ней Василия отцовское охотничье ружье, ставшее впоследствии главным вещественным доказательством убийства отца Михаила и экспонатом его мемориальной кельи… Сломанное ружье без затвора. Конечно, в свое время коллега Нины Сергеевны, писатель Антон Чехов, сказал, что если по ходу действия пьесы на сцене появляется ружье, то оно непременно должно выстрелить. Но имел ли место в сей житейской драме пресловутый ружейный выстрел? Или его все-таки не было? Как не было и убийства.
Ведь и впрямь странно, что Василий, застрелив отца, не попытался скрыться с места преступления. Напротив, он побежал к отцу Виктору и сельскому фельдшеру, умоляя спасти отца Михаила. Они были первыми, кто увидел священника мертвым. Правда, отца Виктора уже давно не было в живых. А вот что сталось с фельдшером? Конечно, шансов отыскать его было весьма немного. Однако, вспомнив о том, что попытка не пытка, Нина Сергеевна решила все-таки заглянуть в местный медпункт. Хотя бы для того, чтобы убедиться: она напрасно потеряет время.
* * *
Медпункт села Сосновки оказался одноэтажным деревянным зданием, выкрашенным в тот же голубой цвет, что и кресты на местном кладбище. Несмотря на субботний день, дверь его была открыта, и Нина Сергеевна из любопытства решила зайти внутрь.
Она шла по коридору, пропитанному знакомым ей больничным запахом лекарств и хлорки, и разглядывала выцветшие плакаты на стенах, а под ногами у нее поскрипывали половицы. Неожиданно приоткрылась дверь, мимо которой проходила Нина, и в коридор выглянула худенькая пожилая женщина в белом халате и медицинской шапочке, судя по всему, медсестра:
– Вы на прием? – спросила она Нину Сергеевну. – К Матвею Ивановичу?
Нина уже хотела сказать «нет». Но, мельком разглядев сидящего в кабинете сухощавого сурового на вид старика, промолвила:
– Да.
Разумеется, она понимала, что поступает глупо. Ведь если за тридцать лет, прошедших со дня смерти отца Михаила, на приходе в Сосновке успело смениться два священника, то бессмысленно было ожидать, что подобного не произошло и с местными фельдшерами. Хотя человеку, сидящему перед Ниной Сергеевной, на вид было лет под семьдесят. Поэтому, произведя в уме нехитрое математическое действие, она все-таки решила рискнуть.
Тем временем фельдшер, прихлебнув крепкого чаю из стоявшего перед ним давно не мытого стакана в жестяном подстаканнике, обратился к Нине Сергеевне:
– Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, что вас беспокоит?
– Видите ли, уважаемый Матвей Иванович… – Нине Сергеевне было немного не по себе под пытливым взглядом старика. – Меня зовут Нина Сергеевна. Я врач-невролог из Н-ской больницы. А пришла к вам по одному делу…
– По какому такому делу? – нахмурился фельдшер. – Вы что, не на прием пришли?
– Скажите, пожалуйста, это вы здесь работали в шестидесятые годы?
– Простите, а с какой целью вы это спрашиваете? – Матвей Иванович еще больше нахмурился и резко отодвинул стакан с чаем на угол стола.
– Просто тогда у вас в селе застрелили одного священника…
– Да что за бред! – возмутился фельдшер. – Кто вам наплел такой ерунды?
– Мне так в здешней церкви сказали… – теперь Нина Сергеевна понимала, что не зря пришла на медпункт. И, кажется, догадалась, как ей удастся разговорить сурового старика.
– Они еще не того наскажут! – отрезал Матвей Иванович. – Привыкли народ дурить, вот и дурят. Вранье все это!
– Но ведь говорят же, что его сын застрелил, – не унималась Нина. – Из-за девушки… Даже будто бы ружье нашли… Только я в это не верю.
Фельдшер снова потянулся к стакану с чаем.
– И правильно делаете, что не верите. Простите мою резкость, уважаемая… Нина Сергеевна, да только, если хотите знать, как раз я тело этого попа и осматривал. Так вот: никто в него не стрелял.
– Тогда кто же его мог убить? – спросила Нина.
– Никто его не убивал, – ответил Матвей Иванович. – Если хотите знать, от чего он умер, могу сказать: от инфаркта. У него уже давно стенокардия была. А в последние месяцы ему совсем плохо стало. Что ни назначу – все без толку. Тогда я ему посоветовал поехать полечиться в областную больницу. Может быть, тогда бы он и дольше прожил… Да он отказался: мол, нельзя ему храм бросить. Правда, думается мне, причина не только в этом была. Похоже, боялся он чего-то…
– А что, разве у него были враги? – поинтересовалась Нина Сергеевна.
– Ну, я их церковных дел не знаю. – Матвей Иванович опять нахмурился. – Да с таким нравом, как у него был, врагов нажить недолго. Редкой честности был человек: что на уме, то и на языке. Вот только своенравный до крайности. Чуть что не по нему – обидеть мог, и сильно. По правде сказать, не любили у нас его…
– Да за что ж его любить-то? – вмешалась прислушивавшаяся к их разговору пожилая медсестра. – Меня вон мама к нему раз на исповедь повела. Лет шесть мне тогда было… А он меня и давай расспрашивать: то-то ты делала? А вот то-то делала? Смотри не ври, Богу лгать нельзя… А сахар у матери тайком не таскала ли? Нет, говорю, батюшка. А он давай меня стыдить: и как тебе не стыдно врать? Ведь воруешь же ты сахар, по глазам вижу. Зачем Бога обманываешь? Грех это. Говори правду. Стою я перед ним и реву – ведь я отродясь чужого не брала, а он и не верит… С тех пор я больше к попам ни ногой… Да что я? Вон сколько народу у нас при нем в церковь ходить перестало! Придем, говорят, а он и давай нас бранить. Мол, совсем вы Бога забыли, даже по воскресеньям и праздникам, вместо того чтобы в церковь идти, хозяйством занимаетесь. А в храме пусто. Дождетесь, что Бог вас накажет за то, что от Него отреклись… Так нас-то он за что ругает? Мы же от Бога не отступаемся и в церковь ходим… Как говорится, за наше жито да нас и побито… Так чего нам тогда к нему ходить?.. А вот отец Виктор, тот обходительный был, ласковый. Всегда, как встретит человека, что-нибудь доброе ему скажет, аж душа радуется… Он людей любил. Не то что этот…
– Любил волк кобылу, оставил хвост да гриву… – усмехнулся фельдшер. – Лицемер он был редкостный, этот отец Виктор! Между прочим, он у меня не раз интересовался, насколько серьезно болен старый поп и долго ли еще проживет. Видно, не терпелось поскорее его место занять! Вот и занял…
– Матвей Иванович, – осторожно спросила Нина. – А вы уверены, что сын отца Михаила непричастен к его смерти? Мне рассказывали, будто он любил какую-то девушку, и она…
– Да эта девушка, можно сказать, его спасла, – ответил старый фельдшер. – Кстати, на самом деле Василий был не родным, а приемным сыном этого попа. Кажется, родители у парня погибли во время бомбежки. Вот они с женой и усыновили его, когда он был еще совсем маленьким, и научили всему церковному. Видимо, хотели, чтобы тот тоже попом стал. Только, по правде сказать, у парнишки душа совсем к другому лежала. Дочка моя Нинка с этой его Машкой подружками были, вот Машка ей и рассказывала, что Вася мечтает поехать в город и выучиться на художника. Да только его приемный отец и слышать об этом не хочет. Уговаривала она его тайком уехать, уговаривала… да он об этом и слышать не хотел. Я, говорит, отца не брошу. Пропадет он один без меня… Никуда я не поеду. Вот так и жил вместе с попом, пока тот не умер. А как умер, они сразу же вместе в город уехали…
Однако Нине Сергеевне не давал покоя еще один вопрос:
– Как вы думаете, Матвей Иванович, кто мог хотеть смерти отца Михаила? Видите ли, у него на памятнике написано: «Принял смерть от руки ближнего своего». Мне говорили, что он велел сделать эту надпись незадолго до своей смерти. Выходит, он боялся, что кто-то убьет его?
– Говорю же вам, никто его не убивал, – ответил старик и наполнил опустевший стакан из стоявшего на подоконнике маленького блестящего чайника. – И доказать это проще простого. Ведь и участковый наш, Иван Сергеевич, который тогда вместе со мной его тело осматривал, до сих пор жив, и кое-кто из понятых, что при этом присутствовали. Хотя мне самому многое непонятно. Например, почему старый поп боялся уезжать из Сосновки? И вот еще что. Последний раз он вызвал меня накануне своей смерти. Вот тогда-то я ему и предложил поехать в город, в больницу. Да он отказался. А когда я уже уходил, он произнес, тихо так, словно сам с собой говорил: «Зачем я это сделал? Если б я знал…» Что он имел в виду – ума не приложу. Только думаю, у него какие-то неприятности были…
В это время в дверь кабинета просунулась голова пожилой женщины в белом ситцевом платке:
– Матвей Иванович, можно к вам?
– Это ко мне на прием пришли, – пояснил фельдшер. – Простите, уважаемая коллега. Так что мой вам совет: не верьте во все эти сказки насчет убийства. И кому только вздумалось их сочинять? И самое главное, зачем?
Нине Сергеевне и самой очень хотелось бы это знать. Равно как и то, о чем мог жалеть перед смертью отец Михаил. Или все-таки это было убийство? Ведь не случайно старый фельдшер заподозрил, что незадолго до смерти священник чего-то боялся… И подтверждением этому является надпись на надгробии отца Михаила: «Принял смерть от руки ближнего своего». Похоже, он опасался за свою жизнь. Но кто же мог ему угрожать?
* * *
Встревоженный отец Александр забросал вернувшуюся Нину вопросами:
– Нина Сергеевна, куда вы пропали? Мы вас везде искали… Где вы были?
– Батюшка, вы не могли бы пойти со мной? – в свою очередь спросила Нина священника. – Я бы хотела вам кое-что рассказать…
– Отченька, вы бы отдохнули… – попробовала было вмешаться насторожившаяся мать Анна. Однако отец Александр пропустил слова старосты мимо ушей и молча последовал за Ниной Сергеевной. Он заговорил лишь тогда, когда дом у кладбища остался позади:
– Скажите, Нина Сергеевна, к чему такая таинственность? Или… Вам удалось что-то узнать?
– Вы угадали, батюшка, – подтвердила Нина и рассказала отцу Александру, о чем ей поведал фельдшер из Сосновки.
– Выходит, я не ошибся, – задумчиво произнес священник. – Василий ни в чем не виноват. И никакого убийства не было. Отец Михаил умер своей смертью. Тогда кому же и зачем понадобилось придумывать легенду о том, что его застрелил сын?
Нина вздрогнула. Потому что тем же самым вопросом задавался и Матвей Иванович, и она сама. В самом деле, откуда пошла эта легенда? Возможно, причиной ее появления стала надпись на надгробии отца Михаила: «Принял смерть от руки ближнего своего»? Вот только кто ее сделал? Сам священник, как утверждает староста? Или сперва надпись была другой, и уже после кончины отца Михаила кто-то изменил ее, дабы придать больше достоверности легенде о его убийстве? Тогда каков же был первоначальный текст надписи? Увы, это было, как говорится, покрыто мраком.
Тем временем они подошли к могилам отца Михаила и матушки Таисии. И некоторое время молча стояли возле них. Наконец Нина Сергеевна решилась задать давно волновавший ее вопрос:
– Батюшка, а вам не кажется, что эти памятники какие-то необычные? Уж не дореволюционные ли они?
– А ведь и правда! – оживился отец Александр. – Ну у вас и глаз, уважаемая коллега! Памятники-то и впрямь старинные… Как же я раньше не обратил на это внимание? Постойте-ка, да их, похоже, еще и местами поменяли… Видите ли, Нина Сергеевна, когда-то мне рассказывали, будто раньше на мужских надгробиях делали орнамент в виде треугольников, а на женских – в форме полукругов. А здесь смотрите: у отца Михаила на памятнике – полукруги, а у его матушки – треугольники… Странно…
– А теперь, батюшка, взгляните вот сюда, – заявила Нина Сергеевна, указывая отцу Александру на шероховатые грани памятников. – Что вы скажете про это?
– Могу сказать лишь одно: здесь были какие-то надписи, – подтвердил священник догадку Нины. – А потом их стерли… М-да, интересная история получается… Вот что, Нина Сергеевна. Давайте-ка посмотрим, кто здесь еще похоронен по соседству. Может, и выясним что-нибудь.
Они немного побродили по кладбищу. Однако не нашли ничего примечательного. Большинство захоронений вокруг храма относилось уже к советским временам. Правда, среди них отыскалось и несколько старинных каменных надгробий. Надо сказать, что по сравнению с памятниками, стоявшими на могилах четы Герасимовых, они смотрелись довольно убого. Тем не менее было очевидно: все эти надгробия сделаны примерно в одно и то же время. А именно – еще до революции.
– Вот что, Нина Сергеевна, – произнес отец Александр, когда они вернулись к могиле отца Михаила. – Похоже, эта история уходит корнями в далекое прошлое… Хотя я вполне могу и ошибаться. Поэтому теперь мы поведем поиски в разных направлениях. Вы вернетесь в город и займетесь сбором сведений об истории здешнего храма. Попытайтесь выяснить, не сохранилось ли сведений о каких-либо примечательных захоронениях возле него… А я попытаюсь найти Василия. Позвоните мне, если обнаружите что-то важное. В свою очередь и я сообщу вам, если отыщу его. Договорились?
– Хорошо, батюшка! – согласилась Нина Сергеевна.
В тот же вечер после всенощной, несмотря на уговоры и протесты старосты, отец Александр отвез Нину Сергеевну на станцию и посадил в поезд. Из всех обитательниц дома на кладбище ее вышла проводить лишь одна кошка Мурка, которая на прощание, ласково мурлыча, потерлась об ее ноги. Зато Татьяна, с которой Нина столкнулась на крыльце, молча шарахнулась от нее в сторону. А ее глаза горели такой ненавистью, что Нине Сергеевне стало страшно за эту девушку. А еще – очень жаль ее…
* * *
В понедельник после работы Нина отправилась в областную библиотеку. Ей уже не раз приходилось бывать в тамошнем краеведческом отделе. Поэтому она без особого труда отыскала по каталогу нужную книгу – «Историческое описание приходов Н-ской епархии», изданную в 1913 году. А получив от библиотекарши потрепанный том в черном картонном переплете под мрамор, отыскала там нужную страницу и углубилась в чтение: «Сосновский Никольский храм был воздвигнут в 1878 г. на средства уроженца этого села, Н-ского купца первой гильдии Николая Михайловича Постникова, пожелавшего тем самым явить своим землякам пример веры и благочестия. Дело христолюбивого храмоздателя, почившего о Господе в 1877 г., завершила его супруга Аграфена Дмитриевна, известная своими щедрыми пожертвованиями на храмы и святые обители Н-ской епархии, скончавшаяся в 1894 году. Чета Постниковых погребена, согласно их завещанию, за алтарем построенного ими храма, под надгробиями красного карельского гранита…»
Значит, они с отцом Александром не ошиблись! И на могилах отца Михаила и его матушки действительно находились дореволюционные памятники со стертыми надписями. Чужие памятники. Потому что прежде они стояли на могилах совсем других людей – купцов Постниковых, некогда построивших Никольский храм. И получивших за это в награду людское забвение. Мало того, даже их могилы оказались разорены.
Но кто же посмел это сделать?
* * *
Нина Сергеевна не решилась сразу же сообщить отцу Александру о своем открытии. Потому что тогда ей пришлось бы назвать ему имя человека, который поднял руку на чужие могилы. Как же она теперь жалела, что согласилась помочь своему бывшему коллеге разобраться в истории загадочной смерти отца Михаила Герасимова! И в итоге узнала то, что ей меньше всего хотелось бы узнать… Поистине, «не все найденное следовало находить, и кое-чему лучше было бы навсегда пребывать в забвении»[12]. Оставалось лишь надеяться, что за делами насущными отец Александр забудет обо всех этих «делах давно минувших дней». А она не станет напоминать ему о них. Пусть былое поскорее порастет быльем. Так будет лучше.
Что до отца Александра, то он словно в воду канул. Похоже, священник и впрямь потерял интерес к судьбе покойного отца Михаила и его приемного сына. Однако спустя четыре месяца после их совместной поездки в Сосновку батюшка, как всегда неожиданно, позвонил ей:
– Нина Сергеевна, вы что-нибудь нашли?
Нина замялась. Потому что ей совершенно не хотелось рассказывать о своих находках. Однако отец Александр не стал дожидаться ее ответа:
– А я тут разыскал одного человека… Хотите, мы съездим к нему вместе? Я сейчас в городе… Вы не заняты?
– Хорошо, батюшка. Я буду ждать вас, – откликнулась Нина Сергеевна.
Интересно, кого бы мог отыскать отец Александр? Неужели Василия? Или кого-то другого?..
* * *
Впрочем, об этом отец Александр сообщил Нине почти сразу же, как она уселась в машину:
– Прежде всего, хочу поблагодарить вас, Нина Сергеевна. Вы мне очень помогли. Если бы вы тогда не сходили в Сосновку и не поговорили с тамошним фельдшером, мне пришлось бы заниматься поисками куда дольше… И то сперва я, как говорится, пошел по ложному следу. Видите ли, сначала я искал Василия Герасимова. И не нашел. Дело в том, что отец Михаил, усыновив мальчика, не дал ему своей фамилии. Но это я узнал позже. А тогда мои поиски зашли в тупик. Тут-то я и вспомнил, как вы, со слов фельдшера, рассказывали мне, что Василий хотел стать художником… Кстати, он действительно стал художником. Причем весьма известным. Вам что-нибудь говорит фамилия Ракитин? Василий Семенович Ракитин? Еще бы? Вы видели его картины в местном музее? Говорят, что они есть даже в Третьяковке? Так вот, наш знаменитый художник Ракитин и есть тот самый Василий, приемный сын отца Михаила. К сожалению, его самого уже пять лет как нет в живых. А мы с вами едем к его жене, Марии Игнатьевне. Она ждет нас к себе в гости.
Нина Сергеевна в очередной раз подивилась умению отца Александра разыскивать людей. А еще – ладить с ними. Неужели вдова художника действительно ждет их к себе в гости? И это после того, как единоверцы ее мужа и ее земляки ославили их убийцами отца Михаила? Нина знала немало случаев, когда православные люди после куда меньших обид озлоблялись и навсегда порывали с Церковью. А то и отрекались от православия. И до конца жизни ненавидели своих бывших единоверцев. Впрочем, Нина вспомнила, что в юности Мария Игнатьевна, кажется, была комсомолкой и атеисткой. Хотя разве незаслуженная обида не одинаково больна и для верующего, и для безбожника? Тогда почему же эта женщина хочет видеть людей, которых она вправе считать своими врагами? Чтобы потребовать восстановления справедливости по отношению к ней и к ее покойному мужу? Или просто-напросто для того, чтобы бросить им в лицо все, что она думает об их единоверцах и о них самих?
* * *
Однако едва Нина Сергеевна увидела вдову художника, как сразу же поняла: ее опасения были напрасны. Мария Игнатьевна, полная улыбающаяся женщина на седьмом десятке, провела их в гостиную, посредине которой в окружении венских стульев красовался накрытый к чаю круглый стол с изогнутыми ножками в виде львиных лап. Нина Сергеевна с интересом осмотрела комнату. Темная, похоже, старинная мебель: горка с тускло поблескивающей в ней фарфоровой посудой, застекленный книжный шкаф, где произведения русских классиков соседствовали с какими-то книгами в кожаных переплетах, вероятнее всего церковными… В красном углу висели две иконы: Спаситель в терновом венце и Божия Матерь Казанская с кротким полудетским ликом. А стены украшало несколько картин, написанных маслом, очень похожих на работы Василия Ракитина, виденные Ниной Сергеевной в местном музее. Правда, здесь, в отличие от музейных портретов оленеводов и знатных доярок, на одной из них был изображен старый священник со строгим, скорбным лицом, сидящий у окна за книгой. А за окном под ярким летним солнцем буйно цвела сирень… Нина Сергеевна сразу поняла, что это – портрет отца Михаила. Тем более что рядом висела другая, совсем маленькая картина с видом Никольского храма. Выходит, Василий Ракитин на всю жизнь сохранил о своей юности лишь добрые воспоминания?..
Нине Сергеевне в одночасье вспомнились и ее поездка в Сосновку, и легенда об убийстве отца Михаила, и перекошенное ненавистью лицо старосты, и фельдшер Матвей Иванович, недоумевающий, кому и зачем могло взбрести в голову возводить напраслину на приемного сына священника… Интересно, знал ли Василий Ракитин, что прихожане Никольского храма объявили его убийцей отца Михаила?.. Но тут до нее донесся обрывок разговора, который вели между собой отец Александр и Мария Игнатьевна:
– …Да, это так. Перед смертью отец Михаил действительно писал письмо. И я покажу его вам. Чтобы вы узнали, кто на самом деле виновен в его смерти.
Она встала и, подойдя к книжному шкафу, открыла небольшой выдвижной ящик. Затем извлекла оттуда светло-коричневую папку тисненой кожи с каким-то бумагами и достала оттуда два листка: один голубоватый, а другой – желтый, вырванный из школьной тетради в линейку. На нем корявым почерком было написано: «Епископу Никодиму от прихожан Никольской церкви жалоба. Здравствуйте, наш горячо любимый владыко отец Никодим! Мы, прихожане Никольской церкви, обращаемся к Вам с просьбой…»
Собственно, это была не жалоба, а самый настоящий донос на отца Михаила, который свидетельствовал прежде всего о мелочности и злобе самих его авторов: «слишком стар», «забывчив», «еле ходит, того и гляди упадет во время службы», «носит пыжиковую шапку, подаренную ему прихожанкой…», «и потому нам даже обидно за него, как за человека, носящего почетное звание гражданина Советского Союза…»[13] Что за бред? В этот миг Нина забыла, что, судя по всему, именно отец Михаил был причастен к разорению могил четы Постниковых. Ей было до боли жаль старого священника, которого предали люди, которые были его духовными детьми… Пусть даже он был резок и своенравен – все равно у подлости нет оправдания.
А это что такое? «Недавно поставил своей попадье и себе гранитные памятники, взятые им с чужих могил». Выходит, это все-таки сделал именно отец Михаил… Зачем же он так поступил?
Но вот наконец последний абзац: «…мы выражаем от души глубокое негодование, и если Вы не уберете его из церкви, то мы тогда будем жаловаться Светейшему Патриарху всея Руси Алексею и в ЦК КПСС. А взамен его просим сделать нашим батюшкой всеми нами любимого молодого дьякона отца Виктора Т…» Под доносом стояло около десятка подписей, среди которых Нина заметила знакомую фамилию «Бестужева». Эта фамилия была выведена на листке дважды. Судя по особенностям почерка, одна подпись, вероятно, принадлежала старухе. Другая была выведена аккуратно, словно в школьной тетрадке по чистописанию… В левом верхнем углу жалобы стояла дата: 25 января 1964 г. А под ней было написано: «Протоиерею М. Герасимову принять к сведению и дать заключение по содержанию жалобы. Епископ Никодим».
Другой, голубоватый листок был исписан крупным разборчивым почерком. Хотя, судя по неровным очертаниям букв, рука пишущего дрожала то ли от старости, то ли от волнения, а может быть, и от того и другого вместе…
«Его Преосвященству Преосвященнейшему Никодиму, Епископу Н-скому, настоятеля Никольского храма села Сосновки протоиерея Михаила Герасимова объяснение.
На поданную Вашему Преосвященству несколькими лицами жалобу на меня имею честь дать Вам, как пастырь, свое истинное объяснение. Я служу священником в Никольской церкви более двадцати лет и до недавнего времени не имел никаких нареканий со стороны своих прихожан. Однако в последнее время, после приезда в Сосновку отца Виктора Т., мне постоянно приходится давать объяснения на жалобы, которые поступают на меня в епархиальное управление якобы от моих прихожан. Но в связи с тем, что большинство подписей на них являются неразборчивыми и неясными, а некоторые совершенно непохожи на имеющиеся у меня образцы росписей данных лиц, вероятнее всего, эти жалобы – дело рук нескольких человек, стремящихся выжить меня из храма и заменить на отца Виктора. Последний неоднократно, оставаясь наедине со мной, заявлял, что я зажился на свете и мне давно пора уходить за штат и освободить место ему. Его поддерживает стремящаяся занять должность церковной старосты певчая Мария Бестужева, в доме которой он проживает. Ранее я считал недостойным предавать огласке неблаговидные поступки своего сослужителя, однако в последнее время он потерял всякое уважение ко мне, своему настоятелю, и уже в открытую угрожает, что если мне дорога жизнь, я должен уйти за штат и убраться вон из Сосновки. И что если я не уйду добровольно, то он заставит меня это сделать. Я не считаю позором носить подаренную мне шесть лет назад вдовой одного из моих прихожан пыжиковую шапку и до сих пор поминаю ее мужа Николая. Я признаю, что поставил на могиле своей супруги и себе надгробия с чужих могил. Однако еще со времени моего приезда в Сосновку эти памятники валялись в небрежении возле храма, и никто из прихожан не мог сказать мне, кому они принадлежали и где они стояли ранее. В связи с чем я и счел возможным поставить один из них на могилу своей супруги, а другой приготовить для себя, стерев прежние надписи. Теперь я горько сожалею об этом, тем более что мой поступок сыграл на руку моим недоброжелателям, которые, чтобы выжить меня из Сосновки, истолковывают в дурную сторону все, что бы я ни делал. Если ради мира церковного мне необходимо уйти за штат, я готов сделать это. Однако умоляю Ваше Преосвященство разрешить мне после этого остаться жить в Сосновке, где похоронена моя матушка Таисия Ивановна, и быть погребенным рядом с ней. Я же с христианским терпением и смирением переношу посланное мне испытание, прощаю своих обидчиков и молюсь за них. Протоиерей Михаил Герасимов. 5 февраля 1964 г.».
– Он прибежал ко мне в тот же день, как умер отец Михаил… – нарушила наступившее тягостное молчание Мария Игнатьевна. – Таким я его еще никогда не видела. Сперва я даже испугалась, не сошел ли он с ума. «Маша, Машенька, уедем, уедем отсюда! – повторял он. – Как они могли? За что? За что?» – «Да что случилось?» – спросила я. И тогда он показал мне эти письма, которые нашел на полу, рядом с мертвым отцом Михаилом… Видите ли, тот очень любил Васю. Поэтому старался не посвящать его в свои дела. Неудивительно, что когда Вася нашел и прочел эти бумаги, прочитанное стало для него самым настоящим шоком. Он не ожидал, что церковные люди, тем более священники, могут так вести себя по отношению друг к другу… И прошло много лет, прежде чем он снова стал ходить в церковь. А тогда… Да что теперь говорить? Наверное, так было надо…
– Мария Игнатьевна, – решилась-таки спросить Нина. – Скажите пожалуйста, а ваш муж знал…
– Что прихожане Никольской церкви считают его убийцей отца Михаила? – горько усмехнулась вдова художника. – Да, он это знал. Как знал и то, кто именно распускал эти сплетни, чтобы свалить на него вину за смерть отца Михаила… Не знаю, кто ему рассказал об этом. Наверное, кто-то из жителей Сосновки, приезжавших в Н. Он старался никогда не вспоминать о прошлом. Лишь как-то незадолго до смерти сказал, что очень бы хотел побывать в Сосновке и поклониться могилам своих родителей (он всегда называл отца Михаила и его матушку отцом и матерью). «Так в чем же дело? – спросила я. – Давай съездим туда вместе. Что нам до всяких лживых сплетен? Давно пора навсегда положить им конец. Пусть люди наконец-то узнают, кто на самом деле виновен в смерти отца Михаила…» – «Нет, – неожиданно резко произнес он. – Я не поеду. О мертвых – либо хорошо, либо ничего». Я не поняла, что он имеет в виду. А спросить не решилась. А вскоре его не стало…
* * *
Они вдвоем допоздна пробеседовали за чаем на кухне у Нины Сергеевны. Потом отец Александр уехал, напоследок пообещав, что в ближайшее время поставит за алтарем Никольского храма памятный крест с именами Николая и Аграфены Постниковых. А со временем заменит его на каменное надгробие. Имена тех, кто когда-то построил Никольский храм, не должны кануть в небытие!
Священник уехал, а Нина Сергеевна еще долго сидела на кухне, не притрагиваясь к давно остывшему чаю. Она пыталась понять, ради кого Василий Ракитин пожертвовал своим добрым именем. Ради своего приемного отца, которого он любил по-сыновнему крепко и беззаветно и тем самым хотел оградить его память от злой людской молвы? А может, ради тех, кто, обезумев от ненависти и зависти, омрачил последние месяцы жизни отца Михаила и оклеветал его самого? Или ради их всех, потому что истинная любовь не ведает разницы между друзьями и врагами? Однако этому суждено было навсегда остаться последней так и не разгаданной загадкой в житейской драме, происшедшей много лет назад в далекой Сосновке.
Наследник героя
Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!
Александр Блок. Двенадцать
…А после рассудят, кто трус, кто герой,
Что было всерьез, а что было игрой.
А после ответят на сложный вопрос —
Где правда, где шутка, где шутка всерьез.
Джеймс Крюс. Мой прадедушка, герои и я[14]
В истории семьи Гуркиных не имелось ничего примечательного. Это было самое обыкновенное семейство москвичей во втором поколении, предки которых еще до войны перебрались в столицу откуда-то с берегов Белого моря и с тех пор жили там, позабыв о своей пресловутой малой родине и почти ничего не зная о своих северных родственниках. Лишь два-три раза в год – на Новый год, Первомай и дни рождения – Николай Гуркин обменивался открытками со своей одинокой и бездетной двоюродной бабушкой, Евдокией Степановной, жившей в каком-то тамошнем селе под названием Ильинское. Кем была и как выглядела эта женщина – он не знал. Потому что никогда ее не видел. Даже на фотографиях. Евдокия Степановна отчего-то никогда не присылала им своих фотокарточек… Возможно, она была похожа на покойного деда Николая, который приходился ей братом-близнецом. Что до ее почерка, по которому, как говорят, можно определить характер и даже внешность человека, то почерк у нее был самый обыкновенный – крупный, аккуратный, с немного неровными контурами букв, как нередко пишут старые люди. Неудивительно, что для Николая Гуркина эта женщина не представляла никакого интереса… Равно как и его северные предки. За исключением разве что одного. Ибо этот человек был героем.
Коля Гуркин узнал об этом вскоре после того, как пошел в школу. Близилась очередная годовщина Октябрьской революции, когда по традиции первоклассников принимали в октябрята. В преддверии сего торжества им задали прочитать что-нибудь о революционерах или героях Гражданской войны. Усевшись на кухне, рядом с хлопочущей по хозяйству мамой, Коля читал вслух взятую в библиотеке книжку про Чапаева. И очень удивился, когда мать вдруг прервала его и сказала:
– А ты знаешь, что твой прадедушка тоже был героем Гражданской войны?
Эта новость стала для Коли полной неожиданностью.
– А что он такого сделал? – немного невпопад спросил он.
– Он воевал с белыми, – ответила мама. – И погиб, освобождая город Михайловск[15] от интервентов.
Увы, больше она не знала о нем ничего. За исключением лишь его имени – Степан Гуркин. Ибо внуком оного героя был ее покойный муж. А он, как в свое время и его отец, отчего-то предпочитал не распространяться о подвигах своего северного предка… Что до Коли, то ему вполне хватило рассказанного мамой, дабы проникнуться сознанием важности собственной персоны: как-никак, не у каждого мальчика имеется прадедушка-герой! Он даже несколько раз упомянул об этом в школьных сочинениях на тему «Мой любимый герой», неизменно прибавляя при этом, что хотел бы стать похожим на своего прадеда, отдавшего жизнь за правое дело… Но спустя несколько лет в стране началась перестройка. После чего выяснилось, что многие из героев былых времен на самом деле являлись вовсе не героями, а злодеями и преступниками. А многие из них просто были забыты. Так стоит ли удивляться тому, что и Николай Гуркин вскоре позабыл о своем героическом прадедушке? Ведь теперь герои Гражданской войны оказались не в чести…
Однако мертвые имеют свойство иногда не ко времени и некстати вспоминаться живым. Вот и Степан Гуркин вдруг негаданно-нежданно напомнил о себе забывчивому правнуку.
* * *
Впрочем, это произошло, как говорится, без всякой мистики. Без зловещих «гробовых видений» и пророческих снов, коими изобилуют романы и фильмы. Просто в один прекрасный день Николай Гуркин получил от своей двоюродной бабушки-северянки не привычную поздравительную открытку, а письмо. Это уже само по себе было странным: никогда прежде Евдокия Степановна не писала ему писем. Однако когда он принялся читать загадочное послание, то удивился еще больше. Старуха настоятельно просила Николая приехать к ней. Причем чем быстрее, тем лучше. По словам Евдокии Степановны, она была неизлечимо больна и перед смертью хотела бы повидать своего двоюродного внука и наследника. И передать ему все то ценное, что у нее есть.
Вообще-то Николай совершенно не хотел никуда ехать. Особенно за тридевять земель куда-то на Север, который он, столичный житель, представлял этаким медвежьим углом, дремучей глухоманью, лишенной самых элементарных удобств, без которых горожанин уже не мыслит себе жизни. Однако отказаться от заманчивой перспективы получить бабкино наследство мог только последний дурак. А Николай Гуркин считал себя человеком умным и практичным. Вдобавок он вот-вот должен пойти в отпуск и был волен либо торчать в Москве, либо поехать куда угодно. В таком случае что мешало ему выполнить просьбу Евдокии Степановны? Он всего лишь потеряет немного времени – вряд ли тяжелобольная старуха заживется слишком долго. Зато взамен получит целый дом в деревне, который наверняка можно выгодно продать. Вдобавок ему достанутся и ценности Евдокии Степановны. Наверняка, упоминая о них, она имела в виду свои сбережения… Что ж, по такому случаю он готов съездить не только на Север, но и на край света! Как говорится выгода прежде всего!
Мог ли он знать, какое наследство ожидает его на родине предков!
* * *
Разумеется, прежде чем отправиться в далекий и незнаемый путь, Николай справился с картами. Не с гадальными, которые, если верить известной песне, сулят лишь «дорогу дальнюю, казенный дом», а с самыми обыкновенными географическими. Ведь он весьма смутно представлял, где обитает Евдокия Степановна… Оказалось, что село Ильинское, откуда приходили письма от нее, – вовсе не такая глухомань, как сперва показалось Николаю. Потому что совсем рядом от него, километрах в пятидесяти, находился областной центр, город Михайловск. Мало того – и деревня, и город стояли на берегу одной и той же большой реки Двины, впадающей в Белое море. Это открытие успокоило Николая: значит, он сможет без особого труда добраться до Ильинского. Равно и вернуться домой.
С этой мыслью Гуркин и отправился в путь. В тайной надежде, что ему не придется долго ухаживать за умирающей старухой и совсем скоро он снова окажется в родной и привычной Москве.
* * *
Однако по приезде в Михайловск его ожидало весьма неприятное открытие: теплоход до Ильинского по будним дням ходил только дважды в день – рано утром и в пять вечера. На утренний рейс он уже не успел. А до вечернего требовалось ждать почти семь часов. Чтобы убить время, Николай отправился осматривать город.
За полтора часа он обошел весь центр Михайловска. Однако не узрел ничего примечательного и интересного для себя. Пресловутый областной центр оказался довольно убогим провинциальным городком, смотревшимся по сравнению с Москвой как деревенская девка-сарафанница рядом с лощеной горожанкой. Пожалуй, самой характерной его особенностью было обилие памятников. Они попадались буквально на каждом шагу. Памятники Ломоносову, Петру Первому, Юрию Гагарину, жертвам интервенции, Петру и Февронии Муромским, а также каким-то морякам, чьи имена не говорили Николаю Гуркину, не блиставшему знанием родной истории, ровным счетом ничего. А в одном месте, у самой реки, и вовсе виднелся пустой постамент, на коем значилось, что здесь вскоре будет установлен монумент некоему северному революционеру… Однако, похоже, полуразрушенному от времени пьедесталу уже не суждено было дожить до водворения на нем обещанного памятника…
У самой пристани на высоком гранитном постаменте громоздилось весьма примечательное сооружение из бронзы: возле длинноствольной пушки высился некто в кожанке и фуражке. Грудь его крест-накрест была перевязана пулеметными лентами, а на поясе висела кобура. Правой рукой он указывал куда-то вверх. Рядом с ним, внимательно глядя по направлению указующей десницы, стояло двое бородачей в тулупах и шапках-ушанках, с ружьями за спиной. На постаменте имелась табличка: «Освободителям города Михайловска от белогвардейцев и иностранных интервентов». Возможно, Николай Гуркин преспокойно прошел бы мимо сего памятника, если бы не две причины. Дело в том, что, несмотря на свою монументальность, сооружение выглядело весьма комично. У человека в кожанке был столь глубокомысленный вид, словно сейчас он говорил своим бородатым товарищам: «Гляньте-ка, братцы, паровоз летит!» А те, как последние простаки, доверчиво пялились на небо в надежде узреть там обещанный летящий паровоз…
Но самым главным было не это. Николай Гуркин вдруг вспомнил рассказ матери о своем прадедушке-герое, погибшем при освобождении Михайловска. Интересно, что бы он сказал, если бы смог увидеть сей монумент? Разинул бы рот от удивления? Или в сердцах плюнул и поспешил пройти мимо? И вообще, кем все-таки был его прадедушка-герой? Почему-то Николаю Гуркину вдруг очень захотелось узнать об этом…
Заметив поблизости вывеску книжного магазина, он отправился туда в надежде отыскать что-нибудь об истории Михайловска времен Гражданской войны. Однако не смог отыскать ничего подходящего. Вернее, нашел только книжку под названием «Север белый». Об интервентах и белогвардейцах в ней было написано весьма подробно. А вот о красных упомянуто лишь постольку-поскольку. Что ж, как говорится, новое время – новые песни…
Но тут Николай заприметил в дальнем углу магазина букинистический отдел. Он направился туда – и вскоре обнаружил на одной из полок изданную в 1960 году тоненькую потрепанную брошюрку с красной обложкой под названием «Север революционный». Это был сборник биографий северных революционеров и героев Гражданской войны. Книжица стоила смехотворную сумму – всего десять рублей. Пролистав ее, Николай обнаружил целую главу, посвященную своему прадеду, Степану Гуркину. Вот так находка! Теперь правнук героя наконец-то мог удовлетворить свое любопытство и узнать, какими такими подвигами прославился его прадедушка. А заодно и скоротать время до вечернего рейса теплохода до Ильинского.
Не без труда отыскав в близлежащем парке целую и довольно чистую скамейку, Николай погрузился в чтение.
* * *
За полчаса он прочел жизнеописание своего героического прадедушки, озаглавленное «С попутным ветром». В нем повествовалось, как мальчик Степка Гуркин из северного села Никольского, потеряв отца и мать, сызмальства был вынужден батрачить на старосту, лавочника и попа, получая за свой труд жалкие гроши. А когда подрос, вместе со старшим товарищем Максимом Пахомовым отправился на заработки в Михайловск. Там, на лесопильном заводе Фогельсона, Степан стал читать революционные книги и листовки, а потом и распространять их. Спустя несколько месяцев после поступления на завод он уже шел с красным флагом во главе первомайской рабочей демонстрации, распевая «Интернационал». И разумеется, на другой же день после этого был уволен. Около года Степан промыкался в поисках работы в городе, однако так и не смог ее найти: юношу отовсюду увольняли как политически неблагонадежного. Поэтому ему пришлось вернуться в Никольское и снова гнуть спину на сельских богатеев до тех пор, пока 21 мая 1920 года в село не прибыл большевистский отряд комиссара Ефима Вендельбаума, шедший освобождать Михайловск от белогвардейцев и интервентов. Степан, горя желанием служить революции, вступил в него добровольцем. Однако на другой день, после того как отряд Вендельбаума, или «красная эскадра»[16], как его называли в народе, покинул Ильинское, он был наголову разгромлен интервентами на подступах к Михайловску. Надо сказать, что автор книги описывал гибель оной эскадры настолько красочно и подробно, словно сам присутствовал при этом событии:
«…Вокруг со свистом проносились пули и снаряды. С берега Двины иноземные захватчики в упор расстреливали отважных красных бойцов. С каждым разом их становилось все меньше и меньше. Однако оставшиеся в живых тут же занимали место убитых собратьев.
– Товарищи! – из последних сил выкрикнул истекающий кровью комиссар Вендельбаум, поднимая над головой пробитое пулями красное знамя. – Пусть мы погибнем! Но дело революции победит! Умрем, но не сдадимся врагам! “Это есть наш последний…”
– “…и решительный бой!” – подхватил Степан Гуркин песню, бездыханное тело своего командира и выпавшее из его руки революционное знамя.
Под пение “Интернационала” красная эскадра медленно погрузилась в свинцовые воды Двины… Так погиб Степан Гуркин, храбро и беззаветно боровшийся за счастье родного народа. Однако герои не забываются. Жизнь и героическая борьба Степана Гуркина являются прекрасным примером для нашей молодежи, наших современников – строителей коммунизма. И правое дело, за которое отдал жизнь юный северянин, теперь продолжают люди нового поколения. Вечная слава героям!»
Николай разочарованно захлопнул книжку. Выходит, весь подвиг Степана Гуркина состоял в том, что он погиб вместе с пресловутой «красной эскадрой»… Честно говоря, он ожидал от своего предка чего-то более героического… Впрочем, разве это так важно? Его прадед – герой. И теперь он наконец-то узнал, в чем состоял его подвиг.
Увы, правнуку героя было невдомек, что он не знает о прадедушкиных деяниях ровным счетом ничего!
* * *
В пять вечера уставший от хождения по городу Николай Гуркин наконец-то сел на теплоход и отправился по Двине на родину предков, в Ильинское. Оказалось, что путь туда занимал около часа. От города до Ильинского теплоход приставал к берегу четыре раза. Самая первая из остановок носила странное название: Гиблое. Неудивительно, что Николай поинтересовался у попутчицы, невысокой полной женщины средних лет, державшей на коленях корзину с выглядывавшим оттуда пушистым трехцветным котом, отчего эта местность так зовется.
– А кто ее знает! – отмахнулась та. – Наверное, оттого, что здесь болот много. Куда не пойдешь – везде болота. Одно слово: гиблое место…
– И вовсе не потому, – вмешался в разговор пожилой мужчина интеллигентного вида в старомодном поношенном пиджаке, на миг оторвавшись от газеты. – Здесь, молодой человек, во время Гражданской войны белые потопили пароход с красноармейцами. Вернее, целую эскадру. Вот с тех пор это место и прозвали – Гиблое. Только теперь об этом мало кто помнит. Совсем наш народ свою историю забыл. А зря. История многому научить может…
Николай с любопытством смотрел на проплывавшие мимо высокие берега, поросшие высоким кустарником. Выходит, его прадед погиб именно здесь?
Тут, по закону жанра, требовалось бы погрузить героя в скорбь о славном предке. Или в глубокомысленные размышления о превратностях судеб народов и держав, а также о том, почему люди слишком быстро забывают своих героев… Однако Николая Гуркина занимал лишь один вопрос: на каком берегу стояла батарея интервентов, потопивших «красную эскадру»? На правом, более пологом, или на левом, крутом и высоком?
* * *
Сойдя на берег, Николай растерянно осмотрелся вокруг. Потому что совершенно не представлял, куда идти дальше. На всякий случай он вынул из кармана смятый конверт с последним письмом Евдокии Степановны. В обратном адресе была указана какая-то улица Юбилейная, дом 6. Вот только вопрос: «где эта улица, где этот дом»?
– А где тут у вас улица Юбилейная? – окликнул Николай стоявшую на пристани женщину на вид примерно одних с ним лет.
Та внимательно посмотрела на него.
– А вы к кому приехали? – осведомилась она.
– Мне надо на Юбилейную, дом шесть, – нехотя ответил правнук героя, которого до глубины души возмутило любопытство деревенской бабы. Чего ей стоит просто объяснить ему, как пройти на эту злосчастную Юбилейную улицу? Так нет же! Вместо этого она устраивает ему самый настоящий допрос. Хотя какое ей дело до того, к кому он приехал?
– Так вы к Евдокии Степановне? – догадалась незнакомка, и ее круглое добродушное лицо подернулось грустью. – Ее уже десять дней, как похоронили… А вы, наверное, ее московский родственник, да?
Еще миг, и Николай наверняка высказал бы этой навязчивой особе все, что он о ней думает. Впрочем, и покойная Евдокия Степановна тоже хороша. Это же надо было разболтать на все село о своей московской родне! Что у нее, больше не имелось, чем хвалиться перед соседками? И вот теперь благодаря болтливой старухе ему не будет прохода от любопытных. Наверняка всем захочется поглазеть на редкую залетную птицу – столичного жителя. Зачем его только понесло в это злосчастное Ильинское?
– Видите ли, тетя Дуся рассказывала мне о вас, – пояснила женщина, похоже, догадавшись, о чем сейчас думает Николай. – Она вас так ждала, так ждала! Ой, простите, что же это я? Пойдемте, я вас к ней отведу. Ведь ключи-то у меня…
Николай не мог понять, что она имеет в виду. Разве Евдокию Степановну до сих пор не похоронили? Не может быть! Или эта странная болтливая особа собирается на ночь глядя вести его на кладбище? И вообще, кто она такая?
Однако ему не оставалось ничего другого, как идти за незнакомкой. Ведь ключи от бабкиного дома находились у нее…
* * *
Снаружи дом Евдокии Степановны был самой обыкновенной деревенской избой. Хотя весьма большой и крепкой на вид. Такой дом и впрямь мог стоить немалых денег. Выходит, он все-таки не зря приехал в Ильинское… Интересно, каков этот дом внутри?
Первое, что узрел Николай Гуркин, переступив порог теперь уже своего дома, был образ Богородицы, висевший в углу кухни, справа от входа. Надо сказать, что до сего дня правнук героя видел подобное лишь смотря по телевизору какой-нибудь фильм про русскую старину. А вот наяву – впервые. Поскольку ни в их доме, ни в домах у его друзей, таких же деловых и практичных людей, как он сам, не водилось икон. Да и откуда им было взяться, если его покойный отец был так же далек от веры в Бога, как земля далека от неба! И если и интересовался чем-нибудь, то исключительно материальными проблемами. Под стать ему была и мать Николая. А его дедушка, сын героического Степана Гуркина и брат-близнец покойной Евдокии Степановны, по рассказам родителей, являлся убежденным, мало того, воинствующим атеистом. Так что если у них в доме иногда и упоминали о Боге, то исключительно как о некоем существе, вымышленном нашими темными и невежественными предками, на Которого, может, и стоит надеяться. Но главное – не плошать самим и помнить: честностью сыт не будешь, а у кого денежка ведется, тому хорошо живется. Неудивительно, что сейчас при виде иконы правнук героя прежде всего задался вопросом: сколько же она может стоить?
– Постельное белье – в спальне, в комоде, – голос незнакомки некстати прервал его размышления о возможной цене бабкиной иконы. – Плита – вот она, в углу. Холодильник работает. Только его надо включить. Видите ли, мне тут пришлось немного прибрать: вымыть все, разморозить холодильник… Чай, сахар, крупы – в кухонном шкафу. Магазин находится на соседней улице. Как выйдете из дома, то пройдите немного вперед, до того места, где бревна лежат, и сверните направо. Там увидите светло-зеленый дом и на нем вывеску «Грин». Вот это и есть наш магазин. Колодец через два дома. Хотя давайте я вам воды принесу…
– Не надо, я сам, – отказался правнук героя. Однако вовсе не из пресловутого джентльменства. Ему просто хотелось как можно скорее выпроводить прочь эту слишком любопытную и говорливую особу. И сразу же приступить к осмотру имущества Евдокии Степановны. Все-таки зря он тянул с отъездом в Ильинское. В итоге же опоздал. Старуха успела умереть до его приезда. Кто теперь скажет ему, куда она могла припрятать деньги и ценности? Придется искать их самому. Если, конечно…
От одной мысли об этом по спине Николая пробежал неприятный холодок. А вдруг женщина, которая привела его сюда, уже успела не только прибрать в доме, но и порыться в бабкиных вещах? Ведь не случайно же она знает, где находятся постельное белье и продукты… Оставалось надеяться лишь на то, что она не сумела найти и присвоить себе деньги Евдокии Степановны. Ведь старики обычно прячут свои сбережения так надежно, что подчас потом и сами не могут их отыскать… Но если надо, он перевернет вверх дном весь дом, но отыщет их!
Да, вскоре Николая и впрямь ожидали находки. Причем такие, о которых он не мог и помыслить…
* * *
Оставшись один, Гуркин прежде всего запер входную дверь на засов. После чего внимательно осмотрел кухню. Честно говоря, он ожидал встретить в доме деревенской старухи грязь и убожество. Русскую печку, керосинку, обшарпанную старую мебель, разъевшихся тараканов, совершающих променад по замызганным стенам… Однако кухня Евдокии Степановны выглядела совсем не так, как он ее себе представлял. Да, шкаф и стол и впрямь были не новыми, но смотрелись весьма добротно. А вокруг царили чистота и порядок. Белые занавески на окнах, клетчатая клеенка на столе. На стене, над столом, – репродукция какой-то картины: посредине широкой, можно сказать необъятной, реки – зеленый остров с маленькой церковкой… Но что оказалось для Николая полнейшей неожиданностью, так это наличие в доме холодильника и электроплиты. А он-то маялся раздумьями, как ему, отродясь не имевшему дела с печками и дровяными плитами, придется готовить себе еду? Что ж, тем лучше. Теперь можно перейти к осмотру комнат…
Но тут в дверь кто-то постучал. Николай замер посреди кухни в тайной надежде, что незваный гость постоит-постоит на крыльце, да и уберется прочь, решив, будто в доме никого нет. Однако стук повторился.
– Кто там? – недовольно спросил Гуркин.
– Это я, – послышался в ответ знакомый женский голос. – Я тут вам молока принесла. И шанежек[17]. Сегодня утром пекла. А то вы, наверное, проголодались с дороги-то.
Несмотря на то что Николаю меньше всего на свете хотелось видеть навязчивую особу, стоявшую по ту сторону двери, она явилась весьма кстати: как в свое время говаривал Винни-Пух, пора было подкрепиться. Опять же за едой еще требовалось сходить в магазин. А тут она, так сказать, сама пожаловала к нему.
Николай открыл дверь, забрал у женщины банку с молоком и теплую миску, покрытую тарелкой, из-под которой доносился весьма аппетитный запах, и буркнул «спасибо». Казалось бы, после этого гостье следовало удалиться восвояси. Однако она продолжала стоять у крыльца, словно чего-то ожидая.
– Вам посуду вернуть? – догадался правнук героя.
– Нет, – женщина замялась. – Просто я завтра около полудня собираюсь к Евдокии Степановне. Вы не хотите сходить к ней со мной?
Николай не сразу сообразил, что речь идет о походе не в гости, а на кладбище. Экая блажь – говорить о покойнице, словно о живом человеке! Или в деревнях так принято? А может, у этой женщины просто проблемы с головой? Уж больно странно она себя ведет. «Вы, наверное, проголодались с дороги….» Какое ей дело до этого? Нет, она явно ненормальна. Или… или просто пытается приударить за ним. Точно! Как же он сразу не догадался! Тогда понятно, почему эта особа так заботится о нем… Она явно одинока и ищет себе мужа. И тут в село вдруг приезжает горожанин, да вдобавок – москвич! Разве можно упустить столь выгодный шанс выйти замуж? Да, все женщины, которых он знал, включая его бывшую жену, искали лишь своей выгоды… Впрочем, кто ее не ищет? Но он здесь не ради того, чтобы заводить роман с деревенской бабой. Он приехал за обещанным наследством. Что до кладбища, то, пожалуй, он наведается на могилу Евдокии Степановны. Но позже. Как говорится, дело прежде всего. А мертвые могут и подождать. Да и вообще, им все равно, посещают живые их могилы или нет…
– Нет, – вслух завершил свои размышления Гуркин. – Я схожу туда. Но в следующий раз. Кстати, а где ее похоронили?
– Возле храма, – тихо промолвила женщина, явно опечаленная его ответом. – Евдокия Степановна хотела, чтобы ее положили рядом с дедом и матерью. Я все так и сделала, как она просила. Как подойдете к церкви, так справа от входа в нее и будет ее могила. А на ней – деревянный крест…
По правде сказать, сейчас Гуркина гораздо больше заботило то, что за время их разговора шаньги успеют остыть и потеряют вкус. Впрочем, опасения его были напрасны: объяснив Николаю, как найти могилу Евдокии Степановны, женщина попрощалась и ушла прочь. Так что он наконец-то смог приступить к дегустации ее стряпни.
Шаньги оказались на редкость вкусными и сытными. Расправившись с ними и залпом выпив молоко, правнук героя с новыми силами продолжил поиски бабкиного наследства.
* * *
Комната, с которой он их начал, представляла собой подобие гостиной. Она была просторной и светлой. Посередине ее красовался стол с выгнутыми ножками, а на нем – старинные часы в деревянном футляре. Рядом лежали очки, словно забытые ненадолго отлучившейся куда-то хозяйкой… Справа от стола стоял диван, застеленный полосатым шерстяным паласом. А вот слева… Слева находился большой застекленный шкаф, набитый книгами. В основном – русской классикой. Причем это было отнюдь не собрание золоченых переплетов, предназначенное для украшения интерьера. Вид этих книг свидетельствовал о том, что они не раз читались и перечитывались. И опять Николай изумился – зачем деревенская старуха держала у себя столько книг? Кому сейчас, в эру компьютеров и телевизоров, нужна вся эта макулатура? Кстати, а где же телевизор?
Гуркин огляделся по сторонам. Но так и не обнаружил пресловутого ящика с голубым экраном, перед которым он привык коротать одиночество у себя дома. Зато заметил в правом углу комнаты икону в большой раме, украшенной позолоченными виноградными листьями и гроздьями. Наверняка очень старую. Он подошел поближе, чтобы разглядеть потемневшее от времени изображение. На иконе был нарисован полунагой человек в накинутом на плечи красном плаще. Руки его были связаны, а на голове виднелся венец из колючих веток. При виде его Николаю стало не по себе. Ибо ему показалось: этот человек смотрит на него с укором…
Впрочем, Николай Гуркин тут же успокоил себя: это всего лишь обман зрения. И не удивительно – ведь он так устал с дороги… Пожалуй, ему пора ложиться спать. Поиски наследства подождут до завтра. Наутро он продолжит их с новым силами. Ведь, как говорится, утро вечера мудренее. А пока нужно хорошенько отдохнуть.
Николай решил обосноваться на ночлег в гостиной. Однако прежде нужно было найти постельное белье. Кажется, женщина, которая привела его сюда, упоминала о каком-то комоде в спальне… Значит, в доме есть еще одна комната. Вот только где она? Выйдя в коридорчик, отделявший гостиную от кухни, Николай заметил сбоку плотно прикрытую дверь. Он толкнул ее и оказался в небольшой комнате с плотно зашторенными окнами. В полумраке Гуркин разглядел аккуратно заправленную металлическую кровать и письменный стол, на котором виднелись не то какие-то бумаги, не то книги. Впрочем, куда больше его интересовал комод в углу. Отыскав в верхнем ящике стопку чистого постельного белья, правнук героя взял пододеяльник, наволочку и простынь, застелил диван и, на всякий случай проверив, хорошо ли заперта входная дверь, улегся почивать.
Казалось бы, после столь богатого на впечатления дня Гуркин должен был спать как убитый. Однако, то ли из-за того, что этих впечатлений оказалось слишком много, то ли просто «по авторскому хотению», вместо этого ему приснился странный, можно сказать кошмарный, сон. Темной, безлунной и беззвездной ночью он стоял на пороге какой-то церкви. Дверь была открыта, так что Николай видел мерцание свечей внутри и слышал пение хора. И в какой-то миг вдруг осознал: храм открыт не случайно. Там ждут его. Действительно, на пороге вдруг показался высокий пожилой священник в красном облачении, а за ним – две женщины, по виду мать и дочь. Все они приветливо улыбались Гуркину, словно давно знакомому или близкому человеку. Священник протянул к нему руку, словно приглашая войти. Но тут из темноты за спиной у Николая кто-то хрипло крикнул:
– Да брось ты их! Лучше иди ко мне! Чай, мы с тобой родня! Ты мой наследник!
Николай обернулся. За его спиной, нагло ухмыляясь, стоял какой-то парень, одетый как рабочий из тех книжек про революционеров, что он читал в детстве. Уже в следующий миг Гуркин с ужасом разглядел его лицо… вернее, череп с зияющими провалами пустых глазниц… И отшатнулся. Но мертвец уже схватил его за плечо и поволок за собой в темноту:
– Что, не признал родственничка? – хрипел он в лицо сомлевшему от ужаса Николаю. – А ведь мы с тобой оченно даже похожи. А, правнучек?
И тут сон прервался.
* * *
Гуркин проснулся в холодном поту и испуганно огляделся по сторонам. Вокруг не было ни души. Лишь на столе мерно отсчитывали время заведенные им вчера вечером старинные часы. А в окна уже заглядывало восходящее солнце. Начиналось утро нового дня.
Промаявшись около получаса в тщетных попытках снова заснуть, правнук героя решил продолжить поиски бабкиных сбережений. Впрочем, перед этим он совершил поход за водой, который увенчался успехом, несмотря на то что Николай с непривычки едва не утопил в колодце одно из ведер Евдокии Степановны. И, порывшись в кухонном шкафу, отыскал там чай, сахар и даже открытую банку растворимого кофе. Однако Гуркина вовсе не прельщала перспектива ограничить свой завтрак одной подслащенной водичкой. Поэтому он решил посетить местный сельмаг и купить там съестного. Вспомнив, что говорила вчерашняя гостья о местонахождении магазина, он вышел на улицу и отправился в указанном ею направлении, подгоняемый неприятным ощущением пустоты в желудке. Груду бревен, сваленных возле пепелища на месте сгоревшего дома, он нашел без труда. Теперь следовало повернуть направо. Сделав это, Гуркин оказался на другой, более широкой улице. И сразу заметил ярко-зеленый сельмаг с заморским названием «Грин». Но на дверях висел увесистый замок.
Увы, он пришел слишком рано: до открытия магазина оставался почти час. Немного поразмыслив, Николай, под яростный брех собак за заборами, пошел вдоль по улице. Он шел совершенно бесцельно, как говорится, куда глаза глядят и ноги несут.
И совершенно не представляя себе, куда именно он придет и что увидит.
* * *
Дойдя до конца улицы, Гуркин увидел перед собой деревянную церковь. Вернее, развалины оной. Почерневшие от времени бревенчатые стены с содранной обшивкой, зияющие просветы окон с ржавыми решетками, провалившуюся крышу, полуразрушенную башенку колокольни над входом… А вокруг – ряды крестов и памятников. Выходит, он, сам того не желая, пришел на местное кладбище! Что ж, в таком случае можно и посетить бабкину могилу. Как-никак родня…
По колено утопая в высокой траве, Николай зашагал к церкви. Он помнил, что Евдокия Степановна похоронена справа от входа в нее. Действительно, вскоре Гуркин уже стоял перед свежевыструганным деревянным крестом, на котором имелась табличка с надписью: «Гуркина Евдокия Степановна». Ниже стояли две даты, обозначавшие начало и конец земной жизни усопшей. К подножию креста была прислонена фотография в пластмассовой рамке. Николай взглянул на нее – и не поверил своим глазам. Ибо представлял свою двоюродную бабку глубокой старухой с лицом, покрытым морщинами, беззубой, подслеповатой, в старомодном затрапезе и с платком на голове. А с фотографии на него смотрела интеллигентная седовласая дама в строгом темном платье с кружевным воротником. И все-таки это была именно она, Евдокия Степановна Гуркина. Его двоюродная бабушка по отцу, которой он не видал никогда. И о которой не знал ровным счетом ничего…
Справа и слева от ее могилы высились два массивных черных гранитных памятника, увенчанных крестами. На одном из них значилось: «Гуркина Мария Яковлевна. 1903–1950 гг.» А на другом: «Священник Иаков Иванович Попов. 1875 – 21 мая 1920 г.».
Разумеется, Николай помнил, как странная женщина, докучавшая ему весь вчерашний вечер, упоминала, что Евдокию Степановну по ее просьбе похоронили рядом с дедом и матерью. Выходит, ее дедушка, иначе говоря его прапрадед, был священником? А героический Степан Гуркин был женат на поповне? Красноармеец и одновременно зять попа? Не может быть!
И вот еще что, почему на памятнике священнику так подробно указана дата его смерти? Мало того, если верить сей дате, отец Иаков Попов умер за день до гибели красной эскадры Вендельбаума и своего зятя… Случайное совпадение? Или между этими двумя смертями существует какая-то связь?..
* * *
Однако раздумья Гуркина на сей счет были прерваны неприятным посасыванием под ложечкой: пустой желудок правнука героя все настойчивей требовал пищи насущной… Вторичный поход в сельмаг увенчался успехом, и после плотного завтрака Николай возобновил поиски наследства Евдокии Степановны. Причем на сей раз начал с той комнаты, куда он вчера заглянул лишь мельком: с ее не то кабинета, не то спальни. Ибо не без оснований предполагал: если бабкины ценности не украдены, то они находятся именно там.
На сей раз первое, что он заметил, переступив порог обиталища Евдокии Степановны, была не висевшая в углу икона, а старинная фотография красивого темноволосого священника средних лет, сидевшего в резном деревянном кресле. Он был одет в рясу из какого-то поблескивающего на свету материала – не то шелка, не то атласа. И держал на руках кудрявую круглолицую девочку в белом платьице с пышными оборками, которая испуганно таращилась в объектив фотоаппарата, прижимая к себе куклу. Рядом, опершись рукой о спинку кресла, стояла высокая худощавая женщина в светлой кофте с пышными рукавами и черной юбке, судя по всему, его жена. Фотография эта была вставлена в темную деревянную рамку и висела над письменным столом Евдокии Степановны. Едва взглянув на нее, Гуркин узнал священника. Он уже видел его… сегодня ночью, в своем кошмарном сне. Что ж, в таком случае вполне объяснимо, почему так произошло. Войдя вчера вечером в комнату за постельным бельем, он мельком увидел эту фотографию. В итоге ему приснился изображенный на ней священник… Однако что за женщины стояли рядом с ним на пороге церкви? Гуркин не мог отделаться от мысли – их лица ему знакомы. Мало того, жена священника с фотографии была похожа на них. Но все-таки он видел во сне не ее… Тогда кого же? Хотя не все ли равно? В конце концов, он здесь не для того, чтобы пялиться на фотографии давно умерших людей, о которых он не знает ровным счетом ничего. Его цель – найти ценности Евдокии Степановны. Остальное не важно.
Гуркин присел возле стола и выдвинул один из ящиков. Там лежала объемистая папка с документами. Просмотрев их, Николай впервые узнал, что его двоюродная бабушка была учительницей. Всю жизнь она проработала в Ильинской сельской школе, причем долгое время являлась ее директрисой, одновременно преподавая литературу. Теперь было понятно, отчего она держала у себя столько книг… И почему на фотографии, виденной им на кладбище, у нее был такой интеллигентный вид. Но все-таки где же ее ценности?
Держа в руках папку, Николай бегло просматривал документы, надеясь отыскать среди них бабкину сберкнижку. Диплом, трудовая книжка, удостоверение заслуженного учителя Российской Федерации, свидетельство о смерти Гуркиной Марии Яковлевны… И вдруг увидел странную, по виду старинную, бумагу, на которой значилось: «Брачный обыск». Из нее явствовало, что 15 мая 1920 года в приходском Ильинском храме села Ильинского были обвенчаны Степан Васильевич Гуркин и Мария Иаковлевна Попова. Ниже стояла подпись некоего священника Анфима Сурова, совершившего таинство венчания.
Теперь Николай Гуркин окончательно убедился: его прадед Степан и впрямь был женат на поповне. Вот документ, который подтверждает это. Выходит, среди его предков есть не только герой Гражданской войны, но и священник по имени Яков Попов? И именно он изображен на старинной фотографии, хранившейся у Евдокии Степановны. Что до девочки, сидящей у него на коленях, то это его дочь Мария. Мать Евдокии Степановны и его деда по отцу Николая Гуркина. Стало быть, ему она приходится прабабушкой. Хотя фотограф запечатлел оную в столь нежном возрасте, что, живи она сейчас, Николай мог бы сойти за ее отца, если даже не за дедушку…
Однако в это время мысли правнука героя приняли другой оборот: сельский священник наверняка не был бедняком. Вон какая богатая на нем ряса! Наверняка она стоила немалых денег. А крест на груди… интересно, из чего он сделан? Из серебра или из золота? Да и жену с дочкой он тоже одевал неплохо… Так неужели у его внучки не сохранилось что-то из дедовских ценностей?
Словно в подтверждение этому в папке обнаружился небольшой пожелтевший от времени конверт, где лежали тонкое золотое колечко с красным камешком и крестик с протершимся от времени ушком. На обороте его была выгравирована дата: «1887». Ободренный первой находкой, Николай отложил папку с бумагами и с удвоенной энергией принялся перерывать содержимое бабкиного стола…
…В результате этих раскопок он обнаружил коробочку с лежащим внутри знаком заслуженного учителя, альбом с фотографиями, на обложке которого была прикреплена мельхиоровая табличка с выгравированным на ней поздравлением: «Уважаемой Евдокии Степановне в день юбилея от коллектива Ильинской школы», сломанную резную брошь из кости в виде птичьего пера и еще одну, палехскую, с девушкой в старинной русской одежде, державшей в руке диковинный, алый как пламя цветок. А в придачу – потрепанную записную книжку без обложки, исписанную крупным корявым почерком. Любопытства ради Николай открыл ее, пробежал глазами первую страницу… После чего улегся со своей находкой на диване в гостиной и погрузился в чтение. Как-никак, не каждому человеку случается найти дневник собственного прадедушки!
А ведь прадед Николая Гуркина, чей дневник он нашел в бабкином столе, был еще и героем, отдавшим жизнь за правое дело революции!
* * *
Как уже упоминалось выше, дневник Степана Гуркина представлял собой потрепанную, замызганную записную книжку. Вернее, обрывок оной. Ибо помимо обложки у нее отсутствовала и часть страниц. Кто и почему выдрал их, как говорится, с мясом и когда это было сделано – являлось теперь уже неразрешимой тайной. Поэтому Николаю пришлось начинать чтение откровений прадедушки-героя с первой сохранившейся страницы:
...
…Да, от такой жизни впору волком завыть. Эх, а как хорошо было в Михайловске! С каждой получки – то в кабак на Базарную площадь, то к Кларкиным девкам – не житье, разлюли-малина! Одно слово – город! Да, бывали дни веселые, бывали, да прошли… И дернула же меня нелегкая тогда пойти бастовать вместе со всеми! Говорили – испугается жмот Фогельсон, зарплату прибавит… А он вместо этого всех нас взял и выгнал взашей. Потом куда только не совался – как узнают, что меня с лесозавода уволили, так сразу расчет дают. Мол, нам забастовщики не нужны. Вот и приходится теперь торчать дома и с хлеба на квас перебиваться. А как иначе! Последний раз деньги в руках держал, когда меня староста нанял огород вскопать. Да и то – разве это деньги! Только и хватило, что один раз напиться… Как там в песне поется: «У сокола крылья связаны, и пути ему все заказаны». Эх, кабы сила!
Кажется, пароход из города пришел. Ишь как мальчишки под окном раскричались: «Пароход, пароход»! Эка невидаль! Наверное, это «Святогор» из Михайловска. Пойти, что ли, поглядеть, чего он там привез? Хотя не все ли равно что? Все равно денег нет!
7 мая. Вот так дела! Пахал Макар огороды, да попал в воеводы! Прихожу на пристань, а там уже народ толпится: пароход из города встречают. И староста, Алипий Григорьевич, тут, и кабатчик Евграф Кузьмич с двумя работниками – как-никак ему с каждым пароходом из города водку привозят. Бабы тоже – куда без них! И поп, отец Яков, тоже пришел вместе со своей дочкой Машкой. Эх, хороша девка! Мне б такую! Только отец Яков ее пуще глаза бережет… И, говорят, уже жениха ей в городе приискал, из семинаристов. Так что видит око, да зуб неймет…
А пароход все ближе и ближе подходит. Смотрю я – вроде «Святогор», а вроде как и другой какой-то. И флаг на нем черный, и название другое – «Термидор»[18], и спереди и сзади на нем пулеметы стоят, а возле них – вооруженные люди. Что за гости такие к нам пожаловали? Вот подвалил этот «Термидор» к причалу, сбросили они сходни, и спрыгнул на берег какой-то человечек невысокого роста, в фуражке и кожанке, с кобурой на поясе. Наверное, у них самый главный. Взмахнул рукой да как закричит во всю глотку:
– Товагищи! Мы пришли дать вам свободу!
А голос у него хоть и громкий, да тонкий и визгливый, прямо как у бабы. И слова выговаривает как-то странно, словно не по-русски. Народ молчит, пялится на него во все глаза. Только один хромой дед Аким решился голос подать:
– А ты, мил-человек, кто такой будешь? Мужик али баба?
Мы все так и обмерли. А этот, в кожанке, так глазами сверкнул, что не будь дед Аким подслеповат, он бы со страху окочурился. И закричал еще громче:
– Я – Дога Г-гадзецкая, комиссаг боевого отгяда имени товагища Магата! Мы явились освободить вас от эксплуататогов!
Это надо же, баба, а корчит из себя мужика! Хотя оно и понятно: кто такое страшилище замуж возьмет? Смерть, и та, наверное, краше будет… Вот эта Дора… дура… и борется, вернее, бесится. А что ей еще делать?
Тут дед Аким опять полез с расспросами:
– А кто такие эти экс… ис… плутаторы?
– Это тиганы и угнетатели! (Ну и горластая же баба эта Дора! Это надо же при таком росточке этакий голосище иметь!) Товагищи! Вливайтесь в наши гяды богцов за свободу! Отныне тот, кто был ничем, станет всем! Свегнем могучей гукою гнет вековой навсегда! Да здгавствует г-геволюция!
Вот оно что! Выходит, у нас теперь новая власть… И кто к ней примкнет, тот жить будет всласть… Что ж, это по мне. Пожалуй, вольюсь-ка я в их ряды…
Да только отец Яков меня опередил. Вышел вперед, повернулся к нам да как крикнет:
– Не слушайте, чада, этих смутьянов! Не доведут они вас до добра! Помяните мое слово – не доведут!
– Взять его! – огрызнулась Дора. Тут ее люди к попу подбежали да поволокли к сараю, что на берегу стоял. По народу ропот пошел…
Тут я баб растолкал, шагнул к ней и говорю:
– Возьмите меня к себе! Я тоже хочу бороться против тиранов!
А она мне в ответ:
– Именем геволюции назначаю тебя здешним комиссагом.
Ну что, разве я неправильно сделал, что влился в эти самые ихние ряды? Кто я раньше был? Степка-шалопай. А теперь я комиссар Степан Гуркин! Был ничем, а стал всем!
В тот же день мы всех здешних тиранов и ис… экс-плататоров под замок посадили. К попу для компании. Старосту, кабатчика, а в придачу – деда Акима. На всякий случай. Чтобы лишнего не спрашивал. И порешили потом судить их всех революционным судом. А я женился революционным браком на поповской дочке, Машке. Ну, ясное дело, силой взял… А что такого? Теперь я комиссар, чего хочу, то и делаю. Моя воля, моя власть!
9 мая. Эх, весело было веселье, да тяжело похмелье! Эта Дора со своими у нас в Ильинском весь день пробыла. И такую революцию они учинили, что хоть святых выноси. Кабак и лавку вчистую разграбили, да и в дома побогаче заглянули, а что понравилось, с собой прихватили. Поди не отдай – попадешь под замок, как тиран и эксплуататор, а то и пулю в лоб схлопочешь… Под конец же так перепились, что стали песни горланить про то, как «деспот пирует в роскошном дворце, тревогу вином заливая», да только того не ведает, что над ним уже вздымается рука роковая… На все село слышно было, а Дору-комиссаршу – слышнее всех! Ну, я им тоже как мог подпевал. Как говорится, к волкам попал – по-волчьи вой и с ними волчьи песни пой… А наутро «Термидор» вверх по реке ушел. Товарищ Дора сказала: идем освобождать жителей Михайловской губернии от тиранов и эксплуататоров. Я было поверил. Однако на другой день мимо нашего села английский военный корабль прошел. Экая силища! Только вот к чему бы господ инглишменов в наши края понесло? Да пока я на этот счет мозгами раскидывал, один из наших мужиков меня опередил:
– Братцы! Так он же за тем “Помидором” гонится! Ох и всыплют же они им – мало не покажется!
– Поделом ворам и мука! – поддакивают другие. – Ишь освободители выискались! Отец Яков-то прав оказался: нет от них ничего хорошего! Смута одна!
– Только кабы нам англичане потом не припомнили, что мы их тут у себя привечали… – робко проблеял кто-то. – Может, пока не поздно, выпустим батюшку и прочих? Авось они, если что случится, о нас перед англичанами словечко замолвят…
– Это дело! – соглашаются мужики. – Только мы еще умней сделаем: попа, лавочника и старосту выпустим, а вместо них этого комиссара голоштанного под замок посадим. А как нагрянут к нам на обратном пути англичане, им его и выдадим. Вот, мол, отдаем вам самого главного смутьяна, делайте с ним что хотите. Только нас не троньте.
…И вот теперь сижу я под замком, жду, когда они меня англичанам выдадут. Эх, пропала твоя головушка, Степка Гуркин! Зачем я только связался с теми смутьянами?
15 мая. Поутру к нам англичане нагрянули. Так наши их всем селом встречали. Кабатчик со старостой хлеб-соль ихнему самому главному поднесли. Поп с дьячком и певчими им навстречу с иконами да хоругвями вышел. Я это все в щелку видел из того сарая, куда они меня посадили. Потом вынесли они со своего корабля убитых – человек семь. Да, видать, досталось им от Доры на орехи… Англичанин что-то нашему попу через переводчика сказал и даже рукой помахал, как в храме кадилом машут. А тот головой кивнул и пошел к церкви. За ним убитых понесли. Похоже, отца Якова попросили их отпеть, а он и согласился. Значит, задержатся у нас англичане. Все! Конец мне пришел!
Я даже со страху Богу молиться стал… отродясь так не маливался… Господи, помоги! Только бы они меня не убили! Господи, помилуй!
Тут-то они за мной и явились и потащили к этому ихнему самому главному. Смотрю, стоит такой костлявый старик в английской форме. Глаза у него злющие-презлющие, губы поджаты, как у старой девки. Как увидел он меня, так аж побагровел от злости. А потом закричал:
– Ты есть ред[19] комиссар? Отвечайт, сволочь! Сейчас мы будем тебя расстреляйт!
Стою я перед ним ни жив ни мертв… Даже молиться со страху позабыл… Вдруг слышу голос отца Якова:
– Господин полковник, да какой он комиссар? Шалопай он, и все тут. Да еще и придурковат малость. Вот по молодости да глупости и связался со смутьянами. Сам, поди, не понимал, что делал. Вдобавок зять он мне. Правда, не такого мужа я своей дочери хотел, да коли уж Господь так судил, нужно его грех венцом покрыть. Собирался я в соседнее село за священником послать, а его до той поры велел в сарае запереть, чтоб не сбежал. Господин полковник, ради Бога простите вы его, дурака! А я уж за него ручаюсь…
Рядом с англичанином переводчик стоял и все это ему по-ихнему повторил. И как закончил, полковник ухмыльнулся и заговорил что-то в ответ. А переводчик отцу Якову его слова по-нашему пересказал:
– Ладно! Раз ты, священник, за него просишь да за него ручаешься, так и быть, на первый раз прощаю! Только чтобы впредь ему с красными якшаться неповадно было, после венчания всыпать ему хорошенько! За одного битого дурака двух небитых дают… кажется, так у вас говорят?
Англичане, кто с ним был, аж со смеху покатились. А дальше не помню, что было. Очнулся уже на дворе, когда меня водой окатили… А они стоят надо мной и хохочут…
20 мая. Вы думали, меня так просто убить? Только иногда мертвые воскресают, чтобы мстить живым! Вот и я, Степан Гуркин, тоже вернулся! Чтобы отомстить и за то венчание, и за ту порку перед всем селом! Нас много – целая эскадра! И у нас уже не пулеметы, а пушки! А ведет нас сам товарищ Вендельбаум!
…Я набрел на них после того, как бежал из Ильинского. Не помню, сколько я шел… кажется, несколько дней… то лесами, то берегом. Пока не увидел, как по Двине мне навстречу плывет «Термидор». За ним несколько буксиров тянут баржу с пушками. А вокруг них снуют какие-то люди. Я замахал руками и закричал… и полетел куда-то вниз, в темноту.
Сколько я без памяти лежал – не знаю. Только вдруг слышу чей-то голос:
– Похоже, это англичане его так отделали! Вот бедолага-то!
Открываю глаза, смотрю, надо мной стоят двое. Только совсем незнакомые. Вроде на «Термидоре» таких не было… Один молодой, рыжий, и лицо все веснушками усыпано. Похоже, из деревенских. Другой постарше, чернявый, горбоносый, в круглых очках. А глаза у него узкие и злые, как у того англичанина… нет, пожалуй, даже злее будут. Уставился он на меня и спрашивает:
– Ты кто такой? Как зовут?
– Комиссар села Ильинского, – отвечаю. – А звать меня Степан Гуркин.
Они переглянулись. Видимо, решили, что я вру или умом повредился.
– Комиссар, говоришь? – ехидно спрашивает чернявый. – И кто ж, позволь спросить, тебя комиссаром назначил? А?
– Товарищ Дора, – говорю. – Они у нас в селе революцию устроили…
– Ишь ты! – усмехнулся чернявый. – Успела-таки эта дура дел наделать, пока мы ее не шлепнули… Так уж не к ней ли ты шел, товарищ комиссар? А то, смотри, можем тебя к ней отправить… так сказать, в штаб генерала Духонина…[20] Не желаешь?
Вот оно что! Выходит, убегал я от волка, да нарвался на медведя. Только одно и остается…
– Нет, – отвечаю. – Я не к ней, а к вам шел. Хочу вместе с вами англичан бить. И всех, кого вы велите. Хоть отца, хоть мать родную – никого не пожалею!
Похоже, мои слова чернявому по нраву пришлись. И говорит он мне:
– Что ж, Степан Гуркин. Нам такие, как ты, нужны. Принимаю тебя в свой отряд. Отныне ты – красный боец революции, наш товарищ и собрат!
Ох, слава Богу, уцелел! А то уж боялся – убьет меня этот чернявый… Когда же он ушел, спрашиваю я рыжего парня:
– Кто это такой был? Ну тот, что со мной говорил?
А он отвечает:
– Это сам товарищ Ефим Вендельбаум, командир эскадры «Меч революции».
И вот уже второй день я вместе с ними плыву по Двине. Мы идем на Михайловск. Так приказал товарищ Вендельбаум. Завтра утром мы будем в Ильинском.
Хорошо вы тогда смеялись надо мной, дорогие землячки! Да только последний смех лучше первого. То-то я завтра посмеюсь, когда вы заплачете!
21 мая. Мы заняли Ильинское без боя: англичане уже ушли в Михайловск. Для острастки товарищ Вендельбаум велел дать по селу пару залпов: избу Семена-кузнеца в щепки разнесло… Когда же мы высадились на берег, то первым делом арестовали старосту, лавочника, а заодно деда Акима, чтобы лишнего не спрашивал. Да еще с десяток мужиков, тех, что тогда хотели меня англичанам выдать. Я не забыл никого… Потом их расстреляли перед всем селом как пособников интервентов. Один упал было, да вскочил и ну бежать! Второй раз выстрелили – вроде попали. Смотрим, а он зашевелился, стонет, ползти пытается… Ишь ты, сволочь, какой живучий! Тогда товарищ Вендельбаум не спеша подошел к нему и выстрелил в голову… Отбегался, вражина!
Что до отца Якова, то сперва мы его не нашли. Машка, дочь его, сказала, будто уехал он в соседнее село. Даже когда товарищ Вендельбаум ей наган ко лбу приставил, то же твердила, пока не упала замертво. Да мы ей все равно не поверили. Перерыли весь дом и на повети под сеном нашли-таки попа. Вернее, это я его нашел и наших позвал. От нас не спрячешься!
– Что ж ты, тестюшка, от нас хорониться вздумал? – спрашиваю я его. – А англичан с иконами встречал… Или они тебе дороже, чем родня?
А он мне в ответ:
– Был ты, Степка, дураком, дураком и остался! Видно, правду говорят: дурака лишь могила исправит… Прости тебя Господь!
Повели мы попа на допрос к товарищу Вендельбауму.
– Ты убитых интервентов с иконами встречал и их убитых отпевал? – спрашивает его комиссар.
– Да, – отвечает отец Яков. – Встречал я их с иконами ради того, что они наш край от вас, крамольников и смутьянов, защищают. А отпеть убитых англичан меня их полковник попросил. Потому что сделать это было некому…
– Тебя тоже никто не отпоет! – вскинулся товарищ Вендельбаум. – Эй! Отвести попа туда, где его дружков-интервентов закопали, и расстрелять! Что, поп? Поди, страшно умирать-то? Тогда откажись от своего Бога. Все равно Он тебя от смерти не спасет. Может, тогда я тебя в живых и оставлю…
– Нет, – только и вымолвил отец Яков. – Не откажусь.
Как услышал это комиссар, так аж побагровел от ярости.
– Уведите его! – закричал. И повели мы отца Якова на кладбище, туда, где возле церкви убитых англичан похоронили.
Наши его не сразу убили. Первый раз нарочно мимо стреляли. Думали, поп пощады просить станет или бежать попытается. Вот потеха-то будет, когда его на бегу пристрелят! Только он стоит, не шелохнется, сам бледный как смерть, лишь губы шевелятся. Похоже, молится. Второй раз выстрелили – опять мимо. А потом третий раз – наповал. Не спасли попа его молитвы!
После того мы в церковь вошли. Товарищ Вендельбаум сразу к Царским вратам направился, распахнул их пинком, вошел в алтарь и сбросил с престола все, что на нем было. А сам уселся на него и кричит:
– Эй, тащите сюда вино и поповские тряпки! Сейчас мы тут свою красную обедню устроим![21]
Бросились они в ризницу, вытащили облачения отца Якова. Товарищ Вендельбаум красную фелонь[22] на себя напялил, а остальное на пол побросал. Потом велел принести ему Чашу[23] и церковное вино. И первым сам выпил, а потом другим дал. А как все захмелели, принялись иконы со стен срывать да швырять их об пол – ни одной не оставили! Кто-то из Евангелия страницу вырвал, свернул цигарку и закурил… Рыжий парень ковшичек серебряный себе в карман сунул. Потом на себя поповскую скуфейку напялил и пустился вприсядку. Пляшет, а сам частушку горланит:
У попа была кадила,
семь пудов угля спалила!
Поп кадилой часто машет,
попадья вприсядку пляшет!
...
Вслед за ним и другие в пляс пошли. Только я стою ни жив ни мертв. Потому что кажется мне: на престоле вместо товарища Вендельбаума кто-то другой сидит, черный, страшный… с нами крестная сила! Поднял я руку, чтобы перекреститься… и тут он как закричит:
– Ты что там делаешь? А ну иди сюда!
Подхожу я, а он ухмыляется и мне Чашу протягивает:
– Пей! Да чтоб до дна!
Смотрю я, а в Чаше – кровь. Страшно мне стало. Отдернул я руку… А он мне кричит:
– А ну пей! Не то пристрелю!
Зажмурил я глаза и залпом осушил Чашу. Думал, не быть мне после этого живу… Ведь из этой Чаши отец Яков нас причащал… Только ничего не случилось. Гром не грянул, земля не разверзлась. Да и в Чаше не кровь оказалась, а вино. Сладкое вино, крепкое. А товарищ Вендельбаум зубы ощерил и снова мне в Чашу вина наливает. Теперь уже я сам за ней руку протянул. А потом пустился плясать вместе со всеми…
Эх, пить будем и гулять будем, а смерть придет, так помирать будем! Гуляй, братва, пока жива! Двух смертей не бывать, а одной не миновать!
23 мая. Здесь нам больше нечего делать. Село обезлюдело. Все, кого мы не успели расстрелять, не то куда-то попрятались, не то бежали в лес. Вчера, обыскивая дома, мы нашли только одну старуху. Она назвала нас убийцами и кричала, что скоро всех нас перебьют англичане. Мы заткнули ей рот пулей. Откаркалась, старая ворона!
Завтра утром мы уходим из Ильинского. Впереди – Михайловск. Что, господа англичане? Поди, не ждете гостей? Каковы-то вам наши гостинцы покажутся?
Здесь записи обрывались. Однако Николай Гуркин уже знал – на следующий день у места, впоследствии прозванного Гиблым, интервенты потопили «красную эскадру». Хотя теперь он был уверен: его прадед умер отнюдь не такой геройской смертью, как о том повествовалось в книжке про революционный Север… Как говорится, каково житье, такова и смерть…
Впрочем, какое ему дело до этого? Он приехал сюда за бабкиными ценностями. Так где же они? Или для покойной Евдокии Ивановны ценностью являлись не деньги, а старые фотографии предков и их дневники?
И тут Николаю вдруг вспомнился его вчерашний кошмарный сон, в котором он стоял на границе между светом и тьмой. По одну сторону ее был священник, расстрелянный богоборцами. По другую – один из его убийц. Два человека, чьим потомком и наследником он являлся. И оба они звали его к себе… Так с кем же он? С отцом Иаковом? Или со Степаном Гуркиным?
* * *
Раздумья Николая прервал осторожный стук в дверь. На сей раз он не стал изображать конспиратора и сразу же открыл дверь. Хотя сразу догадался, кто стоит на пороге… Возможно, явись она утром, Гуркин предпочел бы затаиться и выждать, когда незваная гостья уберется восвояси. Но сейчас он был почти рад ее приходу. Ибо хотел лишь одного – забыться. Пожалуй, он даже немного поговорит с ней. Эта особа наверняка большая любительница почесать языком. Ее болтовня развлечет его. Вернее, вернет к действительности. Мало ли кем были его предки? Сейчас другое время. И жизнь тоже изменилась. Ему одинаково чужды и этот до смешного добродетельный священник, спасший своего будущего убийцу, и мнимый герой, который на самом деле был трусом и подлецом. Так почему же он обязан выбирать между ними?
На сей раз женщина (Николай поймал себя на мысли о том, что до сих пор не удосужился узнать, как ее зовут!) держала в руках не миску, а эмалированную кастрюльку.
– Добрый день! А я вот вам рыбки принесла. Только поджарила. Свеженькой. Сегодня утром муж наловил.
Этого Гуркин ожидал меньше всего. А он-то думал, что эта женщина одинока! И увивается за ним в надежде заполучить его себе в мужья. Выходит, она замужем! Впрочем, разве это что-то меняет? Наверняка ее супруг – какой-нибудь местный безработный алкоголик, который напивается каждый раз, когда ему удается разжиться деньгами, а потом колотит ее и детей… А ей хочется совсем другого – ласки, любви, счастья. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Наверняка эта особа тоже ищет своего. Как все…
– Он только что с моря вернулся, – похоже, женщине доставляло радость рассказывать о своем муже. – Спасибо тете Дусе – это она мне его сосватала. Говорит: не смотри, Вера, что он не красавец. С лица не воду пить. Зато сердце у него доброе. И руки золотые. Так что будешь ты за ним красоваться, как за каменной стеной. Мудрая она была, тетя Дуся! Как же я ей благодарна за этот совет! Сколько уже лет вместе живем – и слова грубого он мне не сказал. И Дусеньку с Ваней так любит…
Правнук героя был настолько изумлен открытием, сделанным минуту назад, что не сразу понял: женщина говорит о его двоюродной бабушке. Странное дело, для него, ближайшего родственника покойной, она всегда была всего лишь Евдокией Степановной, сестрой-близнецом его покойного деда. Он никогда не ощущал своего родства с ней. Разве что после ее последнего письма, когда умирающая старуха объявила его своим наследником. А эта чужая женщина говорит о ней словно о родном человеке. Но почему?
– Так вы хорошо знали Евдокию Степановну? – спросил он, сознавая всю нелепость своего вопроса. Ведь его двоюродная бабушка вряд ли доверила бы ключи от своего дома постороннему человеку. Значит, эта Вера была ее близкой знакомой…
– А как же? – вопросом на вопрос ответила женщина, удивленно подняв на него глаза. – Да кто у нас ее тут не знал? Мы же все у нее учились – и я, и мои родители. А мне она еще и крестной матерью была.
– Она что, сильно в Бога верила? – полюбопытствовал Гуркин.
– Да. – Улыбающееся лицо Веры сразу стало серьезным. – Дедушка-то ведь у тети Дуси священником был. И во время Гражданской войны его красные расстреляли за то, что от Бога не отрекся. Оттого-то у них в семье все такие набожные – и тетя Дуся, и ее мать, Мария Яковлевна. Ну, которая дочерью священника была…
– А про отца своего она что-нибудь рассказывала? – настаивал правнук героя.
– Нет, – ответила Вера. – Знаю только, что его во время Гражданской войны интервенты убили. Вроде даже книжка о нем какая-то есть. Только тетя Дуся отчего-то не любила о нем вспоминать. Она всегда говорила: «О мертвых – либо хорошо, либо ничего». Только ее саму у нас вся деревня добрым словом поминает…
И тут Николай наконец-то решился задать вопрос, который уже второй день не давал ему покоя:
– А скажите, у вашей крестной были какие-нибудь ценности? Ну, деньги, например…
– Да разве деньги – это ценность? – переспросила Вера. – Помню, тетя Дуся говорила: деньгами души не выкупишь. Они у нее никогда не держались: попросит кто – даст и назад не потребует. Добрая она была, тетя Дуся. И меня, бывало, учила: помни, Вера, жизнь дана на добрые дела. Жить – Богу служить… Ой, да что же это я вас забалтываю? Рыбка-то остынет! Покушайте наших сижков… А мне домой пора.
Однако Николаю было не до сижков. Выходит, напрасно он искал бабкины деньги и драгоценности! Их просто-напросто нет. Евдокия Степановна жила совсем другими ценностями. И их не продать, не обратить в деньги… Их можно либо принять, либо отвергнуть. И только.
Окажись Евдокия Степановна жива, бурного объяснения было бы не миновать. Но она спала вечным сном на сельском кладбище, рядом с матерью и дедом-священником… Недолго думая, правнук героя выбежал на улицу и торопливо зашагал туда. Пусть покойница и не услышит его, сейчас он выскажет ей все, что он думает о ней и о ее ценностях. А завтра с утренним рейсом теплохода уедет в Михайловск, а затем – домой, в Москву. И больше никогда не вернется в эти края. Пропадай все пропадом!
…Когда он дошел до кладбища, солнце уже склонилось к закату. А возле полуразрушенной церкви на фоне пламенеющего неба виднелись три темных силуэта с перекладинами, так похожими на распростертые руки… И Николаю показалось, что это отец Иаков Попов со своими дочерью и внучкой встречают его, своего долгожданного потомка и наследника. Он замер, не решаясь шагнуть к ним. Как тогда, во сне…
– Ты мой наследник! Мы ведь с тобой оченно даже похожи… – вдруг вспомнились Гуркину слова его прадедушки-героя…
Николай содрогнулся. А потом что было сил побежал к крестам, озаренным светом заходящего солнца…
Часть вторая
Епископ Маркеллин[24]
…Преемником его стал Марцеллин – тот самый, которого настигло гонение.
Евсевий Кесарийский. Церковная история. Книга 7
Заседание Поместного церковного собора, проходившего в городе Синуессе[25], шло своим чередом. Впрочем, в отличие от предыдущего подобного собора, присутствовавшие на нем епископы и священники не устраивали бурных дискуссий из-за очередного вопроса, по которому они расходились во мнениях. Ибо на сей раз им было не до споров: совсем недавно в империи началось гонение на христиан. Разумеется, это было всего лишь очередное гонение – христиан преследовали и прежде, начиная со времен печально знаменитого Нерона[26]. Однако на сей раз оно было столь жестоким, как никогда прежде. Похоже, нынешний император Диоклетиан решил стяжать себе славу самого ярого преследователя тех, кто верует во Христа. Рассказывали, что в Риме лишь за минувший месяц было убито около семнадцати тысяч христиан, включая женщин и детей. А перед тем как казнить, их подвергали жесточайшим пыткам, одни рассказы о которых внушали ужас… Конечно, город Синуесса, где проходил собор, находился далеко от Рима, поэтому его участники могли чувствовать себя в безопасности. Точнее, в относительной безопасности. Потому что даже сюда могли в любой момент нагрянуть люди императора… Неудивительно, что общая беда заставила участников собора позабыть о былых разногласиях и вновь почувствовать себя братьями, членами одного и того же тела Христова, которое сейчас безжалостно терзали руки гонителей.
Неожиданно к председателю собора, престарелому епископу Лукиану, уважаемому всеми за мудрость и строгость жизни, подошел молодой иподиакон и что-то прошептал ему на ухо. Епископ, обычно спокойный и невозмутимый на вид, изменился в лице, словно услышанное оказалось для него полной неожиданностью. Впрочем, уже в следующий миг он совладал с собой и, обращаясь к участникам собора, произнес:
– Из Рима прибыл епископ Маркеллин. И просит разрешения войти.
Ответом ему было молчание. Ибо все знали, как повел себя во время гонений в Риме тамошний епископ (впрочем, он предпочитал титуловаться папой)[27] Маркеллин… Так и не дождавшись ответа от собратий, владыка Лукиан принял решение сам:
– Пусть войдет, – сказал он иподиакону.
* * *
…Когда Маркеллин вошел, участники собора не поверили своим глазам. Неужели это и впрямь он? Не может быть! Куда девались его величественная осанка, его гордая поступь, которые пристали епископу великого Рима, наследнику Божественного престола святого Петра?[28] Сейчас он выглядел не как владыка, а как униженный проситель. Убогое рубище, спутанные волосы, серые то ли от ранней седины, то ли от покрывавшего их пепла. Он был жалок… впрочем, разве именно так не должен выглядеть предатель? Точнее, вероотступник.
– Явился… – произнес сквозь зубы молодой, недавно рукоположенный священник из Синуессы отец Павлин, глядя на вошедшего с нескрываемым презрением. – Иуда…
Появление Маркеллина заставило участников собора забыть о том, ради чего они сошлись здесь, забыть и о ежеминутно грозящей им опасности быть арестованными. Ведь сейчас перед ними стоял их общий враг. Тот, кто некогда был их единоверцем и собратом. А теперь стал отступником, а по слухам, даже другом императора-гонителя. И потому они наперебой спешили излить на Маркеллина всю свою ненависть к нему:
– Трус!
– Предатель!
– Иудино отродье!
– Зачем ты пришел сюда? Убирайся к своим друзьям-язычникам!
– Замолчите! – властно крикнул епископ Лукиан, и все сразу же смолкли. Вслед за тем он обратился к стоявшему посреди собрания человеку в рубище. – Зачем ты пришел сюда, Маркеллин? Чтобы оправдаться?
– Нет, – глухо произнес тот. – Я пришел просить суда над собой. Выслушайте меня…
– Говори, – промолвил владыка Лукиан. – Мы слушаем тебя.
– Братие… – начал Маркеллин.
– Что?! – вскинулся священник Павлин. – Какой ты нам брат?!
– Молчи! – строго оборвал его епископ Лукиан. – Хотя он и пал, но все равно остается нашим братом. Продолжай, Маркеллин.
– …вы знаете о моей прежней жизни и о моих делах. – Маркеллин говорил с трудом, словно стыдясь вспоминать о том, за что еще совсем недавно его прославляли по всему Риму – да что там! – далеко за его пределами.
…Да, еще совсем недавно Римского епископа Маркеллина считали великим подвижником. Мало того, в народе благоговейным шепотом передавались рассказы о чудесах, совершенных по его молитвам. И после очередного такого чуда все громче становилась молва: Маркеллин – Божий человек, великий праведник, чудотворец, святой…
– Народ прославлял меня, а я… – голос Маркеллина дрогнул, – …я упивался этой славой. Я считал себя избранником Божиим, не таким, как прочие люди[29]. Увы, я пал намного раньше, чем отрекся от Христа… Но тогда я не понимал этого. И шел навстречу погибели, думая, что иду в уготованное мне по заслугам Царство Небесное.
– Что он несет? – вполголоса спросил священник Павлин у сидевшего рядом престарелого архипресвитера[30] Кириона. – Почему он говорит, что пал еще до своего отречения?
– Он говорит правду, – смиренно ответил старик. – Не он первый пал в пропасть гордыни и не он последний, кто еще ввергнется туда. Этого падения трудно избежать, потому что оно совершается незаметно. А еще труднее осознать его, ибо такой человек мнит себя величайшим из праведников. Не ведая, что стал богоотступником. Благо Маркеллину, что он осознал свое падение. Значит, он еще не до конца погиб. Помоги ему Господь…
Отец Павлин раздраженно отвернулся от старого священника. В самом деле, что за блажь – молиться за вероотступника! Вдобавок верить, будто для него еще остается надежда на спасение. Нет! Таким, как этот Маркеллин, одна дорога – в адскую бездну! Что до отца Кириона, то, видимо, не зря сказано: старый стареет – глупеет. Вот и он, как говорится, одурел годами. И почему только владыка Лукиан считает его мудрым человеком? Впрочем, они друг друга стоят…
Тем временем Маркеллин продолжал свой рассказ:
– Когда началось гонение, многие из моих духовных детей устрашились мук и смерти. Но не я. Ведь я хорошо помнил слова святого апостола Павла: «…нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас»[31], когда Господь увенчает нас небесными венцами во Царствии Своем. Я убеждал своих духовных чад не бояться мучений и радовался, слыша о том, как мужественно они страдают и умирают за Христа. Ведь в этом была моя заслуга. Кто, как не я, вдохновил и благословил их на мученический подвиг?! Оставалось лишь дождаться, когда наступит и мой черед исповедать Господа перед гонителями и умереть за Него. А потом я явлюсь к райским вратам во главе сонма своих духовных чад и скажу Ему: «Вот я и дети, которых дал мне Господь»[32]. Какая радость будет тогда на небесах! Какая великая слава тогда меня ожидает! Как я желал стяжать эту славу! Поэтому, когда люди императора явились, чтобы арестовать меня, я не устрашился, а обрадовался, что скоро получу от Господа давно заслуженный мною небесный венец.
Как же я обманулся!
Вместе со мной арестовали и Руфа, юношу из знатной семьи, который был еще не крещеным, а оглашенным[33]. Я наставлял его в истинах нашей веры. В тот день Руф пришел, чтобы вернуть мне книгу Марка Минуция Феликса «Октавий»[34], которую я дал ему прочесть. Но едва я принялся расспрашивать его, что он понял из прочитанного, как нагрянули преторианцы, пришедшие арестовать меня.
– Ты Маркеллин, епископ здешних христиан? – спросил меня их командир.
– Да, – сказал я.
– А ты кто такой? – обратился он к Руфу.
Он ответил:
– Я христианин. – Хотя, как я говорил, он был не крещеным, а только оглашенным.
Нас обоих повели… как я думал, на суд. Разумеется, я знал, что ждет меня дальше: допрос, пытки, казнь. Но не боялся страданий, прозревая за ними ожидавшую меня небесную славу. Однако окажется ли Руф столь же мужественным, как я? Что если он смалодушествует и на первом же допросе отречется от Христа? Какой позор ожидает тогда меня, его наставника!
И в этот самый миг Руф украдкой шепнул мне:
– Владыко, что они с нами сделают? Мне страшно, владыко. Помолись за меня…
– Стыдись! – гневно ответил я ему. – Разве так ведут себя христиане?! Где твоя вера?!
Он смолк. А я с горечью подумал о том, что воспитал недостойного ученика…
* * *
Я полагал, что нас ведут к судье. Но, как видно, мне, епископу Рима, решили оказать особую честь – на судейском месте восседал сам император Диоклетиан. Разумеется, я бесстрашно исповедал себя христианином, а на предложение императора принести жертву языческим богам лишь рассмеялся ему в лицо:
– Только такие безумцы, как вы, могут поклоняться мерзким бесам и бездушным идолам! А я почитаю Единого истинного, царствующего на небесах Бога, поклоняюсь Ему и не боюсь умереть за Него!
– Посмотри сюда, несчастный! – сказал император, указывая на разложенные перед ним орудия пыток. – Все это сейчас ожидает тебя… Может, ты все же одумаешься?
– Нет! – оборвал я его. – Рассеките мое тело на части, сожгите его огнем – я с радостью пойду к моему Господу!
– Что ж, – промолвил Диоклетиан. – Посмотрим. Я даю тебе время подумать, Маркеллин. А чтобы тебе лучше думалось… – он обратился к Руфу. – Скажи мне, юноша, ты тоже христианин?
– Да, – ответил тот.
– И его ученик?
– Да.
– В таком случае мы начнем с тебя, – усмехнулся император. – Поступим, так сказать, супротив поговорки: у старшего учится младший…[35] А ты смотри, что мы будем делать с твоим учеником. Потом то же самое ждет и тебя. Еще раз говорю тебе: подумай, Маркеллин…
Маркеллин смолк, словно был не в силах продолжать дальше. Немного погодя он сказал:
– Я это видел… не хотел видеть, но меня заставляли смотреть, как пытают Руфа. И тогда я стал молиться Господу, чтобы Он облегчил его муки и обратил ярость мучителей на их же головы. Я был уверен, что Бог услышит меня. Он должен услышать, Он должен спасти Своих верных рабов и устрашить гонителей, чтобы они поняли: Бог поругаем не бывает – и сами уверовали в Него. Он должен явить Свою славу и помочь нам. Почему же Он медлит сделать это? А Руфа все терзали, он кричал от боли, а я взывал к Богу о помощи… никогда прежде я не молился так, как тогда… Напрасно! Господь словно оставил меня. А я все взывал к Нему, и мой крик заглушал стоны Руфа… пока меня не объяла смертная тьма.
* * *
Когда я очнулся, то увидел стоявшего надо мной худощавого смуглого мужчину средних лет с проницательными черными глазами и любезной улыбкой на лице.
– Здравствуй, Маркеллин, – приветливо произнес он. – Вот мы с тобой и встретились снова…
– Кто ты? – спросил я. Ибо был уверен, что вижу его впервые. – Разве мы знакомы?
– Как сказать… – уклончиво ответил он. – По крайней мере, я знаю тебя очень давно… И я всегда уважал тебя, Маркеллин. Ведь ты не таков, как все прочие люди. Ты лучше их, ты выше, чем они. Где еще найдешь такой ум, такую ученость, такую добродетель, как у тебя? Право слово, жаль, что столь достойный человек попал в руки обманщиков и безумцев, именующих себя христианами и называющих Бога своим Небесным Отцом. Но какой отец не заступится за своих детей? Особенно, если они просят его о помощи. Однако разве так поступает Бог христиан?
Еще вчера я нашел бы, что возразить ему: из Писания, из творений святых мужей. Но я молчал. Ведь память о том, что я видел и пережил на судилище, была еще слишком свежа… В самом деле, почему Господь не услышал моих молитв? Почему не помог нам? Почему не совершил чудо? Разве любящий Отец может так поступить? Или…
Тем временем незнакомец продолжал:
– Одно из двух: либо Он жесток и равнодушен к тем, кто называет Его Отцом. Либо Его просто-напросто нет. В любом случае веровать в Него – безумие. Не так ли, Маркеллин?
Я молчал. Ибо чувствовал, что моя вера, прежде непоколебимая как скала, рушится, как дом, возведенный на песке. Действительно, если Благой и любящий Бог допускает, чтобы мы, Его рабы и чада, страдали, то можно ли назвать Его Благим? Можно ли после этого любить Его? Можно ли в Него верить? Мы с Руфом готовы были умереть за Него – что Он сделал, чтобы избавить нас от мук?..
В этот миг я вспомнил, как терзали Руфа. Вспомнил и слова императора: то же самое ждет и тебя. И мне стало страшно. Где мне взять сил, чтобы вынести эти муки? Бог не помог Руфу… не поможет Он и мне. А я… что я без Него? Всего лишь слабый человек, который боится страданий, боится смерти. Но ведь именно это ждет меня… и неоткуда ждать спасения!
– Но все еще можно исправить… – донесся до меня вкрадчивый голос участливого незнакомца.
– Как? – вырвалось у меня. В ответ он ласково улыбнулся:
– Откажись от своего безумия, Маркеллин. Повинную голову, как говорится, и меч не сечет. Принеси жертву богам. Тогда ты убедишься, что наш император милостив к тем, кто раскаивается в своих ошибках. Ну как, ты согласен это сделать?
Голос Маркеллина задрожал, казалось, еще миг – и он разрыдается.
– И я… я согласился…
* * *
– …Да, я согласился принести жертву Весте и Изиде[36]. Разумеется, люди императора позаботились о том, чтобы по такому случаю собрать у храма Весты как можно больше народа. Ведь отречение от веры даже простого христианина – редкое зрелище. И уж тем более – если это делает епископ столицы великой империи… Меня сопровождала целая процессия жрецов, жриц и воинов, а слева от меня шел мой участливый наставник (я так и не удосужился узнать его имя, впрочем, и он, похоже, не горел желанием его называть). По сторонам, справа и слева от дороги, толпился народ. Я чувствовал на себе их взгляды: любопытные, насмешливые, ненавидящие… да, я знал, что в толпе наверняка есть и христиане, пришедшие посмотреть на мой позор. И потому боялся поднять глаза, чтобы ненароком не встретиться с ними взглядом.
Но моя предосторожность была напрасна. Когда я уже подходил к храму, кто-то крикнул из толпы:
– Иуда!
Его поддержали другие голоса:
– Трус! Предатель! Отступник!
Что-то больно ударило меня в спину. Кажется, это был камень. Второй камень угодил мне в плечо. Несколько воинов, из тех, что сопровождали меня к храму, бросились в толпу, послышались чьи-то крики… А я покорно шел туда, куда меня вели, – в храм Весты. Тем временем мой наставник вкрадчиво шептал мне на ухо:
– Видишь, как твои бывшие единоверцы-христиане ярятся от того, что ты познал истину и порвал с ними! Какая злоба, какой фанатизм! И это люди, утверждающие, будто их Бог есть любовь! Безумцы, недостойные жизни и свободы! Разве я не прав, Маркеллин?
…Меня подвели к жертвеннику, дали в руку горсть фимиама и объяснили, что я должен делать. Я выполнил все, что мне велели, и принес жертву.
Собственно, это было условием моего прощения и освобождения. И я рассчитывал, что теперь меня просто отпустят на все четыре стороны. Однако вместо этого я снова был приведен к императору.
– Я рад, что ты образумился, Маркеллин, – промолвил Диоклетиан, милостиво взирая на меня с высоты своего трона. – И потому я не только прощаю тебя, но и хочу сделать тебе подарок.
По знаку императора его слуги подошли к мне и облачили в драгоценную одежду, достойную вельможи.
– Это мой дружеский дар тебе, Маркеллин, – сказал император. – Ибо отныне мы с тобой друзья.
– Великая милость, великая честь, – прошептал знакомый вкрадчивый голос за моей спиной. – Император нарек тебя своим другом, Маркеллин. Теперь ты убедился, насколько он милостив!
Император милостив… Милостив… и тут я вспомнил о своем ученике Руфе. Жив ли он? Если да, то я должен попытаться спасти его. Ведь это я научил его тому, во что верил сам, – христианской вере. И потому во всем, что с ним случилось, – моя вина. Я погубил Руфа. Но я же теперь и спасу его. Ведь император, похоже, и впрямь милостив. Вдобавок он только что нарек меня своим другом. Так неужели он откажет своему другу в просьбе? Неужели не помилует его злосчастного ученика?
– Благодарю тебя, государь, – сказал я. – Быть твоим другом – великая честь для меня. Позволь же мне попросить тебя о милости.
– О чем ты, Маркеллин? – в голосе императора звучало недовольство. – Чего ты хочешь?
– Милости, – ответил я. – К моему ученику Руфу. Пощади его, государь…
– Нет, – нахмурился Диоклетиан. – Он будет казнен. Я не намерен миловать христианина.
– Но он еще совсем ребенок! – настаивал я. – Неразумное дитя, которое мало чем отличается от безумного[37]. Вдобавок Руф еще не крещен. Какой же он тогда христианин? Он только назвался таковым. И виноват в этом я. Ведь это я склонял его к тому, чтобы он стал христианином. Обманываясь сам, я обманул и его. Его вина лишь в том, что он поверил моему обману. Государь, позволь мне поговорить с Руфом. Вот увидишь, я смогу переубедить его!
– Что ж, – снисходительно произнес император. – Попробуй… если сможешь.
* * *
– …Поначалу он не узнал меня.
– Кто это? – спросил он, вглядываясь в мое лицо. – Кто ты?[38]
Сперва я решил, что ему не хватает света, чтобы разглядеть меня. Но ведь я видел его достаточно хорошо. Несчастный Руф! Что они с ним сделали!
И в этом моя вина! Но теперь я искуплю ее. Я спасу своего ученика!
– Неужели ты не узнаешь меня? – спросил я Руфа. – Это же я, Маркеллин…
Он вгляделся – и на его бескровном, изможденном лице появилась тень улыбки:
– Владыко… Ты пришел…
– Послушай, Руф, – сказал я. – Я пришел, чтобы спасти тебя. Пообещай выполнить все, что я тебе скажу. Ведь ты – мой ученик. Ты должен меня слушаться. Пообещай мне…
– Что я должен сделать? – спросил он.
– Пообещай мне, что больше не станешь называть себя христианином. И что ты принесешь жертву богам.
Он отшатнулся от меня, как от ядовитой змеи:
– Что? И это говоришь мне ты? Ты, который убеждал меня, что на свете нет ничего выше звания христианина!
– Это была ошибка, – я старался говорить как можно ласковей и убедительней. – Видишь ли, Руф, людям свойственно ошибаться. Я тоже ошибался и невольно обманывал других… и тебя. Но теперь я понял это. И хочу исправить свою ошибку, хочу помочь тебе. Пойми, Руф…
Я повторял ему слова того сладкоречивого наставника, который переубедил меня. Он должен меня понять, он должен мне поверить, он не должен умирать так рано… Но он вдруг оборвал меня на полуслове:
– Ты лжешь. Господь всегда слышит нас. И никогда нас не оставляет.
И это говорил он, он, на чьем теле, как говорится, не осталось живого места после пыток! Впрочем, возможно, Руф просто-напросто бредил. Я попытался коснуться его лба, чтобы убедиться в этом, но он оттолкнул мою руку.
– Не думай, что я брежу. Я говорю то, что знаю. Раньше я читал и слышал о том, что Бог помогает тем, кто верит в Него. А здесь я убедился – это правда. Если бы не Он… впрочем, тебе этого не понять. Ведь ты от Него отрекся. Несчастный!
– Руф, Руф, послушай меня! – умолял я его.
– Нет. Нам больше не о чем разговаривать. Уходи.
…Некогда Господь наш сказал: «Ученик не выше учителя»[39]. Но мой ученик оказался выше меня настолько, насколько небо отстоит от адских бездн!
* * *
Небо за окнами здания, где проходил собор, давно уже окрасилось в кроваво-красный цвет заката. Но епископы и священники, сидевшие внутри, забыв о том, сколько времени они находятся здесь, молча слушали рассказ Маркеллина. И многие из них думали о том, что бы было бы, окажись они на его месте… Лишь священник Павлин оставался непреклонен в своей ненависти к нему. А тем временем Маркеллин продолжал свою горестную повесть:
– Спустя несколько дней после казни Руфа я услышал на улице обрывок разговора трех простолюдинов, собравшихся посудачить возле одной из лавчонок:
– …А тот мальчишка держался молодцом! Прямо второй Сцевола![40]
– С чего это ты, Крискент, вдруг вздумал хвалить христиан? – ехидно пропел голосок другого собеседника. – Чего ты нашел в них хорошего?
– Да где ты видал таких смелых людей, как они! – ответил тот, кого он назвал Крискентом. – Вон как они за своего Бога на смерть идут. И не боятся!
– Да уж, не боятся! – съязвил третий участник разговора. – Между прочим, я недавно видел, как их самый главный приносил жертву в храме Весты. Что ты на это скажешь, приятель? А?
– А то и скажу, что в семье не без урода, – невозмутимо произнес Крискент. – Видать, этот их самый главный… худо верил. Оттого и струсил. А мальчишка – молодец! Пусть мне теперь кто скажет, что христиане – трусы. Ни за что не поверю!
Они ушли, а я все стоял посреди улицы, словно пораженный небесным громом. Не только потому, что узнал, как принял смерть мой ученик, но и оттого, что из уст этого простолюдина я услышал горькую правду, в которой боялся себе признаться. Он прав: я и впрямь струсил, испугался пыток и казни. Потому что «худо верил». И виной этому была моя гордыня. Я считал себя избранником, имеющим право смотреть на людей свысока… и низвергся в бездну, как падший денница. Осудите же меня!
* * *
На Синуессу уже спустилась темная, безлунная ночь, когда епископ Лукиан поднялся со своего места, чтобы объявить Маркеллину решение собора:
– Ты пришел просить суда над собой. Осуди же себя сам своими устами. Из твоих уст вышел грех – пусть ими же будет произнесено и осуждение.
– Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. – Сейчас голос Маркеллина звучал резко и властно, как прежде. – И пусть после моей смерти тело мое не погребут, а бросят на съедение псам. Если же кто осмелится похоронить его – да будет проклят!
– Ты сказал, – отозвался владыка Лукиан. – Таков твой суд, Маркеллин. Но мы знаем, что и святой Петр некогда из страха отвергся Христа, однако, горько оплакав грех свой, получил благоволение у своего Господа. Помни об этом, Маркеллин.
* * *
В ту же ночь Маркеллин покинул Синуессу. Как ни странно, после его отъезда священник Павлин не находил себе места. Его обуревал праведный гнев. В самом деле, почему епископ Лукиан и другие участники собора не осудили Маркеллина с подобающей строгостью? Почему им вздумалось напоминать ему о том, что Господь милостив к кающимся? Будь Павлин на их месте, он ни за что бы так не сделал! Он бы даже не стал выслушивать вероотступника, а с проклятием вышвырнул бы его из собрания верных. Тогда почему же его старшие собратья во Христе поступили иначе?
Похоже, епископ Лукиан заметил, что отца Павлина что-то заботит:
– Что с тобой, сын мой? – поинтересовался он у священника. – С недавних пор ты стал сам не свой. Что случилось?
– Что может случиться, – буркнул отец Павлин, – если теперь мы привечаем вероотступников и называем их братьями! Пожалуй, скоро мы будем называть Иуду Искариота апостолом. Какой пример мы этим подаем нашей пастве?
– Ты говоришь о Маркеллине? – спросил епископ Лукиан. – Но не слишком ли ты торопишься осудить его? Да, он пал, и пал глубоко. Однако Господь волен восставить его. Не веришь? Тогда я скажу тебе: он отправился в Рим, чтобы там перед императором исповедать Христа и тем самым искупить свое былое отречение от Него. Что ты скажешь на это, Павлин?
– Не может быть! – воскликнул священник. – Он же трус и предатель! Я не верю, что он способен на это!
– Ты не веришь, что такое возможно, – печально вздохнул престарелый епископ. – Но невозможное людям возможно Богу. Поезжай в Рим, сын мой. Я благословляю тебя съездить туда. Может, тогда ты поверишь, что в нашей немощи совершается сила Господня.
На другое утро молодой священник отправился в Рим, втайне ропща на епископа, которому взбрела в голову блажь отправить его за тридевять земель лишь для того, чтобы в конце концов подтвердилась правота… отца Павлина. Он утешался лишь мыслью о том, что, оказавшись в Риме, получит возможность стяжать земную и небесную славу. Сейчас там арестовывают и казнят христиан. Что ж, в таком случае он принародно исповедует себя одним из них. И умрет мучеником… не то что этот трус Маркеллин. Умрет, но докажет свою правоту!
* * *
Спустя полтора месяца после своего отъезда в Рим отец Павлин вернулся в Синуессу. Явившись к епископу Лукиану, он упал ему в ноги и сказал:
– Владыко, я тяжко согрешил. Мне нет оправдания. Я пришел просить суда над собой.
– Встань, сын мой. – Епископ старческой рукой ласково коснулся головы молодого священника. – И не отчаивайся: ведь Господь наш милостив… Он милостивее нас. В чем ты согрешил?
– Я осудил человека, – чуть не плача, произнес отец Павлин. – Маркеллин… я презирал и осуждал его. А он умер мучеником.
– Слава Господу! – эхом отозвался владыка Лукиан. – А теперь поведай мне, как он умер. Тебе кто-то рассказал об этом?
– Я был свидетелем его казни, – не поднимая глаз, ответил отец Павлин. – Вместе с пресвитером Маркеллом… теперь он епископ в Риме[41]. Он рассказал мне, что после своего отречения Маркеллин куда-то уехал из Рима. Многие думали, что он бежал в чужие края, чтобы скрыть свой позор. Однако вскоре он вернулся. После чего пошел к императору и, бросив перед ним ту одежду, которую получил от него в подарок, осудил языческих богов и сказал, что проклинает свое былое малодушие и готов кровью смыть свое отречение от Христа. Отец Маркелл говорил, будто император пришел в неописуемую ярость, велел жестоко пытать его, а затем обезглавить. Вместе с ним на казнь вели еще троих христиан: Клавдия, Кирина и Антонина. Все они держались мужественно, особенно Маркеллин. Подозвав к себе отца Маркелла, он уговаривал его не бояться страданий и пребывать твердым в вере. А еще велел, чтобы тот не погребал его тела, а оставил его на съедение псам:
– Я недостоин человеческого погребения, – сказал он. – Недостоин того, чтобы меня взяла земля. Ведь я отрекся от Господа, Творца неба и земли!
Он умер с молитвой на устах. Вслед за ним казнили остальных трех приговоренных. Тела их бросили при дороге. Впрочем, через несколько дней, ночью, мы тайно забрали честные останки Клавдия, Кирина и Антонина и погребли их. Но мы не посмели сделать то же самое с телом Маркеллина. Ведь он сам под страшной клятвой запретил хоронить его… Тем временем прошло почти сорок дней после казни Маркеллина. Я решил, что пора возвращаться домой, и поутру отправился к епископу Маркеллу, чтобы проститься с ним и получить его благословение. Однако он сказал мне:
– Брат, задержись еще на день. Нынешней ночью мы предадим погребению честные мощи епископа Маркеллина.
– Но он же запретил это делать! – удивился я. – Разве мы вправе нарушить его волю?
– Да, вправе, – ответил владыка Маркелл. – Чтобы исполнить волю Божию о нем. Сегодня ночью мне явился святой апостол Петр и сказал:
– Почему ты до сих пор не предал погребению тело Маркеллина?
– Я страшусь его клятвы, – ответил я. – Ведь он запретил хоронить свое тело, пригрозив проклятием тому, кто его ослушается.
– Разве ты забыл слова Спасителя, – произнес апостол, – «унижающий себя возвысится»[42]. Так пойди же и с честью похорони его тело.
Той же ночью мы погребли епископа Маркеллина в катакомбах Прискиллы, что при саларийской дороге. Благо ему! Ведь Господь дал ему силы покаяться и умереть мучеником. А я…
Отец Павлин разрыдался.
– А я осуждал его! Мало того, я осуждал и тебя, владыко, и всех вас. Я не мог понять, почему вы говорили Маркеллину о надежде и о Божием милосердии к кающимся. Мне казалось, что такие, как он, достойны лишь ненависти и презрения. Зато я покажу всему Риму и миру, как умирают за веру истинные христиане, такие, как я! Да, владыко, я собирался принародно исповедать себя христианином и стяжать от Господа неувядаемый венец славы. Но когда увидел Маркеллина и тех троих, истерзанных пытками, ведомых на казнь, я… я не сделал этого, потому что… испугался. Я струсил, владыко! Разве после этого я могу зваться христианином? Осудите же меня!
– Успокойся, успокойся, сын мой, – склонился над плачущим священником владыка Лукиан. – Что поделать, всем нам тяжело учиться быть христианами. И научиться смирению тоже часто бывает слишком тяжело… Но не отчаивайся. Помни о том, что нет греха, побеждающего человеколюбие Божие. Ты познал свою немощь и каешься – так не теряй же надежды на милость Господню. И пусть об этом тебе напоминает судьба епископа Маркеллина, показавшего нам пример истинного покаяния.
Сестра моя Пелагия[43]
Свершившееся в наши дни чудо я, грешный диакон Иоанн, решил поведать вам, братья мои духовные. Чтобы, услышав о нем, вы обрели пользу для души и прославили Господа, не хотящего смерти грешников, но призывающего их к покаянию и спасению. Я сам был очевидцем и свидетелем этого чуда. И сейчас вспоминать о нем мне радостно… и больно. Почему – поймете потом.
В ту пору я был молод. И служил диаконом при покойном Илиопольском[44] епископе Нонне. Вы слыхали о нем? Еще бы вы о нем не слыхали! Ведь это он много лет подвизался в Тавенниской обители[45], пока за свою подвижническую жизнь не удостоился епископской хиротонии. Это он обратил ко Христу всех жителей Илиополя… да что там!.. даже тридцать тысяч сарацин во главе с их князем! Кто не слышал о великих и славных деяниях святителя Нонна!
Что до меня, то я находился при нем почти с тех самых пор, как помнил себя. Я был не только его учеником и духовным сыном – можно сказать, епископ приходился мне приемным отцом. Покойный отец Парамон из Тавенниси рассказывал мне, будто однажды владыка Нонн, в ту пору еще простой монах, ездил по делам обители в Антиохию. И привез оттуда маленького мальчика-раба. Это был я.
Старик говорил правду. Ведь среди полузабытых воспоминаний моего раннего детства – невольничий рынок и голубоглазая девочка с золотистыми волосами – моя сестра, с которой меня разлучили на том самом торжище. Как я хотел найти ее! Впрочем, об этом после… Пока же начну с того, как на третьем году епископства владыки Нонна его вызвал к себе по каким-то церковным делам Антиохийский патриарх Максим. А вместе с ним – еще семерых епископов.
Нас поселили при церкви святого мученика Юлиана. И вот как-то раз мы все вместе собрались в ее притворе.
– Владыко! Скажи нам что-нибудь на пользу душевную, – попросили епископы владыку Нонна. Потому что он был известен не только своими подвижническими трудами, но и своей мудростью. Но едва владыка заговорил, как на улице послышался шум:
– Маргарита! Прекрасная Маргарита! Слава прекрасной Маргарите![46]
Церковные двери были распахнуты. И потому мы могли во всех подробностях увидеть шедшую мимо нас процессию. Пестро разряженные девицы и юноши били в барабаны, потрясали звенящими систрами, извивались в пляске, от которой у меня закружилась голова. А посреди всех этих плясунов и плясуний на белом иноходце гордо восседала белокурая красавица, наряд которой, казалось, состоял из одних украшений. Золото и драгоценные камни на голове, на шее, на руках, даже на обнаженных ногах… Нетрудно было догадаться, кем была эта «прекрасная Маргарита»…
– Вот это красавица! – донесся до меня шепот одной из женщин, стоявших на церковном пороге. – А богачка-то какая! Вот же людям счастье… не то что нам, убогим.
– Нашла, кому завидовать! – проворчала другая. – Это же танцорка… блудница![47] Ишь вырядилась, бесстыжая! Смотреть тошно. Таким, как она, одна дорога – в ад! Ужо она там попляшет, потаскуха!
Я был согласен с ней. Однако отчего-то не мог отвести глаз от развеселой процессии. Точнее, от лица той, которую звали Маргаритой. Почему эти голубые глаза, эти волны белокурых волос кажутся мне такими знакомыми? Нет, не может быть! Это всего лишь искушение – я никогда не видел эту женщину и видеть не хочу! Вдобавок что скажет владыка Нонн, если заметит, что я, его ученик, как последний уличный зевака, пялюсь на разряженную блудницу?
Но, к моему изумлению, он и сам, не отрываясь, смотрел на Маргариту. Что такое? Неужели чары этой распутницы так сильны, что перед ними не устоял даже такой праведник, как владыка Нонн? Похоже, Маргарита ощутила на себе взгляд епископа… отвернулась и спешно проехала мимо. Лишь тогда владыка Нонн обернулся к своим собеседникам, которые, в отличие от него, мудро отвратили очи от греховного зрелища. Глаза его были полны слез.
– Вас не услаждает ее красота? – спросил он епископов.
Те изумленно уставились на владыку Нонна. В самом деле, отчего старому монаху, почтенному епископу, вдруг вздумалось заговорить о… о чем ему не должно было бы говорить? Или они ослышались?
– Вас и впрямь не услаждает ее красота? – повторил владыка Нонн. – А я весьма сильно услажден ею. И скажу вам: в судный день Бог поставит эту женщину судить всех нас. Как вы думаете, возлюбленные, сколько времени она провела, украшая свое тело? Сколько стараний приложила, чтобы понравиться тем, кто сегодня жив, а завтра умрет? Так ли мы стараемся очистить и омыть наши души, чтобы представить их Господу?
Епископы молчали. А я испугался. Конечно, владыка Нонн известен как мудрый и рассудительный человек. Но не каждый может правильно понять его мудрые речи. Зато их так легко истолковать превратно… Мой долг позаботиться о том, чтобы этого не случилось. Лучше всего поскорее увести владыку прочь, пока он не сказал еще чего-нибудь… соблазнительного:
– Прости, владыко, но нам пора идти, – промолвил я. Разумеется, это было ложью… но ложью во спасение. – Ты собирался срочно написать послание в Илиополь. И просил меня напомнить тебе об этом.
Он позволил мне увести себя из храма. И не проронил ни слова, пока мы не вошли в отведенные для нас покои в церковной пристройке. Лишь когда мы остались вдвоем, владыка Нонн упал на колени перед иконой Спасителя:
– Боже, смилуйся надо мною, грешным и недостойным! – взмолился он. – Что я перед этой женщиной? Ее заботы об украшении тела победили мои заботы об украшении души. Ты сподобил меня великой чести предстоять перед алтарем Твоим, а я не приношу Тебе в дар той душевной красоты, которой Ты от меня ищешь. Эта женщина честней меня. Она выполняет то, что обещала людям: украшает себя ради того, чтобы угодить им. А я? Я обещался служить Тебе, но по лености моей нарушил обет! Чем я оправдаюсь перед Тобой! На что могу надеяться? Только на Твое милосердие, Господи!
– Не сокрушайся так, владыко. – сказал я. – Эта блудница недостойна твоих слез. Провались она пропадом!
– Нет… – промолвил владыка Нонн. – Как ты можешь так говорить, Иоанн? Ведь она наша сестра. Хоть и заблудшая, но сестра. Так неужели она должна погибнуть? Господи, не погуби создание рук Твоих, но обрати ее к Себе, да славится в ней имя Твое святое, ибо для Тебя все возможно!
Поистине, хотя я уже второй десяток лет знаю владыку Нонна, иногда я все же не понимаю его. В самом деле, что ему до этой блудницы? Неужели ему невдомек, что для таких, как она, нет спасения? Или… Нет, этого не может быть! Что если мой владыка соблазнился красотой этой служительницы диавола?! И если это и впрямь так – будь она проклята!
* * *
На другое утро, в воскресенье, я спозаранку явился к владыке Нонну, чтобы вместе с ним вычитать утреннее правило. И по лицу епископа заметил: он чем-то взволнован. Впрочем, я не стал любопытствовать. Молитва – прежде всего. Вдобавок я слишком хорошо знал своего владыку. Если он сочтет нужным, то вскоре сам расскажет мне обо всем.
Так и случилось. Когда мы закончили молиться, владыка Нонн некоторое время молчал, словно о чем-то размышляя. А потом обратился ко мне:
– Ты веришь снам, брат Иаков? И правильно делаешь, что не веришь. Я и сам им не верю: верящий снам подобен бегущему за тенью. И все-таки, похоже, этот сон что-то предвещает…
– А что ты видел, владыко? – спросил я. Потому что был уверен: мой наставник ни за что не придал бы такого значения пустому сновидению. Но что же он все-таки видел?
– Мне снилось, что я стою у престола и служу литургию, – задумчиво промолвил владыка Нонн. – А возле меня вьется птица… голубка, смрадная и грязная до черноты. Она летала вокруг меня до тех пор, пока диакон не возгласил: «Оглашеннии, изыдите»[48]. Тогда она исчезла. Но когда я закончил службу и выходил из церкви, то вновь увидел у себя над головой эту птицу. Я схватил ее и бросил в купель. И вдруг она преобразилась: стала белой и сверкающей как снег и стремительно понеслась вверх, в небо, пока не исчезла в нем. Вот я и думаю – к чему бы мне это приснилось? Одно знаю: к чему бы ни был этот сон, Господь совершит угодное Ему и спасительное для нас.
Он смолк. Молчал и я, потому что не знал, что ему ответить. Странный сон. Похоже, он и впрямь что-то предвещает. Вот только что именно?
* * *
Впрочем, у нас не было времени на размышления. Ведь этим утром владыке Нонну вместе с остальными приезжими епископами предстояло сослужить самому патриарху в кафедральном соборе Антиохии. И нам следовало поторопиться, чтобы не опоздать к началу воскресной литургии.
Когда мы вошли в собор, патриарх Максим и остальные епископы уже находились в алтаре. Они по-братски приветствовали нас. Правда, как я заметил, кое-кто из епископов поглядывал на владыку Нонна искоса. Неужели виной тому вчерашнее происшествие? Впрочем, скоро оно забудется… если, конечно, не случится какое-нибудь новое искушение…
После того, как было прочитано Евангелие, патриарх обратился к владыке Нонну:
– Владыко, благословляю тебя сказать проповедь. Ведь ты всегда говоришь так мудро!
Почтительно поклонившись патриарху, владыка Нонн вышел на амвон и заговорил. Его речь была проста и безыскусна. И все-таки, слушая его, многие из стоявших в церкви украдкой вытирали слезы. А иные плакали навзрыд. Потому что он говорил о Божием суде, на котором предстоит держать ответ каждому из нас. И кто сможет предстать на этот суд со спокойной совестью, уверенный, что выполнил все заповеди Господни? Увы, один Бог без греха. Но у тех, кто кается в своих прегрешениях и стремится жить по заповедям Христовым, есть надежда на милость Небесного Судии. Ибо нет греха, который бы пересилил человеколюбие Господа, пришедшего в мир спасти не праведников, а грешников… таких, как мы.
Тем временем я разглядывал народ, собравшийся в церкви. И там, у самых дверей, где обычно стоят лишь нищие да кающиеся, заметил стройную женскую фигуру, с головы до ног закутанную в расшитое покрывало. Лица женщины не было видно: маленькая ручка, унизанная блестящими браслетами, старательно прикрывала его полой накидки. Я разглядел лишь глаза, голубые глаза, которые, не отрываясь, смотрели на владыку Нонна.
Кто эта женщина? И почему мне кажется – я ее знаю?
* * *
Когда служба закончилась, к нам подошел пожилой богато одетый мужчина.
– Благодарю тебя, владыко! – с низким поклоном промолвил он. – Как же ты хорошо говорил! Аж за сердце взяло! Это же ты про меня сказал… ведь я всю жизнь жил обманом. Что поделать, у нас, у купцов, завсегда так ведется: не обманешь – не продашь. Честный – глупый, плуту – счастье. А главное – барыш. Да только получается, что наши плутни нам же и выходят боком! За барышом гонимся, зато о самой главной ценности – о собственной душе – забываем. Но теперь я обещаю… я постараюсь жить и торговать честно. А тебе, за то что ты меня на путь истинный наставил, хочу сделать подарок. Есть у меня в лавке одна ткань, дорогая, заграничная. Такая ткань царям под стать. Но я хочу подарить ее тебе. Сошьешь из нее себе облачение и будешь самым нарядным из епископов! Нет-нет, не отказывайся, владыко! Кто, как не ты, достоин такого подарка! Пожалуйста, возьми его…
– Как тебя зовут? – спросил владыка Нонн.
– Ираклий, – ответил купец, смиренно склонив седеющую голову. – Владыко, умоляю, не погнушайся моим даром. Ведь это же от чистого сердца…
– Что ты, что ты, Ираклий! – успокоил его епископ. – Конечно, я с радостью приму твой подарок. Ты не будешь против, если я сейчас пошлю за ним своего диакона Иакова? Что ж, тогда ступайте с Богом! Благодарю тебя, Ираклий! Да благословит тебя Господь! И да поможет Он тебе выполнить твое обещание!
Поистине, что ни день, то искушение! Вчера мой епископ засмотрелся на разряженную блудницу, да так, что потом проплакал о ней весь вечер. А сегодня он соблазнился подарком этого плута-торгаша. Хотя в свое время наотрез отказался принять богатые дары, которые преподнес ему после своего крещения сарацинский князь… Пожалуй, нужно уговорить владыку Нонна поскорее вернуться в Илиополь. Не то не миновать новых искушений. Что тогда скажут люди? Не скажут, так подумают.
* * *
Обратно я возвращался, таща под мышкой увесистый сверток ткани – подарок Ираклия. По правде говоря, я и сам едва не разинул рот от удивления, когда купец, восторженно цокая языком и прищелкивая пальцами, развернул передо мной драгоценную материю. Она казалась сплошь вытканной из золота. А на сверкающем золотом поле, сплетаясь стеблями, цвели невиданные цветы, целые заросли цветов, в которых прятались пестрые звери и птицы. Пожалуй, купец прав: такая роскошная ткань лишь царям под стать. Впрочем, только ли царям? Кажется, из такой же ткани была и одежда танцовщицы Маргариты…
Боже, почему эта блудница нейдет у меня из памяти? Дай мне забыть о ней!
* * *
Поглощенный раздумьями, я не заметил, как сбился с пути. И немудрено: чужаку легко заблудиться в лабиринте антиохийских улиц и улочек. Разумеется, добросердечные прохожие пытались показать мне дорогу, оживленно жестикулируя и показывая руками то направо, то налево, то совсем наоборот. Следуя их указаниям, я долго блуждал туда-сюда. Пока не оказался на невольничьем рынке.
Как раз в это время на помост, куда работорговцы выставляли на продажу свой живой товар, вывели двух нагих девочек-подростков. Они плакали и испуганно жались друг к другу, словно предчувствуя неминуемую разлуку. А торговец на все лады расхваливал свой товар: девственницы… смышленые… годятся для любых услуг…
К одной из девочек подошел смуглый мужчина средних лет в сопровождении двух чернокожих безбородых рабов. Осмотрел ее так деловито и цинично, как не осматривают и животных. Затем извлек из кармана увесистый кошелек и, отсчитав торговцу нужную сумму, дал знак своим слугам, чтобы они забрали покупку.
Я закрыл глаза, чтобы не видеть, что будет дальше. И заткнул уши, чтобы не слышать плача и криков несчастных девочек. Но все-таки в моих ушах стоял отчаянный детский крик:
– Иаков! Братик мой! Иаков!
Потому что когда-то, давным-давно, еще ребенком, и я стоял на таком же помосте, прижавшись к белокурой девочке, которой приходился младшим братом. А человек, который только что купил мою сестру, указывал на нее своим слугам…
Когда я решился открыть глаза, с помоста сводили уже вторую девочку. Ее купила пожилая, строгая на вид женщина в темных одеждах. И, прикрыв наготу маленькой рабыни полой своей накидки, увела ее с собой.
– Ишь ты! – глубокомысленно произнес стоявший рядом со мной бедно одетый старик, почесывая загорелую лысину. – Вот ведь оно как вышло-то… Родные сестры, а планида у них разная… Да что ты на меня так пялишься, парень! – обратился он ко мне. – Я правду говорю. Первую-то девчонку знаешь кто купил? Да где тебе знать, ты ведь, кажись, нездешний. Так я тебе скажу: купил ее сам Симмах, тот самый, что здесь неподалеку притон держит. Вот и смекай, что он с этой бедняжкой сделает… Зато второй повезло: в хорошие руки попала. Мать Мастридия ее крестит, вырастит-выкормит, грамоте да рукоделиям научит. Глядишь, и девчонка тоже монашкой станет. Вот ведь как Господь-то устраивает. Родная кровь – а судьбы разные. А почему оно так – Бог весть[49]. Да что ты на меня так смотришь, а? Голову, что ль, солнцем напекло?
Мог ли знать этот старик, что сейчас перед моими глазами как живая стоит моя утраченная сестра! В память о ней у меня осталась лишь крохотная деревянная рыбка с дырочкой для шнурка вместо глаза и с выцарапанным на ней именем моей сестры. У нее на шее была такая же рыбка – только с моим именем.
– Не плачь, Иаков. Не плачь, милый братик. Мы найдем друг друга. Вот увидишь, мы найдем друг друга, – шептала мне сестра, острым камешком выцарапывая на резных кусочках дерева наши имена.
Это было в ночь перед торгом…
* * *
– Ты – слуга того приезжего епископа?
От неожиданности я вздрогнул и поднял глаза. Рядом со мной стояла стройная женщина, закутанная в покрывало, из-под которого виднелся расшитый золотом край ее одежд. Лица незнакомки почти не было видно: лишь большие голубые глаза, внимательно глядевшие на меня. Да выбившаяся из-под покрывала прядь белокурых волос… Отчего эти глаза и волосы кажутся мне такими знакомыми? Впрочем, возможно, у меня просто мутится в глазах от жары…
И что она городит? Какой я ей слуга? Я – ученик и духовный сын владыки Нонна! Пока что я диакон. Но со временем стану священником, а там, Бог даст, и епископом…
Похоже, незнакомка сочла мое молчание за знак согласия. И промолвила:
– Тогда передай ему это.
Из складок покрывала вынырнула маленькая белая ручка с кольцами на каждом пальце, унизанная звенящими браслетами, и протянула мне две сложенные вместе деревянные дощечки[50]. Письмо? Но что в нем написано? И кто эта женщина? Почему мне кажется, будто я ее знаю?
И тут я вдруг понял, что и впрямь уже видел эти голубые глаза, эти золотые локоны, эти кольца и браслеты, эту златотканую одежду… Это же танцовщица Маргарита! Но с какой стати ей вздумалось писать моему владыке? И о чем? Пожалуй, ради его же блага я должен прочесть это письмо!
* * *
«Святому ученику Христову – грешная ученица диавола. Выслушала я сегодня твою проповедь о Боге, Которому ты служишь, и узнала, что Он сошел на землю, чтобы спасти грешников. И если ты ученик и слуга такого Бога, то не погнушайся мной, желающей предстать перед твоим святым ликом…»
Что?! Эта распутница просит владыку Нонна о встрече! Какая наглость! Пожалуй, мне лучше выбросить ее письмо от греха подальше. Хотя вряд ли такая мера поможет оградить епископа Нонна от этой бесстыжей особы. Первая неудача не остановит, а лишь раззадорит ее. И она с удвоенным упорством будет искать встречи с владыкой, пока, наконец, не добьется своего. Так что лучше я все-таки отдам ему это письмо. Наверняка он возгорится праведным гневом на ту, что его написала. И, разумеется, ответит на ее просьбу отказом… если порядочный человек вообще обязан отвечать блуднице.
К моему изумлению, владыка Нонн, прочитав послание Маргариты, повел себя совсем иначе:
– Вот что, Иаков, – заявил он мне. – Садись и пиши: «Кто ты такая и каковы твои намерения – ведомо лишь Богу. Только прошу: не искушай меня. Ведь я грешный человек. Но если намерения твои благи, то я готов встретиться с тобой. Однако не наедине, а в присутствии семерых своих собратий». Написал? Хорошо. А теперь отошли это письмо ей.
Легко сказать – отошли! Неужели я, диакон, служитель алтаря Господня, должен сам нести это послание презренной блуднице? И опять я заколебался: не выбросить ли это письмо? Но мог ли я не выполнить послушание, данное мне моим владыкой? Да еще и лгать ему, буде он спросит, передал ли я его послание Маргарите? Так как же мне поступить?
Впрочем, я быстро придумал, как выйти из затруднительного положения. Первый же встреченный мной уличный мальчишка заявил, что хорошо знает дом красотки Маргариты:
– Ты, дяденька, не боись: я ей твое письмо мигом снесу! – лукаво ухмыльнулся он и убежал, сверкая босыми пятками. Похоже, парнишка решил, что я приглашаю Маргариту на свидание. И надеялся получить от нее монетку-другую в награду за доставленное любовное письмо.
А у меня отлегло от сердца. Ведь я как нельзя лучше выполнил поручение своего епископа. И послушание не нарушил, и избавил себя от необходимости лично нести письмо Маргарите. Теперь можно вздохнуть спокойно… Но как же мудр мой владыка! Разумеется, эта пройдоха хотела встретиться с ним наедине, во всей силе своих чар. Однако вместо этого он предлагает ей беседу при семерых свидетелях. Понятное дело, Маргарита поймет, что ее обман раскрыт, и оставит нас в покое! И слава Богу!
Мои раздумья были прерваны приходом одного из церковных привратников:
– Отец диакон! Там пришла какая-то женщина. Вся из себя такая… – Он стыдливо замялся, пытаясь подобрать подходящее слово.
– И что же? – недовольно спросил я. Когда же, наконец, эти докучливые бабенки оставят нас в покое! Уж поскорее бы патриарх отпустил нас домой!
– Она говорит, будто ее пригласил владыка Нонн… – таинственным полушепотом договорил привратник.
Что? Неужели она все-таки осмелилась прийти? Не может быть!
Я поспешил к епископу Нонну:
– Владыко, женщина, которой ты послал письмо, уже здесь. Что нам делать?
– Пригласи остальных епископов, – спокойно произнес он. – Скажи им, что дело очень важное. Я сейчас приду. Поспеши же, брат Иаков!
* * *
…Когда все епископы наконец собрались, владыка Нонн велел привести Маргариту. Войдя, она с плачем бросилась к его ногам:
– Молю тебя, сжалься надо мной! Не погнушайся моими грехами – я знаю, что они бесчисленны и тяжки! Спаси меня!
– Что ты хочешь? – строго спросил владыка Нонн.
– Я не хочу больше грешить… – сквозь слезы произнесла Маргарита. – Я хочу стать христианкой!
Епископы смотрели на нее – некоторые с сочувствием, но большинство с недоверием. И молчали.
– Что ж, дочь моя, – участливо произнес владыка Нонн. – Твое желание стать христианкой похвально. Но по церковным правилам нельзя крестить… – Он осекся, словно опасаясь произнести слово, которым слишком часто называли эту женщину. – Видишь ли, одного твоего желания креститься еще недостаточно. Ты должна раз и навсегда расстаться с прежней жизнью и начать жить по-новому. Хватит ли у тебя решимости на это? Хватит ли стойкости не вернуться на стези греха? Согласись, что я не могу крестить тебя без поручителей, которые подтвердят искренность твоего раскаяния, а после крещения будут наставлять тебя в заповедях Христовых. Пойми сама…
– Почему ты мне отказываешь? – зарыдала Маргарита. – Ведь я не хочу больше грешить… а ты не хочешь помочь мне спастись! Ты ответишь за это перед своим Богом! Мои грехи падут на тебя! Разве твой Бог не пришел в мир, чтобы спасти грешников? Почему же ты, Его служитель, отказываешься мне помочь?
Владыка Нонн молчал. Похоже, он раздумывал над словами Маргариты. А потом произнес:
– Как поступим, братие? Господь сказал: «Грядущего ко Мне не изгоню вон»[51]…
Епископы переглянулись, разводя руками:
– Да что тут скажешь? Дивны дела Твоя, Господи!
– Ишь как убивается, бедная! Похоже, и впрямь кается…
– Вот так и та блудница у ног Спасителя плакала… а Он ее помиловал. Как же мы ей откажем?
– Надо бы патриарху сообщить… – промолвил престарелый епископ Макарий, славившийся своей осторожностью. – Уж больно дело-то такое… заковыристое. Ты бы, владыко, послал к нему своего дьякона. Глядишь, Святейший бы и рассудил, как оно разумнее будет сделать. А мы бы по его слову и поступили… за послушание…
– Так и сделаем, – заключил владыка Нонн. – Встань, дочь моя, и молись Богу, Которому ведомы не только наши дела, но и помышления сердечные. И да свершится над всеми нами Его святая воля!
* * *
От патриарха я вернулся не один. Вместе со мной пришла и главная из антиохийских диаконис[52], престарелая мать Романа, которой патриарх поручил прислуживать при крещении Маргариты. А после этого – наставлять ее в заповедях Христовых.
По правде говоря, я не ожидал, что патриарх разрешит крестить блудницу. Да еще и без поручителей. Однако он благословил владыке Нонну немедленно совершить над Маргаритой таинство крещения.
– Скажи ему так, – промолвил он. – Поистине, честной отец, это дело ожидало тебя. Знаю, что ты – уста Бога, сказавшего: «…если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста»[53].
* * *
– Встань, дитя! – ласково произнесла мать Романа, касаясь плеча Маргариты, распростертой на каменных плитах пола. Медленно поднявшись на ноги, та с недоумением уставилась на старушку-диакониссу. Потом перевела взгляд на владыку Нонна…
– Как тебя зовут? – спросил епископ, обращаясь к ней. – Маргаритой?
– Нет! – зарыдала она. – Нет! Это не имя, а прозвище. Мне его дал хозяин. Там у нас не было имен, только прозвища… Постепенно я привыкла к нему, и даже когда получила свободу, продолжала зваться Маргаритой. Мне казалось, это прозвище так подходит к моим нарядам и украшениям! Но я помню свое настоящее имя. Меня зовут Пелагия.
– Вот оно как… – участливо произнес владыка Нонн. – Значит, ты не Маргарита, а Пелагия…
Пелагия! А ведь именно так звали мою сестру… И она тоже была белокурой, как эта… Но нет! Моя сестра не может быть блудницей! Иначе она мне не сестра!
– Постой-ка, владыка! – вмешался рассудительный епископ Макарий. – А ведь она никак крещеная. Взгляни, что у нее на шее! Видишь? – И указал на маленькую деревянную рыбку[54], что висела на шее у Маргариты.
– Сомнительно, – возразил владыка Нонн. – Посмотри, владыко, здесь выцарапано имя… разве ее так зовут? Да это и не женское имя. Так что вряд ли она крещена. – Вслед за тем он обратился к Пелагии: – А теперь, дочь моя, исповедуй все свои грехи. И знай: исповедь твою принимает Сам Бог. Я же лишь свидетель. Поэтому не скрывай ничего – твое покаяние должно быть искренним. Без него тебе не войти в Царство Небесное.
* * *
Я не присутствовал при крещении Пелагии и не участвовал в нем. Владыка Нонн и мать Романа справятся и без меня. Вдобавок я был уверен: все их старания обратить Пелагию на путь истинный совершенно бесполезны… если даже не хуже. Ведь эта вчерашняя блудница и о Христе-то толком не слыхала! И молитв она не знает, и креститься правильно не умеет. Стоило ли после этого так спешить с ее крещением? Куда разумнее было бы отдать ее на год-другой под начало к опытной и строгой монахине. А для пущей надежности посадить под замок на хлеб и воду. И пусть она день и ночь оплакивает свои грехи и кается в них. А заодно учится вести себя, как подобает православной христианке. Выдержит искус – сподобится святого крещения. Ан нет! Вместо этого мы распахиваем двери Церкви для закосневших в грехах… у меня язык не повернется назвать их людьми! Это равносильно тому, чтобы пустить в бережно и любовно возделанный сад козлищ и свиней!
В таких раздумьях я не заметил, как из храма вернулись владыка Нонн с матерью Романой. Между ними шла Пелагия, облаченная в белые крестильные одежды. Лицо ее светилось радостью. Что ж, немудрено – она добилась своего! Лицемерка!
– Сегодня – радостный день, – сказал владыка Нонн. – Ведь нынче сестра наша Пелагия родилась в новую жизнь. Порадуемся же с нею!
Помолившись, мы вместе сели за трапезу. Но едва лишь приступили к еде, как Пелагия вдруг побледнела как мел, а глаза ее испуганно расширились, словно она увидела рядом с собой что-то страшное. Что случилось?
– Не бойся, дочь моя! – спокойно произнес епископ. – Сотвори крестное знамение – и он убежит от тебя.
Пелагия медленно подняла руку, перекрестилась. А потом испуганно прошептала:
– Это был он… Он сказал: ты предала меня, Маргарита. Иуда тоже предал своего Учителя. Вот и ты туда же – предательница!
– Но Иуда предал Спасителя, – ответил владыка Нонн. – Ты же, наоборот, к Нему пришла. Оттого-то твой прежний господин так и ярится и пытается обмануть и запугать тебя. Не верь ему: он извечный лжец и человекоубийца[55]. И не бойся его. А если он снова явится – прогони его крестным знамением. Когда-то Спаситель наш крестом низложил его силу. С тех пор лукавый боится креста.
Неужели Пелагия и впрямь видела врага рода нашего? Нет, скорее всего, она просто притворяется, чтобы обратить на себя внимание епископа Нонна. Видал я таких обманщиц! Прикидываются благочестивыми, а на самом деле спят и видят, чтобы соблазнить какого-нибудь легковерного монаха. Неужели мой владыка не понимает этого?
После трапезы, когда мы остались одни, владыка Нонн сказал:
– Он и впрямь приходил сюда. Голый, мерзкий, страшный. Схватился за голову и завыл в голос: «Будь проклят день, когда ты родился, старик! Мало тебе тех, кого ты уже отнял у меня! Я был уверен, что хоть эта-то при мне останется! Горе мне горькое! Но мы еще посмотрим, чья возьмет!»
И хотя умом я понимал, что нельзя верить ни единому слову лукавого, в тот миг сердцем я соглашался с ним. Мы еще посмотрим, чья возьмет! Вряд ли эта распутная комедиантка сможет долго разыгрывать из себя христианку!
* * *
Спустя два дня поутру к нам пришла мать Романа. По обеспокоенному лицу старушки я понял: что-то случилось. Впрочем, нетрудно догадаться: наверняка Пелагия выкинула что-нибудь еще… в ее духе. Чего еще ждать от такой, как она?!
– Владыко, помолись за нас обеих: за сестру Пелагию и за меня, грешную, – попросила старая диаконисса. – Уж такое сегодня ночью случилось – отродясь со мной такого не бывало!
Я украдкой усмехнулся, представив себе, что могла вытворить блудница! Ну, и кто же оказался прав? Мой владыка, который с поистине детской наивностью ищет и видит в людях только хорошее? Или я, не раз убеждавшийся в том, что это хорошее в человеке – как капля меда в бочке с нечистотами? Вот и еще одно подтверждение моей правоты…
– Успокойся, мать, – ласково произнес владыка Нонн. – А что случилось?
– Искушение, – понизив голос, ответила мать Романа. – Пришли мы вчера из церкви, помолились, да и легли спать. А посреди ночи вдруг будит меня сестра Пелагия: «Матушка! – шепчет. – Молись за меня! Вот он, видишь?! Прочь, прочь, лукавый! Да накажет тебя Христос, исторгший меня из твоей пасти! Уходи! Господи, спаси меня!» Говорит, а сама крестится и вокруг себя по сторонам крестит на все четыре стороны. Смотрю я на нее, и такой страх вдруг на меня напал… просто хоть из дому беги! Насилу руку подняла, перекрестилась, молитву прочла. Чую – ушел он… Обернулась я к сестре Пелагии. А она мне и говорит: «Он сейчас был здесь. Разбудил меня и давай плакаться: “Госпожа моя Маргарита, что плохого я тебе сделал? Уж я ли не старался во всем угождать тебе? Золота и серебра не жалел, чтобы тебя украсить. Услаждал тебя лучшими яствами и винами. За что же ты покинула меня? Скажи, и я оправдаюсь и дам тебе все что захочешь. Лишь вернись ко мне, Маргарита! Иначе горе тебе!” Только я ни за что не вернусь к нему! Теперь я невеста Христова! И он больше не властен надо мной!» Тогда я ей в ответ: «Успокойся, дитя, не страшись его. Ведь отныне он сам будет бояться даже твоей тени. И не слушай его, окаянного!» Вот такое искушение с нами сегодня ночью случилось, владыко. Ты уж сделай милость, помолись за нас обеих. Хотя, по правде сказать, не ожидала я от сестры Пелагии такой смелости и решимости. Ишь как она его отделала – и поделом! Так ему, окаянному, и надо!
Глупая старуха! Неужели она не понимает, что эта блудница просто разыграла перед ней комедию?! Интересно, что она выкинет дальше?
* * *
Впрочем, мне не пришлось долго ждать. На другой день к нам снова пожаловала мать Романа:
– Владыко, сестра Пелагия просит тебя прийти к нам, – сказала диаконисса. – Она говорит, что имеет к тебе важное дело. Это и впрямь так, владыко. Окажи милость – посети нас.
Вместе с епископом Нонном я отправился к Пелагии, размышляя над тем, какой сюрприз на сей раз преподнесет нам эта пройдоха. Любопытно, до каких пределов простирается ее лукавство? Хотя кто-то из отцов сказал, что женское лукавство безгранично – Ева всегда прельщает…
Не поднимая глаз, Пелагия с низким поклоном подошла под благословение к епископу Нонну. После чего, протянув ему какой-то свиток, сказала:
– Владыко, я решила раздать все свое имение и последовать за Спасителем. Вот список всего, чем я владею. Кроме рабов (здесь голос ее чуть дрогнул). Их я отпустила на волю, чтобы они смогли, если захотят, освободиться от рабства греху мира сего, и дала им денег на безбедную жизнь. А все остальное перечислено здесь. Распоряжайся всем этим как пожелаешь, ибо с меня теперь довольно богатства Жениха моего Христа.
– Вот что, брат Иаков, – произнес владыка Нонн, повертев в руке свиток. – Позови-ка ты сюда отца эконома. Да вот еще что. Принеси сюда и тот сверток с тканью, что подарил мне купец Ираклий. Ты помнишь, куда его положил? А то я чуть было не позабыл о нем…
Богатство к богатству – кажется, так говорят? Господи, доколе?!
* * *
– Отче, – промолвил владыка Нонн вошедшему эконому. – Возьми этот свиток. Но заклинаю тебя Пресвятой Троицей: пусть ничего из того, что в нем перечислено, не пойдет на церковь или епархию. Пусть все это раздадут вдовам и сиротам, больным и убогим, чтобы нажитое во грехе пошло им во благо. И вот это возьми (с этими словами он протянул отцу эконому увесистый сверток с драгоценной тканью). Это тоже отдай беднякам. Пусть богатства беззакония станут сокровищем праведности.
Вот это да! Выходит, я все-таки плохо знаю своего владыку. Впрочем… может, он просто решил порисоваться перед этой блудницей? И продемонстрировать ей свою нестяжательность? Скорее всего, что так…
* * *
Тем временем настало воскресенье. Идя на литургию, мы встретили на церковном дворе мать Роману. Похоже, она как раз искала нас:
– Слава Богу, что я тебя нашла, владыко! – запричитала старушка. – Беда-то, беда-то какая вышла! Сестра Пелагия…
– Что случилось? – спросил владыка Нонн.
– Ушла она, вот что! – сокрушенно всплеснула руками диаконисса. – В аккурат в то время, когда я спала! Одежку свою крестильную оставила и ушла! Что же я теперь Господу-то отвечу? Недоглядела, старая…
– Успокойся, мать, – ласково произнес епископ. – Не кори себя. Лучше порадуйся за сестру нашу Пелагию. Ведь она предала себя в руки Господа. А теперь иди и не беспокойся за Пелагию, которая, подобно мудрой Марии, избрала благую часть[56].
Всю литургию, позабыв о молитве, я раздумывал над случившимся. Что ж, выходит, я оказался прав. Блуднице наскучило изображать из себя Христову невесту, и она сбежала, чтобы приняться за прежнее ремесло. Но почему владыка Нонн так уверен в обратном? Пожалуй, я все-таки спрошу его об этом!
* * *
Впрочем, владыка Нонн первым заговорил о случившемся:
– Вот она и покинула нас… – задумчиво произнес он, глядя, как взлетает в небо стая голубей, вспугнутая пробежавшим по церковному двору мальчишкой. – Вот, значит, к чему мне приснился тот сон про голубку. Омылась, очистилась и вознеслась ко Господу…
– Да уж, вознеслась! – вырвалось у меня. – Скорее – низринулась…
– Ты это о чем, брат Иаков? – спросил владыка Нонн. – Что ты имеешь в виду?
И тут я не выдержал. Все, что бурлило, кипело, клокотало в моем сердце, выплеснулось наружу словами – злыми, хлесткими, как плеть работорговца. Неужели владыка до сих пор не понял, что эта блудница просто-напросто обманула его?! И ведь какую комедию она разыграла перед нами: и в ногах-то у нас валялась, и слезы проливала… мартышка разряженная! Теперь же небось хвастается перед дружками за чашей вина, как ловко она провела этих простачков христиан. А те и хохочут, и она вместе с ними! Что ж, как говорится, сколько свинью не мой, снова залезет в грязь! А эта… да она еще гаже свиньи!
Похоже, моя пламенная речь повергла владыку в ужас.
– Но она же твоя сестра… – едва вымолвил он.
Что! Это она-то – моя сестра?! С чего он взял?! Да, когда-то у меня и впрямь была сестра! И я каждый день молю Бога, чтобы она нашлась! Но если бы я узнал, что моя сестра стала такой, как эта Пелагия, то с негодованием отверг бы это родство. Лучше бы она умерла, сгнила заживо, провалилась сквозь землю! Что общего между Христом и велиаром, между верным и грешником?![57] Иметь такую сестру – позор для христианина!
– Ты сказал… – произнес владыка Нонн, с жалостью глядя на меня.
* * *
Спустя несколько дней патриарх отпустил нас по домам. И мы с владыкой Нонном вернулись в Илиополь. Постепенно я забыл о тех искушениях, что постигли нас в Антиохии. Тем более что с тех времен прошло уже три года. Вдобавок раздумывать о прошлом было и некогда: здоровье владыки Нонна слабело[58], и он поручил мне большую часть дел по епархии, а сам большую часть дня и ночи проводил в молитве. Вот только почему-то он не спешил рукоположить меня во священника. Не говоря уже о том, чтобы назначить меня своим преемником на Илиопольской кафедре… Но почему владыка Нонн медлит? Ведь, похоже, смерть его не за горами – за плечами? Где он найдет себе более достойного преемника, чем я? Или он мстит мне за ту давнюю выходку? Хотя я в тот же вечер, выполняя заповедь святого апостола Павла, на коленях молил епископа простить меня[59]:
– Я не держу на тебя зла, чадо, – сказал он. – Бог… и твоя сестра да простят тебя.
Выходит, тогда мой владыка сказал неправду. Он простил меня лишь на словах, а сам затаил на меня злобу. А всему виной – та блудница, из-за которой в одночасье пришел конец нашему мирному житию. Покарай ее Господь за это! Впрочем, она наверняка уже умерла лютой смертью нераскаянной грешницы и теперь мучается в аду. Что ж, по делам ей и мука!
* * *
В те дни мне пришло на ум посетить Святую землю. Должен же я наконец воочию увидеть места, которые Спаситель освятил Своими пречистыми стопами! Разве благочестивый человек не обязан хоть раз, да побывать там? Вдобавок за время моего отсутствия владыка Нонн убедится, какой я незаменимый помощник. И, Бог даст, сменит гнев на милость…
Надо сказать, что епископ не стал отговаривать или удерживать меня:
– Что ж, Иаков, твое желание похвально. Отправляйся с Богом!
Но когда я уже выходил из его покоев, он окликнул меня:
– Постой, брат Иаков! Я хочу кое о чем попросить тебя. Поищи-ка ты в тех краях монаха Пелагия. И если найдешь, то посети его. Это пойдет тебе на пользу душевную. А теперь ступай!
* * *
О том, что я видел в Святой земле, рассказывать не стану. Это вам стоит увидеть самим.
Что до монаха Пелагия, то едва я справился о нем у одного из прихожан храма Гроба Господня, как тотчас услышал:
– Как же не знать отца Пелагия? Его келья – на Масличной горе, где молился Спаситель[60]. Строжайшей жизни старец и молитвенник великий. Правда, сам я его никогда не видел, потому что он живет в затворе. Только от людей слышал, будто он нездешний, пришел сюда года три назад, а откуда – Бог весть. Сходи к нему, отче, непременно сходи – великую пользу для души получишь! Такие подвижники, как он, – свет нам, мирянам! Да что там – всему миру!
Добравшись до кельи Пелагия, я застыл в недоумении. Где же тут дверь? Со всех сторон – сплошные стены. И лишь в одной из них – крохотное окошко, наглухо закрытое ставней…
Я прочел молитву и постучал в ставню. Окошко открылось.
Где я уже видел эти глаза, голубые, как летнее небо? Впрочем, откуда я мог их видеть прежде? Говорят, у паломников в Святой земле часто бывают всевозможные наваждения и искушения. Как видно, подобное сейчас творится и со мной. Нет, мне незнаком этот изможденный, безбородый затворник… похоже, он евнух. Но какую же силу веры надо иметь, чтобы понести подвиг, который принял на себя этот раб Божий!
Лицо затворника было полузакрыто монашеским куколем. Однако я чувствовал на себе его внимательный взгляд. Мне было не по себе. Казалось, этот Пелагий читает мои мысли… даже те, которые я желал бы утаить в сокровенных глубинах своего сердца…
– Почтенный брат мой… – наконец произнес затворник. – Не ты ли служишь у епископа Нонна Илиопольского?
«Не ты ли слуга того приезжего епископа?» – отчего-то пришли мне на ум слова Пелагии. Как я тогда был возмущен тем, что блудница приняла меня за слугу! Однако затворнику на тот же самый вопрос я ответил с величайшим почтением:
– Да, досточтимый отче. Я и впрямь у него служу.
– Пусть он помолится за меня, – промолвил Пелагий. – Ведь твой владыка – апостол Господень.
Немного помолчав, он добавил:
– Молись за меня и ты, почтенный брат мой.
Как я хотел услышать от затворника еще хотя бы словечко! Однако он не сподобил меня этой чести. И, захлопнув окошко своей кельи, принялся петь псалмы. Так что мне оставалось лишь отправиться восвояси, сожалея о том, что беседа с Пелагием оказалась столь краткой.
Весь оставшийся день я обходил местные обители, брал благословение у тамошних отцов. И куда бы я ни пришел, везде мне с восхищением, с почтением, с изумлением рассказывали о подвижнике Пелагии с Масличной горы. Похоже, его здесь почитали за святого. Впрочем, вполне заслуженно. Нет, мне все-таки надо вернуться к нему и попросить его сказать мне что-нибудь на пользу душевную. Я сохраню слова этого угодника Божия в своем сердце как сокровище и буду помнить их всю жизнь.
На другой день я снова поднялся на Елеонскую гору. Однако напрасно я стучал в окошко кельи затворника, напрасно умолял ответить мне – изнутри не донеслось ни звука. Я ушел ни с чем, теряясь в раздумьях, отчего Пелагий не удостоил меня хотя бы словом. Или этот великий подвижник счел недостойной для себя беседу с простым дьяконом? Пожалуй, что так…. И все же я не вернусь в Илиополь, пока не получу от него душеполезное наставление! Ведь я нуждаюсь в нем, как умирающий от жажды – в чаше воды!
Утром следующего дня я опять пришел к келье Пелагия, моля Господа, чтобы хоть на сей раз Он дал мне побеседовать с затворником. Но оконце его кельи опять было закрыто наглухо. Я приник ухом к ставне, прислушался. В келье царила мертвая тишина. Что случилось? Может быть, затворник по своему смирению решил избежать славы от людей и покинул эти края? Или он… умер? Нет! Только не это! Как же я теперь получу от него наставление?!
Объятый страхом, я попытался найти в ставне хоть крохотную щель и заглянуть внутрь кельи. Напрасно! Тогда я надавил на ставню… потом еще сильней… Окошко распахнулось, и я увидел, что затворник лежит ничком на полу своей кельи. Приглядевшись, я понял: он мертв. Тогда я со всех ног побежал в город, чтобы возвестить всем: затворник Пелагий отошел ко Господу.
Эта весть немедленно разнеслась по всему Иерусалиму и его окрестностям. Дали знать даже самому Иерусалимскому патриарху. Вслед за тем на Елеонскую гору поспешили иноки из городских и пригородных монастырей. Их вел я.
Мы выломали дверь кельи Пелагия. Я первым вошел туда, поднял с земли бездыханное тело затворника и вынес его наружу. В этот миг монашеский куколь спал с головы усопшего, и я увидел его волосы. Вероятно, когда-то они имели золотистый цвет. Но эти волосы были не мужскими, а женскими. Выходит, затворник Пелагий на самом деле был женщиной? Неужели?
Когда иноки обряжали и умащали миром тело усопшего затворника, моя догадка подтвердилась.
– Так это женщина?! – изумились монахи. – Вот это чудо! Слава Господу за то, что у Него так много сокровенных подвижников – не только мужей, но и жен!
Известие об этом новом чуде облетело весь Иерусалим. А тем временем на Елеонскую гору шли все новые и новые люди, чтобы почтить память новопреставленной подвижницы, рабы Божией Пелагии. Кого там только не было: монахи и монахини, миряне и священнослужители, и даже сам патриарх! Казалось, в тот час на Масличной горе собрался весь Иерусалим. Тело Пелагии с великим почетом и благоговением уложили на погребальное ложе и под пение псалмов и молитв понесли, чтобы похоронить в честном и святом месте. Лишь я стоял возле опустевшей кельи почившей затворницы, не смея присоединиться к погребальному шествию. Я стоял молча. Хотя из сердца моего рвался отчаянный безмолвный крик:
– Пелагия! Сестра моя! Пелагия!
Потому что когда я поднимал с земли ее тело, в мои руки, сорвавшись с ветхого шейного шнурка, скользнула маленькая деревянная рыбка. И несмотря на то что она потемнела от времени и пота, я смог прочитать выцарапанное на ней имя – Иаков. Свое имя.
Как я мечтал найти сестру, с которой нас разлучили злые люди! И Господь дал нам встретиться вновь. Только тогда, в Антиохии, я не узнал Пелагию. Потому что ненависть и презрение ослепили меня. Я видел в ней всего лишь презренную блудницу, не догадываясь о том, что передо мной – моя утраченная сестра. Горе мне! Я хотел получить от затворника Пелагия душеполезное наставление, которым бы руководствовался всю свою жизнь. И вот оно: моя сестра, очистившись крещением и покаянными подвигами, вознеслась в райские обители, словно белая голубка, взмывшая в небесную высь. А на мою долю остались лишь запоздалые слезы раскаяния. Ведь в свое время я отрекся от своей сестры-блудницы! Но что мне делать теперь – недостойному брату святой угодницы Божией?!
Жизнь и смерть святителя Никодима[61]
Вот мы с вами снова вместе встречаем Рождество. А после него, почти до самого праздника Крещения Господня, будем праздновать святые дни – святки. Конечно, жаль, что нам, покинувшим Россию давным-давно, в страшные дни Гражданской войны, уже никогда не доведется отметить Рождество на родине. И все-таки радостно, что даже здесь, на чужбине, в старинном немецком городе под названием Мюнхен, мы встречаем его под сводами православного собора и слышим слова рождественских песнопений на том самом языке, на котором их сейчас поют в России. Ведь сейчас вся Россия празднует святые дни Рождества – наконец-то тамошний народ, не таясь, может славить Господа, пришедшего в мир. И это после того, как почти семьдесят лет там продолжались гонения на православную веру. Сколько людей приняло тогда мученическую смерть за Христа! Об одном из них, священномученике Никодиме, епископе Белгородском[62], я сейчас и расскажу вам. Не только потому, что в юности я не раз встречался с ним. Но еще и потому, что он принял смерть за Христа в святые дни Христова Рождества, которые сейчас празднуем мы с вами.
1. «Мы к Богу с печалью, а Он к нам с милостью»
Я впервые увидел его, когда вместе с отцом в очередной раз посетил Свято-Троицкий монастырь. Мы ходили туда часто. Потому что в тамошнем Троицком соборе, точнее в склепе, находившемся в юго-западной части этого храма (этот склеп чаще называли «пещеркой»), покоились мощи святителя Иоасафа Белгородского[63]. В ту пору он еще не был прославлен[64]. Хотя не только мы, белгородцы, но вся Россия уже второй век почитала его как святого подвижника. Вот и мой отец, Иоанн Н-ский, священник кладбищенского Свято-Николаевского храма[65], сколько я себя помню, всегда называл святителя Иоасафа святым чудотворцем. Еще бы! Ведь он убедился в этом не из книг и не с чужих слов, а на собственном опыте:
– Видишь ли, сынок, – рассказывал он мне, – у нас с матушкой долго не было детей. Сколько мы докторов обошли, только они лишь руками разводили. Мол, тут медицина ничего сделать не может, врач не волшебник, а всего лишь врач. Тогда отправились мы к самому профессору Нейдгарду, о котором рассказывали, будто он даже безнадежных больных на ноги поднимает. Да и он нам то же самое ответил: мол, тут разве что чудо поможет, а наука, увы, здесь бессильна. Вышли мы от него, матушка плачет навзрыд, а я ее утешаю:
– Не плачь, не плачь, Машенька! Вот я накоплю денег, возьму у настоятеля отпуск да свезу тебя в столицу. Уж там-то мы отыщем такого врача, который нам с тобой поможет! Вот увидишь, мы его найдем!
Посмотрела она на меня да вдруг усмехнулась так горько, что мне аж не по себе стало.
– Нет, – говорит, – Ваня. Никуда мы не поедем. Что зря туда-сюда метаться? Лишь один Врач сможет нам помочь, если захочет. И к Нему за тридевять земель ехать не надо – Он всегда с нами рядышком. Да мы с тобой все стороной Его обходим…
Ничего я ей не сказал, только обнял ее крепко-крепко, а сам думаю: «Бедная! Совсем не в себе от горя, вот и городит невесть что. Какого такого врача мы стороной обходим?» Только… ведь это и впрямь так. Мы у земных врачей помощи искали. А о Боге, о Небесном Враче, позабыли. Люди нам помочь не смогли. Так, может быть, Господь поможет?
Вот и стали мы с матушкой Богу молиться, чтобы, если Ему угодно, послал Он нам дитя. И вскоре приснился ей сон… «Вижу, – говорит она мне, – стоит передо мной седой человек в архиерейской одежде, вылитый владыка Иоасаф, как его на портретах рисуют, держит на руках ребенка и протягивает мне: на, мол, возьми! Пойду-ка я в Троицкий монастырь да закажу по владыке Иоасафу панихиду. Вдруг он у Бога вымолит нам дитя…»
Не раз и не два, а много раз ходила моя матушка в Свято-Троицкий монастырь. И панихиды по святителю Иоасафу заказывала, и сама молилась у его гроба. Мне бы ее веру! Сколько раз я думал: зря она старается, не слышит нас Бог, где Ему до нас! Господи, прости мое маловерие! Как взгляну на тебя, воочию убеждаюсь: жив Господь! По молитвам моей матушки, твоей покойной мамы, вымолил нам тебя у Бога святитель Иоасаф. Потому-то и назвали мы тебя в его честь: Иоасафом. Знай это и помни: где люди не помогут, там Бог поможет. Мы к Нему с печалью, а Он к нам с милостью. Не обходи Его стороной: с Богом пойдешь – до блага дойдешь!
2. Паломник с далекого Севера
Возможно, вам кажется, что я уклонился от рассказа? Но нужно же было объяснить вам, почему мы с отцом так часто бывали в храме, где почивали мощи святителя Иоасафа. Вот тогда-то мы его впервые и увидели… Впрочем, наверняка не обратили бы особого внимания на этого человека, если бы нам не указал на него отец Илия.
Придется все-таки снова отвлечься, чтобы рассказать вам об отце Илии. Почему – поймете потом.
Надо сказать, что с виду этот человек был предельно немощен. Маленького роста, почти карлик, худой, со слезящимися глазками и огромным красным носом, чрезвычайно подвижный, несмотря на свою старость. И крайне общительный, пожалуй, даже болтливый. Разве такими бывают настоящие монахи?
По рассказам отца, до пострига отец Илия звался Иваном и служил псаломщиком[66] в Никольском храме. О том, какую жизнь он вел тогда, лучше всего говорило сложенное про него присловье: «Дьячок Иван вечно пьян». Когда же, как пошучивал отец Илия, у него «печали и болезни вон полезли», он подал прошение, чтобы его приняли в Свято-Троицкий монастырь. Вот так он и стал монахом. Хотя мне всегда думалось: ну какой же он монах? Только по одежде. А как известно, одежда монахом не делает.
Послушание, которое нес отец Илия в монастыре, в наших храмах обычно поручают старым женщинам. Иногда его шутливо называют дежурство по подсвечникам. В то время, когда в соборе не было службы, отец Илия сидел в уголке собора на низенькой скамеечке с четками в руках. Со стороны могло показаться, что он дремлет. Однако на самом деле отец Илия бдительно наблюдал за подсвечниками. И стоило какой-нибудь свечке накрениться и начать таять, или упасть на пол, как он вскакивал со своей скамеечки, с юношеской быстротой устремлялся к подсвечнику и наводил на нем порядок. А потом возвращался в свой укромный угол.
Вот и в этот раз, когда мы с отцом пришли в монастырский собор, чтобы помолиться в пещерке святителя Иоасафа, отец Илия пребывал на своем насиженном месте в углу. Впрочем, заметив нас, он тут же вскочил и направился к нам. Зато мы замерли на месте. Из склепа святителя Иоасафа выходил незнакомый осанистый монах, на вид лет сорока. Кто он?
В это самое время кто-то толкнул меня в бок. Разумеется, это был отец Илия.
– Видишь его, Асафушка?[67] – зашептал он мне прямо в ухо, обдавая меня терпким запахом лука. – А знаешь, кто это? Это – архимандрит, нездешний, из Олонецкой губернии приехал. Говорят, он ученый, академик[68], да еще и писатель… книги про святых пишет. А еще он в тамошней духовной семинарии самый главный. Ректор… а там, гляди, и архиереем станет.
Отец недовольно взглянул на отца Илию. В самом деле, разве пристало монаху собирать и пересказывать другим разные слухи и сплетни?! Что нам до этого заезжего архимандрита? Мало ли паломников приезжает к нам поклониться гробу святителя Иоасафа? Хотя радостно, что его знают и почитают даже на далеком Севере, где, как рассказывают, круглый год лежит снег, а по улицам городов разгуливают олени и белые медведи. Вот бы на них поглядеть!
– А знаешь, как его зовут? – донесся до меня голос отца Илии. – Его зовут отцом Никодимом. Вот оно как: архимандрит Никодим…
Кажется, отец Илия еще что-то рассказывал о нем. Но все его слова у меня, как говорится, в одно ухо влетали, в другое вылетали. Да и зачем мне было их запоминать? Ведь я вижу этого паломника с далекого Севера в первый и в последний раз.
Никогда мне его не забыть…
3. Новый епископ
Теперь мне придется перескочить через целых четыре года. Хотя за это время случилось много знаменательных событий, достойных отдельного рассказа. И самым главным из них были торжества по случаю прославления святителя Иоасафа в лике святых. На эти торжества прибыло множество паломников со всех концов России. В том числе и сестра государыни императрицы, великая княгиня Елизавета Феодоровна[69], в ту пору уже настоятельница построенной ею в Москве Марфо-Мариинской обители. Приехал и великий князь Константин Константинович, военный и поэт, печатавшийся под инициалами К.Р. Что до государя императора с семейством, то они приехали в наш город позднее, в декабре того же года, по дороге из Ливадии. Между прочим, именно наш государь позаботился о том, чтобы всенародно почитаемый святитель Иоасаф наконец-то был прославлен. И вот теперь он, царь земной, приехал к нам, чтобы почтить память святого служителя Царя Небесного.
Я был очевидцем этих событий. Например, я своими глазами видел живую ленту из богомольцев, стоявших ночью со свечами вокруг Троицкого собора. Они часами стояли, читая молитвы, в ожидании, когда им выпадет счастье приложиться к мощам святителя Иоасафа. Возможно, кто-то из тех людей жив и поныне… помнит ли он ту ясную сентябрьскую ночь, как помню ее я?
Еще я видел, как исцелялись больные, когда мимо них несли раку с мощами святителя Иоасафа. И как, видя это, обретали веру люди, пришедшие на это торжество просто из любопытства. А разве обретение человеком веры – не меньшее чудо, чем выздоровление от неизлечимой болезни… да что там!.. чем его воскрешение из мертвых. «…Был мертв и ожил, пропадал и нашелся»[70].
Так прошел 1911 год. А в следующем году я пошел учиться. Разумеется, отец отдал меня не в городскую гимназию, а в духовное училище. Ведь он, священник, мечтал видеть священником и меня, своего единственного сына. Учиться мне нравилось, и вскоре я уже стал отличником.
– Молодец, сынок! – похвалил меня отец, когда я с отличием закончил первый класс. – Если бы твоя мама была жива, то-то бы она за тебя порадовалась! Только смотри, не возгордись. Помни: Бог гордым противится, а смиренным помогает.
Спустя несколько месяцев после этого произошло еще одно событие. К нам в Белгород назначили нового епископа.
– Значит, теперь у нас будет новый владыка[71], – задумчиво произнес отец, повязывая поверх нового шерстяного подрясника широкий пояс, расшитый цветным стеклярусом. Этот пояс, некогда вышитый моей покойной матерью, он надевал лишь в особо торжественных случаях. Но сегодня как раз выдался именно такой случай: отцу в числе других городских священников предстояло сослужить новому епископу.
– А он откуда? – полюбопытствовал я.
– Откуда? Из нашей же Курской епархии. Бывший викарный епископ Рыльский. А родом он с Севера, из Архангельской губернии. Интересно, каков окажется? Небось строгий… Говорят, он до того, как епископом стать, в нескольких семинариях ректором был, а там без строгости нельзя. А ну как он и нас стро´жить начнет? Да ладно, время покажет. Давай-ка одевайся поскорее, а то, не дай Бог, на службу опоздаем.
Когда мы добрались до Свято-Троицкого собора, вокруг уже толпился народ. Казалось, сюда сошелся, сбежался, съехался весь Белгород. Еще бы! Ведь не каждый день в город приезжает новый епископ!
Протискиваясь вслед за отцом сквозь толпу, я слышал обрывки разговоров, которые вели между собой горожане:
– А какой он из себя? Молодой или старый? – спрашивала какая-то женщина.
– Да зачем тебе это знать? – ответил ей густой мужской басок. – Ты лучше его книжки почитай.
– А про что же он пишет-то?
– Про подвижников. И про тех, которые уже прославлены, как наш святитель Иоасаф, и про тех, кто еще не прославлен. Между прочим, я одну его книжку в соборной лавке неделю назад видел. Называется «Жизнеописания подвижников благочестия XVIII–XIX веков»[72]. Толстая такая, надолго читать хватит. Это тебе не какая-нибудь там пустая «Пещера Лейхтвейса», а божественная книга, душеполезная! Вот купи ее, да и почитай…
– Охти! А я-то и не знала! А вдруг ее уже раскупили? Вот беда-то!
– Да ладно, не охай! Я тебе дам почитать другую книжку нашего владыки. Называется «Архангельский патерик». Мне ее кум из столицы привез. Там и про соловецких святых написано, и про праведного отрока Артемия Веркольского. Только смотри, верни обратно!
– А правду говорят, будто он только что к нам приехал? И уже служить будет! Экой молитвенный!
– Еще бы нет! А нашего святителя Иоасафа, говорят, так почитает, так почитает…
Наконец мы с отцом вошли в собор. Он тоже был полон народа. Однако отец Илия был тут как тут. Он цепко ухватил меня за локоть и потащил в свой уголок:
– Иди сюда, Асафушка! Мы с тобой маленькие, нам тут обоим места хватит. В тесноте, да не в обиде…
Втайне сердясь на отца Илию за то, что он обращается со мной как с маленьким, я все-таки встал рядом с ним. Надо сказать, что его уголок был весьма укромным. Однако оттуда я мог видеть только спины стоявших передо мной богомольцев. А мне так хотелось хоть одним глазком взглянуть на нового епископа!
Но тут я заметил скамеечку, на которой имел обыкновение сидеть отец Илия, наблюдая за порядком в храме. Конечно, она была маленькой и шаткой. Однако на безрыбье и рак рыба: я вскарабкался на нее, приподнялся на цыпочки… и чуть не свалился на отца Илию. Потому что узнал в стоящем на амвоне епископе того самого архимандрита Никодима, которого несколько лет тому назад уже видел в этом храме. Значит, теперь он будет нашим епископом!
От волнения я не слушал, что он говорил. Кроме одной, самой последней фразы:
– Принес я вам с далекого и холодного Севера сердце любящего отца[73].
Слезы хлынули у меня из глаза. Еще миг, и я заплакал бы, как вдруг…
– Лицемер! – злобно прошипел кто-то совсем рядом. Я обернулся и увидел высокого плечистого семинариста со шрамом на левой щеке. Прикусив тонкую губу, с искаженным от ненависти лицом он не отрываясь смотрел на владыку Никодима…
4. Я встречаюсь с владыкой Никодимом
На святках, а именно на второй день после Рождества Христова, когда праздновалась память святого апостола и первого мученика архидиакона Стефана, владыка Никодим приехал к нам в училище. Такова была традиция: в праздничные дни архиереи посещали духовные школы своей епархии, поздравляли учеников и выслушивали их ответные поздравления.
Нас собрали в актовом зале. Однако епископ отчего-то запаздывал, и от нечего делать мы начали перешептываться. Разумеется, речь шла о новом владыке.
– А знаете, откуда он родом? – с таинственным видом прошептал Вася, сын дьякона Спасо-Преображенского собора. Учился Вася так себе, зато был страстным охотником собирать всякие новости, которые он потом пересказывал нам. – Нет? А вот я знаю. Мне папа рассказывал, а ему – кто-то из монастырских. Значит, так. Родом он из Архангельской губернии, из семьи священника Михаила Кононова[74]. Папа говорил, что у них на Севере есть целый род священников Кононовых, чуть ли не с XVII века. До того как он в монахи постригся, его звали Александром. Сперва он учился в Архангельской духовной семинарии…
– Погоди-ка! – перебил его Миша Кулижников, мой сосед по парте. Миша был из тех, кто думает много, но говорит редко, зато метко. – Это не та ли самая семинария, где батюшка Иоанн Кронштадтский[75] учился? Он ведь тоже был родом из Архангельской епархии.
– Точно… – Вася с изумлением уставился на Мишу. – Выходит, они и впрямь в одной семинарии учились! Постой-ка! Ведь папа говорил, что владыка Никодим был знаком с отцом Иоанном. И что будто бы именно отец Иоанн благословил его книги про святых писать. Вот оно значит как!
– Да ты дальше, дальше рассказывай! – нетерпеливо прервал его кто-то сзади. – А то владыка вот-вот приедет, а мы про него ничего и не знаем…
– А о чем я говорил-то? – замялся Вася. – Ах да, вспомнил! Значит, так. Дальше его, как отличника, послали учиться в Духовную академию… ту, которая в столице[76], – Вася загнул один из пальцев на руке. – И там он принял монашеский постриг с именем Никодим, в честь преподобного Никодима Кожеозерского[77]. А когда он окончил академию, его там же, в столице, назначили смотрителем Александро-Невского духовного училища. – Он загнул еще один палец. – Потом он в Калуге был ректором семинарии. – Теперь на Васиной руке остались всего два незагнутых пальца. – Потом… забыл! Нет, вспомнил – затем его на Север послали, в Олонецкую губернию, тоже ректором семинарии. Ну, а потом он стал епископом, сначала Рыльским, потом нашим, Белгородским.
– Значит, он еще и книги пишет… – задумчиво произнес Миша Кулижников. – По благословению самого отца Иоанна…
– Да я же уже об этом говорил! – оборвал его Вася. – У нас дома есть две его книжки про северных святых: «Олонецкий патерик» и жизнеописания подвижников Соловецкого монастыря. А еще папа говорил, будто владыка Никодим написал несколько акафистов[78]: преподобным Иову Ущельскому, Трифону Печенгскому, Никодиму Кожеозерскому и святителю Иоанну Златоусту. За акафист святителю Иоанну он даже благодарность от Синода получил.
– Значит, он книги про святых пишет… – продолжал размышлять вслух Миша. – Интересно, а про нашего святителя Иоасафа он тоже книгу напишет?
Вася обернулся, чтобы ответить, но не успел – в зал вошел епископ Никодим. И певчие запели тропарь Рождества Христова.
Когда они смолкли, владыка поздравил нас с праздником. А потом мы читали ему стихи, пели колядки. Когда же закончили, он благословил нас и каждому вручил бумажный образок Рождества Христова.
– Как тебя зовут? – спросил он, когда очередь дошла до меня.
– Иоасаф, – ответил я.
– Он у нас первый ученик в классе, – прибавил стоявший рядом отец инспектор.
– Вот как… – Владыка Никодим улыбнулся. – И кем же ты хочешь стать, когда вырастешь, Иоасаф?
– Священником, – ответил я. – Как мой папа.
– Он – сын отца Иоанна, – произнес инспектор, – священника из Никольской церкви. Почтенный человек, добрый, набожный, вот и сын в него пошел.
– Вот оно как, – задумчиво произнес владыка Никодим, пристально вглядываясь в меня, словно прозревая что-то, видимое лишь ему одному. – Вот оно как…
Домой я летел, словно на крыльях. Ведь сегодня меня поздравил с Рождеством Христовым сам наш владыка, епископ Никодим! Вот это радость так радость!
На следующее утро я не пошел в Никольский храм вместе с отцом, а спозаранку побежал в Троицкий монастырь. Потому что очень хотел снова увидеть владыку Никодима, послушать, о чем он будет говорить с амвона. Отчего-то мне казалось, что я услышу от него слова, которые изменят всю мою жизнь.
Увы, меня ожидала совсем иная встреча!
5. Мой новый друг
– Хочешь, покажу, где раки зимуют?
Я остановился. Дорогу мне преграждал рослый лохматый оборванец.
– Хочешь, покажу, где раки зимуют? – переспросил он, надвигаясь на меня.
– Нет, – ответил я, отступая назад. Он ощерил гнилые зубы.
– Все говорят «нет». – Наглая ухмылка на его лице не предвещала ничего хорошего. – А хочешь, малявка, покажу тебе, где раки зимуют?
– Не надо… – на сей раз я уже перепугался не на шутку. Но его, похоже, забавлял мой страх.
– Все говорят «не надо». Надо, птенчик, надо. Эй, братцы, сюда! Покажем ему, где раки зимуют!
В следующий миг вокруг меня запрыгало, заблеяло, заулюлюкало несколько парней. Один из них сорвал с меня шапку. Другой вывернул мне карман, и я услышал жалобный звон монетки, выпавшей из его руки на булыжную мостовую. Третий больно щелкнул меня по лбу. Я вскрикнул и закрыл голову руками. Да и что еще мне оставалось делать? Их было много, а я один. И некому было прийти мне на помощь. «Господи, помоги!» – взмолился я…
– А ну, убирайтесь отсюда! – раздался чей-то звонкий голос. – Не смейте его трогать!
– Сам вали отсюда, кутейник![79] – огрызнулся мой обидчик. – Тоже мне, защитник нашелся! Кутейка-балалайка-соломенна струна! Бей его, ребята!
До меня донесся глухой звук удара, потом еще один… И вдруг мой обидчик взвыл от боли.
– Не надо… я же пошутил… что, мне и пошутить нельзя? Тикаем, братцы!
Когда я осмелился открыть глаза, моих обидчиков и след простыл. А рядом, положив мне руку на плечо, стоял высокий плечистый семинарист со шрамом на левой щеке… кажется, я уже где-то видел его. Вот только где именно?
– Не бойся, приятель, – успокоил он меня. – Больше они тебя не посмеют тронуть. А если кто захочет тебя обидеть, будет иметь дело со мной.
– Спасибо… – проговорил я сквозь слезы. – А как тебя… вас… зовут?
– Павел, – произнес он, протягивая мне руку. – Павел Рахов.
Так это сам Павел Рахов! Семинарист, о бесстрашии и лихих проделках которого у нас в училище рассказывали легенды. Самый сильный, самый смелый, самый умный! И вот теперь он предлагает мне свою дружбу. Неудивительно, что я обеими руками схватился за протянутую мне руку!
– Добре, – усмехнулся он. – А как тебя зовут? Иоасаф? Вот что, Асаф, хочешь, я тебе интересную книжку дам почитать? Хочешь?! Тогда пошли ко мне!
И я пошел за ним, совсем забыв о том, что направлялся совсем в другое место: в храм, к владыке Никодиму… далеко же увел меня этот новый друг!
Книга, которую он мне дал, называлась «Спартак»[80]. Никогда прежде не читал я ничего подобного – ведь мой отец-священник считал чтение светских книг пустой тратой времени и признавал только духовные книги. Неудивительно, что я за три дня (точнее, ночи, так как читать приходилось тайно от отца) прочел «Спартака». После чего прибежал к Павлу, чтобы вернуть ему книжку.
– Ну как, понравилось? – спросил он.
– Очень! – воскликнул я. – А еще что-нибудь такое у тебя есть?
– А как же! – усмехнулся он. – И получше кое-что есть…
С тех пор я зачастил к Павлу за книгами. И вскоре прочитал не только «Спартака», но и рассказы Максима Горького, и «Андрея Кожухова»[81], и «Овода», и много других подобных книг. Однако Павел не просто давал мне книги: он подолгу беседовал со мной. О том, как несправедливо устроен мир, в котором одни люди пользуются всеми благами жизни, в то время как другие не имеют даже хлеба насущного. Но если бы бедные и обездоленные, вместо того чтобы терпеть гнет и смиряться, восстали против своих угнетателей, отняли у них богатства и поделили их поровну между всеми, на земле настало бы царство свободы и счастья. Сначала я слушал Павла с опаской. Ведь он говорил прямо противоположное тому, чему меня учили и отец, и преподаватели семинарии. Вдобавок он крайне недоброжелательно отзывался о владыке Никодиме, называя его обманщиком и пособником угнетателей. Но, как говорится, капля камень долбит. Чем больше я слушал Павла и читал его книги, тем больше мне казалось, что он говорит правду. В самом деле, разве это подвиг – безропотно сносить лишения и муки, вместо того чтобы восстать и покарать злодеев? Разве это подвиг: бежать от мира, лежащего во зле, или покорно терпеть это зло, вместо того чтобы дать ему бой, как это делали Спартак, Овод… со временем в списке героев прибавлялись все новые и новые имена из книг, которыми щедро снабжал меня мой новый друг. Мысленно я был с ними, не замечая, что все больше и больше отдаляюсь от Бога. Как это происходит со всеми, кто ищет истину «на стране далече», забыв о Том, Кого называют Путем, Истиной и Жизнью[82].
6. Самые главные слова
– Что это, сынок? – встревожился отец, увидев в конце учебного года мой табель с отметками. – Ты же раньше так хорошо учился. А теперь – сплошные тройки. Уж не заболел ли ты? Нет? Что же тогда с тобой случилось? Вот что, сынок: сходи-ка ты в собор, закажи молебен святителю Иоасафу да сам хорошенько ему помолись. Глядишь, все у тебя и наладится…
Разумеется, я вовсе не собирался признаваться отцу в том, что мне опостылело духовное училище. Где ему это понять? Ведь сам он всю жизнь обманывает простой народ, уговаривая людей терпеть и смиряться, вместо того чтобы звать их к борьбе… Что ж, пожалуй, я все-таки схожу в собор. Иначе мой отец точно заподозрит неладное, а там прознает и про мою дружбу с Павлом, и про книжки, которые он дает… что будет тогда? А тут я как бы невзначай перекинусь словечком с отцом Илией. А потом этот сплетник не преминет рассказать отцу, что я был в соборе, отстоял службу, молился святителю Иоасафу. Конечно, это ложь, но ложь во спасение. Или, как написано в той последней книжке, которую дал мне почитать Павел, – ради благого и правого дела любые средства хороши.
Мой хитрый план вполне удался. Когда я переступил порог собора, литургия уже началась. Подойдя к отцу Илии, я встал рядом с ним. Он заметил меня, улыбнулся, вынул из кармана своего подрясника просфору и сунул ее мне в руку. Экий назойливый!
Впрочем, скоро я забыл об отце Илии. Не отрываясь, я смотрел на величественную фигуру человека, возглавлявшего богослужение. То был владыка Никодим.
Вот он вышел на амвон и произнес:
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Послании к Римлянам святой апостол Павел писал: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром»[83]…
Вслед за тем он стал рассказывать о святителе Иоасафе. И хотя кое-что из того, о чем он рассказывал, мне было уже известно, я слушал его затаив дыхание, словно воочию видя то, о чем он говорит. Вот темной ночью святитель Иоасаф, раздав тайную милостыню бедным, возвращается в свою келью. А монастырский сторож ловит его и бьет, приняв за вора… а потом вместо наказания получает от святителя награду.
Вот в темном лесу на едущего куда-то святителя Иоасафа нападают разбойники. Но, узнав в нем своего архиерея, просят у него благословения. «Не благословлю, не тем вы занимаетесь», – отвечает им епископ. А потом один из этих разбойников приходит к нему с покаянием. И хотя на совести этого человека немало злых дел, святитель Иоасаф укрывает его в своем монастыре, давая преступнику шанс снова стать честным человеком: «Ты мне хлеб попеки, а я о тебе попекусь».
Вот святитель Иоасаф стоит перед белгородским губернатором.
– Как вы можете так поступать, владыко! – раздраженно говорит тот. – Зачем вы посылаете в тюрьму передачи этому человеку? Это же государственный преступник! Разве так ведут себя истинные верноподданные? Закон велит нам карать врагов!
– А Господь заповедал нам творить добро и ближним, и даже врагам, – отвечает ему святитель. – Если бы на месте этого человека оказался кто-то другой или вы сами – я поступил бы точно так же.
Что я слышу? Выходит, святитель Иоасаф вовсе не смирялся с царившим в мире злом и не потакал ему. Он тоже боролся с ним… и побеждал зло добром. И даже после своей кончины он продолжает побеждать зло: исцеляет больных, приходит на помощь к утратившим надежду. Мне ли это не знать?!
Какими же лживыми после этого показались мне герои из книжек Павла, которые, обещая людям счастье и свободу, не приносили им ничего, кроме страданий и смерти!
Вот так, негаданно-нежданно, даже против своей воли, я услышал от владыки Никодима слова, которые вернули меня к вере.
7. «Скоро мы его заставим замолчать…»
Прошло еще несколько лет. За это время я с отличием окончил духовное училище, а потом и семинарию. Между прочим, на выпускном торжестве владыка Никодим вручил мне свою недавно изданную книгу о святителе Иоасафе. Много раз я слышал разговоры о том, будто владыка собирает материалы к этой книге. И вот теперь она была у меня в руках, новенькая, еще пахнувшая типографской краской. Почему-то мне подумалось: не случайно владыка Никодим подарил мне книгу про святого, которому я был обязан своим появлением на свет и чье имя носил. Уж не является ли это знаком свыше? Уж не воля ли Господня на то, чтобы я по примеру святителя Иоасафа тоже стал монахом?
Долго я раздумывал над этим. И чем больше думал, тем больше крепло во мне желание уйти в монастырь. Наконец я решился открыться отцу. И попросить у него благословения на то, чтобы стать послушником.
Услышав мое признание, отец низко склонил седую голову.
– Воля Господня да будет! – тихо произнес он. – Помнишь, сынок, житие святителя Иоасафа? Однажды его отец Андрей Горленко увидел сон: его маленький сын Иоаким стоит на коленях перед Божией Матерью, и ангел облачает его в архиерейскую мантию. А ведь он так надеялся, что сын унаследует и приумножит его богатства и власть! И в скорби сердечной он воскликнул: «Нам же, родителям, Пречистая, что оставляешь?» Прежде я думал: как это отец святого Иоасафа осмелился противиться Божией воле? Разве смеет человек вопрошать Бога: а что Ты оставляешь мне? Но вот теперь я сам готов произнести эти слова… Господи, прости меня за это! Ведь святитель Иоасаф был у своих родителей первенцем. А у меня ты единственный сын. Если ты уйдешь в монахи, наш род пресечется навсегда. Но смею ли я противиться Божией воле? Господь дал нам тебя. И если Он призывает тебя служить Ему – будь воля Его благословенна!
Вскоре после этого разговора с отцом я стал послушником Свято-Троицкого монастыря. Теперь я гораздо чаще видел владыку Никодима. И часто прислуживал ему в алтаре Троицкого собора. Надо сказать, что богослужения он совершал часто, а по праздникам – всегда. И когда он служил, то погружался в молитву настолько, что я не узнавал его. Тогда он казался мне посланником небес, сошедшим к земным людям. Наверное, таким же был когда-то и святитель Иоасаф. Не случайно же владыка Никодим так почитал его. Видимо, он чувствовал свое духовное родство со святителем Иоасафом. Позднее я понял, что это и впрямь было так.
Тем временем наступил 1917 год. А потом в нашей стране началась братоубийственная гражданская война. Она не обошла стороной и наш Белгород. В конце 1918 года город захватили красные. О том, что они творили у нас, я не буду рассказывать. Мне больно вспоминать об этом, а вам будет горько это слушать. Скажу лишь о том, что весь наш город тогда жил в страхе. Шепотом, с оглядкой, люди делились страшными рассказами о расстрелах и грабежах, о захватах заложников, о надругательствах над святынями. «Уж не последние ли времена настали? – спрашивали они друг друга. – Господи, заступи, спаси и помилуй нас!»
В один из тех дней, в самом конце декабря, к нам в монастырь нагрянули вооруженные матросы. Войдя в собор, они, не снимая бескозырок и о чем-то переговариваясь между собой, направились к раке святителя Иоасафа. Один из них швырнул на пол окурок…
– Что вы делаете! – закричал отец Илия, устремляясь к ним. Я бросился к нему на подмогу. Однако старик опередил меня. Еще миг – и он уже стоял перед матросами, преграждая им дорогу. – Опомнитесь! Вы же в храме!
Но высокий худощавый матрос, шедший впереди, отшвырнул его, так что я едва успел подхватить старика:
– А ну, прочь с дороги! Видите, как они боятся правды! Ну что, теперь вы мне верите?
Матросы окружили раку святителя Иоасафа. Кто-то уже протянул руку, чтобы открыть ее крышку…
– Стойте!
Матросы обернулись. Из алтаря вышел пожилой монах в рясе, на которой поблескивал серебряный наперсный крест. Это был наместник нашего монастыря иеромонах Митрофан.
– Не смейте! – гневно обратился он к матросам. – Креста на вас, что ли, нет? Побойтесь Бога! Он долго ждет, да больно бьет!
– Да мы-то тут при чем? – испуганно пробормотал молодой рыжеусый матросик, отступая назад и поспешно снимая бескозырку.
– Мы-то крещеные, – добавил другой и размашисто перекрестился. – Это все он. – С этими словами он показал на высокого худощавого матроса, который, видимо, был их вожаком. – Это он нам сказал…
– Я сказал правду! – визгливо выкрикнул высокий матрос. – Я всегда говорю правду! Я сказал, что придет время, когда люди будут поклоняться золотым гробницам, полным мерзости и мертвых костей! Так в Библии написано! Так и надо верить, по Библии, как Бог учил! А не так, как вы учите, обманщики!
– Это мы-то народ обманываем?! – гневно воскликнул отец Митрофан. – Нет, это вы, сектанты, его обманываете. Что вы, что безбожники – одного поля ягодки, людей от Божией правды отвращаете. А ну-ка, Иоасаф, – обратился он ко мне, – принеси сюда Библию! Принес? А теперь, умник, покажи, где тут написано то, о чем ты говоришь? То-то же, что найти не можешь. Потому что нет тут таких слов. А есть вот что…
Отец Митрофан полистал книгу и вскоре нашел нужное место:
– Вот. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты…»[84] Взгляни сам. Видишь, как на самом деле в Евангелии написано. Зачем же ты ради своей выгоды слова Спасителя сикось-накось перевираешь?
Высокий матрос глядел на него исподлобья и молчал. А потом вдруг опрометью бросился вон из храма. Тогда отец Митрофан подошел к раке святителя Иоасафа и поднял крышку. Матросы отпрянули:
– Вот это да! Как живой лежит!
– Теперь понимаете, что все они вас обманывают! – строго произнес отец Митрофан. – И этот сектант, и безбожники. А правда – вот она где! – с этими словами он показал на крест, венчающий соборный иконостас.
– Как не понять… теперь понимаем… простите нас, батюшка, – послышалось в ответ.
– Нам бы житие святителя почитать, – попросил рыжеусый матросик.
– Давно бы так! – обрадовался отец Митрофан. – Сбегай-ка за книгами, Иоасаф! Вот, возьмите все по книжке и прочтите. Да впредь не верьте всяким обманщикам. А теперь ступайте с Богом![85]
Матросы ушли, унося с собой подаренные книжки. Однако все мы понимали: в любой миг к нам снова могут нагрянуть незваные гости. Но уже не для того, чтобы спорить о вере, а просто чтобы надругаться над святынями, ограбить обитель, пролить нашу кровь. Они могут войти и в любой храм. В том числе в Свято-Николаевский, где служит мой отец. Защитит ли тогда его Бог?
Мне стало страшно за отца. И не в силах совладать с этим страхом, я отпросился у наместника и пошел навестить его, молясь по дороге, чтобы мои страхи оказались напрасными и я нашел отца живым и невредимым.
Я шагал по знакомым улицам, которыми мы с ним много раз ходили в Свято-Троицкий монастырь. Я знал здесь каждый дом… вот в этом выбеленном домике жила пожилая чиновничья пара, и у них на окне, над горшками с цветущей геранью, всегда висела клетка с канарейкой или щеглом. Но сейчас я не узнал этого дома, как не узнавал и домов на других улицах. Все окна были наглухо закрыты ставнями, а сами улицы выглядели пустынными. Так что мне казалось – я иду по вымершему городу.
Дом отца был уже совсем близко. И тут впереди раздался выстрел. Потом еще один. Я остановился, не смея идти дальше, словно человек, внезапно увидевший у себя под ногами бездонную пропасть и застывший в страхе на самом ее краю. Не повернуть ли назад? Но в этот миг я вспомнил об отце. Что если какой-нибудь красноармеец, матрос или просто бандит в этот миг целится в него? И я побежал вперед, туда, где в конце улицы виднелась зеленая крыша отцовского дома. Я должен успеть! Я должен спасти отца! А если надо, умереть вместо него!
Я мчался не разбирая дороги, не видя ничего вокруг. Пока с разбега не налетел на какого-то человека. Впрочем, уже в следующий миг я узнал его:
– Павел? Здравствуй, Павел!
Да, это и впрямь был Павел Рахов. Сколько лет я не видел его! Точнее, сколько лет прошло с тех пор, как он исчез, а куда – об этом не знала даже его мать, ворчливая старуха, обиженная на весь мир, особенно же на архиереев, которые не ценили ее покойного мужа, так что он всю жизнь промыкался в дьяконах, хотя мог бы стать священником, даже настоятелем какого-нибудь храма, и жить припеваючи, не хуже других… А перед этим Павла исключили из семинарии за участие в тайном революционном кружке и хранение запрещенных книг. И вот сейчас он стоял передо мной, прижимая к себе увесистый узел, сделанный из цветастой женской шали. И это – герой моего детства?!
Павел тоже узнал меня.
– Иоасаф? Это ты?! Только ты, как я погляжу, в монахи подался… – брезгливо процедил он.
– Пока что нет, – ответил я. – Но, Бог даст, буду монахом. Как святитель Иоасаф и владыка Никодим.
– Больно речист твой владыка, – огрызнулся мой бывший друг. – Ну да ничего, скоро мы его заставим замолчать. А за ним и всех попов передавим, как клопов. Так что брось-ка ты лучше их, пока не поздно, и иди к нам. А я по старой дружбе замолвлю за тебя словечко перед нашим начальником милиции товарищем Василием Саенко[86]. Подумай хорошенько, монашонок. А как надумаешь, приходи ко мне. Не то смотри, как бы потом пожалеть не пришлось!
8. «Крест Тебе готовят люди»
Праздничная Рождественская служба только что закончилась. И теперь владыка Никодим поздравлял нас с Рождеством Христовым. К нему по очереди подходили сослужившие ему священники, потом дьякона, потом простые монахи… вот, получив благословение, отошел от него отец Илия. Я, как послушник, стоял одним из последних в этой веренице людей, глядя на владыку Никодима. Почему-то мне вспоминались слова рождественской колядки:
Ты не ведаешь, что будет —
Крест Тебе готовят люди.
«Скоро мы его заставим замолчать», – на днях сказал мне Павел. И впрямь – красные в любой миг могут расправиться с нашим владыкой. Как они уже расправились с киевским митрополитом Владимиром, с пермским архиепископом Андроником и Тобольским епископом Гермогеном[87]. Тем более что владыка Никодим в своих проповедях то и дело обличает людские пороки. Неужели он не понимает, что любое его слово новая власть может истолковать как порицание в свой адрес? И за это он может поплатиться жизнью? Почему, отправившись по осени в Киев на съезд архиереев юга России, он не остался там, а вернулся в Белгород? Говорят, ему советовали не делать этого, не подвергать риску свою жизнь. Почему же он не последовал этим советам? Разве он не ведает, что ему уже готовится крест?
Впрочем, стоит ли сегодня думать об этом? Ведь на дворе великий праздник – Рождество Христово. Сейчас весь мир радуется приходу в мир Спасителя. Я читал, что раньше в этот день люди старались совершать только добрые дела. Обидеть человека в святые дни Рождества считалось большим грехом. Кто посмеет решиться на такой грех?
Вдруг дверь собора распахнулась. В сопровождении вооруженных красноармейцев в храм вошел высокий плотный мужчина средних лет в белом овчинном полушубке, в черной косматой папахе, надвинутой по самые брови. И все мы в ужасе отпрянули назад, узнав в нем чекиста Степана Саенко[88], прозванного комиссаром смерти. Хотя на самом деле в ту пору он был комендантом Белгорода.
– Я комендант города. Именем советско власти приказываю вам последовать за мной на допрос, – произнес Саенко, с нескрываемой ненавистью глядя на владыку Никодима[89].
Не говоря ни слова, епископ благословил нас и последовал за ним. А мы… мы молча стояли и смотрели, как его уводят. Понимая, что его ведут на смерть.
9. «За благое дело и смерть не страшна!»
Да, мы стояли и смотрели, как его уводят. Никто из нас не попытался преградить чекистам дорогу или последовать за владыкой Никодимом. Не судите нас строго: человек часто бывает слишком слаб перед лицом неодолимого страха. А что может быть страшнее того, когда в разгар праздника к людям внезапно является смерть за своей страшной жатвой? И вот в святые дни Рождества она посетила и нас.
Вот владыка Никодим перешагнул порог. Вот за ним захлопнулась дверь, словно крышка гроба. И тогда по собору пронеслось рыдание.
– Господи, как же так? Они же убьют нашего владыку… Что же нам теперь делать?
– Слезами горю не помочь, – громко и строго сказала женщина с высокой прической, полускрытой белым кисейным шарфом, и с жемчужными сережками в ушах, по виду учительница. – Мы должны все вместе пойти к ним и потребовать, чтобы владыку отпустили. Они не посмеют нам отказать. Вот увидите.
– А если они и нас убьют? – робко спросил кто-то. – Они ведь могут. Они все могут…
– Эх ты, трус! – оборвал его мужской голос. – Двум смертям не бывать, а одной не миновать! А за благое дело и смерть не страшна!
И мы отправились к зданию ревкома. Сначала нас было немного. Но по пути к нам присоединялись все новые и новые люди, словно весь Белгород встал на защиту владыки Никодима. Я шел в толпе рядом с отцом Илией. А за пазухой у меня была небольшая икона, освященная на мощах святителя Иоасафа. Поэтому мне казалось, что святой Иоасаф тоже идет с нами. А раз это так – чего нам бояться? Мы спасем владыку. Ведь «если Бог за нас, кто против нас?»[90]
По мере приближения к цели толпа разделилась. Часть ее направилась к комендатуре, где находился Степан Саенко. А мы подошли к зданию ревкома и обступили его крыльцо. Через некоторое время на пороге показался Василий Саенко в сопровождении вооруженных красноармейцев:
– Чего пришли! – закричал он. – А ну, расходитесь по домам!
Навстречу ему шагнула женщина, которая привела нас сюда:
– От имени всех нас я прошу вас освободить нашего владыку…
– Что?! – вскинулся Саенко – За врага советской власти просишь! Буржуйская пособница! Взять ее!
По его знаку красноармейцы схватили женщину и уволокли в здание ЧК. Потом я узнал, что она и впрямь была учительницей, директрисой женской гимназии. Фамилия ее была Кияновская. А звали ее Марией[91]. Запомните это имя – Мария Кияновская…
Она оказалась права, эта учительница, мудрая, как женщина, и смелая, как мужчина. комендант Саенко не посмел отказать народу и освободил владыку Никодима. Неужели Богомладенцу Христу удалось смягчить закосневшее во зле сердце «комиссара смерти»? Впрочем, разве святые дни Рождества – не время для подобных чудес?
10. «Он-то был посмелее вас!»
Увы, моя радость была преждевременной. На другой день после своего освобождения владыка Никодим вновь был арестован и бесследно исчез в застенках ЧК. Жив ли он? Об этом мы не знали. Прошел слух, будто его тайно увезли из Белгорода то ли в Харьков, то ли куда-то еще. По крайней мере, так утверждали чекисты. Но я не верил этим россказням. Ведь владыка Никодим был непримиримым и опасным врагом богоборцев. Так что участь его была предрешена заранее. Как сказал мне тогда при встрече Павел Рахов: «Скоро мы его заставим замолчать».
Павел Рахов! А ведь мой бывший друг – один из приближенных начальника милиции Василия Саенко. Похвалялся же он, что если я захочу примкнуть к красным, он сможет замолвить ему словечко за меня. Наверняка он знает, что произошло с владыкой Никодимом! Так неужели ради нашей былой дружбы он не расскажет мне об этом?
Тем же вечером я отправился к Павлу. Разумеется, я не особенно надеялся, что он окажется дома. Однако он был там. Полуодетый, небритый, с налившимся кровью шрамом на щеке и блуждающим взглядом, с недопитым стаканом водки в руке, сейчас он больше походил не на человека, а на злого духа в людском обличье. Увидев меня, он глумливо расхохотался.
– А-а, явился, монашонок! Я знал, что ты придешь. Испугался, значит… Все вы храбрые… на словах. Он-то был посмелей вас!
Я сразу понял, кого имел в виду Павел. Разумеется, он говорил о владыке Никодиме.
– Что вы с ним сделали? – закричал я. – Отвечай! Что вы с ним сделали?
– Так ты за этим пришел? – разочарованно произнес Павел. – О своем владыке хочешь разузнать. А как ты думаешь, что мы с ним сделали? Что мы делаем с врагами народа, а? В распыл твоего владыку вывели, вот что! А сперва – ту училку, что за него просила. Ее товарищ Саенко в тот же день лично пристрелил. Нечего за врагов просить! Через таких, как вы, вся наша революция пропадает!
Он злобно расхохотался мне в лицо:
– Хочешь знать, как умер твой владыка? Что ж, слушай! Сперва товарищ Саенко одним из наших приказал его в расход пустить. Вывели его к ним, в рясе, с крестом на груди. А он их благословил. Тут они и заартачились: мол, не будем в попа стрелять, и все тут! Да только мы и без них управились: обрили его наголо, одели в солдатскую шинель, на голову студенческую фуражку нахлобучили – и снова к стенке! И ваш Бог его не спас! Ха-ха-ха![92]
Он смолк. А потом перешел на шепот, словно хотел сообщить мне важную тайну:
– Я ведь тоже при том был… И что? Наказал меня ваш Бог? А?
…В тот же день я бежал из Белгорода в надежде добраться до белых и вместе с ними сражаться против красных. Конечно, Господь заповедал нам любить и прощать своих врагов. И побеждать зло не ответным злом, а добром. Этой заповеди следовал святитель Иоасаф. О ней же не раз говорил и владыка Никодим. Мало того, он последовал этой заповеди перед лицом смерти, благословив своих убийц. Но можно ли прощать врагов Христа? Нелюдей, которые безжалостно терзают мою Родину и Святую Православную Церковь. Нет, их должно убивать без жалости – за наши поруганные святыни, за проливаемую ими кровь безвинных людей, за смерть владыки Никодима!
11. Вернись, Асафушка!
Я вернулся в Белгород около полугода спустя вместе с армией генерала Деникина. Теперь я был уже не робким и жалостливым юношей-послушником, а солдатом, научившимся и привыкшим убивать. Мстителем, непоколебимо уверенным в том, что он сражается за правое дело. И то, что я увидел в родном городе, лишь укрепило мое желание мстить врагам, платить им злом за зло.
А увидел я опустевший отцовский дом. По рассказам соседей, мой отец умер вскоре после того, как я покинул Белгород. Незадолго до этого к нему приходили красноармейцы, которые искали меня. Они ограбили дом и жестоко избили отца… после того он прожил всего несколько дней. Мог ли я оставить его смерть неотомщенной?
Поклонившись могиле отца, я отправился в Свято-Троицкий монастырь. Разумеется, первым делом я зашел в собор. К моему изумлению, в углу храма вместо отца Илии сидел совсем другой монах. Я подошел к нему. Поначалу он не узнал меня. Когда же я назвал себя, монах оживился:
– Это ты, Иоасаф? А мы-то все гадали, куда ты подевался? Думали, тебя уже и в живых-то нет. А ты вон каким бравым молодцом вернулся! Прямо орел!
– А где отец Илия? – спросил я монаха. В ответ тот горько вздохнул.
– Умирает отец Илия. Вот что, пошел бы ты с ним проститься. Он о тебе много раз спрашивал. Ведь он твой крестный.
– Что? – от неожиданности я чуть не вскрикнул. Как? Отец Илия – мой крестный? Не может быть! Но ведь отец никогда не называл мне имени моего крестного отца. Почему он скрывал это от меня? Или у него были какие-то причины делать это? Что ж, пожалуй, я навещу отца Илию. Хотя бы для того, чтобы убедиться: мы с ним – абсолютно чужие люди.
Едва увидев отца Илию, я понял: он и впрямь умирает. Он долго вглядывался в меня, пытаясь понять, кто я. Тогда я назвался. Услышав мое имя, отец Илия попытался улыбнуться…
– Асафушка… это ты… – голос его был слаб и тих, как шорох падающих листьев. – А я-то уже не чаял, что ты вернешься. Думал, умру и тебя не увижу. А мне надо тебе сказать…
– Отец Илия, а правда, что вы – мой крестный? – перебил я старика.
– Правда, – еле слышно ответил он. – Только я не смел тебе об этом сказать. Видишь ли, это вышло случайно. Твой отец выбрал тебе в крестные другого человека… достойного. Да он вдруг возьми и заболей. А я в ту пору оказался в храме… даже трезвым был. Вот твой отец и позвал меня тебе в крестные. Просто, кроме меня, не нашлось никого… Да сам понимаешь – какой из меня крестный? Я же грешник… чему я могу тебя научить? Потому-то мы с твоим отцом и договорились не сказывать тебе, кто твой крестный. А молиться за тебя… я за тебя всегда молился, Асафушка… какой еще тебе от меня прок? Прости меня, Асафушка… только не оставляй меня… не уходи…
Напрасно он умолял меня остаться. Я больше не желал его видеть. Тоже мне, крестный! Замухрышка и сплетник, бывший пьяница, случайный человек в святой обители – позор иметь подобного крестного! И зачем я только пошел к нему?
А вот отца Митрофана стоит навестить. Может быть, он знает, где похоронили владыку Никодима? Я бы хотел побывать на его могиле. И помолиться за него, чтобы он, в свою очередь, помолился за меня Господу Богу…
– Да, я знаю, где похоронен владыка, – сказал мне отец Митрофан. – На городском кладбище, у северной стены, в братской могиле. Ее легко найти: туда постоянно ходят люди и служат там панихиды по владыке. А на самой могиле лежат цветы, стоят иконки, даже лампадки горят. Впрочем, владыке Никодиму недолго там лежать. В свое время он завещал похоронить его рядом со святителем Иоасафом. И теперь мы исполним его волю. Пусть рядом с владыкой-подвижником упокоится владыка-мученик. Ведь они оба творили одно Божие дело. И были братьями во Христе.
Он немного помолчал, а потом добавил:
– А знаешь, кто нашел его могилу? Отец Илия. Это он выследил их, когда они перевозили тело владыки Никодима на городское кладбище. Он много дней незаметно следил за ними. А ведь тогда, хоть и не было морозов, а все-таки февраль на дворе стоял. Вот он, видать, и простудился тогда и слег… А я-то считал его никчемным человеком! И вот теперь в очередной раз убедился в правоте слов апостола Павла: сила Господня в немощи совершается[93]. Если бы я понял это раньше…
Я стоял как громом пораженный. А потом бросился в келью отца Илии. Мне хотелось попросить у него прощения, сказать, что я очень люблю его и никогда не пожелал бы себе лучшего крестного, чем он. Но старик уже впал в предсмертное забытье:
– Вернись, Асафушка… – умолял он, словно не слыша, как я прошу его очнуться и простить меня. – Вернись…
Это были последние слова моего крестного. Тогда я счел их бредом умирающего. Лишь теперь, на исходе собственной жизни, я понимаю, о каком возвращении он говорил. Что ж, к Богу лучше вернуться поздно, чем вовсе никогда. И все-таки лучше не медлить с возвращением.
12. Победители
Сразу же после похорон отца Илии мне пришлось участвовать в погребении владыки Никодима. Надо сказать, что тело его долго не удавалось опознать – настолько оно было изуродовано. Лишь по надетому на нем монашескому параманду[94] мы догадались, что это он.
Его тело готовили к погребению в Свято-Николаевской церкви, где еще недавно служил мой отец и у стены которой он теперь был похоронен. Облачили в архиерейские одежды и, покрыв полосатой епископской мантией, через весь город пронесли в Свято-Троицкий монастырь. Священники, диаконы, монахи – все мы, сменяя друг друга, несли гроб епископа-мученика. А следом шли люди, провожая владыку Никодима в его последний путь, к свежевыкопанной могиле у северной стены Троицкого собора, рядом с тем местом, где стояла рака с мощами святителя Иоасафа. «Епископ-мученик упокоится рядом с епископом-подвижником» – вспоминались мне слова отца Митрофана. И вот теперь, по смерти своей, владыка Никодим возвращался в Свято-Троицкий собор, чтобы опочить вечным сном возле собрата во Христе – святителя Иоасафа.
А после похорон владыки Никодима я вместе с Белой армией отправился дальше, чтобы сражаться за Святую Русь и мстить ее врагам… и вот оказался на чужбине. Много раз я думал: почему Бог не даровал нам победу? Ведь мы шли в бой за правое дело, за православную веру, царя и Отечество… Отчего же красные богоборцы победили нас?
Теперь я понимаю: то была лишь мнимая победа. Ведь за семь десятилетий своего владычества богоборцы так и не смогли искоренить в России православную веру. И свидетельство тому – вот эта икона[95] в нашем соборе. Взгляните! На ней изображен сонм новомучеников и исповедников Российских. И среди них – священномученик Никодим Белгородский, принявший смерть за Христа в дни Его Рождества[96] . Вера этих людей оказалась сильней, чем злоба и ненависть служителей зла. Новомученики не мстили злом за зло, но побеждали его добром. И Господь даровал им победу: их молитвами совершилось величайшее чудо нашего времени – наша Родина вновь становится Православной Россией и весело празднует святые дни Христова Рождества.
Святый священномучениче Никодиме, моли Бога о нас!
Яблони старца Амвросия
О преподобном Амвросии, старце Оптинском
Не раз спрашивали меня внуки: а отчего это, дедушка, у нас возле дома яблони растут? Ни у кого в нашем селе нет, только у нас одних. Да что и говорить, у нас на севере яблоня – гостья редкая. И посадил я их под окнами неспроста. Неспроста и зову их оптинскими яблонями. Есть такой монастырь в Калужской губернии – Оптина пустынь. Вот как взгляну я на эти яблони – так и вспомню об одном тамошнем монахе. Звали его отцом Амвросием. Впрочем, чаще называли его иначе – старцем Амвросием.
Впервые я о нем услышал, когда еще в семинарии учился. Попала мне тогда в руки одна книжка… А в ней было написано, что всех богов хитрые люди придумали, чтобы простой народ обманывать и себе карман набивать. Не поверил я этому: ведь и отец, и дед мой, хоть и служили в церкви, да хлеб себе в поте лица добывали. А что до их карманов, то, как говорится, всего богатства у них и было: в одном кармане вошь на аркане, в другом – блоха на цепи… Да только как прочел я эту книжку, сомневаться стал: а вдруг то, во что мы верим, и правда выдумка? И нейдут у меня из головы эти думы, не дают покоя. Прямо как червяк в яблоке – точит, грызет изнутри, а поди вынь его оттуда!
Нет бы мне о тех своих думах семинарскому священнику рассказать. Или с отцом посоветоваться. Да только правдой будет сказать, побоялся я. Думал: а вдруг они меня за это накажут? Ведь батюшка мой покойный, сельский дьячок, всю жизнь мечтал, что я священником стану. И всегда мне говорил: смотри, Ваня, учись хорошенько, глядишь – и выйдешь в люди. Кабы я в твои годы, за партой сидючи, ворон не считал, может, и не дьячком бы сейчас был, а иереем…[97] Вот и боялся я, что если сунусь к нему со своими вопросами, он меня и слушать не станет, а просто-напросто отдерет как сидорову козу, да и все тут… Опять же, и из семинарии могут уволить… А учиться мне хотелось, ой как хотелось! Потому и не говорил я никому о своих думах, кроме друга своего, Мити Пономарева, сына священника из Успенской церкви. Он-то мне и рассказал про Оптину пустынь. Там, говорит, живет старец Амвросий. И такой он имеет великий дар духовного рассуждения, что к нему со всей России люди едут за советом и благословением. Вот давай и мы к нему на зимних вакациях[98] съездим. Ведь дружно – не грузно, а врозь – хоть брось!
Только, честно сказать, не по нраву мне пришлась эта его затея. Ведь от нашей Архангельской губернии до Калужской – путь неблизкий. Стоит ли, как говорится, ехать за семь верст киселя хлебать? Опять же вопрос – если к этому старцу Амвросию за советом со всей России приезжают, до меня ли ему будет? И разве могут в наше время быть старцы? Это в древние времена они были, да и то не у нас, а в Египте да в Палестине… Так ведь с тех пор уж с десяток веков прошло, а то и больше. Откуда же теперь старцам взяться? Да еще и у нас. Ладно, думаю, попытка – не пытка. Съезжу я с Митей в эту Оптину пустынь да посмотрю, каков таков этот старец Амвросий. А там видно будет…
Вот на зимних вакациях мы туда вдвоем и отправились. Сперва до Москвы доехали, потом до Калуги, а там и до Козельска. А по пути Митя меня и спрашивает:
– А знаешь ли, Ваня, отчего Оптина пустынь так называется?
– Откуда же, – говорю, – мне знать? Расскажи, если знаешь.
– Да вот, читал я, что давным-давно, еще в XV веке, жил в этих краях человек по имени Опта. Прежде был он атаманом разбойников. Да потом одумался и покаялся, стал монахом и основал обитель. Оттого-то и зовется она в его память Оптиной пустынью. И вот уже почти полвека, как в ней старцы подвизаются: сперва Лев, потом Макарий, а вот теперь – Амвросий… А ездят к ним люди всякого звания – и простые, и знатные, и образованные, и простецы. Даже писатель Гоголь, и тот у старцев бывал, и не раз. Да и не только он…
А надо сказать, как раз незадолго до нашей с Митей поездки я «Вечера на хуторе близ Диканьки» перечитал. Уж очень мне нравилась эта книжка. Вот я и задумался: если даже такой умный человек, как Гоголь, к здешним старцам ездил, так, может, мне, как говорится, Сам Бог велел?..
Тем временем показались вдалеке – справа – город Козельск, а слева, среди зеленого бора: белые стены, башни, купола… Так вот она какая, Оптина пустынь! А вокруг, куда ни глянь, снег лежит, и под ним, словно под белой пеленой, спит-почивает земля-матушка… Эх, думаю, пожалуй, стоило здесь побывать, хотя бы для того, чтобы такую красоту увидеть!
Встретили нас приветливо и сразу провели в гостиницу, чистенькую такую, уютную, везде цветные лампадки горят, окна цветами уставлены. Потом к трапезе пригласили. Пожилой монах-гостиник[99], который нас потчевал, оказался человеком на редкость радушным. А как узнал, что мы с Митей – семинаристы, аж просиял.
– А-а, – говорит, – так ведь и наш старец Амвросий тоже в юности семинарию закончил. Правда, в Тамбове, потому что и сам он из Тамбовской губернии, из села Большая Липовица. Отец его, Михаил Гренков, в том селе пономарем был, а дед – священником. Вот, казалось бы, и Александру (так отца Амвросия в миру звали) прямая дорога была по отцовским да дедовским стопам пойти. Да только он вместо этого, как закончил семинарию, года два учительствовал, а потом, никому ни слова не сказав, уехал в Оптину пустынь и вот уже больше сорока пяти лет тут живет. После узнали, что незадолго до окончания семинарии, во время тяжкой болезни, дал он обет: если выживет, то уйдет в монахи. Когда же выздоровел, то долго не решался обещание выполнить. Как он сам рассказывал – все жался да жался…
С тех пор прошло года четыре. И надумал Александр вместе с другом съездить в Троице-Сергиеву лавру на богомолье. На обратном пути заглянули они в Троекуровскую пустынь к тамошнему старцу-затворнику Илариону. Тот и сказал Александру: «Иди в Оптину, и будешь опытен. Ты там нужен». Вот после этого он к нам сюда и приехал. А потом, вслед за ним, и его друг, тот, с которым они тогда у затворника Илариона были…
Три года был Александр послушником: работал в пекарне, на кухне. А потом постригли его в монахи с именем Амвросий – в честь святителя Амвросия Медиоланского, что в IV веке был епископом в итальянском городе Милане и многих людей обратил к вере: кого – словом, кого – примером жизни во Христе… А еще через год рукоположили монаха Амвросия во диакона, а через два год – во иеромонаха. Да только как поехал он на рукоположение в Калугу, так по пути простудился и заболел, причем настолько тяжело, что и до сих пор все хворает. Даже в храм ходить – и то не может, не то что служить. Как видно, Господь его к иному служению призвал – старчеству. Скольким он помог своими молитвами и мудрым советом! Вот, например, был недавно такой случай…
Тут начал монах рассказывать, что у одного из здешней братии сестра замужем за помещиком. А помещик этот очень почитает старца Амвросия и часто к нему ездит. Вот как-то раз наведался он к старцу, а тот ему:
– Говорят, тут около тебя имение выгодно продается: купи.
– И рад бы, да денег нет, – отвечает гость.
А старец как бы невзначай промолвил:
– Денег… деньги-то будут.
Потом они речь о другом завели. Только как стали прощаться, старец ему опять: «Слышишь – имение-то купи».
Поехал помещик домой, да путь был неблизкий, ночь подошла, а заночевать негде. Тогда надумал он завернуть с дороги к дяде, которого вся его родня за крутой нрав да скупость за версту кругом объезжала. И что же? Тот сам завел с ним разговор: «А отчего ты не купишь имение, что около тебя продается: хорошая покупка!» А потом дал ему взаймы, сколько нужно было. Так и это еще не все: не прошло и недели, как купил помещик имение, нагрянули к нему купцы: просят продать оттуда часть леса. И дали за него ровно столько, сколько все имение стоило. Чудо, да и только!
Слушаю я все это и думаю: да где ж тут чудо? Просто все так совпало удачно: имение продавалось, дядя раздобрился, купцам лес понадобился… Однако после того мне еще больше захотелось посмотреть на этого старца Амвросия… Только вот удастся ли?
Наутро отстояли мы с Митей литургию в монастырском соборе. Потом тот самый монах-гостиник, который нам вчера про отца Амвросия рассказывал, повел нас к нему на благословение. А надо вам сказать, что старец Амвросий жил в монастырском скиту. Идти туда надо было через весь монастырь, а потом – сквозь ворота в колокольне. И тут вдруг подбегает к нам какая-то баба-крестьянка да как бухнется монаху в ноги, да как заголосит:
– Батюшка Абросим, хоть ты помоги! Сил моих нет, пуще глаза их берегу, а они все дохнут! Пожалей, родимый!
Монах и рта раскрыть не успел, как она ему все выложила: мол, нанялась она к барыне за индюшками ухаживать, а те дохнут и дохнут… а хозяйка ее бранит и выгнать грозится. Говорит она это, а сама плачет навзрыд…
А я тогда, стыдно сказать, чуть со смеху не покатился: так вот с чем к старцу со всей России народ ездит! Посоветуйте, батюшка, чтобы у меня индюшки не дохли… Только монах и не подумал смеяться: поднял он бабу с земли, помог с одежды снег отряхнуть.
– Не плачь, слышь-ка ты, не плачь. Слезами горю не поможешь. Пойдем-ка лучше, я тебя к старцу Амвросию сведу. Бог даст, он твоей беде поможет.
Она от этих слов аж воспрянула. Потом слышал я от отца Амвросия такое присловье: «От ласки у людей бывают совсем иные глазки». И не раз убедился – это правда.
Ладно, как говорится, вернусь на прежнее. Вот пришли мы в скит… Домик отца Амвросия стоял возле самой ограды, даже немного за нее выдавался, и имел два входа: один для мужчин, другой для женщин. Устав в скиту был строгий, а потому женщин туда не пускали, вот старец Амвросий и принимал их в пристройке, что выдавалась за ограду. Называлась она «хибаркой». Туда-то и отвел монах бабу-птичницу. А нас с Митей с другого входа ввел в приемную для мужчин. Там уже много народу набралось: и монахи, и паломники – и все ждут старца. Вот я тоже встал у двери и думаю: что ж, вот сейчас и посмотрю, каков этот отец Амвросий…
Не знаю, сколько мы его прождали. Может, час или даже больше. Я уже начал было подумывать – не уйти ли? Как вдруг он входит. Все сразу на колени встали, и я тоже. Только все равно успел его разглядеть: среднего роста, худощавый, сгорбленный, в белом подряснике и черной монашеской шапочке, в руке палочка. С виду – самый обыкновенный старичок-монах. А вот глаза… Ни у кого больше не видал я таких глаз. Казалось, он видит каждого человека насквозь. И замечает в нем не только то дурное, что тот стремится утаить. Но и то доброе, о котором тот давно позабыл или даже вовсе не ведает…
Подошел он ко мне, благословил и вдруг говорит: «Хотел посмотреть, каков я? Что ж – смотри!» Тихо сказал, да только для меня эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Ведь я никому, даже другу Мите, не говорил, что еду в Оптину пустынь просто из любопытства. Как же он об этом узнал?
Поднимаю голову, смотрю, а он улыбается: «Ну, ступай с Богом. А завтра после литургии приходите ко мне оба».
Я в ту ночь глаз не сомкнул, все думал – как же я с ним завтра говорить буду? Ведь если он мои тайные мысли угадал, то, выходит, от него ничего не скроешь. А ну как начнет он меня бранить да стыдить, что плохо о нем думал да негожие книжки читал? Вот и думал я обо всем этом, думал, да только ничего путного не придумал. Так и ночь прошла.
На другой день после обедни пришли мы с Митей в скит. Первым меня к старцу в келью провели. Отец Амвросий, все в том же белом подряснике и черной шапочке, лежал на дощатой койке, покрытой ковриком. В руке у него были четки. Встал я перед ним на колени, а сам со страху молюсь: «Господи, помоги!» А ну как он сейчас меня обличать начнет? Да я же тогда от стыда сквозь землю провалюсь!
Только он вместо этого меня благословил. А потом принялся расспрашивать, кто я и откуда. Ласково так, словно я ему родной был. Только я все равно его боялся: а вдруг это он нарочно добрым прикидывается, чтобы получше выведать, что у меня на уме? И тут он вдруг говорит:
– А ты, Ваня, басни Крылова любишь читать? Прочти-ка мне «Сочинителя и Разбойника». Или нет, лучше «Безбожников».
И достает из-под подушки… что бы вы думали? Книгу басен Крылова. Толстую такую, потрепанную. Как видно, сто раз читанную-перечитанную. Подает мне, а сам смотрит и улыбается: давай, мол, читай… Ну, я и стал читать:
Был в древности народ, к стыду земных племен,
Который до того в сердцах ожесточился,
Что противу богов вооружился…
Кричат, что суд небес и строг, и бестолков;
Что боги или спят, иль правят безрассудно;
Что проучить пора их без чинов;
Что, впрочем, с ближних гор каменьями нетрудно
На небо дошвырнуть в богов…
И решили безбожники небо камнями закидать и стрелами засыпать. Да только все эти камни и стрелы им же самим на головы и свалились и зашибли их до смерти. Вот так они сами «от дел своих и казнились».
Скажете, сказка? Только от нее у меня вдруг словно глаза открылись. И понял я, что напрасно сомневался, есть ли Бог, и считал Его чудеса всего лишь счастливым совпадением обстоятельств. Разве случайность все то, что случилось со мной? Нет. Это Господь привел меня сюда, в Оптину пустынь, к старцу Амвросию. И его устами ответил мне. А я уж было поверил обманщику, написавшему ту безбожную книжку! Как же мне стало стыдно! Стою перед старцем на коленях, а сам плачу… Вдруг слышу его голос, тихий такой, словно летний ветерок повеял:
– Полно, Ваня, полно плакать. Сидор и Карп в Коломне проживают, а грех и беда с кем не бывают. Есть кое-что и похуже неверия. Вот, говорят, был один офицер: все хвастался, что в Бога не верит. Когда же угодил на войну да засвистели вокруг него пули, так он со страху давай молиться: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» А как потом узнали об этом его товарищи да стали над ним смеяться, он и ну отказываться, мол, неправда все это, не было ничего такого… Лицемерие, оно еще хуже неверия. А теперь давай-ка я тебя исповедую.
Я из скита как на крыльях летел. И так радостно мне было, что, как говорится, ни словом сказать, ни пером описать. Вот как если бы болен я был тяжело, смертельно, и вдруг поправляться начал. И точно, после той встречи с отцом Амвросием начала оживать душа моя.
Позже когда вспоминал я тот разговор со старцем Амвросием, то подумал: а отчего это он сперва хотел, чтобы я ему другую басню Крылова прочел, про писателя и разбойника? Оговорился, что ли? Раздобыл книжку, отыскал басню… И понял: и это было не случайно. Помните, какова мораль у этой басни? Сочинитель-безбожник оказался куда опаснее самого лютого разбойника: его книги целую страну до погибели довели. Ведь, как сказал другой писатель, только православный и тоже бывавший в Оптиной пустыни, если нет Бога, то все дозволено. Да только злая воля заводит в злую долю…
…Тем временем учеба моя в семинарии близилась к концу. Теперь я уже твердо решил, что стану священником. Одного лишь никак не мог решить: жениться мне или пойти в монахи, как отец Амвросий? Очень уж хотелось хоть немного, да на него похожим быть… Опять же, прослышал я от кого-то, будто в монастыре легче спастись, чем в миру. А то и вовсе, что по заповедям Христовым лишь в монастыре жить можно. Только, по правде сказать, давно уже приглянулась мне одна девушка, дочь дьякона. Катей ее звали. Хорошая такая: добрая, кроткая, набожная – лучше жены не сыскать. А ведь не зря сказано, что добрая жена дороже золота и камней самоцветных, доброй хозяйкой и дом стоит. Опять же, и Катя на меня глаз положила. И родители наши были не прочь, чтобы мы поженились. Тут бы, как говорится, веселым пирком да за свадебку, да я все думаю: а может, грех это, если я не в монастырь пойду, а женюсь? Ведь как же тогда смогу я жить по заповедям Христовым? Вот так все и маялся, пока не вспомнил: один ум – хорошо, а два – лучше. И решил спросить совета у отца Амвросия. Хотя и не надеялся, что он мне ответит. Мало ли у него других, более важных дел? А я его от них пустыми вопросами отвлекаю. Даже жалел потом, что письмо ему послал, да поздно было возвращать.
И опять пришлось мне убедиться, насколько плохо я знаю старца Амвросия. Не ждал я от него ответа, а получил его. Вот что он мне написал:
«Чадце сомневающееся. Не в том дело, кто где живет, а в нас самих. Главные вражьи хитрости две – бороть христианина либо высокоумием и самомнением, либо малодушием и отчаянием. Жить можно и в миру, только не на юру, а тихо. Или так, как колесо вертится: одной точкой земли касается, а остальными вверх стремится. А про женитьбу твою скажу так: если вы друг другу нравитесь, и невеста благонадежного поведения, и мать ее доброго нрава – женись. Гусь да гагара – неладная пара, да вместе плавают. Хоть среди мира и семейства и трудно от земного отрешиться, но евангельские заповеди даны людям, живущим в мире, – ибо тогда ни монахов, ни монастырей еще не было…»
На всю жизнь благодарен я отцу Амвросию за этот мудрый совет! А вам, как подрастете да заживете своим домком, дай Бог прожить в таких же любви и согласии, как прожили мы с Катей!
Через год, по весне, снова собрался я в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Правда, как ни просила Катя, не решился взять ее с собой – тогда она ребенка ждала, нашего первенца, которого мы в честь старца Амвросием назвали. В ту пору в наших краях еще кое-где снег лежал, зато там, в Калужской губернии, все зеленело! Тогда-то и увидел я, как цвели оптинские яблони: весь скит утопал в их цветах, словно в тех белых кружевах, что плетут у нас на севере. А ведь в тот раз, зимой, они мне мертвыми казались. Да пригрело солнышко, и ожили, зазеленели, зацвели яблони. Вот так и здесь, у отца Амвросия в скиту оживали души даже таких людей, которые уже казались пропащими…
Думал я, что старец, как тогда, назавтра же меня примет. Однако на сей раз ждать пришлось больше недели. Так ведь теперь куда мне было торопиться! Зато сколько всяких удивительных историй наслушался я за эти дни об отце Амвросии! Что лучше запомнилось – вам сейчас расскажу.
Как-то приехали к нему из самого Петербурга две сестры. Старшая мечтала в монастырь уйти. А у младшей уже жених был, только и оставалось, что свадьбу сыграть. Вот они и приехали благословения просить: кому – замуж, а кому – в святую обитель. И что же? Младшей, невесте просватанной, старец вручает монашеские четки. А старшей, той, что в монастырь собиралась, говорит: «Какой тебе монастырь! Ты замуж выйдешь, да не дома!» И даже назвал губернию, где она после замужества жить будет. Вернулись девушки домой, а дальше вот что было. У младшей сестры в самый последний момент свадьба расстроилась, и вскоре стала она монахиней – Христовой невестой. Вот и пригодились ей монашеские четки – подарок отца Амвросия. А старшая получила письмо из дальней губернии, где ее тетка жила. Мол, есть тут у нас женский монастырь, приезжай да посмотри, может, и надумаешь остаться. Она и приехала, да познакомилась там с одним благочестивым человеком, уже в годах, и вышла за него замуж, а в Петербург больше не вернулась – осталась жить в тех краях. Что ж, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает.
А вот что я слышал от одной шамординской монахини… Шамордино – это такая женская обитель недалеко от Оптиной пустыни. Историю ее пересказывать не буду, упомяну лишь, что возникла она благодаря отцу Амвросию. Он часто бывал в ней. И многие ее сестры поступили туда по его благословению. Так вот, встретилась мне в Оптиной пустыни тамошняя сестра, Н. (в миру ее Верой звали), девушка молодая, пригожая собой, образованная – она в Москве женские курсы закончила. Слово за слово, и вдруг она меня спрашивает:
– А хотите ли, батюшка, знать, как я в монастыре оказалась?
По правде сказать, мне и самому это любопытно было: ведь вон сколько сейчас твердят, будто вера и ученость – две вещи несовместные. И нынешние образованные, а правильнее сказать, нахватавшиеся кое-каких знаний люди чаще монастыри стороной обходят, чем в них уходят. Так отчего же это такой красавице и умнице да вздумалось монахиней стать?
– Что ж, – говорю, – матушка, расскажите.
И поведала мне монахиня, что мать ее очень почитала отца Амвросия, а она за это над ней смеялась: «И что ты нашла в этом лицемере?» Потому что считала себя самой умной, а верующих людей – простачками, которых всякие обманщики за нос водят. Однако как-то раз из любопытства поехала с матерью в Оптину пустынь и даже к старцу на благословение пришла. Только, стала позади всех, за самой дверью, чтобы ее не видно было. Вот вошел старец, оглядел всех. И вдруг заглядывает за дверь, где спряталась Вера… «А это что тут за великан стоит? Это Вера пришла посмотреть на лицемера?»
– Вот с тех пор я в Бога и уверовала, – призналась монахиня. – А потом ушла в Шамордино. Только прежде я об этом никому не рассказывала: стыдно, что раньше неверующей была. А вот вам, батюшка, отчего-то решилась поведать… молитесь за меня, грешную.
Стою и думаю: знала бы она, что совсем недавно и я таким же был! Пока не взыскал меня Бог через старца Амвросия. А я-то уж было об этом забывать стал… Эх, не хвались, горох, что лучше бобов, размокнешь – сам лопнешь…
Или такая история. Я ее, как говорится, своими глазами видел, своими ушами слышал. А вот теперь вам поведаю.
Иду я раз мимо хибарки старца, где он женщин принимал. И слышу, как одна из них рассказывает: мол, она сюда пешком из Воронежа пришла. Ноги-то у нее больные, вот она и надумала пойти к старцу, чтобы он ее исцелил. Да по пути заблудилась в лесу, упала на землю и плачет. Тут подходит к ней какой-то старичок с клюкой, с виду – монах. Расспросил, куда она идет, а потом махнул своей палочкой в сторону: вон туда сверни! И точно – сразу за поворотом монастырь показался…
– Да это ж, наверное, тебе здешний лесник встретился! – судачат бабы. – Или кто из монахов по лесу бродил. Вот он-то тебя к монастырю и вывел…
Вдруг дверь хибарки открывается, выглядывает оттуда один из келейников старца и спрашивает: «Где тут Авдотья из Воронежа?»
Женщина так и ахнула:
– Так ведь это же я!
– Тебя батюшка зовет.
Вошла она к старцу, а я из любопытства решил подождать ее возвращения. Долго ждал. Наконец выходит эта Авдотья, а сама вся в слезах:
– Я его узнала! Это он мне в лесу встретился и к монастырю вывел!
А ведь отец Амвросий сколько лет из скита не выходил, и внешность у него была такая – ни с кем не спутаешь. Одно слово – чудо.
Да только таких чудес много было. И творил их старец Амвросий как бы невзначай. Шел раз один оптинский монах по двору, а зубы у него в тот день так болели, аж спасу нет! Вот встречается ему отец Амвросий и как ударит по щеке! И что же? Боль как рукой сняло. Потом, как проведал народ про это чудо, некоторые даже нарочно к старцу подходили и просили: «Батюшка Абросим! Побей меня, чтобы голова прошла!» Простые люди его за своего считали. Ведь он, хоть и был священником и образованным человеком, держался с ними на равных.
И говорил с ними на их же языке. С прибаутками да поговорками. Зато его слово до каждого сердца доходило. Ведь недаром сказано: на всякого Егорку есть поговорка.
А вот еще расскажу такой случай. Раз пришел я к нему на благословение. В приемной кого только не было: и монахи, и я, дьякон, и важный купчина с толстой золотой цепью на пузе, и еще какой-то худощавый старик с поджатыми губами, по слухам, князь. А в дальнем углу стояло несколько мужиков, судя по их виду, из какой-то дальней губернии. Вышел старец, благословил всех и подошел к ним. Тут один из этих мужиков ему и говорит:
– Батюшка Обросим, мы к тебе с поклоном. Вот, прослышали, что у тебя ножки болят, так сделали тебе мягкие сапожки – носи на здоровье.
Он сапоги взял и потом долго о чем-то говорил с каждым из них. А ведь если по-человечески судить, первый почет не мужикам должен был оказать, а князю да купчине. Ведь даже у нас в церкви в первых рядах богатые да знатные стоят, а убогие сзади жмутся… Только для старца Амвросия все были одинаково дороги: что барин, что мужик, что человек образованный, что та баба с индюшками… И всех он любил одинаково, невзирая на лица.
Рассказывали, что беседовал он раз с одной крестьянкой. И тут докладывают ему, что приехала какая-то знатная дама, требует срочно ее принять. «У меня все равны, – отвечает старец, – мышка, хоть и маленькая, да поди поймай ее».
…Наконец настал и мой черед к нему идти. И опять встретил он меня как родного и долго беседовал со мной. Под конец я ему говорю:
– Давно хочу у вас прощения попросить, батюшка. Я ведь, когда впервые о вас услышал, не поверил, что в наше время могут быть старцы.
А он поник головой и отвечает:
– Что ты, что ты, отец Иоанн… Разве я старец? Славны бубны за горами, а подойдешь – лукошко. Одно утешение – хоть и сзади, да в том же Христовом стаде. А так, не знаю, есть ли на свете кто неразумнее меня. Вот уж прожил в монастыре сорок с лишком лет, а не нажил и сорок реп. Душой и телом слаб, а берусь за дело сильных и здоровых. Да только людское горе – как море. И столько скорбей у людей, столько скорбей…
Поднял я на него глаза – да так и обмер. Сколько раз прежде видел я отца Амвросия! А вот таким не видел никогда. Передо мной сидел больной, сгорбленный старик в монашеской одежде… И тогда я понял, какую тяжкую ношу наших скорбей, грехов и сомнений взял на себя этот человек. Потому что любил нас.
…Напоследок он мне вот что еще сказал:
– Помнишь, как Спаситель заповедал Своим ученикам: «…будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»[100]. А знаешь ли, что это означает? Быть простым, как голубь, значит ни на кого не сердиться и прощать своим обидчикам. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем – мое почтение. А змея потому мудрой почитается, что больше всего хранит она свою голову. А когда меняет кожу, проползает между камнями, чтобы старую шкурку с себя содрать, хоть это и больно. Вот и ты, если желаешь жить по Божиим заповедям, терпи все невзгоды и полагайся на Бога. И как бы тебе трудно ни приходилось, храни веру. Зло, хоть вперед и забегает, да никогда не одолевает. Помни это. А теперь прощай, отец Иоанн. Нескоро мы с тобой свидимся. Бог да благословит тебя.
Не мог я тогда взять в толк, отчего это он со мной прощается. Да еще почему-то и надолго. Потому что собирался на следующий год снова в Оптину пустынь приехать. Только человек ходит, да Бог его водит: в конце лета родила моя Катя сына. Говорил я уже вам, что назвали мы его в честь старца – Амвросием. Правда, потом Катя долго болела, так что поправилась лишь к следующей весне. А затем, на Успение Пресвятой Богородицы, рукоположил меня владыка Александр[101] во священника и послал служить на приход в дальнее село. Лишь в конце зимы того же 1891 года узнал я, что 10 октября[102] в Шамординском монастыре отошел ко Господу отец Амвросий.
Так вот отчего тогда, год назад, он прощался со мной! Только как вспомню его слова: «нескоро мы с тобой свидимся», – так и подумаю, что когда-нибудь, уже не в этой жизни, все-таки увижу его. Хотя не знаю, буду ли этого достоин. Одна надежда: что и я, как он говаривал, «хоть и сзади, да в том же Христовом стаде».
Умер мой старец Амвросий. Только я все равно решил съездить в Оптину пустынь. Чтобы побывать на его могиле. И помолиться о нем.
На этот раз я приехал в Оптину пустынь в конце лета. Там все было по-прежнему. Знакомый приветливый монах-гостиник, теперь уже седой старик, множество паломников, утопающий в зелени и цветах скит, где еще недавно жил старец Амвросий. И яблони. Только теперь их ветви сгибались под тяжестью спелых яблок: желтых, зеленых, красных. Да, все там было по-прежнему. Не было лишь отца Амвросия. Как спелый плод, созрела его душа для Царства Небесного, отошла ко Господу.
Я побродил по монастырю. Помолился в соборе. Затем подошел к его северо-восточному углу. Там были похоронены прежние оптинские старцы, Лев и Макарий, о которых мне когда-то рассказывал друг Митя, а теперь иеромонах Даниил… Они были учителями старца Амвросия. И теперь он упокоился рядом с ними. На его мраморном надгробии я прочел надпись по-церковнославянски. По-русски она звучит так: «…для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем…»[103] Когда-то давно святой апостол Павел сказал это о себе. Но эти слова можно было бы сказать и об отце Амвросии. Для всех он был всем…
Тем временем к могиле подошла какая-то старушка. Постояла, помолилась. А потом и говорит:
– Вот мы и осиротели, батюшка. Умер наш отец родной. Я-то его давно знала, все ходила к нему за благословением. И Сема, сынок мой, тоже. Он на телеграфе здесь, в Козельске, служил, вот и носил ему телеграммы. Много их ему посылали, чай, со всей России… А потом Сема чахоткой заболел и умер. Пошла я к отцу Амвросию – мы же все к нему со своим горем ходили. А у самой сердце болит, так болит, что аж рвется на части! Он меня по голове погладил и говорит, ласково так: «Оборвалась, Анна, твоя телеграмма». – «Оборвалась, – говорю, – батюшка…» И плачу. Только от тех слов его да от его ласки у меня с души будто камень свалился. Как при отце родном жили мы при нем. Всех он любил и обо всех заботился. Теперь уж нет таких старцев. А может, Бог и еще пошлет!
И показалось мне, что сейчас в лице этой женщины вся Россия-матушка поминает добрым словом отца Амвросия, который любовью своей утолял народное горе.
…Захотел я тогда увезти из Оптиной пустыни что-нибудь на память о старце Амвросии. И попросил у тамошних монахов яблок из скита, где он жил. Думал, посажу их семена у себя перед домом, вырастут из них яблони. Вот и буду я на них смотреть да вспоминать старца… Только хоть и привез я к себе на север яблоки из Оптиной пустыни, да так и не смог вырастить из них яблонь. И поначалу очень жалел об этом. А потом вспомнил, как отец Амвросий говаривал: «Главное дело – в нас самих». Такая ли это беда, что не взошли в нашей северной земле семена оптинских яблонь? Главное – чтобы взросло то семя веры, что насадил в мою душу отец Амвросий. И в свое время принесло духовный плод.
Так что те яблони, что у нас перед домом растут, на самом деле вовсе не из Оптиной пустыни… Да только разве это важно?
Служитель тайн господних[104]
1. Иосиф собирается в путь
Иосиф сидел на пороге своего дома и смотрел на дорогу, уходившую далеко-далеко за горизонт, куда сейчас опускалось заходящее солнце. Вот и его жизнь близилась к закату… Но Иосиф не боялся смерти. Потому что знал – это всего лишь странствие. Человек покидает этот мир и уходит в шеол, царство мертвых. Не случайно смерть называют исходом. Как и то давнее событие, когда пророк Моисей вывел его народ из египетского рабства в Землю обетованную. Скоро и ему предстоит исход… Что ж, он готов. Как говорится, и посох в руке, и чресла препоясаны, и светильник зажжен, чтобы лучше видеть дорогу. Веди же, Господи!
Что связывает его с этой жизнью? Если подумать – ничего. Он прожил достаточно – почти сто десять лет. Дай Бог каждому такой долгий век! Вдобавок счастливый век. Разве беда, что ему, потомку великого и славного царя древности – Давида, приходилось зарабатывать себе на жизнь трудом плотника? Ведь Сам Господь заповедал человеку: «…в поте лица твоего будешь есть хлеб»[105]. Иосиф тоже добывал свой хлеб в поте лица. Зато он не пахнул чужой кровью, не горчил чужими слезами. Кто из сильных и славных земли может похвалиться этим?
И другую заповедь Господню – «Плодитесь и размножайтесь» – он тоже выполнил. От покойной жены Саломии у него четверо сыновей и две дочери. Это его родные дети. Но в его доме живет еще один Ребенок, Отрок по имени Иисус. Люди считают Его сыном Иосифа от второй жены, Марии. Им невдомек, что Иисус – не сын Иосифа. Тогда Чей же Он Сын? Это тайна, до поры сокрытая от людей. И хранителем и служителем этой тайны является он, Иосиф, мнимый отец Иисуса. Точнее сказать, Бог избрал его послужить этой тайне. Но справился ли он с этим служением?
Иосиф закрыл глаза – и на него волной нахлынули воспоминания…
2. Загадочное приглашение
…Он работал, не покладая рук: Самуил, зажиточный крестьянин из Назарета, заказал ему три новых деревянных плуга, а в придачу – три ярма для недавно купленных им трех пар волов. Это был выгодный заказ, каких у Иосифа не бывало уже давно. Неудивительно, что он старался выполнить его как можно лучше и закончить к условленному сроку. И уже почти закончил работу, когда к его крыльцу подъехал незнакомец:
– Мир тебе! – учтиво поздоровался он с Иосифом. – Не ты ли будешь Иосиф, сын Илии и Иакова?[106]
– Это я, – ответил Иосиф, исподлобья оглядывая незваного гостя, оторвавшего его от работы. Судя по запыленной одежде, тот прибыл откуда-то издалека. Но что ему нужно от Иосифа?
– Меня послал к тебе первосвященник, – пояснил незнакомец. – Он хочет видеть тебя. Я приехал, чтобы отвезти тебя к нему.
Иосиф растерялся. Его хочет видеть первосвященник? Сам первосвященник? Но зачем? Ведь если столь высокопоставленные особы удостаивают своим вниманием простых людей, то явно неспроста… Вот только что же могло понадобиться первосвященнику от него, плотника Иосифа?
Всю дорогу до Иерусалима Иосиф раздумывал над этим. Но так ничего и не придумал. Мало того – недоумение его усилилось, когда, явившись к первосвященнику, он увидел, что того поджидают еще одиннадцать мужчин, одетых, как и он, по-дорожному, с посохами в руках. Некоторые из них даже были знакомы Иосифу. Вот Матфан, вот Саул, а вот и Наум… Еще бы ему их не знать! Ведь все они, как и Иосиф, потомки великого царя Давида… Выходит, первосвященник призвал к себе именно мужей из рода царя Давида. Но с какой целью?
Однако Иосиф не успел найти подходящего объяснения и этой загадке. Потому что как раз в это время к собравшимся вышел первосвященник Захария[107], седовласый, некогда высокий, но теперь согбенный годами старец. А вот глаза у него были как у юноши – ясные, живые, прозорливые, словно орлиные очи. И Иосиф вспомнил слухи, ходившие в народе, будто Захария – провидец, которому ведомы тайны и чудеса Господни, сокрытые от прочих людей. Таких, как Иосиф. Хотя, по правде сказать, он тоже был бы не прочь хоть раз в жизни увидеть чудо. Только где ему! Вот он уже восемьдесят лет живет на свете – и не видал никаких чудес!
Раздумья Иосифа прервал голос первосвященника:
– Мужи Израильские! Я призвал вас для важного дела…
Вслед за тем он поведал собравшимся, что при Иерусалимском храме живет Дева Мария, дочь Иоакима и Анны. Трехлетней девочкой родители привели Ее в храм и посвятили Богу. Но теперь Ей уже четырнадцать лет, и по закону Она должна покинуть храм и вернуться в родительский дом или выйти замуж. Однако возвращаться Ей некуда: Иоаким и Анна давно умерли. Вдобавок Мария дала обет: ради Бога, на служение Которому Она посвящена, навсегда остаться девой[108]. И все-таки она больше не может жить при храме. Таков закон. Поэтому они, служители храма, решили позаботиться о сироте и обручить Марию с почтенным и благочестивым человеком, который возьмет Ее в свой дом и станет заботиться о Ней. Поскольку же Мария происходит из рода царя Давида, то по закону должна быть обручена с человеком из того же рода. А человека этого пусть изберет Сам Господь.
– Отдайте мне свои посохи, – заключил свою речь Захария. – Мы возложим их на храмовый жертвенник. А потом помолимся, чтобы Господь избрал среди вас того, кто станет обручником Марии. И да свершится воля Его!
По правде сказать, Иосиф был удивлен услышанным. Так вот зачем его вызвали в Иерусалим! Но какой из него жених? Ведь он уже старик. Что скажут соседи, если он вернется из Иерусалима в Назарет с юной женой? Нет, он не собирается жениться вторично – он слишком любил свою покойную Саломию, и другой супруги ему не надо. Впрочем, он беспокоится зря. Ведь мужа для Марии изберет Сам Господь. Захария поступил мудро, положившись в этом деле на Божиию волю. Уж Господь-то знает, кого избрать… и это явно будет не Иосиф. Что ж, да свершится воля Его!
Успокоенный этой мыслью, Иосиф отдал свой посох первосвященнику. А потом вместе с другими мужами из рода Давидова и священниками, сопровождавшими Захарию, отправился в Иерусалимский храм.
3. Иосиф – Божий избранник
Иосиф стоял в притворе храма[109]. А в другой его части, которая называлась Святое, Захария со священниками, возложив двенадцать посохов на жертвенник, молился Богу о том, чтобы Тот избрал для посвященной Ему Девы «мужа по сердцу Своему». Иосиф тоже пытался молиться. Однако справа от него о чем-то яростно спорили между собой несколько фарисеев и саддукеев[110], и до Иосифа то и дело доносилось:
– А по закону выходит так!
– Да что ты смыслишь в законе? Недоучка!
– Да уж побольше твоего смыслю! Мой учитель знаешь кто был… так что слушай меня да помалкивай! Ясно?
Сзади доносился звон монет: там располагались прилавки менял. Тут же мычали приготовленные в жертву тельцы, блеяли овцы, разговаривали между собой люди – шум стоял почти как на ярмарке[111]. «Да свершится воля Твоя, Господи» – только и смог прошептать Иосиф. И замер в ожидании: вот сейчас он наконец-то станет свидетелем чуда, услышит, что Бог возвестил Захарии…
– Идет! Идет! – толкнул его в бок стоявший рядом Наум.
Иосиф поднял голову. К ним в сопровождении священников выходил Захария. Так что же сказал ему Господь? Но напрасно Иосиф пытался прочесть ответ на лице престарелого первосвященника. Почему он молчит? Неужели Бог не ответил ему?
– Вот ваши посохи, – произнес Захария. – Возьмите же их.
Мужи из рода Давидова по очереди подходили к первосвященнику и брали каждый свой посох. Иосиф шел последним, разочарованно думая о том, что напрасно он так ждал чуда, напрасно надеялся, что Бог ответит Захарии… а Он взял, да и не ответил, вот и верь после этого в чудеса… Он уже протянул руку за посохом, как вдруг услышал хлопанье крыльев. В следующий миг ему на голову опустилась какая-то птица. Он взял ее в руки: то была белая голубка[112]. К изумлению Иосифа, птица совершенно не боялась его, не пыталась вырваться – лишь косилась на него круглым янтарным глазом, словно недоумевая, почему этот человек смотрит на нее с таким испугом…
А вокруг раздавался изумленный шепот:
– Глянь-ка, глянь!
– Вижу! Откуда здесь эта птица?
– Из его посоха вылетела!
– Вот это да! Уж не знамение ли это?
– И точно знамение!
– Чудо! Настоящее чудо!
– А посох его, глядите! Посох-то расцвел!
– Жив Господь! Он услышал наши молитвы! Благословен Бог отцов наших!
– Господь явил Свою волю! – произнес Захария, указывая на Иосифа. А потом обратился к нему: – Ты избран Господом, чтобы принять к себе и блюсти Его Деву.
Вокруг Иосифа мгновенно образовалась толпа. «Чудо! Чудо! Знамение! Божий избранник!» – доносилось до него. А он стоял, держа в одной руке голубку, а в другой – расцветший посох и не веря своему счастью. Выходит, его тайная мечта все-таки сбылась. Он стал свидетелем чуда. Мало того, это чудо Господь совершил ради него. Теперь все видят, кто из мужей рода Давидова достоин принять к себе Деву, посвященную Богу, и заботиться о Ней. Из всех их Господь избрал его.
Тогда Иосиф еще не знал, каким испытанием станет для него это избранничество…
4. Первое испытание
В Назарет Иосиф вернулся вместе с Марией. Люди считали их мужем и женой. Хотя на самом деле они жили как брат с сестрой. Иосиф плотничал, Мария рукодельничала: вышивала заказанную ей завесу для Иерусалимского храма. А когда закончила работу, отпросилась в гости к Елизавете, жене первосвященника Захарии, приходившейся Ей родственницей. Иосиф охотно отпустил Марию: пускай отнесет завесу, а заодно и погостит у Захарии с Елизаветой. Тем более что те любят Ее как дочь – ведь у них никогда не было своих детей…
Мария пробыла у Захарии и Елизаветы около трех месяцев. А когда вернулась в Назарет, Иосиф заметил неладное. Похоже, Она ждала ребенка. Эта новость смутила Иосифа: ведь он хорошо помнил, что Мария дала обет никогда не выходить замуж. Выходит, Она нарушила его! И тем самым согрешила перед Богом. А вдобавок и перед Иосифом. Ведь в глазах людей он – Ее муж. Но все понимают – он слишком стар, чтобы иметь детей. Значит, Мария ждет ребенка от кого-то другого. И Иосиф допустил это! Какой позор!
Что же ему теперь делать? Прилюдно обличить Марию, как нарушительницу обета и неверную жену? Нет, пусть даже Она и виновна, он не сделает этого: ведь тогда по закону Ее должно предать смерти. Но если он скроет Ее проступок, то окажется лжецом, а ложь – мерзость перед Богом. Как бы ни поступил Иосиф, ему придется брать грех на душу. Как же быть? И самое главное, почему Мария не спешит повиниться перед ним, не спешит признаться, от кого ждет ребенка? Неужели Она не чувствует Своей вины? Неужели Она не замечает, как по Ее вине страдает Иосиф?
Но Мария молчала. И тогда Иосиф решил сам добиться от Нее признания:
– Мария, что случилось? Как Ты могла совершить такое? Не Ты ли была воспитана при Божием храме? Не Ты ли слыла примером скромности для других дев? Не Ты ли дала обет ради Господа хранить девство? Так где же Твои клятвы, Мария? Где Твоя скромность? Где Твоя благодарность за мои заботы о Тебе? Вместо радости Ты принесла мне горе, вместо похвал – укоры, вместе чести – позор. Мне стыдно даже говорить о Твоем грехе, но Ты, похоже, его не стыдишься… Что Ты можешь сказать в Свое оправдание, Мария? Отвечай же…
Мария стояла перед ним потупив глаза, и лицо Ее заливала краска стыда. Иосиф уже поверил было – сейчас Она признается… В самом деле, когда он смолк, Мария заговорила:
– Жив Господь – Я не познала греха и доныне остаюсь Девой. А То, Что во Мне, – от Божия хотения и по Божию действию. Потерпи немного, Иосиф. Скоро ты узнаешь правду.
Иосиф ожидал чего угодно, но не такого ответа. «То, Что во Мне, – от Божия хотения и по Божию действию». Что за загадка? Впрочем, он не собирается ее разгадывать. От кого бы Мария ни ждала ребенка – это не его дитя. Значит, им должно расстаться. Но без огласки, чтобы избежать ненужных людских пересудов. Пусть Мария идет куда хочет… Нет, он поступит иначе: сам тайно уйдет от Нее в чужие края. Пусть он уже стар для таких странствий – зато совесть его будет чиста!
Той же ночью Иосифу во сне явился ангел Господень:
– Иосиф, сын Давидов! – сказал он. – Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого. Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их[113].
Проснувшись, Иосиф долго размышлял над странным сном. Выходит, Мария сказала ему правду. Она ждет ребенка, но не от человека – от Духа Святого. А он-то поспешил осудить и обвинить Ее! Не потому ли, что забыл: Бог избрал его хранить и блюсти Деву, посвященную Ему. Иначе говоря, служить Ей. И тайне, которую сейчас открыл ему Ангел. Что ж, Иосиф готов стать служителем Божией тайны. Господи, да будет воля Твоя!
Иосиф встал, тихонько прошел в комнату, где спала Мария, и опустился на колени перед Ее ложем. Мария спала, по-детски подложив левую ладонь под щеку и чему-то улыбаясь во сне. А правая рука Ее лежала на животе, словно Она хотела защитить Свое еще не рожденное Дитя… от чего?.. то было ведомо только Ей Одной.
Иосиф хотел поцеловать Ей руку. Но не посмел. Лишь благоговейно коснулся губами края ложа – у ног Марии…
5. Звезда в ночи
В те дни вышло от императора Августа повеление сделать перепись по всей Римской империи. И пошли все записываться, каждый в свой город. Иосифу, как потомку царя Давида, надлежало явиться во град Давидов. То есть в городок Вифлеем, где некогда родился и жил его царственный предок. Разумеется, будь на то воля Иосифа, он бы не стал брать с собой Марию: Она вот-вот должна была родить. Но приказ императора касался и Ее. Разумеется, Иосиф сделал все возможное, чтобы облегчить это путешествие для Марии: купил для Нее ослика, потратив на эту покупку все свои сбережения. А придя в Вифлеем, первым делом стал искать место в гостинице, чтобы Мария смогла отдохнуть от дальней дороги. Увы, гостиница была переполнена постояльцами, пришедшими в Вифлеем на перепись. Поначалу Иосиф надеялся снять угол у кого-нибудь из горожан. Он обошел весь город, спрашивал, уговаривал, умолял… но ни в одном доме не нашлось свободного места для них с Марией. Наконец кто-то из жителей Вифлеема посоветовал ему переночевать в пещере за городом:
– В эту пещеру наши пастухи скотину от непогоды загоняют. Там тепло, да и колодец рядом есть. Уж лучше вам там ночевать, чем на улице.
В той пещере в полночный час, когда весь мир спал и видел сны, Мария родила Сына. И спеленав Его, положила в ясли: небольшое корытце, выдолбленное из камня. Потому что в пещере не нашлось ничего другого, куда Она могла бы уложить новорожденное Дитя…
Стоя возле яслей, Иосиф пристально разглядывал Младенца. С виду Он ничем не отличался от остальных детей. «Неужели это и впрямь Сын Божий? – подумал Иосиф. – Или это всего лишь сын человеческий?»
В этот миг он почувствовал на себе взгляд Ребенка. И опустил голову, словно глазами этого Младенца на него взглянул Сам Господь. Когда же он осмелился снова поднять глаза, Дитя уже спало, сладко и безмятежно, как дитя человеческое…
– Я назову Его Иисусом, – прошептал он, обращаясь к склонившейся над яслями Марии. В ответ Она лишь кротко улыбнулась и кивнула головой: «Да».
…Иосиф вышел из пещеры и огляделся по сторонам. Эта ночь выдалась на редкость темной: даже в Вифлееме не светилось ни огонька. Тьма царила и на небе. Лишь одна необычайно большая и яркая звезда сияла в ночи прямо над пещерой, и с ней ночь уже не казалась такой беспросветной.
«Уж не возвещает ли эта звезда рождение Сына Божия?» – подумал Иосиф. И ему показалось, что откуда-то издалека до него доносится пение Ангелов…
6. «Наконец-то мы дождались Спасителя!»
Той же ночью к ним пожаловали нежданные гости, местные пастухи. Поначалу Иосиф решил, что они собираются прогнать их из пещеры. Однако, к его удивлению, пастухи столпились у входа, глядя на Марию и спящего в яслях Младенца. А потом вдруг встали на колени и поклонились Ему.
– Вот оно, значит, как… – задумчиво произнес самый старший из них, по виду сверстник Иосифа. – Все так и есть, как сказал нам Ангел! Вот и Младенец в яслях лежит… Господи, слава Тебе! Наконец-то мы дождались Спасителя! Не удивляйся, добрый человек, – обратился пастух к Иосифу. – Мы и впрямь видели Ангела, вот как сейчас видим тебя. И не только я один – все мы его видели!
– Да-да, видели! – наперебой поспешили заверить Иосифа остальные пастухи. – И он нам сказал…
– Тише вы! – прикрикнул на них старик. – Я из вас самый старший, мне и рассказывать. Значит, так. Сидим мы, сторожим стадо. И вдруг видим свет, яркий такой, ярче, чем бывает от солнца. Глядим – Ангел! Ну, мы со страху так на землю и повалились, а он нам говорит: «…не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях»[114]. И только он это сказал, явилось целое Воинство Небесное, и как запоет: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!» Сколько лет на свете живу, отродясь не слыхал такого пения! Одно слово – ангельское!
– Вот мы и решили пойти и посмотреть, где родился Спаситель, – произнес пожилой пастух с изможденным лицом и лихорадочно горящими глазами, с благоговением глядя на спящего Младенца. – Выходит, это Он! А ведь сколько мы Его ждали! Наконец-то Он пришел! Посетил Господь людей Своих!
– Мы тут Ему подарок принесли, – старик с поклоном подал Иосифу туго набитый узелок. – Там сыр, кувшин молока, полкаравая хлеба. Не погнушайтесь, люди добрые. Как говорится, чем богаты, тем и рады… мы бы и больше Ему принесли, кабы имели…
Много раз потом Иосиф вспоминал этих бедных пастухов… как же далеко ему было до них!
7. Царственные гости
…Люди, явившиеся на перепись в Вифлеем, уже начали разъезжаться по домам, но Иосиф и Мария не спешили последовать их примеру, словно что-то удерживало их в негостеприимном граде Давидове. Здесь, на восьмой день после рождения Младенца, над Ним совершили все положенные обряды и нарекли Ему имя Иисус. Так, как велел Иосифу Ангел.
Проходили дни. И вот однажды под вечер, выйдя из пещеры, ставшей их домом, Иосиф увидел вдали караван: на трех высоких белых верблюдах в сопровождении множества слуг ехали три путника. Судя по всему, то были знатные иностранцы, приезжавшие с визитом в Иерусалим к царю Ироду[115]. Может быть, даже цари… ведь ездят же они друг к другу в гости! Вот и съездили, а теперь возвращаются восвояси. Что ж, пускай себе едут!
Однако караван явно направлялся к их пещере. Вот он уже остановился у самого входа, и слуги помогли знатным путникам спуститься на землю. Медленно, как подобает важным особам, к Иосифу подошли: высокий седовласый старик, чем-то напоминавший Захарию, чернокожий мужчина средних лет с курчавой, словно овечья шерсть, бородой и румяный юноша с не по годам мудрым, вещим взглядом.
– Мир тебе! – приветствовал Иосифа седовласый (судя по акценту, он и впрямь был чужеземцем). – Меня зовут Мелхиор.
– Мое имя Валтасар, – откликнулся чернокожий, сверкнув белыми как снег зубами.
– А мое – Гаспар, – тихо промолвил юноша. А потом спросил: – Где новорожденный Царь Иудейский?
– Мы увидели Его звезду на востоке, – пояснил Валтасар, видя недоумение Иосифа. – И пошли за ней. Она привела нас сюда. Так где же Царь Иудейский?
Разумеется, Иосиф не забыл, как на поклонение к Младенцу Иисусу приходили пастухи. Но то были местные жители и бедняки. Им, как говорится, Сам Бог велел чаять прихода Спасителя. А эти люди – знатные чужеземцы, может быть, даже цари. Тогда что же привело их сюда? Любопытство? Или что-то еще?
Иосиф провел их в пещеру, где сидела Мария, держа на руках спящего Младенца Иисуса. К изумлению Иосифа, царственные гости преклонили перед Ним колена с таким же благоговением, с каким это сделали пастухи. Затем Мелхиор подозвал слугу и что-то сказал ему на незнакомом Иосифу языке. Вскоре тот вернулся, неся в руках ларец.
– Вот мой дар Царю Иудейскому, – сказал Мелхиор, раскрывая ларец и ставя его к ногам Марии. В ларце тускло поблескивало золото.
– Вот мой дар Господу, – возгласил Валтасар и поставил рядом другой ларец, доверху полный благоуханным ладаном.
– Смертному Сыну Человеческому – мой дар, – прошептал Гаспар, поставив рядом третий ларец, со смирной, которой умащали тела умерших.
…Караван знатных чужестранцев, а может быть даже царей, давно скрылся за горизонтом, а Иосиф все размышлял над их загадочными словами. Выходит, Иисус – не только Сын Божий, но и будущий Царь Иудейский? Вот это чудо так чудо! Что бы сказали жители Вифлеема, если бы узнали – в доме у плотника Иосифа подрастает будущий царь?!
8. Нежданная беда
В ту ночь Иосиф вновь увидел во сне Ангела:
– Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его[116], – сказал небесный вестник.
Иосиф вскочил и разбудил Марию:
– Собирайся скорее! Нам надо немедленно уехать отсюда! Потом я Тебе все объясню…
На востоке еще не успел забрезжить рассвет, как они уже покинули Вифлеем. Впрочем, Иосиф то и дело оглядывался назад, чтобы посмотреть, не гонятся ли за ними люди Ирода. Как же теперь он бранил себя за вчерашние мечты! Нашел, чему радоваться! Нашел, чем гордиться! В его доме будет подрастать будущий Царь Иудейский! Нет бы подумать о том, что Ирод дрожмя дрожит за свой трон и готов убить каждого, в ком подозревает соперника… Нет, с него хватит чудес и знамений! Пропади они пропадом! Как говорится, только бы ноги унести!
Однако чем дальше оставался Вифлеем, тем больше успокаивался Иосиф. В самом деле, теперь самое страшное позади: их не настигнет даже самая быстрая погоня. Пожалуй, по пути в Египет им стоит заехать в Назарет и забрать с собой кое-какие вещи, в том числе плотницкий инструмент Иосифа: ремесло прокормит их и на чужбине. А заодно им нужно побывать в Иерусалиме. Ведь вот-вот исполнится сорок дней с тех пор, как родился Иисус. Значит, им надо посетить храм и исполнить все необходимые обряды. Когда-то еще они смогут вновь побывать там!
9. «Посетил Господь людей Своих!»
…Когда Иосиф и Мария с Иисусом на руках вошли в Иерусалимский храм, там было, как всегда, полно народу. Но вдруг люди начали почтительно расступаться, пропуская кого-то. Иосиф вгляделся: навстречу им медленно шел величественный старец, чем-то похожий на первосвященника Захарию. Подойдя к Марии, он протянул руки, взял Младенца Иисуса, пристально посмотрел Ему в лицо, словно пытаясь разглядеть что-то, ведомое лишь ему одному, а потом тихо произнес:
– Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
Потом он обратился к Марии:
– Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец[117].
– Господь пришел! Господь явился! – разнесся по храму ликующий женский голос. – Радуйтесь, люди, и веселитесь! Посетил Господь людей Своих!
– Кто это? – спросил Иосиф стоявшего рядом пожилого человека, указывая на загадочного старца.
– Ты что, не знаешь? – удивился он. – Это же Симеон. Великий мудрец и праведник. Его весь Иерусалим знает. Говорят, ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Вот он все живет и ждет Его… говорят, уже триста лет живет. Постой-ка! Ведь он сейчас сказал, что теперь может умереть, ибо увидел Спасителя… Выходит, этот Младенец и есть Спаситель? Вот и старая Анна, дочь Фануила, о том же вещает, а ведь она пророчица…
– Что за новая тайна? – думал Иосиф. – Разные люди называют Иисуса по-разному: кто Спасителем, кто Господом, кто Царем Иудейским. Так какой же Он Царь – земной или небесный?
10. Встреча с разбойниками
– А ну стойте! Кошелек или жизнь!
В другое время Иосиф наверняка испугался бы разбойников. По правде говоря, он испугался их и сейчас. Но все-таки ему нельзя было давать волю страху. Ведь кто тогда защитит Марию с Младенцем Иисусом? Конечно, Иосиф понимал – он никудышный защитник. А потому велел своему старшему сыну Иакову сопровождать их в Египет. Он силен и смел… и все-таки ему не справиться с целой разбойничьей шайкой. Значит, вся надежда лишь на то, что Иосиф сумеет договориться с разбойниками. Ради Марии и Иисуса он должен это сделать.
– Вот, люди добрые, все, что у нас есть, – с этими словами Иосиф отвязал от пояса кошелек и протянул чернобородому разбойнику, преграждавшему им дорогу. – Возьмите. Только, сделайте милость, отпустите нас…
Развязав кошелек, разбойник высыпал себе на ладонь горсть медяков.
– И это все? Ничего себе добыча! Что будем с ними делать, братцы-молодцы?
– А ослик-то у них неплохой, – ухмыльнулся другой разбойник, самый сильный и свирепый на вид. И обратился к Марии:
– Эй! А ну слезай с осла! Он нам самим пригодится!
Он подошел к Ней… и вдруг замер, уставившись на Младенца Иисуса:
– Какой красивый Младенец! Пожалуй, если бы Бог стал человеком, то не мог бы быть красивей, чем Он… Вот что, братцы: не будем брать грех на душу. Пусть они идут своей дорогой. Они – своей, а мы своей пойдем, авось еще найдем, чем поживиться. Что ты сказал, Рувим? Попробуй только тронь их – будешь иметь дело со мной! Спрячь нож, я сказал! Не бойся, старик, мы вас пальцем не тронем. Уходите. Только смотрите, никому ни гу-гу, что видели нас тут… Понятно?
От неожиданности Иосиф не мог вымолвить ни слова. Вместо него разбойнику ответила Мария:
– Ты защитил этого Младенца. Знай – придет час, и Он щедро отблагодарит тебя за это[118].
И опять Иосиф не знал, чему удивляться больше: тому ли, что разбойники с большой дороги вдруг передумали их грабить, или загадочным словам Марии. В самом деле, что они означают? Чем Иисус сможет отблагодарить разбойника, вставшего на их защиту? Что за новая тайна? Впрочем, его куда больше интересует другое: доживет ли он до того времени, когда Иисус станет царем?
11. А где же чудеса?
Они вернулись в Назарет лишь спустя несколько лет после своего бегства на чужбину. О том, что срок их вынужденного изгнания закончился, Иосифу опять возвестил ангел, явившийся ему во сне:
– Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца[119].
Да, жестокий царь Ирод, «искавший души» Иисуса и ради этого приказавший перебить всех младенцев в Вифлееме, от двухлетних до только что рожденных, к тому времени уже умер. Но его преемник и старший сын Архелай был не лучше. Поэтому Иосиф задержался в Египте до тех пор, пока до него не дошли вести о низложении и ссылке Архелая. И лишь после этого они с Марией, Иисусом и Иаковом вернулись в родные края, в город Назарет. И зажили как прежде: Мария вела хозяйство и рукодельничала, Иосиф плотничал, а Иаков с Иисусом помогали ему. Вот только отчего-то с ними больше не случалось никаких чудес. Что таить, Иосиф жалел об этом. Ведь он уже успел привыкнуть к чудесам, к тому, что ему – не священнику, не мудрецу, а простому плотнику – открываются тайны Господни, сокрытые от прочих людей. И вдруг чудеса прекратились, оставив Иосифу лишь одни воспоминания.
А ведь сколько было чудес, когда они прибыли в Египет! Стоило им приблизиться к какому-нибудь тамошнему храму, как изваяния богов, которым поклонялись египтяне, падали со своих пьедесталов и разбивались, словно сокрушенные незримой рукой. Говорят, это происходило не только в городе Ермополе, возле которого поселились беглецы из Назарета, но и по всему Египту[120].
А чудеса с деревьями! В окрестностях Ермополя росла большая персея[121], которой местные жители приносили жертвы, как божеству. Но когда они с Марией и Иисусом приблизились к этому дереву, оно сотряслось, а потом склонило свою верхушку к земле, словно преклоняясь перед ними и предлагая отдохнуть от зноя в тени своих ветвей. С тех пор оно так и осталось склоненным… мало того, обрело целительную силу.
А когда они пришли в село Натарею, близ Ермополя, то ствол дикой смоковницы разделился надвое, а ветви ее образовали подобие шатра, под которым они смогли отдохнуть с дороги. Мало того: поблизости от места, где Иосиф построил хижину, появился источник. В нем Мария купала Младенца Иисуса. И от его воды совершались исцеления. Но после этого поток чудес иссяк. Почему? Ответ на это был ведом только Господу.
Впрочем, еще одно чудо все-таки случилось. Это произошло, когда они вместе с родственниками и знакомыми, по обычаю, ходили на праздник в Иерусалим. А по дороге домой вдруг хватились Иисуса. По правде сказать, это случилось не сразу. Потому что поначалу они решили – Он идет в Назарет вместе с родными и земляками. Лишь пройдя дневной путь от Иерусалима до Назарета, Иосиф и Мария убедились: Иисус и впрямь пропал. Где Он? Что с Ним? Ведь Он еще совсем Дитя, Ему всего двенадцать лет! Далеко ли до беды! Три дня Иосиф с Марией обыскивали Иерусалим, но так и не смогли найти Иисуса. Наконец, уже отчаявшись увидеть Его снова, они зашли в храм. И… увидели там Иисуса, сидящего среди учителей, слушающего и спрашивающего их, так что все слушавшие дивились разуму и ответам Его.
– Дитя! Что Ты сделал с нами! – в сердцах воскликнула Мария. – Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя…
– Зачем было вам искать Меня? – вопросом на вопрос ответил Иисус. – Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?[122]
Тогда Его слова пришлись Иосифу не по нраву: разве ребенок смеет так отвечать своим родителям? А как же заповедь: «Почитай отца твоего и матерь твою…»?[123] Но сейчас, на закате своей жизни, он вдруг понял: устами Иисуса Господь напомнил ему – смирись, человек. Ты – всего лишь служитель Моих тайн и зритель Моих чудес. А слуга не больше господина своего[124]. И потому, говоря «да свершится воля Господня», он не должен втайне думать: да будет воля моя…
12. Встреча в конце пути
…Уже двое суток Иосиф находился в предсмертном забытьи. Временами до него доносились плач Марии, испуганный шепот сыновей: «Отходит… отходит…» Лишь голоса Иисуса он не слышал ни разу. Хотя знал: Он вместе с другими стоит у его смертного ложа. Увы, Иосифу не удалось дожить до того времени, когда Иисус станет Царем Иудейским. Не удалось увидеть Его в царственном блеске и величии. Господь не дал ему стать свидетелем этой тайны. Но почему? Ведь Он вполне мог продлить ему жизнь, как продлил ее праведному Симеону, чтобы тот смог увидеть приход в мир Спасителя. Тогда почему же Бог этого не сделал?
И тут Иосифа вдруг осенила страшная догадка: он просто-напросто недостоин увидеть, как эта самая главная и великая тайна из тех, служителем которых избрал его Бог, наконец-то станет явью. Ведь Иосиф был предан Ему не до конца. Да, он старался поступать по Божией воле… и все же слишком часто «искал своего». Даже Иисуса он хотел видеть земным царем, позабыв, что Тот – Господь, Царь Небесный, Спаситель, Чей приход в мир предсказывали пророки. Что ж, он достоин этой кары – никогда не увидеть Его Царства! А теперь ему настало время уходить.
Иосиф поднялся, подошел к двери и перешагнул порог. Он не слышал, как позади заплакала над его телом Мария, не почувствовал, как кто-то из сыновей закрыл ему глаза. Перед ним расстилалась дорога, широкая и бескрайняя, и он шагал по ней, не зная, что увидит в конце пути. Сколько Иосиф шел по этой дороге в бессолнечной стране мертвых… часы, дни, годы? Этого он не знал. По пути он встретил и своего покойного отца Иакова, и его брата Илию, и своего дедушку Матфата, и прадедушку Елиезера, и тех своих далеких предков, которых знал только по именам, и даже тех, чьих имен он вовсе не знал. Видел он и первосвященника Захарию с Елизаветой, и праведного Симеона, и пророчицу Анну, дочь Фануила. А вот и царь Давид, и Сим, и Ной, и даже сами праотцы Адам и Ева… И всем им Иосиф говорил:
– Радуйтесь и веселитесь! Спаситель пришел! Я видел Господа, Спасителя нашего![125]
Слыша его, мертвые радовались, словно в стране и сени смертной вдруг воссиял свет надежды. А Иосиф шел дальше, зная – эта надежда не для него.
Но вдруг впереди блеснул ослепительный свет, ярче солнечного света. И перед изумленным Иосифом предстал Сам Господь, Царь Славы, в блистающих ризах… и Иосиф узнал в Нем Иисуса. Он простер к Иосифу руки, словно призывая его в Свое Царство.
И тот радостно шагнул Ему навстречу.
Сказка о таракане-подвижнике
Таракан сорок лет гулял за печью —
Вот и выгулял он на белый свет.
Северная песенка «Небылица в лицах»
В некотором царстве, в некотором государстве, в некоей святой обители, коей мы в глаза не видели (а токмо о ней от людей слыхали), жил-был мних[126], имел много книг, только не читал он их и не знал, что в них, а ел на них да спал на них. И была у того мниха Книга, и держал он ее, как благочестивому иноку устав велит, в святом углу, рядом с иконами[127]. Вот только редко он сию Книгу в руки брал, даже не то чтобы ее почитать, а просто чтобы пыль с нее стереть. Лежала себе Книга в святом углу, лежала пылилась… однако не зря говорится: свято место не бывает пусто… вот и поселился под корешком Книги рыжий и усатый таракан, из тех, которых у нас прусаками называют, в Пруссии же, как говорят, величают русскими тараканами[128]. А так ли это на самом деле – не знаю, народ так бает. Побываете в тех краях – потом расскажете, вправду ли в Пруссии наши тараканы-прусаки русаками зовутся, али не стоит мне впредь людям на слово верить.
Вот жил себе таракан под корешком Книги, жил-поживал, вкушал переплетный клей да на досуге предавался раздумьям:
– Отчего бы это мне, таракану, такая судьба выпала? Собратья мои жирны и усаты, а прозябают на грязной кухне или в запечье. Зато я живу в иноческой келье… да что там… в самой Книге. С чего бы мне сие?
Призадумался таракан, пошевелил… если не мозгами, так усами. И кажется, начал догадываться:
– Видно, потому это, что не таков я, как все прочие тараканы… и даже эти двуногие, которые здесь живут и именуют себя иноками и Божиими служителями. Куда им до меня! Они заботятся и молвят о многом, я же обитаю в безмолвии и уединении за корешком Книги, яко истинный затворник. И ежедневно вкушаю от ее страниц… можно сказать, живу ею и питаюсь. Кто из подвижников подобен мне? И потому должен я явить себя миру – да узрят вси живое воплощение истинного благочестия и да поклонятся мне!
Тут и выполз таракан из-под книжного корешка на белый свет и давай усами шевелить: мол, приидите, народы, узрите мене… И первым узрел его мних, тот, что имел много книг, только не читал их. Возможно, оттого и принял он великого подвижника за обыкновенного таракана и, возопив: «Ах ты, супостат окаянный», прихлопнул его ладонью. Тут, как говорится, таракану и славу поют… «и усов от него не осталося».
А мних, который имел много книг, да не знал, что в них, снял Книгу с полки, стер с нее пыль, перелистал… да и положил обратно. Когда же он ее читать возьмется – сказка новая начнется.
Примечания
1
Дебют – первые выраженные проявления психического заболевания (мед.). (Здесь и далее – примеч. автора.)
(обратно)2
Мк. 14:34.
(обратно)3
Анна Радклиф – английская писательница XVIII века, сочинявшая готические романы. Барбара Картленд – автор современных любовных романов.
(обратно)4
Фтизиатр – врач, который лечит больных туберкулезом.
(обратно)5
Лк. 10:41.
(обратно)6
1 Ин. 4:8.
(обратно)7
Поветь – хозяйственное помещение в задней части деревенского дома (в основном на Севере).
(обратно)8
Подлинная надпись на дореволюционной фотографии.
(обратно)9
2 Тим. 3:12.
(обратно)10
Речь идет о Приказе Минздрава № 302 от 28 декабря 1993 г. «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности». Справка, разрешающая это, дается клинико-экспертной комиссией (КЭК) поликлиники. Одну из трех подписей на ней ставит лечащий врач.
(обратно)11
Ин. 13:34.
(обратно)12
Неточная цитата из романа современного английского христианского писателя Стивена Лохеда «Талиесин».
(обратно)13
Здесь и ниже цитируются фрагменты из подлинных документов конца 1950-х – начала 1960-х гг.
(обратно)14
Джеймс Крюс – немецкий детский писатель ХХ в., автор известной сказки «Тим Талер, или Проданный смех». Его автобиографическая повесть «Мой прадедушка, герои и я», действие которой происходит в Германии в 1940 г., посвящена теме истинного и ложного героизма.
(обратно)15
Этот город, равно как и история его освобождения от интервентов, – вымышлены. И хотя в ряде случаев автор использовал реальные факты из истории Гражданской войны на Севере, они изменены до неузнаваемости. Так что не следует отождествлять Михайловск с реально существующим городом Архангельском.
(обратно)16
Прототипом этой эскадры является карательный красноармейский отряд Мандельбаума, в годы Гражданской войны разъезжавший по Печорскому краю на пароходах и «насаждавший власть большевизма» путем грабежей, истязаний и убийств местного населения, в том числе и представителей духовенства. Он насчитывал несколько сотен человек, «в том числе и за счет местных большевиков» (Фофанова В. В. Гонения на Православную Церковь в 1918–1919 гг. на Русском Севере. // Новомученики и исповедники земли Архангельской. Архангельск, 2006. С. 33). Однако история «красной эскадры» в рассказе – полностью вымышлена. Прототипом Доры отчасти является северная революционерка Ревекка П., в девичестве Майзель.
(обратно)17
Шанежки, шаньги – северная выпечка. Про них даже сложена забавная поговорка: «Кушай, Манюшка, пяту шанежку, я ведь не считаю…»
(обратно)18
Термидор – один из месяцев календаря, принятого во времена Французской революции 1793 г. Упоминаемый далее Жан-Поль Марат (по прозвищу Друг народа) – один из ее идеологов.
(обратно)19
Red – красный (англ.).
(обратно)20
Во времена Гражданской войны это выражение означало убить, расстрелять.
(обратно)21
Это не авторская выдумка. Для сравнения приведу описание погрома, устроенного красноармейцами в деревне Тегра Холмогорского уезда: «Священные облачения и пелены были раскиданы по полу… затем в храме начались пляски… пили церковное вино и курили. Все это сопровождалось безобразным пением. На престоле и жертвеннике был произведен полный разгром… вино пили прямо из Потиров. Евангелие на престоле изрезали ножом… лжицу, ковшички и блюдца утащили. Всюду в храме оставили множество окурков…». (Фофанова В. В. Гонения на Православную Церковь в 1918–1919 гг. на Русском Севере. // Новомученики и исповедники земли Архангельской. Архангельск, 2006. С. 34.) Описанный выше расстрел священника основан на реальном событии: тридцатитрехлетний псаломщик Селецкого прихода Холмогорского благочиния Афанасий Смирнов был расстрелян на могилах трех французов, убитых большевиками, за то, что участвовал в их погребении.
(обратно)22
Фелонь – часть священнического облачения.
(обратно)23
Чаша – здесь: Потир.
(обратно)24
В основе сюжета этого рассказа – житие православного святого, священномученика Маркеллина (Марцеллина), папы (епископа) Римского. Текст его читатель может найти в томе 6 Житий святых святителя Димитрия Ростовского (например, издание Свято-Введенской Оптиной пустыни: Козельск, 1992. С. 138–141). Однако автор позволил себе ввести в повествование ряд вымышленных персонажей (Руф, епископ Лукиан, священник Павлин) и дать свою трактовку поведения героя, не отступая тем не менее от фактов, взятых из житийного текста.
(обратно)25
Синуесса (Синуэсса) – в старину город на юге Италии, в провинции Кампания. Сейчас его не существует. А недалеко от того места, где находилась древняя Синуесса, теперь город Мондрагоне.
(обратно)26
Нерон (годы правления 54–68), а также Диоклетиан, в правление которого (284–305), происходит действие рассказа, – языческие императоры, гонители христиан.
(обратно)27
Маркеллин был первым римским епископом, который стал называть себя Римским папой.
(обратно)28
Перифраз из канона священноисповеднику Мартину, папе Римскому: «Украсив собою Петров Божественный престол…»
(обратно)29
Известные слова евангельского фарисея (Лк. 18:11).
(обратно)30
Архипресвитер – в Древней Церкви ближайшее лицо к епископу, старший над священниками.
(обратно)31
Рим. 8:18.
(обратно)32
Ис. 8:18.
(обратно)33
Оглашенный (катехумен) – человек, готовящийся к принятию крещения.
(обратно)34
«Октавий» – произведение древнехристианского писателя-апологета Марка Минуция Феликса, написанное в форме диалога между двумя юными друзьями – Октавием и Цецилием, христианином и язычником, беседующими между собой о христианской вере. Итогом их беседы становится желание юноши-язычника Цецилия креститься.
(обратно)35
Диоклетиан вспоминает латинскую поговорку a bove majore discit arare minor – у старшего вола учится пахать младший.
(обратно)36
Веста (греч. Гестия) – римская богиня семейного очага. Изида (Исида) – египетская богиня плодородия.
(обратно)37
Infans non multum a furioso distat – ребенок мало чем отличается от безумного, афоризм (лат.).
(обратно)38
Подобный эпизод есть в житии преподобного Паисия Великого (см. июньский том Житий святых Димитрия Ростовского). Этот подвижник не узнал своего ученика, который после беседы с врагом христианства позволил себе усомниться в истинах веры, сказав ученику: «Ты изменился».
(обратно)39
Мф. 10:24.
(обратно)40
Муций Сцевола (Левша) – древнеримский герой, образец стойкости.
(обратно)41
Епископ Маркеллин был казнен около 300 г. (согласно данным святителя Димитрия Ростовского; по другим сведениям, это произошло в 304 г.). Его преемником на Римской епископской кафедре стал упоминаемый здесь священномученик Маркелл.
(обратно)42
Лк. 18:14.
(обратно)43
В основе повествования – житие преподобной Пелагии Антиохийской (память 21 октября, 8 октября по ст. ст.), написанное святителем Димитрием Ростовским. А также текст, переведенный с немецкого языка, под названием «Раскаяние святой Пелагии» из сборника «Византийские легенды» (Л.: Наука, 1971), выпущенного в серии «Литературные памятники». Поскольку оба текста написаны от лица некоего диакона Иакова, очевидца и участника покаяния и праведной кончины святой, мое повествование также ведется от лица этого человека. Но автор счел возможным в ряде случаев прибегнуть к вымыслу, стараясь, однако, как можно меньше отклоняться от первоисточников.
(обратно)44
Илиополь (Гелиополь) – город, некогда существовавший на севере Палестины.
(обратно)45
Тавенниский монастырь (Тавенниси) находился в Египте. Точнее сказать, в тех местах было два монастыря – мужской и женский. Сарацины – арабы.
(обратно)46
До своего обращения ко Христу преподобная Пелагия носила имя Маргарита (или Маргарито) – «жемчужина».
(обратно)47
В «Раскаянии святой Пелагии» упоминается о том, что до своего обращения ко Христу преподобная Пелагия была «первой из антиохийских танцовщиц». Святитель Димитрий Ростовский называет ее блудницей.
(обратно)48
Литургия делится на три части: проскомидия, литургия оглашенных и литургия верных. Вторая из этих частей называется так потому, что в древнее время на ней дозволялось присутствовать людям некрещеным, но собирающимся принять крещение (так называемым оглашенным).
(обратно)49
Здесь использована известная история из «Поучений» знаменитого подвижника VI в. преподобного аввы Дорофея (память 18 июня, 5 июня по ст. ст.) о двух разлученных сестрах, одну из которых воспитала монахиня, а другую – блудница.
(обратно)50
В те времена для письма использовались таблички, покрытые воском. Именно на них святая Пелагия написала свое послание владыке Нонну.
(обратно)51
Ин. 6:37.
(обратно)52
Диаконисса (греч. служительница) – в древней Церкви пожилая женщина (вдова или девственница), помогавшая при крещении женщин и впоследствии наставлявшая их в заповедях Божиих. В обязанности диаконисс входило также оказание помощи бедным и больным.
(обратно)53
Иер. 15:19.
(обратно)54
Древние христиане часто носили на шее изображение рыбки – символ Христа Спасителя. Здесь эпизод с рыбкой введен потому, что в тексте «Раскаяние святой Пелагии» преподобная Пелагия именуется оглашенной. Однако святитель Димитрий Ростовский пишет, что до своего крещения она была язычницей.
(обратно)55
См. Ин. 8:44.
(обратно)56
См. Лк. 10:38–42.
(обратно)57
Перифраз из 2 Кор. 6:15.
(обратно)58
Кончина епископа Нонна последовала в 458 г. Преподобная Пелагия отошла ко Господу на год раньше, в 457 г.
(обратно)59
См. Еф. 4:26.
(обратно)60
Масличная (Елеонская) гора – одно из мест в Иерусалиме, где часто бывал Спаситель. С этой горы после Своего воскресения Он вознесся на небеса (Деян. 1:9–12).
(обратно)61
В основу данного повествования легло житие священномученика Никодима Белгородского (память его празднуется 10 января (28 декабря по ст. ст.) и в день памяти новомучеников и исповедников Российских). Однако в связи с тем, что житие святителя Никодима небогато на факты, автор ввел в повествование ряд вымышленных персонажей (рассказчика, его отца, отца Илию и Павла Рахова). По необходимости прибегнув к вымыслу, автор тем не менее постарался использовать в повести все доступные ему факты из биографии священномученика Никодима.
(обратно)62
Священномученик Никодим Белгородский был причислен к лику святых в 2000 г. Однако Русская Православная Зарубежная Церковь сделала это несколько раньше, в 1981 г.
(обратно)63
Святитель Иоасаф, епископ Белгородский, подвижник XVIII в. Мощи его находятся в Спасо-Преображенском соборе города Белгорода. Память святителя совершается 23 декабря (10 декабря по ст. ст.).
(обратно)64
Прославлен – здесь: причислен к лику святых.
(обратно)65
Этот храм существует и поныне. Сейчас это Николо-Иоасафовский собор. Свято-Троицкий храм, где почивали мощи святителя Иоасафа Белгородского, был разрушен в 1920-е годы.
(обратно)66
Псаломщик (дьячок) – церковный чтец.
(обратно)67
Асаф, Асафушка – уменьшительное от Иоасаф.
(обратно)68
Академик – здесь: человек, окончивший Духовную академию. Священномученик Никодим был выпускником Санкт-Петербургской духовной академии.
(обратно)69
Речь идет о преподобномученице великой княгине Елизавете Феодоровне, основательнице Марфо-Мариинской обители милосердия в городе Москве. Память ее празднуется 18 июля (5 июля по ст. ст.). Государь император – царь-страстотерпец Николай Второй (память 17 июля, 4 июля по ст. ст.).
(обратно)70
Лк. 15:24. Эти слова в евангельской притче о блудном сыне произносит отец раскаявшегося и вернувшегося домой юноши.
(обратно)71
В те времена епархия, где служил священномученик Никодим, называлась Курской и Обоянской. Управлял ею (с 1911 по 1914 гг.) архиепископ Стефан (Архангельский). В 1911 г. владыка Никодим стал его вторым викарием, епископом Рыльским (во епископа он был рукоположен 9 января 1911 г.). В ноябре 1913 г. он был назначен епископом Белгородским.
(обратно)72
Священномученик Никодим (Кононов) написал более десятка книг. Самые известные из них – «Архангельский патерик», «Соловецкие подвижники благочестия XVII–XIX веков», «Святитель и чудотворец Иоасаф, епископ Белгородский и Обоянский, и его причтение к лику святых». Упоминаемая здесь «Пещера Лейхтвейса» – популярный в то время приключенческий роман немецкого писателя Редера про благородного разбойника Генриха Лейхтвейса.
(обратно)73
Отрывок из первой проповеди священномученика Никодима в Белгороде.
(обратно)74
Это подлинные факты из жития священномученика Никодима.
(обратно)75
Речь идет о святом праведном Иоанне Кронштадтском (память 2 января (20 декабря по ст. ст.). В ту пору он еще не был причислен к лику святых. Это произошло много позднее, в 1990 г. Поэтому Миша называет его «батюшкой Иоанном».
(обратно)76
В то время столицей Российской империи (со времен Петра Первого) была не Москва, а Санкт-Петербург.
(обратно)77
Преподобный Никодим Козеозерский (Кожеезерский, Хозьюгский; память 16 июля, 3 июля по ст. ст.) – святой Архангельской земли, 35 лет проживший отшельником возле реки Хозьюги, неподалеку от Кожеозерского монастыря.
(обратно)78
Акафист – здесь: богослужебный текст, нечто вроде поэмы в прозе, прославляющей жизнь и подвиги святого.
(обратно)79
Кутейник – от слова «кутья» (род постной каши), здесь: обидное прозвище семинариста.
(обратно)80
Исторический роман итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли, в котором рассказывается о знаменитом восстании рабов в Древнем Риме под предводительством Спартака.
(обратно)81
«Андрей Кожухов» – роман о революционерах, написанный в XIX в. революционером С.М. Кравчинским.
(обратно)82
См. Ин. 14:6.
(обратно)83
Рим. 12:21.
(обратно)84
Мф. 23:27. Так Христос Спаситель говорил о фарисеях – людях, которые стремились прослыть благочестивыми, а на самом деле зачастую поступали вопреки Божиим заповедям. Именно поэтому слово «фарисей» часто употребляют в значении «лицемер».
(обратно)85
Описанный здесь эпизод имел место 29 декабря 1918 года. Однако с сектантом спорил не сам наместник, а приглашенный им православный миссионер.
(обратно)86
Саенко Василий участвовал в расстреле священномученика Никодима. Был арестован и казнен белыми в 1919 г.
(обратно)87
Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, убит 7 февраля (25 января по ст. ст.) 1918 г. Это был первый архиерей, принявший смерть за Христа во время богоборческих гонений. 20 июня (7 июня по ст. ст.) того же года принял мученическую смерть архиепископ Пермский и Соликамский Андроник, а 29 июня (16 июня по ст. ст.) – Тобольский и Сибирский епископ Гермоген. Все они впоследствии были причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских.
(обратно)88
Саенко Степан Афанасьевич (1886–1973) – чекист, командир отряда особого назначения, известный своей жестокостью. Лучше всего его характеризует прозвище, приведенное здесь, – оно подлинное.
(обратно)89
Рассказ об аресте владыки Никодима и ряд последующих событий излагаются по версии отца Михаила Польского. Много позднее было установлено, что сперва его вызвали на допрос, а потом арестовали.
(обратно)90
Рим. 8:31.
(обратно)91
Мария Дмитриевна Кияновская (иногда ее фамилия ошибочно пишется как Каенская), жена священника, учительница, начальница местной женской гимназии. Она приняла мученическую смерть в возрасте 42 лет.
(обратно)92
Существует три версии убийства священномученика Никодима, составленные на основании воспоминаний очевидцев и участников этого злодеяния. Здесь приводится одна из них. Помимо Василия Саенко, в расстреле святителя участвовало еще два человека. Имена их известны.
(обратно)93
См. 2 Кор. 12:9.
(обратно)94
Параманд (параман – от греч. «вместо мантии») – часть монашеского облачения, которую монах носит под одеждой. Представляет собой четырехугольный кусок материи с изображением креста Христова и орудий Его страданий.
(обратно)95
Икона новомучеников и исповедников Российских находится в городе Мюнхене, в тамошнем кафедральном соборе новомучеников и исповедников Российских и Святителя Николая.
(обратно)96
В 1920-е гг. Свято-Троицкий храм был разрушен. В конце 2012 г. при раскопках на этом месте были обретены мощи священномученика Никодима.
(обратно)97
Иерей – священник. Дьячок – церковный чтец.
(обратно)98
Вакациями в старину называли каникулы.
(обратно)99
Гостиник – монах или послушник, несущий послушание в монастырской гостинице.
(обратно)100
Мф. 10:16.
(обратно)101
Речь идет о епископе Александре (Закке-Заккис), возглавлявшем Архангельскую и Холмогорскую епархию в 1890–1893 гг.
(обратно)102
По новому стилю эта дата приходится на 23 октября. В этот день, а также 24 октября (11 октября по ст. ст.) – в день памяти преподобных отцов и старцев Оптинских, празднуется память преподобного Амвросия. День обретения его святых мощей – 10 июля (27 июня по ст. ст.).
(обратно)103
1 Кор. 9:22.
(обратно)104
В основе повествования – житие праведного Иосифа Обручника, а также «Сказание о Рождестве Христовом», «Сказание о поклонении волхвов», «Сказание о бегстве в Египет» святителя Димитрия Ростовского (см. «Жития святых», декабрь, издание Свято-Введенского монастыря Оптиной пустыни, 1992). В ряде случаев автор использовал данные из жития Пресвятой Богородицы.
(обратно)105
Так Господь сказал праотцу Адаму (Быт. 3:19).
(обратно)106
На самом деле Иосиф был сыном Иакова. Однако считался сыном Илии. Илия умер бездетным. По тогдашнему обычаю (закону левирата), его брат Иаков взял в жены вдову Илии. Родившийся от этого брака Иосиф по закону считался сыном Илии, а по плоти – сыном Иакова.
(обратно)107
В Евангелии от Луки Захария, отец Иоанна Крестителя, называется священником (Лк. 1:5). В житии Пресвятой Богородицы он именуется первосвященником. Именно он ввел Пресвятую Богородицу во Святая Святых Иерусалимского храма и впоследствии обручил Ее с Иосифом. Ему была известна и тайна Ее Приснодевства. Согласно житию Иоанна Крестителя, Захария был убит в храме воинами царя Ирода во время избиения младенцев.
(обратно)108
В те времена еще не существовало монашества. Поэтому Пресвятая Богородица, давшая обет ради Господа хранить девство, считается первой монахиней на свете. Однако Захария все-таки обручил ее с Иосифом, чтобы скрыть от темных сил и служащих им людей приход в мир Спасителя. В глазах людей старик Иосиф считался мужем Марии и отцом Иисуса, на самом же деле был Их защитником и хранителем.
(обратно)109
Иерусалимский храм состоял из трех частей: притвор (или двор), Святое и Святая Святых, куда имел право входить лишь первосвященник, да и то лишь раз в год. Первосвященник Захария, будучи провидцем, ввел во Святая Святых Деву Марию.
(обратно)110
Саддукеи – религиозно-политическая партия знати, отрицавшая воскресение мертвых, загробную жизнь и существование Ангелов.
(обратно)111
Ин. 2:13–16; Мф. 21:12–13.
(обратно)112
Здесь объединены два повествования об этом чуде. Согласно одному, посох Иосифа расцвел поэтому Иосифа Обручника иногда изображают с расцветшим посохом в руках. Согласно другому, из него вылетела белая голубка и села на голову Иосифа.
(обратно)113
См. Мф. 1:20–21.
(обратно)114
Лк. 2:10–12.
(обратно)115
Ирод Великий – царь, основатель династии Иродов, правившей в Палестине в I в. по Рождестве Христовом. Имя его стало нарицательным для обозначения коварного и жестокого человека.
(обратно)116
Мф. 2:13.
(обратно)117
Лк. 2:28–35. В память об этом событии – встрече праведного Симеона с Богомладенцем Христом – Православной Церковью установлен праздник Сретения Господня.
(обратно)118
По преданию, приведенному святителем Димитрием Ростовским, впоследствии этот разбойник был схвачен, приговорен к смерти и распят рядом с Христом Спасителем. Именно он назвал Его Господом и просил «помянуть его во Царствии Своем». На что услышал ответ: «…ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). Так исполнилось предсказание Девы Марии.
(обратно)119
Мф. 2:20.
(обратно)120
Об этом событии упоминается не только в «Сказании о бегстве в Египет» святителя Димитрия Ростовского, но и в акафисте Иисусу Сладчайшему (икос 6).
(обратно)121
Вечнозеленое дерево семейства лавровых. Один из видов персеи – персея американская, это всем нам знакомое авокадо.
(обратно)122
Лк. 2:48–49.
(обратно)123
Исх. 20:12.
(обратно)124
Перифраз слов Спасителя: «…раб не больше господина своего» (Ин. 15:20).
(обратно)125
О том, что Иосиф, сойдя в шеол, принес туда радостную весть о приходе Спасителя, говорится в его житии. О том же упоминается и в тропаре святому Иосифу: «Благовествуй, Иосифе, Давиду чудеса Богоотцу…»
(обратно)126
Мних – монах (устар.).
(обратно)127
См., например, «Правила для новоначальных иноков» свт. Игнатия Ставропольского в томе 5 его творений.
(обратно)128
Это автору в свое время доводилось читать в одной иллюстрированной энциклопедии насекомых.
(обратно)




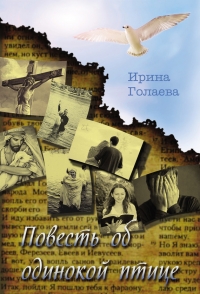




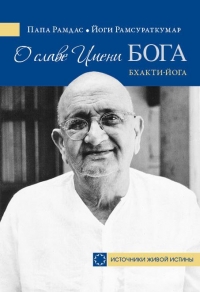


Комментарии к книге «Яблони старца Амвросия (сборник)», Монахиня Евфимия
Всего 0 комментариев