Василий Никифоров-Волгин Ключи заветные от радости
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
интернет- портал «Православная книга России»
Предисловие
Василий Акимович Никифоров родился в 1901 году в деревне Марку ши Калязинского уезда Тверской губернии в простой русской семье. Он не смог получить хорошего образования: после обучения в церковно-приходской школе у семьи не было средств отдать талантливого ребенка в гимназию. Василию приходилось работать: в поле и в сапожной мастерской. К тому же годы его взросления были временем войны: сначала – Первой мировой, затем – Гражданской. Все это время семья Василия Никифорова живет в Нарве, недалеко от мест военных действий. На этом фоне бедствий и лишений особенно ярко выступает природный талант писателя, его неутомимая жажда к учению и несравненная любовь к Родине.
Можно сказать, что главной школой для Василия Никифорова стала Церковь. Благочестие, воспитанное матерью, затем учение в церковно-приходской школе, после того – служение псаломщиком – все это воспитало в молодом человеке ту духовную основу, на которой вырос его писательский талант и глубокое понимание классической русской литературы.
В 1917 году, не выезжая из Нарвы, Василий Никифоров стал эмигрантом – жителем независимой Эстонии. Однако духовная связь с Россией сохранялась: не случайно он подписывал свои статьи, рассказы и очерки псевдонимом В. Волгин – в честь великой русской реки, возле которой прошло его детство. В 1920 году Никифоров-Волгин участвовал в создании «Союза русской молодежи», который устраивал в Нарве литературные вечера и концерты. Годом позже он публикует свою первую статью «Исполните свой долг!» в таллинской газете «Последние известия» и вскоре начинает постоянно работать журналистом и редактором. Позднее он становится одним из учредителей русского спортивно-просветительного общества «Святогор», а затем – Русского студенческого христианского движения. Вспоминая 20-е годы и свое участие в РСХД в Прибалтике, архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) в старости писал, что тот незабываемый период был «религиозной весной русской эмиграции».
В РСХД Никифоров-Волгин познакомился с Михаилом Ридигером, жителем Таллина, участником богословско-пастырских курсов, которые открыл в 1930-е годы протоиерей Иоанн Богоявленский (будущий епископ Таллинский Исидор). Как свидетельствует архивная фотография, Василий Акимович был знаком и с сыном М.А. Ридигера, будущим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
К середине 1930-х годов В.А. Никифоров-Волгин – уже известный писатель. Журнал «Иллюстрированная Россия» награждает его первой премией за рассказ «Архиерей». В таллинском издательстве «Русская книга» публикуются два сборника рассказов Никифорова-Волгина – светлая книга «Земля именинница» в 1937 году и, годом позже, трагический «Дорожный посох».
Стиль произведений В.А. Никифорова-Волгина необычен – в простой, почти современный язык вплетаются «молнии слов светозарных» – возвышенные церковнославянские слова и множество полузабытых выражений из глубины народной, «деревенской» речи. Это виртуозное владение богатством русского языка не имеет ничего общего с эстетским самолюбованием; лексическое разнообразие этих рассказов сочетается с их доступностью для самого широкого читателя. Тематика творчества В.А. Никифорова-Волгина достаточно разнообразна, но о чем бы он ни писал – о детских шалостях, старинных обычаях или страшных бедствиях, каждая его строчка проникнута любовью к России – вроде бы такой близкой, но при этом бесконечно далекой и недоступной. России, которую мы потеряли.
Летом 1940 года в Эстонии была установлена советская власть. Вскоре В.А. Никифоров-Волгин был арестован НКВД и отправлен по этапу в Киров. 14 декабря 1941 года Василий Акимович Никифоров был расстрелян «за издание книг, брошюр и пьес клеветнического, антисоветского содержания». Точное место его захоронения на Петелинском кладбище, где покоятся жертвы красного террора, неизвестно.
* * *
Произведения В.А. Никифорова-Волгина в этом сборнике разделены на четыре части.
К первой из них – «Ключи заветные от радости» – относятся рассказы, в которых писатель с неподражаемой искренностью и простотой говорит о первом духовном и житейском опыте ребенка. Тексты расположены не в порядке их написания, а в порядке взросления и воцерковления их юного героя.
В разделе «Помогите мне выпустить песню на свободу» собраны рассказы для старших школьников и взрослых. Талант Никифорова-Волгина раскрывается здесь в разных жанрах: ироничного очерка, лирической думы о навсегда ушедшей старине, глубокого рассказа о святых и грешниках, которые живут среди нас.
«Горе родине твоей» – собрание рассказов о трагической судьбе России в годы кровавой революции, Гражданской войны, гонений на Церковь. Пронзающие душу истории о человеческих страданиях окрашены надеждой. Смирение и вера невинных жертв нередко приводит жестоких мучителей к искреннему покаянию.
Ту же самую тему продолжает и повесть В. А. Никифорова-Волгина «Дорожный посох», составляющая отдельную, заключительную часть этого издания.
Ключи заветные от радости
Васька и Гришка
На заднем дворе, поросшем крапивой и чертополохом и загроможденном керосиновыми и селедочными бочками купца Данилова, с Гришкой Гвоздевым лежим на крыше старого приземистого сарая и греемся на солнышке.
С большого двора, кругом застроенного старыми трухлявыми домами, к нам не умолкая доносится протяжный шум с разнообразными оттенками и отголосками.
Раздаются звонкие заливистые голоса ребят. Неистово визжит на кого-то еврейка Фрина. Истошным плачем заливается еврейчик Апке. Грохочут машины в типографии Мельникова. Дворник дядя Давыд кого-то разносит – «нет чего хуже»: «Окаянник!.. Смущанник!.. Раздуй тебя горой, идола эфиопского…» – черными птицами носятся его слова в знойном воздухе. Из подвала жестянщика Шмоткина бегут частые, торопящиеся звуки постукиваемой жести.
У Шмоткина мы недавно с Котькой Ежовым с окна кисель стянули. Съели мы его на заднем дворе, а тарелку из-под киселя обратно на окно поставили. Шмоткин меня почему-то не любит и называет «посадским». Из окон пивной несется пьяный нестройный гул, стоны расстроенного баяна, и где-то раздается пронзительный свисток городового.
И поверх всех этих звуков, так режущих ухо, окрашивая наш двор в какие-то пыльные тона, плыла из мастерской сапожника Карпина дружная песня мастеровых под дробный аккомпанемент молотков, постукивающих кожу.
Словно золотая искра, носится песня в воздухе и окрашивает наш шумный, дурно пахнущий двор в яркие золотые цвета…
Песня мастеровых напоминает мне просторные поля нашей покинутой деревеньки, думный бор с заповедными сказками, омутистую речку, старозаветный домик дедушки и златоверхую, одетую мхами и травами старую церквушку с звонами-наигрышами,
Я зажмуриваю глаза, и чудится мне в красноватой дымке: вот я у дедушки Филиппа в горнице. Сижу за длинным дубовым столом, в бордовой рубашке, подпоясанный афонским пояском, напомаженный деревянным маслом, и за обе щеки уминаю сдобные ржаные лепешки.
Рядом со мной сидит бабушка, смотрит на меня, такая ласковая и светлая, и приговаривает любовно:
– Кушай, Васенька, кушай. Никого не слушай… Наедайся, сынок, досыта…
В горнице чисто и нарядно. Перед образом Купины Неопалимой стоит на коленях дедушка с лестовкой в руке и воздевает к нему умиленные очи. Около дедушки игриво юлит кот, прозванный за свой ободранный вид Обдирышем. Кот ласково урчит, трется выпачканной в саже мордой о дедушкино брюхо. Дед уставно читает молитвы, хмурится на кота и старается отогнать его жилистой рукой. А кот не отстает от деда. Знай юлит между ног и мурлычет, трубой задрав хвост. Дед терпит, терпит, наконец, раззадоренный, хватает кота за шиворот и отбрасывает его к самому порогу.
– Уведи ты его, пса неприкаянного! – неистово кричит дедушка на бабушку, не подымаясь с колен. – Ишь пристал, нечистая сила!.. Богу помолиться не даст, верблюд астраханский. Так и юлит кошачья морда. Прорвы-то ему нет!..
Бабушка выбрасывает кота за дверь. А дедушка, по-прежнему спокойный и умилительный, уставно вычитывает молитвы по старому, воском закапанному Часовнику. Слова дедовой молитвы падают веско, степенно, рассудительно, словно пятаки опускаются в церковную кружку.
За окном ребятишки на пыльной дороге в бабки играют и давно уж кличут меня на улицу звонкими зазывными голосами…
– Пещера Лейхтвейс! Спишь, что ли? – толкает меня в бок Гришка Гвоздев, мой задушевный приятель, прозванный за свою худощавость «стямлым». А я его называю «Капитан Немо».
– Закурим, что ли? – важно, как большой, цедит Гришка, залезая в карман широких синих брюк и вынимая махорку в мешке из-под кофейника вместо кисета.
Неумело свертываем «кручонку» и с наслаждением затягиваемся забористым дымом.
– Капитан Немо! Поедем сёдни по окияну в Калифорнию на Аляску. И погода к тому благоприятствует. Право слово! – обращаюсь я к Гришке, кольцами выпуская дым кверху.
«Капитан Немо» спокойно меня выслушал, затянулся «в остадний разок» замусоленным окурком и важно процедил сквозь зубы:
– Пещера Лейхтвейс!.. Вы сичас в состоянии решительной невменяемости! – Гришка старается говорить в нос «по-барски» и «по-благородному» разводит пред своим корявым носом грязными пальцами.
– Сичас, Пещера Лейхтвейс, дует северовосточный муссон с проливными дождями. Нашим маленьким пирогам может грозить ураганная опасность… Это безумие с вашей стороны пускаться при таких обстоятельствах по стихии…
Гришка с авторитетной снисходительностью смотрит на меня свысока, прищурив и без того узенькие свои хитроватые глазки. Я с почтением смотрю на Гришку и невольно соглашаюсь с его доводами, несмотря на то что стоит сейчас хорошая июньская погода. Солнышко так и смеется в налившемся истомною синью небе, и не грозит, видимо, никакой северо-восточный муссон с проливными дождями.
Мне хочется возразить Гришке, чтобы не ударить в грязь пред его ученостью и показать, что и я что-нибудь в муссонах да в стихиях разных толк понимаю.
– Нашим пирога́м не может грозить стихейный муссон, этот… как ево, самой что ни на есть, – важно, с надутым видом произношу я.
– Не пирогам, а пирогам! – поправляет меня Гришка и не дает мне возможности высказать мои метеорологические соображения.
– Ну а все-таки, друг мой. Пещера Лейхтвейс, я принимаю ваше предложение. Едем. Если нагрянет в пути муссон с проливными дождями, мы можем укрыться на острове «Белолицых» в хижине дяди Тома.
* * *
Собрались шумной гомонливой толпой к реке, к самой пристани, где стоят на причале лодки. Тут и Котька Ежов, и Фольке Шмоткин, Филька Рюхин и мы с Гришкой.
Не знаю, для какой надобности я стащил из кладовой тятькин кожан, а из дома сапожный ножик с тятькиного верстака. В кармане у меня засунута гомзуля[1] пирога с капустой.
Гришка для пущей важности перекинул через плечо ремень и вооружился сломанной палкой из-под швабры. На голове у него соломенная шляпа с продырявленным верхом, и оттуда задорно глядит прядь Гришкиных волос.
Смеется яркий день, заласканный солнышком. Речка играет чистой серебристой зыбью. Стучит, шумит, взвизгивает на том берегу лесопильный завод. Тарахтит лебедка. На плотах тюкают топоры и раздаются песни. Деловито звенят якорные цепи на ватной пристани, и пронзительный свисток парохода колыхает знойный воздух.
Мы садимся в большую вместительную лодку. Все наше удовольствие – это покачиваться на ней и с помощью длинной, привязанной к пристани цепи аршина на три отплыть вправо или влево.
Гришка сильным ударом оттолкнул лодку от пристани в полной уверенности, что она, как всегда, привязана цепью к берегу, а лодка-то, на наше с Гришкой счастье, по какой-то причине была отвязана, и мы неслышно, без руля и весел скользнули вперед, следуя за извивами бойкой речонки, минуя берег, пристань, купальню…
– Лебята, сто это такое? Смотлите, лодка-то?.. Потонем есо без весел-то! – жалобно захныкал Котька и пытался сделать движение в воду.
– Эй, вы!.. Васька и Гришка… Рады, черти!.. Куды это вы? Глядите, отвязались! – набросились на нас и другие.
Лодка плывет бесшумно, тихо покачиваясь на маленьких ласковых волнах. Плывут мимо красивые очертания города в раме веселой зелени. Чудно изменившимися кажутся нам знакомые дома, старые стены крепости. На душе тревожная хрупкая радость.
На середину реки выплыли. Мимо нас проезжают на лодках, глядят на нас и смеются.
Мы уже освоились со своим положением. Смех, шутки так и рассыпаются по реке золотистыми блестками. Черпаем руками воду, брызгаемся и моем свои чумазые, по неделям не мытые рожицы.
Гришка из ремня изобразил род бинокля и, нахмуренный, сосредоточенный, обозревает окрестность; изредка вскидывается на нас и важно произносит, щуря от солнца свои плутоватые глазки.
– Сичас мыс Доброй Надежды будет!.. Остров «Белолицых» уже виден. Дядя Том сидит на берегу и жарит над костром рыбу. Северо-восточный муссон не грозит нашим пирогам!..
Котька лег на дно лодки и смотрит, очарованный, в синее небо наивными простоватыми глазками. Филька зачерпнул в фуражку воды и пьет с наслаждением большими глотками, обливая рубашку.
– Не хотите ли виски? – предлагает он нам с комическими ужимками.
Фольке снял Филькину фуражку и вылил ему за шиворот всю воду. Филька сердится и хватает Фольку за волосы.
А я сижу на корме в тятькином кожане, уписываю за обе щеки пирог с капустой и мечтательно смотрю в синюю даль, похожую на полосу моря.
И думается мне, чумазому мальчугану, что за этими синими лесами, полями и домами раскинулась другая страна – самая хорошая и светлая на свете – это моя деревня. И в этой стране-деревне очень хорошо и ласково. Там моя бабушка, и она печет очень «скусные аржаные» лепешки, и дедушка Филипп, самый мудрый на свете, который поет древние заунывные стихи и важно сказывает диковинные сказки…
– Ребята! Гляди… кит ползет! – возглашает Гришка.
– Поймать бы!.. На дворе девчонкам показать.
Мимо лодки плывет брюхом вверх дохлый налим. Со смехом вытащили.
– Лебята!.. Глядите… дядя Галасим за нами едет! – с ужасом произносит Котька, собираясь плакать.
И правда, к нашему ужасу, видим, как к нам приближается лодка с рослым перевозчиком Герасимом с чугунными волосатыми кулачищами и суровыми глазами под густыми сдвинутыми бровями.
Мы скованы страхом, растерянностью; и, будто не живы, стали ждать дядю Герасима. Котька заканючил ноющим плачем.
Лодка дяди Герасима спокойно подъехала к нам.
Столкнулись бортами.
– Давайте цепь… дьяволы! – рявкнул на нас, растерявшихся, дядя Герасим.
На буксире нас подвезли к пристани. Первым стал вылезать из лодки Гришка и пробовал было ласково заговорить с Герасимом:
– А что тебе, дяденька, не тяжело было везти нас?
Герасим вместо ответа как двинет Гришке по затылку, Гришка так и покатился по скользкой пристани и одной ногой угодил в реку и вымочил брюки.
Со страхом стал вылезать и я в тятькином кожане и с дохлым налимом в руке. Влетела и мне затрещина по загривку.
Идем по улице. Гришка хвастает: «Мне ничуть больно не было». Я бережно несу за пазухой налима, а сам реву горькими слезами. На меня прохожие смотрят и смеются. Видимо, хорош был в длинном кожане и с дохлым налимом под мышкой.
Пришли домой поздно вечером. Мне дюже влетело от тятьки за кожан и потерянный сапожный ножик.
У Гришки мокрые брюки высохли и вместо синего цвета приняли зеленый, и прозвали Гришку после этого «Тритоном».
Эх, милая глупая пора!..
Любовь – книга Божия
Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бобриков, во всем городе не найти. Был еще Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города в трухлявом бревенчатом доме – окнами на кладбище. Окраина славилась пьянством, драками, воровством и опустившимся, лишенным сана дьяконом Даниилом – саженного роста и огромного голоса детиной.
Про Филиппку и Агапку здесь говорили:
– Много видали озорных детушек, но таких ухарей еще не доводилось!
Было им лет по девяти. Отец одного был тряпичник, а другого – переплетных дел мастер. Филиппка – маленький, коротконогий, пузатый, губы пятачком и с петушком на большой вихрастой голове. Всегда надутый и что-то обдумывающий. Ходил он в диковинных штанах – одна штанина была синяя, а другая желтая и с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своем наряде Филиппка зашел как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал:
– Удивительно, Марья Димитриевна!
Агапка был тощим, в веснушках, зоркоглазым и вертким. Зиму и лето ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке-бескозырке. Выправка у него военная. Где-то раздобыл ржавые шпоры и приладил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил:
– Не называй меня больше Агапкой!
– А как же прикажете вас величать? – насмешливо спросила та.
Агапка звякнул шпорами и лихо ответил:
– Суворовым!
Озорства с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тетеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество.
Было озорство почище и злее, вызывавшее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Сидит Михайло в пивной. Звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет:
– Дядя Михайло! У твоей жены дядя Сеня сидит, и оба чай пьют!
Обожженный ревностью, Михайло срывается с места и прибегает домой.
– Изменщица! – рычит он, надвигаясь на жену с кулаками. – Где Сенька?
Та клянется и крестится – ничего не ведает. Ошалевший Михайло стучится к Сеньке – молодому сапожному подмастерью. Выходит Сенька. Вздымается ругань, а за нею драка. На двор собираются люди. В драку втирается городовой и составляет протокол. После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька ни при чем.
– Я не антиресуюсь вашей супругой, – говорит он, – немыслимое это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и карзубая…
От этих выражений кузнец опять наливается злобой:
– Моя жена огурец? Моя жена карзубая? Хочешь, я тебе блямбу дам? Ра-аз! У-у-х!
И опять начинается драка. Расстрига Даниил когда напивался, то настойчиво и зло искал черта, расспрашивая про него прохожих.
– Мне бы только найти, – гудел он, пробираясь вдоль заборов, – я бы в студень его превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти!
К Даниилу мягким шаром подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой:
– Дядюшка дьякон, ты кого ищешь?
– Черта, брат ситный, черта, который весь мир мутит! – в отчаянности вопиял дьякон. – Не видал ли ты его, ангельская душенька?
– Видал! Он невдалеча здесь… Пойдем со мною, дядюшка дьякон… Я покажу тебе!
Филиппка подводил Даниила к дому ростовщика Максима Зверева.
– Он тута… в подвальчике… – потаенным шепотом объяснял Филиппка.
Даниил выпрямлялся, засучивал рукава гологузой куртки и крестился, входя в темное логовище ростовщика:
– Ну, Господи, благослови! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!
Через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу.
Из подвального помещения вылетал похожий на моль низенький старичишка с перекошенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил.
– Держите Вельзевула! – грохотал он исступленной медью страшенного своего баса. – Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе Царство Небесное!
Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистком городового, и все становились веселыми и как бы пьяными.
За такие проделки не раз гулял по спинам Агапки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загривку.
Однажды случилось событие. На Филиппку и Агапку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой…
Пришла в образе девятилетней Нади, дочери старого актера Зорина, недавно поселившегося на окраине и на том же дворе, где проживали озорные ребята. Актер ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями, а Надя сидела дома. Всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой.
Проходил Агапка мимо, посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную и как бы золотистую от золотистых волос, падавших на тихие плечи, и неведомо от чего вспыхнул весь, застыдился вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агапки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащую в алтаре, не то на легкую птицу, летающую по синему поднебесью… Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал.
В этот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошел к ней и солидно сказал:
– Меня зовут Филипп Васильевич!
– Очень приятно, – тростинкой прозвенела девочка, – а меня Надежда Борисовна… У тебя очень красивый костюм, как в театре…
Филиппка обрадовался и подтянул пестрые штаны свои.
После этой встречи его душа стала сама не своя.
Он пришел домой и попросил у матери мыла – помыться и причесать его. Та диву далась:
– С каких это пор?
Филиппка в сердцах ответил:
– Вас не спрашивают!
Вымытым и причесанным вышел на двор. Встретил Агапку. Тот тоже был вымытым, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, и вместо опорок – высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели.
Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблоков, то семечек, а однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущенно и радостно приколола к груди Филиппки белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности.
Два дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал:
– Хочу с тобою поговорить!
– Об чем речь? – спросил Филиппка, поджимая губы.
Агапка вытащил из кармана серебряный гривенник.
– Видал?
– Вижу… десять копеек!
– Маленькая с виду монетка, – говорил Агапка, вертя гривенник перед глазами, – а сколько на нее вкусностей всяких накупить можно. К примеру, на копейку конфет «Дюшес» две штуки, за две копейки большой маковый пряник…
– Во-о, вкусный-то, – не выдержал Филиппка, зажмуривая глаза, – так во рте и тает. Лю-ю-блю!
– На три копейки халвы, на копейку стакан семечек, на две – каленых али китайских орешков, – продолжал Агапка, играя серебряком, как мячиком.
– Ну, и что же дальше? – жадно спросил Филиппка, начиная сердиться.
Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как «Гуак верный воин», про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник.
– Получай! Дарю тебе, как первому на свете другу! Но только прошу тебя… – здесь голос Агапки дрогнул. – не ухаживай за Надей… Христом Богом молю! Согласен?
Филиппка махнул рукой и резко, почти с отчаянностью в голосе, крикнул:
– Согласен!
На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.
Когда наелся он всяких сладостей, так что мутить стало, вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался.
На другой день ему стыдно было выйти на улицу, он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть, и перед смертью попросить прощения у Нади, и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы!»
Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл.
И вдруг в думы его о смерти вклинилась обрадованная мысль: «Отдать гривенник обратно! Но где взять?»
Филиппка вспомнил, что в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание.
«Драть будут… – подумал он, – но ничего, претерплю. Не привыкать!»
Филиппка вытащил из коробочки гривенник. Выбежал на улицу. Разыскал Агапку и сказал ему:
– Я раздумал! Получай свой гривенник обратно!
В школу
В окно брезжит мутное, иззябшее утро хмурого октября. Воет сиверко[2], нагоняя на душу тягучие, серые думы. Стучит неплотно притворенный ставень. Сеет дождь. За окном жмется от холода старая береза и мокрыми сучьями царапает по заплаканному окну.
Я лежу в постели, покрытый бараньей шубой, смотрю на мутное оконце и с горечью прислушиваюсь, как стонет и воет непогода.
В комнате у нас уютно. Мать топит большую русскую печь. Пламя так и полыхает, обдавая приятным теплом. Домовито пахнет дымом и тянет острой струйкой жареного картофеля. На столе шумит самовар и весело посматривают на тебя румяные баранки.
Отец при свете яркой лампы сидит у верстака, подбивает подметку на большом рыбацком сапоге и поет:
Потеряла я колечко, Потеряла я любовь. Как по этому колечку Буду плакать день и ночь.«Петьке и Кузьке хуже всего, – поглядывая в окно, размышляю я о своих приятелях, недавно поступивших в школу. – Сичас встанут, не успеют поесть, как следовать быть, по такой размокропогодице в школу пойдут… Никогда я в школу ходить не буду… Не на што. Ну ее к ляду. От учителей, говорят, житья никакого нет. Дома куды лучше. Никакой тебе заботушки… Сичас встану, поем и буду тятьке помогать сапоги подбивать… Хо-о-рошо!..»
Трещат сырые дрова, рассыпаясь искрами, как золотой мошкарой. Далеко вылетают из печи угольки – гости будут.
По стене, уставленной целым рядом колодок, как живые трепыхаются розоватые отблески.
За окном так же уныло и безрадостно сечет дождь. В сероватой мути рассвета чернеет двор с грязными лоснящимися крышами, а над ним висит серое, неприглядное небо.
Я думаю. О многом думаю. Мысли бегут вихрем в моем детском мозгу, сшибают одна другую, перескакивают с одного места на другое, то выплывают, округляются, то рассыпаются и тают, словно серебристые тонкие волны.
То я думаю о старой березе за окном: зябко ей, наверное, ишь как, сердешная, царапает она по окну сучьями – словно просит впустить ее погреться. Одеть бы на нее шубу…
То думаю о школе, куда поступили Петька с Кузькой.
И представляется мне школа с рассыпанным горохом по полу, а на нем стоят ученики на голых коленях, и сердитые учителя изо всей силы дерут их за волосья…
– Митроша! – вдруг неожиданно нарушает отец мирное течение моих детских мыслей.
Я удивленно насторожился и затаил дыхание: «Почему это он меня сегодня так ласково называет? Раньше все Митрошка, вахлак, эфиоп, а теперь поди ты… Ми-итроша!.. Чудно уж что-то! Митрошей зовет только тогда, когда именинник али в большой праздник…»
Мать положила ухват и грустно на меня посмотрела.
Екнуло сердце, томясь каким-то предчувствием.
– Седни я тебя, сынок, благословясь в школу поведу, – ласково, шутливым тоном говорит отец. – Пусть тебя там уму-разуму научат. Полно остреливать-то без дела. Поди соскучился по грамоте-то? Вон Кузька, тебе ровесник, а как учится – словно по лесенке идет… Какую хошь грамоту прочтет. Газеты читает! Во какой складный уродился!..
– И то правда, сынок, – произносит мать и почему-то смахивает слезу с глаз, – учеба нужна; без учебы ты словно темная ночь. Выучишься в школе читать. Псалтырь царя Давида почитаешь. На деревню письмо напишешь бабушке Степаниде. То-то обрадуется!.. Вишь, скажет, Митрофан-то какой дошлый стал… Грамоте выучился…
– В школу? – разеваю я от изумления и ужаса рот. – Батюшки, батюшки… Ба…тю… ба…
Жгут слезы. Кривится рот. Хочется залиться безудержным плачем…
Хотел что-то сказать, давился, и выходило какое-то невнятное бормотание. Сдержался, но не заплакал. Шмыгнул носом, заложил руки за голову и почти сразу стал мечтать, глядя в низкий закопченный потолок.
– Выучусь, значит, грамоте…. Напишу письмо бабушке Степаниде… Дорогая, мол, баушка… Я грамоте научился и это самое письмо пишу сам… То-то удивится! Вся деревня, поди, узнает!..
Я зажмуриваюсь от восхищения и уже успокоенный, позабыв про сердитых учителей, спрашиваю отца:
– Тять!.. А скоро в этой самой школе грамоте-то можно научиться?
– А как стараться будешь, голубь мой, – отвечает отец, затачивая голенище.
– Вот твой отец так в две недели грамоту превозмог… Если ты мозговитый – в отца, так в месяц выучишься… Наука-то, она вещь мудреная, сынок, это не сапоги подбивать… Да… Ты в науку-то вникай поприлежнее. Не срами нашу губернию. Когда объясняют что, ты уши-то шире растопырь, не развешивай… Старайся. Лоб искровяни, а своего добейся, учиться не будешь – на глаза не показывайся… Запорю!..
Решительную минуту я задумался и пил чай с баранками несколько пасмурный. Мать меня поглаживала по голове, угощала брусничным вареньем, но это меня не веселило.
– Ну, пей же, сынок, поскорее. Пей, голубчик… одеваться сичас надо в школу…
– Подождите! – отвечал я грубо, медленно потягивая чай. – Не обвариться же мне для вас… Успеете с козой на торг!.. Небось – обрадовались…
Одели на меня ситцевую рубашку с горошками, сапоги с голенищами, дали гривенник, благословили и повели меня в школу.
Митрошка
Митрошка, угловатый и молчаливый мальчик в длинных отцовских брюках, с вихрами всклокоченных волос на большой, похожей на жбан голове, был сыном пьяницы портного Клима Филатова.
Родился Митрошка кругленьким, румяным, с серыми умными глазами, с серьезным вдумчивым личиком. Когда бабка приняла его от матери, свила в пеленки, ошептала молитвами и положила в люльку, Митрошка, как большой и понятливый, серьезно огляделся вокруг, чмокнул губками и глубоко, по-мужицки вздохнул.
– Чевой это ты вздыхаешь, андельская душенька? – любовно спросила его слабая и больная мать.
– Настоящий дьякон соборный будет!.. Ишь грудастый да сурьезный какой… Весь в отца! – с умилением говорил Клим, с гордостью поглядывая на своего первенца. – И лоб отцовский, и глаза как у меня…
– Сравнил яичницу с колокольней! – недовольно заметила жена. – Сам ты, как еж… Стямлой, как палка с набалдашником, опухший весь от пьянства-то, – а он-то, цветочек, как херувим, как яблочко наливное!.. На радость ли родился мой болезный? – скорбно спрашивала мать Митрошку.
Митрошка сжал губы, глубоко вздохнул и деловито обвел своими большими раздумными глазами грязные стены своего жилища, закопченный потолок, большой портняжный стол и низенькое подслеповатое оконце с радужными от грязи стеклами, на которых красовались вырезанные из бумаги ножницы и брюки. «Живете-то вы неважно… Черно у вас и неуютно!» – казалось, говорили его большие удивленные глаза.
* * *
Одиноким, нелюдимым рос Митрошка в маленьком захолустном городке, на берегу омутистой речки Колотовки.
Заберется, бывало, он на старую над рекой иву, часами смотрит вдаль, думает о чем-то и тихо рассуждает сам с собой.
Раз подслушали его слова.
– Ты, ветер, не особенно злись! – укоризненно говорил он. – Поласковее дуй… А то как дунешь что есть мочи, наша фатера так и ходит, словно на ходульях…
Когда я большой вырасту, то всенепременно пойду искать золоты ключи в Волге-матушке… Злой чародей бросил их, чтобы люди больше страдали и мучились… А ключи те – от счастья и радости человеческой… Сказывала мне бабка: коли найти эти ключи, так людей от нищеты и болезней спасешь… А как найти их?.. Вот в этом и загвоздка!..
Поймает Митрошка жирного хозяйского кота Сеньку и говорит с ним как с человеком, понятливым и рассудительным.
– А мой тятька сёдни опять загулял! – жаловался Митрошка, поглаживая кота по спине. – Ушел ни свет ни заря… взял под мышку чужие брюки, пропьет, придет домой вдрызг пьяным и будет бредить, чертей отгонять… Боюсь страсть, когда пьяные бредят!..
Хорошая у вас жизнь, кошачья физия… Сытая. Картофеля и копченой селедки сколько хошь, столько и ешь!.. Куды захотел, туды и побег!..
Кот Сенька слушает Митрошку внимательно, щурится от солнышка и мурлычет, словно понимает.
– Ну какая это жисть! – жалостливо пенял Митрошка. – Сёдни стянул я с полки копченую салачину, а тятька поймал меня и по спине два раза огрел аршином. Эва, погляди, рубцы на спине какие!..
Митрошка поднимает свою рваную ситцевую рубашку и показывает коту худощавую спину в синих рубцах…
Кот урчал и ласково юлил около Митрошки.
– Чудной ты у нас, Митрошка! В кого это ты уродился таким? – спрашивал пьяный Клим, обняв его за шею. – Когда родился только, ты умнее горазд был!.. Вздыхал ты да ворковал, как отец дьякон… Удивил всех. Думали, что из тебя умный человек выйдет… А теперь девять лет тебе, и умственных способностей у тебя не ощущается… С котами по-человечески рассуждаешь… Разве коты могут понимать тебя?.. Сёдни опять учительша жалилась на тебя, что ты по рихметике плохо учишься… Все колы тебе ставят. Поговорить ты с людьми не умеешь… А если и скажешь слово, так на пятачок убытку и осрамишь всю губернию!..
– Не знаю, тять! Каков уродился, таков и есть! – отмалчивался Митрошка, опустив глаза в землю. – Я больно природу люблю, сёдни закат был прекрасный! – одушевлялся Митрошка, и бледные щеки его вспыхивали румянцем. – Краски на небе разные-преразные… солнышко красное было, как огонек в красной лампаде, и оно таяло так тихо-тихо и словно, тять, в какое-то розовое море опускалось… Тять, грустно мне бывает, когда солнышко погасает… я всегда протягиваю руки к солнышку, словно задержать его хочу… а оно гаснет тихо, тихо, как песня. Тять, можно остановить солнышко, чтобы оно всегда светило и не закатывалось?
– Нельзя! – шептал Клим, поникнув кудлатой головой и думая о чем-то неотвязном, безрадостном.
– Почему, тять, все хорошее и светлое так скоро кончается?..
Тять, уйти бы в луга, в цветы… маленькую избу построить на берегу реки, около леса… чтобы вдали церковь была маленькая, старинная, как у нас на селе, и по утрам и вечерам звонили бы в маленький колокол… я, тятька, звон страсть как люблю!.. Мне учительша про рихметику толкует, а у меня перед глазами луга цветистые, леса черные, как в сказке, а в ушах звон речки, шелест
травы и чья-то песня вроде той, что певают деды у монастырских ворот.
– Чудной ты, Митрошка…
– Тятька, что, душа у кота есть?
– Дурында ты большая, Митрошка! Кто же ему мог душу всунуть! Ведь кот-от бездушевный!
– И коты, значит, не могут понимать нашего разговору?
– Коты-то? – переспрашивает Клим, видимо, озадаченный вопросом, и, не удовлетворив Митрошку ответом, шепчет раздумчиво:
– Дурында ты, Митрошка, писаная. .
– Тятька, зачем меня на улице ребятишки побогаче голодранцем зовут?
– На то они и богатые, чтобы над бедными издевки творить!.
– А почему ты не разбогател?
– Потому что ума у меня много! Умные люди завсегда не жравши сидят. .
Лежит Митрошка на берегу речки Болотовки, слушает, как поет она, и думает: как бы найти золотые ключи в Волге-матушке и раскрыть райские двери…
И не будет тогда бедности и слез, и ребятишки побогаче дразнить тебя не будут, и не будут бить аршином за украденную салаку, и солнышко золотое, доброе будет светить всегда…
Как бы найти ключи заветные от радости и счастья человеческого?
* * *
Митрошке пятнадцать лет. Такой же задумчивый и угловатый, в длинных отцовских брюках и с вихрами волос. Книжки стал доставать читать, с котами перестал дружбу водить и в укромном уголку стал что-то писать.
Придет Клим пьяным, лежит на полу и бредит…
В окно дождь сочит осенний. Ветер рвет ставень и завывает в трубе. Мать сидит у окна и шьет при свете маленькой лампы.
Митрошка лежит на портняжном столе и пишет огрызком карандаша на серой лавочной бумаге.
– Чевой ты, сынок, там пишешь?
– Так, ничего! – отвечает Митрошка.
Раз Митрошку услали в лавку за селедками. А Клим вынул из его сундучка «писанья» и стал читать по складам:
– «Жить надо, как следовать быть… Любовь должна как солнце светить на земле, и каждый из человеков из всех сил должен стараться найти золотые ключи человеческого счастья. У нас нет жизни – а есть слезы…
…Хорошо быть с природой. Она имеет очень понятливую душу. Глядишь на нее, и на душе у тебя радостно и покойно… И хочется мне с тятькой и мамкой уйти очень далеко…»
– Ишь ты, какой занятный! – самодовольно бормочет Клим, – Агафья, послушай, что наш Митрошка-то пишет:
«Видел я сон. Как будто бы я шел по очень большому полю и на мне была одежда, как у архангела, что на картине, и одежда эта белая – снега белее, и в руке у меня восковая свеча, и горит свеча очень светло и всю дорогу освещает, а дорога была гладкая. На душе у меня была такая радость, как в тот день, когда тятька не пьянствует и мы пьем чаи с баранками…
И вот подул ветер, сильный-пресильный… и потушил мой огонек.
И темно сделалось вокруг. И на душе у меня было очень страшно.
Я проснулся, была ночь, тятька лежал на полу пьяный и бредил…»
– Чудной Мит ронжа! – растроганно шептал Клим, всплакнув над его писаньем.
Древний свет
Дом Федота Абрамовича Дымова построен при Николае I. Сложен он из просмоленных кряжистых бревен, ставших от времени сизыми, с за-зеленью. Три маленьких окна со ставнями выходят на людную Торговую улицу, застроенную новыми каменными домами. На прожженных солнцем ставнях – вырезанные сердечки. Крыльцо опирается на два столбика, когда-то крашенных в синий старообрядческий цвет. Над входом прибита медная икона. Ступени крыльца скрипят.
Если открыть тяжелую дубовую дверь в сени, то на притолоке можно увидеть следы давнего русского обычая – выжженный огнем четверговой свечи крест, избавляющий дом от вхождения духа нечиста. Из-под крыши вылетают ласточки. Над домом шумят высокие разлапистые клены. Здесь часто пахнет хвойным деревенским дымом – в сквозной полумгле сеней разжигается самовар сосновыми шишками. На дворе крапива, задичавший малинник, бревенчатый сруб колодца, сарай, крытый драньем. У сарая два пыльных колеса и опрокинутые сани.
Захолустное строение чуть ли не в центре города вызывает насмешки и озабочивает городскую управу: дом не на месте и не соответствует теперешнему стилю.
Сын Федота Абрамовича, Артемий, бойкий, идущий в гору торговец, ждет не дождется смерти старика – дом сразу же он снесет и на его месте построит доходное каменное здание. Артемий не раз предлагал отцу снести столетнюю постройку, но тот хмурился и отрывисто возражал:
– Никаких! Дождись моей смерти, а там как знаешь!
Сын пробовал было намекнуть, что городская управа в интересах строительства города намеревается так и так распорядиться о сносе дряхлых домов, но получал еще более упрямый отпор:
– Не имеют законного права! Моя собственность!
В один из летних вечеров я пошел навестить Федота Абрамовича. Тесные сени пахнут сухими вениками, можжевельником и дымом. По утлым половицам я добрался до двери, обитой войлоком. Нащупал проволоку, протянутую к колокольцу, и позвонил. Колоколец старый, на валдайских заводах отлитый. Звон его замечательный. В бытность Федота Абрамовича ямщиком он был украшением тройки. Когда слушаешь его, то невольно вспоминаешь старинные русские дороги, по которым рассыпалась побежчивая гремь, русских людей, сидевших в кибитке, то хмельных, то влюбленных, то исступленных, тоскою и буйным весельем одержимых… Пушкин с Гоголем вспомнится… Версты полосаты, дорожные подзимки, горький дым деревень, поволье ветреных полей, морозная ткань на окнах постоялого двора. Многое передумаешь, пока туговатый на ухо Федот Абрамович не шелохнется, не зашаркает по липовому полу в своих мягких домовиках и не окликнет:
– Кого Бог привел?
Он распахнул дверь, вгляделся и с непередаваемым, отживающим теперь русским радушием раскинул ржаные крестьянские руки.
– Ба! Пачечайный гость! Милости просим, нерасстанный друг мой!
Не успел слова сказать ему, Федот Абрамович уже побежал в сени, вытряхает самовар, льет воду, трещит лучинками и, по старой своей привычке, напевает старинным деревенским ладом:
Цвели в поле цветики да поблекли. Любил парень девушку да спокинул, Покинул, душа моя, не надолго, На едино времячко, на часочек.В который-то раз я рассматриваю горенку Федота Абрамовича, и всегда она кажется желанной! Таких горенок скоро не будет. Все в ней от прошлого. В переднем углу редкая драгоценность русской старинной иконописи – преподобный Сергий Строитель. На иконе ветхое, чуть ли не в терему вытканное полотенце. Лампада из толстого багряного стекла в медном висячем кадильце. Пучок поблекших верб. На особой под иконой полочке скляница с богоявленской водой, огарки свечей от Страстной недели, засохшая просфора, завернутый в бумагу святой пасхальный хлеб – артос, кожаный синодик с именами усопших – первыми записаны император Александр Второй – Освободитель, иеросхимонах Амвросий, блаженная Ксения. Длинный перечень имен завершается словами: «И всех сродников от века преставшихся помяни, Господи». Рядом с иконами редкие, на русских ярмарках купленные литографии: «Святая Гора Афон», «Возрасты человека», «Страшный Суд», «Сожжение протопопа Аввакума».
На резной дубовой полке книги в старых кожаных переплетах – «Добротолюбие», «Патерик», «Часослов», «Житие преподобного Александра Свирского». Если взять одну из них и вдохнуть листы ее, то запахнет сушеными яблоками. Вдоль стен длинные дубовые скамьи, нескладные, но прочно сбитые табуреты с выжженными ржаными снопами на сиденье. В углу на дубовых колесиках тяжелый сундук, окованный железом, и в недрах его что ни вещь, то столетие…
Старый дом вздрагивает от проезжающих мимо автобусов и грузовиков. Слушаю пугливую его дрожь и думаю: «Все это прошлое, освященное любовью и молитвенным шепотом, перейдет к новому человеку, торгашу Артемию. Ничего он не сбережет. Что поценнее, как, например, икона Сергия Строителя, продаст, а остальное пожжет или на чердак выбросит».
– Не соответствует веку! – скажет он любимую свою фразу и тоненько захихикает.
В раскрытые окна входит вечер. Клены рассыпают прохладу. На их листьях качается завечеревшее солнце.
Шумит самовар, на нем отчеканено: «Фабрика в Туле братьев Стрельниковых». Федот Абрамович ставит большие синие чашки с золотой надписью по-славянски: «Приемлю и ничесоже противнаго глаголю». По ободку деревянной тарелки, где лежит хлеб, вьется резная русская пословица: «Хлеб-соль ешь, а правду режь». На деревянной чашке с медом ложка монастырской работы, а на донце ее мелко-мелко выжжена Троице-Сергиев-ская Лавра.
Федот Абрамович разливает чай. На левом плече у него полотенце. Сам весь улыбается – рад почаевничать с пачечайньш гостем.
– Вот и хорошо, что Господь надоумил тебя навестить старого! Кроме святого угодника, – кивает он на икону, – никого у меня! Один, как часовня в поле!
– Артемий Федотыч, поди, заходит! – добавил я.
Старик мотнул головою:
– И-и! Третий месяц глаз не кажет! Некогда. За наживой гонится, неуемная душа! Эх, деньги, деньги, семена дьявола… Пристает тут ко мне Артемка смолою едучей: сноси-де дом! Новый построим. В пять этажей. Под кино да торговые ряды сдавать его будем. Дело-то, поди, и выгодное, но поверь, дружище, не могу со своим домом расстаться. Как подумаю об этом, так и затрясусь и ослабну весь. Мы, старики, не умеем иначе жить, чтоб не срастись душою и телом с привычным, дыханием обогретым местом… Пусть подождет Артемий. Жить мне осталось немного – во рту уж земляная горечь, матушка земля к себе зовет!
Стараясь быть спокойным, он спросил меня словно невзначай:
– А правда, бают люди, что закон такой выходит, старые дома ломать?
– Поговаривают, но…
Он не дал мне досказать.
– Ну что ж. Против рожна не попрешь! Да, строится жизнь, шибко строится, а лет тридцать тому назад на нашей улице рожь росла и жницы песни пели… Города нашего не узнать. Там, где теперь лесопильный завод, кладбище было старинное. Дубы росли. На синей горе стояла церковь ев. Федора Стратилата, а теперь ресторан. Вокруг города большие леса шумели, а теперь их повырубили. Скоро и мы, старики, перестанем отсвечивать. «Имя наше забудется, – как говорит премудрый Соломон, – никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как облако, и рассеется, как туман».
– Трудно, поди, благословить вам нашу теперешнюю жизнь? – спросил я Федота Абрамовича,
– Как тебе ответить, родной мой? Мог бы и благословить ее, если человек души своей не утратил. С новым человеком я разговаривать не могу. Не живой он. Теплом от него не пахнет. Не люди, а заводные машины какие-то пошли. Ни одного лица мало-мальски светлого не встретишь… Наша стариковская жизнь, не спорю, была со всячинкой: серой, дикой и неустроенной, но зато от многих сияние шло, Христос по земле любил ходить…
Заря за окнами затуманилась тучами. Пахло дождем. В горнице потемнело. На улице трещало радио, У промчавшегося автомобиля лопнула шина. Черным дымом дымила фабрика, окутывая синие купола собора. Со спортивного плаца доносился вой футболистов. В городском саду оркестр играет модный шлягер «Твои ноги, как змеи».
– Эк их, шумят! – мягко воркотнул Федот Абрамович, кивнув на улицу. – Под вечер-то хоть отдохнули бы. Мучает себя человек шумом. Поди ведь, у всякого востосковала душа по земле Божьей, по тихой поступи… Нужен человеку покой, ой как нужен! По малообразованию своему трудно мне изъяснить теперешнее положение мира, но чувствую: нескладная и тяжелая у человека жизнь!
Но уходя от Федота Абрамовича, я оглянулся на его дом. Из всех домов на этой улице только в нем одном всегда теплилась лампада. Древний свет ее в эту ночь казался последней светящейся точкой старости, уходящей в синие предвечные дали.
Серебряная метель
До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной «Христос раждается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.
В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:
– Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!
«Ничего, – подумал я, – посмотрим… Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на пятерку исправлю… За арихметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, – ее тоже на пятерку исправлю…»
Когда все это я сообразил, то сказал родителям:
– Баллы у меня будут как первый сорт!
С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:
– Ты слышишь, как пахнет Рождеством?
– Пока нет, но скоро услышу!
– Когда же?
– А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и услышу!
Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.
– Ты чего губы надул? – спросил Гришка.
Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:
– Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?
– А чем же?
На это я ничего не смог ответить, покраснел и еще пуще рассердился.
Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские.
За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.
Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арихметику поставили тройку, а за поведение – пять с минусом.
Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелют половики, затеплят лампады перед иконами и впустят его…
Наступил сочельник; он был метельным и белым, белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: «Необыкновенный снег… как бы святой! Ветер, шумящий в березах, – тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те… По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и, как чудной, чему-то улыбался.
Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово – «Рождество».
Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.
Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого – одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку… Сел с ней рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче «Дева днесь Пресущественнаго раждает» и вместо «волсви. со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют». Отец, прослушав мое пение, сказал:
– Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?
Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. [3]
Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях:
– Наверное, шел тогда снег и маленькому Иисусу было дюже холодно!
И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.
– Ты что заканючил? – спросили меня с беспокойством.
– Ничего. Пальцы я отморозил…
– И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олетывал в такую зябь!
И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой своей радости, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.
Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, – отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал «великое повечерие». Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий – в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились.
В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:
– Я видел на небе рождественскую звезду… Большая и голубая!
Гришка покосился на меня и пробурчал:
– Звезда эта обнаковенная! Вега прозывается. Ее завсегда видать можно!
Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок.
Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:
– После службы и от меня получишь!
Читал Силантий долго, долго… Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул:
– С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!
Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:
– С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!
Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.
– Услышите до последних земли, яко с нами Бог, – гремел хор всеми лучшими в городе голосами. – Могущий покоряйтеся, яко с нами Бог… Живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам – яко с нами Бог… И мира Его нет предела – яко с нами Бог!
Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.
После возгласа, сделанного священником, тонко, тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».
После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились:
– Христос был хороший человек!
Сели мы с Уркой под елку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое Христе Боже наш».
В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш».
Крещение
В крещенский сочельник я подрался с Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдет с неба Ангел и освятит на реке воду, и она запоет: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Гришка не поверил и обозвал меня «баснописцем». Этого прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня спросили:
– О чем кувыкаешь?
– Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-у-дет сегодня ночью!
Из моих слов ничего не поняли.
– Нагрешник ты, нагрешник, – сказали с упреком, – даже в Христов сочельник не обойтись тебе без драки!
– Да я же ведь за дело Божье вступился, – оправдывался я.
Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выливать ее на места попираемые. Отец спросил меня:
– Знаешь, как прозывается по-древнему богоявленская вода? Святая агиасма!
Я повторил это как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово «агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?
На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала:
– Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то будет урожайный год.
В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный свет – точно такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.
Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали «пророчества». Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой…»
Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело слово «вода». Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо и ветер, развевающий их седые волосы…
При пении «Глас Господень на водах» вышли из алтаря к народу священник и диакон. На водосвятной чаше зажгли три свечи.
– Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздается, а Гришка не верит… Плохо ему будет на том свете!
Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно.
Священник читал молитву «Велий еси Господи, и чудна дела Твоя… Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды… Тебе слушает свет…»
После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь «Во Иордане крещающуся Тебе Господи, тройческое явися поклонение», и всех окропляли освященной водою.
От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось, что теперь наступит большое ненарадованное счастье, и все будет по-хорошему, как в день ангела, когда отец «осеребрит» тебя гривенником, а мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма перед возжженным светильником, и священник сказал народу:
– Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю поднебесную!
Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна.
Так же, как и на Рождество, в доме держали «дозвездный пост». Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу— навечерницу. Печеную картошку ели с солью, кислую капусту, в которой попадались морозники (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом огурцы и сладкую, медом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к иорданскому всенощному бдению. Началось оно по-рождественскому – великим повечерием. Пели песню «Всяческая днесь да возрадуется Христу явльшуся во Иордан» и читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего.
После всенощной делали углем начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах— в знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладимым и многоводным, а девушки «величают звезды». Выходят они из избы на двор. Самая старшая из них несет пирог, якобы в дар звездам, и скороговоркой, нараспев выговаривает:
– Ай, звезды, звезды, звездочки! Все вы звезды одной матушки, белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по миру крещеному, сряжайте свадебку для мира крещеного, для пира гостиного, для красной девицы родимой.
Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоет полнощная вода…
Мать «творит» тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, а отец читает Библию. За окном ветер гудит в березах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном «численнике» покажется красная цифра 6, и под ней будет написано звучащее крещенской морозной водою слово: «Богоявление». Завтра пойдем на Иордань!
Кануны Великого Поста
Вся в метели прошла преподобная Евфимия Великая – государыня масленица будет метельной! Прошел апостол Тимофей полузимник; за ним три вселенских святителя; св. Никита, епископ Новгородский, – избавитель от пожара и всякого запаления; догорели восковые свечи Сретения Господня – были лютые сретенские морозы; прошли Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.
Снег продолжает заметать окна до самого навершия, морозы стоят словно медные, по ночам метель воет, но на душе любо – прошла половина зимы. Дни светлеют! Во сне уж видишь траву и березовые сережки. Сердце похоже на птицу, готовую к полету.
В лютый мороз я объявил Гришке:
– Весна наступает!
А он мне ответил:
– Дать бы тебе по затылку за такие слова! Кака тут весна, ежели птица на лету мерзнет!
– Это последние морозы, – уверял я, дуя на окоченевшие пальцы, – уже ветер веселее дует, да и лед на реке по ночам воет… Это к весне!
Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему тоже любо от весенних слов.
Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом:
– Бежит время… бежит… Завтра наступает Неделя о мытаре и фарисее. Готовьтесь к Великому посту – редька и хрен да книга Ефрем.
Все вздохнули, а я обрадовался. Великий пост – это весна, ручьи, петушиные вскрики, желтое солнце на белых церквах и ледоход на реке. За всенощной, после выноса Евангелия на середину церкви, впервые запели покаянную молитву: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утреннюет бо дух мой ко храму святому Твоему».
С мытаревой недели в доме начиналась подготовка к Великому посту. Перед иконами затепляли лампаду, и она уже становилась неугасимой. Перед обедом и ужином молились «в землю». Мать становилась строже и как бы уходящей от земли. До прихода Великого поста я спешил взять от зимы все ее благодатности, катался на санях, валялся в сугробах, сбивал палкой ледяные сосульки, становился на запятки извозчичьих санок, сосал льдинки, спускался в овраги и слушал снег.
Наступила другая седмица. Она называлась по-церковному – Неделя о блудном сыне. За всенощной пели еще более горькую песню, чем «Покаяние», – «На реках Вавилонских».
В воскресенье пришел к нам погреться Яков Гриб. Присев к печке, он запел старинный стих «Плач Адама»:
Раю мой раю, Пресветлый мой раю, Ради мене сотворенный, Ради Евы затворенный.Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоминать большие русские дороги, по которым ходили старцы-слепцы с поводырями. Прозывались они Божьими певунами. На посохе у них изображались голубь, шестиконечный крест, а у иных змея. Остановятся, бывало, перед окнами избы и запоют о смертном часе, о последней трубе Архангела, об Иоасафе-царевиче, о вселении в пустыню. Мать свою бабушку вспомнила:
– Мастерица была петь духовные стихи! До того было усладно, что, слушая ее, душа лечилась от греха и помрачения!..
– Когда-то и я на ярмарках пел! – отозвался Яков. – Пока голоса своего не пропил. Дело это выгодное и утешительное. Народ-то русский за благоглаголивость слов крестильный крест с себя сымет! Все дел о забудет. Опустит, бывало, голову и слушает, а слезы-то по лицу так и катятся!.. Да, без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни на есть чистокровный жулик и арестант!
– Теперь не те времена, – вздохнула мать, – старинный стих повыветрился! Все больше фабричное да граммофонное поют!
– Так-то оно так, – возразил Яков, – это верно, что старину редко поют, но попробуй запой вот теперь твоя бабушка про Алексия, человека Божия, или там про антихриста, так расплачутся разбойники и востоскуют! Потому что это… русскую в этом стихе услышат… Прадеды да деды перед глазами встанут… Вся история из гробов восстанет!.. Да… От крови да от земли своей не убежишь. Она свое возьмет… кровь-то!
Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и он показался мне знамением весны – она всегда, ранняя весна-то, бирюзовой бывает! Я сказал про это Гришке, и он опять выругался.
– Дам я тебе по затылку, курносая пятница! Надоел ты мне со своей весной хуже горькой редьки!
Наступила Неделя о Страшном Суде. Накануне поминали в церкви усопших сродников. Дома готовили кутью из зерен – в знак веры в воскресение из мертвых. В этот день церковь поминала всех «от Адама до днесь усопших в благочестии и вере» и особенное моление воссылала за тех, «коих вода покрыла, от брани, пожара и землетрясения погибших, убийцами убитых, молнией попаленных, зверьми и гадами умерщвленных, от мороза замерзших…» И за тех «яже уби меч, конь совосхити, яже удави камень, или персть посыпа; яже убиша чаровныя напоения, отравы, удавления…»
В воскресенье читали за литургией Евангелие о Страшном Суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или отдаленные раскаты грома. Во мне боролись два чувства: страх перед грозным Судом Божьим и радость от близкого наступления масленицы. Последнее чувство было так сильно и буйно, что я перекрестился и сказал:
– Прости, Господи, великие мои согрешения!
Масленица пришла в легкой метелице. На телеграфных столбах висели длинные багровые афиши. Почти целый час мы читали с Гришкой мудреные, но завлекательные слова:
«Кинематограф “Люмьера”. Живые движущиеся фотографии и кроме того блистательное представление малобариста геркулесного жонглера эквилибриста “Бруно фон Солерно”, престидижитатора Мюльберга и магико-спиритическ. вечер престидижитатора, эффектиста, фантастического вечера эскамотажа, прозванного королем ловкости Мартина Лемберга»[4].
От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с понедельника, а бедные с четверга. Мать пекла блины с молитвою. Первый испеченный блин она положила на слуховое окно в память умерших родителей. Мать много рассказывала о деревенской масленице, и я очень жалел, почему родителям вздумалось перебраться в город. Там все было по-другому. В деревне масленичный понедельник назывался – встреча; вторник – заигрыши; среда – лакомка; четверг – перелом; пятница – тещины вечерки; суббота – золовкины посиделки; воскресенье – проводы и прощеный день. Масленицу называли также Боярыней, Царицей, Осударыней, Матушкой, Гуленой, Красавой. Пели песни, вытканные из звезд, солнечных лучей, месяца – золотые рожки, из снега, из ржаных колосков.
В эти дни все веселились, и только одна церковь скорбела в своих вечерних молитвах. Священник читал уже великопостную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Наступило Прощеное воскресенье. Днем ходили на кладбище прощаться с усопшими сродниками. В церкви после вечерни священник поклонился всему народу в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись друг другу, обнимались и говорили: «Простите, Христа ради», – и на это отвечали: «Бог простит». В этот день в деревне зорнили пряжу, т. е. выставляли моток пряжи на утреннюю зарю, чтобы вся пряжа была чиста.
Снился мне грядущий Великий пост почему-то в образе преподобного Сергия Радонежского, идущего по снегу и опирающегося на черный игуменский посох.
Великий Пост
Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.
Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью: «Пост да молитва небо отворяют!»
Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снетки, постный сахар… Из деревень привезли много веников (в чистый понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо и деликатно:
– Грибки монастырские!
– Венички для очищения!
– Огурчики печерские!
– Снеточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха, и от мороза только ручейки останутся!
В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили и произнес никогда не слышимые слова:
«Господи, Иже Пресвятаго Своего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся…»
Все опустились на колени, и лица молящихся – как у предстоящих перед Господом на картине «Страшный Суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слезы. Около Распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у свечного ящика.
За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.
После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящихтися… даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.
Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В монастырях, по правилам святых отцов, на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода… А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день и только вечером…»
Я задумался над словами Якова и перестал есть.
– Ты что не ешь? – спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
– Хочу быть святым Ермом!
Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:
– Ишь ты, какой восприёмный!
Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще.
Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерию.
Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.
Полумрак вздрогнул от возгласа священника – тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели – тихо-тихо и до того печально, что защемило в сердце: «Помощник и покровитель бысть мне во спасение: сей мой Бог и прославлю Его, Бог Отца моего и вознесу Его, славно бо прославися…»
К аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать великий канон Андрея Критского: «Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний; кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию, но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».
После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя…»
Долгая, долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:
– Сядь на скамейку и отдохни малость…
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши!»
Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься. Батюшка читает: «Согреших, беззаконовах и отвергох заповедь Твою…»
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при встрече с батюшкой не снял шапку.
Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя…»
Когда шли из церкви домой, дорогой я сказал отцу, понурив голову:
– Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!
Отец ответил:
– Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к матери:
– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел.
И мать тоже ответила:
– Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал: «Как хорошо быть безгрешным!»
Торжество Православия
Отец загадал мне мудреную загадку: «Стоит мост на семь верст. У конца моста стоит яблоня, она пустила цвет на весь Божий свет».
Слова мне понравились, а разгадать не мог. Оказалось, что это семинедельный Великий пост и Пасха.
Первая неделя поста шла к исходу. В субботу церковь вспоминала чудо великомученика Феодора Тирона. В этот день в церкви давали медовый рис с изюмом. Он так мне понравился, что я вместо одной ложечки съел пять, и дьякон, державший блюдо, сказал мне:
– Не многовато ли будет?
Я поперхнулся от смущения и закашлялся. В эти богоспасенные дни (так еще называли пост) я часто подходил к численнику и считал листики: много ли дней осталось до Пасхи?
Перелистал их лишь до Великой субботы, а дальше уж не заглядывал – не грешно ли смотреть на Пасху раньше срока?
Отец, сидя за верстаком, пел великопостные слова:
Возсия благодать Твоя, Господи, возсия просвещение душ наших; отложим дела тьмы, и облечемся во оружие света: яко да преплывше поста великую пучину.Все чаще и чаще заставляли меня читать по вечерам «Сокровище духовное от мира собираемое» св. Тихона Задонского. Я выучил наизусть вступительные слова к этой книге и любовался ими, как бисерным кошелечком, вышитым в женском монастыре и подаренным мне матерью в день ангела:
«Как купец от различных стран собирает различные товары, и в дом свой привозит, и сокрывает их: так христианину можно от мира сего собирать душеполезные мысли, и слагать их в клети сердца своего, и теми душу свою созидать».
Многое что не понимал в этой книге. Нравились мне лишь заглавия некоторых поучений.
Я заметил, что и матери эти заглавия были любы. Прочтешь, например: «Мир», «Солнце», «Сеятва и жатва», «Свеща горящая», «Вода мимотекущая», а мать уж и вздыхает:
– Хорошо-то как, Господи!
Отец возразит ей:
– Подожди вздыхать… Это же «зачин».
А она ответит:
– Мне и от этих слов тепло!
Читаешь творение долго. Закроешь книгу и по старинному обычаю поцелуешь ее. Много прочитано разных наставлений святителя, а мать твердит только одни ей полюбившиеся заглавные слова:
– Свеща горящая… Вода мимотекущая…
Наш город ожидал два больших события: приезда архиерея со знаменитым протодьяконом и чина провозглашения анафемы отступникам веры.
Про анафему мне рассказывали, что в старое время она провозглашалась Гришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Пугачеву, Мазепе, и в этот день старухи-невразумихи поздравляли друг дружку по выходе из церкви: «с проклятьицем, матушка». При слове «анафема» мне почему-то представлялись большие гулкие камни, падающие с высоких гор в дымную бездну.
День этот был мглистым, надутым снегом и ветром, готовый рассыпаться тяжкой свинцовой вьюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что анафему не надо понимать как проклятие, я все же стоял в церкви со страхом.
Из алтаря вышло духовенство для встречи епископа. Я насчитал двенадцать священников и четырех дьяконов.
Шествие замыкал высокий, дородный протодьякон с широким медным лбом, с рыжими кудрями по самые плечи. Он плыл по собору, как большая туча по небу, вьюжно шумя синим своим стихарем, опоясанным серебряным двойным орарем. Крепкая медная рука с литыми длинными пальцами держала кадило.
Про этого протодьякона ходила молва, что был он когда-то бурлаком на Волге и однажды, тяня бечеву, запел песню на все волжское поволье. Услыхал эту песню проезжавший мимо Московский митрополит. Диву он дался, услыхав голос такой редкостной силы. Владыка повелел позвать к себе певца. С этого и началось. Бурлак стал протодьяконом.
На колокольне затрезвонили «во вся тяжкая» колокола. К собору подкатила карета, из которой вышел сановитый монах в собольей шубе, опираясь на черный высокий посох. Л ицо монаха властное, хмурое, как у древних ассирийских царей, которых я видел в книжке.
В это время загрохотал как бы великий гром. Все перекрестились и восколебались, со страхом взглянув на медного протодьякона. Он начал возглашать:
– Достойно есть, яко воистину…
К его возгласу присоединился хор, запев волнообразное архиерейское «входное», поверх которого шли тяжелые волны протодьяконского голоса: «И славнейшую без сравнения серафим…» Два иподьякона облачали епископа в лиловую мантию. Она звенела тонкими ручьистыми бубенчиками.
Это была первая торжественная служба, которую я видел, и мне было радостно, что наше Православие такое могучее и просторное. Недаром сегодняшний день назывался по-церковному «Торжеством Православия».
Епископа облачали в редкостные ризы посредине церкви, на бархатном красном возвышении, и в это время пели запомнившиеся мне слова: «Да возрадуется душа Твоя, о Господи!..» Все это было мне в диковинку, и Гришка несколько раз говорил мне:
– Закрой рот! Стоишь, как ворона!
– А у тебя сопля текет! – разъярился я на Гришку, толкнув его локтем.
– Чего это вы тут озоруете? – зашипел на нас красноносый купец Саморядов. – Анафемы захотели?
Но купец Саморядов сам не выдержал тишины, когда протодьякон грянул во всю свою волговую силу:
– Тако да просветится свет Твой пред человеки!..
Купец скрючился, ахнул и восторженно вскрикнул:
– Вот дак… голосище!.. Чтоб… его…
Он хотел прибавить что-то неладное, но испугался; закрыл ладонью рот и стал часто креститься.
На купца взглянули и улыбнулись.
Меня затеснили и загородили свет. Я пытался протискаться вперед, но меня не пускали и даже бранили:
– И что это за шкет такой беспокойный!
– Пустите сорванца вперед, а то все мозоли нам отдавит!
Меня выпихнули к самому амвону, где стояли почетные богомольцы. На меня покосились, но я никакого внимания на них не обратил и встал рядом с генералом.
Я смотрел на «золотое шествие» духовенства из алтаря на середину церкви при пении «Блаженни нищие духом», на выход епископа со свечами, провозгласившего над народом моление «Призри с небеси, Боже» и осенившего всех нас огнем, – а в это время три отрока в стихарях пели: «Святый Боже, святый Крепкий, святый Бессмертный помилуй нас», – на всенародное умовение рук епископа перед Великим выходом при пении: «Иже херувимы тайно образующе», и все это при синайских громах протодьяконовского возношения.
Мне не стоялось спокойно, я вертелся по сторонам и весь как бы горел от восхищения.
Генерал положил мне руку на голову и вежливо сказал:
– Успокойся, милый, успокойся!
Начался чин анафемствования. На середину церкви вынесли большие темные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце, и провозглашали ектению о возвращении всех отпавших в объятия Отца Небесного.
В окна собора била вьюга. Все люди стояли потемневшими, с опущенными головами, похожими на землю в ожидании бури.
После молитвы о просвещении святом всех помраченных и отчаявшихся на особую деревянную восходницу поднялся протодьякон и положил тяжелые металлические руки на высокий черный аналой. Он молча и грозно оглядел всех предстоящих, высоко поднял златовласую голову, перекрестился широким взмахом и всею силою своего широкого голоса запел прокимен:
– Кто Бог великий яко Бог наш, Ты еси Бог творяй чудеса!
Как бы объятый огнем и бурею, протодьякон бросал с высоты восходницы огненосное, страшное слово: анна-фе-мма!
И опять мне представилась гора, с которой падали тяжелые черные камни в дымную бездну.
Все отлучаемые от Церкви были этими падающими камнями. Вслед им, с высоты горы, Церковь пела трижды великоскорбное и как бы рыдающее:
– Анафема, анафема, анафема! – Церковь жалела отлучаемых. В этот мглистый вьюжный день вся земля, казалось, звучала протодьяконской медью:
«Отрицающим бытие Божие – анафема!
Дерзающим глаголати яко Сын Божий не единосущен Отцу и не бысть Бог – анафема!
Не приемлющие благодати искупления – анафема!
Отрицающие Суд Божий и воздаяние грешников – анафема!..»
В этот день мать плакала:
– Жалко их… Господи!..
Преждеосвяшенная
После долгого чтения часов с коленопреклонными молитвами на клиросе горько-горько запели: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствие Твое…»
Литургия с таким величавым и таинственным наименованием «преждеосвященная» началась не так, как всегда…
Алтарь и амвон в ярком сиянии мартовского солнца. По календарю завтра наступает весна, и я, как молитву, тихо шепчу раздельно и радостно: весна! Подошел к амвону. Опустил руки в солнечные лучи и, склонив набок голову, смотрел, как по руке бегали «зайчики». Я старался покрыть их шапкой, чтобы поймать, а они не давались. Проходивший церковный сторож ударил меня по руке и сказал: «Не балуй». Я сконфузился и стал креститься.
После чтения первой паремии открылись Царские врата. Все встали на колени, и лица богомольцев наклонились к самому полу. В неслышную тишину вошел священник с зажженной свечой и кадилом. Он крестообразно осенил коленопреклоненных святым огнем и сказал:
– Премудрость, прости! Свет Христов просвещает всех…
Ко мне подошел приятель Витька и тихо шепнул:
– Сейчас Колька петь будет… Слушай, вот где здорово!
Колька живет на нашем дворе. Ему только девять лет, и он уже поет в хоре. Все его хвалят, и мы, ребятишки, хоть и завидуем ему, но относимся с почтением.
И вот вышли на амвон три мальчика, и среди них Колька. Все они в голубых ризах с золотыми крестами и так напомнили трех отроков-мучеников, идущих в пещь огненную на страдание во имя Господа.
В церкви стало тихо-тихо, и только в алтаре серебристо колебалось кадило в руке батюшки.
Три мальчика чистыми, хрустально-ломкими голосами запели:
– Да исправится молитва моя… Яко кадило пред Тобою… Вонми гласу моления моего…
Колькин голос, как птица, взлетает все выше и выше и вот-вот упадет, как талая льдинка с высоты, и разобьется на мелкие хрусталики.
Я слушаю его и думаю: «Хорошо бы и мне поступить в певчие! Наденут на меня тоже нарядную ризу и заставят петь… Я выйду на середину церкви, и батюшка будет кадить мне, и все будут смотреть на меня и думать: “Ай да Вася! Ай да молодец!’. И отцу с матерью будет приятно, что у них такой умный сын…»
Они поют, а батюшка звенит кадилом сперва у престола, а потом у жертвенника, и вся церковь от кадильного дыма словно в облаках.
Витька – первый баловник у нас на дворе, и тот присмирел. С разинутым ртом он смотрит на голубых мальчиков, и в волосах его шевелится солнечный луч. Я обратил на это внимание и сказал ему: – У тебя золотой волос!
Витька не расслышал и ответил:
– Да, у меня неплохой голос, но только сиплый маленько, а то я бы спел!
К нам подошла старушка и сказала:
– Тише вы, баловники!
Во время великого входа вместо всегдашней «Херувимской» пели:
«Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершена дориносится».
Тихо-тихо, при самой беззвучной тишине батюшка перенес Святые Дары с жертвенника на престол, и при этом шествии все стояли на коленях лицом вниз, даже певчие.
А когда Святые Дары были перенесены, то запели хорошо и трогательно: «Верою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем».
По закрытии Царских врат задернули алтарную завесу только до середины, и нам с Витькой это показалось особенно необычным. Витька мне шепнул:
– Иди, скажи сторожу, что занавеска не задернулась!..
Я послушался Витьку и подошел к сторожу, снимавшему огарки с подсвечника.
– Дядя Максим, гляди, занавеска-то не так…
Сторож посмотрел на меня из-под косматых бровей и сердито буркнул:
– Тебя забыли спросить! Так полагается…
По окончании литургии Витька уговорил меня пойти в рощу.
– Подснежников там, страсть! – взвизгнул он.
Роща была за городом, около реки. Мы пошли по душистому предвесеннему ветру, по сверкающим лужам и золотой от солнца грязи и громко вразлад пели только что отзвучавшую в церкви молитву: «Да исправится молитва моя», – и чуть не переругались из-за того, чей голос лучше.
А когда в роще, которая гудела по-особенному, по-весеннему, напали на тихие голубинки подснежников, то почему-то обнялись друг с другом и стали смеяться и кричать на всю рощу… А что кричали, для чего кричали – мы не знали.
Затем шли домой с букетиками подснежников, и я мечтал о том, как хорошо поступить в церковный хор, надеть на себя голубую ризу и петь: «Да исправится молитва моя».
Исповедь
– Ну, Господь тебя простит, сынок… Иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то три целковых плочено, – напутствовала меня мать к исповеди.
– Деньги-то в носовой платок увяжи, – добавил отец. – свечку купи за три копейки и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова, не проиграй «в орла и решку» и батюшке отвечай по совести!
– Ладно! – нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы.
Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал:
– Простите меня, Христа ради!
На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы.
Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень.
– Куда это ты таким пижоном вырядился? – спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер.
– Исповедаться! – важно ответил я.
– В добрый час, в добрый, но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня «подметалой мучеником», – осклабился дворник.
На это я буркнул: ладно!
Мои приятели Котька Л ютов и Урка Дубин пускают в луже кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду.
Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом прохожу мимо.
– Ишь, Васька зафорсил-то! – насмешливо отзывается Котька. – В пальте новом… в сапогах, как кот… Обувь лаковая, а рожа аховая!
– А твой отец моему тятьке до сих пор полтинник должен! – сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом:
– Сапожные шпильки!
Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит, адиёт, шкилетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тятька сапожник… Сапожник, да не простой! Купцам да отцам дьяконам сапоги шьет, не как-нибудь!
Гудят печальные великопостные колокола.
«Вот ужо… после исповеди я Котьке покажу!» – думаю я, подходя к церкви.
Церковная ограда. Шершавые вязы и мшистые березы. Длинная зеленая скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала «великого повечерия». С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет:
– Ва-а-сь-ка! Сыпь сюда!
Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы.
«Одежу и сапоги измызгаешь, – вздыхаю я, – нехорошо, когда ты во всем новом!»
– И вот, светы мои, в пустыни-то этой подвизались три святолепных старца, – рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. – Молились, постились и трудились… да… трудились… А кругом одна пустыня…
Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков.
– Васька! И ты исповедаться? – раздается сиплый голос Витьки.
На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему три копейки, данные матерью, чтобы купить мыла для стирки, за что и влетело мне по загривку.
– Пойдем, сыгранем в орла и решку, а? – упрашивает меня Витька, показывая пятак.
– С тобой играть не буду! Ты всегда жулишь!
– И вот пошли три старца в един град к мужу праведному, – продолжает дядя Осип.
Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю: «Если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым!..»
Великое повечерие. Исповедь. Густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках.
– Ну, сахар-то, поди, таскал без спросу? – ласково спрашивает меня.
Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю:
– Не… у нас полка высокая!..
И когда спросил он меня: «Какие же у тебя грехи?» – я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод.
«Вот, вот, – встревожился я, – сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия…»
И чудится, кто-то темноризый шепчет мне на ухо: кайся!
Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами.
– Батюшка… – произношу сквозь всхлипы, – я… я… в Великом посту… колбасу трескал! Меня Витька угостил… Я не хотел… но съел!..
Священник улыбнулся, осенил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные, светлые слова.
Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично.
– Ты что?
– Батюшка! У меня еще один грех. Забыл сказать его… Нашего дворника Давыда я называл «подметалой мучеником»…
Когда и этот грех был прощен, я шел по церкви с сердцем ясным и легким и чему-то улыбался.
Дома лежу в постели покрытый бараньей шубой и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец тачает сапог и тихо, с переливами, по-старинному напевает: «Волною морскою, скрывшаго древле». А за окном шумит радостный весенний дождь…
Снился мне рай Господень. Херувимы поют. Цветочки смеются. И как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблоками и друг у друга просим прощения.
– Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал!
– И ты, Котя, прости меня. Я тебя шкилетом ругал!
А кругом рай Господень и радость несказанная!
Причащение
В Великий четверг варили пасхальные яйца. По старинному деревенскому обычаю, варили их в луковичных перьях, отчего получались они похожими на густой цвет осеннего кленового листа. Пахли они по-особенному – не то кипарисом, не то свежим тесом, прогретым солнцем. Лавочных красок в нарядных коробках мать не признавала.
– Это не по-деревенски, – говорила она, – не по нашему обычаю!
– А как же у Григорьевых, – спросишь ее, – или у Л ютовых? Красятся они у них в самый разный цвет и такие приглядные, что не наглядишься!
– Григорьевы и Лютовы – люди городские, а мы из деревни! А в деревне, сам знаешь, обычаи от Самого Христа идут…
Я нахмурился и обиженно возразил:
– Нашла чем форсить! Мне и так никакого прохода не дают: «деревенщиной» прозывают.
– А ты не огорчайся! Махни на них рукой – вразуми: деревня-то, скажи, Божьими садами пахнет, а город керосином и всякой нечистью. Это одно. А другое – не произноси ты, сынок, слова этакого нехорошего: форсит! Деревенского языка не бойся – он тоже от Господа идет!
Мать вынула из чугунка яйца, уложила их в корзиночку, похожую на ласточкино гнездышко, перекрестила их и сказала:
– Поставь под иконы. В Светлую заутреню святить понесешь…
На Страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего не ели. Вместо чая пили сбитень (горячую воду с патокой) и закусывали его черным хлебом. Вечером ходили в монастырскую церковь, где службы были уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышанные от монашки:
– Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья!
Великий четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель. Я ловил ее в ладонь и пил – говорят, что от нее голова болеть не будет…
Под деревьями лежал источенный капелью снег, и, чтобы поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатой по солнечным дорожкам.
В десять часов утра ударили в большой колокол к четверговой литургии. Звонили уже не по-великопостному (медлительно и скорбно), а полным частым ударом. Сегодня у нас «причастный» день. Вся семья причащалась Святых Христовых Тайн.
Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна о другую.
Много кружилось чаек, и они белизною своей напоминали издали летающие льдинки.
Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады и огороды покроются травами, покажется «весень» (первые цветы) и каждый камень и камешек будет теплым от солнца.
В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые три дня Страстной недели, когда пели «Се Жених грядет в полунощи» и про чертог украшенный.
Вчера и раньше все напоминало Страшный Суд. Сегодня же звучала теплая, слегка успокоенная скорбь: не от солнца ли весеннего?
Священник был не в черной ризе, а в голубой. Причастницы стояли в белых платьях и были похожи на весенние яблони – особенно девушки.
На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском. На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой:
– Чудесная русская вышивка!
Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку.
Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед великим выходом: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».
– Причастника мя приими… – высветлялись в душе серебряные слова.
Вспомнились мне слова матери: если радость услышишь, когда причастишься, – знай, это Господь вошел в тебя и обитель в тебе сотворил.
С волнением ожидал я Святого Таинства.
«Войдет ли в меня Христос? Достоин ли я?»
Вострепетала душа моя, когда открылись Царские врата, вышел на амвон священник с золотой Чашей и раздались слова:
– Со страхом Божиим и верою приступите!
Из окна прямо в Чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким опаляющим светом.
Неслышный, с крестообразно сложенными руками, подошел к Чаше. Слезы зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий во оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели, мне, рабу Божьему, пели: «Тела Христова приимите, источника безсмертнаго вкусите». По отходе от Чаши долго не отнимал от груди крестообразно сложенных рук – прижимал вселившуюся в меня радость Христову…
Мать и отец поцеловали меня и сказали:
– С принятием Святых Тайн!
В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям – самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери Твоея тайныя… причастникамя приими».
И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мной на сожжение солнцу:
– Пускай доживал бы крохотные свои дни!
Двенадцать Евангелий
До звона к чтению двенадцати Евангелий я мастерил фонарик из красной бумаги, в котором понесу свечу от страстей Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддерживать в ней неугасимый огонь до Вознесения.
– Евангельский огонь, – уверяла мать, – избавляет от скорби и душевной затеми!
Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке, показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал:
– Ничего себе, но у меня лучше! – при этом он показал свой, окованный жестью и с цветными стеклами. – Такой фонарь, – убеждал Гришка, – в самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не выдержит!
Я закручинился: неужели не донесу до дома святого огонька?
Свои опасения поведал матери. Она успокоила:
– В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому – в руках донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, в самую ветрень, да полем, несла четверговый огонь и доносила.
Предвечерье Великого четверга было осыпано золотистой зарей. Земля холодела, и лужицы затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотевшая напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморозь.
– Тихо-то как! – заметил матери. Она призадумалась и вздохнула:
– В такие дни всегда… Это земля состраждет страданиям Царя Небесного!..
Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прокатился круглозвучный удар соборного колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной звон Знаменской церкви, ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская и густой воркующей волной Воскресенская церковь.
От скользящего звона колоколов город словно плыл по голубым сумеркам, как большой корабль, а сумерки колыхались, как завесы во время ветра, то в одну сторону, то в другую.
Начиналось чтение двенадцати Евангелий. По середине церкви стояло высокое Распятие. Перед ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась особенно измученной. По складам читаю славянские письмена у подножия креста: «Той язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззакония наша».
Я вспомнил, как Он благословлял детей, как спас женщину от избиения камнями, как плакал в саду Гефсиманском, всеми оставленный, – ив глазах моих засумерничало, и так хотелось уйти в монастырь…. После ектении, в которой трогали слова: «О плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих Господу помолимся», – на клиросе запели, как бы одним рыданием: «Еща славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся».
У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете – световидные и милостивые.
Из алтаря, по широким унывным разливам четвергового тропаря, вынесли тяжелое, в черном бархате Евангелие и положили на аналой перед Распятием. Все стало затаенным и слушающим. Сумерки за окнами стали синее и задумнее.
С неутолимой скорбью был положен «начал» чтения первого Евангелия: «Слава отрастем Твоим, Господи». Евангелие длинное-длинное, но слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке становится теплой и нежной. В ее огоньке тоже живое и настороженное.
Во время каждения читались слова как бы от имени Самого Христа.
«Людие Мои, что сотворих вам, или чем вам стужих: слепцы ваша просветих, прокаженныя очистих, мужа суща на одре возставих. Людие Мои, что сотворих вам, и что Ми воздаете? За манну желчь, за воду оцет, за еже любити Мя, ко кресту Мя пригвоздиша».
В этот вечер до содрогания близко видел, как взяли Его воины, как судили, бичевали, распинали и как Он прощался с Матерью.
«Слава долготерпению Твоему, Господи».
После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих кафтанах перед Распятием и запели «светилен».
«Разбойника благоразумна™ во едином часе раеви сподобил еси Господи; и мене древом крестным просвети и спаси».
С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу тоже огни – идут из других церквей. Под ногами хрустит лед, гудит особенный предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, с реки доносится ледяной треск, и на черном небе, таком просторном и божественно мощном, много звезд.
– Может быть, и там… кончили читать двенадцать Евангелий, и все святые несут четверговые свечи в небесные свои горенки?
Плащаница
Великая пятница пришла вся запечаленная. Вчера была весна, а сегодня затучило, заветрило и потяжелело.
– Будут стужи и метели, – зябко уверял нищий Яков, сидя у печки, – река сегодня шу-у-мная! Колышень по ней так и ходит! Недобрый знак!
По издавнему обычаю, до выноса плащаницы не полагалось ни есть, ни пить, в печи не разжигали огня, не готовили пасхальную снедь – чтобы вид скоромного не омрачал душу соблазном.
– Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху? – спросил меня Яков. – Не знаешь. «Светозар-день». Хорошие слова были у стариков. Премудрые! – Он опустил голову и вздохнул: – Хорошо помереть под Светлое! Прямо в рай пойдешь. Все грехи сымутся!
– Хорошо-то оно хорошо, – размышлял я, – но жалко! Все же хочется раньше разговеться и покушать разных разностей… посмотреть, как солнце играет… яйца покатать, в колокола потрезвонить!..
В два часа дня стали собираться к выносу плащаницы.
В церкви стояла гробница Господа, украшенная цветами. По левую сторону от нее поставлена большая старая икона «Плач Богородицы». Матерь Божия будет смотреть, как погребают Ее Сына, и плакать…
А Он будет утешать Ее словами: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе… Возстану бо и прославлюся…»
Рядом со мной встал Витька. Озорные глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуровел как-то и призадумался. Подошел к нам и Гришка. Лицо и руки его были в разноцветных красках.
– Ты что такой мазаный? – спросил его.
Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил:
– Десяток яиц выкрасил!
– У тебя и лицо-то в красных и синих разводах! – указал Витька.
– Да ну? Поплюй и вытри!
Витька отвел Гришку в сторону, наплевал в ладонь и стал утирать Гришкино лицо и еще пуще размазал его.
Девочка с длинными белокурыми косами, вставшая неподалеку от нас, взглянула на Гришку и засмеялась.
– Иди вымойся, – шепнул я ему, – нет сил смотреть на тебя. Стоишь как зебра!
На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, и не поют птицы, и по реке ходит колышень: «Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте висима Христе. Солнце омрачашася, и земли основания сотрясахуся: вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе».
Время приближалось к выносу плащаницы.
Едва слышным озерным чистоплеском, трогательно и нежно запели: «Тебе одеющагося светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребенна, благосердый плач восприим».
От свечки к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую утреннюю зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от девочки, стоящей впереди меня, той самой, которая рассмеялась при взгляде на Гришкино лицо.
Смущенный и красный, прикоснулся свечой к ее огоньку, и рука моя вздрогнула. Она взглянула на меня и покраснела.
Священник с дьяконом совершали каждение вокруг престола, на котором лежала плащаница. При пении «Благообразный Иосиф» начался вынос ее на середину церкви, в уготованную для нее гробницу.
Батюшке помогали нести плащаницу самые богатые и почетные в городе люди, и я подумал: «Почему богатые? Христос бедных людей любил больше!»
Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал: «Не надо сейчас никаких слов. Все понятно, и без того больно».
Невольный грех осуждения перед гробом Господним смутил меня, и я сказал про себя: «Больше не буду».
Когда все было кончено, то стали подходить прикладываться к плащанице, и в это время пели:
«Приидите ублажим Иосифа приснопамятнаго, в нощи к Пилату пришедшаго… Даждь ми Сего страннаго, Его же ученик лукавый на смерть предаде…»
В большой задуме я шел домой и повторял глубоко погрузившиеся в меня слова: «Поклоняемся Страстем Твоим, Христе, и святому Воскресению».
Канун Пасхи
Утро Великой субботы запахло куличами. Когда мы еще спали, мать хлопотала у печки. В комнате прибрано к Пасхе: на окнах висели снеговые занавески, и на образе «Двунадесятых праздников» с Воскресением Христовым в середине висело длинное, петушками вышитое полотенце. Было часов пять утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное… Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и, наконец, на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки.
Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась:
– Сряжайся скорее! Буди отца. Скоро заблаговестят к Спасову погребению!
Никогда в жизни я не видел еще такого великолепного чуда, как восход солнца!
Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице:
– Почему люди спят, когда рань так хороша?
Отец ничего не ответил, а только вздохнул.
Глядя на это утро, я захотел никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно – сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведется умереть, чтобы и там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать ее.
– Тять! На том свете мы все вместе будем?
Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо, а обиняком (причем крепко взял меня за руку):
– Много будешь знать – скоро состаришься! – а про себя прошептал со вздохом: – Расстанная наша жизнь!
Над гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника читали поочередно «непорочны», в дивных словах оплакивавшие Господню смерть:
«Иисусе, спасительный Свете, во гробе темном скрылся еси: о несказаннаго и неизреченнаго терпения!»
«Под землею скрылся еси, яко солнце ныне, и нощию смертною покровен был еси, но возсияй Светлейте Спасе».
Совершали каждение, отпевали почившего Господа и опять читали «непорочны».
«Зашел еси Светотворче, и с Тобою зайде свет солнца».
«В одежду поругания, украситель всех, облекаешися, Иже небо утверди, и землю украси чудно!»
С клироса вышли певчие. Встали полукругом около плащаницы и после возгласа священника: «Слава Тебе, показавшему нам Свет» – запели «великое славословие»– «Слава в вышних Богу…»
Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всем своем диве. Какая-то всполошная птица ударилась клювом об оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега.
При пении похоронного, «с завоем», «Святый Боже», при зажженных свечах стали обносить плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола.
На улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая – скоро она совсем пропитается солнцем…
Когда вошли в церковь, то все пахли свежими яблоками.
Я услышал, как кто-то шепнул другому:
– Семиградский будет читать!
Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким «таланом» потрясать слушателей чтением паремий и Апостола. В большие церковные дни он нанимался купцами за три рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрясник сюртуке Семиградский с большой книгой в дрожащих руках подошел к плащанице. Всегда темное лицо его, с тяжелым мохнатым взглядом, сейчас было вдохновенным и светлым.
Широким, крепким раскатом он провозгласил: «Пророчества Иезекиилева чтение…»
С волнением и чуть ли не со страхом читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал Бога: «Сыне человеч! Оживут ли кости сии?» И очам пророка представилось, как зашевелились мертвые кости, облеклись живою плотью и… встал перед ним «велик собор» восставших из гробов…
С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла «на помин» усопших сродников лампаду перед родительским благословением «Казанской Божией Матери». В доме горело уже два огня. Третью лампаду – самую большую и красивую, из красного стекла – мы затеплим перед пасхальной заутреней.
– Если не устал, – сказала мать, приготовляя творожную пасху (ах, поскорее бы разговенье! – подумал я, глядя на сладкий соблазный творог), – то сходи сегодня и к обедне. Будет редкостная служба! Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь!
На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел: «Завтра Пасха! Пасха Господня!»
Великая суббота
В этот день, с самого зарания, показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолнеченных руках дворника Давыдки, и они показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.
В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня «намахали» из дому.
– Иди лучше к обедне! – выпроваживала меня мать. – Редкостная будет служба… Во второй раз говорю тебе; когда вырастешь, то такую службу поминать будешь. .
Я зашел к Гришке, чтобы и его зазвать в церковь, но тот отказался:
– С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?
В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще плащаница и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У плащаницы читали «часы», и на амвоне много стояло исповедников. До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах.
– Дивен Бог во святых Своих, – выкруглял он тернистые слова. – Возьмем, к примеру, преподобного Макария Александрийского, егоже память празднуем 19 января… Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого и как бы заплакала…
«Что за притча?» – думает преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок-то! Понял преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его, и совершилось чудо: медвежонок прозрел!
– Скажи на милость! – сказал кто-то от сердца.
– Это еще не все, – качнул головою старец, – на другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в дар, за доброту твою…»
Литургия Великой субботы воистину была редкостной.
Она началась, как всенощное бдение, с пением вечерних песен. Когда пропели «Свете тихий», то к плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую, воском закапанную книгу.
Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение, Воскресение… Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением:
– Господа пойте и превозносите во вся веки…
Это послужило как бы всполошным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршали нотами и грянули волновым заплеском:
– Господа пойте и превозносите во вся веки… – Несколько раз повторил хор эту песню, а чтец воскликал сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «боготканые глаголы».
– Благословите солнце и луна; благословите дождь и роса; благословите нощи и дни; благословите молнии и облацы; благословите моря и реки; благословите птицы небесныя; благословите звери и вси скоти.
Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая к святому Макарию:
– Благословите звери!..
«Поим Господеви! Славно бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканых глаголах: Господа пойте и превозносите во вся веки!»
После чтения Апостола вышли к плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели: «Воскресни Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех».
Во время пения духовенство в алтаре извлачало с себя черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали их в белую серебряную парчу.
Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всем этом диве рассказать матери…
Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего поделать с собою не мог.
– Надо рассказать матери… сейчас же!
Прибежал запыхавшись домой и на пороге крикнул:
– В церкви все белое! Сняли черное, и кругом – одно белое… и вообще Пасха!
Еще что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:
Да молчит всякая плоть человеча И да стоит со страхом и трепетом И ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих Приходит заклатися и датися в снедь верным…Светлая заутреня
Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь: «Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом».
Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:
– Это для чего?
– В знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.
– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет, это, в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне… – Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе: – Да… часы на Спасской башне… Пробьют – и сразу же взвивается к небу ракета… а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!..
Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему, как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над
Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!
Отец умолкает и закрывает глаза.
– Ты засыпаешь?
– Нет. На Москву смотрю.
– А где она у тебя?
– Перед глазами. Как живая…
– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!
– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она еще лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен – речка плещется. В нее таежные дерева глядят и церковь, сбитая из крепких смолистых бревен. К светлой заутрени собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет – горькой вековушей останется!
Ты вообрази только, какое там было диво!
Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят, и лес шумит!
– Хватит вам вечать-то, – перебила нас мать, – высыпались бы лучше, а то будете стоять на заутрене соныгами!
Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке.
Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал:
– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое веретено! – тихо вспылила она. – Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!
До заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.
Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках – только они были видны, а людей как бы и нет.
В полутемной церкви около плащаницы стоит очередь охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили:
– Читать умеешь?
– Умею.
– Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотворих о Феофиле», – и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:
– Куда же ты лезешь, когда читать не умеешь?
– Попробовать хотел!..
– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили меня в сторону.
В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.
«Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на небе или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками, и какой она имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лествица и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые поют «Христос воскресе из мертвых»… Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши…
Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем.
– Идет, идет! – неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.
– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул…
От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.
Меня приметил в темноте нищий Яков.
– Светловещанный звон! – сказал он и несколько раз перекрестился.
В церкви начали служить великую полунощницу. Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное – словно отваливали огромный камень от гроба Господня.
Я увидал отца с матерью. Подошел к ним и сказал:
– Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и громко воскликнул: – Весело-то как!
А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.
Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой – если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «Так полагается». – Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все превратились в ликующие пасхальные свечи!
И вот то огромное, чего охватить не мог вначале, – свершилось! Запели «Христос воскресе из мертвых».
Три раза пропели «Христос воскресе», и перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм – и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блестках серебра, золота, драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах – вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадильным дымом, с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос воскресе», – и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега: «Воистину воскресе».
Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал:
– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос воскресе!
Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал:
– Никогда не буду называть тебя «подметалой мучеником». Христос воскресе!
А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый. Христос бо возста, веселие вечное. .»
Сердце мое зашлось от радости – около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе плащаницы! Сам не свой, подошел к ней и, весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал:
– Христос воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались. . а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами.
А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста: «Атце кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества… Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»
Радуница
Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит и Радуница. Она всегда во вторник на второй неделе по Пасхе. В Радуницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне или рано утром в церквах служат заупокойную утреню. Она не огорчает, а радует. Все время поют «Христос воскресе», и вместо «надгробного рыдания» раздается пасхальное: «Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне».
Заупокойную литургию называют «обрадованной». В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для розговен усопших.
Радуница – Пасха мертвых!
Хорошее слово «Радуница»! Так и видишь его в образе красного яйца, лежащего в зеленых стебельках овса в корзинке из ивовых прутьев.
И до чего это чудесны наши русские слова! Если долго вслушиваться в них и повторять раздельно и со смыслом одно только слово, и уже все видишь и слышишь, что заключено в нем. Как будто бы и короткое оно, но попробуй, вслушайся… Вот, например, слово «ручеек». Если повторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь: ручеек журчит между камешками!
Или другое слово – «зной». Зачнешь долго тянуть букву «з», то так и зазвенит этот зной наподобие тех мух, которых только и слышишь в полуденную ржаную пору.
Произнес я слово «вьюга», и в ушах так и завыло это зимнее, лесное: ввв-и-ю…
Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд – «гром», и я сразу услышал громовой раскат за лесною синью.
В день Радуницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охватившим меня чувством: «Хорошо быть русским!»
Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях и кустах и все живое вместе с мертвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды. С разных сторон обширного старинного кладбища долетали голоса песнопений:
– Со духи праведных скончавшихся… Воскресение день, просветимся, людие… Смертию смерть поправ… Вечная память…
На многих могилах совершались «поминки». Пили водку и закусывали пирогами. Говорили о покойниках как о живых людях, ушедших на новые жительные места.
Останавливаясь у родных могил, трижды крестились и произносили: «Христос воскресе!»
Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало.
– Жизнь бесконечная… Все мы воскреснем… Все встретимся… – доносились до меня слова священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоронившую единственного сына.
Между могил с визгом бегали ребята, играя «в палочку-воровочку». На них шикали и внушали: «не хорошо», а они задумаются немножко и опять за свое. Батюшка Знаменской церкви отец Константин, проходя с кадилом мимо ребят, улыбнулся и сказал своему дьякону:
– Ишь они, бессмертники!…
– Да шумят уж очень… Нехорошо это… на кладбище…
– Пусть шумят… – опять сказал батюшка. – Смерти празднуем умерщвление!..
На ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый и как бы щетинистый старик и говорил сердитым голосом, без передышек и заминок окружавшим его людям:
– Поминальные дни суть: третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родительские субботы и вселенские панихиды…
– Это мы знаем, – сказал кто-то из толпы.
– Знать-то вы знаете, а что к чему относится, мало кто ведает. Почему по смерти человека три дня бывает поминовение его? Не знаете. Потому, чтобы дать душе умершего облегчение в скорби, кою она чувствует по разлучении с телом.
В течение двух дней душа вместе с Ангелами ходит по земле, по родным местам, около родных и близких своих и бывает подобна птице, не имущей гнезда себе, а на третий возносится к Богу.
– А в девятый? – спросила баба.
– В этот день Ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая. И душа люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилище праведных…
В это время пьяный мастеровой в зеленой фуражке и с сивой бородою с тоскою спросил старика:
– А как же пьяницы? Какова их планида?
– Пьяницы Царствия Божия не наследуют! – отрезал старик, и он мне сразу не понравился. Все стало в нем ненавистно, даже усы его щетинистые и злые. Мне захотелось высунуть язык старику, сказать ему «старый хрен», но в это время заплакал пьяный мастеровой.
– Недостойные мы люди… – всхлипывал он, – мазурики! И за нас-то, мазуриков и сквернавцев, Господь плакал в саду Гефсиманском и на крест пошел вместе с разбойниками!..
Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери: слезы да покаяние двери райские отверзают…
Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотившегося на чей-то деревянный крест, и сказал, как пристав:
– Не нарушай общественной тишины! Не мешай людям слушать… греховодник!
…В течение тридцати дней душа водится по разным затворам ада, а за сим возносится опять к Богу и получает место до Страшного Суда Божия…
«И почему такие хорошие, святые слова старик выговаривает сухим и злым языком? – думал я. – Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое ее слово светиться будет… Выходит, что и слова-то надо произносить умеючи… чтобы они драгоценным камнем стали…»
Мимо меня прошли две старухи. Одна из них, в ковровом платке поверх салопа, говорила:
– Живет, матушка, в одной стране… птица, и она так поет, что, слушая ее, от всех болезней можно поправиться… Вот бы послушать!..
Время приближалось к сумеркам, и Радуница затихала. Все реже и реже слышались голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти еще не угасшие пасхальные сумерки.
– Христос воскресе из мертвых…
Отдание пасхи
В течение сорока дней в церкви поют «Христос воскресе».
•– В канун Вознесения, – толковал мне Яков, – плащаницу, что лежала на престоле с самой
Светлой заутрени, положат в гробницу, и будет покоиться она в гробовой сени до следующего велика дня… Одним словом, прощайся, Васенька, с Пасхой!
Я очень огорчился и спросил Якова:
– Почему это все хорошее так скоро кончается?
– Пока еще не все кончилось! Разве тебе мать не сказывала, что еще раз можно услышать пасхальную заутреню… на днях!
Меня бросило в жар.
– Пасхальная заутреня? На днях? Да может ли это быть, когда черемуха цветет? Врешь ты, Яков!
– Ничего не вру! День этот по-церковному называется «Отдание Пасхи», а по-народному – прощание с Пасхой!
Когда я рассказал об этом Гришке, Котьке и дворнику Давыдке, то они стали смеяться надо мною.
– Ну и болван же ты, – сказал дворник, – что ни слово у тебя, то на пятачок убытку! Постыдился бы: собаки краснеют от твоих глупостев!
Мне это было не по сердцу, и я обозвал Давыдку таким словом, что он сразу же пожаловался моему отцу.
Меня драли за вихры, но я утешал себя тем, что пострадал за правду, и вспомнил пословицу: «За правду и тюрьма сладка!» А мать выговаривала мне:
– Не произноси, сынок, черных слов! Никогда! От этих слов темным станешь, как ефиоп, и Ангел твой, что за тобою ходит, навсегда покинет тебя! – И обратилась к отцу: – Наказание для ребят наша улица: казенка, две пивных да трактир! Переехать бы нам отсюда, где травы побольше да садов… Нехорошо, что в город мы перебрались! Жили бы себе в деревне…
Перед самым Вознесением я пошел в церковь. Последнюю пасхальную заутреню служили рано утром, в белых ризах, с пасхальною свечою, но в церкви почти никого не было. Никто не знает в городе, что есть такой день, когда Церковь прощается с Пасхой.
Все было так же, как в пасхальную заутреню ночью, – только свет был утренний, да куличей и шума не было, и когда батюшка возгласил народу: «Христос воскресе», не раздалось этого веселого грохота: «Воистину воскресе!»
В последний раз пели «Пасха священная нам днесь показася».
После пасхальной литургии из алтаря вынесли святую плащаницу, положили ее в золотую гробницу и накрыли стеклянной крышкой.
И почему-то стало мне тяжело дышать, точно так же, как это было на похоронах братца моего Иванушки.
Я стал считать по пальцам – сколько месяцев осталось до другой Пасхи, но не мог сосчитать… очень и очень много месяцев!
После службы я провожал Якова до ночлежного дома, и он дорогою говорил мне:
– Доживем ли до следующей Пасхи? Ты-то, милый, в счет не идешь! Доскачешь! А вот я – не знаю. Пасха! – улыбнулся он горько. – Только вот из-за нее не хочется помирать!.. И скажу тебе, если бы не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя! Нужна Пасха человеку!
Мы дошли до ночлежного дома. Сели на скамью. Около нас очутились посадские, нищебродная братия, босяки, пьяницы и, может быть, воры и губители. Среди них была и женщина в тряпье, с лиловатым лицом и дрожащими руками.
– В древние времена, – рассказывал Яков, – после обедни в Великую субботу никто не расходился по домам, а оставались в храме до Светлой заутрени, слушая чтение Деяний апостолов… Когда я был в Сибири, то видел, как около церквей разводили костры в память холодной ночи, проведенной Христом при дворе Пилата… Тоже вот: когда все выходят с крестным ходом из церкви во время Светлой заутрени, то святые угодники спускаются со своих икон и христосуются друг с другом.
Женщина с лиловым лицом хрипло рассмеялась. Яков посмотрел на нее и заботливо сказал:
– Смех твой – это слезы твои!
Женщина подумала над словами, вникла в них и заплакала.
Во время беседы пришел бывший псаломщик Семиградский, которого купцы вытаскивали из ночлежки читать за три рубля в церкви паремии и Апостола по большим праздникам и про которого говорили: «Страшенный голос».
Выслушав Якова, он откашлялся и захотел говорить.
– Да, мало что знаем мы про свою Церковь, – начал он, – а называемся православными!.. Ну, скажите мне, здесь сидящие, как называется большой круглый хлеб, который лежит у Царских врат на аналое в пасхальную седмицу?
– Артос! – почти одновременно ответили мы с Яковом.
– Правильно! Называется он также «просфора всецелая». А каково обозначение? Не знаете! В апостольские времена во время трапезы на столе ставили прибор для Христа в знак невидимого Его сотрапезования…
– А когда в церкви будут выдавать артос? – спросила женщина и почему-то застыдилась.
– Эка хватилась! – с тихим упреком посмотрел на нее Яков. – Артос выдавали в субботу на Светлой неделе… К Вознесению, матушка, подошли, а ты – артос!
– Ты мне дай крошинку, ежели имеешь, – попросила она, – я хранить ее буду!
Семиградский разговорился и был рад, что его слушают.
– Вот поют за всенощным бдением «Свете тихий…» А как произошла эта песня, никто не знает…
Я смотрел на него и размышлял: «Почему люди так презирают пьяниц? Среди них много хороших и умных!»
– Однажды патриарх Софроний, – рассказывал Семиградский, словно читая по книге, – стоял на Иерусалимской горе. Взгляд его упал на потухающее палестинское солнце. Он представил, как с этой горы смотрел Христос, и такой же свет, подумал он, падал на лицо Его, и так же колебался золотой воздух Палестины… Вещественное солнце напомнило патриарху незаходимое Солнце – Христа, и это так растрогало патриарха, что он запел в святом вдохновении: «Свете тихий, святыя славы…»
«Обязательно с ним подружусь!» – решил я, широко смотря на Семиградского.
В этот день я всем приятелям своим рассказывал, как патриарх Софроний, глядя на заходящее палестинское солнце, пел: «Свете тихий, святыя славы».
Земля именинница
Березы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в их засень, сольешься с колебанием сияющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе пересветная и струистая дорожка, как на реке при восходе солнца; и по ней в образе трех белоризных Ангелов шествует Святая Троица.
Накануне праздника мать сказала:
– Завтра земля именинница!
– А почему именинница?
– А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдется со святым Симоном Зилотом, а на Симона Зилота земля именинница: по всей Руси мужики не пашут!
– Земля именинница!
Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась.
Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гришкой и спросил их:
– Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского квасу на две копейки!
Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал Скобелев с белого коня (картинка такая у нас).
Отец не раз говорил, что приятели мои Федька и Гришка не дети, а благословение Божие, так как почитают родителей, не таскают сахар без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам я загадал столь мудреную загадку. Они думали, думали и, наконец, признались со вздохом:
– Не можем. Скажи.
Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил:
– Завтра земля именинница!
Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то, умолкли и задумались.
– А это верно, – сказал серьезный Федька, – земля в Троицу завсегда нарядная и веселая, как именинница!
Ехидный Гришка добавил:
– Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку досталась!
Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой отец и крикнул:
– Чего ревешь? Сходил бы лучше с ребятами в лес за березками!
Душистое и звенящее слово «лес» заставило дрогнуть мое сердце. Я перестал плакать. Примиренный, схватил Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за березками.
Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по главной улице города с песнями, хмельные и радостные от предстоящей встречи с лесом. А пели мы песню сапожников, проживавших на нашем дворе:
Моя досада – не рассада: Не рассадишь по грядам; А моя кручина – не лучина: Не сожжешь по вечерам.Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал:
– Эй вы, банда! Потише!
В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до радужных кругов перед глазами.
Повстречались нам в чаще дровосеки. Один из них, борода что у лесовика, посмотрел на нас и сказал:
– Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова вянет, что трава…
Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом.
Перед тем как пойти домой с тонкими звенящими березками, радость моя была затуманена.
Выйдя на прилесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку – сколько, мол, лет мы проживем.
Кукушка прокуковала Гришке 80 лет, Федьке 65, а мне всего лишь два года.
От горькой обиды я упал на траву и заплакал:
– Не хочу помирать через два года!
Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как она, глупая птица, всегда врет. И только тогда удалось меня успокоить, когда Федька предложил вторично «допросить» кукушку.
Я повернул заплаканное лицо в ее сторону и сквозь всхлипывание стал просить вещую птицу:
– Кукушка, ку-у-ку-шка, прокукуй мне, сколько же на свете жить?
На этот раз она прокуковала мне пятьдесят лет. На душе стало легче, хотя и было тайное желание прожить почему-то сто двадцать лет…
Возвращались домой при сиянии звезды-вечерницы, при вызоренных небесах, по тихой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие лица в духмяную березовую листву и одним сердцем чувствовали: как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница!
Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовал рано утром, в образе солнечного предвосходья, которое заполнило нашу маленькую комнату тонким сиянием. Мать уставно затепляла лампаду перед иконами и шептала:
– Пресвятая Троица, спаси и сохрани…
Пахло пирогами, и в этом запахе чувствовалась значительность наступающего дня. Я встал с постели и наступил согретыми ночью ногами на первые солнечные лучи – утренники.
– Ты что, в такую рань? – шепнула мать. – Спал бы еще.
Я деловито спросил ее:
– С чем пироги?
– С рисом.
– А еще с чем?
– С брусничным вареньем.
– А еще с чем?
– Писчем.
– Маловато, – нахмурился я, – а вот Гришка мне сказывал, что у них сегодня будет шесть пирогов и три каравая!
– За ними не гонись, сынок… Они богатые.
– Отрежь пирога с вареньем. Мне очень хочется!
– Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка? – всплеснула мать руками, – Кто же из православных людей пироги ест до обедни?
– Петро Лександрыч, – ответил я, – он даже и в посту свинину лопает!
– Он, сынок, не православный, а фершал! – сказала мать про нашего соседа фельдшера Филиппова. – Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и иди к обедне.
По земле имениннице солнце растекалось душистыми и густыми волнами. С утра уже было знойно, и все говорили: быть грозе!
Ждал я ее с тревожной, но приятной настороженностью – первый весенний гром!
Перед уходом моим к обедне пришла к нам Лида – прачкина дочка, первая красавица на нашем дворе, и, опустив ресницы, стыдливо спросила у матери серебряную ложку.
– На что тебе?
– Говорят, что сегодня громовый дождь будет, так я хочу побрызгать себя из серебра дождевой водицей. От этого цвет лица бывает хороший! – сказала и заяснилась пунцовой зорыо.
Я посмотрел на нее, как на золотую чашу во время литургии, и, заливаясь жарким румянцем, с восхищением и радостной болью воскликнул:
– У тебя лицо как у Ангела Хранителя!
Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, спрятался в садовой засени и отчего-то закрыл лицо руками.
Именины земли церковь венчала чудесными словами, песнопениями и длинными таинственными молитвами, во время которых становились на колени, а пол был устлан цветами и свежей травой.
Я поднимал с пола травинки, растирал их между ладонями и, вдыхая в себя горькое их дыхание, вспоминал зеленые разбеги поля и слова бродяги Яшки, исходившего пешком всю Россию: «Зеленым лугом пройдуся, на сине небо нагляжуся, алой зоренькой ворочуся!»
После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников. В Троицын день батюшки и дьякона семи городских церквей служили на могилах панихиды. Около белых кладбищенских врат кружилась, верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким рыдающим голосом пел про Матерь Божию, идущую полями изусеянными и собирающую цветы, дабы украсить «живоносный гроб Сына Своего Возлюбленнаго».
Около Евдокима стояли бабы и, пригорюнившись, слушали. Деревянная чашка безногого была полна медными монетами. Я смотрел на них и думал: «Хорошо быть нищим! Сколько на эти деньги конфет можно купить!»
Отец мне дал пятачок (и в этом тоже был праздник). Я купил себе на копейку боярского кваса, на копейку леденцов (четыре штуки) и на три копейки «пильсинного» мороженого. От него у меня заныли зубы, и я заревел на всю ярмарку.
Мать утешала меня и говорила:
– Не брался бы, сынок, за городские сладости! От них всегда наказание и грех!
Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть.
На кладбище мать посыпала могилку зернами – птицам на поминки, а потом служили панихиду. Троицкая панихида звучала светло, «и жизнь безконечная», про которую пели священники, казалась тоже светлой, вся в цветах и в березках.
Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вначале рассыпался круглыми зернинками, а потом разошелся и пошел гремучим «косохлестом». От веселого и большого дождя деревья шумели свежим широким говором, и густо пахло березами.
Я стоял на крыльце и пел во все горло:
Дождик, дождик, перестань, Я поеду на Иордан — Богу молиться, Христу поклониться.На середину двора выбежала Лида, подставила дождю серебряную ложечку и брызгала милое лицо свое первыми грозовыми дождинками.
Радостными до слез глазами я смотрел на нее и с замиранием сердца думал: «Когда я буду большим, то обязательно на ней женюсь!»
И чтобы поскорее вырасти, я долго стоял под дождем и вымочил до нитки свой новый праздничный костюм.
Яблоки
Дни лета наливались, как яблоки. К Преображению Господню они были созревшими и как бы закругленными. От земли и солнца шел прохладный яблочный дух. В канун Преображения отец принес большой мешок яблок… Чтобы пахло праздником, разложили их по всем столам, подоконникам и полкам. Семь отборных малиновых боровинок положили под иконы, на белый плат, – завтра понесем их святить в церковь. По деревенской заповеди, грех есть яблоки до освящения.
– Вся земля стоит на благословении Господнем, – объясняла мать, – в Вербную субботу Милосердый Спас благословляет вербу, на Троицу березку, на Илью Пророка рожь, на Преображение яблоки и всякий другой плод. Есть особенные, Богом установленные сроки, когда благословляются огурцы, морковь, черника, земляника, малина, голубица, морошка, брусника, грибы, мед и всякий другой дар Божий… Грех срывать плод до времени. Дай ему, голубчику, войти в силу, напитаться росой, землей и солнышком, дождаться милосердного благословения на потребу человека!
В канун Преображения почти вся детвора города высыпала на базар, к веселым яблочным рядам. Большие возы яблок привозили на пыльных телегах из деревень Гдовья, Принаровья, Причудья. Жарко-румяные, яснозорчатые, осенецветные, багровые, златоискрые, янтарные, сизые, белые, зеленые, с красными опоясками, в веснушках, с розовинкой, золотисто-прозрачные (инда зернышки просвечивают), большие, как держава в руке Господа Вседержителя, и маленькие, что на рождественскую елку вешают, – лежали они горками в сене, на рогожах, в соломе, в корзинах, в коробах, ящиках, в пестрядинных деревенских мешках, в кадушках и в особых липовых мерках.
Торговали весело и шумно, с хохотом и прибаутками. Яблоки заставляли улыбаться, двигаться, громко говорить, слегка озорничать, прыгать на одной ноге, размахивать руками, прицениваться и ничего не покупать. Нельзя было избавиться от неудержимой смешливости. Все смешило – и бойкий чернобородый зубоскал мужик в розовой рубахе, стоящий на возу, как Пугачев на Лобном месте, и надсадно выкрикивающий: «а вот я-я-блочки красавчики»; загаристая девка с большим кошелем через плечо, давшая наотмашь «леща» по спине мальчишки, стянувшего яблоко; выпивший дядя, рассыпавший яблоки прямо в базарную лужу. Особенно смешил круглощекий восьмилетний пузан, одной рукой показывающий на яблоки в телеге и спрашивающий торговца: почем? – а другой рукой залезающий под солому.
Когда карманы его раздулись от наворованных яблок, он сказал торговцу: дороговато! На воришку весело посматривал городовой и грозил полицейским пальцем: «Я тебя! Моли Бога, что я сегодня добрый». Кому-то угодили яблоком в затылок и крикнули: с наступающим праздником! Вихрастый мастеровой угощал девицу «сахарной коробовкою». Сделав губы бантиком, она ответила: «До священья не вкушаю».
Под телегами спали, разиня рот, деревенские ребята – с тятьками и мамками они всю ночь сопровождали яблочные возы в город. Я встретил Урку. Он грыз яблоко, и я сказал ему:
– Разве можно есть неосвященное? Грех ведь!
Урка тревожными глазами посмотрел на меня и ответил, как серьезный ихний раввин:
– У нас свой закон!
В чайной с вывеской «Зайди, приятель» сидели мужики, пили чай с ситником и говорили только о яблоках: сколько мер собрали, сколько пообтряс ветер, как их везли по дорогам, сколько взяли барыша и что-де Господь послал урожайный год, хорошую росу, дождь по времени, и теперича, мол, зима не страшит, всего вволю, а поэтому можно еще сороковочку выпить!
Чтобы угодить мужикам, половой завел органчик, но ему сказали:
– Поштенный! Нельзя ли повременить? Успенский пост еще не прошедши!
А кругом чайной дробный полновесный звук отмериваемых яблок, зазывы торговцев, ржанье лошадей, взвизги, смех, всплески голубиных и воробьиных стай, летающая паутина предосенница, жаркое, но все же замирающее солнце – оно тоже созрело, как яблоко, и скоро уляжется на покои до новой весны и нового созрева, и это полнозубое, веселое, морозно-хрустящее слово «яблоки», раскатывающееся по всему базару и улицам!
– Ах, какое хорошее слово «яблоки»! Лучше этого слова не сыщешь по всей поднебесной!
Вечером пошли ко всенощной. В церкви пели яблоками и медом пахнущий Преображенский тропарь: «Преобразился еси на горе Христе Боже показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе».
Вечером, после ужина, меня заставили читать Евангелие о Преображении Господнем. Я читал по складам: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белы как снег».
Ночь была душной, с далекими всполохами, с августовской, тихо шумящей тьмой.
От духоты в комнате я захотел снять с себя всю одежду, чтобы спать было повольготнее, но мать строго мне внушила:
– Никогда не спи нагишом, ибо сон смерти брат, преддверие и Страшному Суду Господню. Надо быть всегда в готовности, одетым в дорогу…
При слове «дорога» она отвернулась к окну и как будто бы прослезилась.
Утром встали спозарань. На дворе желтела заря – ранница. Она сдувала с крыш последний сон. Зачинающийся день все шире и шире раскрывал золотые свои врата, и не успел я насмотреться досыта на восходье, так редко мною виденное, как показалось в этих вратах солнце и зашагало по земле поступью Великого Государя, идущего от Светлой заутрени. Долго я думал, отчего солнце слилось у меня с шествием Великого Государя, виденного мной на какой-то картине, и не мог додуматься. Отец, вымытый и причесанный, в жилетке поверх ситцевой рубахи и лакированных сапогах, ходил по комнате и напевал: «Преобразился еси на горе Христе Боже».
– Преображение… Преображение… – повторял я. Как хорошо и по-песенному ладно подходит это слово к ширящемуся и расцветающему дню.
С белым узелком яблок пошли к обедне. Всюду эти узелки, как куличи на Пасху, заняли места в доме Божьем; и на ступеньках амвона, и на особых длинных столах, на подоконниках и даже на полу под иконами. Румяно и простодушно лежали они перед Богом – вошедшие в силу, напитавшиеся росой, землей и солнышком, готовые пойти теперь на потребу человека и ждущие только Божьего благословения.
Во время пения «Преобразился еси» на амвон вынесли большую корзину с церковными яблоками. Над ними читали молитву и окропляли их святой водой. Когда подходили ко кресту, то священник каждому давал по освященному яблоку. В течение целого дня на улицах слышен был сочный яблочный хруст.
Радостно и мирно завершился солнечный, яблочно-круглый день Преображения Господня.
Певчий
В соборе стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почетным. Здесь стояли городской голова, полицеймейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места, но он не слушается, хоть волоком его волочи! Почетные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: не могу уйти! Здесь все видно!
Во время всенощного бдения или литургии облокотишься на железную амвонную оградку, глядишь восхищенными вытаращенными глазами на певчих, в таинственный дымящийся алтарь и думаешь: «Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре! Все они приближенные Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепешки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы…»
Я не мог понять: почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого – пьяницу и сквернослова, баса торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, черствый хлеб и никогда не дает конфет «на придачу». Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дубленое, сизое, как у похоронного факельщика.
В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные!
Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики – совсем как Ангелы Божии!.. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например Митьку с Борькой. Они, жулики, хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть! Однажды я заявил отцу с матерью:
– Очень мне хочется в алтарь кадило батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю!
– Дело это, сынок, простое, – сказал отец, – сходи седни или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они про твое озорство не наслышаны!
– Верно, сынок, – поддакнула мать, – попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с переливцем, яблочный… И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя Ангел Божий!
В этот же день я пошел к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».
– Войдите!
Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрым помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал соленый съеженный огурец.
– Тебе что, чадо? – спросил меня каким-то густо-клейким голосом.
– Хочу быть певчим! – заминаясь, ответил я, не поднимая глаз.
– Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе… Вот так. Ну, тяни за мною «Царю Небесный, Утешителю…» – он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошелся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.
– Слух неважнецкий, – сказал он, – но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое аксиос? Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое, обозначает: «достоин».
Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:
– И кафтан можно надеть?
– Какой? – не понял регент. – Тришкин?
– Нет… которые певчие носят… эти голубые с золотыми кисточками…
Он махнул рукой и засмеялся:
– Надевай хоть два!
В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением:
– Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду!
Кому-то сказал, перехватив через край:
– Приходите в воскресенье меня слушать!
Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обедни. Первым делом прошел в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня:
– Ты куда?
– За кафтаном! Меня в певчие выбрали!
– Эк тебе не терпится!
Я нашел маленький кафтанчик и облачился.
Сторож опять на меня:
– Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час еще!
– Ничего, Я подожду.
Со страхом Божьим поднялся на клирос. В десять часов зазвонили к обедне. Пришел дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и диву дался.
– Ты что это в кафтане-то?
– Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий!
– Так, так! Молодецкий, говоришь? Ну что же, «пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте!»
Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот приснорадостный день. Уже не было мирской гордости – вот-де, достиг! – а тонкая, мягкошелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного до щекотания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня…
Пели «Верую во единаго Бога Отца Вседержителя…» Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием.
Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего Символа веры… Когда певчие грянули «чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века, аминь» – я не сумел вовремя остановиться и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех «а-а-минь»! В глазах моих помутилось. Я съежился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку, где-то фыркнули, регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным шипящим хрипом простонал:
– Снимай кафтан! Убирайся сию минуту с клироса, а то убью!
Со слезами стал снимать кафтан, запутался в нем и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса.
Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать:
– Это ничего, это тоже от Господа. Он, Батюшка Царь Небесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинешенек. Ишь, – подумает Он, – как Вася-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость… сорвался… Ну, что же делать, молод еще, горяч, с кем не бывает… Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается!
Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.
Святое святых
Желание войти во Святое Святых церкви не давало мне покоя. В утренние и вечерние молитвы я вплетал затаенную свою думу: «Помоги мне,
Господи, служить около Твоего престола! Если поможешь, я буду поступать по Твоим заповедям и никогда не стану огорчать Тебя!»
Бог услышал мою молитву. Однажды пришел к отцу соборный дьякон, принес сапоги в починку. Увидев меня, он спросил:
– Что это тебя, отроча, в церкви не видать?
За меня ответил отец:
– Стесняется после своей незадачи на клиросе. А служить-то ему до страсти хочется!
Дьякон погладил меня по голове и сказал:
– Пустяки! Не принимай близко к сердцу. Я раз в большой праздник вместо многолетия вечную память загнул, да не кому другому, а Святейшему Синоду! Не горюй, малец, приходи в субботу ко всенощной в алтарь, кадило будешь подавать. Наденем на тебя стихарь, и будешь ты у нас церковнослужитель! Согласен?
Через смущение и радостные слезы я прошептал нашу деревенскую благодарность:
– Спаси, Господи!
И вот опять я сам не свой! Перед отходом ко сну стал отбивать частые поклоны, не произносил больше дурных слов, забросил игры и, не зная почему, взял с подоконника дедовские староверческие четки – лестовку – и обмотал ими кисть левой руки, по-монашески.
Увидев у меня лестовку, Гришка стал дразнить:
– Э… монах в коленкоровых штанах!
Я раззадорился и хотел дать ему по спине концом висящей у меня ременной лестовки, но вовремя вспомнил наставление матери: «да не зайдет солнце во гневе вашем».
Наступила суббота. Умытым и причесанным, в русской белой рубашке, помолившись на иконы, я побежал в собор ко всенощному бдению. Остановился на амвоне и не решился сразу войти в алтарь. Стоял около южных дверей и слушал, как от волнения звенела кровь. Ко мне подошел сторож Евстигней:
– Чего остановился? Входи. Дьякон сказывал, что пономарем хочешь быть? Давно бы так, а то захотел в певчие!.. С вороньим голосом-то! А здорово ты каркнул тогда за обедней, на клиросе, – напомнил он, подмигнув смеющимся глазом, – всех рассмешил только! Регент Егор Михайлович даже запьянствовал в этот день: всю, говорит, музыку шельмец нарушил. Из-за него, разбойника, и пью! Вот ты какой хват!
Я не слышал, как вошел в алтарь. Алтарь, где восседает Бог на престоле и, по древним сказаниям, днем и ночью ходят со славословиями Ангелы Божий, и во время литургии взблескивают над Чашей молнии, грешному оку невидимые… Я оцепенел весь от радости – радости, не похожей ни на одну земную. В ней что-то страшное было и вместе с тем светлое.
– Ну, приучайся к делу! – сказал сторож. – Вот это уголь, – показал мне прессованный, хорошо пахнувший кругляк с изображением креста. – Возьми огарок свечи и разгнети его. Это во-первых. Во-вторых, не касайся руками престола – место сие святое! Далее, не переходи никогда места между престолом и Царскими вратами – грех! Не ходи также через горнее место, когда открыты Царские врата… Понял?
От спокойного тона Евстигнея и я стал спокойнее.
– А где же мой стихарь? – спросил я. – Отец дьякон обещал!
– Эк тебя разбирает! Сразу и форму ему подавай! Ну и народ, ну и детушки пошли! Ладно. Будет и стихарь, если выдержишь экзамен на кадиловозжигателя!
В это время ударили в большой колокол. От первого удара – вспомнилось мне – нечистая сила «яже в мире» вздрагивает, от второго бежит, и после третьего над землею начинают летать Ангелы, и тогда надо перекреститься.
В алтарь пришел дьякон, улыбнулся мне: ну и хорошо!
За ним отец Василий – маленький, круглый, чернобородый. Я подошел к нему под благословение. Он слегка постучал по моей голове костяшками пальцев и сказал:
– Служи и не балуй! Все должно быть благообразно и по чину.
Началось всенощное бдение. Перед этим кадили алтарь, а затем, после дьяконского возгласа, запели «Благослови, душе моя, Господа». Особенно понравились мне слова: «На горах станут воды, дивны дела Твоя Господи, вся премудростию сотворил еси». Когда запели «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом», я перекрестился и подумал, что эти слова относятся к тем, кто служит у Божьего престола, и опять перекрестился.
Когда читали на клиросе шестопсалмие, батюшка с дьяконом разговаривали. Мне слышно было, как батюшка спросил:
– Ты деньги-то за сорокоуст получил с Капитонихи?
– Нет еще. Обещалась на днях.
– Смотри, дьякон! Как бы она нас не обжулила. Жог-баба!
Я ничего не понял из этих отрывистых слов, но подумал: разве можно так говорить в алтаре?
После всенощной я обо всем этом рассказал матери.
– Люди они, сынок, люди, – вздохнула она, – и не то, может быть, еще увидишь и услышишь, но не осуждай. Бойся осудить человека, не разузнав его. От суесловия церковных служителей Тайны Божии не повредятся. Так же сиять они будут и чистотою возвышаться. Повредится ли хлеб, если семена его орошены грешником? Человек еще не вырос, он дитя неразумное, ходит он путаными дорогами, но придет время – вырастет! Будь к людям приглядчив. Душу его береги. Сострадай человеку и умей находить в нем пшеницу среди сорной травы.
– Держи карман шире! – проворчал отец, засучивая щетину в дратву. – Как я там к людям ни приглядывался, ни сострадал им, ни уступал, а они все же ко мне по-волчьи относились. Ты, смиренница, оглянулась бы хоть раз на людей. Кто больше всего страдает? Простые сердцем, тихие, уступчивые, заповеди Господни соблюдающие. Не портила бы ты лучше мальца! Из него умного волчонка воспитать надо, а не Христова крестника!
Мать так и вскинулась на отца:
– Ты бы лучше оглянулся и узнал: кто стоит за твоей спиною?
Отец вздрогнул.
– Кто?
– Да тот, кто искушал Христа в пустыне! Не говори непутевые слова. Они не твои. Не огорчай Ангела своего. Сам же, когда выпьешь, горькими слезами перед иконами заливаешься. Не вводи ты нас в искушение. А ты, – обратилась она ко мне, – не всякому слуху верь. У отца это бывает. Жизнь у него тяжелая была, ну и возропщет порою. А сам-то он по-другому думает! Последнее с себя сымет и неимущему отдаст. В словах человека разбираться надо; что от души идет и что от крови!
Тайнодействие
Впервые услышанное слово «проскомидия» почему-то представилось мне в образе безгромных ночных молний, освещающих ржаное поле. Оно прозвучало для меня так же таинственно, как слова: молния, всполох, зорники и слышанное от матери волжское определение зарниц – хлебозарь!
Божественная проскомидия открылась мне в летнее солнечное воскресенье в запахе лип, проникавшем в алтарь из причтового сада, и литургийном благовесте.
Перед совершением ее священник с дьяконом долго молились перед затворенными святыми вратами, целовали иконы Спасителя и Божьей Матери, а затем поклонились народу. В церкви почти никого не было, и я не мог понять: кому же кланяются священнослужители? Пузатому старосте, что ли, считающему у выручки медную монету, или Божьей хлебнице-просфорне, вынимающей из мешка просфоры? Об этом я спросил чтеца Никанора Ивановича, и он объяснил мне мудреными церковными словами:
– Всему миру кланяются! Ибо сказано в чине священный и божественных литургии: «Хотяй священник божественное совершити тайнодействие, должен есть примирен быти со всеми».
Духовенство облачалось в ризы. Я не сводил глаз с этого невиданного мною обряда. Батюшка надел на себя длинную, как у Христа, шелковую одежду – подризник – и произнес звучащие тихим серебром слова: «Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения, и одеждою веселия одей мя, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою».
Облаченный в стихарь дьякон, видя мое напряженное внимание, шепотом стал пояснять мне:
– Подризник знаменует собою хитон Господа Иисуса Христа.
Священник взял епитрахиль и, назнаменав его крестным осенением, сказал: «Благословен Бог изливаяй благодать Свою яко миро на главы, сходящее на ометы одежди его».
– Епитрахиль – знак священства и помазания Божия…
Облекая руки парчовыми нарукавницами, священник произнес: «Руце Твои сотвористе мя и создаете мя: вразуми мя, и научуся заповедей Твоим», и при опоясании парчовым широким поясом: «Благословен Бог препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой… на высоких поставляяй мя».
– Пояс знаменует препоясание Господа перед совершением Тайной вечери, – прогудел мне дьякон.
Священник облачился в самую главную ризу – фелонь, произнеся литые, как бы вспыхивающие слова: «Священницы Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются…»
Облачившись в полное облачение, он подошел к глиняному умывальнику и вымыл руки: «Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой, Господи… возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея…»
На жертвеннике, к которому подошли священник с дьяконом, стояли залитые солнцем чаша, дискос, звездица, лежало пять больших служебных просфор, серебряное копьецо, парчовые покровы. От солнца жертвенник дымился, и от чаши излучалось острое сияние.
Проскомидия была выткана драгоценными словами: «Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя… Дивны высоты морские, дивен в высоких Господь… Святися и прославися прелестное и великолепое имя Твое…»
Священник с дьяконом молились о памяти и оставлении грехов царям, царицам, патриархам и всем-всем, кто населяет землю, и о тех молились, кого призвал Бог в пренебесное Свое Царство.
Много произносилось имен, и за каждое имя вынималась из просфоры частица и клалась на серебряное блюдце-дискос. Тайна литургии до сего времени была закрыта Царскими вратами и завесой, но теперь она вся предстала предо мною. Я был участником претворения хлеба в Тело Христово и вина в истинную Кровь Христову, когда на клиросе пели: «Тебе поем, Тебе благословим», а священник с душевным волнением произносил: «И сотвори убо хлеб сей, честное Тело Христа
Твоего, а еже в чаше сей, честную Кровь Христа Твоего, аминь, аминь, аминь…»
В этот день я испытывал от пережитого впечатления почти болезненное чувство; щеки мои горели, временами била лихорадка, в ногах была слабость. Не пообедав как следует, я сразу же лег в постель. Мать заволновалась:
– Не заболел ли ты? Ишь, и голова у тебя горячая, и щеки, как жар, горят!
Я стал рассказывать матери о том, что видел сегодня в алтаре, и, рассказывая, чувствовал, как по лицу моему струилось что-то похожее на искры.
– Великое и непостижимое это дело, совершение Тайн Христовых, – говорила мать, сидя на краю моей постели, – в это время даже Ангелы закрывают крылами свои лица, ибо ужасаются тайны сия! – Она вдруг задумалась и как будто стала испуганной. – Да, живем мы пока под ризою Божьей, Тайн Святых причащаемся, но наступит, сынок, время, когда сокроются от людей Христовы Тайны… Уйдут они в пещеры, в леса темные, на высокие горы. Дед твой Евдоким не раз твердил: «Ой, лютые придут времена. Все святости будут поруганы, все исповедники имени Христова смерть лютую и поругания примут… И наступит тогда конец свету!
– А когда это будет?
– В ладони Божьей эти сроки, а когда разогнется ладонь – об этом не ведают даже Ангелы.
У староверов на Волге поверье ходит, что второе пришествие Спасителя будет ночью, при великой грозе и буре. Деды наши сурово к этому дню приуготовлялись.
– Как же?
– Наступит, бывало, ночная гроза. Бабушка будит нас. Встаем и в чистые рубахи переодеваемся, а старики в саваны – словно к смертному часу готовимся. Бабушка с молитвою лампады затепляет. Мы садимся под иконы, в молчании и трепете слушаем грозу и крестимся. Во время такой грозы приходили к нам сродственники, соседи, чтобы провести грозные Господни часы вместе. Кланялись они в землю иконам и без единого слова садились на скамью. Дед, помню, зажигал желтую свечу, садился за стол и зачинал читать Евангелие, а потом пели мы: «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдящим…»Дед твой часто говаривал: мы-то, старики, еще поживем в мире, но вот детушкам да внукам нашим в большой буре доведется жить!
Помогите мне выпустить песню на свободу!
Молнии слов светозарных
Любил дедушка Влас сребротканый лад церковнославянского языка. Как заговорит, бывало, о красотах его, то так и обдаст тебя монастырским ветром, так и осветит всего святым светом. Каждое слово его казалось то золотым, то голубым, то лазоревым и крепким, как таинственный адамантов камень. Тяжко грустил дедушка, что мало кто постигал светозарный язык житий, пролога, Великого канона Андрея Критского, миней, триоди цветной и постной, октоиха, Псалтыри и прочих боговдохновенных песнопевцев.
Не раз говаривал он мягко гудящим своим голосом:
– В кладезе славянских речений – златые струи вод Господних. В нем и звезды, и лучи, и ангельские гласы, и камение многоцветные, и чистота, снега горного светлейшая!
Развернет, бывало, дед одну из шуршистых страниц какой-нибудь древней церковной книги и зачнет читать с тихой обрадованной улыбкой. Помню, прочитал он слова: «Тя, златозарный мучеников цвет почитаю». Остановился и сказал в тихом вдумье:
– Вникни, чадо, красота-то какая! Что за слово-то чудесное: «златозарный». Светится это слово!
До слез огорчало деда, когда церковники без великой строгости приступали к чтению, стараясь читать в нос, скороговоркой, без ударений, без душевной уветливости.
Редко кто понимал Власа. Отводил лишь душу со старым заштатным дьяконом Афанасием – большим знатоком славянского языка и жадно влюбленным в драгоценные его камни.
Соберутся, бывало, в повечерье за пузанком рябиновой (прозванной дедом «Златоструем»), и заструятся у них такие светло-певучие речи, что в сумеречном домике нашем воистину заревно становилось. Оба они с дьяконом невелички, сребровласые, румяные и сухонькие. Дедушка был в обхождении ровен, мягок, не торопыга, а дьякон – горячий, вздымистый и неуемный. Как сейчас, помню одну из их вечерних бесед…
Набегали сумерки. Дед ходил в валенках-домовиках по горенке и повторял вслух только что найденные в минее слова: «Молниями ироповедания просветил еси во тьме сидящия».
Дьякон прислушивался и старался не дышать. Выслушал, вник, опрокинул чарочку и движением руки попросил внимания.
Дед насторожился и перестал ходить. Полузакрыв глаза, с легким румянцем на щеках, дьякон начал читать чистым переливным голосом, мягко округляя каждое слово: «Велий еси Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих.
Твоею бо волею от небытия в бытие привел еси всяческая: Твоею державою содержиши тварь и Твоим промыслом строиши мир…»
Дед загоревшимся взглядом следил за полетом высоких песенных слов, а дьякон продолжает ткать на синих сумерках серебряные звезды слов: «Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе работают источницы, Ты простер еси небо яко кожу, Ты утвердил еси землю на водах, Ты оградил еси море песком, Ты к дыханиям воздух излиял еси…» Дьякон вскакивает с места, треплет себя за волосы и кричит на всю горницу:
– Это же ведь не слова, а молнии Господни!
Дед вторит ему с восхищением:
– Молниями истканные ризы Божии, – ив волнении ходит по горенке, заложив руки за монастырский поясок.
В такие вечера вся их речь, даже самая обыденная, переливалась жемчугами славянских слов, и любили, грешным делом, повеличаться друг перед другом богатством собранных сокровищ. Утешали себя блеском старинных кованых слов так же, как иные утешают себя песнями, плясами и музыкой.
– А это разве не дивно? – восклицает дьякон, – слушай: «Таинство ужасное зрю: Бог бо Иже горстию содержай всю тварь, объемлется плотию в яслех безсловесных, повиваяй мглою море».
– Не слова, а звезды светосиянные, светильники светлейшие и прозарнейшие, – с дрожью в голосе отзывается дед, – светловещанная мудрость!
– А не возликуешь ли душою, раб Божий Власий, когда запоют над гробом твоим: «В путь узкий ходшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии… Приидите насладитеся ихже уготовах вам почестей и венцов небесных…» «Сей бо отходит яко дым от земли, яко цвет отцвете, яко трава посечеся…»
– «Жизнь наша есть: цвет и дым, и роса утренняя воистину», – прибавляет Влас и обнимает дьякона: – А какие слова-то, Господи, встречаются: световидный, светоблистанный, светоносный, светозарный, – говорит он сквозь слезы. – «Душу мою озари сияньми невечерними…» «Цвете прекрасный», «шум громный», «зарею пресветлою озари концы вселенной», «жизнь нестареемая», «одеяйся светом яко ризою…» «Милосердия двери отверзи нам».
Все светло. Все от сердца, от чистоты, от святости, от улыбки Господней…
Подозвал, помню, меня дед к себе, погладил по голове и сказал: «Возлюби Божью красоту!»
До поздней ночи сквозь прозрачную дрему слышишь то дьякона, то дедушку, пересыпающих жемчуг Божьих слов. И не хочется погружаться в сон: так бы и колебался на зыбких певучих струнах боговдохновенных речений.
Крещение человека
Перед обедней крестили младенца. Дьякон поручил мне разжечь кадило, а сам он записывал в книгу имена родителей и восприемников крещаемого. Младенец вопил на всю церковь, и толстая простодушная кума укачивала его и пела, вначале тихо и сквозь зубы, а потом все громче и смелее:
Баю, баюшки, баю. Я шелками обовью.Дьякон мохнато посмотрел на куму и сказал:
– Воздержись!
Высокий суховидный кум с темными, вспученными тяжелой работой руками был выпившим. Дьякон сделал ему замечание.
– Мог бы и после крестин!.. Твое звание?
– Михаил Могилкин, по прозванию «Труба»!
– Я не про это! Чем занимаешься?
– Кочегар на пароходе «Моряк»!
– Как желаете наименовать младенца?
–^ Гаврилой!
– Гавриилом, – поправил его дьякон и сделал кляксу, которую выругал: – Ах, чтоб тебя, окаянная!..
В это время младенец завопил таким крепким ревом, что дьякон поднял брови и покачал головой:
– Ваш младенец-то не протодьякон ли случайно?
Михаил Труба не расслышал дьяконской шутки и почтительно ответил:
– Так точно!
Сторож поставил посредине церкви медную купель, похожую на большую Христову чашу, и на особый столик положил серебряный ковчежец-мирницу, свечи, требник и белое, крестами вышитое полотенце-ручник.
Из алтаря вышел священник в епитрахили и стал совершать чин оглашения.
В одной из молитв священник назвал младенца новоизбранным воином Христа Бога и молил Владыку и Господа дать ему Ангела Хранителя. Священник склонился над ребенком, трижды подул на него и сказал:
– Изжени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его.
«Для чего он дует-то?» – подумал я и очень обрадовался, когда вспомнил библейские слова: «Вдунул Бог в лицо Адама дыхание жизни».
Младенец успокоился от горького своего плача, и мне почудилось, что это Ангел его успокоил!
Я не раз видел, как улыбался во сне мой грудной брат, и мать говорила мне:
– Это Ангел в переглядушки с ним играет!
Вспомнилась мне картина у дяди Ивана на Волге, в Калязинском уезде: у забора лежит пьяный человек, а рядом с ним стоит Ангел с опущенной головой и преогорченно плачет.
И другая картина, на ярмарке виденная: по гнилым жердочкам переходит речную быстрину ребенок, а позади его Ангел Хранитель.
Пословица русская вспомнилась: «Где просто, там Ангелов со ста, а где мудрено, нет ни одного».
Священник попросил восприемников обратиться лицом к западу и трижды спросил их:
– Отрицаешься ли сатаны и всех дел его, и всех аггел его, и всего служения его, и всея гордыни его?
И восприемники трижды ответили:
– Отрицаюся!
В знак сочетания с Христом им прочитали Символ веры.
– Приготовьтесь к Таинству Крещения! – шепнул дьякон восприемникам.
– Отреши его ветхость и обнови его в жизнь вечную, и исполни его Святого Твоего Духа, – молился священник за младенца.
Крестная мать положила Гавриила на скамью и стала раскутывать его от одеяла и пеленок. Я подошел поближе и не мог не порадоваться тому, как младенец тихо так старался посмотреть не на одно что-либо, а сразу на все. В это время в церкви стояло солнце. Хотя оно и раньше было, с самого заранья, но я обратил особенное на него внимание только сейчас. Солнце близко подошло к младенцу, склонилось над ним, как священник, и стало гладить его по голове.
В знак духовной радости на чашеобразной купели зажгли три белых свечи, и восприемникам тоже дали по свече. Священник облачился в светлую ризу и руки опоясал серебряными поручами. Подвыпивший Михаил Труба растрогался и всхлипнул.
Священник читал молитву о неизреченном величии Божьем, бесконечной любви Его к роду человеческому и наитии Святого Духа на крещенскую воду.
– Ты убо человеколюбие Царю, освяти воду сию!
Священник трижды благословил золотую от солнца воду, погрузил в нее пальцы, сложенные для благословения, и три раза подышал на нее при словах:
– Да сокрушатся под знамением образа креста Твоего все сопротивныя силы!
Из серебряной «мирницы» священник взял тонкий помазок, обмакнул его в священный елей – миро и начертал на воде незримый троекратный крест:
– Благословен Бог, просвещаяй и освящаяй всякого человека, грядущего в мир!..
Священник склонился над голеньким ребенком и крестовидно стал помазывать тело его:
– Помазуется раб Божий Гавриил елеем радования, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Когда «мирили» ноги младенца, освещенные в это время солнцем, то произносили:
– Во еже ходити ему по стопам заповедей Твоих! Мне почему-то вспомнилось миропомазание царей, о котором в книжке читал, и не мог сдержаться, чтобы не шепнуть церковному сторожу: – Видишь ли, как царя помазуют… Гав рюшку-то!
Голенького помазанника батюшка взял на руки и погрузил в купель:
– Крещается раб Божий Гавриил!..
Омытого водою радования и света, облачали его в белые ризки, крестик на него повесили на голубой ленточке и пели радостными голосами:
– Ризу мне подаждь светлу, одеяйся светом, яко ризою!
Читал Евангелие о прощальном заповедании Христа идти в мир и крестить всех людей во имя Его, произносилась ектения о милости, жизни, мире, здравии и спасении новопросвещенного младенца Гавриила. Читались чудесные, вспыхивающие огнями слова о небесном осиянии крещаемого и сподоблении его жизни вечной.
– Как пророк Самуил благословил царя Давида на царство, так благослови и главу раба Твоего Гавриила! – читалось ему на прощание.
А потом постригали его и этим самым отдавали в руки Божии.
В церкви погасили свечи, и бережно закутанного Гаврюшу понесли в жизнь.
Дьякон посмотрел ему вослед и сказал:
– Что-то даст ему Господь? Будет ли он великим светильником Церкви, полководцем, мыслителем, купцом али… Но не будем предугадывать пути Господни!.. Мне почему-то сдается, будет он протодьяконом Исаакиевского собора!.. Слышал, какой голосище-то у него?
Иванушка
Умирал братец мой Иванушка. Ему было шесть лет. В больших муках умирал он. По деревенскому обычаю, положили его под иконы, чтобы Господь облегчил его… Была пасхальная ночь. Отец к Светлой заутрени пошел, и братец все время спрашивал нас:
– А тятя скоро придет? Красное яичко… мне обещал…
Мать утешала его:
– Придет, садик мой, придет… Теперь уж скоро…
Личико его то затуманивалось, то вспыхивало тихими зоринками. Он постоянно ручки тянул к нам, словно на руки просился.
Он приподнял головку и к чему-то прислушиваться стал. Слушал долго, а потом сказал:
– Мама! Воробушки скачут!
В комнате прозвенело что-то похожее на упавшие стеклянные бусинки – это Иванушка засмеялся в бреду.
И стал он опять тосковать и метаться по постельке.
– Мама! Распутай нитки у меня на грудке…
Мать гладила его грудку и, как нищая на церковной паперти, стала всхлипывать:
– Вот… я ниточки распутываю… вот так… Будет Иванушке вольготно… Вот так!..
Вдруг братец опять приподнялся и радостно закликал:
– Тятя идет!
Мы ничего не слышали – бредит Иванушка. Я посмотрел в окно. В конце улицы, в рассвете пасхального утра шел отец.
Только что он показался в дверях, Иванушка ручки вскинул навстречу, а ручки сухонькие и словно серебряные при металлическом утреннем свете. Эта серебряность особенно потрясла меня. Не в этой ли серебряное™ тела – смерть?
Отец взял Иванушку на руки, похристосовался с ним и стал носить его по комнате. Дали Иванушке красное яичко, но он не удержал его в ручке, и оно покатилось по полу. Глазами «большого» посмотрел на него и заплакал.
Положили Иванушку на постельку. Он закрыл глазки, а потом хрустнул горлышком, как речная тростинка, когда ее в руке сожмешь, и по-страшному затих…
Лицо матери стало серебряным. Отец послушал Иванушку и перекрестил его, сказав: «Царство Небесное!..»
В течение трех дней приходили кланяться Иванушке сродственники наши, соседи… На Иванушку смотрели тихими церковными глазами:
– Ангельская душенька!
Тетка Прасковья сказала:
– Сейчас Господь за ручку его водит и сады Свои показывает…
Я представлял себе, как Господь водит Иванушку по небесным дорогам. Он говорит Иванушке так же, поди, воркотно и светло, как соборный батюшка отец Владимир: «Вот и хорошо, родненький, что ко Мне пришел!.. Так, так, Иванушка… Ты уж того… побегай, поиграй!.. Радуйся в саду Моем во веки веков…»
Говорит ему Господь… и по головке гладит Иванушку, и благословляет его пронзенными распятием руками, а Иванушка к белой одежде Господа головкой прижимается…
Представил я это до того живо и трогательно, что и самому захотелось помереть. Стал я вспоминать нашу с Иванушкой жизнь. Все в ней как будто бы хорошо было, но вот однажды попросил он у меня волчка, а я пожадничал и не дал ему… Стало мне очень горько. Тут впервые в жизни я понял, что за муки страшные – угрызение совести!..
Положили братца в белую храмину (не хотела мать произносить слова «гроб»).
Пришел нищий Яков и для назидания и утешения нашего прочитал из Евангелия главу, где говорилось о Христе, благословляющем детей, и о наследии ими Царства Небесного.
Я незаметно положил под изголовье Иванушки волчка и тихо сказал:
– Ты прости меня… я не знал, что ты помрешь…
На третий день Пасхи понесли братца хоронить. В церкви украсили лобик его золотым венчиком с надписью «Святый Боже» – в знак упования, что и там… увенчает его Господь венцом небесным. На панихидный столик поставили кутью из зерен – как зерно с виду мертвое, но, брошенное в землю, восстает к жизни, так и мертвое тело воскреснет при трубе Архангела.
Отпевали Иванушку по-особенному, по пасхальному чину, радостно, в белых ризах, с пасхальной серебряной свечой. Отправляли братца в дорогу с сердцем легким и мирным, без нахмуренной скорби. Читали и пели хорошие легкие слова и часто-часто повторяли:
– Господи, упокой младенца!
«Небесных чертогов и светлого покоя… причастника сотвори чистейшего младенца…»
«Рая жителя тя показует, блаженный, воистину младенче… Ликом святых счиняет тя…»
Сравнивали Иванушку «с младым злаком», Господом пожатым, чтобы возвести его от земли на Божественную гору.
– О мне не рыдайте, – говорил братец словами исходной песни, – а радуйтесь…
Наступило «последнее целование». Мы прощались с Иванушкой, целовали лобик его, освещенный солнцем, а в это время пели:
– О, чадо! Кто не восплачет зря твое ясное лице увядаемо… Якоже бо корабль следа не имый, сице зашел еси от очию скоро…
Священник сказал:
– Вечная твоя память, достоблаженне и приснопоминаемый младенче Иоанне…
Все было в церковном дыму и в солнце. В причтовом саду летали птицы. Они садились на старые деревья, и ветки качались.
Посыпали Иванушку землей и сказали:
– Господня есть земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущия на ней…
Мы были люди бедные и никак не думали, что батюшка скажет надгробное утешительное слово, но батюшка пожалел нас и сказал проповедь, в которой очень понравились слова:
– Блаженно детство: оно наследует рай!
Мать обносила кутью и каждому говорила:
– Помяните младенца!
Брали ложечку кутьи, крестились и отвечали:
– Помяни, Господи, ангельскую душеньку!..
А когда выносили гробик из церкви, то над всем городом трезвонили пасхальные колокола, все снимали шапки, встречные офицеры и даже городовые отдавали Иванушке честь.
Я подумал: «Хорошо бы и мне помереть!»
Когда опускали Иванушку в яму и так крепко, словно деревенским ржавым хлебом, запахло землей, освещенной пасхальным солнцем, я пожалел Иванушку:
– Пожил бы ты еще, милый братец!
Я бросил на крышку гроба горсточку земли «на легкое ему лежание». Пальцы мои пахли землей, и я почти с криком подумал: «Земля-то как хорошо пахнет, а братца моего нет!»
Не в брачной одежде
Маленькая, грязная, с низеньким закопченным потолком сторожка церковного сторожа Максима Требникова в городе Болотове.
Желтый свет восковой свечки, вставленной в горлышко бутылки из-под церковного вина, скудно озарял стены с ободранными обоями, отражаясь на темном оконце и освещая большой стол, покрытый вместо скатерти газетными листами.
На столе красовался пузатый графин с отбитым горлышком, с водкой, настоянной на лимонных корках, и тарелка вяленой рыбы.
На стене висело почерневшее от копоти и дыма кадило. В углу темный, суровый лик Спасителя, украшенный засохшими цветами.
К окну вплотную прильнула дождливая безглазая ночь. Шумит непогодный ветер, будоража деревья, осыпая окно мелкой изморосью и сотрясая тоненькое пламя свечки.
У стола сидят: сам хозяин, маленький, невзрачный, лохматый, с белесыми тараканьими усиками и небольшой общипанной бородкой, напротив него псаломщик Кузьма Триодин – молодой долговязый семинарист с большим, похожим на руль носом, с густой флорой на щеках и подбородке. Он в замусоленном сюртуке и в брюках цвета отцветающей сирени.
Сегодня Максим и Триодин получили жалованье, поэтому и решили после обедни «дерзнуть единую скляницу».
После каждой выпитой рюмки Максим кряхтит, морщится и деланным басом издает:
– Зело изрядно!
Триодин же медленно наливает содержимое графина себе в стакан, подносит к губам и, перед тем как опрокинуть его в пасть, дрожащим елейным голоском, подражая интонациям своего настоятеля отца Феогноста, возглашает:
– Возвеселится пьяница о склянице и уповает на вино!..
– Похоронили мы, значит, купца Филата Титовича… – рассказывает Максим, тыкая вилкой в рыбу, – и пошли это мы со звонарем Панкратием на поминки… Люди они богатые… Купцы! Не объели бы. Дома нарочно мы не закусывали, чтобы аппетита не испортить…
Пришли это мы. Сели рядком с Панкратием за стол… а на столе-то целая бакалейная лавка!.. Чего-чего нет!.. Супротив нас ветчина этакая жирная лежит – так бес в рот и просится… Я Панкратию-то и говорю: «Режь ветчину… Нечива с ней миндальничать!..»
Только это мы в ветчину-то прицелились, как подходит к нам старушка, родственница Филата Титовича, и шепчет нам на ухо:
– Вы бы здесь не мешались… Тут благородные сидят… Шли бы вы с Господом на кухню…
Ну мы, значит, этому не препятствовали… «Не в брачной одежде, значит», – подумали.
Поднялись мы из-за стола и пошли деликатным манером на кухню… Сели за стол.
А на кухне-то чадно! Суета. Горячка! Кухарки и повара так и снуют. Нас задевают и ругают, что не на месте сели!..
Глядим на стол, а на столе один кисель лежит – для благородных гостей приготовлен.
Сидели, сидели это мы, а еды не подают… Я и говорю Панкратию:
– Чево так-то сидеть! Гляди, кисель… Режь его, маткин берег, батькин край!..
Перекрестясь, давай кисель натощак есть…
Сколько мы ели, не помню. Только под конец подходит опять старушонка, увидела нас и давай ругать:
– Ах вы кутейники, весь кисель раскромсали! Как же я гостям-то подам?! Кто вас, окаянных нагрешников, просил сюда приходить?.. Уйдите вы с глаз моих, от греха подальше!..
Неча делать. Вытерлись мы от кисел я-то и пошли… Зашли с горя с Панкратием в трактир и налакались до положения риз.
– Разве это жизнь? Нет! Слеза одна – а не жизнь!.. Не могут они понимать нашего брата!.. Вишь ты, из-за киселя надо было человека огорчить, сконфузить его…
– Выпьем по единой, Божья дудочка!..
Ветер шумел, позвякивая выбитым стеклом. Вздрагивал испуганный огонек свечки. По стенам и двери, обитой лохмотьями, трепыхались трепетные тени, скользя и ломаясь.
– Не в брачной одежде, говоришь, был? Не причтили к лику благоутробных! – смеется Триодин. – Ну ладно, хоть киселька-то попробовал!
– Прибегает онамеднясь отец Феогност в сторожку ни свет ни заря. Что, думаю, такое? Не церковь ли обокрали?..
– Максим! – кричит.
– Здесь, батюшка! – отвечаю.
– В девять часов купца Филата Титовича в церковь понесут… Так ты, тово, расстарайся
заранее большие двери на две половинки раскрыть, гроб-то широкий!..
А я отцу Феогносту-то и говорю:
– Поневоле для Филата Титовича двери шире раскрыть надо… Потому – трудно богатому в игольное ушко пройти, в Царство Небесное то исть!..
– Ну ты, ладно, без кощунств, – смеется отец Феогност, – тебя не стригут, так ты и не блей!..
Триодин смеется и начинает петь сиплым тенором семинарскую песню:
Приближается дело майское, Дело трудное – семинарское, Наступает день, надвигается, И некстати лень в нас вселяется… …Фраки черные помолилися И со списками разложилися. Карандашик свой каждый в руки взял, И торжественно целый класс молчал. Вызывается из нас троица, И мерещится в глазах двоица. Но хранит всегда семинара Бог, Как ответ его ни бывает плох. Уж недаром он сын Божественный И хитрец всегда сверхъестественный.– Кисель-то какой, клюквенный или черничный на поминках-то был? – иронизирует Триодин над Максимом.
– Не разобрал. Некогда было. Куски поперек горла вставали!.
– А ты возьми, Максим, да и отомсти всем… А? – весело предлагает Триодин, хитро поблескивая осоловелыми глазами.
– Чем?
– Возьми и разбогатей назло! Пригласи в гости купцов и старушонку эту, что тебя выставила… Сядит это она за стол, а ты подойди к ней и скажи вслух:
– А помните, дражайшая, как вы меня с поминок выставили? Киселька поесть не дали!.. Вот, Максим, где бы номер был!
– Надрызгался, кутья! Не помнишь, что и говоришь! – досадливо негодует Максим, сплевывая в сторону.
– Эх, Максим, неуспокоенная душа твоя! Грустно мне… что человек человека не уважает!
– Выпьем по остатней за хороших, душевных людей!
Ветер за окном спал, только дождь шумел да тревожно шептались деревья.
Город Болотов погрузился в молчаливый покой.
Звонарь Панкратий отбивал часы на старой колокольне. В невидимых далях ночи звенит заливистая гремь бубенцов.
Молитва
Село Струги, где проживает отец Анатолий, тихое, бедное, бревенчатое и славится лишь на всю округу густыми сиреневыми садами. Очень давно какой-то прохожий заверил баб, что древо-сирень от всякого мора охраняет, – ну и приветили это древо у себя, и дали развернуться ему от края до края.
В сиреневую пору села не видно. Если смотреть на него издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежащее на земле.
В эту пору я ночевал у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его «горе-священником», так как и умом он скуден, и образования маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь.
– Но зато в Бога так верит, – говорили в ответ полюбившие его, – что чудеса творить может!
Меня уверяли чуть ли не клятвою: когда отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собою загораются!
Окна батюшкиной горницы были открыты в сад, на белую ночь, всю в сирени, зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим.
Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник и облекся в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился. Расчесывая гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье.
Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег огарок свечи и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою стал затеплять перед иконами все лампады.
Темный передний угол осветился семью огнями.
Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто бы тише, хотя и пели соловьи.
И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения на колени отца Анатолия.
Он приник головою к полу и минут десять лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо к Нерукотворному Спасу – большому черному образу посредине – и начинает разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее:
– Опять обращаюсь к Твоей милости и до седьмидесяти седьмин буду обращаться к Тебе, пока не услышишь меня, грешного священника Твоего!..
Подними с одра болезни младенца Егорку!.. Ему, Господи, семь годков всего… Пожить ему хочется… Только и бредит лугами зелеными, да как он грибы пойдет собирать, и как раков ловить… Утешь его, мальчонку-то! Возьми его за рученьку! Обними его, Господи, Господи, Господи!.. Один он у родителей-то… Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает!..
Господи! Как мне легко помыслить о воскресении Твоем, так и Тебе исцелить младенца! Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца!
Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом и стоном выговаривал слова:
– Помоги., исцели… Егорку-то!.. Младенца Георгия!..
Он протянул вперед руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога.
Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное Его сияние…
Так молиться может только боговидец. Отец Анатолий положил три земных поклона и как бы успокоился.
Несколько минут стоял молча, изможденный и бледный, с каплями пота на сияющем лбу.
Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише, но с тем же упованием и твердостью.
– Аз недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя неоднократно спасти от зловредного винопития раба Твоего Корнилия… и паки молю: спаси его! Погибает он! Жена его плачет, дети плачут… Скоро в кусочки они пойдут… Не допусти, Господи! Подкрепи его… Корнилия-то!
Прости такожде раба Твоего Павлушку… то есть Павла. Павла, Господи! Я все это Тебе по-деревенски изъясняю… Огрубел язык мой… Так вот, этот Павлушка… по темноте своей… по пьяному делу песни нехорошие про святых угодников пел… проходя с гармошкой мимо церкви, плевался на нее… Ты прости его, Господи, и озари душу его!.. Он покается!
И еще. Господи, малая докука к Тебе… Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова… Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить, а то моя-то совсем обветшала… в заплатках вся… Благослови его, Милосердный… Он добрый!
О чем же еще я хотел молить Тебя? Да. Вот, урожай пошли нам хороший… и чтобы, это, травы были… и всякая овощь, и плод… А Дарья-то Иванникова поправилась. Господи! Благодарю Тебя и воспеваю прелестное имя Твое!.. Три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется!
Вот и все пока… Да!., еще вот, спаси и помилуй гостя моего здесь лежащего раба Твоего Василия… Ему тоже помоги… Он душою мается…
И еще спаси и сохрани… раба Твоего… как это его по имени-то?
Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем.
– Ну как же это его? Вот память-то моя стариковская!.. Да, вот этого… что у Святой горы проживает… и пчельник еще у него… валенки мне подарил… Добрый он… Его все знают… Борода до пояса… у него… Ну как же это его величают? На языке имя-то!..
Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал Ему:
– Ты его знаешь, Господи! Ты всех знаешь… Прости меня, Милосердный, за беспокойство… Тяжко, поди, Тебе, Господи, смотреть на нас, грешных и недостойных?
Отец Анатолий погасил лампады, оставив лишь гореть одну, перед Нерукотворным Спасом.
Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул:
– Спит человек!.. А спать-то пошел, видимо, не помолившись… Эх, молодость! Ну что тут поделаешь?.. Надо перекрестить его… Огради его, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста и спаси его от всякого зла…
Песня
Сегодня соборовали Егора Веткина. Свеча желтого воска в его угасающей руке, мертвеющая прядь волос на влажном лбу и то, что он во всем белом лежал под иконами, заставляло думать о невечерних полях Господних. После сурового, похожего на отпевание обряда он посмотрел на меня отяжелевшими от предсмертной тяготы глазами и сказал:
– Книги… тебе завещаю. Не держи их только в сыром и темном месте… они, книги-то… как люди – уход и тепло любят… – Неподалеку от икон, на полке, занавешенной холстиной, стояли книги. – Покажи мне их! – шепнул он через силу. Когда я откинул занавеску и при свете керосиновой лампы заблистали книги, бережно укутанные Егором в золотистую бумагу, он проговорил: – Помяни вас Господь за беседу с вами… за правду вашу!..
Предсмертно посмотрел на меня и на жену свою Ольгу Ниловну.
Было ясно, что Егор не увидит больше утра. Чтобы проводить его в дальнюю ночную дорогу, я остался ночевать с ним. Ольга Ниловна погасила последние слезы, выпрямилась, стала сухой и озабоченной. Посмотрев на мужа тем особенным прозорливым крестьянским взглядом, каким смотрят на обреченного, она молча подошла к большому дедовскому сундуку и подняла крышку…
Егор лежал неподвижно и почти бездыханно. Синий свет лампады падал на его изголовье. В этом мерцании, обычно ласковом и тихом, было теперь сокрушенно и маетно.
Ольга Ниловна вынула из сундука что-то длинное и страшное в своей нетронутой полотняной белизне. Она разложила страшную одежду по столу и в застывшей задумчивости стала гладить ее рукой.
За окнами поднимался буревой ветер. Прислушиваясь к нему, я подумал, что он похож на старинную еврейскую песню.
Вот лежит Егор под иконами, думалось мне, и кто-то незримый порывает сейчас тонкие ниточки, связывающие его с землей, и что чувствует в этот момент душа его: радость освобождения или горечь расставания?
Мастер по лужению медной посуды, Егор Веткин безвыездно прожил в нашем городе без малого лет пятьдесят. Лет десять тому назад выучил я Егора азбуке. Никогда не забыть, как удалось ему из букв составить слова и уразуметь священный смысл их. Помню, прибежал ко мне поздно вечером, без шапки, в опорках на босую ногу и весь сияющий от слез.
– Грамоту постиг! – крикнул он на пороге и бросился обнимать меня. – Господи! Зачем так долго водил меня по пустыне, как Израиля, и с младенчества не показал мне Землю обетованную? – Повернулся к иконе и стал осенять себя частыми крестами: – Слава Тебе, Господи, слава Тебе, что постиг я теперь слова Твоего евангелиста: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Горько на душе у Егора, если она еще не покинула его. Оттого эта горечь, что не удалось ему, как он говорил, «спеть на земле хорошую песню».
Сидели мы как-то с ним в его мастерской. Паял он медный рукомойник. Мастерская – сырой сводчатый подвал – была обвита осенними сумерками, и за окнами тяжело звучал дождь. Жаркое пылание жаровни, на которой топилось олово, напоминало костер среди ночного поля. Егор сказал тогда:
– Жалко, что я образования не имею… а то… – Не договорил и задумался.
– Что? – спросил я его.
– Хочется мне написать книгу! – ответил горячим дыханием. – Хорошую, светлую и на весь мир!… Написал бы ее в виде песни, как у господина Александра Сергеевича Пушкина. Она… Эта книга-то… большую пользу принесла бы людям! – Он положил руку мне на плечо. Пальцы его были обожжены кислотами и замучены работой. – Ты не думай, – убеждал меня чуть не со слезами, – что это для славы и похвалы… Нет! Я это для всеобщего на земле блага! Понимаешь, поет что-то в душе моей, а что поет – не могу изъяснить складными словами! Образования не имею, вот в чем крестная мука-то!
– А что бы ты передал в этой песне?
– Я изложил бы в ней все, – засветился он, – и как живут люди, и как мучаются они, и как жаждут все Христова утешения, и что на земле у нас неладно, и все мы, одним словом, нехорошо живем!
Хотелось сказать Егору, что об этом уже много написано книг и никого не удивит он песней своею, но смолчал, а он говорил с увлечением и болью:
– Ах, как бы заплакали люди, услышав мою правду!
На Егора часто нападала тоска, та особенная русская тоска, которая заставляла его метаться между церковью и кабаком.
В таких случаях Егор напивался и каждому встречному говорил:
– Песня у меня на душе! Если выпустить ее на свободу, то у людей вырастут крылья!
Помогите мне выпустить песню на свободу!
Дар слезный
I
Солдат Кузьма Деревняк и послушник Геронтий шли уже второй день среди широких неоглядных полей. Солнце прямо над головами. Истомный полдень.
– Кваску бы испить! – с тоскою бормочет Кузьма, утирая пот рукавом мундира и отмахиваясь от слепней и мух. Терентий, сухощавый и остроглазый юноша в потертом подряснике, совсем изморился.
– Душит! – говорит он звонким тенором. – Быть грозе! – и смотрит в истомное голубое небо… – Ты бы, Кузьма, снял мундер-то, а то, на него глядя, еще жарче становится!
– Нельзя сымать… скоро деревня будет. В мундере больше превосходительное™… Уважают нашего брата военного. А что же ты свою хламиду не сымешь-то? Поди тоже жарко.
– Я духовный. В штанах мне не приличествует… Осудят!
– Какой ты духовный! Много вас стрелков таких по Расеи таскается… Ду-уховный!.. Кутью у дьячка замешивал и тож в духовные лезет!
– Ну, ты уж помолчи, проломная твоя головушка! Шинель прокислая! Тебя не стригут, так ты и не блей…
Поругались бы всласть, да душит истомный огневой полдень. Мухи да слепни одолевают. Звон в ушах. Слабость в ногах. Пустота в желудке. Истомная лень.
Дошли до Николиной рощи. В зеленых кустарниках орешника приютился маленький певучий родник. В земле между каменьями вделана иконочка и лежит рядом берестяной ковшичек. Геронтий крестится:
– Господи, благослови!..
Солдат снимает фуражку-бескозырку, прикладывается к иконе и пьет воду большими жадными глотками.
– Есть охота… – произносит он и в сладком изнеможении бросается на душистую землю, под тень орешников.
– Есть охота? – язвительно переспрашивает его Геронтий. – А ты возьми да и поешь за милую душу!..
– Сам трескай, кутья прокислая! Мордопляс колокольный! – сердится Кузьма, отыскивая в кармане щепотку табачку, и, не найдя ничего, кроме мусора да солдатской пуговки, озлобленно плюется и пробует заснуть, спрятав голову в тени орешника.
– Ты, Кузьма, не крупенься… Нечего толстые брылы надувать… – утешает его Геронтий, снимая вязаные лапти с потных натруженных ног.
– Дал Бог день, даст и пищу… Ты только уповай!
– Брехло ты, Герошка! Недаром отцы игумены со всех обителей гонят!..
– И пророцев, и апостол, и мученик гнали… – благочестиво вздыхая, произносит Геронтий напевным голосом. – Сказано: блаженни изгнании правды ради…
– То правды ради гнали, а тебя-то, мордопляса, за какую правду гнали?
– Меня-то?
– Да, тебя-то, обормота!
– За предержание вина и сикеры! – тоненько, скороговоркой отвечает Геронтий, осклабляя худенькое, обросшее волосами лицо. – Упихся зело в заутро праздника престольного и пред очима игумена явишася в скотоподобном виде. Распалишася он на мя яростию велию, поби меня посохом по хребту и повеле оставити обитель и в нее николиже не возвращатися…
– Дурной ты человек, – пренебрежительно отвечает Кузьма. – Теперича, поди, ваши трапезуют? Кашу гречневую с постным маслом едят… суп рыбий, хлеб свежий… духовитый, нового обмолота… Сычовым квасом еду запивают! Сидел бы себе сичас в трапезной и кушал! Пьяница ты, обормот, а не человек!..
Геронтий проглотил голодную слюну и горестно улыбнулся, вспомнив обильную монашескую трапезу.
– Не унывай, Кузьма! Претерпевый до конца спасен будет… Эка невидаль, монастырские щи да каша! Дай срок до Сухих Пожень добраться, будем мы с тобой, Кузьма, сыты и денежны… Есть у меня люди там душевные – от! Они ублажат меня!
– И кто тебя ублажит, одра такого? Ведь рожа-то у тебя и в пачпорт заглядывать не надо. Так и прописано на ней, на роже-то: трахтовый бродяга!
– У меня дар есть многоценный, Богом за смирение мне данный!
– Какой такой дар?
– Дар слезный!.. – многозначительно шепчет Геронтий. – Ты погоди ужотко… Меня слезы кормят… Дорогие у меня слезы-то!
Солдат вздыхает, с минуту смотрит на Геронтия, словно на юродивого, и молча ложится спать.
Журчит родник. От земли несутся звоны звонкогудые. Ветви кустарника ласкают лицо. Запахи травные сладко кружат голову.
А родник журчит, журчит… светлый, прохладный, грезный…
II
…Опьянил истомный сон. Проснулись под вечер. Вымылись в роднике. На душе тихо и светло от вечерней чистоты и свежести. Геронтий напевает тихо, с переливами, по-монастырски, «Свете Тихий».
Солдат прислушивается, опустив голову, и по-вечернему задушевно говорит:
– Хорошо ты поешь, Геронтий, за милую душу хорошо… А кругом благодать Божья. Дух вольный, поисть бы только, тогда и помирать не надоть!
– Ну, коли есть охота, так пойдем! – встрепенулся Геронтий и стал подвязывать лапти.
Встали с земли. Окстились на образок. Попили водицы и пошли по утоптанной тропинке меж росистых цветов и трав в синюю ласковую даль, где замерла светлая и неподвижная гладь озера и белела маленькая церковка.
К Сухим Пожням подошли поздно вечером. На селе заливалась гармонь семирядная с колокольцами, и парни и девки пели песни и плясали в тихих укромных сумерках.
Кузьма и Геронтий подошли к высокому кряжистому дому с высоким узорным крыльцом и постучали в оконце.
В горнице зашевелились, и в форточку высунулось лицо молодицы в черном, по-монашески повязанном платке.
– Кто здеся?
– Мы, Аннушка! Послушник Косьмодемьянской обители Геронтий и кавалер ордена Кузьма Деревняк, – тоненько откликнулся Геронтий. При словах «кавалер ордена» Кузьма приосанился и по-генеральски кашлянул.
– Не тот ли Геронтьюшка, что летось[5]. по нашему селу с иконой ходил?
– Он самый, без подмесу!
– Радость моя! Милости просим. Ночлег за собою не носят.
Дом Аннушки был дедовский. Комнаты уютные и низкие. В переднем углу перед дедовскими киотами горели три огонька. Веяло кипарисами и молитвами.
Аннушка приносит лампу и суетливо бежит на кухню ставить самовар.
– Герошка! Откуда это у тебя? Родственница, что ли? – недоуменно спрашивает солдат, мигнув глазами в сторону Анны.
– Богомолка. Богатая стра-асть! Любит у себя странных принимать… Блажная маненько… Веди себя, Кузьма, только подуховнее! Не любит она пустых речей. Да крестись лучше. Не махай кулаками и не чеши поясницу…
– Ладно. Нечива военного человека учить. Мы все это на практике превозошли…
Вошла Анна. Внесла большой кипящий самовар. Из дедовского сундука вынула расписную посуду с славянскими надписями – для духовных. Пили чай.
– Куды сичас, Геронтьюшка, стопочки свои направляешь? – спрашивает Анна.
– В степи новочеркасские! – елейно отвечает Геронтий, попивая чай с блюдечка. – Монастырек там бедный лежит… так я от игумена подаяние несу… Весь мир хрещеный забыл этот монастырек, Аннушка, и тропочки к нему даже травой заросли…
Геронтий прослезился, всхлипнул и утер рукавом красные глаза. Солдат покосился и про себя подумал: «Поистине дар слезный!»
– По пути зайду к Митрофанию Воронежскому… – закатив глазки, восторженно пел Геронтий, – свечечки за добрых людей поставить надоть… Великий угодник Митрофаний… Любит народ расейский в скорбях к нему обращатися… Такой уж угодник ласковый и до Бога доходник изрядный!..
– Ласковый угодник! – вставил хриплым басом Кузьма, чтобы только не молчать, – у нас в полку икона его висела… Раз погрозило мне начальство за пьянство отдать под суд…
Геронтий ущипнул Кузьму за ляжку, чтобы тот умолк, видя, как Анна неодобрительно покосилась на Кузьму.
– Аннушка, радость моя, я к тебе седни пришел не ради объедения и праздности!.. – опять заговорил Геронтий. – Сам Господь внушил мне, скудоумному, направить к тебе стопы мои…
– Да что ты, Геронтьюшка?!
– В день престольный праздника нашего был я, тихая моя радость, якобы в духе… Не то сон, не то явь причудилась мне, Аннушка… Видел я поле неоглядное, и конца-краю ему нет… А посередь-то поля стоит лествица от земли до небесе, вся из белого камене свияжского… А по лествице-то анделы Божии в ризах златокрыльчатых восходят и нисходят, восходят и нисходят… А вверху лествицы Сам Батюшка Иисус Христос. Ликом из себя светлый, в одежде белым-белее и поясом парчовым опоясанный! Очи Его как свещи горящие; глядит Спас Милостивый на землю, и личико Его думчивое.
А на земле у лествицы стоишь ты, раба Божья Анна, как бы на молитве. И подходят к тебе два андела светлых белоперых близехонько. А они, светлые, взяли тебя под рученьки и повели по лествице…
– Господи Иисусе! – в страхе закрестилась Анна, и на глазах ее зажглись слезы.
– Довели тебя, Аннушка, анделы до средины лествицы… и скрылось видение от грешных очей моих… И не видал я больше ни лествицы, ни анделов, ни Спаса Милостивого…
– Геронтьюшка! Избранник! Растолкуй мне, скудоумной: что сие видение значит? – воскликнула Анна испуганно.
– Вот мое толкование скудоумное, Аннушка… Великая ты предстательница и угодница пред Господом – каждую слезу и вздох видит и слышит Спас Милостивый. Все твои слезы у андела в кадильнице. Все зачтены!.. А все же, Аннушка, радость моя тихая, мало еще ты приложила усердия… Анделы, как сказывал я тебе, довели тебя только до срединочки лествицы… А ты приложи еще усердие, принеси жертву благотворения, и доведут тебя тогда ангелы белоперые до чертога Спаса Милостивого.
– Спаси тя Христос, Геронтьюшка! – шепчет Анна, обрадованная.
– И где ты только, Герошка, так врать научился, словно по писаному?! – восхищенно воскликнул Кузьма. Геронтий и Анна взглянули на солдата укоризненно. В окно глядела ласковая предутренняя синь. Зачинались зори алые, восходные. Пели петухи по-утреннему. У икон устало огоньки теплились.
– Вот тебе, Геронтьюшка, рупь на монастырек бедный, что в степях упрятанный… – наказывала Анна Терентию на прощание. – Рупь на свечи угодникам да рупь вам на дороженьку…
– Покорно вас благодарим! – раскланивался солдат и прикладывал руку к козырьку. – Пошли вам всякого душевного благополучия за доброту вашу андельскую!..
– Спаси Господи, Аннушка, – припевал Геронтий. – дай узрети тебе по смерти рая пресветлого, упокой, Господи, душеньку твою в сенях райских, на прохладных водах упокоения. Прощай, Аннушка, прощай, касаточка, радость моя тихая…
По утреннему холодку, по росной земле весело идут Кузьма Деревняк и послушник Геронтий. По бокам поля зелены. Леса синевеют. Небеса сини. Из-за леса подымается солнце красное. Тихо тают туманы утренние. Звонко поет Геронтий в утренней тихости:
Луги мои, дуги, Луги зелены.Дошли до трактира, что на Макарьевском тракту. Пили. Кузьма, до сего времени относившийся к Геронтию с авторитетной снисходительностью, теперь невольно проникается к нему почтением и после каждого выпитого стакана водки обнимает Геронтия и растроганно бормочет: «Голова ты, Геронтий! С такой головой да с таким даром слезным тебе прямо надо быть игуменом!»
На рубеже
Голубой день. Канун осени. На дороге скрипят телеги, нагруженные ржаными снопами. Ветер колышет соломку, упавшую с воза. Гудят телефонные провода, и каркают вороны.
В монастырь на праздник Успения Божией Матери идут дьякон Филарет, бывший жандарм
Михаил Абрикосов, трактирщик Филат Фаддеев и спившийся учитель Саша Незванов.
Дьякон худой и желтый. Тихое чахоточное лицо, бороденка клинышком, серая пыльная ряска. Ветер развевал ее полы, и видны были солдатские желтые штаны, заправленные в рыжие сапоги. Ушки сапогов наружу. Он шел впереди всех и пел «Царица моя преблагая».
Жандарм в помятой фуражке с поблекшим красным околышем. Всю дорогу он пытался рассказывать анекдоты, но его обрывал дьякон:
– Не бесчинствуй! Памятуй, что в монастырь идем!
Трактирщик в теплом полупальто колоколом и зимней барашковой шапке. За плечами у него котомка. Саша в пиджаке с чужого плеча. На одной ноге у него ботинок, на другой – галоша, привязанная к ноге бечевкой.
– Выпить бы, – вздыхает Саша и подмигивает трактирщику.
– Скоро дойдем до колодца, – говорит дьякон, – там и попьешь за милую душу!
– Пей сам, – хмурится Саша, – Филат Ильич! Вынимай бутылочку. Грех ее в монастырь-то нести!
Трактирщик угрюмо молчит. Жиденьким, грустным тенорком дьякон запевает:
К кому возопию, Владычице, К кому прибегну в горести моей…Трактирщик подпевает и путает, но этого он не замечает и поет во всю силу легких.
– Тише ты, – толкает его жандарм, – голова болит от твоего пения. Шаляпин какой проявился!
– Много ты в пении понимаешь, – сердится Фаддеев, – таких основательных голосов, как у меня, поискать надо!
– У Филата Ильича голос привлекательный, – льстит Саша, – таких голосов поискать надо! – Он дергает трактирщика за рукав и нудно тянет: – Вынимай бутылочку…
Над полями разносится голос дьякона:
– Надежда христиан и прибежище нам, грешным…
Личико дьякона светится умилением, и при взгляде на него все опускают головы и задумываются.
– Ей-Богу, в монастырь поступлю, – вздыхает жандарм, – у меня всегда к нему призвание было!
– Зачем же ты в жандармы пошел? – спросил трактирщик.
– На то была воля Божья, – елейно, как монашек, ответил Абрикосов, обмахиваясь фуражкой, – Сам Господь по великому Своему произволению…
– В жандармы назначил? – смеясь, подсказал Фаддеев. – Эх ты, Богова ошибка!
– А все же хорошо было в жандармах состоять, – немного подумав, сказал Абрикосов, – главное – все боялись! К тому же и форма была великолепная. В почете и сытости существовал!
Навстречу путникам шел старик в длинной линялой рубашке. Сумка, костыль и пыльные сапоги через плечо.
– Куда, дедушка? – спросил дьякон.
– В монастырь, кормильцы! К престольному празднику, поильцы! – визгливо заговорил старик и несколько раз перекрестился.
– Да ты, дедушка, не туда идешь-то!
– А куда же, анделы мои? – с детской улыбочкой спросил встречный.
– В обратную сторону идешь, дед!
Старик радостно изумился, всплеснув руками.
– Значит, я заблудился!? Анделы! Пошел, это, я в монастырь ближней дорогой. Иду, это, я. Ирмосы пою и прочие стихиры. Дошел до перекрестка. Туды, значит, дорога и сюды. Дай, думаю, пойду сюды, и пошел, это, я с молитовкой… Грехи, анделы мои!
– Пойдем с нами за компанию! – предложил жандарм.
– А вы, люди добрые, не обидите меня, старичка— махонького жучка, а?
– Мы не разбойники, а люди благородного сословия, – шмыгнул носом Саша и приосанился.
– Верно твое слово, андел, – осклабился старичок, зажимая в кулак бороденку, – душа-то у вас, может, и андельская, но личности ваши тайны преисполнены. Кокнете меня в кусточке по лысинке, и не станет Кузьмы Ивановича!
Жандарм побагровел от злости и выругался:
– Эк, подумаешь, живность какая! Молчал бы ты, старый крокодил!
Кузьма Иванович испуганно замахал сухонькой ручкой.
– Молчу, андел, молчу! Я это к тому, что, ежели не было бы с вами духовной особи, в жисть с вами не пошел бы. Очень вы на вид сурьезные!
– Ну и старичишка, ну и яд, вот где гад-то ползучий! – не выдержал спокойный трактирщик.
Старичок посмотрел умиленными глазами на дьякона, сложил ладони крест-накрест и проговорил:
– Благослови, батюшка!
Дьякон нахмурился.
– По причине дьяконского сана недостоин преподать благословение, яко иерей.
Кузьма Иванович опять изумился и радостно завизжал:
– И тут обмишурился, анделы мои!
– Не упоминай всуе андела! – строго заметил дьякон. – Какие мы тебе анделы?
Всю дорогу старик рассказывал тоненьким голоском о том, что если бы ему дали образование, то из него мог бы выйти урядник, а то певчий тенор и вообще благородный. Он часто шмыгал носом и сразу же всем надоел.
– Хватит тебе в лапти-то звонить, – проворчал трактирщик, – помолчи маленько!
Последних слов Кузьма Иванович не расслышал.
– Я и спеть могу! Голос у меня хороший. Природный. Моего тятю, Царство ему Небесное, его тятя раз гармошкой по голове ударил, и с той поры пошли у нас в роду певуны да гармонисты!..
Старик набрал воздуха, лихо взмахнул ручкой и пронзительным голосом запел:
Снеги белые пушистые Покрывали все поля…От визгливого пения у дьякона заныли зубы, и он с остервенением крикнул:
– Замолчи ты, дедушка! В монастырь идешь, а песни поешь!
– Я и замолчать могу, – кротко согласился старик, – я все могу!
Дошли до родника, окруженного березами, остановились отдохнуть у прохладных журчащих вод.
– Слава тебе, Господи, – вздохнул Саша и стал помогать трактирщику снимать котомку.
Березы были старые, дуплистые и покрывали землю тихим узорным сумраком.
Путники сели на бугорок, откуда были видны шумящий лес с дымно-зелеными соснами и далекие поля с длинными тенями от ржаных скирд.
Дьякон смотрел на монастырскую дорогу и говорил:
– Бывало, по этой дороге богомольцев шло видимо-невидимо. Шли с молитвой, натощак, без мирских рассуждений… Теперь же богомолец не тот. На паломничество как на гулянку смотрит…
Да, меняется земля. Ходишь по ней и не узнаешь прежнего ее лика…
Дьякон лег на землю, прикрыл лицо шляпой и задремал.
Кузьма Иванович долго смотрел на него и вдруг запел визгливым голосом:
Ангел вопияше Благодатней, Чистая Дева, радуйся!..Дьякон вздрогнул, схватился за щеку и простонал:
– Чтоб тебе сгинуть, непутевая сила!., Опять зубы заныли… Шли мы себе тихо, по-Божьему… Навязался ты нам на грехи и соблазн!
Юродивый старик моргал глазами и сконфуженно шамкал:
– Прости, отец дьякон. Андел во плоти!
К солнечному закату подошли к монастырским стенам. Над зелеными куполами собора витали голуби. Из монастырских врат выходил крестный ход. Под горой раскинулась ярмарка. Около телеги, в луже от ночного дождя лежал пьяный в белой рубахе и лакированных сапогах. Он охватил голову руками и бормотал:
– Пра-а-вильно говорил Иван Златоуст, всем труба будет, ежели никто соблюдать себя не хочет… Себя надо держать в совокупности, и вообще…
– Ты бы, дядя, поднялся из лужи-то, – обратился к нему Саша, – не вольготно, поди, в ней лежать?
– Нетрожьтеменя. Мне и здесь хорошо. Главное – прохладно и людей кругом много. А ты какой губернии?
– Псковской.
– Ха-а-рошая губерния. Правильная. Пойдем ко мне щи хлебать?
– А ты далеко живешь?
– Недалеча. Тридцать верстов с гаком!
К пьяному подошла старуха на костылях:
– Сичас ко всенощной вдарят. Шел бы ты в церковь!
– В церковь я не пойду, – мотает головой пьяный, – Царица Небесная на меня гневается…
– На что же Она, Матушка, на тебя гневается-то?
Пьяный залился слезами:
– Дал я, голубушка, зарок. Пока к образу Царицы Небесной не приложусь – пить алкоголя не буду. Тридцать верст шел к Ней, Заступнице. На последней версте встретил Федьку Горбача. Увидал меня и говорит: «Выпьем, Трофим». Не сдержался я, да и выпил… Не простит меня Заступница.
– Ничего, Троша, – уговаривала старуха. – Она скорбящая, Милосливая, все простит…
Около святого источника сидела монашка и рассказывала обступившим ее бабам, что вокруг монастырских стен ходит Пресвятая Владычица и о чем-то преогорченно плачет.
Бабы слушали и смахивали слезы.
На монастырской звоннице ударили ко всенощному бдению.
Весенний хлеб
В день Иоанна Богослова Вешнего старики Митрофан и Лукерья Таракановы готовились к совершению деревенского обычая – выхода на перекресток дорог с обетным пшеничным хлебом для раздачи его бедным путникам.
Соблюдалось это в знак веры, что Господь воззрит на эту благостыню и пошлет добрый урожай. До революции обетный хлеб испекался из муки, собранной по горсти с каждого двора, и в выносе его на дорогу участвовала вся деревня. Шли тихим хождением, в новых нарядах, с шепотной молитвой о ниспослании урожая. Хлеб нес самый старый и сановитый насельник деревни.
Теперь этого нет. Жизнь пошла по-новому. Дедовых обычаев держатся лишь старики Таракановы. Только от них еще услышат, что от Рождества до Крещения ходит Господь по земле и награждает здоровьем и счастьем, кто чтит Его праздники; в Васильев день выливается из ложки кисель на снег с приговором: «Мороз, мороз! Поешь нашего киселя, не морозь нашего овса». В Крещенский сочельник собирается в поле снег и бросается в колодец, чтобы сделать его многоводным, в Прощеное воскресенье «окликают звезду», чтобы дано было плодородие овцам; в Чистый понедельник выпаривают и выжигают посуду, чтобы ни згинки не было скоромного; в Благовещение Бог благословляет все растения, а в светлый день Воскресения Юрий – Божий посол – идет к Богу за ключами, отмыкает ими землю и пускает росу «на Белую Русь и на весь свет».
На потеху молодежи старики Таракановы говорят старинными, давным-давно умершими словами. У них колесная мазь – коляница, кони – комони, имущество – собина, Млечный путь – Девьи зори, приглашение – повещанки или позыватки, запевало – починальник, погреб – медуша, шуметь на сходе – вечать, переулки – зазоры.
Речь свою старик украшает пословицами и любит похваляться ими: так, бывало, и сеет старинными зернистыми самоцветами. Соседу, у которого дочь «на выданье», скажет:
– Заневестилась дочь, так росписи готовь!
Про себя со старухою говорит:
– Только и родни, что лапти одни!
Соседского сына за что-то из деревни выслали, и старик утешал неутешную мать:
– Дальше солнца не сошлют, хуже человека не сделают, подумаешь – горе, а раздумаешь – воля Божья!
Бойким, веселым девушкам тихо грозит корявым пальцем:
– Смиренье – девушки ожерелье.
Баба жаловалась Митрофану на нищее житье свое, а он наставлял ее:
– Бедная прядет, Бог ей нитки дает!..
Лукерья, маленькая старушка с твердыми староверскими глазами, старую песню любила пестовать.
Послушает она теперешние, вроде «О, эти черные глаза», и горестью затуманится:
– В наше время лучше пели, – скажет со вздохом и для примера запоет причитным голосом:
Ах ты, матушка, Волга-реченька, Дорога ты нам пуще прежнего, Одарила ты сиротинушек Дорогой парчой, алым бархатом, Золотой казной, жемчугами-камнями… И вдолгу-то мы перед матушкой, И в долгу большом перед родненькой.К выносу на дорогу «обетного хлеба» Митрофан и Лукерья готовились с тугою душевной. Вчера Лукерья собирала по всей деревне муку для «обычая», но никто ничего не дал, только на смех подняли.
Рано утром в избе Тараканова запахло горячим хлебом. Пока он доходил в печи, Митрофан стоял перед иконами и молился.
В полдень стали готовиться к выносу. Хлеб задался румяным и наливным. Старуха перекинула его с руки на руку и сказала:
– Хышь на царскую трапезу!
Старик постучал по загаристой корке и высловил:
– Сущий боярин!
Хлеб положили на деревянное блюдо, перекрестили его и покрыли суровым полотенцем. Старик принял его на обе руки. Лукерья открыла дверь и сказала вслед:
– Как по занебесыо звездам несть числа, дак бы и хлебушка столько добрым людям…
Митрофан пошел по деревенской улице. Он был без шапки, с приглаженными волосами, с расчесанной на две стороны бородою, в длинной холщовой рубахе. Концы полотенца с вышитой занизью свисали до земли, как дьяконский орарь.
Парни и девки, стоявшие у раскрытых окон Народного дома и слушавшие радио, увидев Митрофана, засмеялись. Подвыпивший парень в манишке и сползающих манжетах махнул старику бутылкой водки и надсадно хамкнул:
– Гони сюда закуску!
Старик остановился и степенно ответил:
– Не смейтесь, ребятки! Хлеб Господень несу!
Митрофан дошел до перекрестка и остановился. Дороги были тихими, прогретыми майским солнцем. Веселой побежкой гулял ветер, взметывая золотистую пыль.
От запаха ли пыли, пахнувшей по весне ржаными колосьями, или от зеленой зыби раскинувшегося ржаного поля Митрофан стал думать о хлебе:
– Даст ли Господь урожай?
Вспомнились прежние градобития, неуемные дожди, иссушающий зной, и во рту становилось горько, а хлеб на руках потяжелел. Солнце играло с ветром. Митрофан залюбовался их игрою и сразу же осветился:
– Ничего, – сказал нараспев, – Микола Угодник умолит, вызволит мужика из беды… Он, Микол а-то, по межам ходит, хлеб родит, да и к тому же в Крещенье снег шел хлопьями, а это всегда к урожаю…
На автомобиле проехали городские люди. С широким удивлением посмотрели на бородатого высохшего старика, стоявшего у дорожного вскрая: откуда это древнее видение? Кого он поджидает с хлебом-солью среди пустых полей?
Мимо старика проехал велосипедист в кожаной куртке и таких же штанах. Он остановился и спросил:
– Ты, старина, зачем тут стоишь?
– Бедных зашельцев поджидаю…
– А это для чего?
– Хлебушком хочу с ними побрататься… Обычай такой у нас… старинный… штобы, это, Господь за нашу милость урожай хороший послал…
Велосипедист покачал головой. Время уходило за полдень, а из нищей братии никто не показывался. Это начинало тревожить Митрофана.
– Плохой знак… недобрый… Не посылает Господь ни одного доброго человека… Вот что значит одному-то выходить с хлебом!.. Пошли бы, как встарь, всей деревней, Господь-то и услышал бы.
От усталости Митрофан присел на придорожный камень и задумался. Думы были тяжелые. Чтобы не так больно было от них, он старался
дольше и глубже смотреть на поля. Несколько раз повторил:
– Своя земля и в горсти мила!
В думах своих не заметил, как мимо прошел человек в рваной «чернизине» и босой. Митрофан прытко поднялся с камня и крикнул вслед:
– Эй! Поштенный! Остановись!
– Чево? – повернулся прохожий.
– Вы из нищих? – радостно спросил старик, приближаясь к нему с хлебом.
Прохожий плюнул и выругался.
Подойдя поближе, старик признал в нем скупого лавочника из Верхнего села.
Почти до вечера простоял Митрофан на перекрестке и никого из нищей братии не дождался.
Икона
Все было седое: колокольня, иконы, ризы и батюшка с дьяконом. Недавно стал седеть и псаломщик. Церковь стояла на окраине большого портового города. Из-за густых деревьев, осенивших церковный двор, города не слышно было и не видно. На дворе росла густая некошеная трава – здесь она казалась тише и святее, чем в городских садах. Церковь и тихие служители ее обладали даром вносить в жизнь загородного прихода душевное упокоение и неизъяснимый уют. Про настоятеля церкви отца Захария – высокого и светлоликого – говорили, что он святой жизни человек и молитва его доходна до Бога. Дьякон Иероним – коренастый, пышноволосый, окающий по-новгородски – тайную милостыню творил. Псаломщик Влас Никанорович, – худощавый, с бакенбардами и усами, как у Александра II, – любил выпить, но никто не осуждал его за слабость, так как был душевным человеком и хорошо читал шестопсалмие. Все они были вдовыми. Жили тихо – как трава растет. Газет не читали и к мирской жизни не прислушивались. Были простыми, созерцательными и по-святому восторженными.
Так бы и прожили они в спокойных своих горенках, если бы не одно прискорбное обстоятельство, от которого батюшка с дьяконом ушли в молчание, а псаломщик запил «мертвую».
Дело было так. Говорит как-то отец Захарий дьякону:
– Отче Иерониме! Ты ничего не знаешь?
– В чем дело, отец протоиерей?
– Ожидает нас небывалое в жизни прихода нашего пресветлое торжество!
– Архиерейская служба?
– Не то, дьякон. Грядущее торжество сие – иного чина. Через месяц старосте нашему Павлу Ефремычу исполняется десятилетие служения его приходу!
Дьякон вытаращил глаза и неизвестно отчего перекрестился.
– Ска-а-жите на милость, – прогудел он, – выражаясь гражданским штилем, юбилей, значит?
Выходит, по правилу, ознаменовать надо сие событие!
– Истина во устех твоих, отче дьяконе! Обязательно ознаменовать! Но как?
– Просить владыку-митрополита представить Павла Ефремыча к ордену, – предложил дьякон, – молебен отслужить, слово сказать, приличествующее сему случаю, большую проскомидную просфору преподнести и многолетие закатить по-малинински!
– Верно слово твое, но не маловато ли это? Все же десятилетие. Надо бы еще такое, отчего на всю жизнь взыграла бы душа Павла Ефремыча.
– Ну а что же еще?
– Знаешь, отче дьяконе, – просиял батюшка от какой-то мысли, – поднесем ему икону святого и всехвального апостола Павла. Дар этот будет душевный и на всю жизнь памятный. Орден-то он спрячет и забудет, а икона-то висеть будет на почетном месте… Лампадка перед ней… Взглянет Павел Ефремыч на Божий огонек и скажет: «Ай да молодцы причт и прихожане Покровской церкви! Ишь каким благим даром ублажили меня, грешного!» Нет лучше иконы, дьякон!
На этом и порешили.
На другой день, с утра пораньше, пошли они по приходу с подписным листом: «Пожертвуйте, православные, от щедрот своих на поднесение иконы старосте нашему».
Несказанно были удивлены они, когда в первом же антикварном магазине нашли икону апостола Павла, письма тонкого и величавого. Как живой, стоял перед ними исповедник Христов, окаймленный резным ореховым киотом, – работы тоже тонкой и вдохновенной.
Выходя из магазина, дьякон восхищался:
– Вот это дар, всем дарам будет дар!
Псаломщик, увидев икону, всплеснул руками и замер.
– Воистину, Сам Господь водил рукой иконописца! – сказал он.
Наступил день чествования старосты. После многолетия, волнуясь и запинаясь, обратился батюшка к старосте с приветственным словом.
Зарумянившись от смущения и тайной гордости («вот-де какой дивный дар»), поднесли старосте икону. Тот небрежно принял и сразу же передал ее церковному сторожу: отнеси ко мне на квартиру!
Вечером дьякон и псаломщик пили чай у отца Захария.
– Ну, слава Тебе, Господи, – говорил батюшка, попивая чай с блюдечка, – торжество у нас было незабываемое!
– А вы обратили внимание, отец протоиерей, – спросил дьякон, – как тронут был Павел Ефремыч? Он до того переконфузился, что даже икону не поцеловал и прихожан не поблагодарил… Вот как мы его проняли!
– Хороший дар сделали, Божеский! – кивал головой псаломщик. – Редчайшее художественное творение!
Во время чаепития пришел к батюшке посланец от Павла Ефремыча с большим пакетом в руках.
– Не подарок ли нам в благодарность? – шепнул дьякон псаломщику.
Посланец подал батюшке письмо. Батюшка улыбнулся.
– Наверное, благодарственное? – сказал он. – Ах, бесстыдник Павел Ефремыч! Ну к чему это? Разве важно сие?
Отец Захарий пробежал глазами письмо и смутился. Лицо его стало красным и потным.
– Братия моя! – прошептал он. – Что же это такое? Послушайте, о чем пишет-то Павел Ефремыч!
«Премного благодарен за ваш душевный дар, который есть икона. Но ввиду того, что в квартире нашей модный стиль, который прозывается модерн, красного дерева, мы, по размышлению с супругой моей, не можем этую икону повесить в комнатах, так как означенная икона к мебели не подходит. Ибо она, мебель, красного дерева, а киот иконы ореховый, а поэтому жертвую пожертвованную Вами икону в храм на предмет возжжения перед нею неугасимой лампады за мое и супруги моей здравие».
Старый причтовый дом загрустил. Понял отец Захарий, что жизнь стала не та, и люди не те, и все, что было хорошо в прошлом, не имеет цены в настоящем. Все чаще и чаще стал задумываться отец Захарий. Раньше, бывало, улыбался, а теперь нет. Вечерним часом сядут с дьяконом на ступеньку крыльца и оба о чем-то думают. Покачает головой отец Захарий и скажет:
– Да… да… стиль модерн… Вот оно дело-то какое… Модерн!..
Сумерки
Григорий Семенович, шурша валенками, ходил из угла в угол, сморкался в красный клетчатый платок, останавливался перед дочерью, пудрившей лицо, и говорил ей тяжелым голосом:
– Лампадку ты не затеплила. Обедню проспала… Посты не соблюдаешь… Спать ложишься, Богу не молишься… Рази ты не восчувствуешь, Леночка, что это грех неотмолимый?
– Надоели вы, папенька, хуже горькой редьки, – вспылила дочь и ушла из дома, крепко хлопнув дверью.
Григорий Семенович молча потоптался на месте, покачал головой и кряхтя сел в старое кресло, стоявшее под иконами. В этом кресле тридцать лет тому назад изволил сидеть епископ Никандр и кушать чай. В те времена Григорий Семенович был купцом первой гильдии и церковным старостой.
Обмахнув платком лицо и заложив за ухо спутанную прядь волос, он тоскливо произнес:
– Леночка! Леночка!
На душе было тревожно.
– Без Бога хочет обойтись, глупая… – шептал испуганным шепотом. – Да рази это мыслимо?
В окна старого купеческого дома видна была удаляющаяся Леночка, в дымно-сиреневых сумерках уходящего июльского дня. Светлый костюм, красная шапочка, прядка волос, позолоченная закатом… Она шла быстро, какой-то вихлястой походкой, и отцу это не нравилось.
Жизнь Григория Семеновича не радовала. Все изменилось к худшему. Даже в церкви – тысячелетнем доме Господнем, где все должно быть незыблемо и крепко, он находил большие перемены. Священники служили не по уставу, певчие забыли старинное пение, звонари не умеют трезвонить как в старое время, православные проходят мимо церкви и не осеняют себя крестным знамением. Молодежь тоже пошла не та: шумная, говорливая и мелководная. Не стало девушек с опущенными ресницами, длинными косами, тихими светлыми взорами. Язык людей раздражал Григория Семеновича. Не стало хороших русских слов, круглых и румяных, как яблоки. С руганью отплевывался он от всяких там «мерси», «извиняюсь», «абсолютно», «пардон», «мадам».
Все употреблявшие эти слова для него были еретиками, безбожниками и свистоплясами.
По каким-то признакам он даже определил, что и земля стала пахнуть не так, как прежде.
В горнице, заставленной тяжелой и пыльной мебелью, ему показалось душно. Он вышел на улицу. Был теплый, певучий вечер. Над вершинами лип кружились звонцы. В окнах форштадтских домиков[6] мерцали блики румяных зорь.
За рекой играли на гармошке, и в лихих ладах ее слышались отзвуки затуманенной старины.
Григорий Семенович сел на скамейку около дома с высоким узорным крыльцом и стал смотреть, как из соседнего трактира два человека вышибали форштадтского пьяницу Афоньку.
По улице бежала золотистая пыль. У общественного крана откачивали пьяного, По дороге шла монашка-сборщица. На крыльце соседнего дома сидела старуха и бросала голубям хлебные крошки.
– Рррасшибу, – кричал Афонька зыбким от пропоя голосом, – у меня сибирская кровь!.. Ррраз…
Послышался звон разбитого стекла и вслед за ним свисток полицейского.
По домам обносили чудотворную икону, прибывшую из соседнего женского монастыря. На зеленой улице с низкими сонными домиками и одичалыми садами раздавалось грустное монашеское пение. За осиянной от золота иконой шли четыре женщины в платках. Впереди нахмуренный монах в пыльной ризе и монашка с фонарем.
В этом бедном шествии не было прежнего величия, и редко кто снимал шапку перед монастырской святыней.
Все это было свое, близкое до слез, пахнувшее прошлым, но беднее красками, без улыбки и без румянца.
Мимо Григория Семеновича проходили соседи по форштадту, но почтительно кланялись ему лишь старики, помнившие его богатым, тороватым купцом и что у него когда-то преосвященный владыка изволил кушать чай. По-прежнему, как и встарь, он сурово кивал им головой, выпятив нижнюю губу для солидности.
Сегодня почему-то особенно хотелось с кем-нибудь поговорить, посетовать на жизнь и вспомнить давно прошедшее время с горластыми протодьяконами, многолюдными крестными ходами, лихой купеческой гульбой, строгими великими постами, большими русскими дорогами и вихреподобными тройками.
– Ну, к кому пойти, – раздумывал он, наморщив высокий тяжелый лоб и разглаживая седую купеческую бороду, – все приятели мои давно упокоились. Ежели есть какие-либо старики на форштадте, так они звания слишком низкого, и мне, бывшему купцу первой гильдии и церковному старосте, зазорно ходить первому…
С реки подуло стальной свежестью. Григорий Семенович перекрестился на купол монастырского подворья и вернулся домой, к своему креслу и своим нахмуренным думам…
Сидя в темноте, озаренной алыми лампадами, он подумал, как хорошо бы иметь сейчас понятливого, слушающего человека. Григорий Семенович по-детски всхлипнул.
– Нет ни одного человека… Даже Леночка… Плоть от плоти моей и кровь от крови моей, не может понять меня.
Заплаканными глазами он стал смотреть на портрет покойной жены, вспоминая прожитую с ней жизнь, на литографию Александра III в царской короне и на увеличенную фотографию епископа Никандра в клобуке и при орденах.
Неожиданно для самого себя, он заговорил с ними вслух:
– Вот видите, дорогая супружница моя Настасья Даниловна, ваше императорское величество и ваше преосвященство, какая теперь жизнь наступила постылая… Мир гибнет, владыка святый!
От мертвых, суровых ликов царя и епископа он перевел глаза на портрет жены и тихо, с теплой скорбью, от которой было ласково, сказал взволнованным шепотом:
– Голубка моя… Пойми ты меня… Трудно мне стало по земле ходить… Поклонись, матушка, Царю Небесному в ноженьки, чтобы взял Он меня на Свои рученьки и к прадедам и дедам причтил бы… А Леночка-то наша, девонька-березынька, от рук отбилась и от Бога отрекается!..
За окнами плыл звенящий июльский вечер. Григорий Семенович прислушался к нему и подумал: такой же синий вечер был в его детстве, когда он босоногим мальчуганом Гришуткой торговал вразнос яблоками, и в его юности, когда он признался в любви Настеньке, и теперь, в его снежной старости, таким же он будет до последнего дыхания земли…
Вечер остался неизменным, как и прежде, радовало это Григория Семеновича горькой радостью.
Падающие звезды
В старой беседке, пахнущей яблоками, сумерничали сторож Семен – седовласый, бровастый, в полушубке; бобылка Домна, скрюченная старуха с замученными глазами; работник Захар, только что выпущенный из солдат, и пастушок Петюшка – мальчик лет двенадцати с вымазанными дегтем ногами (чтобы не прели).
В разбитое окно беседки видны были река в дымке осенних сумерек и широкий фруктовый сад в золоте и ржавчине осеннего убора. По саду пробегал упругий ветер, и было слышно, как полновесно падали яблоки.
В беседке говорили о жизни.
– Жизнь прожить – не поле перейти, – рассуждал Петюшка, выбирая в корзине яблоко, – сразу в обнимку ее не возьмешь. За ней поухаживать надо, как парень за девкой. Я уже, почитай, с самой зыбки на земле маюсь и уже успел хватить шилом патоки, Я теперича все превзошел! Вот ты, бабушка Домна, все плачешь да хрундычишь: «Ох, тошненько, и зачем меня мать на свете родила», Таких плакс жизнь не любит. Ежели нюни распустишь, тебя и шибанет жизнь под самое сердце,,
– Да как же не плакать-то, головастик ты мой, – всхлипнула Домна – когда забыла меня Царица Небесная. Весь свой век по чужим дворам мытарюсь. Из побоев, попреков да слез я сшита!
– Так, говоришь, ты тоже лаптем щи хлебал? – спросил Петюшку сторож, раскуривая трубку.
– Было и так, что не только щей, но даже и лаптей-то у меня в помине не было. С апреля и до первого снега всегда босиком ходил!.. – Он в задумчивости поиграл яблоком, подбросив его, как мячик, и сказал: – Я так полагаю, что жизнь у нас не в пример тяжелыпе вашей. Вы жили на солнышке, а мы на ветру и на вьюге. Вы того не знали, что мы теперь знаем.
– Это правильно, – согласился Семен, – ребята ноне шустрые пошли!
– Сколько же тебе лет-то, Петруша? – плаксиво спросила Домна, слушавшая его с раскрытым ртом. – Уж больно ты заголовистый да вумный!
– С Петрова дня тринадцатый пошел. Дело, бабушка, не в летах, а в умственности. Иному и шестьдесят лет, да разума нет. Борода с ворота, а ума с калитку!
– Это ты, Петька, не про меня ли? – пробурчал сторож, пощупав широкую бороду, – мне как раз ноне шестьдесят стукнуло!
– А разум у тебя есть? – промерцав глубиной своих больших глаз, спросил Петюшка.
– Знамо дело, есть.
– Ну, значит, я не про тебя. Расти бороду дальше…
Работник, откусив яблоко, фыркнул и чуть не подавился. Семен нахмурился и погрозил Петюшке пальцем.
– Ты над бородой не смейся. Все святые угодники с бородой ходили!
Петюшка не стерпел, чтобы не спросить с язвинкой:
– Ты, дедушка Семен, тоже святой?
Работник раскатился таким ядреным хохотом, что тихая Домна вздрогнула и прошипела:
– У, леший, чтоб тебе рассыпаться!
Сторож рассердился и ушел из беседки, хлопнув дверью.
Было слышно, как ворчал он среди яблок:
– Шалыганы! Лаптизвоны! Наживите свою бороду, тогда и зубья скальте!
Когда остыли от смеха, то в беседку вошла тишина, и острее запахло яблоками.
Петюшка посмотрел в окно, за которым кружился листопадный вечер, цепляясь за реку, яблони, заречную мельницу, и вздохнул:
– Скоро и солнцу конец. Пойдут дожди, а там снег, сани, мороз да вьюга!
– Спаси, Господи, и помилуй, – перекрестилась Домна и согнулась еще ниже.
Помолчали и все подумали о солнечных разливах на полях, о золотистом колебании ржаных колосьев, о теплых пыльных дорогах, по которым так хорошо ходить босиком, о рассыпанных по траве росинках, о румяно-яблочных утрах и медовых песенных вечерах с коростелями, зарницами, неугасными зорями.
– Скоро, поди, Петюшка, уйдешь от нас? – спросил работник.
– Недельки через две, а то и раньше!
– Что же ты, болезный, делать-то будешь? – пригорюнилась Домна.
– Жить буду. Получу я за пастушество пять мешков картошки, капусты, огурцов, сукна на костюм, денег и пойду в город. Там газетами буду торговать, а может быть, и в школу поступлю. Хочу в ремесленную. В наше время ремесло надо знать.
– А чей ты будешь? – опять спросил работник затуманенного сумерками Петьку.
– Ничей. Сам по себе. Ни отца, ни матери не знаю. Я уже давно один живу.
– Си-и-ротиночка… – по бабьей своей жалости протянула Домна.
– И тебе не жалко, что ты один на свете мытаришься?
– Не. Я уже большой.
В это время пришел Семен, потирая руки от вечернего холода.
– Зябко, – сказал он и уселся на полу.
– В жизни я не пропаду, – продолжал Петька, – у меня метинка есть!
– А где она, эта метинка-то? – спросил сторож.
– Тута вот!
Петька показал на подбородок. Все молча пощупали свои подбородки и вздохнули.
– А у нас и нет этой метинки… Вот жалость-то, прости Господи!..
Окно беседки стало черным, и по небу побежали звезды. Работник хрустко зевнул и сказал:
– Пора на боковую!
Все вышли на крыльцо и молча посмотрели на шуршащий сад и на небо, по-осеннему просторное, пронзенное четкими звездами.
Одна из звезд оборвалась с неба и ярко упала. Домна вздохнула и перекрестилась:
– Чья-то душенька с телом рассталась… Помяни ее, Господи, в селениях райских…
Работник и Домна, шурша опавшими листьями, пошли к дому. В саду остались лишь Семен да Петюшка.
– Тебе не холодно босиком-то?
– Не. Я закаленный!
Перед сном обошли все дорожки сада. Около беседки, в которой они ночевали, Петюшка остановился.
– Дедушка Семен, ты меня прости, что я над твоею бородой надсмеялся.
– Ну, ну, ладно, Петюшка. Так, говоришь, что ты с метинкой родился?
– С метинкой, дедушка.
– Не пропадешь в жизни?
– Ей-Богу, не пропаду!
– Ну, дай тебе Царь Небесный всякого на земле благополучия. Только не будь в жизни спорым. К жизни надо подходить тихонечко, как к горячей лошади. Помни стариковскую заповедь: «тише едешь, дальше будешь».
Петька помолчал немного и строго возразил:
– По моему разумению, дедушка, в жизни надо быть горячим и быстрым. Тихо ездить никак не возможно. Тише поедешь, каждый тебя обогнать может. Теперь даже и курица быстрее ходить стала. Пойди она как в твое время, так ее машина раздавит.
– И то правда, но все же стариков слушать надо!
– Ты меня, дедушка, прости, но я размышляю так: стариков слушать надо, но поступать по-своему!
Семену хотелось обидеться на Петькины слова и дать ему подзатыльника, но вместо этого погладил его по голове и подумал: «Как бы не напутать ему в жизни своими советами. Ишь он каким заголовистым уродился! Помолчу лучше…»
А вслух заметил:
– Это ты… насчет этих смыслов правильно рассудил…
Когда Петюшка заснул в беседке рядом с яблоками, то Семен долго сидел около его изголовья и думал: «Жизнь-то, Господи, как шагнула! Ребята-то ноне как старики рассуждать стали. К лучшему это, Господи, али к худшему? Ишь ты, шалыган, – тихо улыбался Семен, – иному, говорит, и шестьдесят лет, да разума нет!..»
В окно было видно, как по небу промерцала падающая звезда. Вспомнились слова Домны: «Чья-то душенька с телом рассталась…»
– Так и мы, как эти звезды-паданцы… Посветили на Божьем свете, и хватит. Пусть зреют новые звезды… Все должно иметь место свое и черед свой… А мальчонке-то, поди, зябко спать…
Семен снял с себя шубу, покрыл ею уснувшего мальчика и с содроганием подумал, что он согревает новую жизнь, нежное семя Господне!..
– Спи, Петюшка, спи, заголовистый мужичок!
Юродивый Глебушка
Дурачок, или, как мать прозывает, Божий рощенник, Глебушка – отрасль оскудевшего купеческого древа. Недавно в ночлежном доме умер от пьянства родитель его Илья Коромыслов, бывший владелец винокуренного завода. На старом загородном кладбище стоят тяжелые гранитные памятники, под которыми упокоились гремевшие когда-то на всю губернию своим богачеством и диким озорством Глебушкины предки.
Плывучая людская молва твердила, что прадед Глебушки со своими сынами держали постоялый двор на проезжей дороге, опаивали смертным зелием заночевавших постояльцев, грабили их, а тела якобы бросали в глубокие болотные трясины. В десяти верстах от города, в синих лесных затишниках лежат эти болота и прозываются «Мертвецкими». Старожилы города, проходя мимо надгробных памятников, останавливаются и читают высеченные на них Христовы слова: «Блажени плачущий, ибо они утешатся…»
– Ишь ты, плачущий! – бурчат старики, раздумно поглаживая бороды. – Знаем, знаем, о чем плакал старый черногрешник… Забеременевшую дочку свою ножищами по животу топтал и в погребе на цепи ее держал… Там она, страстотерпица, и померла в затемнении разума…
Старики показывали на могилу замученной девушки, зарытой по приказу отца вне фамильной ограды, у кладбищенской стены, рядом с крапивой и бурьяном. Над ней обветрившийся осьмиконечный крест, склонившийся набок. Долгое время на кресте была надпись: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», и слово «утроба» было написано крупными буквами.
Старики читают другую надпись на фамильной гробнице: «Блажени милостивии, яко тии по-миловани будут…»
– Знаем, знаем этого милостивца, Карпушку Коромыслова! Не одну душу по миру пустил! По слезам да кровушке людской, как по ковру, ходил да еще посвистывал,, милостивец этот!
«Блажени чистии сердцем, ибо они Бога узрят».
– Ну, навряд ли этот узрит! Завод поджег, чтобы страховку получить. Во время пожара десять человек работников сгорело… Страшенный пожар был! Спирт горел. На каторгу не угодил! Краснобаи адвокаты спасли. Но от людского суда спасся, а Божьего не избег!., Пьяным упал в негашеную известь, когда новый завод строил…
Последним лежал здесь спившийся Илья Коромыслов. Памятника над ним не было. Упокоился под простым, слаженным самоделкою крестом из тонких березовых стволов…
Старики крестились на эту могилу и тихо поминали:
– Дай ему, Господи, легкое лежание! Этот нищетой да слезами омыл себя перед Богом… Добрый был! Бедноту да голь кабацкую ублажал – все до згиночки им отдал! Нищим по рублю давал. Ночлежный дом построил и сам же туда попал, когда в одних опорках и кафтанишке остался. Напьется, бывало, пьяный и всем проходящим в ноги кланялся: «Помолитесь, – говорит, – за грешный, окаянный род наш!»
Да, оскудел род, оскудел… Вьюгой прошумела знатная фамилия! Вот уж истинно сказано: «Богатство – вешняя вода, пришла и ушла». Остался лишь маяться на земле за грехи родительские Глебушка скорбноглавый!..
Глебушка питается Христовым именем. В стужу ночует с нищими в ночлежном доме, а летом на церковной колокольне, в поле, в городском саду, а раз видели его поутру свернувшимся калачиком около могилы отца. Глебушке за тридцать лет. Лицо обветренное, широконосый, брови срослись, рот разинут, голова нестриженая, на щеках и подбородке золотистая поросль, около виска сизый желвак. Ходит по улице, руки по швам, часто останавливается и к чему-то прислушивается, склонив голову на левое плечо. Тихо про себя улыбнется, погрозит кому-то пальцем и опять пойдет солдатским шагом, отдавая честь встречным городовым и солдатам. Зиму и лето всегда в кафтанчике синего поблекшего сукна, опоясанный веревкой. На голове подаренный кем-то в насмешку высокий дырявый цилиндр, на ногах тяжелые опорки от мужицких сапог. Любит провожать покойников на кладбище и плачет по ним навзрыд, кто бы они ни были, знакомые или чужие.
Ближе сошлись мы с ним в церковной ограде. Он сидел на земле и затаенно следил, как по травинке поднимался муравей. Ни с того ни с сего вдруг захлопал в ладоши, с урчанием ухмыльнулся и запел тонким причитывающим ладом:
Чинер бачир, приходите на чир, А кто не был на чиру, тому волосы деру. Шапка кругла, все четыре угла, Сюды угол, туды два, Посередке кистка…Увидал меня, высунул язык и заржал:
– Э-эй, Гомзуля!
– Ты чего дразнишься?
– Я тебя не дразню, а здоровкаюсь!
Глебушка встал на четвереньки, подбежал ко мне и запрыгал вокруг, высоко вскидывая ноги:
– Я лошадь!.. Фрр. Садись на меня! Дюже прокачу! – закричал он по-извозчичьи.
Мне это понравилось. Я сел к нему на спину, и он катал меня по церковной ограде. Как настоящая лошадь, фыркал, лягался, даже ел траву, наклоняясь к ней широким слюнявым ртом.
Утомившись от игры, сели с ним на траву, в затишь широкой липы.
Я спросил его:
– Скажи, Глебушка, а правда это, что твой дедушка дочку свою ногами затоптал?
– Правда! – ответил он с какой-то лихостью, – по животу топтал, а потом в подвал бросил! Ее там крысы грызли!.. Она там ребеночка выкинула… мертвенького…
– Сволочь твой дедушка! – неожиданно сорвалось у меня озлобленное слово. – Теперь, поди, чертяги на его пузе пляшут!
Глебушка задумался, а потом сказал с расстановкой, охватив руками ноги:
– Навряд ли его часто мучают… Я за него Господа молю. Всю ночь молю, до самой зари… На меня тятенька заклятье наложил: «Молись, говорит, за род наш! Ты, говорит, блаженный, в обнимку с Христом ходишь!» – Глебушка ткнул себя пальцем в грудь. – Это я блаженный! Меня Христос обнимает, как Своего сродственника… – Помолчал, всмотрелся в меня и добавил: – Ты и все, которые кругом, ничего про меня не знают… Они только дурость мою знают, а вот что со мною Ангелы по ночам беседуют и хлеб-соль мы вместе разделяем, про то люди не ведают!..
Он подполз ко мне ближе и, по-святому улыбаясь, тонким, тонким шепотом, сине вспыхивая засветившимися вдруг глазами, не похожими на его всегдашние, юродивые, забормотал, словно в тихом прозрачном полусне:
– Приходят они тихие-претихие… белые, как церква наша… и блесткие, как батюшкины пасхальные ризы… Придут, это, и сядут со мною рядом… хлебушка положат…
– Они к тебе в ночлежку приходят? – перебил я Глебушку.
– Не. Туда они не приходят! Там греха много, а приходят, когда я в поле ночую… Спервинки мне страшно было созерцать их, а потом ничего, привык. Они простые, все тихие, душевные… До самой зари сидим мы под кусточками, хлеб небесный вкушаем… (во, где вкусный-то!) и беседуем.
– О чем же вы беседуете?
– А ты никому не скажешь?
– Вот те Христос! – сказал я, перекрестясь.
Глебушка покачал головой и укоризненно заметил:
– Так все клянутся и клятву свою расторгают… Ты поцелуй еще подножие Божие, землю Его, тогда поверю. Клятва сия страшная, и кто разрешит ее, молнией будет опален!
Я встал на колени и поцеловал землю.
– Ангелы мне сказывали, – начал он потаенно, – что наша земля огнем сгорит. Много прольется крови. Слез будет! (Глебушка закрыл лицо руками, судороги пошли по его телу.) Могилушек сколько будет!.. И-их! И все без крестов, без отпева… Люди от скорби руки грызть станут… Голод в обнимку с чумой пойдут и песни развеселые запоют… Доведется человеку есть человечину. Плач будет и скрежет зубовный… – Глебушка не выдержал и заплакал. – Ой, жалко! Ой, Господи, жалко! Детушек маленьких есть будут! Деревца, цветики, травушку, зверушек и птичек жальче всего… Они тоже гореть будут. За грехи людей муку примут! И вот говорят мне Ангелы: «Раб Божий Глеб! Иди к царю и митрополиту и упреди их… Пусть облекутся во вретище и с народом своим на землю упадут и покаются…»
– И ты пошел?
– Да. Пять ден шел. Увидел я Санкт-Петербург и заплакал…
– Отчего же?
– Сам не знаю. Жалко мне его почему-то стало… Дошел до Казанского собора, сел на ступеньку и реву… Господин городовой ко мне подошел. Спрашивают: «Об чем ты тужишь?» Я отвечаю ему: «Петербург мне жалко!» Взяли меня под ручку и повели в участок. Там допрос. Я им сказал, что меня Ангелы послали к царю и митрополиту сказать одно тайное слово… Переглянулись, это, они и сказали: «Хорошо. Мы тебя сейчас доставим!»
– Ну, и доставили?
– Посадили меня в карету и повезли. Остановились у большого дома. Входим, это, мы. Сейчас, думаю, царь с митрополитом выйдут… Я им в ноженьки поклонюсь и все расскажу, что мне Ангелы наказали… Ждал я, ждал…. Несколько ден ждал, неделю, да еще… месяцы прошли… Опосля я уразумел, что это не дворец, а дом для умалишенных…
В жизни я всегда кротким был, а тута кричать стал, в стенку головой биться, на служителей с кулаками бросаться. На меня смиренную рубашку надевали, с длинными серыми рукавами…
Стра-а-ш-ная!.. Потом утишился я… Выпустили меня на свет Божий…
Но я еще дойду… Завет Ангелов исполню, – сказал Глебушка, помолчав, – надо уберечь землю от гнева Божьего!..
Он замолчал. В задумчивости покрутил травинку меж пальцев, нахлобучил свой цилиндр, поднялся и пошел юродивым шагом по тихой церковной траве к выходу на шумную городскую улицу. Спина Глебушки осветилась уходящим солнцем. Вспомнились слова его: «Меня Христос обнимает, как Своего сродственника».
Московский миллионщик
По воскресным и праздничным дням стояли на паперти собора в чаянии милости два старика нищих. Один – высокий, бородатый, слепой, в замызганном коротком полушубке, в пыльных исхоженных сапогах. Другой – низкорослый, седой, губастый, с колючими веселыми усами и всегда в подпитии. Первого величали по-почетному Денисом Петровичем, а второго забавным прозвищем – дедушка Гуляй.
Отец, указав как-то на них, горько сказал мне:
– Да, жизнь трясет людьми, как вениками! Истинно сказано в акафисте: «красота и здравие увядают, друзья и искренние смертью отъемлются, богатство мимо течет…» Вот стоит на паперти и руку Христа ради тянет Денис Петрович Овеянников. Лет тридцать тому назад на всю Москву и окрест страшенным был богачом! Старостой в Успенский собор выбирали, с губернаторами и архиереями чаи пил, на лучших рысаках катался, но… не удержал голубчик волговую свою силу. Все миллионы на дым пустил. Во весь неуемный лих размытарил их по московским кабакам да притонам…
– А кто такой дедушка Гуляй?
– Богоносная душа! Главный приказчик Дениса Петровича. Когда разорился и спился господин его, то он не оставил оставленного, а пошел вместе с ним странствовать, крест его облегчать, слепоту его пестовать. Есть еще, сынок, братолюбцы на земле!
Однажды Денис Петрович в ожидании обедни сидел в соборной ограде и незрячими глазами своими тянулся к солнцу, ловя тепло его. Дедушки Гуляя не было. Бывший московский миллионщик был тих и как-то благовиден озаренным лицом своим, разветренными снеговыми волосами, смиренными руками, положенными на колени, и жалостной слепотой своей.
Я сказал ему:
– Здравствуй, Денис Петрович.
И он ответил тихим приветным голосом:
– Христос спасет…
Не знаю почему, я сразу же спросил его:
– А тебе не жалко, что ты всего богатства лишился?
Денис Петрович улыбнулся и ответил мне, как большому, мудреными древними словами:
– Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время сберегать и время бросать. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа!
Он не оглянулся даже на звук моего голоса, и мне показалось, что ответил он греющему его солнцу.
В это время пришел дедушка Гуляй. Он принес старику хлеб и две копченых рыбки.
– Кушай, хозяин! – сказал он веселым, каким-то гулевым голосом, садясь рядом. – Обедня сегодня долгая. Подкрепись! Только поп да петух не евши поют, а нам невмоготу…
Дедушка помог хозяину вычистить рыбу, положил ему на ладонь, сбегал в церковную сторожку за кипятком.
– Городской голова сегодня именинник, – докладывал он, поднося чашку к губам Дениса Петровича, – двугривенный нам, раз! Марья Павловна Перчаткина панихиду служит по мужу, четвертак. Два! Заводчица Наталья Ларивоновна именинница – пятиалтынный, три! Есть и прочие, которые по копейке…
– Слава тебе, Христе, Свете истинный! – восславлял Денис Петрович, разжевывая хлеб. – Даст Господь день, даст и пищу.
Дедушка Гуляй обратил на меня внимание. Он весело подмигнул мне глазом, тоже каким-то гулевым, словно сказать хотел: «Не унывай, братишка!» От него пахнуло яблочно-хлебным духом водки и румяной деревенской обрадованностью.
– Вот и хорошо!
А что хорошо, так и не пояснил, только улыбкой засветился и веселые усы свои разгладил.
– Мальчонка тут один меня вопрошал, – отозвался Денис Петрович, крестясь после еды, – жалко ли мне сгинувшего богатства? Удивил даже… такой выросток быстрословый!.. Голос этакой думчивый… Мужиковатый, со вздохом… Тута ли он?
– Тут, Денис Петрович, рядком сидит!
– Так, так… тут сидит… Ну, и Господь с ним, пусть сидит… Это хорошо, что отрок к нам подсел… Хороший знак, добрый! Это значит, что души наши не затемнились еще… А вот ежели дитя али животная бежит от человека, тогда – каюк… Беззвездная, значит, душа у того несчастного!
От этих слов дедушка Гуляй веселым стал и хотел обнять меня, ио вместо этого дальше от меня отстранился и руками замахал.
– Близко не сиди с нами, сынок! Блошками тебя наградим. Хоть и веселые эти блошки, но зело ехидные!
– У нас тоже блохи водятся. – похвастал я.
Так состоялось наше знакомство.
В одно из воскресений я встретил на паперти одного лишь Гуляя. Хозяина с ним не было. Я спросил его:
– А где же Денис Петрович?
– На одре болезни. Отцветает мой хозяин, к земле клонится. На родину просится!
– На какую родину? В Москву?
– Нет, – вздохом ответил дедушка, – в пренебесное отечество, на пажити Господни!
Вспомнились мне смиренные руки его и почему-то пыльные, разношенные сапоги его, и стало жалко бывшего миллионера. Слова матери вспомнились: «Кто болящего навестит, тому Матерь Божья улыбнется!»
– Можно его навестить? – спросил я Гуляя.
Незнамо отчего, на глазах дедушки затеплились слезы, заулыбался он от неведомой радости разными светами, как драгоценный камень.
– Спаси тя Христос! Возрадованная душа у тебя… Навести его, сынок, обрадуй! Ты ведь вроде пасхального канона для него будешь! Очень ему нагрустно! Смертный час к нему приближается!
Я дождался, пока Гуляй собрал от богомольцев монетки, и мы пошли. Жили они на окраине города около мусорных ям, в драном заплатанном доме, около которого никогда не высыхала грязь и всегда бродили свиньи.
Жилище помещалось на верхнем чердачном этаже. Оно было темным, затхлым, с одним окном, выходящим на широкую толевую крышу. На пороге Гуляй сказал:
– Господь милости послал!
Денис Петрович лежал на деревянной койке. Он долго держал мою руку в своей.
– Сколь велико милосердие Божие! – говорил он, – молился я ночью и спрашивал Господа: прощены ли беззакония мои? Знать, прощены, если Он отрока ко мне послал! Гуляй! Слышишь ли ты, Гуляй! – пробовал он крикнуть. – Это ведь Господь… знак Его… Не пропащие мы с тобою, дедушка Гуляй, коли детская душа к нам потянулась! Что же ты молчишь, Гуляй?
– Я плачу!
– Не плачь! Сходил бы лучше в лавочку и принес бы отроку гостинцев, да за кипятком в чайную сбегал бы… За все тридцать лет шатания нашего первый гость у нас!.. Да ка-а-кой еще! Ненарадованный!
Мне было неловко от их восхищения. Я смотрел «в землю» и теребил поясок от рубашки. Дедушка Гуляй сбегал за гостинцами и кипятком. Стол придвинули к постели болящего. Мне дали жестяную кружку с чаем и наложили стог леденцов и пряников. Я все время молчал, и дедушка Гуляй почему-то решил, что скучно мне. Он стал развлекать меня; строил скоморошьи рожи, подражал паровозу, лаял по-собачьи, пел частушки. Одна из них мне запомнилась:
Потеряла я колечко, Потеряла я любовь, Как поэтому колечку, Буду плакать день и ночь.Пропел даже целую былину про Соловья Будимировича, и надолго остался в памяти былинный «зачин»:
Высота ли – высота поднебесная! Глубота – глубота океан-море! Широко раздолье – по всей земле! Глубоки-темны омуты днепровские!Пел и лицом играл так, что видел я, как выбегали-выгребали тридцать кораблей, и как хорошо корабли изукрашены, хорошо корабли изнаряжены, и как на беседочке сидельной сидит купав молодец, молодой Соловей, сын Будимирович, со своей государыней Ульяной Васильевной…
Когда нечего было рассказывать и петь, то дедушка Гуляй вынул из-под койки зеленый солдатский сундучок, многообещающе подмигнул мне гулевым глазом и поднял крышку. Внутренняя сторона ее была заклеена ярмарочной картиной: «Эй, ямщик Гаврилка, где моя бутылка». На ней изображен усатый барин в кибитке, а на облучке пьяный Гаврилка, правящий тройкой коней, пышущих огнем и дымом.
В сундуке много было всяких вещей. Дедушка показал мне двадцатипятирублевую бумажку с обожженными краями.
– Это они, – кивнул на мертвенно лежащего Дениса Петровича, – сигару когда-то прикуривали… А это мои манжетки и манишка… Будучи главным приказчиком, я носил их… Щеголем был!.. Пачка счетов хозяина моего… Гляди, какие большие тыщи сжигал он в «Яре» и «Славянском базаре»… А это вот визитная карточка: «Коммерции советник Денис Петрович Овсянников»… Гляди, с золотыми обрезами!.. – Долго смотрел на эту карточку и сказал: – Время пролетело, слава прожита! – что-то еще хотел он показать, но на него прикрикнул Денис Петрович.
– Опять за свою переборку? Закрой сундук, старый дурак! Никакого вскреса от тебя не вижу. Днем и ночью только и ворошишь свое барахло.
– Эх, хозяин, хозяин, – жалостливо прошептал дедушка Гуляй, – вся Москва наша в этом сундучке… Вспомнить хочется…
Гуляй поднялся с пола, утер рукавом слезу, подбоченился, щелкнул пальцами, по-молодецки ухнул и неожиданно пустился в пляс, запев песню с деревенским завизгом:
Ох, пойду я да в зеленый тот лесок, Вырву, выломлю кленовый там листок, Напишу я на нем грамотку, Пошлю ее к отцу старому.И вдруг в середину песни ворвался такой страшный взрыд, которого я никогда еще не слышал:
– Помираю!
На койке метался Денис Петрович. Дедушка Гуляй почему-то не бросился к нему на помощь, а продолжал стоять в позе плясуна, только рот его раскрылся и красное лицо словно инеем покрылось…
– Священника… – подземным, уходящим в глубину голосом охнул Денис Петрович, разрывая руками рубашку на груди, – показался медный крестьянский крест.
Дедушка Гуляй упал на пол. Он ползком задвигался к постели умирающего. Я побежал за священником. Когда мы пришли, то бывший московский миллионер уже отходил, не дождавшись причастия. Дедушка Гуляй вынимал из сундука смертную одежду.
Священник запел канон «на исход души»: «Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами…» Читались смертные слова: «нощь смертная мя постиже неготоваго…»
Я смотрел на глиняную кружку, из которой Денис Петрович прихлебывал чай.
Священник сложил крестом руки умирающего и перекрестил его. По завечеревшей крыше ходили воробьи. Один из них заглянул в окно и чирикнул.
… Похоронили Дениса Петровича на кладбище бедняков и бездомников, под еловым крестом. Руками дедушки Гуляя была прибита к кресту оправленная в стекло визитная карточка с золотым обрезом: «Коммерции советник Денис Петрович Овсянников».
Максим Каменев
Большой двор густо и цепко прорастал крапивой и чертополохом. От каменного двухэтажного дома, сложенного из серого и угрюмого плитняка, на двор всегда падала тяжелая и сырая тень. Солнце сюда не заглядывало. В этом доме чаще всего умирали от чахотки. Дом был переполнен детьми, но их почти не слышно. У большинства из них кривые ноги, бледные лица, не улыбающийся голос. Здесь жили беднейшие ремесленники и спившиеся люди.
Дом принадлежал богатейшему человеку в городе, Максиму Ивановичу Каменеву, и славился на всю округу чудачеством хозяина. От своих жильцов он никогда не требовал квартирной платы, но зато должны они были подчиняться причудам его и называть «вашим степенством». Любимая причуда Максима Ивановича во время его загулов была такая: придет на свой двор, встанет посредине крепким дубом, сложит руки рупором и рявкает соборным колоколом:
– Эй! Голытьба! Господа на босу ногу! Пожалуйте на расправу! Суд идет!
Из всех квартир выбегают сапожники, трубочисты, слесаря, портные, коновалы, тряпишники, скорняки, маляры и спившийся адвокат Голубев. Все они окружают хозяина горячим и душным кольцом.
Максим Иванович окинет их свирепым взглядом и густо спросит:
– Все налицо? Вста-а-ть смирно! На первый-второй расчитайсь!
– Первый, второй, первый, второй! – защелкают жильцы, стараясь держаться по-солдатски.
– А почему я не вижу живейного Ишашку Жукова и профессора кислых щей Сеньку Ларионова? – спрашивает он про извозчика и повара из трактира «Плевна». – Начальства не признавать? Хозяина? Максима Ивановича Каменева?
Вопрос этот повторяется часто, и на него всегда отвечает коновал Федор:
– Так что, ваше степенство, означенные вышепоименованные лица по долгу своих служебных обязательств находятся извне дома!
– Хватит! Без тебя знаем. А ты, Федька, – погрозил коновалу крутым пальцем, – не имеешь права так красно говорить. Образованнее меня хочешь быть, садовая твоя башка? Мо-о-лчать!
Максим Иванович отходит на три шага назад, выпячивает грудь, как генерал на параде, и орет на весь широкий двор:
– Смм-и-и-рр-но! Слушать мою команду!
Насладившись покорством своих людей, он грузно садится на бревна.
– Скорняк Иван Дылда, – выкликает он, – Подойди!
– Так точно-с, подошел, – тоненько отзывается чахоточный скорняк.
– Имя и фамиль?
– Иван Семенович Харламов, по прозванью Дылда!
– Можешь и без отчества, – бурчит хозяин, – не такая уж ты шишка, чтоб тебя по имени-отчеству величать!
– Ваша правда, Максим Иванович!
– Я тебе не Максим Иванович, а ваше степенство! Понял? Артикула не знаешь, кот драповый!.. А скажи мне… милейший Дылда… за квартиру хозяину платишь?
– Виноват-с, ваше степенство, не плачу.
– Сколько времени не платишь?
– Два года.
– Почему?
– По причине житейских бедствий, как то: отсутствие заказов и болезни супруги моей, вызванной сыростью…
– Ты чувствуешь, какой я есть человек?
– От души сочувствую и вообще ежемесячно… виноват-с… еженощно за вас Бога молю!
– А ты не врешь? Онамеднись я слышал, что ты меня греческим пузом назвал и вообще гадом маринованным? Я все знаю!
Скорняк прижимает к сердцу тоненькую шафранную ручку и мелко лепечет:
– Напраслину возводите на меня, ваше степенство, я вас завсегда в глаза и под глаза святым человеком называю.
– Ежели не врешь, – гудит Максим Иванович отзвонившим колоколом, – то пой мне «многая лета…»
Скорняк высоко поднимает сизую от бритья голову, зажмуривает глаза и тонкой прерывистой нотой поет многолетие.
– Хватит! За такие голосья дерут за волосья! Уходи с глаз долой! Следующий! Григорий Пузов!
– Тут-с! – встает поджарая замученная фигурка сапожника в опорках и в грязно-зеленом переднике.
– Имя и фамилия?
– Григорий Пузов!
– Ладно, ладно. Без тебя знаю. Сколько времени за квартиру не платишь?
– Четыре года.
– Ну и ну! А я-то не знал. Че-е-ты-ре года! Ска-а-жи на милость… И не совестно тебе?
– Совестно, ваше степенство, но по причине деторождения матерьяльно ослабши…
– Сам рожаешь? – ухмыльнулся в сивую бороду Максим Иванович, и все за ним захихикали кто в кулак, а кто в рукав.
– Не я-с, ваше степенство, а супруга моя Марья Федоровна.
– Какая это Марья Федоровна, – притворяется он не понимающим, – это не принцесса ли Датская, супруга его императорского величества?
– Никак нет. Она из Псковской губернии, Опочецкого уезда, погоста Никольского.
– Так что ж ты, мозги твои всмятку, ее по отчеству величаешь, когда она скопская? Ты смотри, леворуцию на моем дворе не устраивай, а то!.. Так, говоришь, четыре года за квартиру не платишь? Гм… да-с… Ну, ладно, благодари хозяина.
Целуй руку! Через год мы тебе пятилетний юбилей устроим.
Взволнованный сапожник, перед тем как приложиться к руке хозяина, от непонятной одури, схватившей его, мелко перекрестился. Максим Иванович дико расхохотался и дал сапожнику полтинник.
– Люблю пугливых! – крякнул он. – Следующий! Адвокат Плевако!
Адвокат Голубев степенно подошел в стареньком своем сюртучишке и в калошах на босу ногу.
– Признаете себя виновным? – спросил Максим Иванович.
– Признаю. Пять лет за квартиру не плачу!
Максим Иванович неожиданно рассвирепел и ударил себя кулаком по колену:
– Разве я тебя спрашивал, сколько лет ты мне не платишь? Это во-первых, а во-вторых, говори речь! Защитительную.
– Кого защищать прикажете?
– Меня, – шепотом сказал Каменев и неожиданно всхлипнул, опустив голову на грудь. – Я есть скот, а не человек. Докажи обратное!
И адвокат Голубев стал доказывать, что Максим Иванович не скот, а человек. И говорил до того вдохновенно и хорошо, что Каменев взвыл. Он поднялся с бревен и стал обнимать адвоката.
– Эх! – сказал только одним дыханьем. Поцеловал Голубева троекратным лобзанием и опять сказал, скрипнув зубами: – Эх!
Выпрямился Максим Иванович во весь саженный свой рост, взмахнул тяжелыми руками и дико гаркнул:
– Ребята! Тащите сюда три ящика пива, две четвертных и закусок! Всех угощаю!
И зачиналось на дворе Каменева широкое и многоголосное пьянство. До рассвета на весь тихий город гремели крики, ругань и песни.
В городе к этому привыкли. Даже городовые, и те махнули рукой: пущай куролесят. Беспокоить нельзя. Максим Иванович гуляет со своей ротой!
Хозяин напивался больше всех. Он обнимался со своими жильцами, плакал у них на груди, называл их святой голытьбою и вопил медным своим голосом:
– Пожалейте меня, православные христиане!
Максима Ивановича от души жалели и обсыпали его клятвами:
– Дорогой хозяин! Мы за тебя в огонь и в воду! Веди нас, как Наполеондор Первый, куда хочешь! Все за тебя, все за тобою!
– Братья! Святая голытьба! – выкрикивал Максим Иванович. – Избирайте меня атаманом! Пойдемте в леса дремучие и станем разбойниками! А?
Разбойничья жизнь вольная, горячая и русскому по душе. А может быть, лучше монастырь построить? А? Я буду игуменом, а Голубев отцом наместником… Идет? Завтра же на Валдай поеду тысячепудовый колокол покупать!
…Эх, позовите гармониста Кузьку! Кузьку! – гремел Каменев, растерзывая на груди алую вышитую рубашку. – Трешницу ему за гармонь!
Из трактира «Плевна» приводили Кузьку. Под плясовую Кузькину гармонь все плясали, смеялись и плакали. А когда устанут от пьяного лиха и на время тихо станет на дворе, Максим Иванович опустит голову и начнет в грехах каяться. Все слушают его, плачут вместе с ним и на каждый грех отвечают гулом:
– Бог простит!
Перед смертью Максим Иванович выкинул «чудачество», которое надолго вошло в летопись города: все свое имущество он завещал своим жильцам-неплательщикам.
Шелуха от семечек
Сапожник Яков Веселов сидел на большом гранитном камне, приготовленном домовладельцем для надгробия, лущил семечки и говорил чахлым хрипом портному Авдею Дудкину:
– Дни наши, как семечки… Махонькие и одинакие… И аппетит к этим дням такой же, как и к семечкам, – не хочешь, да ешь!.. Недавно задумался от ночного бессонья: сколько раз я счастлив был в своей жизни?
– Ну? – спросил портной, присаживаясь к сапожнику.
– Маловато, дружище… Всего лишь два раза. Во-первых, тогда, когда я на ярмарке выиграл будильник за пять копеек, и, во-вторых, когда меня выбрали товарищем председателя в союзе сапожников. О последнем-то, полагаю, и вспоминать не довлеет, ну а тогда гоголем ходил. Все же персона-с! А главное, слово-то приятное – товарищ председателя. Ну, конечно, и на «вы» называли, как человека!
– А у меня, – оживился портной, – тогда счастье было, когда господин статский советник Павел Валерьянович Погодин в 1912 году перед Пасхой изволил за хорошо сшитый фрак руку мне протянуть и сказать собственноручно: ты, говорит, Дудкин, лучше придворного портного. Мерси тебе и тому подобное!
– Редко кто уважал нашего брата, ремесленную косточку, – вздохнул сапожник, – чего я видел? Униженность и попрание личности. Меня заказчики и били, и ругали нет чего хуже, и денег за работу не платили… А раз такое унижение было. В церкви. На выносе плащаницы. Подходит ко мне церковный сторож и говорит: «Пройди в алтарь, батюшке поможешь плащаницу выносить…» Не может быть, подумал я, – чтобы меня к этому делу приставили. Испокон веков плащаницу-то помогают выносить люди сановитые да денежные… Пошел, это, я за сторожем и не ошибся… Увидал меня дьякон да как зыкнет на сторожа: «Ты это зачем сапожника привел? Людей рази нет?
Позови Семена Петровича Горелова». А он ведь, сам знаешь, при энотах и два дома каменных!
Выхожу из алтаря краснее рака, а певчие-то так и смеются над моим унижением. Когда сынишка мой Петька в школе учился, так ребята никогда его по имени не называли, а все – «сапожник» или «почем опорки»…
У Якова дрогнули руки, и на землю упал кулек с семечками.
– Наша портновская нация хотя и чище вашей, – отозвался Дудкин, – но тоже не пользуется вниманием со стороны просвещенных людей… Когда я дочку свою Глафиру замуж выдал за чиновника, то мамаша евонная поедом ее есть стала: «Ты, говорит, портновская дочь, а я барыня».
– А правда это, Авдей, что Муссолини из сапожников?
– Не может быть. Совсем немыслимое дело!
– А мне сказывали, что он из сапожников. И Шаляпин тоже… Лев Толстой любил сапоги шить… И даже Петр Великий не брезговал нашим ремеслом.
Над большим каменным двором ширился и густел звездный августовский вечер. Запахи помойной ямы и близость уборных, около которых сидели сапожник и портной, не могли загасить своим смрадом яблочно-душистого дыхания вечера.
Из городского сада доносилась музыка. Была она такой размывчивой и усладной, что Якову захотелось выпить.
– Когда выпью, то люблю музыку слушать. Она тогда наподобие родниковой воды – прохладно и утешительно!
Последнее время о водке сапожник старался не думать: «Опять пропьюсь до згинки и шкандалы учинять зачну». Чтобы отогнать от себя лукавое наваждение, он перевел разговор на другие темы.
– Плохо спать стал… Пошли всякие думы в голове. Дум много, а о чем они, к чему – не знаю. Осыпают меня, как инеем. Думал недавно вот о чем: почему я снял фатеру окнами на каменную стену?.. Я же ведь небо люблю и солнышко. Тридцать с лишним лет стена на меня смотрит, а я на нее! Думал также и о том, почему мы с тобой сидим в хорошие вечера на этом камне, а не сходим в лес к речке? Это, Авдей, не иначе как к смерти – другая жизнь, видишь, манит!
Портной закрыл лицо руками и неожиданно всхлипнул:
– Утешил бы тебя и себя, да не умею!
Сапожник растроганно подумал, что вот они, два старых ремесленника, давние соседи по коридору, сидят рядом, как братья, без слова понимают друг друга и жизни их схожи, как две шелушинки от семечка.
– А работы у меня все меньше да меньше. Стар стал и шить не умею по-модному. Сапожников тоже много развелось в нашем городе, да не простых, а образованных.
– С одной стороны, оно и лестно, – добавил портной, – что благородные люди суровым рукомеслом занимаются, но с другой – конкуренция!
Темное предосеннее небо дрогнуло от дальних зарниц.
– Хлебозар… – прошептал Яков и перекрестился, – на Волге зарницы так прозываются! Я ведь с четырнадцати лет оттуда.
Авдей наклонился к уху сапожника и зашептал горячо, умоляюще и тоскливо:
– Яшенька… дружище… Ты… того… не сумлевайся… Пойми, душа у меня горит… Слова твои растрогали… Старость надвигается… Глаза гаснут… Пойдем, выпьем по маленькой! А?
Знакомая дрожь веселыми искорками побежала по телу сапожника от сердца к голове и к кончикам пальцев. И кто-то внутри, в самой крови заговорил убедительно и громко: «Дни твои, как семечки… к тебе солнце не приходит в гости… Каменная стена перед глазами… бессонница, конкуренция… и не уважили тебя, и к плащанице не допустили».
Яков молча дернул портного за рукав и поспешно поднялся с каменного надгробия.
Поздно ночью их выгнали пьяных из трактира.
Они шли по середине улицы в обнимку и громко кричали, разбивая стеклянно застывшую ночь:
– Я первоклассный портной! Господин статский советник мне руку протянул. Мерси, говорит, и тому подобное. Слышал, каков я есть человек?
Сапожник не слушал Авдея, бил себя в грудь и со слезами говорил:
– Товарищем председателя был! На «вы» называли, а теперь я шелуха от семечек!
Рассказ об утопшем журналисте, о таракане в булке и Аристархе Зыбине
Посвящаю А.Г. Юрканову-Клещу
Старый журналист Аристарх Зыбин залпом выпил «ерша», хрустко закусил огурцом, обвел глазами присутствующих и произнес с глубоким вздохом:
– Где-то теперь мой приятель Миша Гусынин? Большой руки авантюрист был! Десять лет служили мы печатному слову в газете «Заноза». Большие мы с ним друзья были. Холодали, голодали и пьянствовали вместе. Уютный был парень. На выдумки был мастер. Как-то очутились мы без гроша. Есть хочется и выпить хочется. Что делать? Пошли мы к Иринарху Кузьмичу – редактору «Занозы», дай ему, Господи, легкое лежание! «Дайте, – говорим, – авансом два рублика!» – «Принесите, – отвечает нам Иринарх Кузьмич, – самый острозлободневный материал вроде убийства, утопления или кражи, без всяких яких получите тогда».
Призадумались мы с Мишкой. Где тут, в нашем чертовском городе, злободневный материал искать?
Думали, думали с Мишкой, о чем писать, и с Божьей помощью надумали.
– Я, – говорит мне Мишка, – с моста в речку сигану, плавать я мастер, приз имею, а ты на мосту стой и кричи: «Человек тонет!..» Потихоньку я к берегу выплыву, а ты скорым манером в редакцию и строчи, что, мол, при благоприятной погоде один молодой человек, разочаровавшийся в жизни, решил жизнь кончить посредством потопления и т. д.
Сказано – сделано. Мишка перекрестился и сиганул с моста в речку, а я кричу: «Помогите! Человек тонет!»
Боже ты мой! Откуда что взялось. Одурел от радости наш городок. Как на карусель бежит народ утоплого поглядеть. Сенсация!
А Мишка-то, гляжу, и на самом деле тонуть стал. Не рассчитал, черт, место-то да попади в самый большой вертун.
Страх обуял меня. Совсем человек гибнет.
На счастье, рыбаки увидели, на лодках подплыли, вытащили из воды Мишку Гусынина, совсем недвижного. К счастью, насилу откачали…
Аристарх грустно улыбнулся.
– А все-таки как ни крепка была дружба наша, пришлось нам разойтись… А отчего? За шантаж, за оскорбление печатного слова… Да!.. – строго прибавил Зыбин.
Приходит как-то Мишка ко мне. Спрашивает: «Хочешь выпить?» – «Странный вопрос, – отвечаю, – а динарии у тебя есть?» – «Мы, – говорит, – и без динариев пьяны будем… У тебя, Аристарх, тараканы водятся?» – «Водятся, черти, а тебе для коллекции, что ли?» Подошли к печке. Мишка спичкой давай из щелей тараканов выковыривать да к себе в коробку класть. Ничего я понять не могу.
Наковырял трех тараканов, коробочку закрыл.
– Ты, – говорит. – Аристарх, посиди немного, а я за водкой да за колбасой схожу.
Хорошо-с. Жду.
Не прошло и полчаса, как является ко мне с бутылкой и закуской Мишка Гусынин.
– В долг, что ли, поверили?
– Ничего подобного, – смеется Мишка, – секрет Полишинеля!
– Что за секрет?
– Очень простой. Прихожу, значит, в кондитерскую. Дайте, пожалуйста, стакан кофе и французскую булку. Подают. А я это, чтобы хозяйка не видела, да тихим манером коробочку с таракашками из кармана, взял одного за жабры да в булку и сунул… Хорошо-с… А потом прихожу к хозяйке и этаким возмущенным тоном на нее накидываюсь:
– Что за безобразие! В вашей булке тараканы. – Ив нос ей булку ту: гляди – на! – Знаете, кто я такой? Я – сотрудник газеты «Заноза» и не потерплю. Завтра же в газете пропечатаю… Хозяйка в слезы: «Пощадите… Сколько хотите возьмите, только не губите!»
Взял я у ней по-братски двадцать пять рублей, допил кофе, доел булку и прямым сообщением в казенку.
Надо вам сказать, я большой алкоголик, и выпить мне тогда очень хотелось, но как только услыхал слова такие, не стерпел да кэк-с двину кулаком Мишку Гусынина по зеркалу души, сиречь по морде, так он у меня с бутылкой и закуской под стол покатился.
– Ах, ты, – говорю, – крапивное семя! Зачем ты русское печатное слово опозорил! Честный газетный работник с голоду помрет, а честность свою на сороковку не променяет. Вон с глаз моих! Ты мне больше не друг и не приятель!
Аристарх Зыбин выпил еще стакан, облокотился на стол и задумался.
– Всю жизнь меня судьба гнала. В рваных сапогах ходил, в брюках с бахромой, холодный и голодный был, но честность свою писательскую сохранил. Через огонь, воды и медные трубы пронес ее, как святую четверговую свечу… Предлагали мне в советских газетах писать: пиши, Аристарх, озолотим тебя за твои фельетоны,
– Нет, – говорю, – я старый журналист, и мне с вами не по пути. На пристань уголь пойду грузить, а к вам не пойду! До конца останусь верным рыцарем русскому слову. Хоть и беден, и сапоги у меня рваные, и квартира у меня холодная, но все-таки – рыцарь!
Аристарх Зыбин опустил на стол кудлатую поседевшую голову и замолк.
Собеседники глядели на его спину, а она была унылая, в старом потертом френче.
Глухое затишье (Нарва)
Тихий город, древняя Нарва заблудилась в снежных сугробах и замерла. Замерли седые стены Ивангорода, ливонский замок, белые старинные церкви, грязные средневековые улички. По-дедовски Нарва укладывается спать очень рано. После десяти часов во многих окнах гасится свет. Ярко до полночи горят огни в ресторанах. Последних, так же как парикмахерских и гробовых мастерских, очень много. Кажется, что нарвитяне живут только для того, чтобы выпить, побриться и заказать гробик. Когда вы приезжаете в Нарву, то вам кажется, что вся она окутана серой паутиной и древней провинциальной тишиной. Тишина такая, что слышишь, как падает снег и осыпаются седые крепостные стены. Особенно чувствуется дыхание русской провинции на форштадтах. У края дорог часовни. В них неугасимый лампадный свет. Кривобокие, приземистые домики. Шаткие, гнилые заборы. Шуршащий шаг обывателя. Великопостный «черноризный» звон. Рядом с церковью трактир. Во время длинных служб некоторые из богомольцев сходят через дорогу в трактир. «Хлопнут стопку» и опять в церковь. Делается это без кощунства, а по ребячливой простоте. Кстати, еще о простоте нарвских обывателей. Во время поминовения усопших на кладбище был такой случай. Священники служат панихиды. Около могилы сидят пьяные. На могиле бутылка и кутья.
– Батюшка! – обращаются пьяные к священнику, – нельзя ли панифидку?
– Можно, но только уберите водку с могилы! Что вы покойника-то обижаете.
Пьяные добродушно ухмыляются:
– Это не вредит, батюшка. Он не обидится, потому сам от водки помер. Деликатный человек!
Несмотря ни на какие грозы и молнии, войну и революцию, на отдаленные шумы большой содержательной жизни, тихая древняя Нарва сохранила облик прежней русской провинции, и по-прежнему витают тени гоголевской и чеховской России.
В нетленной целине разгуливает по Нарве прежний обыватель.
Обывательщина, как ржавчина, проела душу не только простолюдина, но и местной интеллигенции.
Судить об удельном весе некоторой части местной интеллигенции могут следующие красноречивые факты.
Умер Айхенвальд[7]. Один из обывателей, местных общественных деятелей, с аппетитом поедая в клубе селянку, о смерти этого исключительного человека, обмолвился так:
– Одним жидом меньше.
Другой сделал новое литературное открытие, по которому выходило, что большинство произведений Л.Н. Толстого написано под диктовку еврея.
Третьи уверяет, что «Тысяча и одна ночь» написана Гоголем, а в жилах Вл. Соловьева текла еврейская кровь.
Всякое проявление живой мысли, всякая попытка открыть форточку и освежить душную обстановку нашей провинции, встречает отпор и глухое недовольство.
Недавно в молодой, полной творческих сил и красивого горения русской организации нарвской молодежи, общества «Святогор», был разбор советской литературы. За этот разбор старики назвали молодежь комсомольцами. Одуряющий сон висит над нашим красивым, полным средневековой романтики городом. Не редки бывали случаи, когда на утомительных общих собраниях жуют бутерброды, рассказывают анекдоты, посапывают носом, и как-то одна из дам даже вязала чулок.
Назначено общее собрание. Кто-то должен был выступить с докладом. Докладчика нет.
– Где докладчик? – спрашивают.
– Сейчас придет. Партию на бильярде доигрывает.
Публика снисходительно улыбается и терпеливо ожидает окончания партии.
Осенним вечером сидел на бульваре видный представитель нарвской общественности и вполголоса считал огни на той стороне реки Наровы.
– Что вы считаете? – спрашивают.
– Огни считаю. До тридцати огоньков сосчитаю, а тогда ужинать пойду.
Этот же самый общественный деятель как-то заявил на общем собрании:
– Пора, голубчики, кончать собрание-то, а то щи у меня простынут!
Сейчас много шума по вопросу о праздновании Пасхи. Православное население Нарвы разделилось на два враждебных лагеря. Ярые сторонники старого стиля не приемлют новую Пасху только потому, что, во-первых, она со снегом будет, и во-вторых, в пасхальную ночь луна светить будет.
– По Священному Писанию-де луны на Пасху не полагается!
Чтобы успокоить ту и другую сторону, решено в Нарве в одной и той же церкви праздновать Пасху по двум стилям.
На почве двоестилия был такой курьез. В церковь приходит именинник. Служба идет по новому стилю. Перед отпустом священник поминает имена святых, празднуемых церковью в этот день, по новому стилю. Вдруг священника прерывает обиженный голос именинника:
– Батюшка! Помяни моего ангела. Кузьмой его звать. Я по старому стилю праздную!
Уголовная хроника Нарвы поразительная. На одной из глухих улиц города неизвестными были похищены целые ворота. Местная газета острила по этому поводу: скоро-де дома воровать будут. Минувшим летом по частям была разобрана дача в Усть-Нарве.
В той же Усть-Нарве какими-то любителями желтые почтовые ящики были перекрашены в черный цвет.
Воруют электрические звонки, выворачивают тумбы и уносят с могилы кресты и венки. Дикие штуки «выкомаривают» нарвские обыватели.
У одного рабочего умирает жена. Положили ее в белый гроб, пьяный муж перекрашивает гроб в черный цвет.
– Недостойна она лежать в белом гробе, – поясняет рабочий, – так как при жизни была мне неверна.
Два года тому назад хулиганы посадили человека на кол.
В мороз и вьюгу стоит на улице человек в нижнем белье и босиком.
– Что вы делаете?
– От зубной боли лечусь, Ежели на снегу постоять, то кровь к зубьям приливает и они отходят.
Один из нарвеких купцов построил на кладбище каменный склеп. Склеп по плану строителя был разделен на несколько отделений. В одном отделении, пояснил купец, должны лечь дети хорошего поведения, в другом – средственного, а в третьем – сомнительного, как то: тати, блудники и пьяницы.
Проходя по нарвскому кладбищу, можно встретить следующие надгробные письмена: «Помяни мя Господи егда приедиши во Царствие Твое».
«Славному герою, погибшему от рабочих друзей фабрики».
«Здесь спит Костя из Скарятины».
«Упокой Господи душу усопшую рабу твою Анну. Родилась в 1856 году, сконч. 1925. Итого 69 лет. Уроженная Гдовская. В замужестве Ямбургская. Совместной супружеской жизни 46 лет. Скончалась эстонской подданной. Анна Мазохина! вечная память».
Давным-давно в Нарве произошел следующий характерный случай.
Повадился один молодой человек ходить к чужой жене. Об этом проведал муж. Нежданно-негаданно стучит в дверь. Неверная жена прячет любовника в громадный дедовский сундук. Муж догадывается и запирает сундук на ключ, зовет соседей. При помощи их кладут сундук на телегу и сбрасывают его в реку Нарову. Сундук поплавал-поплавал и пристал к пристани. Вытащили и открыли. На счастье, молодой человек остался жив. После этого случая вся Нарва звала его «Новым Моисеем».
В избу хуторянина стучат ночью какие-то люди.
– Что надо?
– Купите свинью.
Хуторянин покупает, но наутро выясняется, что свинья была украдена у него же и продана ему же.
Одному крестьянину грозила тюрьма за воровство. Родные стали хлопотать за него. Не помогает. Кто-то посоветовал обратиться к колдуну, который вызволит из беды. Во время суда над крестьянином присутствовал и колдун, который сидел в темном углу зала и шептал какие-то заклинания. Несмотря на заговоры, крестьянин был осужден. По окончании суда мужички надавали колдуну тумаков:
– Шептал-шептал, гад маринованный, и ни беса не нашептал!
* * *
О курьезах газетной и театральной жизни в Нарве можно написать несколько фельетонов, но пока ограничимся несколькими фактами.
Один из рецензентов пишет отчет о спектакле, на котором не был. Расхваливается пьеса, артисты, но спектакль не состоялся.
Приходит к редактору мужичок из Принаровья.
– Нельзя ли, – говорит он, – жену мою в газетине прохвалить. Она меня бьет тяжеловесным орудием и гонит из квартиры.
Одно время в одной и той же типографии печатались две газеты. Одна правая. Другая левая. Весь беспартийный материал, как-то: хроника, известия, объявления, печатались в двух газетах одновременно и отличалась одна от другой только передовицами.
Один ныне прогоревший издатель оригинальным способом составлял газету. Передовица, политические новости, фельетоны, за исключением объявлений и подписи издателя, перепечатывались целиком из других газет.
Этот же издатель гонорар сотрудникам выплачивал пивными бутылками.
– Отнеси, – говорит, – восемь пустых бутылок в склад. Что получишь, то на это пообедаешь.
Бывали случаи, когда редактор на дверях редакции наклеивал записку: «Редактора можно видеть через час. Кому надо раньше, благоволите явиться в ресторан Захарова».
Один из нарвских актеров справлял свой бенефис. По ходу пьесы полагался тапер, который в нужный момент должен был играть на бутафорском пианино. На несчастье, тапер был пьян. Замешкался, и за стеной заиграла музыка. Драма была сорвана. В довершение всего на имя бенефицианта не было ни одной поздравительной телеграммы. Недолго думая, за сценой составляют телеграммы от всех наиболее крупных артистов, которые и читались.
По этому, далеко не полному, перечню нарвских курьезов можно судить о шагах Нарвы. Тихо катятся ее воды. Если закрыть глаза, то будет казаться, что живешь ты в прежней России, где проезжающая тройка, новые брюки у соседа, переделанная шляпка соседки – целое событие. Так тихо, что слышишь, как падает снег.
Вериги Толстого
Дед Арсений попросил нас выслушать его слово по поводу нашего разговора. А говорили мы о духовных исканиях Льва Толстого и о ночном бегстве его из Ясной Поляны.
– Вот вы говорите, – начал он, – что возвеличенный сочинитель и правды Божьей искатель Лев Николаевич ночью бежал из дома. А ведомо ли вам, ребята, куда он хотел бежать?
– В этом, дедушка, загадка! Никто точно не знает. По-разному толкуют.
Землистое, тронутое дыханием предсмертья лицо Арсения стало хмурым. После долгого прислушивания к себе он сказал:
– А я знаю!
– Куда же?
– Лев Николаевич в монастырь пошел!..
– Про это мы тоже слышали и в книжках читали.
Старик опять возразил:
– Слыхать-то вы слыхали, а только не знаете, зачем он туда стремился.
– Успокоиться хотел. Душа у него металась!
– Это верно, – согласился Арсений, – но окромя этого была у него и другая причина!..
– Какая же?
– Перед смертью он хотел вериги с себя снять и в монастыре их оставить…
– Ну уж, дедушка, это побасенки! – улыбнулись мы. – Никаких вериг Толстой не носил. Жизнь и смерть его изучены до последней мелочи!
Старик рассердился.
– А я говорю вам, что Лев Николаевич вериги носил! Мне верный человек про это сказывал. Собственными глазами этот человек видел, как вериги Толстого в землю зарывали!
– Расскажи, дедушка, обстоятельнее, кто это тебе рассказывал и как эти вериги в землю зарывали?
Медлительно, как житие, Арсений стал рассказывать:
– Лета два спустя после упокоения Льва Николаевича попросился ко мне на ночлег один захожий человек. Сидим, это, как-то, с ним за чаем и беседуем. И вот, промеж прочего разговора спрашивает он меня: слыхал про Толстого? Как не слыхать, отвечаю, умственный был человек! До слез, говорю, книжки его люблю читать, где он про мужиков да про любовь Христову пишет…
И говорит мне захожий человек, что служил он-де на станции Остапово и видел, как умирал Толстой…
Арсений обратился к нам с вопросом:
– Вам, ребята, ведомо, что к смертному одру Льва Николаевича никого не допущали, даже супругу его Софью Андреевну?
– Ну и что же?
– А почему не допущали? Вот в этом-то, ребята, вся и загвоздка! А потому не допущали, что друзья Толстого железные вериги с него снимали!
– Но как же этот захожий человек мог знать, что с Толстого снимали вериги?
– Слушайте дальше. Лев Николаевич упокоился. В этот же день идет мой знакомец по служебному делу лесной дорогой. Были сумерки. И вот слышит он человечью речь в лесу… Разобрало его любопытство – дай-де погляжу, что за люди и о чем беседа их? Через чащобу пробираются два человека. У одного из них мешок на спине, а в мешке железо звенит. У другого – заступ. А говорили они вот о чем.
– Не стало Толстого, – сказал один.
– И кто мог помышлять, – отозвался другой, – что Лев Николаевич вериги носил и в монастыре снять их хотел!
Говорили они еще про какую-то зарытую зеленую палочку…
Арсений остановился и по-крестьянски глубоко задумался. Изба наполнялась густыми тенями от наползавшей издали грозовой тучи.
– Ну, а дальше что?
– А дальше вот какое действо приключилось… Остановились эти люди среди глухой чащобы и стали землю рыть… Вырыли яму. Вытащили из мешка железные вериги и захоронили их…
Пушкин и митрополит Филарет
В Николин день 1828 года митрополит Филарет окончательно решил уйти на покой.
Он сел за письменный стол, взял большой лист плотной голубой бумаги, осмотрел гусиное перо, перекрестился и стал писать:
«Всемилостивейший Государь!
Священный долг служить Вашему Императорскому Величеству верою и правдою особенно вожделенным для меня делает благодарность к милостям и благодеяниям Вашего Императорского Величества, неизреченно для меня великим…»
Тут он остановился и задумался:
– Да, тяжело мы пишем… Тяжело… Пушкин учит, как писать, да не слушаемся… Да…
Пушкин… Александр Сергеевич… Упрямые и жестоковыйные мы люди!
Митрополит опять заскрипел гусиным пером:
«Но, при сознании внутренних моих недостатков, немощь телесная, в течение немалого времени едва преодолеваемая принужденными усилиями, наконец, отнимает у меня надежду соответствовать обязанностям вверенного мне служения…»
– Я устал! От всего я устал! – сказал он вслух, не отрываясь от письма. – С душою некогда побеседовать!
«Посему приемлю дерзновение, Ваше Императорское Величество, всеподданнейше просить об увольнении меня от управления вверенной мне епархиею и дозволить избрать жительство в одном из монастырей…»
«Да, тяжелый язык, тяжелый!» – опять подумал митрополит, скрепляя прошение подписью: «Вашего Императорского Величества верноподданный, митрополит Московский и Коломенский Филарет».
– Завтра отправлю по назначению. Буду ждать Высочайшей резолюции!
На другой день И.В. Киреевский послал митрополиту на прочтение новое стихотворение Пушкина:
Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена?..Перед духовными очами митрополита предстала душа великого поэта. До содрогания стало жалко его, потерявшего самое драгоценное в жизни – веру в жизнь и в свое на земле призвание. В митрополите заговорил вдруг пастырь, призванный спасать человека. Все, что его тяготило и мучало за это время, уступило место ясному и глубокому сознанию своих задач и высокой своей посвященности…
«Нельзя же так, Александр Сергеевич! – подумал он тепло и нежно. – Такая сила тебе дадена, и вдруг взываешь ты в тоске: “Дар напрасный, дар случайный…” Всем нам тяжело, Александр Сергеевич…»
Во время вечерних, на сон грядущий, молитв митрополит опять вспомнил стихотворение Пушкина.
Он положил земной поклон.
– Мир и успокоение подаждь душе раба Твоего Александра, ибо нужен он народу нашему… Во тьме ходящему!
И когда произнес эти слова, что-то яркое вспыхнуло в душе его. Он не мог больше молиться. Не закончив «вечернего правила», он поднялся с колен, зажег свечу, взял перо и быстро стал писать:
Не напрасно, не случайно Жизнь судьбою мне дана; Не без правды ею тайно На тоску осуждена. Сам я своенравной властью Зло из тайных бездн воззвал, Сам наполнил душу страстью, Ум сомненьем взволновал. Вспомнись мне, забвеиный мною, Просияй сквозь сумрак дум, И созиждутся Тобою Сердце чисто, светел ум.– Будь что будет! – сказал он. – Но эти строки пошлю Пушкину как ответ на его горькие слова.
Тут он взглянул на конверт, адресованный Государю Императору.
– Нет, нельзя мне покидать кафедры ради безмолвного монастыря, – решил он, – надо потрудиться! Ради тех великих и малых потрудиться, кои томятся тоскою и сомнениями в присномутном житии нашем! Подвиг надо восприять! Кто же утешит? Кто спасет?
Филарета долго томила мысль: дошел ли ночной его голос до сердца поэта?
И вот однажды получает он строки, написанные рукою самого Александра Сергеевича Пушкина:
…И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима, Отвергла мрак земных сует, И внемлет арфе серафима В священном ужасе поэт.– Слава Тебе, Христе, Свете Истинный, – перекрестился митрополит, – что пробудил малым, неискусным моим словом душу великого поэта!
И поцеловал пушкинские строки.
Горе родине твоей
Заутреня святителей
Белые от снежных хлопьев, идут вечерними просторными полями Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский.
Стелется поземка, звенит от мороза сугробное поле. Завевает вьюжина. Мороз леденит одинокую снежную землю.
Никола Угодник в старом овчинном тулупе, в больших дырявых валенках. За плечами котомка, в руках посох.
Сергий Радонежский в монашеской ряске. На голове скуфейка, белая от снега, на ногах лапти.
Серафим Саровский в белой ватной свитке, идет сгорбившись, в русских сапогах, опираясь на палочку…
Развеваются от ветра седые бороды. Снег глаза слепит. Холодно святым старцам в одинокой морозной тьме.
– Ай да мороз греховодник, ай да шутник старый! – весело приговаривает Никола Угодник и, чтобы согреться, бьет мужицкими рукавицами по захолодевшему от мороза полушубку, а сам поспешает резвой стариковской походкой, только знай шуршат валенки.
– Угодил нам, старикам, морозец, нечего сказать… Такой неугомонный, утиши его. Господи, такой неугомонный! – смеется Серафим и тоже бежит вприпрыжку, не отставая от резвого Николы, гулко только стучат сапоги его по звонкой морозной дорожке.
– Это что еще! – тихо улыбается Сергий. – А вот в лето 1347, вот морозно было. Ужасти…
– Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, – говорит Серафим.
– Не заблудимся, отцы! – добро отвечает Никола. – Я все дороги русские знаю. Скоро дойдем до леса Китежского, а там в церковке Господь сподобит и заутреню отслужить. Подбавьте шагу, отцы!…
– Резвый угодник! – тихо улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав. – Старательный! Сам из чужих краев, а возлюбил землю русскую превыше всех. За что, Никола, полюбил народ наш, грехами затемненный, ходишь по дорогам его скорбным и молишься за него неустанно?
– За что полюбил? – отвечает Никола, глядя в очи Сергия. – Дитя она ^– Русь!… Цвет тихий, благоуханный… Кроткая дума Господня… дитя Его любимое… Неразумное, но любое. А кто не возлюбит дитя, кто не умилится цветикам? Русь – это кроткая дума Господня.
– Хорошо ты сказал, Никола, про Русь, – тихо прошептал Серафим. – На колени, радости мои, стать хочется перед нею и молиться, как честному образу!
– А как же, отцы святые, – робко спросил Сергий, – годы крови 1917, 1918 и 1919? Почто русский народ кровью себя обагрил?
– Покается! – убежденно ответил Никола Угодник.
– Спасется! – твердо сказал Серафим.
– Будем молиться! – прошептал Сергий. Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки. Затеплили перед темными образами свечи и стали служить заутреню.
За стенами церкви гудел снежный Китежский лес. Пела вьюга. Молились святители русской земли в заброшенной лесной церковке о Руси – любови Спасовой, кроткой думе Господней.
А после заутрени вышли из церковки три заступника на паперть и благословили на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.
Пасха на рубеже России
Несколько лет тому назад я встретил Пасху в селе на берегу Чудского озера.
В Светлую ночь не спится. Я вышел на улицу. Так темно, что не видно граней земли и кажется: небо и земля одна темная синяя мгла, и только в белом Ильинском храме горели огни. И такая тишина, что слышно, как тает снег и шуршит лед, плывущий по озеру.
С того берега, где лежит Россия, дул тонкий предвесенний ветер.
Необычайная близость русского берега наполняла душу странным чувством, от которого хотелось креститься на Россию, такую близкую, ощутимую и вместе с тем такую далекую и недоступную.
Где-то ударили в колокол.
Звон далекий, какой-то глубинный, словно звонили на дне озера.
Навстречу мне шел старик, опираясь на костыль. Я спросил его:
– Дедушка! Где звонят?
Старик насторожился, послушал и сказал:
– В России, браток, звонят. Пойдем поближе к озеру, там слышнее.
Долго мы стояли на берегу озера и слушали, как звонила Россия к пасхальной заутрене.
Нет таких слов, чтобы передать во всей полноте сложную гамму настроений, мыслей и чувств, волновавших мою душу, когда я стоял на берегу озера и слушал далекий пасхальный звон.
– Христос воскресе, – шептал я далекому родному берегу и крестился на Русскую землю.
1934
Родные огни
Сквозная и голубая, как ломкий весенний лед, осень. Воздух пахнет родниковой водой. В лужах небесная синь, блестки солнца и увядшие листья.
Большая с глубокими колеями дорога. Поникшие верстовые столбы. По обе стороны дороги широкие крылья полей. Над ржаными скирдами вьются вороны. От земли идет тонкий-тонкий, едва ощутимый хрустальный звон, какой бывает только солнечной листопадной осенью.
На старом тарантасе, на котором когда-то ездили сельские батюшки и деревенские богатеи, мы проехали много верст. Костлявой рыжей лошадью, прозванной Самолетом, правит крепкий старик Савва, пахнущий овчиной, ржаным хлебом и дымом избы – запах избяной, ржаной Руси!
Несмотря на то что много было тряски и часто приходилось переезжать через большие осенние лужи, было приятно сидеть в пыльном тарантасе на душистом сене, следить за переходами и тонами теней, слушать землю и пить осенний родниковый воздух. Савва везет меня к русскому рубежу – Чудскому озеру, откуда видна Россия, слышно ее дыхание, и даже в тихие, безветренные часы доносятся с того берега звоны сельской церковки и отголоски вечерних девичьих песен.
Савва, пережевывая кусок ржаного хлеба, с умилением говорит:
– Близко, ой как близко, братишка, живем мы от нее!
Я чувствую, о ком говорит Савва, но мне захотелось переспросить его, чтобы лишний раз услышать слово «Россия».
– От кого это вы живете так близко?
– От России-скорбницы, – поясняет Савва.
– Она у меня из окна видна. А ежели, братишка, взобраться на колокольню, то и людей увидишь на той стороне. Ей-Богу! – Савва чувствует, что я с большой радостью и болью слушаю о России. И он рассказывает о ней с удовольствием, вплетая в свои слова и грусть, и улыбку, и вздох.
– Мы даже перекликаемся с тем берегом-то! – дополняет Савва.
– Как же это вы делаете? Расскажите.
– Живем мы, братишка, на берегу Чудского озера. Одна половина озера за большевиками, другая за эстонским народом. Каждое утро как с той, так и с другой стороны выезжают на озеро рыбаки. Завидим друг друга да и давай голоса подавать:
– Ваня, это ты?
– Андрюше почтение!
– Низкий поклон бабушке Настасье! Так вот и перекликаемся.
Лошадь доплелась до придорожной березы и остановилась под ее золотистой сенью.
– Конек-то отдохнуть хочет, – сказал Савва, – ну и пусть отдохнет. Стариком стал Самолет-то, а раньше-то был как вихрь. Не задарма его Самолетом прозвали.
Савва набил трубку крепким эстонским самосадом.
– Когда-то, при Николае Александровиче, мы дружили с тем берегом-то, и даже родственники имеются как у них, так и у нас. У меня там дочка, Аграфена Саввишна, замужем за Палькой Козловым. Ну и, конечно, братишка, хочется порой с ними перекликнуться, про ихнее житье-то узнать, чай, ведь своя кровь. Вот видишь, как близко живем от России— рукой подать.
Оба мы задумались. Савва перестал курить. На сердце лежала одна дума – о ней, о России, такой ощутимой, близкой и такой далекой… такой недостижимой…
Придорожная береза осыпала нас золотом своего прощального осеннего убора. Крохотный листик упал на землистую сморщенную руку Саввы, и был он таким золотисто-заревым, что казалось, застыло на нем солнечное лобзание.
– Так вот и мы, братишка, как эти листочки, – вздохнул он тяжелым крестьянским вздохом, – оторвались от родного дерева и кругами, кругами разлетелись кто куда. Очень все это прискорбно, и когда испием до дна чашу нашей горечи?
Тихим-тихим, едва ощутимым хрустальным звоном звенела листопадная земля. Пахло болотной сыростью и осенним увяданием. В недалекой роще звенел топор, и это почему-то особенно напоминало осень. Солнце уже ушло, и только яркими платками пылали на небе зори. От зорь на земле алое озарение и нездешняя ласковость, какая бывает в монастырском храме после вечерни. Мы подъезжали к Чудскому озеру. Уже издали подуло на нас свежестью большой воды. Промерцали кресты белой церкви. С русской стороны дул ветер – русский ветер, который пробегал по лесам, равнинам, дорогам и соломенным крышам родной земли. Далекий берег тонул в грустных осенних сумерках, но все же были видны очертания черных изб, деревьев, мельницы и одинокой лодки.
Россия…
Я снял шапку и в глубокой тоске перекрестился на далекий сумеречный берег. Мозг, сердце и душу обжигали два грустных слова, оброненных Саввой во время нашей дорожной беседы: «Россия-скорбница!»
В дымной избе Саввы пили чай и смотрели в окно на Россию, и нам было видно, как в далеких крестьянских избах зажигались сиротливые вечерние огни.
Ночью я поднялся с соломенной постели и осторожно, не дыша, боясь разбудить Савву, опять подошел к окну и смотрел в молчаливую осеннюю ночь, стараясь отыскать огни моей Родины, но было темно и лишь шуршала листопадная земля.
Гробница
Все были изумлены, когда увидели за всенощным бдением Якова Льдова. За свое 15-летнее проживание в посаде слыл он за безбожника и отступника, так как церкви не признавал, праздников Господних не почитал и обо всем божественном отзывался с хулой и злобой.
Осел он в посаде после гражданской войны, построил большой дом, женился на какой-то пришлой молчаливой бабе и занялся крестьянством. Кто он, откуда – никто не знал, а спросить его не решались. Яков образом был темен, волосат, угрюм, на слова скуп, глаза имел пронзительные и человеконенавистные. Именем его пугали беспокойных ребят, и все были уверены, что он если не бывший душегуб, то во всяком случае каким-то черным грехом отягощенный. Знали только доподлинно, что он имел немалые деньги, шибко пил, и причем один, ночью, при свечке, при закрытых ставнях.
При входе его в церковь все перешепнулись и стали искоса смотреть на него. Яков стоял прямо, не шевелясь, опустив по швам длинные угрюмые руки. Всех занимал вопрос: перекрестится Яков или нет? Он стоял без движения, остро уставившись в темный угол, и даже не опустился вместе с другими на колени, когда пели «Хвалите имя Господне». Почему-то впервые только в церкви заметили, что Яков стал седым, похудевшим и как бы восставшим от долгой болезни.
Всенощная приближалась к концу. За окнами шумел церковными деревьями густой августовский вечер. После пропетия «Взбранной Воеводе» и расстанного, на сон грядущий, благословения отца Кирилла церковь стала пустеть. И когда в ней, кроме священника да причетника, гасившего лампады, никого не стало, к амвону подошел Яков Льдов.
– Тебе что, Яков? – спросил священник.
– К вам, батюшка. Исповедаться хочу.
По горячей возбужденности тона и той нутряной боли, какая прозвенела в словах его, отец Кирилл почувствовал, что исповедь предстоит серьезная, глубокая и, может быть, страшная…
В полутемной церкви, озаренной лишь лампадами перед иконостасом, отец Кирилл начал Таинство Исповеди. Подойдя к аналою с лежащим на нем крестом и Евангелием, Яков стал исповедаться. Говорил он отрывисто, угрюмо и тяжело, словно поднимал целину, часто задумывался и вытирал пот на лбу. Временами озирался по сторонам и цепко хватался за аналой.
– Мы отступали, – рассказывал он, – на город наступали красные. Нашей армии приходил конец. И вот, чтобы обеспечить себе положение в другой стране, решились мы, пять человек, на одно необыкновенное дело – украсть из собора серебряную, драгоценными камнями украшенную гробницу преподобного. Составили мы план. Раздобыли лошадей. На дровнях (зимой дело было) подъехали мы к собору. Требуем церковного сторожа (духовенство бежало за границу). Является церковный сторож.
«Ключи от собора, – требуем, – открывай!»
«На что вам?» – спрашивает сторож. Объясняем ему, так, мол, и так, сегодня ночью в город войдут красные – и нам главнокомандующий приказал срочно вывезти из собора мощи преподобного за границу, дабы коммунисты не надругались над ними…
«Ежели не веришь, – говорим, – вот мандат за печатью и подписью главнокомандующего».
Поверил нам сторож и открыл собор. Вечерело. Снег пошел, густой-прегустой. На улицах ни живой души. Все затаились. Вдали орудия бухают. На душе знобно было, но все же вошли мы в собор и приступили к делу. С большим трудом вытащили гробницу да на дровни, прикрыли тряпьем и соломой, гикнули на лошадей и поехали обходными путями к рубежу этого государства, где я живу уже шестнадцатый год. Всю ночь ехали мы лесными дорогами, утопая в снегу, и путь наш освещался заревом большого пожара – деревня горела. И вот мы за рубежом. Остановились. Лес – густой-прегустой. Туте одним нашим приятелем неладное приключилось. В разуме тронулся.
Подошел, это, он к гробнице преподобного, да как закричит, да как воскличет, мы даже побледнели все. Стал он то смеяться, то плакать и разные непутевые слова произносить. Чтобы не возиться с ним, один из наших его из нагана прикончил…
Отец Кирилл нервно взялся за наперсный крест, и рука его ходила дрожью.
Яков задумался, и лицо его сводила судорога. Он долго смотрел на свои руки, поднося к глазам то одну ладонь, то другую. Вынул из кармана платок, развернул его и не знал, что с ним делать.
Священник вывел его из оцепенения тихим вопросом:
– Что же произошло дальше?
– Дальше, батюшка, произошло самое страшное. Мы развели костер и стали делить нашу добычу на четыре части.
– Гробницу?
– Да, гробницу. Во-первых, мы сняли с гробовой покрышки драгоценные камни, серебряные кресты, золотые пластинки, а далее… топором разрубили серебряный гроб на доли.
– Как же вы поступили с мощами святого? – в ужасе прошептал священник.
– Мы вынули мощи из гроба, вырыли яму и захоронили их…
– Так, значит, мощи святого лежат в нашей земле?
– Да… здесь… неподалеку… но в каком месте – не помню…
Почти до рассвета в окнах домика отца Кирилла горел огонь, и запоздалые путники видели, как священник в тяжелом раздумье ходил из угла в угол, изредка останавливаясь перед иконами. Долго не гасился свет и в окнах Якова Льдова.
Антихрист
Посвящаю Ивану Савину
Медленно, стуча колесами, плывет по Волге пароход «Чайковский»». Волжская ночь. Небо, река, берега – все окутано синими сумерками, все неясное и задумчивое.
Волга искрилась отраженными звездами. Промелькнул маленький деловитый пароходик с длинным караваном барж, доверху нагруженных товарами. На одной из них кто-то ругался круто, по-волжски, и пели песню про одинокий курган на Волге, на котором Степан Разин думал свою думу перед походом на Москву.
Палуба «Чайковского» вся была занята переселенцами. Лохматые, угрюмые, бородатые.
Курили. Ругались. Высокий парень в полушубке подошел к борту, впился в далекий огонь, потонувший на том берегу в синих далях, и что-то пел про себя тихо, по-степному, бесконечно и грустно.
Переселенцы спали на грязной палубе. Порой кто-нибудь из спящих вскочит спросонок, поведет вокруг себя бессмысленным взором, глубоко, по-мужицки вздохнет и с тихим стоном опять нырнет в тревожный удушливый сон. Видно, снилась родная, покинутая деревня с черными избами, привольно раскинувшиеся зеленеющие нивы и травы, слышался шум леса, но проснулся, огляделся, и нет ничего – только небо, звезды, синий ночной мрак.
И думалось при взгляде на переселенцев:
Русь! Вся ты – уходящая в неведомые дали дорога. И куда манишь ты? Вся – порыв, неясное стремление вдаль. Вся история твоя, весь путь твой страннический.
Бросишь избу, простишься, как перед смертью, с родными, зашьешь в ладанку горсть земли сырой с могилы прадедов и в лапотках, с посохом и сумой, в убогом наряде, странницы шагом неспешным идешь ты, Русь, по путям пешеходным.
И кто остановит шаг твой, Русь-странница?
В самом отдаленном и укромном углу палубы вспыхивал мигающий огонек свечи и сквозь тихие переплески Волги раздавался мерный, напевный голос:
«И егда отверзе четвертую печать, слышах глас четвертого животно глаголющий: гряди и виждь. И видех, и се; конь блед, и седяй на нем. Имя ему смерть».
На полу сидел старик в ветхом заплатанном подряснике, опоясанный лыковым поясом и в стоптанных, исходивших не одну дороженьку лаптях.
Одной заскорузлой рукой старик держал белую помятую свечку, другой – старое Евангелие с медными застежками.
Со всех сторон к нему приникли сторожкие, казавшиеся при трепетном мигании свечи заплаканными и хмурыми лица крестьян.
Старик дочитал до конца, перекрестился двумя перстами, потушил свечу и вздохнул.
Мистическая жуть вползала в душу. Встала тишина. Слышно было, как с берега, в невиданной деревушке, ночной сторож бил в чугунную доску и в прибрежных камышах тилиликали кулики.
– Идет время, идет… – шепотом нарушил старик молчание. – Кто остановит шествие его? Кто предугадает думы Господни?
Скоро восплачет мир и возрыдает. Идет день отмщения Господня!
Гордой главой своей касаясь небес и стопами своими земли, идет по городам греховным, по деревням, рекам и морям великий и страшный и приведет в смятение всю поднебесную!
Голос старика опять понизился до шепота, и он произнес раздельно:
– А-н-т-и-х-р-и-с-т!..
Слушали напряженно, не дыша. В страхе притаились суровые люди с детскими испуганными глазами, кивали головами и вздрагивали.
Острыми глазами впился старик в звезды и как бы сквозь полусон певуче, словно перебирая струны, сказывал:
– В час ночной, когда молитвенны часы и спящий мир безгрешен, раскрывает Спас окно Своей небесной горницы, и глядит на маленькую землю, и грустит. Он ищет очами звезды земные – главы и кресты золоченые, где лежит его любимица – земля святорусская, и, найдя ее, долго глядит Спас на звезды ее, золотом горящие, и грустит пуще всего.
Кровью обливается сердце Спасово, глядючи, как спит в тихий час ночной Его любимица – Русь святая и не чует бед и напастей, ей уготованных.
Спит Расеюшка, скорби свои грядущие не ведающая, а Спас жалостный тихо благословляет из окна небесной горницы тихий ее покой, а Сам плачет…
Идет время, идет… Исполняются сроки. От звезды к звезде, от былинки полевой до камней подводных пронеслась тревога, и затаилась природа, и ждет дня великого и страшного.
Не чуют люди тревоги и не слышат, как страшно затаилась земля.
Поглядел я на жизнь больших городов, на фабрики, на шум и грохот адских машин, на гордое измышление ума человеческого, на пугливые растерянные лица, на злобу звериную, на жадность неутоленную, на души неуспокоенные и не нашел я древлего истового благочестия, умерла старая Русь – скорбница, печальница, молитвен-ница, и сказал я в сердце своем: гибель скоро!
И глядел я на пастырей-подвижников, и видел, как опускались у них руки и слова застывали на устах их при виде беззакония, и голос невидимый сказал мне: горе родине твоей!
В часы ночные приникал к росной земле и слушал, как гудит она.
Я чуял тревогу в шуме лесов, в мерцании святых звезд, в тихих переплесках рек и морей, в кровавых вечерних зорях, в завываниях волков, в шуме непогод, в смехе младенца играющего…
И сказало мне сердце: наступает день великий и страшный!
И пошел я, старый, к людям с тревогой своей, и осмеян был, и поруган, и камением был побиен…
Старик вздохнул с тихим всхлипом, и вздох был такой, что казалось, понесся он в звездную высь, что дошел он до самых звезд и овеял их, чистых, земной тяжкой горечью.
– Кто перенесет дни грядущие, – с каким-то надрывом продолжал старик, – кто стерпит невыносимую скорбь? Море мятется, земля иссыхает, небеса не дождят, растения увядают, души каменеют.
Будут люди искать помощи, а помощи не будет нигде…
Поля родины нашей усеяны будут трупами братьев и сестер. Младенец детства своего не увидит и в слезах умрет на тощей груди голодной матери своей.
Тогда сильно восплачет и воздохнет всякая душа.
И не будет руки спасающей.
И не будет Бога милующего.
На земле безводной, без цветов полевых и лесов прохладных, воцарится антихрист!
С рыданием будут встречать друг друга, обнимутся и умирать будут на торжищах, и некому будет хоронить… живые завидовать будут мертвым.
– Что же нам делать, дедушка? – кто-то произнес в бессильном страхе и заплакал.
Старик подумал, взглянул на звезды – спросил их о чем-то и шепотом, раздельно, словно передавая какую-то великую тайну, сказал:
– Молиться надо!
Он закрыл лицо руками, опустил на колени голову, задумался и опять, как в легком прозрачном полусне, зашептал:
– Идет время, идет… Кто остановит шествие его? Кто предугадает думу Господню?
В страхе притаились суровые люди с детскими испуганными глазами, кивали головами и тихо плакали. А кругом ночь. Звезды. Сияют они над маленькой землей и шепчут:
– Спи, маленькая, спи. Забудь свои скорби. На тебя глядит из окна небесной горницы Спас Милостивый и тихо сквозь слезы благословляет.
Тревога
В раскрытое окно густой синей прохладой входил осенний вечер. Горько пахло угасающей травой. В колодец падали с висящего ведра гулкие капли воды. В тишине застывшего вечера звуки этих капель казались единственными на земле.
По случаю убийства старообрядческого начетчика Аввакума собственным сыном Кузькой Жиганом деревня была в оцепенении и в затаенном шепоте. Ни голосов, ни песен, ни собачьего даже лая. На подоконник упал алый кленовый лист.
Отец Сергий взял его и сказал:
– Грядет осень…
Повернул ко мне лицо свое. Лицо сельского батюшки. Тихое, обыкновенное, не запоминающееся. Таких лиц много, как былинок в русских полях. Глаза только не простые – не то надземные, не то безумные.
– Вот и не стало Аввакума, – сказал он, я зябко съежил плечи. Помолчал долгим думающим молчанием и неожиданно запел странническим распевом, опустив голову и скрестив бледные священнические руки.
Кому повем печаль мою, Кого призову ко рыданию. Токмо Тебе, Владыко мои, Известен плач сердечный мои. Кто бы мне дал источник слез, Я плакал бы и день и нощь…– Песня эта прозывается «Плач Иосифа Прекраснаго», – пояснил отец Сергий, – любимая песня покойного Аввакума. Сядет, бывало, вечером на ступеньку своей бревенчатой молельни, воззрится на небеса, сложит руки крест-накрест и запоет… Стих долгий и трогательный. О том он, как Иосифа продавали в рабство и как он плакал, ведомый в землю Египетскую:
Увиждь, мат и, Иосифа… Возстани скоро из гроба. Твое чадо любимое Ведомо есть погаными. Моя братия продаша им. Иду ныне во работу к ним.– Заслышат голос Аввакума и ползком-ползком к нему, под кусты, в засень, чтобы послушать его… Хорошо пвл старче – душевно и усладно, по-старорусски! Хоть и не любил он, Царство ему Небесное, нас, никониан, но я-то любил его и никогда не пререкался с ним о вере. Он видом своим благочестным, поступью и речью тоску будил по ушедшей Русской земле. Дремучей, исконной, сосной и родниками святыми шумящей!
– Таких стариков, как Аввакум, больше не встретишь!..
– А за что сын-то на него так посягнул? – спросил я затуманенного сумерками отца Сергия.
– Неведомо. Нощь бо есть в народе русском!
Отец Сергий закрыл окно. К земле приникала ночь. В деревне горел лишь один огонек.
– Это в Аввакумовой избе свет. Готовят его в дорогу. Да, не стало Аввакума. Отмерла еще ветвь на древе древнего благочестия. До вашего прихода полиция вела мимо моего окна связанного Кузьку. Увидал меня и крикнул: «Оксти меня, батька». Я благословил его, – отец Сергий поднялся с места и зажег лампаду. На иконе Спаситель с Евангелием. Глаза непреклонные и грозные, смотрящие на все стороны.
«Такие же глаза будут у Него, когда Он придет судить живых и мертвых». – почему-то подумал я. Моя дума передалась отцу Сергию и колыхнула что-то близкое для него и тревожное. Он взволнованно заходил по горенке. Встал около меня. Маленький и как бы пушистый от седой своей бороды. Он спросил меня дрогнувшим голосом:
– Вы верите в близкое наступление Страшного Суда?
Я ничего не ответил.
– А я верю, – сказал он потаенным шепотом, – так вот и кажется, что сейчас вострубят Архангелы в свои трубы и мертвые восстанут из гробов своих.
Я хотел сказать ему, что это нервы и последствия пережитого нами за эти ужасные годы – Страшному Суду подобные!
– Вы не думайте, – пылко вознесся его голос, – что эта тревога вызвана убийством, осенними шорохами, старостью моей или перенесенным нами за войну и революцию, – нет! Точно вам объяснить не могу. Скажу лишь, что я по ночам спать не могу. Встаю, зажигаю свечу и начинаю молиться… Посмотрю в окно на спящую землю нашу и плачу, что она и деяния рук наших обречены на гибель!.. Все превратится в первозданную тьму, над которой никогда больше не прогремит голос Творца – да будет свет!..
Отец Сергий посмотрел на икону. Долго не решался говорить.
– Сегодня выношу за литургией Чашу Господню, – сказал он в тревоге, – и, перед тем как произнести запричастную молитву: «Верую Господи и исповедую», меня вдруг опалила мысль: а не в последнюю ли годину мы приобщаем мир Кровью Христовой?..
Уже ночь была, когда я вышел из горенки отца Сергия. Путь мой лежал через поле. На небе было много звезд, и земля, сжатая густой тишиной, казалась пустынной и брошенной.
Чувствовалось страшное сиротство свое среди угасающего русского поля. Чтобы рассеять это чувство и укрепить себя в мысли, что ты не один, я обернулся в сторону домика отца Сергия.
В окне заколебался огонек свечи. Он то возносился, то опускался… Это отец Сергий, охваченный тревогой, со свечой в руке, молился с коленопреклонением: «Да мимо идет нас чаша сия…»
Всю дорогу шел со мной шепот отца Сергия:
– А не в последнюю ли годину мы приобщаем мир Кровью Христовой?
Оскудение
Лесное безмолвие и снежный покой.
С матерых сосен падает снег. По синим сугробам ступает вечер. Глубина леса гудит, как дальнее море. Между соснами желтый огонек лесной избушки. По неслышной заметенной дороге трусит к монастырю Преблагой Царицы старая костлявая лошадь. Правит ею горбатая, в заплатанном тулупе и в черном платке монахиня Макария.
Дорога до монастыря дальняя, и, чтобы скоротать время, Макария поет монастырские стихи и занимает меня разговорами.
– В давние это было времена, – говорит она с придыханием, – при царе Алексии Тишайшем…
Кроме леса, озер да неба ничего не было на месте нашего монастыря. И вот приключилось дивное чудо!.. Пасет пастушок-отрок стадо и зрит: на святой горе, где теперь обитель наша воздвижена, стоит Некая Жена, вся молниями осиянная и в солнце приукрашенная… Стоит, Светоносная, и благословляет святую нашу гору… Вострепетал отрок. Людей кликнул. Поднялись на гору и на том месте, где стояла молниями Осиянная, обрели образ Преблагой Царицы. На месте явления Пречистой Богоматери монастырь построили красоты несказанной, и много скорбных, больных, Христова утешения чающих стали притекать к образу и получать от него неоскудные и богатые милости.
Макария послушала шум сосен и вздохнула:
– А теперь оскудение… Тускнеют златые главы собора, и рушатся монастырские стены… Недавно, во время полунощницы, упал с колокольни самый дорогой – подарок царский – серебряный колокол… Не к добру…
Лицо монахини принимает робкое выражение, и она зашептала молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных». Опять повернула ко мне лицо свое:
– А одна из наших веру потеряла. Сестра Мария. Слюбилась с парнем и ушла из обители. Как пришла нужда, то много сестер променяло рясу черную на мирское одеяние и оставили обитель. А другая из наших сестер, монахиня Олимпиада, в затвор ушла и обет молчальничества на себя наложила… Горе с ней недавно приключилось!.. – пригорюнилась она. – Подвига ли великого жаждала душа ее, или в разуме помутилась Олимпиадушка, но только недавно выбежала она из келии на мороз, босая, и закричала:
– Пойдемте, сестры мои, в Кремль, душу за Христа отдать! Венцы мученические принять!..
В соснах засвистел ветер. В лесной чащобе трепыхала крыльями одинокая птица. Из леса выехали в поле. Кружились снежные вьюнки, и звенела поземка. Надвигалась вьюга. Чувствуя дыхание ее, старый конь побежал бойчее.
У дороги, под крылатой сосной, деревянный осьмиконечный крест, обвитый вьюжным дымом.
– Вот и Пригвожденная Богоматерь, – указывает Макария на крест, – скоро и монастырь!
Спрашиваю монахиню:
– Почему крест называется Пригвожденной Богоматерью?
Макария останавливает лошадь и предлагает подойти к нему поближе. На кресте, под навесом, икона Суздальской Божьей Матери – заступницы ржаных полей. Я вгляделся в образ. Чья-то кощунственная рука вбила в глаза Богоматери гвозди!
Монахиня крестилась и строго шептала: «Спаси и помилуй его… помраченного, озлобленного, Тебя пригвоздившего!..»
Придорожный крест, обвитый вьюгой, завечеревшее поле, старый поникший конь и горбатая монахиня, творящая молитву за темную душу дорожного бродяги, навевали думы о ней… России монашеской, в молитве сгорающей, и России разбойной, вбивающей гвозди в глаза Пресвятой Девы. Долго ехали молча. Поднялись на пригорок и увидели кресты Преблагой Царицы.
Застуженный конь обрадованно тряхнул гривой и бойко побежал к монастырским стенам.
– Рядом с монастырем деревня, – говорила монахиня, – и народ в ней, особливо молодежь, ужасно озорной. Много от них скорбей всяких. Летом яблоки в саду воруют, игуменье стекла в окнах выбивают, в церкви бражничают… Есть у нас святой источник… Вода в нем целебная… Так не поверите ли… озорники-то в святую воду… Господи! На церковных стенах грязные слова пишут и камнями целятся в кресты собора. Страшно, родной, жить стало! – И вдруг бодрым, звенящим голосом она воскликнула, светло улыбаясь: – Недавно у нас свершилось великое чудо!
В старой часовне обновился образ Господа Вседержителя! Был совсем как уголь, а теперь озарился неизреченным светом!
Мы подъехали к монастырю.
Поздно ночью я вышел на улицу.
Кружилась поземка, и белый вьюжный дым проносился над монастырскими стенами. В окнах келий погасли огни, только кое-где лампадные искорки.
До меня донеслась вдруг, колеблемая вьюгой, чья-то озябшая молитва к Преблагой Царице:
– Зриши мою беду… зриши мою скорбь…
Я подошел ближе.
У монастырских врат стояла в тулупе вратарница и по древнему обычаю охраняла опочивший монастырь.
А вокруг тишина, вьюжный дым и неведомый зернистый шелест. Не то шуршала стеклянная поземка, не то осыпались монастырские стены.
Алтарь затворенный
В глубине большого сибирского леса звонили. Звон ясный, прохладный, как далекое журчание родника. Словно заря с зарею, он сливался с густым шумом апрельского леса, вечерними туманами, лесными озерками талых снегов, с тонким звенящим шелестом предвесенья.
Я затерялся в лесной чаще и пошел навстречу звону. В белом круге тонких берез показался убогий монастырский скит. Вечернее солнце золотило бревенчатый храм. В пролете колокольни седая, в черной скуфье голова звонаря.
Я вошел в святые врата обители и сел на скамью. На колокольне отзвонили. Ко мне подошел седой инок.
– Звонарь Антоний, – сказал он и уставно поклонился. – Редко кто заходит в нашу обитель… Видите, каково запустение.
– Много ли у вас братии? – спрашиваю.
– Кроме меня, никого. Все ушли в страну далечу… Кто лесной суровости не выдержал и в мир ушел, а иные смерть мученическую прияли…
Года три тому назад пришли к нам в ночь на Успенов день… Очень били нас. Глумились. Иконы штыками прокалывали… В ту ночь расстреляли они схимника Феоктиста, иеромонаха Григория, иеромонаха Македония, иеродьякона Сергия, послушника Вениамина… – Он посмотрел на близлежащее скитское кладбище. – Теперь один я здесь! По-прежнему звоню, молитвословлю, в огороде копаюсь, в лес за дровами хожу…
– А не боитесь, что на ваш звон опять придут сюда?
– Пусть приходят, но я устава нашего не преступлю… Одно прискорбно, что много лет как затворены врата в алтарь Господень и некому совершить литургию… – На время задумался, опустив голову, а потом опять вскинул на меня золотые от заката глаза и сказал: – Завтра Великий понедельник! Ежели можешь, то пойдем со мною молиться…
Мы ступили в завечеревшую церковь.
Антоний затеплил свечи перед затворенными вратами алтаря и стал на клирос. Свечи осветили пронзенные штыками старые иконы.
Началась великая страстная утреня.
Вся Русская земля зазвучала в древнем каноне Страстной седмицы: «Непроходимо волнующееся море… Божиим своим велением насушившему…»
Лесник Гордей
Предвесенним ветреным днем в чайную у большой дороги пришел лесник Гордей; без шапки, в мокрых валенках и дырявом армяке. Седые волосы взвихрены ветром. Встал у двери. Развел красными обветренными руками и сказал темной чайной, словно в бреду или в опьянении:
– Я говорю ему, тихо так да душевно: почто, сыне мой, душу свою очернил?
– О чем ты, дедушка? – спросили из-за стола.
Лесник обвел испуганными глазами низкий прокопченный потолок, пухлого хозяина Архипа, полки с белыми чайниками, людей в синем табачном дыму и ответил с горькой улыбкой:
– О сыне, Федоре Гордеевиче…
– С города приехал? Ну и слава Богу, тебе, старому, помога. А ты тосковал по нем! – сказал кто-то.
– Приехал… да… приехал, но не тот. Сын мой Федя умер! Умер ласковый монастырский Федя, а явился другой: душою черен, образом угрюм, табашник и сквернослов!
Чайная не слушала Гордея, а он жаловался:
– Говорю я сегодня Федору моему: пойдем, как встарь, в Николину обитель на вынос плащаницы. Помнишь, как утешно поют там монахи: «Приидите ублажим Иосифа приснопамятнаго», – а он мне в ответ: не желаю! Один у монахов обман, я лучше на гармошке сыграну… Ах, братцы, как он пронзил мое сердце этими словами! Не к добру Ласка моя всю ночь выла, не к добру!.. Как все это горестно, братцы! Ждал его. Тосковал. Сапоги сшил ему новые. Утехой, полагал, будет в старости моей, а он… Плащаницу на гармонь, Евандель на цыгарки!.. – Гордей вышел на середину чайной. – Прискорбна душа моя, други! Научите, как сына моего образумить?
– Гордей-то, кажись, в разуме замутился! – качнулись чьи-то слова.
– Замутишься! Жил себе как лесной схимник. Лампадочка да Псалтырь, лес да Господь, а тут – на тебе, старый, на утешение: табак да гармошку!
– Архип! – кивнули засыпающему хозяину, – нельзя ли граммофончиком нас утешить? Наставь пластиночку про Бима и Бома!
Сквозь хриплый жестяной хохот Гордей жаловался прокуренной и хмельной чайной, обводя всех спрашивающими глазами:
– Я его, Федю-то, сызмальства учил читать по святой старинной книге, по благословенным местам водил… Был он тихим, как монашек, а теперь говорит: не желаю! В обители к выносу плащаницы благовестят, а он на гармонии играет! Сыне мой, почто душу свою очернил? Али я тебя не пестал, али я тебя не берег? – Гордей подошел к хозяину и пытливо спросил его: – Есть у тебя дети?
– Растут два оболтуса, – лениво буркнул тот, укладывая голову на прилавок.
– Веруют они в Бога и святую Его книгу?
– Не знаю. Наше дело торговое!
– Спокойный ты человек, – покачал головой лесник, – а я вот так не могу. Болит душа моя о сыне заблудшем…
От хозяина Гордей перешел к ражему парню:
– Объясни ты мне…
– Отстань, борода! Я холостой! Не мешай Бима и Бома слушать!..
Лесник останавливался то перед одним, то перед другим, прося у чайной утешных слов. Молча и скорбно потоптался на месте, а потом вышел на ветреную улицу и поплелся размытой дождями дорогой к чернеющему лесу.
Шел по лужам, размахивал руками и сам с собою разговаривал.
Остановился посредине дороги. Поднял лохматую голову к затученному небу – не то молился, спрашивал, глядел ли, как плыли тучи?
Заглянул в лес и опять повернулся к чайной, словно испугался своей избы, шума деревьев и гармошки сына.
Пришел в чайную и принес те же слова, ту же тоску и те же беспокойные глаза.
– Дядя, – позвали его, – плюнь на все! Иди, глотни из бутылочки смоленского самогону. Сразу запляшешь!
– Не пьющий я. Мне бы душевного человека на манер старца – с ним бы побеседовать!
Подошел к Гордею ражий парень, взял его за руки и усадил на скамью.
Сидел он до тех пор, пока не вошли в чайную глубокие вечерние тени и не стало в ней ни одного человека.
Архип взглянул на старика, и что-то похожее на жалость затеплилось в его глазах. Он хотел было подойти к нему и утешить, но не нашелся, что сказать ему, а лишь молча поставил перед ним стакан чая.
Древняя книга
Когда живы были старики, то Библия лежала под иконами, на полке, покрытая парчовым покровом. Сейчас она служит для хозяйственных надобностей большой семьи бухгалтера Ивана Платоновича Рукавишникова и лежит где попало. Библией пользовались как прессом, подпирали ею окно во время сильных ветров и давали перелистывать малым ребятам. На ее страницах дети рисовали домики и кораблики, садились на нее и становились.
Заглавные листы древней книги были исписаны житийными пометками, от дедовых лет и до нашего времени.
В ноябре 1752 года узорной славянской вязью тихо и свято было написано:
«Сия боговдохновенная книга, истина и путь вверженному в пучину отчаяния! Сыне мой, возлюби мудрость веков древних и насладися ею яко жаждущий воды живой. Вкушая сладость ея, долголетен и безпечален будеши на земле. Блюди книгу сию яко камень драгий, яко око свое. Да будет она тебе и потомству твоему в дар и благословение».
В 1812 году чья-то рука записала скорбные слова: «Помяни, Господи, во Царствии Твоем убиенных на поле брани рабов Твоих Петра, Герасима, Платона – возлюбленных сынов моих».
«В лето 1845-е, генваря 12 дня волею Божией преставился еси родитель наш Аркадий Петрович Рукавишников. Жития его было 82 года, четыре месяцы и три дня. Пред кончиной сказано было им в бреду: в мире скорбни будете: Огнь и кровь… престолов колебание, и алтарей осквернение…»
«Апреля 20 сего числа бысть великий гром. В книге, именуемой “Звездочет царя Ираклия”, сказано: “ Аще ли возгремит гром в юнце, пшенице пагуба по местам являет, и в западных странах недузи, в царских дворах радость велия”».
«В канун Благовещения 1862 года читал пророчества Даниила о судьбах мира. Спаси, Господи, и помилуй землю Твою, грехми и беззакониями затемненную…»
«Сколь велика и премудра книга сия! Мое горе безутешным было, а теперь утешен есть».
Блеклые, рыжеватые от древности письмена, ласково положенные дедами, сменяются другими: «Сахарная синяя бумага помогает от кашля, – сверни и кури. Чтобы зыбашное дитя не полошилось, положь веник под зыбку. “Чага” —зеленые наросты на березе – помогает от головной боли. Подберезнишна трава от горла…»
«6 апреля 1899 года Петр Семеныч сделал предложение Глашеньке. 10 сего апреля портнихе Марье Демидовой дан целковый с четвертаком».
«2 июня 1902 года дано в стирку: две рубашки, три простыни, три наволочки, пять пар чулок и шесть носовых платков».
Скучающая рука жирно вывела печатными буквами: «Кто возьмет сию книгу без спроса, тот останется без носа».
Мелко-мелко, придушенными буковками накрапано на титульном листе: «не забыть написать инспектору народных училищ о беззаконном сожительстве с особой женского пола учителя Трофимова».
На первой странице книги Бытия летающим почерком, задорно и молодо начертано: «Моисей великий обманщик и фокусник».
В конце Библии продолжение записей на переплете: «Прадед, дед и вообще милые родственнички набитые дураки! Некоторые, которые умные, в такие основательные переплеты золотые червонцы зашивали, а здесь ничего – зря лишь ножик сломал!»
«16 сентября 1918 г. я удостоверился на личном факте, что ни хрена божественного нет. Вырываю страницу из этой называемой Библии и иду туда, куда царь пешком ходил».
В уголке испуганными старческими строками приписано исполнившееся пророчество Аркадия Петровича Рукавишникова в 1845 году: «Огнь и кровь… престолов колебание и алтарей осквернение».
Через весь лист последней страницы Апокалипсиса бойко прошлась надпись красным карандашом:
«12 июля 1933 года наша футбольная команда попала в класс “А”, Ура!»
Свеча
Вечерним лесом идут дед Софрон и внучек Петька. Дед в тулупе. Сгорбленный. Борода седая. Развевает ее весенний ветер.
Под ногами хрустят ломкие подзимки.
Петька шагает позади деда. Ему лет восемь. В тулупчике. На глаза лезет тятькина шапка. В руке у него верба, пахнущая ветром, снежным оврагом и чуть-чуть тепловатым солнцем.
Лес гудел зарождающейся весенней силой. Петьке почудился дальний звон. Он остановился и стал слушать.
– Дедушка!.. Чу!.. Звонят…
– Это лес звенит. Гудит Господень колокол… Весна идет, оттого и звон!.. – отвечает дед. Петька спросил деда:
– В церкву идем, дедушка?
– В церкву, любяга, к Светлой заутрене.
– Да она сгорела, дедушка! Летось ведь пожгли. Нетути церкви. Кирпичи да головки одни…
– Ничего не значит! – сурово отвечает Софрон.
– Чудной!.. – солидно ворчит Петька. – Церкви нетути, а мы бредем! Мара, что ли, на деда напала? Сапоги только истяпаем!
Среди обгорелого сосняка лежали черные развалины церкви. Дед с внуком перекрестились.
– Вот и пришли… – как бы сквозь взрыд сказал Софрон. Он долго стоял, опустив голову и свесив руки. Приближалась знобкая, но тихая пасхальная ночь. Софрон вынул из котомки толстую восковую свечу, затеплил ее, поставил на камень среди развалин. Помолился в землю и запел: – Христос воскресе из мертвых… – похристосовался с внуком и сел на обгорелое бревно, – Да… Шесть десятков лет ходил сюда. На этом месте с тятенькой часто стоял и по его смерти место сие не покинул. Тут икона святителя Николая стояла… В одной ручке угодник церковочку держал, а в другой меч… И бывало, что ни попросишь у него, он всегда подаст тебе!.. До-о-брый угодник, послушливый да зовкий!.. Да, вот… А тута, любяга, алтарь стоял… Встань на коленки и поклонись, милой, месту сему… Так вот… Эх, Петюшка, Петюшка…
Ничего больше Софрон не сказал. Он сидел до того долго, что Петьке захотелось спать. Он сел с дедом рядышком и опустил голову на его колени, а дед прикрывал его полою тулупа.
Ветер
Седыми от инея полями, синим осенним пред-утренником чахлый мужичонка Трифон вез на скрипучей телеге Павла Тригорина в маленький уездный городишко.
Пятнадцать лет не был Тригорин в своем городе. А когда-то босоногим мальчуганом бегал по его зеленым улицам, таскал с ребятами яблоки с чужих садов, подавал в церкви кадило батюшке Андрею, учился в церковно-приходской школе и тайком вздыхал по батюшкиной дочке Насте.
Тригорин призакрыл глаза и представил себе маленький городок, с его тенистыми одичавшими садами, крепкими купеческими домами, ленивой омутистой речкой, базарной площадью с запахом сена и мучных складов, придорожными часовнями и тихими лампадными огнями на зеленом кладбище.
В поле было пустынно и холодно. Ветер сгибал придорожные березы. По небесной пустыне летели журавли.
– А далеко, поди, журавль летит? – спросил Трифон.
– За тысячи верст.
– А ты не врешь?
– Зачем же мне врать-то, чудак ты этакий!
Трифон наморщил лоб, задумался… Вероятно, силился представить себе то огромное пространство, которое должны перелететь птицы.
– Даст же Господь такое разумение Своей твари! Без языка, без конпаса летят они тыщи верст и прилетают на место свое. По моему разумению, птица выходит умнее другого человека. Возьмем, к примеру, меня. Скажи мне: «Трифон, иди пешком в Москву…» Да я, ей-Богу, разов двадцать заблудился бы.
По дороге встретился лохматый мужик в солдатской шинели и с курицей под мышкой. Трифон остановил лошадь и спросил:
– Куда, борода, шагаешь?
– В Козьево, к свояку Кузьме Ивановичу, – хлюпнув носом, ответил путник.
– Зачем?
– В гости. Вчерась сказывали, что у Кузьмы Ивановича запой открылся. Иду проздравлять его. Вот и курицу ему несу. А вы куда?
– В город.
– Так, так…
Мужику хотелось еще кое-что спросить, но в это время закудахтала курица, и он махнул рукой.
Не успела телега отъехать и двух саженей, как позади раздался голос путника.
– Эй, братишки! Остановитесь!
– Что тебе?
– В деревню Козьево я правильно иду? – спросил мужик.
– Правильно. Ты что ж, впервой идешь, что ли, по этой дороге?
– Ходил, конечно, но сегодня я что-то в сумлений. Это, поди, со вчерашнего самогона у меня в кумполе муть и задумчивость. Извиняемся.
– Я же говорил вам, – заметил Трифон Тригорину, – что журавль умнее человека!
Тригорину захотелось узнать что-нибудь про свой родной город и особенно про отца Андрея, к которому ехал в гости.
– Поди, постарел теперь отец Анд рей-то? – спросил он Трифона.
– По земле ходить уже едва может, за небо цепляется… – Трифон посмотрел на высохший ольшаник и добавил: – Старый лес рушится, молодой растет…
Хотелось Трифону спросить и про Настю, но промолчал.
Проезжали мимо выжженного пожаром старого парка. На месте барского особняка с белыми колоннами чернело пепелище. А когда-то здесь гудели дубы, березы и липы. Из раскрытых окон доносились звуки рояля, и на балконе часто мелькало белое девичье платье.
– Сожгли! – сказал Трифон, указывая кнутовищем на выгоревший опустелый парк. – Во время пожара сгорела дочка баринова, барышня Нина Николаевна. В ту ночь, дело осенью было, замутившиеся души перестреляли всех собак на псарне и любимой бариновой лошади штыками
глаза выкололи…
На дорогу выбежала старая прихрамывающая собака. Она не залаяла, а только посмотрела на проезжающих тусклыми глазами.
– Барская собака-то, – пояснил Трифон, – любимица Нины Николаевны. Один командующий увез, было, эту собаку с собой, но она, сказывают люди, перегрызла ему сонному глотку и опять сюда прибежала. Так вот и живет здесь в погребе. И любопытная, скажу вам, собака. Ни на кого она так не лает, как на людей, которые в солдатских папахах.
Дорога опять пошла унылыми осенними полями с придорожными ветлами, верстовыми столбами, кустами и далекими избами. На мгновение выглянуло тусклое солнце и осветило рыжую щетину поля. Ветер принес откуда-то запах смолистого дыма.
– Большая скорбь ведь у отца Андрея-то, – сказал Трифон.
– Какая скорбь? – спросил Тригорин и подумал: наверное, умерла Настя…
– Навязался ему на шею отец Петро. Не поп, скажу я вам, а прямо-таки аспид. Сам махонький, кубовастенький, но зловредный.
– Какой же это отец Петр-то?
– Петро-то? – переспросил Трифон. – Да он у нас в Богоявленской церкви вторым священником служит. Отцу-то Андрею по немощи телесной служить часто невмоготу, так отца
Петра к нам на погибель приставили, от отцов-живцов!
– Плохой, говоришь?
– И-и-их, братишка, и не спрашивай! – Трифон понизил голос: —Древнего чину не соблюдает. Новые порядки вводит. Перед причастием еду принимает и в карты играет. Все это, братишка, полбеды, и старые-то батюшки, нечего греха таить, любили выпить и в картишки перекинуться, но где это видано, чтобы священник в Бога не верил?
– Откуда ты знаешь, что он не верует?
– Да у нас такой слух, что он рясу-то для видимости одел, чтобы, значит, с амвона новую жизнь славить. Службы Господней не пройдет, чтобы он в проповедях ее не восхвалял. И даже… – От волнения у Трифона пересекся голос. – Даже во Христа как в Сына Божия не верует! Недавно в проповеди сказал, что Господь-то наш, Иисус Христос, обнаковенный человек, на манер Ленина… Ей-Богу! Собственными ушами слышал!
Показалось маленькое, черное от осенней хмури село Святые Ручьи. По песчаному взгорью разбросались бревенчатые избы. На крыльце деревенской лавчонки сидел чумазый мальчишка в линялой голубой рубашке и отцовских валенках. Надув бледные щеки, мальчишка дудел в пастушескую жалейку. В окно лавки смотрела вязанка баранок, банка из-под деревянного масла и несколько глиняных чашек. Пахло ржаным хлебом, кожей и дымом. На горе, в круге старых дуплистых лип стояла белая церковь без креста на куполе.
– Церковь-то, – заметил Трифон, – в народный дом превращена. Каждую субботу в ней гармонь да плясы.
Навстречу шел лохматый старик в валенках и распахнутом тулупе. На его груди висел большой медный крест.
Он шел по дороге, крестообразно сложив руки, и блаженно улыбался.
– Это Митя блаженный, дитя Божье…
Трифон остановил лошадь и подозвал старика.
– Прими хлебца ради Христа!
Митя молча подошел к телеге и бережно, как просфору, принял ломоть хлеба и поцеловал его.
– Богатым человеком был, – вздохнул Трифон, кивая в сторону удаляющегося Мити, – но ограбили и дом его сожгли. А над дочерью Машенькой люто надругались… Видите, колодец около мельницы. В этом самом колодце Машенька утопилась… С той поры отец ее ума лишился.
Деревня осталась позади. Дорога пошла лесом. У края придорожной канавы, на вязанке хвороста сидел в рваной ряске и опорках седой человек и дул на похолодевшие красные пальцы.
– А это батюшка отец Сергий. Священник той церкви, что в народный дом превратили. Теперь занимается он сапожным ремеслом… А недавно отец Петр сказал у нас такую проповедь, что мы его чуть не поколотили, – вернулся Трифон к прежнему разговору.
– О чем же он вам говорил?
– Я вам по порядку расскажу. У нас, видишь ли, в приходе две церкви. Одна старая, зимняя, другая – летняя. Понадобился нашим парням клуб. Об этом проведал отец Петр. Приходит к ним на собрание и говорит: «Вам, ребята, клуб нужен? Так берите, – говорит, – церковь, и никаких». Ребята, конечно, его качать. Хорошо-с. После этого факту выходит отец Петр в воскресенье на амвон и говорит:
– Так, мол, и так, братие и сестры, новая теперича жизнь и новые люди, вы, старички, должны посторониться и уступить место молодняку. У нас, говорит, две церкви, одна из них пустая. Отдадим, братия и сестры, эту церковь молодняку. Пущай она там культурный очаг зажигает. Иконы, в случае чего, и вынести можно…
Около амвона стоял дедушка Парфен. Дородный да крепкий такой, как дуб. Стукнет, это, он палкой о пол да как гаркнет на всю церковь:
– Ты что это, поп, рехнулся, что ли?
Поп на Парфения:
– Не имеешь, – говорит, – права осуждать своего пастыря!
Парфений на своем.
– Имею, – говорит, – полное право. Ежели поп святой храм отдает на попрание псам, то я имею право не только осудить, но даже десницей заушить его, яко Николай Мирликийский еретика Ария!
Что только не поднялось в церкви после этих слов! Шум, топот, гомон и даже, прости, Господи, наши согрешения, ругань! Сын мой, бывший унтер-офицер, схватил подсвечник да подсвечником хотел Петра-то гвиздануть! Дьякон Александр от греха отвел. Гневом Божьим нам пригрозил. Еле очухались от помрачения злобы, но церкви не отдали! И что за времена лютые наступили, Господи! Неужто нам, старикам, отходную пора читать?
К вечеру телега загромыхала по горбатой булыжной мостовой родного Тригорину города. Те же сонные, покосившиеся заборы с остроконечными ржавыми гвоздями, базарная площадь с каланчой, собор с потемневшими куполами. Запах пыли, смолы и дыма. Среди мостовой лежало пьяное тело. В чайной играл граммофон. Мертвыми, заколоченными окнами глядели бойкие когда-то торговые ряды. Вечерний ветер гнал по мостовой стаю жухлых листьев и раскачивал черный тяжелый крендель над входом в булочную.
Тригорину почему-то вспомнилось, как лет двадцать тому назад этот крендель упал на голову купца Толоконникова. Когда поднимался, бывало, разговор о купце Толоконникове, то обязательно прибавляли:
– Тот самый, которого чуть кренделем не убило!
Лошадь остановилась около низенького от старости, покрытого плесенью домика отца Андрея. В окнах— покой, лампадное мерцание и сумеречная печаль, какая бывает только в старых, уснувших домах…
Отец Андрей долго не узнавал Тригорина, пристально рассматривал его угасающими глазами и, когда узнал, долго не выпускал его из своих объятий и заплакал от радости.
За эти годы много было пережито, о многом хотелось рассказать друг другу, но они долго сидели молча и не знали, с чего начать.
– Петюшка, – засуетился внезапно отец Андрей, – ставь самовар-то, постреленок, – крикнул он мальчугану лет десяти в белой рубашонке. – Внук мой! Родители-то от тифа померли. Лицом-то он весь в мать. Помнишь Настю-то? – спросил отец Андрей и заплакал.
На стене висел портрет Насти в платье воспитанницы епархиального училища. Тригорину вспомнилось, как он когда-то нарвал росистой сирени, подкрался ночью к дому и бросил букет в открытое окно ее спаленки. Вспомнилось, как в березовый Троицын день, во время коленопреклоненной молитвы в церкви, у Насти выпал из кармана беленький платочек, как он поднял его, а потом, выйдя из церкви, спрятался на кладбище, стал целовать его, и от чего-то хотелось плакать.
– Все ушли в страну далече… в невечерние поля Господни, – шептал отец Андрей, опираясь на посох, – Настя ушла… Матушка недавно преставилась. Нет и Володеньки, сына моего… А когда-то так шумно и весело было в нашем доме. Все проходит, яко сон, яко крин благоухающий, яко роса усыхающая. Помнишь любимую песню Володи:
Время пролетело, слава прожита, Вече онемело, сила отнята…За старым самоваром, когда-то отражавшим в себе и лицо Насти, и хлопотуньи-матушки, и студента Володи, в уюте священнической горницы, под тихие озарения синей лампады перед образом «Господа Славы» много горького поведал Тригорину отец Андрей:
– Старый наш дьякон ларек где-то открыл. Квасом да бубликами торгует. Отец Спиридон снял сан и служит конторщиком на бумажной фабрике. Покровская церковь, что на Сиреневой улице, в чайную превращена, а монастырь Скорбящей Богоматери – в казармы. Наш новый настоятель, отец Петр, завтра серебро с икон снимать будет и отдаст его на нужды государства, – рассказывал отец Андрей без вздохов, без укоризны и только временами прикладывал руку к сердцу.
За окнами шумел ветер и гудели деревья.
Под колоколами
Вешним вечером сидели мы с глухим звонарем Осипом на колокольне под большим колоколом и ждали, когда крикнет сторож Иона из березовой ограды:
– Эй, звонари, трезвонь к Евангелию!
В древней церкви шла всенощная в похвалу Николы Вешнего. На паперти, в зеленом круге полевых просторов, перелесков, дымных голубых далей – духовенство поселка Белого служило литию. Медленно гасло небо.
Гудели старые монастырские напевы, завивая землю молитвенным утишием.
Осип низко опустил голову, весь спрятался в полушубке и думал о чем-то. Не о своей ли глухоте, что мешало ему слышать тихий лет песнопений. Иногда подымал голову, спрашивал:
– Звонить?
Я качал головой – рано еще…
Осип смотрел, как ныряли в пролеты колокольни голуби, улыбнулся и зыбко запел:
– Свете тихий… святыя славы…
Колокольня Николы Утешного – высокая, старинная, при царе Иоанне Грозном воздвигнутая. На мшистой почерневшей стене чья-то неведомая рука на века выбила славянскую вязь: «Лето 1556. Благовествуй земле радость велию».
Лестница на колокольню крутая и скрипучая. Когда поднимаешься по ее исхоженным ступеням, невольно думаешь о пяти столетиях, прошумевших над колокольней, о старой Руси и о звонарях, много веков «благовествовавших земле радость велию».
Колокола…
Большой, «малиновый» – ударить ладонью по черным его «щекам», так и загудит далекими перекатами грома.
«Воскресный» – златозвонный, переливный, словно солнцем пронизанный.
«Великопостный» – строгий чернец. В гудах его – предвесенний вечер, таяние снегов, покаянные вздохи, звездистый свет четверговых свечей.
Маленькие колокола «наигрыши» – стеклянный детский говор…
На колокольне, тихой, как Богова келия, запели:
– Ныне отпущаеши…
Осип засмеялся. С ним это часто. Засмеется ни с того, ни с сего.
Господь его знает, с какой поры он стал юродивым. Сказывают, с того времени, когда с Борисоглебского собора в городе снимали золотые кресты, иконы на стенах закрашивали и над входом прибивали вывеску: «Народный дом товарища Ленина».
Толкнул меня Осип под локоть.
– Слышал? В селе Воронье крестный ход ходил к Николе Народолюбцу. Ну а озорники камнем запустили в образ Спаса Нерукотворного. Слышь, камнем! Стекло-то разбилось и слезками на землю посыпалось. Как же это так, а?
Закрыв лицо землистыми ладонями, Осип продолжал, не то смеясь, не то придушенно плача:
– В Покровском церковь совсем закрыли. Сиротой стоит. Ни панихидки отпеть, ни так помолиться. В ограде парни с девками балуются, гармонь, лясы да плясы. Что ж это, а? Как же это можно, чтобы заместо колоколов гармонь, скажем?
Пытливый, скорбный голос бился о колокола, и они гудели.
Под колебание меди Осип говорил не то с самим собой, не то с потревоженными колоколами:
– Был я онамеднясь в городе. Зашел «за нуждою». Гляжу – на полу листы с буквами церковной печати. Подымаю. Не поверишь ли, листы из Евангелия. Слышь – Евангелия! Как же это, а?
Мерцал утишный вечер. В ограде шелестели березы. Ворковали голуби, и по зеленым ржаным полям пробегал ветер. На колоколах пылало затихающее солнце.
– Собрал я святые листочки, на реке перемыл, связал их бечевкой да и пустил в воду. Пускай, думаю, плывут слова Божьи от человечьего поругания… – И после долгого раздумья тихо добавил: – В набат порой ударить хочется. Ночью ударить, всех пробудить… Душе моя, душе моя, восстани, что спиши! Конец приближается! Как же – с храмов Господних святые кресты снимать, да как это можно – камнем в Божие милосердие! Чует мое сердце – не к добру сие поругание. Большая от этого скорбь произойдет!..
Крикнул сторож Иона в березовой ограде:
– Эй, звонари! Трезвонь к Евангелию!..
Странники
За лесом вспыхивали молнии. Предгрозовая тьма скрыла солнце и тяжело побежала по знойной земле. Низко опускались тучи, бросая дымные тени на полевые просторы. Шла гроза. Пылила большая дорога. От ветра сгибались ветлы.
Шли по дороге, опираясь на березовые батожки, слепой дед и поводырь отрок. У обоих за плечами латаные пестрядинные сумы. На ногах лапти-шептуны[8]. На груди у деда медный осьмиконечный крест.
Дед устал. Дышит через силу. Слезятся от пыли белые незрячие глаза. Гроза все ближе да ближе, а скрыться негде… Поле, небо да ветлы придорожные. Поводырь лениво ведет деда за руку, с испугом смотрит в темно-багряное небо и помыкает деда.
– Скорее, дедушка! До грозы надоть добраться до часовенки Расстани!
– Рад бы скорее, внучек, да не идут мои ноженьки. Устал я. Грудь болит. Нет дыхания мне. К земле тянет. Не смертушка ли мне, странному, бездорожному?
– С устатку это, дедушка! Скоро дойдем…
– Веди, веди, коли скоро… Микола-угодник! Путников покровитель, возьми тяжесть мою странническую!
На большую дорогу, в мягкую горячую пыль падает тяжелый дождь.
Странники перешли ручеек по хлипкому деревянному мостику, обогнули зеленый взлобок и дошли до часовни. Стоит она у большой дороги. Ветхая, шаткая, солнцем обожженная. Дверь ее на одной петле держится. Главка с крестом набок склонилась. Оконце заколочено сизой от древности доской.
– Часовенка-то совсем рухает, дедушка!
– Устарела, приютная… Не будет скоро келейки для странников… – лепечет дед и бесслезно плачет.
– Пойдем, дедушка, в часовенку. Ишь, гроза-то какая всполошная!
Дед не трогается с места. Опирается руками на батог, качает головой и всхлипно говорит:
– Когда я махоньким был, внучек, я с бабкой часто ходил к этой часовенке. Образ тут Спаса, чудотворный, и мы цветами его наряжали. Родник был здесь целебный, бойкий такой и звонкий… Вода студеная-студеная и чистая, как слеза. Между каменьями иконка вделана, и рядом берестяной ковшичек… Дубы здесь росли. Большие. Вековые. Ляжешь под их храмину, а они шумят, шумят и укачивают тебя – как в зыбке!..
Голос деда дрожит и колышется. На лысую голову падают дождевые капли и струятся крупными слезами по желтому и морщинистому лицу его.
– Да… были вековые дубы, а теперь их нет… дубов-то. Родника целебного нет. Скоро и часовенки, Боговой келии, не будет.
Он ощупью подходит к часовенке, и дрожащими руками касается черных ее стен, и приникает к ним заплаканным лицом.
Упал дождь, и зеленая земля густо зазвучала кустарниками, ветлами и травами. Синие молнии перекрестили небо. Тяжелой падающей медью загрохотал гром.
Дед и поводырь схоронились в темной часовне, пахнущей засохшими цветами, кипарисом и пылью. Сели на полу у киота Спаса. Прижались друг к другу.
– Боязно, дедушка! Ишь, как молонья освечает!..
– Не бойся, дитятко, здесь Богова тишина. Спас благоуветливый нас голубит. Тише, внучек, тише. Господь на землю гневается. Свят, свят, святый Боже… Озари стадо Твое зарею благодати Твоего заступления, жизни сподоби немерцающей. Лицо земли осияй светом невечерним…
– Молчи, деда, страшно мне!
– Не бойся, здесь Богова тишина…
Дед молчит, гладит рукой голову внука и к чему-то прислушивается, затаив дыхание.
– Ась?
– Тише, дедушка! Никто тебя не кличет!
– Как будто бы кто кликнул меня?.. Так явственно кликнули: Са-а-вва-тий!..
Дед осеняет себя частыми крестами, нагибается к испуганному внуку и шепчет:
– Это смерть меня кличет… Пожил я, и хватит. Тебе, ясному, вольготней будет… Не пужайся… Груско[9] мне на земле… Дубов старых нет, родника нет, рухает часовенка, нас, старых, – не слушают. Неприютно мне на земле! Надо на покой… к своим… Не плачь, дитятко, не плачь, бесприютный, терпеливый мой… Чу! – насторожился дед. – Опять кликнули… Явственно. Зовут!
– Полежи, дедушка. Вот так… Весь ты как в огне горишь… Не хрипи так, боязно мне.
Дед прилег к иконе и забредил.
– Идешь, стара… Иди, иди. Истосковался я по тебе. Солнышко! Птички-зорюнки поют! А рожь-то какая высокая… чижолая… и Светочки синенькие, синенькие… Дубы зашумели. Вода, родниковая, целебная по камушкам побежала… А часовенка-то новенькая, и сблёскивает риза Спасова… – Он приподнялся, обвел глазами темные запаутиненные утлы часовни и закричал: – Господи! Прозрел я!
Внук в испуге отпрянул от него, встал к стене и забился в припадочном рыдании.
Дед прилег к иконе. Голова его свесилась набок.
– Чу! Песня! Старая, старая, дедами напетая… – тихо зашевелились слова. Помолчал, и опять тревожный горячий бред: – Внучек! Позови стариков! Куда это они бегут и не оглядываются? А… это они от грозы бегут… Будет гроза большая, пребольшая!.. Скорее бегите! Господи! Что это на земле Твоей деется? Ты взгляни только – келейку Твою рубят! Покарай кощунников, покарай!.. Гляди, Милосердие Твое из часовни выносят!.. Не замайте! Задержите!..
Крикнул дед в последний раз, бережно одернул на себе одежду, вытянулся с сухим костяным треском и смолк.
Поводырь спрятался за темный киот и боялся взглянуть на мертвого деда. Стоял он с зажмуренными глазами и вздрагивал.
Вспыхивали молнии, и гремел гром, сотрясая испуганную придорожную часовню.
Зверь из бездны
Приближение Пасхи Михаилу Каширину внушало жуть. С одним из предпасхадьных дней у него было связано кошмарное событие, при воспоминании которого на голове прибавляется лишняя прядь седых волос и таким близким кажется безумие.
Это было в те годы, когда Бог отступился от людей и по земле ходил зверь, выпущенный из бездны. Однажды ночью к Каширину пришли люди в кожаных куртках и его, как бывшего офицера, арестовали и препроводили в тюрьму.
Шли дни, похожие на тупые ржавые пилы, убийственно медленно распиливающие сознание неизбежностью страшного конца.
В те времена Каширин был молод; у него была невеста с тихим именем Лиль; были радости, надежды, любовь. Она часто приходила в тюрьму на свидание. Короткие, ограниченные временем встречи, когда не успеешь наглядеться в родимые глаза и наговориться до опьянения, прерывались резким окриком тюремного надзирателя:
– Хватит!
В те времена смерть ложилась рядом с Кашириным и обнимала как своего. Все друзья его по очереди выводились из тюрьмы и расстреливались. Очередь была за ним, и он готовился умереть, как офицер, геройски и красиво. Больше трех месяцев он просидел в тюрьме, со дня на день ожидая, когда порвут тонкую паутину, соединяющую его с жизнью.
Однажды – день этот также нельзя было забыть – в камеру вошел тюремный надзиратель и сказал:
– Вы свободны!
Было это настолько неожиданным, что Каширин потерял сознание, и, если бы не поддержали его, он упал бы на каменный пол. Его вывели на улицу и захлопнули за ним тяжелые тюремные ворота.
А на улице был тихий солнечный март, в деревьях гудел ветер, пахло весной. Опьяненный свободой и этим чудесным привольным ветром, он, по-детски крылато, побежал домой. Встретила его Лиль. Плакали и смеялись от нечаянной радости…
Шли дни. Было и холодно и голодно, но любовь, шумевшая весенним лесным шумом, гасила все невзгоды звериного времени.
Наступила Страстная суббота. С утра Лиль зажгла лампаду перед образом Христа в терновом венце и пошла стоять в очереди, чтобы купить к наступающему празднику селедок и хлеба.
– А ты, – сказала она Михаилу, уходя из дома, – прибери нашу горенку. Завтра Пасха…
Прибирая комнату, в груде мусора и бумаг Каширин нашел разорванный конверт и в нем записку с лаконическими строками: «Благодарю Вас за прекрасные часы, проведенные с Вами: Ваш жених будет немедленно освобожден». Под строками стояла подпись комиссара Романского.
Кровь буйным, ошеломляющим жаром ударила в голову Каширина. Бледнея от ужаса и едва удерживаясь на ногах, он крепко, до мучительной боли, сжал виски руками: «Так вот какой ценой куплено мое освобождение!»
Взгляд его остановился на огоньке лампады. Он подошел к иконе и с каким-то темным озлоблением погасил этот огонь… Когда пришла Лиль… Он помнил только, что она светло улыбалась, когда вынимала из корзины провизию… И туфельки ее были намокшими от весенних луж… И слышал он еще хруст костей, когда ударил ее чем-то холодным и массивным… Больше ничего он припомнить не мог. И на всю жизнь осталась в памяти предсмертная ее улыбка, страшный хруст разбитых костей и мокрые туфельки на продрогших ножках.
Самое страшное ждало Каширина впереди. Когда он был командиром полка в Белой армии, к нему привели пленного комиссара.
На вопрос: «фамилия?» – пленный ответил:
– Романский!
Каширин почти в полубезумии посмотрел на него и не мог больше вымолвить ни одного слова.
Романский горько улыбнулся.
– Непримиримый враг, да? – спросил он, широко глядя в глаза командира. – Ошибаетесь, несчастный вы человек! Выслушайте меня. Я, стоящий на грани смерти, заявляю вам, полковник Каширин: вы были неправы, убив свою невесту. Она была невиновна. Она пришла ко мне просить за вас, как к другу детства. Клянусь вам (если вы верите моей клятве), мы действительно провели с нею прекрасное время, делясь впечатлениями нашей минувшей гимназической жизни. И только во имя ее, во имя наших хороших прошлых дней я освободил вас от расстрела, хотя смертный приговор был уже подписан. Зная вашу офицерскую гордость, она, наверное, не рассказала вам, что ходила к вашему заклятому врагу просить за вас!
Перед расстрелом комиссар Романский еще раз крикнул Каширину:
– Идущие на смерть не лгут! Помните, что ваша невеста невиновна!
После этого события Каширин покушался на самоубийство и около трех лет пробыл в психиатрической больнице во Франции.
Однажды во время Великого поста в одну из русских церквей пришел усталый, обветренный жизнью человек и попросил священника срочно исповедать его. Исповедь длилась очень долго. Наконец из алтаря вышел священник и позади его исповедник. Священник обратился к народу.
– Этот человек, – сказал он взволнованным голосом, – выразил желание исповедать свой грех публично. Выслушайте его и простите…
Священник хотел еще что-то сказать, но не мог. Он отвернулся к иконе Спасителя и громким шепотом, сквозь рыдания, стал молиться. А неведомый человек стал рассказывать притаившейся церкви свой грех… Это был Михаил Каширин.
Черный пожар
В стороне от большой дороги, под ракитами сидят у костра старик Панкратий и безногий парень Семен Кряжов, бывший красноармеец. Шли они из глухой далекой деревни в город на заработки. В пути ночь застигла. Решили заночевать на вольном воздухе, под звездами, среди трав и тишины. Старик чинит стоптанный лапоть. Кряжов выгреб в сторону горячих углей, печет на них наворованную у крестьян картошку и мурлычет под нос китайскую песню, заученную со слов китайца-однополчанина. Панкратий прислушивается к диковинным напевам и ухмыляется:
– Ишь ты, китаец! Как это, Сенька, язык у тебя на сторону не своротит? Чин-я-бон-изъян-чай-глянь… хе-хе! Занятно, бодай тебя муха, лягай тя комар! По-китайски, Сень, выучиться – все одно что блоху подковать! А тебя вот умудрил Господь!
Кряжов так увлекся китайскими песнями, что даже не заметил, как задымилась и тонкими язычками запылала деревянная нога.
– Культяпку-то не сожги! Михлюндия! Распелся! – вскрикнул старик, задувая пламя.
– Не беда! Цела будет. Она у меня дубовая. Никакая стихия не берет. Дай-ка лучше курнуть!
– Да нету у меня табачишка. Весь скончался. Беда с куревом!
– Врешь, поди?
– Истинный Христос, ни одной згинки!
Вынули из золы картошку и бережно ели. Старик приговаривал:
– Хороший провиант картошка!
– Особливо когда она ворованная. С кус тогда в ей особенный!
Шумят ракиты тихо и дремотно. Старик смотрит на Кряжова, и лицо его затуманивается. Задумчиво постучал пальцами по его деревянной культяпке и спросил:
– Не вольготно тебе без ноги-то? Парень ты молодой, дюжий, а вот с культяпкой – пропащий.
– Да, рад бы взметнуться турманом быстрокрылым, да нет, отец, тю-тю!
– Эх, паря, много за это безлетье народушка сгибло! Не поверишь, Сеня, а я это безлетье давно ожидал!
– Как ожидал? – удивился Кряжов, перестав есть.
– Откровение было. Задолго до войны… В канун Ильи-пророка видел я сон. Как будто бы, Сеня, вышел я на крыльцо – хотел поглядеть на зарю, какая, мол, завтра погода будет. И – дивное дело: стоит на земле такая тишь, что даже листочки и травки не колышутся. Насупротив избы моей – Волга. Взглянул на нее, и боязно стало. Стоит она, как студень – не текст, не дышит и волной не играет. Взглянул на березы – оторопь взяла – что не живые: ветки опущены и ушки их не трепыхаются. Замерли. На траву поглядел. Господи, и трава-то что мертвая!.. И вдруг, нерасстанный ты мой, шум слышу, стра-а-шейный! Где, думаю? Поднял это голову, батюшки! Захолонул весь. Висит в небе, как бы на ниточке, солнце, черное-пречерное, а вокруг его пламень, и тоже черный. Так и полыхает, так и полыхает, как холст на ветру. Царица Небесная Запрестольная, думаю, да ведь это пожар на солнце!.. Тут откуда-то собачонка явись! Взвизгнула и к ногам моим кинулась. Проснулся я и сказал в сердце своем: не к добру этот черный пожар!
– Много, дед, крови пролито, – отозвался Кряжов, – особливо своей, русской! Как вспомню нашу гражданскую войну, так сейчас же кровью кругом запахнет! Да, большой грех на свою душу приняли, что пошли брат на брата… Ты вот послушай, что расскажу тебе.
Дело на юге было. Белые отступили. Остановились мы на хуторе. Выпало мне ночью караул нести. Ладно. Стою, это, я на карауле, И слышу, это, я среди тишины стон… Тонкий да жалобный… Не чудится ли? Нет. Слова явственно слышу: братцы, помогите!.. Пошел я. Гляжу – человек лежит. Свой брат – военный. Раненый. А на плечах погоны золотые… Белый, значит. С лица испитой да хвилый. Совсем вьюноша…
– Кто здесь? – спрашивает.
– Я, говорю, браток… то есть… – хотел я еще что-то сказать ему, не нашелся. – От своих отстал, браток? – спрашиваю. Поднял я его. Дал водицы из фляжки попить. Рану перевязал. В ногу был ранен.
– Покурить не хочешь ли?
Дрогнул от радости:
– Дай, друг!
Сидим и покуриваем. И забыл я, что около врага-золотопогонника сижу. Увидели бы наши… было бы!..
– Откуда, земляк? – спрашивает меня.
– Тверской, – говорю.
– А я московский.
– В каком полку? – опять спрашивает.
– В красноармейцах я, – отвечаю. Изумился белый. Испугался до озноба. Руки ко мне протянул – словно оборониться хочет.
– Не бойся, браток, – говорю ему. – Не трону я тебя. Мы ведь братишки. Землячки, одно слово. Сказал, это, я и заплакал. Глядя на меня, заплакал и белый. Так плакали, так плакали, что сердцу больно стало.
– Ну, полно, – говорю, – братишка, плакать… А надо тебе отсюда до рассвета убираться – а то увидят. Дайтесь помогу тебе!..
Взвалил я его на плечи и понес к лесу. Выбрались. Вдали огни горели.
– Белые… ваши там! – говорю ему. – Ползи теперь, браток. Никто тебя не обидит…
На расстанье поцеловались.
– Ишь ты, ласковый какой! – промолвил дед и протянул Кряжову кисет с табаком.
Мать
Печальная и бледная, в траурном одеянии она сидела на берегу лесного озера и, напевая эстонскую колыбельную песню, плела венок из полевых цветов. Я подошел ближе.
Она подняла глаза и осветила меня матерински-нежным сиянием.
«Где видел я эти чудесные и святые глаза?» – подумал я, и что-то похожее на религиозную ласку шевельнулось в моей душе.
Не зная, как оправдать свое вторжение в тихую келейку ее печали, я сказал:
– Вы красиво поете… Песня ваша напомнила мне детство… красивую ушедшую жизнь…
К этим словам я хотел прибавить, что глаза ваши мне знакомы, до боли в сердце знакомы, но где я видел эти чудесные глаза, – не помню.
Она ласково, по-родному пригласила меня сесть рядом и заставила помочь плести венок из полевых цветов.
Из-под черного платка печальной женщины выбивались пряди седых волос, и между бровей глубокая страдальческая складка.
«Она много страдала… – подумал я, украдкой заглядывая в ее печальные глаза. – Такие затаенно-печальные глаза могут быть только у матери, потерявшей единственного ребенка…»
И я не ошибся.
– Этот венок моему сыну… – сказала она. – Он был у меня единственный и очень любил цветы… – и уже про себя, грустно, как молитву, шептала: – Цветы, цветы…
Я смотрел на нее и думал:
«Где видел я эти чудесные и святые глаза?»
Я уходил в прошлое, напрягал свою память, припоминал встречи, но припомнить эту женщину не мог. Странно, такие знакомые, такие родные глаза… С детских лет помню ласковопечальное их сияние… Но кто она?
– Мой сын погиб в Освободительную войну… – говорила она, перебирая голубые цветы. – За Родину!
Последнее слово она сказала с гордостью. В глазах засияли слезы, лицо стало печальным, задрожали тонкие бледные руки, и она заплакала…
– Мать… Сердце материнское… Не забыть…
Мы пошли на кладбище. Под сенью белой сирени – заботливо убранная могила…
Женщина опустилась на колени, и вот… тут… на кладбище, увидев ее коленопреклоненной у могилы своего сына, осененной белыми, сиреневыми цветами, я узнал эту женщину…
Такие глаза я видел в детстве у матерей воинов минувшей войны.
Архиерей
Епископ Палладий стоит у окна и смотрит на опустелый монастырский двор.
Опускаются летние, задумно-тихие сумерки. Благостно, лиловато, недвижно. Столетние липы солнце уходящее ловят. Золотым жаром пламенеет крест на монастырском соборе. Святые врата ограды распахнуты настежь… Вратаря[10] нет, и закрыть их некому. Давно уже ушла из монастыря вся братия. Кто в мир, а кто и мученическую смерть приял…
Под окнами келий вместо цветов дикий бурьян да репейник.
Епископу вспоминается горький плач Иеремии на стогнах разрушенного Иерусалима:
– Пути Сиона сетуют, ибо нет идущих на праздник; все врата его опустели; священники его вздыхают…
Под синим осенением лип, по затравевшей тропинке бредет старый келейник Илларий. Тяжело шуршит истоптанными сапогами. Тихие, неслышные глаза опущены долу. Ветер дышит на его седую бороду.
За Илларием входит в монастырь мирская молодежь, парни и девки. Гомонливой толпой садятся у часовни, на святом камне, где некогда явлена была чудотворная икона Пречистой Богоматери. Гармонь принесли с собой. Хриплые лады ее колыхнули монастырскую тишину. В открытое окно донеслись слова частушки:
Коротким росчерком пера Приказ мы учредили И чудотворцев со двора Убраться попросили…Архиерей отходит от окна и, придерживая рукой сердце, сутулясь, ходит по молчаливым покоям и думает словами ветхозаветного пророка: «Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от святилища Своего, предал в руки врагов стены чертогов Его; и в доме Господнем они шумели…»
С первых дней революции все отошли от Палладия, и только Илларий, семидесятилетний келейник, остался.
Вместе коротали скудную монашескую жизнь. Щей в котелке сварят – потрапезуют. Утром и вечером в домовой церкви служили. Илларий кадило раздувал и на клиросе пел древним печалующимся напевом. Сквозь стрельчатые окна церковки плыли солнечные прибои, и велелепной казалась в их пестрой игре поношенная риза епископа.
Перед сном топили печь. Садились около огня и тихо, по-стариковски разговаривали.
– Ну, что, Илларий, как живут в миру-то? – спросил сегодня владыка.
– Мятется мир, владыко святый… Волнуется море житейское, воздвизаемое зря. Нашему брату помирать теперь впору. Седни зашел я к обедне к Глебу, а отец-то Никодим, гляжу, в красной ризе служит. Проповедь сказал, касаемо живой Церкви[11]. Народ стоит, а без разумения: что еще за живая Церковь? Стояла со мной рядышком старушка и горестно шептала: «Упокой меня, Господи, возьми от жизни и к обителям Твоим святым причти мя…»
– А был когда-то отец Никодим совсем другим, – раздумчиво шепчет Палладий, – в царские дни, бывало, у него в окнах световые вензеля царственных особ. Все, Илларий, меняется, проходит; одна земля стоит вовеки…
– А помните, владыка, протодьякона Иорданова?
– Помню, Илларий, как не помнить. Такой мощной октавы и в Москве не было!
– Так он теперь в совнархоз определился. Недавно сан дьяконский снял и на татарке женился. В театре, сказывают, арии богохульные поет!
Илларий помешал пунцовые угли в печи и опять спросил:
– Про отца Григория Никольского ничего не слышали?
– Так неужели, Илларий, и он переменился? А какая светозарная душа была у него!
– Отец Григорий мученическую смерть принял… Пришли к нему во время литургии, раскрыли ему рот, выстрелили в него и сказали: «Мы тебя причащаем…»
Палладий перекрестился и заплакал.
Дозвенели в печке угольки. Тишина и тени вошли в покои. Лунный свет голубым дымом упал в окна.
– Обезумел, владыка, мир! – колыхнулся в темноте шепот Иллария. – Парни-то в святую часовню за нуждой ходят. Пытался усовестить их, да где уж тут, смеются только… А недавно молодежь упражнялась на кладбище в стрельбе, и мишенью были кресты, и в каком-то клубе икона Божией Матери превращена в шахматную доску!..
По ночам плохо спал архиерей. В бледном зареве свечи читал до рассвета творения Иоанна Златоуста и цепко прислушивался к шуму старых монастырских лип…
В один из вечеров, во время чая, у подъезда кто-то позвонил.
Илларий вздрогнул и заметался.
– Звонят, владыка… Не смерть ли за нами?
– Пуганый ты старичок, Илларий. Пойди и открой!
В покои вошел высокий, упитанный человек, коротко остриженный, в мешковато сидящем смокинге.
Палладий взглянул на посетителя. Перед ним стоял отец Павел Скорбященский, некогда ярый защитник самодержавия, строгий церковный уставщик, знаток канонического права, громивший когда-то духовенство за либеральный образ мыслей, за подстриженные волосы, щегольские рясы и даже белые воротнички… Он был сотрудником крупных консервативных газет и удостаивался похвал за свою верность престолу и Церкви.
– Чем могу служить? – спросил его епископ.
– Я к вам по важному делу, владыка… Церковь мою постигло некое попущение! На днях, волею законных властей, у меня было произведено изъятие священных сосудов на нужды нашей многострадальной родины. Что ж, я с радостью. Деньги России нужны, а у нас в церквах да монастырях драгоценности понапрасну гуляют…
– Гуляют, говорите? – с горькой улыбкой спросил владыка. – Что же дальше, отец Павел?
– А дальше, владыка, вот что: сосуды-то у меня взяли, а других не дали. Вот я и пришел к вашей милости. Не дадите ли вы мне сосуды из вашей домовой церкви. Вы властию вам данной можете и без них обойтись!
– Каким это образом? Я часто служу литургию.
– Пустое дело, владыка. Правила апостольские и канонические теперь устарели, и необходимо считаться с временем!
– Я вас не понимаю, отец Павел! Что вы этим хотите сказать?
– Слушайте. Вы епископ? Да. Обладаете благодатью Святого Духа? Обладаете. Так что же вам стоит сей стакан превратить в Чашу Господню, а сие блюдечко в дискос? Очень просто! А главное, этой перемены никто у вас не увидит. А у меня, владыка, народ… со стаканом-то мне выходить на амвон зело непристойно!
Палладий нервно сжал пальцами панагию.
– Шутник вы, отец Павел! Раньше, помнится, таким не были!
– Нисколько не шучу. В древности, владыка, сосуды не токмо стеклянные, а даже деревянные были, да зато попы были золотые… А теперь сосуды-то золотые, а…
Епископ встал с кресла. Он не дал договорить отцу Павлу и резко перебил его:
– Дать священные сосуды вам, пренебрегающему апостольскими и каноническими правилами, я не могу! Вы недостойны быть свершителем Святых Христовых Тайн!
Скорбященский долго говорил в прихожей о старомодности епископа. Келейник беззвучно смотрел в окно, на тусклый купол монастырского собора.
Медленно, как ледяной «шорох» перед застыванием реки, шло время.
После визита отца Павла Скорбященского епископ испытывал приступы тоски. Было мучительно от созерцания, как на его глазах рушился старый тысячелетний мир…
Чтобы утолить свое беспокойство, он заставлял Иллария подолгу читать ему Псалтырь. Епископ сидел в кресле и слушал, как колебалась его душа на волнистых переливах древнего языка и как жизнь с ее огорчениями облекалась в голубые небесные ризы.
Каждый день Илларий докладывал владыке то о расстреле того или иного пастыря, то о кощунствах над святынями, то о разрушении церквей и монастырей…
Епископ молча слушал его и все время прикладывал руку к сердцу. По ночам, охваченный неясной тревогой, поднимался с постели, подходил к темному окну и крестил частыми крестами заснувшую русскую землю, и всегда она представлялась почему-то в виде Гефсиманского сада, из которого в страхе бегут ученики Христовы.
В один из снежных декабрьских дней владыка решил объехать ближайшие приходы, чтобы посмотреть, как живет его паства, не ушла ли она от Христа, не погасли ли в это ветровое время светильники пастырей…
На рассвете епископ Палладий с келейником Илларием на простых крестьянских санях выехал из монастыря, одетый в баранью шубу, теплую шапку с наушниками и валенки.
Ехали сугробными, голубыми полями. Свежий ветер, пахнущий родниковой прохладой, неоглядность поля, похожего на степь, звездная россыпь снежинок, белые березы у края дороги и сам он, одетый по-крестьянски, так не похожий на блистательного епископа, вселяли в душу радость, похожую на румяное бодрое яблоко.
В одном месте сани увязли в глубоких сугробах, и владыка с келейником помогали лошади выбраться на твердую дорогу.
Приехали в село Отрадово. Над церковными дверями висела вывеска – «Народный дом товарища Ленина». В ограде лежал разбитый колокол…
С настоятелем прихода отцом Андреем отслужили молебен в амбаре, превращенном в церковь. За недостатком места богомольцы стояли под открытым небом и все навзрыд плакали…
В селе Преображенском пьяные парни сожгли церковь, а поэтому краткий молебен служили на развалинах, и почти все стояли в снегу на коленях и громко выкрикивали слова молитв:
– Господи, спаси! Господи, помилуй!
Во время служения в лесу раздалось несколько ружейных залпов. Пронесся испуганный шепот:
– Расстреливают…
В соседнее с Преображенским село Лыково владыка не поехал. На днях убили там священника, а церковь превратили в кооператив.
По дороге к селу Званову среди поля повстречали старика в рясе и с котомкой за плечами.
Владыка остановил лошадь и подозвал к себе путника, оказавшегося священником Василием Нильским.
– Откуда и куда, батюшка? – спросил Палладий, благословляя отца Василия.
– Скитаюсь, владыка. Из села Орехова меня выгнали, церковь мою запечатали. Хожу я из деревни в деревню с Христом-попутчиком да с алтарем Его за спиной…
– Как так с алтарем?
– В котомке у меня антиминс, чаша деревянная, епитрахиль да служебные книги. Приду в какую-нибудь деревню, разложу в избе или в летнее время в лесу свой антиминс и начну совершать Святые Христовы Тайны.
Владыка не мог сдержать слез, слушая священника-странника… Когда распрощались, то владыка долго смотрел ему вслед и мысленно благословлял страннические пути его…
Много тяжелых впечатлений вынес владыка из своих скитаний по приходам. Много слез, горя и ужасов впитала душа его… И замутился бы разум его от отчаяния, если бы мысль епископа не останавливалась бы в раздумье над огоньками свечей в темных амбарах и сараях, превращенных в церковь, на богомольцах, стоящих на снегу на коленях, и в особенности на том священнике с алтарем за плечами, шагавшем по крестьянским дорогам… с деревянной Чашей Христовой…
После поездки по приходам владыка простудился и слег в постель. Был сильный жар. Владыка бредил. Илларий смачивал ему голову холодной водой, гладил горячие его руки и часто крестился в углу у темных икон.
С каждым днем владыке становилось все хуже и хуже.
Однажды он позвал в бреду келейника и крепко обнял его.
– Вот бы, Илларий, – говорил он через силу, – обойти бы всю землю Русскую в убогом наряде странника, с посохом в руке и сказать всем чающим Христова утешения одно заветное слово… Жжет оно меня, а сказать не могу…
– Тихий монастырек в березовом лесу… Слышишь, Илларий, монашеское пение? Это березы поют… Иорданов, ты опять выпивший? Что? Не можешь? Больше, говоришь, велелепности, когда выпьешь? Ах, неуспокоенный ты человек!.. А парни-то в часовню за нуждою ходят… Ты, говорит, стакан в Чашу Господню преврати… А березы-то поют и зовут… зовут… Вот бы рясу черную… Простую… посох… Алтарь на плечи… И пойти, пойти по утренней росе… По лесной дороге… Умыться родниковой водой, цветы послушать и опять пойти… подвиг восприять! А по дороге идет отец Василий с деревянной Чашей, и вокруг него ночь, и падает снег… а он идет… идет…
Епископ Палладий умер рано утром. В это время ударили к заутрене в заречной церкви и над снежной землей, в голубом морозном дыме, поднималось солнце.
Вериги
Предгрозовой июньской ночью иеромонах Македоний обходил шестисотлетние стены Печерского Успенского монастыря.
Вратарь отбивал в старинное било ночные часы. К дрожащим, суровым звукам била откликнулся колокол печерской звонницы, и за ним густо и важно пропели часы Свято-Никольской церкви.
Над золотыми куполами собора висели тучи с медными отсветами. По земле извивался сухой ветер, шумели старые монастырские дубы. Иеромонах Македоний дошел до монастырских врат, где, по преданию, был обезглавлен Иваном Грозным преподобный игумен Корнилий. Македонию вспомнились слова из одной ветхой монашеской летописи: «По умерщвлении Корнилия преподобнаго, падоша Иване царь на хладныя мощи его, и зело плакася горько». Повторял эти слова и вздыхал.
Около врат стоял человек на коленях. Шаги монаха испугали его. Он встал с колен и хотел броситься бежать. Монах остановил его и успокоил.
– Вы издалека? – спросил он.
Пристально вглядевшись в тихие сострадательные глаза монаха, незнаемый шепотом ответил:
– Я тайком пришел из России!..
– Горе, наверное, большое заставило вас прийти сюда?
– На душе у меня страшный, несмываемый грех! – с отчаянием выкрикнул он, закрыв лицо руками. – Бог оставил меня! Перекрести меня! Страшно мне!
Иеромонах перекрестил его и усадил на камень рядом с собой.
Пробили монастырские часы. Когда угас в воздухе их ночной перезвон, человек робко и растерянно, в бессвязных словах рассказал страшную повесть о себе:
– Это было в 1918 году. Я служил в Красной Армии. Пьяными мы ворвались в этот монастырь. Перед этим мы расстреляли у монастырских стен двух печерских жителей. Со свистом, руганью и песнями мы взломали церковные двери и в шапках, с папиросами в зубах ворвались в храм искать сокровища. Что мы только в храме не делали – подумать теперь страшно! Плевались, пели песни, хохотали. Я, как сейчас помню, все хотел в уста Спасителя папироску вставить.
…Никаких сокровищ мы не нашли. Пошли в пещеры, где ваши иноки упокоеваются. Могильные плиты штыками да прикладами вскрывали – все думали, что монахи свои драгоценности в гробы попрятали! Много монашеских гробов раскрыли, осквернили и разрушили. Ничего не нашли.
Стоял в пещере, на месте первоначального алтаря подвижников, образ Богоматери… Мы этот образ на пол опрокинули и сапогами, грязными солдатскими сапожищами… по этому образу!..
Взяла меня злоба, что мы ничего здесь не нашли, и в злобе своей я штыком ударил в череп монаха, лежащего во гробе.
Стали мы выходить из пещер. Перед тем как выйти, я почему-то оглянулся назад и увидел, как над чьим-то гробом светилась синенькая лампадка… Своды, мрак, переходы и этот синий огонь над гробом!.. Взглянул я на эту лампадку, и обуял меня такой страх, что я закричал и, как безумный, выбежал из пещеры. С этих пор вот уже десять лет я не нахожу успокоения. Каждую ночь вижу монаха с проколотым черепом, и всюду, куда ни посмотрю, синие лампады перед глазами… Чтобы загладить окаянство мое, я стал изнурять свое тело. Вот, посмотрите…
Человек расстегнул рубашку и показал монаху железные вериги.
– Совесть погнала меня из России… сюда… монастырским стенам поклониться и попросить прощения у святых угодников. Услышит ли меня Бог? Простит ли меня, окаянного зверя?
Человек умолк и расплакался. На прощание он попросил перекрестить его. Иеромонах перекрестил, и рука его коснулась железных вериг.
Долго смотрел ему вслед и думал о таинственных, жутких путях русской души, о величайших падениях ее и величайших восстаниях – России разбойной и России веригоносной.
Грозовые тучи прошли стороной. Далеко-далеко перекатывался гром, и в том направлении, где лежала Россия, вспыхивали молнии.
Юродивый
Вечерняя степь в синих снежных переливах. Звонко – морозная дорога, верстовой поникший столб, ветер и шуршистый тихий дым зачинающейся вьюги. По дороге идет путник. Без шапки, в рваном полушубке, седой и сгорбленный. Он шел истовым монашеским шагом и пел по-древнему заунывно и молитвенно:
Вы голуби, вы белые. Мы не голуби, мы не белые. Мы Ангелы охранители, А душам вашим покровители.Навстречу путнику гром бубенчиков и песня. Из синих пушистых глубин вынырнули деревенские сани с седой от снега лошадью. В санях сидели пьяные мужики, пели песню и обнимались.
– А… Никитушка! – загомонили они, останавливая лошадь. – Куда плетешься, Богова душа?
Путник улыбнулся им и поклонился в пояс.
От улыбки его глаза мужиков стали тихими и светлыми.
– Господь туда зовет… – зябко прошептал путник, указывая в степную завьюженную даль.
– Замерзнешь ты в степи!.. Ишь, снег-то пошел какой неуемный!
– Это не снег, а цветики беленькие, – строго ответил Никитушка. – Господни цветики!.. – Поглядел на дымно-сизое небо и с улыбкой досказал: – Весна на небесах… Яблоньки райские осыпаются!..
Мужики задумались, а потом, вспомнив что-то, засуетились:
– Никитушка! Не хорошо быть в степи одному. Садись к нам в сани. Поедем в гости, а?
Никитушка замахал руками.
– Не замайте меня, ибо на мне рука Господня!..
Один из мужиков, самый пьяный и лихой с вида, грузно сошел с саней и, сорвав с головы лохматую шапку, угрюмо молвил:
– Благослови меня, недостойного! Ты святой!..
Никитушка рассмеялся и запел: «Воскресение день, просветимся людие, Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни, и от земли к небеси!..»
Смотрели на него затаенными, древнерусскими глазами. Самый пьяный и лихой с вида растроганно протянул Никитушке шапку и сказал:
– Прими от меня. Холодно тебе. А я и без шапки доеду!
Путник скорбно отстранился от дара, низко поклонился мужикам и ушел от них…
Долго смотрели ему вслед и молчали.
Когда замолкли вдали бубенцы, то Никитушка повернулся в сторону уезжающих и перекрестил их.
С тонким льдистым посвистом, звеня снежной поземкой, колыхался по степи вьюжный ветер. С мертвой ракиты упал голубь, забитый морозом. Никитушка поднял его, запрятал за пазуху и, тихо улыбаясь, слушал, как вздрагивала окоченевшая птица.
Наступала долгая степная ночь. Вдали послышался озябший собачий лай и засветили желтые крестьянские огни. Среди сугробов, вскрай дороги стояла черная бревенчатая изба.
Путник вошел в теплое нутро ее и остановился на пороге. В тусклом свете керосиновой лампы, за длинным щербатым столом сидели пять мужиков и пили водку.
Из сидящих за столом выделялся, как береза среди черных елей, лишь один. Был он ясноликим, кудрявым, ладным, с высоким чистым лбом.
При взгляде на вошедшего старика он перестал пить, и глаза его стали тревожными.
– Кто это? – шепотом спросил он у хозяина.
– Никитушка, – ответил тот дряблым от опьянения голосом, – юрод. Не то блажен муж, не то вскуе шаташася. Нам не разобрать. Мавра! – крикнул он за перегородку. – Подай Никитушке щей! Да что это ты, Федор, так на него воззрился-то? – обратился он к кудрявому. – Выпей жбанчик!
Федор залпом выпил водку и рассмеялся шипящим и ползучим смехом, от которого все вздрогнули.
– Что это тебя про пяло-то? – спросили его.
– Старик мне преподобного напомнил, мощи которого я из гробницы выбросил!
– Какого преподобного? – испуганно съежились мужики. – Выпил ты, Федюшка, лишнего. Муть у тебя в голове пошла!
– Хотите, расскажу? – со смехом спросил Федор.
– Зачем же ты смеешься? – угрюмо заметили ему.
– Это я так. Я, братишки, не смеюсь. Смех этот, братишки, у меня вроде болезни. Итак, слушайте: в Сретенском монастыре вскрыли мы мощи одного святого и выбросили их на улицу…
За перегородкой послышался стон Мавры. Мужики опустили головы и старались не смотреть друг на друга.
– После этого дела пошли мы в трактир…
У Федора останавливалось дыхание, и лицо перекашивалось судорогами.
– Сколько я пил в трактире – не помню. Чем больше пью, тем на душе страшнее… И все время стоит рядом угодник в черной схиме и желтые руки тянет ко мне… и шепчет что-то…
– Шепчет? – переспросил один из мужиков помутневшим голосом и тревожно посмотрел на темное окно.
– Я как вскрикну в трактире! Меня успокаивать стали. После этого я в горячке пролежал больше месяца… И вот теперь, братишки, куда я ни пойду, за мной все время тень угодника ходит…
– Ты только не смейся, – перебили Федора, – нехорошо ты смеешься.
– Я не смеюсь, братишки! Я же вам сказал, что это у меня вроде болезни!
– Это не снег, а цветы райские осыпаются, – прошептал Никитушка, держа в руках обогретого голубя.
Он склонился над ним и пел однообразно и причитно: «Вы голуби, вы белые… баю, баюшки баю…»
Федор цепко прислушивался к заунывному баюканью юродивого и, ухватившись за руку хозяина, опять спросил его:
– Кто это?
– Я же говорю тебе, завьюженный ты человек, что это Никитушка, Божий человек. Погляди-ка, он голубя спать укладывает…
– У него лицо, как у того… и руки тонкие, желтые… его!
– У кого, Федор?
– У преподобного!.. Мощи которого я вскрывал…
Из-за перегородки вышла Мавра и спросила Федора:
– А почто ты это делал? Матушка, что ли, тебя не благословила, али Ангел Хранитель тебя покинул?
– Ты волк! – пробормотал охмелевший мужик, погрозив Федору землистым пальцем.
– Это верно, что я волк, но по натуре-то своей я жалостный. Ежели, например, запоют, бывало, монахи панафиду али акафист, то у меня на глазах слезы и душа от жалости на части разрывается! Вот и поймите вы меня, братишки!
Мавре хотелось успокоить его, но вместо утешительных слов она подошла к иконе и затеплила лампаду.
Федор смотрел на Божий огонек, и лицо его светлело, и опять он казался березой среди черных угрюмых елей.
Когда все улеглись спать, то Федор подошел к лежащему на скамейке юродивому и поклонился ему до земли. Никитушка приподнялся со своего ложа, обнял его и благословил.
Мати-пустыня
Голубым весенним днем извилистой лесной тропой, под зеленой тенью берез, тихим болезненным шагом шел к себе на родину, в село Коростелово, солдат Красной Армии Семен Завитухин, ржановолосый и низкорослый деревенский парень.
«Иду помирать на своей земле, – медленно и тяжело думал он, – косточки сложить поближе к Волге, к родимой матушке, которую не видал лет восемь, к ржаным полям, к забытой могиле отцов, где так приголубно склоняются над ветхими крестами дуплистые деревья, а из окон кладбищенской церкви доносится кроткое примиряющее пение…»
– Не хочется помирать, но ничего не попишешь, – вслух произнес горькие слова.
Крепко был болен Семен Завитухин. Во время гражданской войны полежал как-то он на студеной осенней земле, схватил простуду, стал кашлять кровью и таять. Дали Завитухину вольную и отпустили на все четыре стороны.
Солнцем, цветами, свежестью распускающихся берез, несказанной Господней красотой полны были голубые глубины леса.
«Эка благодать-то какая!» – думал Завитухин, жадно вдыхая в себя сочный березовый дух.
Когда здоров был Семен, то не замечал в бешеной смене революционных дней всей красоты, щедро рассыпанной по весенней солнечной земле. Некогда было красноармейцу Завитухину думать о голубых небесах, березках да цветиках, когда люди говорят, что «белая гидра на носу и наемники капитализма хотят погубить завоевания Октябрьской революции».
При воспоминании о пройденных революционных годах, о душной гражданской войне, о расстрелах своих земляков крепким надрывным словом выругался Завитухин и закашлялся от волнения удушливым кашлем с кровавыми выпдевками.
Ложился на душистую теплую землю, припадал к ней чахоточным лицом, рвал с березок пахучие клейкие листочки и, вдыхая в себя хмельные их запахи, с острой тоской укорял себя:
– Счастья-то какого лишился ты, Сенька Завитухин – крестьянский сын! И на что променял?
В душе поднималась колючая злоба, и, чтобы угасить ее, он стал думать о родном селе Коростелове на берегу Волги, о радостях забытого крестьянского труда, о солнечных восходах над росистыми полями, о родных яблонях, одетых в белый снежный цвет, о матери, о деревенских хороводах в дрожании прозрачных вечеров и о всем том, что составляло радость и смысл живущего и так безжалостно было сожжено огнем революции. Семену захотелось спеть старинную песню про зореньку, у которой много ясных звезд, и про ноченьку темную, у которой звездам счету нет, но закашлялся и погасил песню.
Чем ближе подходил Завитухин к Волге, чем ощутимее чувствовал вольное ее дыхание, тем яснее и примиреннее становилось у него на душе.
Была белизна и нежность, как когда-то в детские утренние годы, когда он в белой рубашке стоял в сельской церкви перед сияющей Христовой Чашей и ждал причастия Святых Тайн.
Солнце село за далекими дымчатыми лесами, и святая вечерняя тишина опустилась над зоревой Волгой и над соломенными крышами села Коростелова, когда он, усталый, едва переводя дух от волнения, подошел к своей старой избе с опрокинутым забором и яблонями в белом цвету.
Не смея сразу войти в избу, он сел на скамейку под яблонями и закашлялся. Скрипнула дверь избы, и на крыльце показалась маленькая старушка, вся в черном, как монашенка.
Чувство ли матери подсказало, что сидит на скамейке потерянный ею сын, жалость ли к этому усталому, кашляющему кровью человеку, сына ли напомнил он, но только она сошла с шатких ступенек крыльца, подошла к нему, села с ним рядом и без слов стала гладить бледные, костлявые руки незнакомого.
Завитухин вздрогнул, увидав родное лицо матери, опустился на землю, положил голову на ее колени и заплакал:
– Маменька!..
Много хороших нежных слов было припасено матери в его сердце, но ничего, кроме слова «маменька», сказать не мог.
Мать тепло и крепко обвила его худую шею, и радостно, тихо заплакала, и не могла найти слов, чтобы выразить свою нечаянную радость»
Семен прижимался к матери и слышал, как билось ее сердце.
Он закашлялся. И из горла хлынула кровь. Она заливала подбородок и густыми, алыми змейками сползала по зеленой солдатской гимнастерке.
Мать платком утирала подбородок сына и с бесконечной тревогой и нежностью спрашивала:
– Сеничка, сыночек мой! Что с тобой, родименький мой?
– Вы не беспокойтесь, мамаша, – утешал ее сын, стараясь улыбаться, – все пройдет. Я поправлюсь. Помогать тебе буду… Забор вот поправить надо. Яблоньки подрезать… Ишь, они как одичали… Вы за меня, маменька, не тревожьтесь. Все пройдет. Кашель у меня меньше стал, и облегчение некоторое обнаруживается…
Когда засыпал Завитухин в родной своей избе, то долго сквозь легкий сон слышал, как молилась мать перед старенькими образами и как дрожали за окном яблони в белом цвету.
Утром, с восходными зорями Завитухин проснулся. Осторожно, чтобы не разбудить мать, он вышел из избы на крыльцо.
Утро теплое, розовое. Мягко кудрявились белые облачинки. На цветах яблонь роса. С голубой
Волги веяло прохладой. В солнце и голубые ризы одевалась крестьянская земля.
В душе Семена поднималось забытое крестьянское чувство. Жадно захотелось работы. Родной, мужицкой работы, в которой целое поколение Завитухиных находило радость и оправдание жизни.
Захваченный жаждой работы, он не хотел больше думать о своей смертной болезни.
– Ничего, – утешал себя с улыбкой, – это пройдет. Подышу деревенским воздухом, окрепну, и все будет в совокупности.
Семен обошел двор, хозяйским глазом осмотрел одичавшие яблони, опрокинутый забор, шаткие гнилые ступени крыльца и деловито, по-хозяйски, слегка нараспев произнес:
– Работы-то много! Ишь, как все покачнулось. Ну, да это мы, Бог даст, наладим…
В груди поднимался колючий клокот кашля, но Завитухин старался подавить его, чтобы этим заглушить мысль о болезни.
В сарае он нашел топор, раздобыл гвоздей и взялся было починить опрокинутый забор, но не успел вбить и гвоздя, как почувствовал себя дурно, сел на землю и закашлялся долгим хрипящим кашлем.
Когда успокоился от кашля, подошел к яблоне, обнял ее шероховатый стан и заплакал.
Воротился в избу бледный, с дрожащими ногами и лег на полати, с тоской глядя, как золотые солнечные лучи проникали в избу и дрожали на стене тени от старых яблонь.
Как таяние вечерней зари, как догорание восковой свечи в одиноком храме, проходили на земле последние дни Семена Завитухина. Наступила последняя предсмертная тягота. Не думалось больше о земле, о работе… Мысль тянулась больше к тому, что выше земли, выше солнца и звезд, к невечернему миру, о котором так грустно пели когда-то под окнами странники-слепцы.
Часто звал к себе мать, гладил морщинистые ее руки и все просил рассказать ему что-нибудь про старину, когда леса были дремучее, нивы плодороднее, люди сильнее и все было по-иному.
И мать, едва пересиливая рыдания, древними стихами рассказывала ему бывальщину. Высокий и тонкий лад его дум так созвучно сливался с древними песенными словами матери, и была на душе особенная утешенность.
В один из золотых сентябрьских дней позвал он к себе мать и сказал ей:
– Маменька… голубушка… Отвези меня в Николину пустынь. Помолиться хочу перед смертью и обелить себя покаянием… Много грехов у меня, маменька… Ой, как много… Страшных грехов!
– Не тяжело ли тебе будет, Сеничка? Верст тридцать, поди, до Николиной пустыни, истомишься в до роге-то, сыночек!
– Не препятствуй мне, маменька. Пусть эта дорога подвигом моим будет, веригами моими. Отвези меня в пустынь… Пустынь… Пустыня, – бредово шептал Семен. – слово-то какое приятное… тихое утешное слово… Помнишь, маменька, пела ты как-то о прекрасной мати-пустыни? «Мати-пустыня, приюти сиротку…»
Чтобы не выдать сыну своей печали, уходила мать в сени и там плакала.
Одели Семена в белую чистую рубаху, укутали в шубу, под руки повели к телеге, положили его на солому, и повезла мать сына холодноватым, золотым сентябрьским днем в Николину пустынь.
Лежал Семен вдоль телеги и большими проясненными долгой болезнью глазами смотрел в глубокое синее небо, и уже не было желания быть на земле, а хотелось скорее слиться с этим небом и лечь бок о бок с прадедами, у края кладбищенской церкви, откуда будет доноситься кроткое примиряющее пение.
Ехали русскими просторными полями.
В пути, среди ветреного безлюдного поля, их застигла ночь. Холодно было. Пусто было. Мать склонялась над лицом больного сына, согревала его своим дыханием, поправляла изголовье и ноги его укутывала соломой. Чувствовала мать, что тяжело сыну, и сквозь слезы утешала его рассказами про старину, про леса дремучие, где прятались раскольничьи скиты и жили прозорливые подвижники; про дедов крепких, как дубы, и веселых, мудрых, как земля, ими возделанная. И даже стих пропела сыну про прекрасную мати-пусты-ню и про дубравы Господни, цветами райскими украшенные.
После причастия в Николиной пустыне умер бывший красноармеец Семен Завитухин. Тише падения золотого листа с дерева умер он, и даже мать не услышала последнего его вздоха.
При помощи монахов уложила мать сына своего на телегу и теми же печальными осенними полями, под те же ветровые песни, низко опустив голову, повезла его в Коростелово. Так же в пути их застигла ночь, и много звезд смотрело на них.
Холодно было. Пусто было. Кружился увядающий лист. Так же поправляла мать изголовье сына, укутывала ему ноги и согревала его дыханием – словно холодно было ему в этой осенней мгле, и, как молитву, как причит, тихо пропела ему про прекрасную мать-пустыню и про дубравы Господни, цветами райскими украшенные.
Безбожник
Весенним половодьем снесло мост через реку Быстрянку, и тем, кому нужно было попасть к празднику в село Лыково, пришлось на опушке бора развести костер и ждать переправы.
В числе ожидавших мужичков и баб был и коммунист-агитатор Федор Строгов, которому во что бы то ни стало надо было попасть в Лыково и прочесть лекцию «О Христе-обманщике и о войне с Богом».
Строгов сидел на чемодане, полном последними номерами «Безбожника» и антирелигиозными плакатами, непрерывно курил и ругался озлобленно и хрипло:
– Сиди тут… Жди окаянных, когда придут?! А время идет. У меня лекция должна быть перед вашей заутреней, чтоб им, дьяволам, ни дна ни покрышки… Из нагана так бы и перестрелял чертей!
– Потише, братишка, – успокаивал агитатора кряжистый старик в тулупе. – Неужто можно так ругаться? Ты подумай только: страшная Суббота стоит… Спаситель в гробе лежит… Пасха наступает, а ты нечистую силу поминаешь.
– Плевать хочу на вашу Пасху! – рычал Строгов. – И на Спасителя также. Никакого Бога нет. Яма! Тьма! Ни хрена нет! Одна зыбь ходячая да атомы с молекулами! Ежели Бог был, куриные ваши мозги, так Он давно меня покарал бы, в порошок стер, а я ведь мощи вскрывал, в алтарях гадил и Богородице, самой Богородице в глаза гвозди вбивал, а икона-то, хе-хе-хе, чудотворная была! У меня в чемодане такие данные, такие штучки, что ахнете… Сами гвозди будете вбивать в глаза Богородицы, ежели увидите!
От злобы исступленной на губах Строгова выступала пена и голос доходил до истеричного срыва.
Мужички, опустив голову, сурово молчали. Бабы в страхе жались одна к другой и стонали, словно секли их кнутами.
И только старик спокойно возразил Строгову:
– По правилу, следовало бы тебя за такие слова поленом по башке, да только вот в такой день рука не поднимается… Христос во гробе лежит и тревожить Его, Батюшку, негоже. Таких разбойников, как ты, жалеть Он велел…
– Жалеть? – быстро, но без злобы переспросил Строгов и задумался.
– Жалеть… – повторил старик.
Тихими стопами сумерек шла пасхальная ночь…
Талый снег, кусты вербы у дороги, мглистая глубина лесного бора, шорох льдин на реке, травные запахи пробужденной земли и огни на том берегу источали необычную тишину, какая бывает только в монастырской церкви после выноса плащаницы…
– Вечери Твоея тайныя, – вполголоса запел старик, прислушиваясь в шагам святой ночи.
Строгов вздохнул и ниже склонил голову…
На колокольне сельской церкви зажигали цветные фонари и доносились голоса. На фоне тьмы белым видением выделялась церковь, и вокруг нее пылали костры.
– По лесам и полям земли святорусской, – начал старик, – в эту ночь тихими стопами проходит Спас Милостивый… К стопам Его прислушиваются цветы подснежные, звери лесные, травы весенние, ручейки, реки и молятся… Чу! Какая стоит тишина и благость…
Ходит Спас и слушает, как звонят колокола Его любимицы – земли святорусской – и плачет…
Слезы Спасовы падают на землю, и от слез тех зарождаются цветики белые – слезы Господни…
– Вся земля ликует, дедушка, солнышко даже играет, – спросила молодица, – так почему же Он, Батюшка, скорбей своих забыть не может?
– Оттого, голубушка моя, что радость наша, яко роса утренняя… Порадуемся празднику, встретим Спасителя нашего, а потом опять жизнь без Бога, опять забижать Его, Батюшку, будем. Замолкнут колокола, и забудем. Все забудем. И сад Гефсиманский, Голгофу и смерть. Оттого-то вот и плачет Спаситель в эту ночь…
Строгов неожиданно вдруг закрыл лицо руками и заплакал.
Без удивления, словно так и должно быть, смотрели на него с русским жалением и кротостью.
Строгов поднялся. Молча раскрыл чемодан. Вынул кипы последних номеров «Безбожника» и антирелигиозных плакатов – бросил в костер.
В сельской церкви зазвонили к пасхальной заутрени…
Строгов отошел в сторону и, скрестив руки, без шапки, стал слушать пасхальный звон, и было видно, как вздрагивали у него плечи, не то от холода, а может быть, от глухих судорожных рыданий.
Солнце играет
Борьба с пасхальной заутреней была задумана на широкую ногу. В течение всей Страстной недели на видных и оживленных местах города красовались яркие саженные плакаты:
«Комсомольская заутреня!
Ровно в 12 ч. ночи.
Новейшая комедия Антона Изюмова
“Христос во фраке”.
В главной роли артист московского театра
Александр Ростовцев.
Бездна хохота. Каскады остроумия».
До начала спектакля по всем улицам города прошел духовой оркестр для зазыва публики. Впереди оркестра ражий детина в священнической ризе и камилавке нес наподобие церковной хоругви плакат с изображением Христа в цилиндре. По бокам шли комсомольцы с факелами. Город вздрагивал. К театру шла толпа. Над входом горели красными огнями электрические буквы «Христос во фраке». На всю широкую театральную площадь грохотало радио – из Москвы передавали лекцию «о гнусной роли христианства в истории народов».
По окончании лекции на ступеньках подъезда выстроился хор комсомольцев. Под звуки бубенчатых баянов хор грянул плясовую:
Мне в молитве мало проку, Не горит моя свеча. Не хочу Ильи пророка, Дайте лампу Ильича!Толпа заурчала, взвизгнула, раскатилась хохотом, подбоченилась, оскалилась, хайнула бродяжным лесным рыком:
– Наддай, ребята, поматюжнее!
Три старушки-побирушки, Два трухлявых старика. Пусто-пусто в церковушке, Не сдерешь и пятака.– Шибче! Прибавь ходу! Позабористее!
Ах, яичко мое, да не расколото, Много Божьей ерунды нам напорото!– Сла-а-бо! Го-о-рь-ко!
– Про Богородицу спойте!.. Про Богородицу!
В это время из маленькой церкви, стоявшей неподалеку от театра, вышел пасхальный крестный ход. Там было темно. Людей не видно – одни лишь свечи, тихо идущие по воздуху и поющие далеким родниковым всплеском: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси…»
Завидев крестный ход, хор комсомольцев еще пуще разошелся, пустив вприскачку, с гиканьем и свистом:
Эй ты, яблочко, катись, Ведь дорога скользкая. Подкузьмила всех святых Пасха комсомольская.Пасхальные свечи остановились у церковных врат и запели: «Христос воскресе из мертвых…»
Большой театральный зал был переполнен. Первое действие изображало алтарь. На декоративном престоле – бутылки с вином, графины с настойками, закуска. У престола на высоких ресторанных табуретах сидели священники в полном облачении и чокались церковными чашами. Артист, облаченный в дьяконский стихарь, играл на гармонии. На полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирался от хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его выводили из зала, а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на сцену с лицом, искаженным и белым. Это еще больше рассмешило публику. В антракте говорили:
– Это цветочки… ягодки впереди! Вот, погодите… во втором действии выйдет Ростовцев, так все помешаемся от хохота!
Во втором действии под вихри исступленных оваций на сцену вышел знаменитый Александр Ростовцев. Он был в длинном белом хитоне, маетерски загримированный под Христа. Он нес в руках золотое Евангелие.
По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой книги два евангельских стиха из заповедей блаженства. Медлительно и священнодейственно он подошел к аналою, положил Евангелие и густым волновым голосом произнес:
– Вонмем!
В зале стало тихо. Ростовцев начал читать:
– Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное… Блаженны плачущие, ибо они утешатся…
Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог, заключив его словами: – Подайте мне фрак и цилиндр!
Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становится до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, махать руками, подсказывать слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении, и ничего не слышит.
Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон. По лицу проходят судороги. Он опускает глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше: – Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивии, ибо они помилованы будут…
Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического его имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплеванным словам Нагорной проповеди, образ ли живого Христа встал перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, – но в театре стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она комариным жужжанием.
И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви, слова Христа:
– Вы свет мира… любите врагов ваших… и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…
Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевельнулся. За кулисами топали взволнованные быстрые шаги и раздавался громкий шепот. Там уверяли друг друга, что артист шутит, это его излюбленный трюк, и сейчас, мол, ударит в темя публики таким «коленцем», что все превратится в веселый пляшущий дым!
Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впоследствии говорить почти всю советскую страну.
Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес:
– Помяни мя, Господи, егда приидиши во Царствие Твое!..
Он еще что-то хотел сказать, но в это время опустили занавес.
Через несколько минут публике объявили:
– По причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний наш спектакль не состоится.
Голод
Все мы были голодны. Мы давно не смеялись, но сегодня нам было очень смешно. Рассмешил маленький шестилетний Вовка. Произошло это так. Вовка встал около плиты, долго смотрел на ее желтые прокопченные кирпичи и серьезно сказал:
– Кирпич похож на хлеб!
Когда он это сказал, то первым рассмеялся параличный отец. Смех его был хриплым и всхлипывающим, похожим на рыдание. К нему присоединился пугливый звенящий смех матери. Глядя на них, засмеялись и мы с Вовкой. Смеялись до упада, до слез, до удушья, и странно: во время смеха мы избегали смотреть друг на друга и старались закрывать глаза, как птицы, когда они поют.
Был момент, когда мы неожиданно посмотрели друг на друга и сразу же, словно по уговору, перестали смеяться. И почему-то стыдно стало нашего смеха.
В комнате стало тихо – слышно было, как звенела по окну снежная россыпь и ржаво скрипел уличный фонарь, колеблемый ветром.
Тишину нарушил плач Вовки.
Плач голодного, так же как и смех, жуток. Он похож на завывание зверя, которому голодно в ночном снежном лесу, под синими морозными звездами.
Над Вовкой склонилась мать и тревожно спросила:
– Что с тобой, родимый мой мальчик?
Вовка спрятал в складках ее платья лохматую свою голову и сквозь слезы сказал:
– Зачем вы смеетесь?
– Разве нельзя смеяться, маленький мой? – спросила мать, остановившись немигающими глазами на черном кресте оконной рамы, за которой качалась тощая рябина и начиналась вьюга.
– Не надо смеяться, – тихо ответил Вовка, опустив голову, – вы такие страшные, когда смеетесь!
У окна в старом кресле сидел отец, глядел на вьюжную завечеревшую улицу и шептал, словно в пьяном бреду:
– А что бы, если вместо снега падала с неба мука?.. Но вместо муки с неба падает снег… и кирпич похож на хлеб… Дайте хлеба! – вдруг закричал отец.
– Нет хлеба… – шепотом ответила мать и крестом сложила на груди руки.
– Врете! У вас есть хлеб! Я слышу запах хлеба!
При слове «хлеб» к матери подошел Вовка и заплакал:
– Мама! Я кушать хочу!
Мать охватила голову руками и застонала.
– Ты плачешь, маменька? – спросил Вовка, обнимая ее ноги. – Я не буду. Я ничего не хочу. Положи меня баиньки…
Мать с безумным криком набросилась на Вовку, стала бить его кулаками и рвать на нем волосы.
– Проклятые! – кричала она в исступлении. – Вы меня замучали! Вы на кресте меня распяли!
Вовке было больно, но он не плакал. Отец не шевельнулся и продолжал свой несвязный голодный бред:
– Вместо муки падает снег… Скоро наступит длинная-длинная ночь, и мы так хорошо заснем, и никто не будет знать, что у нас нет хлеба…
Я обнял обезумевшую мать и уложил ее в постель. Когда она успокоилась, то тихо позвала к себе Вовку.
Он подошел к матери, прижался к ней, и она целовала его заплаканные глаза.
От ветра колебался фонарь за окном, и вся наша угрюмая холодная комната была заполнена колеблющимися тенями. Свет фонаря лунными отсветами падал на лица, и они казались призрачными, прозрачно-нежными, не имеющими тела.
Чтобы убаюкать Вовку, мать тихим колыбельным голосом запела любимую его песенку:
Был у Христа Младенца сад, И много роз взрастил Он в нем. Он трижды вдень их поливал, Чтоб сплесть венок Себе потом.Жутко, когда смеется голодный. Жутко, когда плачет голодный, но нет ничего более жуткого, когда голодная мать поет колыбельную песню голодному ребенку.
Кошмар
Чахлая, без цветов и трав равнина. Курганы. Гнилые кресты. Ржавые проволочные заграждения. Скелет лошади. Череп человека. Кружится сухой ветер, вздымая песчаную пыль. Одичавшая большая дорога с опрокинутыми телеграфными столбами и заросшими бурьяном колеями.
У края дороги, в просветах обожженных берез, развалины большого монастыря. Уцелевший ржавый купол молится сизому, завечеревшему небу. Вместо белых голубей витают над монастырем жирные вороны.
Степной ветер звенит ржавыми телеграфными проводами.
Дико и пусто, как во времена печенега.
По дороге плетутся двое. Старый и молодой. Одеты в тряпье. Землисто-синие лица. Больная развинченная походка. У старика прогнивший проваленный нос. Ветер треплет грязно-мочальную бороду. Молодому лет двенадцать. Широкое обезьянье лицо с низким лбом. Тусклый блеск маленьких злых глаз. Длинные волосатые руки с крючковатыми, мышиного цвета пальцами. Лицо и руки в багровых наростах.
– В-о-о-л-к-а… а-у-о, скорно? – дико, рывком спрашивает мальчик.
Старик гнусавит сиплым шуршащим голосом:
– Волга не скоро. Верст пятнадцать. Заночуем в монастыре. Я устал…
– Завчуем… a-о… уах-ли… – соглашается мальчик.
– Как ты плохо, Демоненок, говоришь по-русски! У тебя волчий, лесной язык.
– Гай… ты? – указывая на курган грязным мясистым пальцем, спрашивает Демоненок.
– Это могилы. Покойники лежат. Красные и белые солдаты. Война была здесь. Братоубийственная…
Демоненок гогочет. Ему весело. По земле хромает ворон.
– Лапу сломал, – говорит старик. – Поймай его и тащи сюда.
Демоненок волчьими прыжками подбежал к ворону, схватил его крылья и принес старику. Тот взял его за лапы и ударил о телеграфный столб. Демоненок при взгляде на кровавую разможженную голову ворона заурчал, как зверь, и облизнул губы длинным толстым языком.
– Жрать! Жра-ать! – тянулись к мертвому ворону цепкие обезьяньи руки мальчика.
– Погоди, – отстранял его старик. – Придем на ночлег, там и поедим…
Демоненок подошел к телеграфному столбу, жадно стал облизывать на нем следы крови и урчать звериным восторгом. Старик шел слабой, заплетающейся походкой сифилитика, изредка смахивая что-то с лица, словно приставала к нему паутина. Рука была серой, как мышиная шерсть, в багровых гниющих наростах.
Надвинулся сумрак, когда они дошли до развалин монастыря и укрылись под каменными сводами полуразрушенной часовни. Вспыхивала молния и гремел гром. Наползали зловещие черные тучи.
– Ыгы-гы… а? – спросил Демоненок и протянул старику ржавый Георгиевский крест. Старик взял крестик, покачал головой, обнял Демоненка и стал говорить:
– Слушай, Демононок… Была Россия…
– Рос… Рас… – с усилием повторял мальчик, стараясь врезать в мозг это неведомое и чужое для него слово.
– Кругом была жизнь. Работали фабрики. Мчались поезда, нагруженные товаром. Были университеты. Книги. Чистые женщины. Много было солнца. Много было радости…
Демоненок не понимал его, не слушал, но старик продолжал говорить, поникнув головой:
– Новая мораль о раскрепощении пола, о свободе страстей и о любви как половом голоде
Россией были восприняты с таким энтузиазмом и шумом, с каким не встречались в свое время великие писатели старой, ушедшей жизни – Достоевский, Толстой, Тургенев… Свобода полового разгула вошла в моду, была узаконена. И даже установлен был праздник в честь торжествующей плоти, на котором творилось нечто неописуемое по своей животной разнузданности. Насилия над женщинами считались подвигом. О нем хвастались. Чубаровщина была идеалом юноши, вступающего в жизнь.
Все, что напоминало о чистоте и красоте ушедших дней, было смято, задушено и сожжено.
Страшное было время… Рождались дети, и мы давали им новые имена… Тебя я назвал Демоном…
При упоминании своего имени Демоненок закивал головой и загоготал.
– Да, страшное было время… Вся Россия от края до края, севера и юга, как гангреной, была охвачена стихийным развратом…
В 19.. году в России появилась неведомая медицине, новая венерическая болезнь, прозванная «головой смерти». На теле больного появлялись крупные багровые наросты с тремя черными впадинами, имеющие сходство с черепом. Наросты разъедали все тело. В короткий срок больной превращался в гниющий кровоточащий труп и медленно, в страшных мучениях умирал.
Впервые эта болезнь появилась в Заволжье, о чем и было сообщено по радио совету старост. Тревоге, с которой было передано это известие, не придали значения, и жизнь России шла своим чередом. Народился новый человек. Был он расслабленным и хилым, с полузвериными повадками.
Рождалось много идиотов. Вся Россия представляла из себя зловонный разлагающийся труп.
Случайный европеец, попадая в русский край, надолго уносил кошмарное воспоминание о людях, похожих на тени с полузвериными лицами, гниющих заживо…
Старик всхлипывал и, обнимая сына, шептал в тоске и отчаянии:
– Ты ведь мой! Плоть от плоти, кость от кости… Мною зачатый и мною зараженный… Прости меня… Прости… Будь проклята наша жизнь, отнявшая радости наши маленькие, такие хрупкие… нежные…
И поднимая руки к черному грозовому небу, он кричал шипящим сиплым криком:
– Проклятый я человек! Порази меня! Убей меня, Боже!
Демоненок глядел на отца и хохотал.
Чаша страданий
Священнику Ивану Воздвиженскому снилась торжественная архиерейская служба.
…Ярко пылали паникадила. Голубыми волнами расстилался в сводах фимиамный дым. На красной кафедре стоял в полном облачении епископ Евстафий и высоко держал крест, осыпанный каменьями. Огни свечей струились и переливались на кресте. От игры теней и света крест казался сотканным из жемчужных слез. Кругом кафедры блестящим полукругом стояли священнослужители и пели задумчивыми голосами «Кресту Твоему». Епископ медленно и плавно воздвигал крест над большой, чутко притаившейся толпой. Отец Иван подошел к кафедре в пасхальной белой ризе. И вдруг увидел он…
Из креста, капля за каплей, заструились слезы.
– Глядите, люди! Чудо! Слезы! – крикнул отец Иван и в благоговейном страхе склонился под крестом. В храме поднялся шум, как от множества вод.
– Чудо, чудо! – закричали люди и пали на колени в великом страхе. Отец Иван проснулся.
У дверей кто-то резко звонил и переругивался озлобленными голосами. Он встрепенулся, зажег свечу, одел туфли-ступанцы и, кряхтя, пошел к двери.
– Кто тут?
– Открывай, лешего голова!
– До того эти попы-от спать любят… Стра-асть! – добавил чей-то мальчишеский ломкий тенор.
– Не ругайтесь, ребятушки, я сейчас… Ключ у меня куда-то запропастился… Вот напасть-то! – растерянно метался о. Иван.
За дверями ругались, рвали звонок. Били в дверь кулаками.
– Не ругайтесь ребятушки. Не поминайте словом черным матерей-то ваших, – утешал их о. Иван. – Муки за вас мать-то восприяла… Неуспокоенные вы душеньки!
Он нашел ключ и перед тем, как открыть дверь, тревожно и пытливо взглянул на образ Нерукотворного Спаса.
Вошли трое. Вооружены винтовками и гранатами. Голоса дерзкие и хриплые. В тихой молитвенной горнице запахло порохом и водкой.
– Ну, собирайся, отче! – грозно приказал скуластый красноармеец, стукнув винтовкой об пол. Отец Иван вздрогнул, побледнел, неловко, как подстреленный, засуетился по горнице и бессвязно забормотал:
– Я сейчас, я сейчас, сию секунду…
– Скорее канителься-то… брюхатый черт! Паразит на обчественном теле! – редко цедил высокий и дюжий красноармеец.
Отец Иван взглянул на свой впалый худой живот, на тонкие, жиденькие ноги, вспомнил, как прозвали его в семинарии за худобу «Пустынником Антиохии», и тоненько захихикал.
– Ты чего это заржал?
– Да насчет живота я, родные. Так брюхатый, говоришь? – весело переспросил отец Иван дюжего красноармейца. – Потешные вы ребята!
– Ну, нечего словесный сувенир-то разводить! Сряжайся, тебе говорят, грива. А вы, ребята, покелева фатеру обыщите. Нет ли какова-нибудь у попа революционного мартельяру!
– Мы это могим! – ухмыльнулся простоватый парень. – Может, церковного винца раздобудем!
Отцу Ивану стало жутко. Вспомнился недавний расстрел дьякона Громогласова и священника Ливанова. Сам же отпевал их обезображенные, неузнаваемые тела и после этого каждую ночь ждал своей очереди.
С особенной четкостью вспомнился сон:…крест из жемчужных слез… крест… крест… символ страданий…
– Голгофа! – шептал отец Иван побелевшими устами.
Он надел рясу и стал искать шапку. Впопыхах не надел сапог, так и ходил по комнате в тяжелой зимней рясе и в легких комнатных ступанцах.
– Робя… гляди, баба-то у попа какая важненькая! – по-звериному загоготал красноармеец, вынимая карточку из ящика письменного стола.
– Гы-гы!.. Ай да поп! Откуда ена у тебя?
Отец Иван замер от страха, гнева и неожиданности. Рванулся, что было сил, за карточкой и крикнул диким срывающимся голосом:
– Это жена моя покойница! Отдайте ее мне! Не прикасайтесь к ней нечистыми руками!
Красноармеец разорвал карточку, бросил на пол и растоптал грязными сапогами. Отец Иван не бросился на красноармейца, не защищал родимую фотографию от поругания. Он окаменел, частые судороги пробежали по лицу, и глаза округлились, как у безумного.
– Ну собирайся, лягай тебя муха!.. Ты! – толкнули они отца Ивана.
Он молчал и не понимал, чего хотят от него люди. Его взяли под руки и повели. Около дверей он остановился и долгим суровым взглядом обвел комнату… По лицу пробежали судороги, и в глазах остановился ужас.
На полу лежали лоскутья фотографии, не раз им целованной и облитой слезами в горькие часы вдовства.
Пошли по темной улице. На грязную осеннюю землю падал мокрый снег. У отца Ивана на ходу соскочили туфли, и он босой зашагал по студеным лужам.
– Ну, теперь я схвачу простуду! – прошептал отец Иван. Помолчал и вдруг засмеялся: – Не успею простудиться… – сказал отец Иван и засмеялся до упаду хриплым надорванным смехом. Красноармейцы переглянулись и зашептали между собой:
– Поп-от, того, в разуме тронулся!
Земной поклон
Вечерним часом у реки Волхова подошел к богомольцам человек в солдатской рубахе и заплатанных шароварах. Бос. Рыжевато рус. Ростом высок. За плечами австрийский ранец и высокие пыльные сапоги. Глаза тех, кто прошел много дорог, кто часто ночевал под звездами среди степи и леса, кого коснулось монастырское утишие и у кого бессонной была душа.
Старый ходок по святым местам, сухорукий Пахом взглянул на незнаемого человека, улыбнулся как своему и подумал: «Грядет Божий человек… Взор тихий, а душа беспокойная!»
Неведомый спросил:
– Не в монастырь ли, братцы, путь держите?
– Туда, землячок, к образу Пречистых Мати!
– Можно с вами?
– Милости просим, Христов человек!
Пошли вдоль древней реки, в озарении уходящего солнца, кроткими новгородскими полями, навстречу дальнему монастырю, осевшему среди лесов и славному на всю Русь образом Пречистыя Матери, древними новгородскими напевами и чистыми серебряными звонами.
Было богомольцев с новым попутчиком пять человек. Старый ходок Пахом. Бельмастый.
Лохматый. В зимней солдатской папахе и опорках. Мудрый и ласковый взгляд.
Бородатый Ларион в длинном, похожем на подрясник кафтане. Суровый и тощий, как пустынник. Сгорбленная старушка Фекла в черной плисовой кацавейке и монашеском платке, всю дорогу творившая молитву Иисусову. Босой, бледный мальчик Антоша с большими пугливыми глазами, одетый в длинную без пояса холщовую белую рубашку, с букетиком полевых цветов в тоненькой ручке.
Шел Антоша позади всех тихим болезненным шагом, странно молчаливый, не по-детски серьезный и затаенный.
Мерный молитвенный шаг богомольцев так созвучен был летним сумеркам, шелесту травы, переплескам Волхова, догорающим зорям и льдистым мерцаниям вечерней звезды.
– Кто такой будешь, мил человек? – спросил Пахом нового попутчика.
– Игнат Муромцев… – тихо ответил тот и опустил голову.
Богомольцы вздрогнули, и страх затаился в их спокойных крестьянских глазах.
– Не тот ли самый Муромцев, который…
Муромцев не дал Пахому договорить и твердо ответил:
– Да, братцы, тот самый Муромцев, который убивал, грабил, из чаш Господних водку пил, иконы на мушку брал! Это я… я прославленный убийца и зверь! Не бойтесь меня. Простите, Христа ради!
Муромцев упал перед богомольцами на колени и до земли поклонился им.
Часто закрестилась бабка Фекла, кончиком монашеского платка утирая слезы.
Опустил седую голову Ларион. Тяжко вздохнул Пахом и схватился за сердце. Антоша закричал, вдруг в испуге вскинул тоненькими ручками, упал на дорогу и забился в судорогах, захлебываясь пеной.
– Антоша… ясынька… цветик белый… Господь с тобою!.. Владычица Скорбящая, утиши отрока Антония от усякия болисти, от усякия скорби… пособи, поможи… – запричитала над ним Фекла, осеняя детское тельце частыми крестами.
Положили Антошу на травку, сели около него и ждали, когда очнется. Был он особенно трогательный в длинной холщовой рубашке, до синевы бледный, охваченный судорогами, с крепко сжатым букетиком полевых цветов в тоненькой восковой ручке.
– Второй год припадком страждет, – шептал Пахом Муромцеву, – большую муку восприял, ангельская душенька. На глазах ведь отца с матерью расстреляли… Барина, помещика Колыванова, не изволишь знать?
– Колыванова? – задрожал Муромцев, смертельно побледнев, – Так я его…
Ларион не дал договорить Муромцеву и сказал:
– Это его сынок.
– Проклятый я человек! – сквозь рыдающий вой выкрикнул Муромцев. – Так это он… голубчик…. мальчик бледный… которого я кулаками тогда бил!.. Осенним вечером мы на расстрел вели Колывановых-то… отрывисто, тяжело дыша, с безумным блеском в широко открытых глазах рассказывал Муромцев. – Ветер. Слякоть. Снег. Позади нас Антоша… Босой, без шапочки, в нижнем белье… Бежит по улицам и вопит: «Не убивайте папу и маму. Не убивайте, дяденьки дорогие!..» А я его кулаками, чтобы не мешал… Расстреляли Колывановых-то. Упал на тела их Антоша да как закричит!.. С той поры на всю жизнь у меня в памяти этот крик… Ничем заглушить его не мог. Жжет. Не дает покоя. Ночи не пройдет, чтобы не снился мне этот мальчик… Стала меня мучить совесть. До безумия жгла. Однажды не вынес я мерзких дел своих, выбежал зимой в одной гимнастерке на самую людную площадь, встал на колени и у народа честного стал просить прощения. Безумным сочли меня. В дом умалишенных заключили. Убежал я. В странника превратился и вот уже второй год хожу по русским дорогам в чаянии Христова утешения.
Муромцев упал Антоше в ноги и поцеловал их.
– Мученик! – выкрикивал он. – Загубленный мною, извергом проклятым! Прости, святой… Прости за злодейство мое! Бледный, исхудалый… Нами выпитый… Прости меня!
Сурово, как святые на древних иконах, глядели на Муромцева богомольцы.
Когда очнулся Антоша от припадка, взял его Муромцев на руки, и опять пошли мерным русским шагом, краем Волхова, под синими звездными мерцаниями, навстречу дальнему монастырю.
Чаша
Когда мы с отцом Виталием сошли с шаткого крыльца его старозаветного домика, нас овеяло дыханием августовской тьмы, шорохом высоких лип и мерцанием звезд.
– Ночь… – прошептал отец Виталий шепотом вошедшего в тихий храм.
Липовой аллеей мы дошли до белой церкви. Сели среди погоста, на деревянных ступеньках старой часовни, под деревьями. Кругом кресты. Кое-где, над могилами, лампадные огни. В алтарном окне церкви неугасимый свет.
Отец Виталий в белом подряснике. Обхватил руками колени. На плечо упал желтый лист.
– Как ночь, нет мне покоя!.. Так вот и брожу по комнатам своим опустелым, по саду, по кладбищу, забираюсь в лес и все хожу, все тоскую, все зову его, тихого. Не утолят скорбь мою ни молитва, ни ночное бодрствование, ни кротость Господних звезд… Ждут, когда очнется батюшка, а я стою безгласный перед Чашей Господней и плачу… Глядя на меня, и все предстоящие в церкви плачут… – У отца Виталия затряслись плечи. Закрыл лицо руками, – Единственный был у меня после покойницы жены! Ласковый такой да задумный. Рассказы любил про святых мучеников… И всех жалел, всем улыбался сыночек мой маленький!..
Той ночи не забыть мне!., пришли это они, пьяные, грехом пропахшие. Взломали вот эту самую церковь и вошли в нее в шапках и с папиросами в зубах. Мальчик мой не спал. Увидел их и разбудил меня. Как ни просил я его не ходить со мной, пошел!., как был… в белой ночной рубашечке… Пришли в церковь. А они-то с песнями балагурными Царские врата раскрыли и на престоле свечи зажигали! Плевались и сквернословили. Не высказать того, что было на душе у меня тогда!.. Я молить их стал, пьяных, оголтелых. Бога побояться, не кощунствовать. Они не слушали меня. В спину толкали, волосы на мне рвали, оплевывали, заушали… Вдруг… Вижу! Один из них прикасается к Чаше Господней! К Чаше!
Тут-то и совершилось…
Мой сыночек в алтарь бросился.
И вижу… Ручонками своими маленькими вырывает Чашу Господню из рук пьяного кощунника. И не поверители, вырвал ее! Чудом вырвал! Как сейчас вижу его в белом одеянии, как хитон Отрока Иисуса, с Чашей Христовой сходящего по ступеням амвона…
Тут-то за Христа и пострадал мой светлый мальчик. Не успел я подойти к нему, как высокий солдат ударил его прикладом по голове…
И когда увидел его, обагренного кровью, бездыханного, я не плакал. На душе было ясно-ясно. Спокойно взял его на руки и домой понес, и по рукам моим кровь его струилась.
А вот когда отпел его и похоронил!. Пришел с кладбища в сиротливый дом свой да как вспомнил его, мученика, в белом, как у Христа-Отрока, хитоне, в ручках своих сжимающего Чашу Христову, пал я в отчаянии на пол и волосы рвал на себе. . Ничто не утоляет скорбь мою, ибо пред глазами он, ангельская душенька, за Христа пострадавший!..
После долгого молчания отец Виталий сказал: – Пойдемте на его могилу и отслужим панихиду.
Мы поднялись с ступенек часовни и пошли служить ночную панихиду.
Дорожный посох
Первая часть
Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно выразится – не может вообразить душа моя, она скорбит только смертельно!
…Я примечаю, что временами темнеют иконы. Запрестольный образ Христа неведомо отчего стал черным и гневным. Старики сказывали, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот и в природе беспокойно… Когда выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше не примечаемый шум. Сны стали тяжелыми.
Всё пожары да разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении в страхе бегущим по диким ночным полям со Святыми Дарами в руках, а за мною гнались с длинным степным свистом косматые мужики в древних языческих рубахах.
За последнее время до горькой тоски стал людей жалеть! Так вот и чудится, что все мы на росстани-пути стоим и скоро не увидим друг друга.
А может быть, все это беспокойство – моя болезненная мнительность?
Дал бы, Господи!..
Хотя… сказывала мне матушка, у меня в детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал и даже смерть близких моих предугадывал.
Навечерие Богоявления Господня. Идет снег, засыпая тихим упокоением наше селение. Только что совершил чин великого освящения воды. При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. Помог бы Господь струями иорданскими омыть потемневшее лицо земли. Много стало скверны в жизни. Замутились от скверны реки Божии…
Завтра начну свою проповедь словами: «Мир как бы книга из двух листов. Один лист – небо, а другой – земля. И все вещи в мире суть буквы». Осквернили мы великую книгу Божию…
По народным сказаниям, сегодня ночью на речные и озерные воды сойдет с неба Дух Божий и освятит воду, и она всплеснется подо льдом. Наши старики пойдут с ведрами за полунощной водой, креститься будут на нее, а завтра, после обедни, зелено вино в ратоборство со святою водою вступит… Много греха всякого будет…
Господи! Избави землю Твою от глубокия нощи!..
При пении «Глас Господень на водах» мы пошли крестным ходом на Иордань. Было сумеречно от тяжелых метельных туч. Под ногами скрипел мороз. Любо глядеть, когда русский народ идет в крестном ходе и поет! Лицо у него ясное, зарями Господними уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы освятили наше озеро. С какой светоносной верою русский человек пил освященную воду, мылся ею, сосуды наполнял, дабы в смертный час испить ее как причастие!
Когда возвращались обратно, то началась метель. Что-то древнее, особенно русское было в нашем заметеленном крестном ходе. Ветер трепал старые хоругви. На иконы падал снег. Все мы были убеленными. Метель и наше церковное древнее пение!.. Так хорошо… и особенно трогал желтый огонек несомого впереди фонаря…
До самого позднего вечера я ходил по избам «со славою» и освящал паству свою богоявленской водою. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и смертоубийство?
Ночью разболелась у меня голова. Я вышел на крыльцо. Метель вошла в полную свою силу. Тревожно было слушать завывы ее.
– Не попусти, Господи, очутиться кому-либо в поле или на лесных дорогах!..
Звонари наши загуляли. Пришлось самому подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути находящимся…
Звонил долго и окоченел весь. Перед тем как сойти с колокольни, долго смотрел на метель… Не прообраз ли она того грозного, что идет на Русскую землю?
Доктор качал головою: да разве мыслимо, отец Афанасий, с вашими-то легкими на мороз да на вьюгу выходить? Все тревожились за меня. Сказывали, что смерть у изголовья стояла, но улыбнулся мне Христос и озарил чашу мою смертную…
Когда здоров священник и горя он не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ: насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет, но заболей священник – народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, помочь ему… Одинокий он, русский человек, и только священник еще «отцом» ему является… Хоть и недостойным зачастую, но все же родным и нерасстанным… Вот и со мною то же: когда здоров был, то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел тяжко – плакали навзрыд, молились, руки мои целовали.
Весь мир для меня стал теперь теремом Божиим. Все хорошо. Все разумно. Все светло. Вот что значит болезнь! На стол упало солнышко. Я положил на него руки и очень радовался – жизнь жительствует!
В первый раз я вышел на воздух. По снегам март ходит, а за ним воробьи вприпрыжку. Ах уж эти воробьи! Хорошие они птицы! Радуют и умиляют ребячеством своим, неунывностью, вседовольностью! Хороша земля Божия. Скоро весна наступит, и, по образному выражению народа нашего, зачнет она милому рубашки вышивать разными-то цветами, травами, узорчатыми листами. Приневестит она землю в новую вышитую рубашку. Будет земля в новой рубашке ходить!
Диакон Захарий меня под руки поддерживает, и вижу, душою чувствую, любо ему, что я с одра болезни восстал! Смотрю в широкое у светленное лицо его и думаю: вот бы и всегда так ходили бы люди по земле Божией, друг друга поддерживая и улыбаясь… этак тихо, из самой глубины сердечной…
Нехорошо священнику о земном думать, но сегодня подумал и загрустил: как бы радовалась моему выздоровлению покойная супруга моя!.. Она бы сегодня меня под руку поддерживала… Оба мы с нею мечтатели и обязательно вспомнили бы, как ходили юными по Москве, поднимались на Воробьевы горы и слушали московский великопостный звон. В предвесеннюю пору всегда вспоминается юность, наше невесто-неневестное. Да, не может человек носить в себе полную незамутимую радость!
Великий пост. Таинство Исповеди. Тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике: разрешать грехи человеческие! На многих и многих необходимо по святым правилам нашей Церкви наложить тяжкую епитимию, но не могу я! Нет во мне суровости, да и жалко кающегося русского человека.
Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния! Только мы способны заплакать словами канона Андрея Критского: «Погубих первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг, и стыждуся».
Побежали ручьи. После великого повечерия я ходил гулять в лес и сорвал несколько красных прутиков вербы. Все очарование весны в этих красных зоревых прутиках! Когда помирать буду, то, наверное, они только и вспомнятся от всего того, что пригрезилось на земле.
…А леса-то наши вырубают! Крутом села такие были заповедники, такая чащоба, сколько птиц и зверей было, а теперь пустыри… Примечаю я: чем больше природы уничтожается, тем хуже на земле становится и лик человека утрачивает свою ясность.
Над природой человек озоровать стал! Так и норовит разорить ее, растоптать, власть и силу над нею показать. Сколько было случаев, когда ради озорства выжигались многоверстные леса, убивали зверя и птицу. Пугливо стала смотреть природа на человека… Не произошла бы от этого великая скорбь!
В кануны Страстной седмицы я обходил избы своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что-то особенно стал тревожиться за человеческую душу. К чему-то ее приуготовить хочется, укрепить. Все кажется, что великим соблазнам она будет подвергнута. Приду в избу и скажу: на огонек к вам пришел! Все радовались приходу моему. Поставят самовар, сядут ко мне поближе, и зачну я беседовать с ними… Любо глядеть на лица крестьян, при скудном свете керосиновой лампы слушающих слова Божии!
Одинок русский человек, очень одинок! Утешитель ему нужен. В России обязательно должны быть монастыри и старцы-печальники… Без них некуда деваться беспокойной душе нашей!.. Не от одиночества ли нашего и все скорби, и туга душевная, и надрыв, и грех?
На Страстной неделе деревня на монастырь похожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, братолюбивы и уступчивы. Даже озорники и отпетые держат строгий пост. Гляжу на них и опять верю: не отречется от Христа народ русский! Пойдет к Нему, все Ему расскажет, покается и сядет у ног Его…
Я вышел на крыльцо. Тихие весенние сумерки. Сумерки предпасхалья. Ветер апрельский. Вспомнились мне трогательные слова Чехова: «Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре». Никогда такой близкой не кажется Русская земля, как в пору таяния снега, в сумерках, при ветре. За последнее время она особенно почему-то ненаглядна, словно уйти куда-то хочет от меня…
Сижу сейчас один у пасхального стола и думаю: отчего грустно мне в эту спасительную и светоносную ночь? Почему опять тревожит мысль, что все мы на росстани-пути стоим и скоро не увидимся друг с другом.
Троекратным лобызаньем целовал в уста пасомых своих, и хотелось плакать. Особенно грустно было смотреть, как шли они по весенним размытым дорогам с узелками освященных куличей, светло, по-Христову, улыбаясь друг другу. Вот, думаю, сейчас скроются и никогда больше не придут сюда, на радостную Христову вечерю.
А может быть, и впрямь у меня что-то болезненное?.. Дал бы, Господи!
Солнце заливает землю. Яблони в полном цветении. Глаз не нарадуется дивному благолепию весны. Кто-то очень хорошо сравнил двенадцать месяцев года с двенадцатью учениками Христа. Май месяц – это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик.
Я сижу на солнышке и листаю псалмы Давида. На мое плечо и на страницы книги падают лепестки яблонь. И так кстати открылись мне слова псалмопевца о солнце: «Небеса поведают славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь… Он поставил в них жилище солнцу… от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его».
От этих слов или от вешней красоты я не мог не перекреститься и не воскликнуть:
– Господи! Да приидет Царствие Твое! Вот бы скорбь людскую изжить! Радость на Земле насадить! Жития безмятежного достигнуть!
Лето стоит знойное. Во многих местах горят леса. Солнце застилается дымом. Свет стоит тревожный, словно апокалипсический. По ночам вспыхивают гневные сухие молнии.
Ползают темные приглушенные слухи…
Старик Кирик сказал мне сегодня, что он приникал к земле ухом и слышал, как гудит земля:
– К беде это, батюшка! Деревенский дурачок Сема ходит по деревне и во все горло распевает пугающую песню:
Черный ворон, черный ворон, Что ты вьешься надо мной, Иль мою погибель чуешь, Да э-эх!..Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным взвизгом: э-эх!..
Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не приникнуть ухом к земле – послушать, гудит ли она?
А может быть, это мое сердце гудело?
Я проснулся с великим криком. Во сне привиделось мне, что Господь покидает землю… Я встал с постели и никак не мог успокоиться.
Горница моя озарялась сухими молниями. Я подошел к окну и долго смотрел на потемневшую землю. Меня стал охватывать страх. Пал перед иконами на колени, но молитва не успокоила,
– Неужто Он не слышит?
Среди ночи я побежал в церковь, В алтаре затеплил семисвечник и до самого утра простоял перед престолом. Мне стало легче.
Объявлена война. По всей Руси панихиды служат. Помянники все гуще и гуще заполняются именами убиенных воинов. Душа подвига ищет. Все свое имущество я раздал осиротевшим. Смотрю сейчас на прохладную пустоту своих комнат и думаю: нет выше блага, как отречение от вещей. Верно сказано: если кто приобрел себе одну фарфоровую чашку, то он уже не свободен.
Не хочется мне и дома своего. Завтра прибудут беженцы из военной полосы. Поселю их у себя, а сам в бане притулюсь.
Очень остался доволен самим собою, но потом стыдно стало: несовершенные и себялюбивые мы натуры! Не умеем творить добро без оглядки, без упоения самим собою! Далеко еще нам до совершенного, светоподательного подвига!
Банька у меня ладная, укромная, из свежих душистых бревен. Зимою тепло в ней будет. Затеплил лампаду, и стало так утешно, словно Сам Христос пришел ко мне в гости и сидит на деревенской лавочке. Пришивал я пуговицу к своей рясе и думал: хорошо жить под низкими потолками! Тишины на сердце больше!..
Да, опять я доволен, опять самообольщаюсь, опять впадаю в «духовную прелесть». Мало над собою работаю.
Земля волнуется. Народ тревожится. Вокруг меня горя – непочатый край.
Жмутся ко мне люди. Утешения ищут. До поздней ночи сижу я с народом своим и слушаю тревоги их и скорбь. Все горе большое носят. «Вси в житии крест, яко ярем вземшии». Посмотришь на них, сказать что-то хочешь в утешение, но вместо слов опустишь голову и молчишь…
Большое горе стряслось над нами, но сердце накликает еще что-то грозное и страшное.
– К каким же еще испытаниям ведешь Ты, Господи, народ русский?
Вторая часть
…Наша деревенская коммуна началась с того, что на кладбище стали гулянки устраивать, парни сбросили с колокольни большой колокол, а в моей баньке стекла выбили. Алексей Бахвалов поджег часовню при дороге. Кузьма икону Владычицы топором разрубил и в горящую печь бросил. По ночам стреляют из ружей и пистолетов.
Я хожу из избы в избу. Утешаю, увещеваю, молюсь. Поздно вечером меня подкараулили, напали и тяжко избили. Три дня не выходил на улицу. Весь в повязках лежал.
…Голод. С превеликим трудом доставали горсточку муки для просфор. Литургийный хлеб стал теперь ржаным – почернело Тело Христово…
Служил сегодня литургию. Церковь была переполнена голодными. Матери принесли на руках голодных детей и не могли держать их от слабости. Они укладывали их на пол, под иконы. Глядя на детей, все плакали. В церкви умер четырехлетний сынок кузнеца Матвея. Многие в церкви лежали пластом – так были слабы.
Я причащал голодных детей и еле сдерживал в руке Чашу Христову… Страшно смотреть на голодного ребенка. На клиросе упал с голодухи псаломщик. Диакон с жадностью смотрел на служебные просфоры. Детям давали по кусочку просфоры. Они проглатывали его и тянули ручонки за другим: «Дай хлебушка, батюшка, дай ради Христа!»
Перед окончанием литургии я вышел говорить проповедь. Взглянул на эти опухшие от голода лица, на голодных детушек, положенных матерями под иконы небесных заступников, и на этого мертвенького младенца, лежащего на скамейке, – не выдержал я, заплакал, упал перед народом на колени и ничего сказать не мог! Мы только плакали и кричали что есть сил: Господи, спаси! Матерь Божия, заступи!
В ночь на 20 ноября замутившиеся души сожгли наш храм.
Мне Господь помог неврежденно пройти через пламя в алтарь. Удалось спасти антиминс, Запасные Дары и несколько служебных книг. Чашу Господню не мог спасти. Она была объята пламенем.
Друзья мои упреждают: «Беги, батюшка, от греха! Убить тебя хотят!» Я никуда не убегу. Господь защититель живота моего, да не убоюся! Сейчас размышляю: где бы разложить священный антиминс и начать совершение Святых Христовых Тайн?
В нашем лесу стоял барский охотничий теремок. Этот теремок мы превратили в дом Божий.
Пасомые мои принесли сюда иконы, лампады повесили. Из свежего лесного теса сделали иконостас, престол и жертвенник. Сшили мне из добротных деревенских мешков ризу. Столярный искусник Егорушка сделал деревянную Чашу и даже вырезал на ней по-славянски слова: «Чашу спасения прииму, и имя Господне призову».
Идет народ, идет за многие десятки верст в Божий наш теремок за утешением. Места не хватает. Стоят под небом. До поздней ночи я исповедую их, беседую с ними и утешаю. Сейчас глубокая морозная ночь. Молодежь с песнями и руганью проходит по деревне. Вот они к моей баньке приближаются. Вот остановились. Комом снега в окно запустили.
А меня все время упреждают: беги, батя, покуда жив! Злобятся на тебя. Врагом народа объявляют. Будь что будет.
Мне сказали, что в городе приказ подписан арестовать меня как мятежника и возбудителя народных масс.
Пришли ко мне в метельную ночь.
– Сряжайся, батя, поскорее! Едем!
Я им в ответ:
– Не поеду, други! Совесть пастырская не дозволяет!
Тут уж они силою заставили меня одеться. Уложили в саквояжик бельишко мое, книги и прочее. Все мои мольбы были яко сеяние зерен на камне. Меня не слушали, а только понукали.
Ничего поделать с ними не мог. Взял я антиминс с божницы, дарохранительницу и Евангелие. Усадили меня в деревенский возок и тронули.
Поселили меня в маленьком речном городке в домике сапожника Саввы Григорьевича Ковылина. Стал я обучаться сапожному ремеслу.
Сидим мы с Саввой Григорьевичем «на липках» и беседуем на тихие душевные думы, а по вечерам Священное Писание читаем и молимся. Истовый и светлодушный он старик, от смолевых древнерусских истоков! Жизнью своею словно икону Спасителя пишет. По субботам и воскресеньям приходят к нему сродственники и хорошие благочестные люди. В задней боковуше, окном на пустырь, совершаем богослужение. Про меня узнали. Потайно приносят ко мне младенцев для крещения, приходят венчаться, каяться и причащаться. До моего прибытия сюда городское духовенство великим уничижениям и гонениям подверглось. Одних выслали на Соловки, а иных с большими мучениями предпослали в вечное жилище. Во время литургии у одного из священно-мучеников вырвали из рук Чашу и расплескали по полу Кровь Христову, а священника вывели в ризах на площадь и в ризе же на фонарном столбе повесили. В селе Дубнах однокашника моего по семинарии священноиерея Димитрия штыками ослепили.
Сегодня совершил я необычный чин отпевания. Приходит ко мне старуха. Вся в слезах.
– Отпой, батюшка, сына моего, богоотступника! Убили его!
– Где же почивший? – спрашиваю.
– Там, батюшка, у них… В народном доме лежит. Тебя туда не допустят. По-граждански его хоронят, с музыкой и песнями… Он ведь комиссаром состоял…
– Как же я отпевать стану?
– Отпой его, голубчик, заочно… у себя в боковуше! Дай душе его благословение…
Плачет старуха, Христом Богом молит. Стал отпевать.
…Мимо окон везут мертвого комиссара с музыкой, а я читаю ему вслед: «…в вечных Твоих селениях упокой душу усопшего раба Твоего в месте светле, в месте злачне, в месте покойие, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание…»
Стал я заправским сапожником. Пошли у нас дела с Саввой Григорьевичем складно да ладно.
«Ночная паства» моя росла, и в боковуше становилось тесно.
В городе не прекращаются расстрелы…
Однажды ночью к нам постучали. Открыли. Входит комиссар Ахтыров. Обращается ко мне:
– Пойдем со мною, батюшка!
Я приготовился к смерти.
Савва Григорьевич белее снега стал. Комиссар успокаивает:
– Не бойтесь, отцы! Я затем пришел, чтобы батюшка сына моего окрестил в потайности… а то он не выживет!..
Сегодня было у нас совещание. Мы решили из боковуши перебраться в лес (а леса здесь хорошие, затаенные, с глубокими чащобами).
Недавно одному из наших посчастливилось найти здесь глухую пещеру. Ночью пошли к этому месту. До самого рассвета приводили ее в благолепный вид. Тайком принесли сюда иконы. Будущая церковь наша сокрыта черными вековыми елями – лучшего места не найти! Условились мы ходить на молитву разными путями и в одиночку, памятуя слова Христа: «блюдите, како опасно ходите».
Первая молитва в лесной пещерной церкви!.. Свечей у нас не было. Горела лучина. После «Хвалите» я запел величание преподобному Сергию, ибо только он вспомнился при горящих лучинах! Всем народом мы пели: «Ублажаем, ублажаем тя, преподобие отче Сергие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов». По самую заночь я принимал исповедь собравшихся…
После ночной молитвы я долго гулял по лесу. Издали послышался нутряной смертный крик и вслед за ним несколько ружейных залпов… Я присел на поваленном дереве.
Как малое дитя, спрашивал душу свою: почему так страшен человек? Разве нельзя жить без этих ночных криков и выстрелов?
Шума тревоги больше не слышу. Тихо стало и притаенно. Иконы стали светлыми. Сказывают, купола на многих церквах обновляются! К чему сие? Что значит этот Господень знак?
Наступил рождественский сочельник. Весь он в снежных хлопьях. На земле тихо. Хочется грезить, что ничего страшного на Руси не произошло. Это только нам приснилось, только попритчилось… Все мы сегодня, как встарь, запоем «Рождество Твое, Христе Боже наш» и во всех домах затеплим лампады…
Но недолго пришлось мне грезить. Мимо окон повели бывшего городского голову, директора гимназии, несколько человек военных, юношу в гимназической шинели, девушку в одном платьице, простоволосую. Седого сгорбленного директора подгоняли ружейными прикладами. Он был без шапки, а городской голова в ночных туфлях.
Сердце мое заметалось. Я вскрикнул и упал.
…Очнулся я к самому вечеру. Савва Григорьевич долго приводил меня в чувство.
– Как же ты, батюшка, служить сегодня будешь? Посмотри в зеркало, ты мертвому подобен! Что это с тобою произошло?
Я ничего не сказал. Помолился, попил святой воды, частицу артоса вкусил и стал совсем здоровым.
В ночь на третье января к нам постучали.
– Беда, батюшка! – воскликнули вошедшие. – Завтра хотят из собора все иконы вынести, иконостас разрушить, а церковь превратить в кинематограф. Самое же страшное: хотят чудотворную икону Божией Матери на площадь вынести и там расстрелять!
Рассказывают и плачут. Меня охватила ретивость. По-командирски спрашиваю:
– Сколько вас тут человек?
– Пятеро!
– Так… Ничего не боитесь?
– На какую угодно муку пойдем! – отвечают гулом.
– Так слушайте же меня, чадца моя! – говорю им шепотом. – Чудотворную икону мы должны спасти! Не отдадим ее на поругание!
Савва Григорьевич все понял. Молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долото и молоток. Перекрестились мы и пошли…
На наше счастье, Владычица засыпала землю снегом. В городе ни одного фонарика, ни голосов, ни собачьего лая. Так тихо, словно земля душу свою Богу отдала. К собору идем поодиночке. Я вдоль заборов пробираюсь. Наши уже в соборной ограде. Тут же и лошадка приготовлена. Нас оберегают старые деревья, тяжелые от снега. Оглянулись. Перекрестились. Один из наших по тяжелому замку молотом звякнул – замок распался. Прислушались. Только снег да наше дыхание. Мы вошли в гулкий замороженный собор. Из тяжелого киота сняли древнюю икону Богоматери. Положили ее в сани, прикрыли соломой и, благословясь, тронулись к нашей пещерной церкви. Сама Пресвятая лошадкой нашей правила. Ехали в тишине. Никого не повстречали. Снег заметал наши следы.
К пещере несли Ее на руках, увязая в глубоких сугробах. Я раздумно вспоминал: «Не так ли и предки наши уносили святыни свои в леса, в укромные места во дни татарского нашествия на Русь?»
В городе слух пошел о чуде – Владычица покинула собор! Да, воистину чудо! Ибо только сила Божия помогла нам спасти древнюю святыню русскую.
Около собора днем и ночью толпится народ. Его разгоняют ружейными залпами. Народ ощеривается и выходит из себя.
Когда из собора выносили иконы и бросали их на мостовую, произошла рукопашная. Народ с криком набрасывался на кощунников, вырывал у них иконы, а те, размахивая ручными гранатами, вопили:
– Ра-а-с-хо-дись, а то сейчас бабахнем!
Когда в соборе все было очищено, то там устроили пьянство с песнями и музыкой. Сказывали, что Чаша Господня, наполненная водкой, обносилась «вкруговую». Молодежь волочила по улицам иконы и распевала:
Эх, играй, моя двухрядка, Против Бога и попов.На пустыре Савва Григорьевич нашел икону преподобного Серафима Саровского, изрешеченную пулями.
Много горьких дорог прошло с того времени, когда мне вновь удалось найти свои записи и склониться над ними.
…Недолго пришлось нам собираться в подземной церкви. Нас выследили. На Крестопоклонной неделе, во время выноса креста, пред нами предстали они…
Два рослых, дурно пахнувших солдата с заломленными на затылок папахами, с неумолимыми дикими руками тяжело подошли ко мне и связали меня веревками. Мне не дали снять с себя ризы – так и повели в полном священническом облачении. Паству мою, по счастью, не тронули, и она сопровождала меня со слезами и стенаниями. Пробовали защитить меня, но им угрожали ручными гранатами. Меня тревожила мысль: догадаются ли пасомые мои спасти чудотворную икону Богоматери? Тревога моя, видимо, передалась Савве Григорьевичу. Он издали, из темноты, крикнул мне:
– Не беспокойся!..
Легко мне стало, словно Бог возглаголал из лесной чащи.
В одном месте, на леденице, я поскользнулся и упал. Солдаты засмеялись, не помогли мне подняться, а схватились за край веревки и с песней «Эй, дубинушка, ухнем» волоком потащили меня по земле.
Я весь избился и окровянился. Потом они пожалели меня и подняли.
Поздно вечером привели к следователю. Я встал около письменного стола. Следователь писал и не смотрел на меня.
У него были сверкающие белые руки. Лицо румяное, молодое и как будто простодушное. Все обыкновенное, человеческое, если бы только не уши… Пепельно-лиловатые, широкие, они свисали наподобие тряпок, закрывая ушную раковину.
Прошло минут двадцать, но он все еще не поднимал на меня глаз. В кабинете, освещенном душным светом электрической лампочки без абажура, было тихо. Только два звука было слышно: сухое шуршание пера и влажное падение на паркетный пол кровяных капель с моих избитых о гололедицу рук.
Наконец следователь тихо положил перо, поднял румяную голову и осиял меня таким шелковым голубым взглядом, что я первое мгновение подумал: «Какие хорошие человеческие глаза!» Но, вглядевшись в них, я содрогнулся…
Минут пять смотрел на меня, не мигая, своей страшной, словно застеклившейся синевой.
Он перевел взгляд на мои окровавленные руки и улыбнулся стеклянной и, как мне представилось, синей улыбкой.
Тонкими, совершенной красоты пальцами он изредка отмахивал что-то от лица своего, словно садилась на него паутинная нить. Он заставлял сознаться меня в организации заговора против власти. Я с твердостью отрицал это и говорил: «Я молюсь за нее, чтобы она не проливала крови!» Очень долго допрашивал меня голосом хрустящим и словно костяным. Моим объяснениям не верил. Под конец допроса лицо его пошло пятнами. Совершенно неожиданно он ловким кошачьим прыжком соскочил с бархатного лилового кресла, подбежал ко мне, вцепился в мое горло белою льдистой рукою и закричал в исступлении слюнявым извивающимся хрипом:
– Сознавайся! Стерва! Убью!..
Он приставил к моему виску револьверное дуло. Голова моя горела нестерпимым жаром, и от прикосновения металлического холодка я ощутил приятность. Больше всего меня напугал впервые виденный мною звериный лик человека.
Меня отвели в темницу. Здесь сидели буйные люди. Встретили меня со свистом и улюлюканьем. Издевались над моими священническими ризами и плевали на них. Дали мне место на полу, в затемке, рядом с лоханью для нужды. Пол был каменным и зловонным. Когда погасили свет и все полегли спать, я стал молиться. После молитвы подошел ко мне кто-то невидимый во тьме и сказал:
– Ложись на мои нары… там теплее, а я на твоем месте образуюсь!..
Радостно стало мне: «И здесь Христос!..»
В эту первую тюремную ночь я не мог скоро заснуть. Думал о предстоящих страданиях своих и не утаю: ужасался их и тосковал немало. Мне вспоминались муки, кои претерпели Христа ради соратники мои.
В Астрахани архиепископа Митрофана и его викария епископа Леонтия живьем закопали в землю; в Свияжске епископа Амвросия привязали к хвосту бешеной лошади; в Белграде-Курском епископа Никодима убивали железными прутьями, тело же его бросили в сорную яму; архиепископа Пермского Андроника ослепили, выколов глаза, отрезали щеки и в таком виде влачили его по городским улицам, а потом живьем закопали в землю…
Я сжимал в руке нательный крестильный крест и с гефсиманскою тоскою взывал к Нему:
– Господи! Научи мя оправданиям Твоим!..
В пищу давали сто грамм хлеба и суп из снетков или селедки. Два раза в день приносили нам по кружке воды. Тюремный хлеб я не ел даром: меня заставляли чистить отхожие места, мыть полы, стирать белье конвойных, и в этом я хорошо преуспевал.
С обитателями нашей темницы, ворами и убийцами, я крепко подружился. Они полюбили меня за тишину к ним, за беседы с ними, за уступчивость. И приметил я: чем глубже носишь в себе образ Христа и вооружаешься смирением, тем скорее осветишь звериный мир человека. Если и не сразу, то впоследствии все же осветится человек. Надо только жить рядом с ним, чтобы Христос, живущий в тебе, постоянно освещал омраченного. Человека за руку приходится водить, как ребенка-несмышленыша!..
На Страстной неделе соузники мои изъявили желание исповедоваться передо мною, и в одну из ночей я принял их сокрушенную, отчаянно русскую исповедь… В знак раскаяния они целовали мой нательный крест.
В ночь на Светлое Христово Воскресение я облачился в изорванные свои ризы и пропел им всю пасхальную заутреню, а потом христосовались мы…
Пять месяцев я просидел в здешнем узилище. В самый день рождения моего (мне исполнилось пятьдесят два года) меня отправили железнодорожным путем в губернскую тюрьму.
Втолкнули меня в подвальную темноту и сырость. После солнечного света, на время осветившего меня по пути в тюрьму, я долго стоял на пороге, словно в ослеплении, ничего не видя. Ко мне кто-то подошел, назвал меня по имени и обнял. Глаза мои проясняться стали. Я увидел архиепископа Платона. Только по глазам да по тому неуловимому, что делает человека характерным, я узнал его. Величественный русский владыка превратился теперь в согбенного старца. Ряса была в дырьях, на ногах плохенькие сапожонки, седые волосы свалялись в колтун и, давно не мытые, напоминали горький ветхозаветный пепел.
Я поклонился ему в ноги.
Ко мне стали подходить из разных углов другие обитатели подвала. Меня обнимал заросший волосами, землисто-бледный, похожий на тень, высокий человек в сутане.
– Ксендз Станислав Лабунский!
Крепко пожимал мне руки маленький, иссохший, похожий на философа Канта господин в сюртуке. Через одышку он назвал себя:
– Пастор Келлер!
Тихими стариковскими шагами приблизился давний духовник мой игумен Амвросий. Молча обнял меня и молча перекрестил.
Семинарским прозвищем моим («Пустынник антиохийский») встретил меня однокашник мой отец Михаил Аскольдов. Был когда-то осанистым, златовласым и осиянным каким-то – теперь старик передо мною стоял с трясущимся перемученным телом.
Великим поношениям подвергались мы… Поздно вечером, а то и в полночь в замке щелкал ключ. Открывалась железная дверь, и на пороге появлялись они. Впереди товарищ Бронза. В лице и в коротких тяжелых руках этого человека действительно было что-то бронзовое. Высокий, широкий в кости, с напомаженной челкой на низком волосатом лбу, всегда в кожаной одежде… Рядом с ним два мускулистых китайца с беспросветными глазами, всегда потные и как бы лиловые от грязи, одетые в замусоленные липкие ватники.
– Одевайсь! – раздавался гнусавый голос Бронзы. Нас выводят из камеры. Темными переходами идем на широкий асфальтовый двор.
– Вста-а-а-ть к стенке!
От этого окрика мы чувствуем себя солдатами и стараемся выстраиваться по-военному.
Далеким озерным всплеском звучит тишина. Они вынимают из кобуры револьверы, нахмуренно осматривают их с разных сторон и… начинают в нас прицеливаться.
В течение минут трех направляют на нас револьверное дуло. Мы бледнеем и начинаем креститься. Насладившись нашими предсмертными чувствами, они милостиво машут нам револьвером.
– Репетиция окончена! Разойтись!
Такие репетиции устраивались раза два, а то и три в месяц.
Однажды нам пришлось испытать еще более дикое поношение.
Поздно вечером открывается дверь. Мы только что совершили всенощное бдение и, сидя на соломе, нашем ложе, тихо беседовали.
– Одевайсь!..
Нам вручили по железному заступу. Повели нас за тюремные стены. Пахло летней, напоенной солнцем травою. Запах давно невиданной травы особенно взволновал меня. «Земля Божия, земля Божия», – несколько раз повторял я вслух. Нас повели за город и заставили остановиться среди поля.
Мне вспомнилось детство, ночное… костер среди поля… всплеск большой рыбы в протекавшей мимо реке и серебристое ржание жеребенка.
– Ройте яму!.. – приказал нам Бронза. – Душ… этак… на семь!..
– Вот и конец…
Игумен Амвросий с трудом работал заступом. Китаец толкнул его в спину, и он упал на камень, разбив себе подбородок. Седая борода его окрасилась кровью, и он как-то беспомощно улыбнулся… молчальной улыбкой. Яма была вырыта. Мы едва переводили дух от усталости, и всем нам очень хотелось поскорее отдохнуть.
– Ну-с… отдохните маленько… – сказал нам Бронза, закуривая папиросу. – А потом встаньте под рядовку затылками к яме!..
Мы стали готовиться к смерти. Мы целовались последним целованием и благословляли друг друга в дальнюю дорогу… В это время металлическим взвизгом рассмеялся пастор Келлер. Мы бросились к нему. Весь он был затуманен безумием… Мы обнимали его и утешали, а он царапал лицо свое длинными землистыми ногтями и кричал сквозь рыдающий хохот:
– Иерусалим! Иерусалим!
Он потерял сознание и упал. В это время подъехал к нам грузовик, нагруженный чем-то тяжелым и, как мне почудилось, страшным. Груз был покрыт влажным брезентом.
Нам скомандовали:
– Разгрузить!
Мы сняли брезент. На грузовике лежали мертвые тела. Среди них мальчик лет десяти в матросском костюме с перебитым до мозга черепом.
Нас заставили хоронить их. Когда зарыли, то скомандовали:
– Стройся! По домам!
Бесчувственного пастора мы положили на грузовик.
Пастор Келлер скончался. За несколько минут до кончины Господь прояснил его разум. Он сказал последние свои слова на земле: «Слава Богу за все!..»
Тело его в течение недели оставалось невынесенным…
Проходили долгие дни нашего заключения. Однажды мы стали примечать, что вокруг нас нарастает тревога. Временами слышалась отдаленная пушечная стрельба. Мы осмелились как-то спросить у приносящего нам пищу простоватого и доброглазого парня: что происходит на свободе? Он шепнул нам: «Белые наступают!»
Пушечная пальба приближалась. За дверью нашей камеры все чаще и чаще раздавались нервные бегущие шаги. Они заставляли нас вздрагивать. Мы прижимались друг к другу. С наших уст не сходила молитва. Однажды приносящий пищу объявил нам шепотом:
– Готовьтесь сегодня к смерти…
По уходе его из камеры епископ Платон положил богослужебный начал: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков…»
Мы не сговаривались, что нам петь: всенощное бдение, молебен, но разом почувствовали, что нам следует отпевать себя. Мы запели последование погребения человек: «Блажени непорочнии в путь, ходящий в законе Господни. Аллилуия…»
Епископ Платон поминал о вечном упокоении наши имена: «Еще молимся о упокоении душ усопших раб Божиих, и о еже проститися нам всякому прегрешению, вольному же и невольному…»
При пении прощального «Зряще мя безгласна» мы лобызались и крестили друг друга.
Был вечер. Земля вздрагивала от пушечных выстрелов.
В замке щелкнул ключ. Вошел Бронза в сопровождении китайцев. Не ожидая его приказания, мы стали собираться в дорогу…
…Расстреливали по очереди.
Первым упал епископ Платон, за ним ксендз, третьим отец Михаил. Он успел крикнуть:
– В руце Твои, Господи, предаю дух мой!..
Я стою с игуменом Амвросием. Он вполголоса читает слова исходной песни: «Непроходимая врата тайно запечатствованная, благословенная Богородице Дево, приими моления наша и принеси Твоему Сыну и Богу, да спасет Тобою души наши».
Мне вспоминается сельская церковь. Вербное воскресенье. Иконостас украшен красными прутиками вербы. Я стою в очереди причастников. Мне всего девять лет. В белой рубашке я и в сапогах новых, с желтыми ушками наружу… Медленно движется очередь причастников, и все они освещены весенним солнцем. Деревенские певцы поют: «Тело Христово приимите, источника бессмертнаго вкусите…»
Бронза свинцовой поступью подходит с наганом к игумену Амвросию.
– После этого причастника и я подойду к чаше… – туманится в моей голове. – Верую, Господи, и исповедую… – шепчут уста моя. Вся земля превращается в синее облако, и нет уж памяти ни о прошедшем, ни о настоящем… Тело мое как бы опадает, и вот… нет уж меня, облеченного в земляную плоть… Мне на мгновение представляется, что я стою около своего упавшего тела и смотрю на него, как на совлеченную одежду…
Меня выводит из этого состояния грохот бегущих солдатских ног и неистовый, смертью охваченный крик:
– Белые вошли в город!
Нас не успели расстрелять.
Третья часть
Я иду по большой дороге. На мне полупальтишко, солдатские сапоги с подковками, барашковая шапка. За плечами две сумы. В одной Запасные Дары, Евангелие, деревянная чаша, служебник да требник, а в другой – сапожный инструмент. На груди у меня в особой ладонке антиминс. В руке березовый посох. Я стал священником-странником. Перед отступлением белых меня убеждали за границу бежать, но я отказался.
Ноги мои для ходьбы оказались легкими.
Дни стоят сентябрьские, теплые – бабье лето!
Я остановился на лесном взгорье. Внизу река, поле, даль и дороги. Сильна власть русских дорог! Если долго смотреть на них, то словно от земли уходишь и ничто мирское тебя не радует, душа возношения какого-то ищет… Не от созерцания ли дорог родилась в русском человеке тяга уйти? Все равно куда… в Брянские ли разбойничьи леса или навстречу синим монастырским куполам… только бы идти, постукивая дорожным посохом. Недаром и петь мы любим: «Ах, не одна-то во поле дороженька пролегала».
Земля вечерела. Надо покоя искать. Но куда Господь направит стопы моя?
Проходя вересковыми тропинками, увидал я бревенчатый дом.
«Не приютят ли меня?»
Стучу посохом по окну. Никто не откликается. Выбежал откуда-то кот, сел на крыльцо и смотрит на меня. Он кольнул меня скорбным человеческим взглядом. Я погладил его, и он прижиматься ко мне стал и жалобно мяукать.
Еще раз постучал в окно, и опять неоткликаемая и, как мне показалось, неживая тишина. Я решился открыть дверь. Вхожу в избу. Озираюсь и вижу…
На полу лежит зеленый от зеленых сумерек мертвый человек в холщовой рубахе и солдатских шароварах, босой… На шее чернел медный крестьянский крестик. На волосатой голове кровь в сгустках. Рядом подсвечник с выпавшей свечою и железный шкворень. Я перекрестил усопшего, сходил к колодцу за водою, обмыл его, чин отпевания совершил… Неподалеку, в песчанике, яму вырыл, укутал тело холстиною и волоком вытащил из избы (какая тяга: мертвое человеческое тело – сырая земля!).
Я переночевал в сенях, на соломе. В ногах у меня кот лежал. Со зверем было повадно.
С восходными зорями я дальше пошел.
Над полями витает паутина – пряжа Богородицы. Вся трава перевита серебрецой, словно морозная. И до чего это народ русский умилительный выдумщик! Ведь надумает же: Богородица прядет пряжу! И все это у него поэзия! И не какая-нибудь, а высокая, духоносная! Вспомнить лишь названия Богородичных икон, кои он приукрасил и увенчал: Неувядаемый Цвет, Взыскание погибших, Купина Неопалимая, Нечаянная Радость, Утоли моя печали, Всех скорбящих Радость… А какие слова, песни да присказки! Надо иметь невместимую душу, ширше облака (изъясняясь словами акафиста), упоенную и творящую душу, чтобы все это выразить… Великий он поэт!
…Спускаюсь под гору. Весь я в солнце. Иду и напеваю богородичный канон: «Отверзу уста моя…» И вот вижу я лужайку, а на ней тела лежат рядами. И воронье над ними. Трупы раздеты и разуты. Никого кругом – широкое в холмах да взгорьях поле. Я отпел убиенных. Посыпал их перстию: «Господня есть земля и исполнение…»
Долго поджидал у дороги людей, чтобы кликнуть их и упросить предать земле усопших. Но на дороге было пусто.
Иду я и ни единого жилья не встречаю, а уже ночь наступает темная да студеная. И ветер поднялся дюжий такой, настоящий степной русский ветер. Никогда такой древней не кажется земля, как при ночном ветре среди поля.
Набрел я на сенной сарай. Ветер был такой силы, что заснуть я никак не мог.
Слушал его и думал о Русской земле. Думы мои о ней до того замучили, что я спасался лишь бессчетным повторением вслух от всего спасающей молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».
Среди ночи рядом со мною кто-то тяжело пошевелился. В шорохе этом что-то звериное было. Я громко вопросил:
– Кто здесь?
Никто не откликнулся.
Рано утром я осмотрел все углы сарая и никого не нашел. И посейчас вот размышляю: с кем я ночевал? С зверем ли лесным или с человеком, таящимся, как зверь?
В каждой почти деревне приходилось мне и ребят крестить, и венчать, и земле предавать. Всюду встречали меня с любовью, но и гонений и поношений было немало, но и они шли на пользу. Тоже творили чудо!
Был со мною такой случай. В селе Горелове за устройство духовной беседы в лесу меня арестовали и посадили под замок. Поздно ночью приходит ко мне в темницу комиссар. Бравый этакий мужчина саженного роста. Был он пьянее вина.
На ногах чуть держится. Еле во додающим языком приказал мне:
– Шагом марш за мною!
Привели меня в большую избу. Вся она полным полна, и все пьяные. На табуретке сидел гармонист. При виде меня он заиграл плясовую.
Комиссар сгреб меня пятерней за волосы, вытащил на середину избы и приказал:
– Пляши!
Пьяные что дети али звери… Я не стал противиться им и пустился в пляс… А когда кончил плясать, то сел на лавку и засмеялся. Вначале ничего смеялся, по-людски, но потом не выдержал и засмеялся с душевным содроганием, с плачем и выкриками… И никак этого смеха не мог удержать…
Когда успокоился немножко, то огляделся я вокруг и вижу: все стоят с опущенными головами и молчат… Есть что-то святое в задумчивости русского человека… Первым не выдержал молчания комиссар. Он, это, как охнет да воскличет! Гляжу… бух! падает мне в ноги:
– Прости меня, Божий человек!
Мы подняли его. Усадили за стол. Я рядом с ним сел. Поуспокоились немножко. Поставили самовар. Стали меня потчевать. И вот кто-то из них и говорит мне:
– Расскажи что-нибудь душевное… только не про нашу жизнь и не про нашу землю… Если
Божьего слова недостойны, то расскажи хоть сказку!..
Долго, до петушиных вскликов, беседовал с ними. Слушали меня с опущенными головами и вздохами.
На прощание сказал мне:
– Иди своею дорогой, батюшка! Не поминай нас лихом… Мы это… ну… одним словом… Ладно! Чего уж там говорить!..
Большой крест греха лежит на русском человеке…
Во время ночлега моего в одной избе был я самовидцем дикого мужицкого разгула. Пять человек красноармейцев вместе с хозяином – рыбаком Семеном и горбатым сыном его Петрухой глушили самогон. По совести говоря, мне бы уйти отсюда надо, но я остался. В русском разгуле всегда есть что-то грустное, несмотря на видимое безобразие его и содомство, и в разгуле этом чаще всего душа раскрывается… Почем знать, раздумывал я, может быть, понадоблюсь! Бывают же в жизни русского разгульника «смертные часы», когда он не знает, что со своею душою делать. В такие минуты ему утешитель надобен!
Красноармейцы – русские ржаные парни, широколицые да курносые. Когда трезвыми были они, то я любовался ими и думал: «Хлеб бы им сейчас молотить, снопы возить, по деревенскому хозяйству справляться…»
Слова у них жесткие, с выплевками, с матерщиной. Завидев меня в уголке, с каким-то злым харканьем спросили:
– Кто такой?
За меня ответил Семен: бродячий-де сапожник!
– А ну-ка почини мне сапоги! – сказал один из них.
Снял он исхоженные вдрызг сапожонки свои и мне в угол бросил.
– Уплачу! Не бойсь! – прибавил он.
Я сапоги чинить стал, а они к столу присаживаются. Бутылки вынимают. Стали и меня потчевать.
Пригубил я для видимости и сказал:
– Больше, ребята, не угощайте. Сердцем слаб!
Перепились эти молодцы самогону и стали похваляться геройством своим. Много всяких страшных былей они порассказали, но один рассказ потряс меня до смертного окоченения. Рассказывал его крикливым, с провизгом, голосом маленький мозглявый паренек с рыжими кочковатыми бровями.
– Это еще что! – начал он. – У нас дело почище было! Во снах такое не причудится! – При этом он подмигнул сидящему напротив парню с жирными, пропитанными пылью морщинами на широком волосатом лбу: – Помнишь, как самогоном причащали?
– Ты бы лучше помалкивал бы… – нахмурился другой.
– Не могу! Уж больно это у нас оглушительно получилось!..
– Не рассказывай!.. – хрипнул волосатый.
Расходившийся парень не захотел молчать:
– Дело недавно было. Приехали мы в одно большое село. Там церковь, но заколоченная. Священника, сказывали, на костре, как борова, опалили… а потом горящую головню в хайло ему запихали…
Да, пустая церковь-то… Слушайте дальше… Это только присказка…
Командиром нашим был Павел Никодимыч Вознесенский… Голова и краснобай! Когда-то в духовной семинарии обучался… На священника, видишь ли, пёр!.. Вот однажды, во время самого ненасытного пьянства нашего, поднимается Павел Вознесенский и во весь широкий голос свой объявляет:
– Товарищи! Хотите, штуку разыграю над деревенскими дураками? – а сам, это, по-волчьи зубы скалит, и огонь в глазах этакий у него… погибельный!..
– И для ча ты рассказываешь, туз бубновый? – опять перебил его волосатый, приходя в гневное волнение.
– Помалкивай!.. Так-с. Хотите, говорит, штуку разыграю?
Мы, конечно, спрашиваем:
– Каку таку штуку, Павел Никодимыч?
– А вот какую! – грохнул он по столу кулачищем. – Завтра обедню служить в церкви буду и народ причащать… самогоном!..
Мы, это, немножко побледнели и дрогнули, ну а потом, разошедши… все стало нипочем! Одним словом, «леригия опиум» и тому подобное… Чего уж там!.. Плевать с высокого дерева!..
На другой день, часиков это около десяти, один из наших в колокол ударил… Село-то ка-ак всколыхнется – звонят-де! Дивуются. Что такое?
Мы объявляем, что-де власть, идя навстречу народу, разрешила Бога и даже попа прислала… Пошло в народе ликование. Валом повалили в церковь… Плачут от радости… Иконы в церкви целуют, цветами их украшают… Пыль с них смахивают…
Павел Никодимыч в ризы облачился, все как есть, по чину… Хор собрали из знающих… Старый дьячок припер…
Обедня у нас идет такая, что все в церкви ревмя ревут…
Волосатый парень, все время бросавший на рассказчика гневные взгляды, вдруг не выдержал, задрожал, побледнел и надсадно крикнул:
– Замолчи, сволочь!..
Прокричав эти слова, он обессилел как-то, повалился на скамью и сразу же захрапел пьяным, всхлипывающим сном.
Наступило маленькое перетишье.
– Ну и что же, причастил? – косясь на спящего, шепотом спросил горбатый.
– Да, причастил…
Парень уж стал говорить тише и, видимо, с душевным смятением, стараясь побороть его лихостью глаз.
– Вот, это, причастивши-то… выходит Вознесенский говорить проповедь… Господи Иисусе!.. Что было-то!.. Стал он крыть по матушке и Господа, и Матерь Его, и всех святых… Я от страха и дрожи стоять не мог… Так и пригнуло меня к полу… А народ-то!.. Господи! Что с народом-то стало!..
Тут парень призакрыл глаза, съежился и несколько раз вытер со лба пот рукавом шинели. Лицо его задергалось, зубы застучали, и руки заходили ходуном…
– Ежели не можешь, то не рассказывай… – посоветовал рыбак, тоже не зная, куда девать себя от волнения.
– Нет, надо досказать! – заупрямился парень, приходя в полубезумный раж. – Не могу не досказать!.. На чем, это, я остановился? Да! Народ, это… Видали, как ураган крыши срывает да горы сокрушает?.. Так вот и народ!.. Ка-ак, это, бросился он на Вознесенского!.. Подмяли под себя да с хрипом, воем, ревом почали его сапогами, да кулаками, да подсвечниками по черепу, по груди да по всему хрусткому… до самого мозга, до внутренности… до кишок этих! Все иконы мозгами да кровью забрызгали!..
Парень охнул, закачался со стороны на сторону и попросил воды.
– Ну, а потом что? – с неумолимой жестокостью допытывался горбатый, став как бы безумным от страха и любопытства.
– Мало тебе, горбатому черту, рассказали? – накинулись на него остальные, сидевшие до сего времени как бы неживые.
– Потом что? – взяв опять крикливый тон, заговорил парень. – Вызвали пулеметную команду да по народу… тра-та-та-та… За бунт и возмущение против власти!.. Душ пятьдесят, не считая раненых… в расход вывели…
Пить никто не хотел. Они долго сидели нахмуренными, а потом все стали расходиться.
Сапог я не мог починить. Мое сознание держалось на тонкой паутинке. Колыхнись она немножко, и я стал бы безумным.
Иду берегом Волги, по древней Тверской дороге. Осень не витает уж легкой солнечной паутиной, а исходит ветрами и неуемными дождями. Ноги мои вязнут в грязи. Руки и лицо мое леденит колючий предзимник. Земля потемнела. Идти тяжело. Никакого жилья не видно. Стала донимать меня слабость. Кружилась голова, и подкашивались ноги. Старался приободрить себя и трунил над собою: «Что же это ты, отец Афанасий, сдаешь? А ну-ка, ну-ка, с ветром в ногу… встряхнись… поспешай!., раз, два, три!..»
Но как ни ободрял себя, пришлось мне сесть на придорожный камень и забыться…
Долго ли я был в забытьи – не ведаю, но только почувствовал: кто-то поднимает меня и сажает на телегу. Помню, что вся земля закружилась перед глазами, словно граммофонная пластинка.
В тягостном, черном бреду я все время видел, как комиссар Вознесенский причащал народ самогоном и как будто бы вместе с разъяренным народом я бил его чем-то холодно-тяжелым по всему хрусткому, а потом прятался в каких-то черных садах и тосковал и плакал о преступлении своем… Но больше всего меня мучило бесчисленное количество белых сверкающих рук, старавшихся сорвать с груди моей священный антиминс…
Больше двух месяцев находился я между жизнью и смертью.
Сидел на полатях, рассматривал руки свои, и мне жалостно было смотреть на них – желтые и ломкие, как свечи в морозном храме… И думал о себе, покивая главою: слабый все же я человек!.. Не могу закалить себя, вооружиться крепостью и мужеством… Если бы не рассказ о причащении самогоном, может быть, ничего и не случилось бы… Слишком это страшно было, слишком не по силам мне, немощному!
Меня, оказалось, подобрали на дороге неподалеку от села местные крестьяне. Сам хозяин – нестарый чернобородый мужик с иконными глазами и жена его – маленькая исхудавшая женщина с испуганным взглядом (взгляд большинства русских женщин в наши дни). Черно и бедно было в избе. Обхаживали они меня, как сына родного, и ночами не спали. Когда я поправился немножко, то хозяева подошли ко мне под благословение. В удивлении спросил их:
– Откуда вы знаете, что я священник?
– Из твоего бреда узнали!..
Ввиду наступающих холодов упросили меня у них пока остаться. Однажды говорит мне хозяин:
– Отслужи ты нам Божию службу! Утешь страждущих. В церкви-то нельзя, народный дом там, а мы уж в овин соберемся. Все у нас будет в молчании…
Ночью привели меня в темный, дымом да копотью пахнувший овин на глухих задворках. При свете свечей приметил я, что все здесь было прибрано и вычищено. На столе, покрытом скатертью, стояли иконы и перед ними три лампады. Человек двадцать пришло на молитву. Отслужил я им всенощное бдение, а потом беседовал с ними. По привычке своей всем в глаза смотрел. Хороши русские глаза на молитве! Мироотречение в них и образ Божий…
Окреп я немножко, исполнил дело свое, распрощался и тронулся дальше.
Земля пахла морозом, но снега еще не было. От вечернего морозного зарева небо и земля казались медными. И тишина была, словно отлитая из меди, ударить по ней – и зазвучит. Деревня, часовня на горе, черные бревенчатые бани, похожие на Гостомыслову Русь, запах дыма.
У околицы стояла маленькая сгорбленная женщина в тулупе, черном монашеском платке, в тяжелых деревенских сапогах. Она облокотилась на березовую изгородь и смотрела на большую дорогу.
Я подошел к ней и окликнул ее приветствием.
Она вскинула на меня странные, болью какой-то пронзенные глаза свои и улыбнулась неживой улыбкой.
– Ты оттуда? – показала она озябшей рукою на пройденную мною дорогу.
– Да к вам в деревню иду!
– Так-так… А ты деток моих не встретил?
– Нет, никого не видел.
Она приложила руку к щеке и по-бабьи запечалилась:
– Жду их пожду, а они не приходят!
– Куда же они пошли?
– Воевать пошли с белыми!.. Люди сказывают, что они убиты, а я не верю. Врут люди!
Подула на свои окоченевшие пальцы и стала смотреть на дорогу.
– Должны прийти, – шептала она, смотря вдаль, поверх дороги, – я ведь старая и скоро помереть должна… да и голодно мне и зябко… Куда это они запропастились, баловники этакие?
Завидев кого-то вдали, она исступленно-радостно вскрикнула, сорвалась с места и побежала навстречу, вскидывая вперед озябшие руки.
– Идут, идут! – кричала она. – Детки мои! Родненькие!..
В деревне мне рассказали, что женщина эта помутилась в разуме, когда узнала о расстреле своих сыновей. С этого времени во всякую погоду она выходит за околицу встречать их и каждого встречного спрашивает:
– Не видали ли вы деток моих?
В морозно-солнечный день я направлялся навестить один тайный монастырь. На лесной дороге встречаю трех стариков. В тулупах, бородатые, с котомками через плечо, с лесинами в руках, в валенках.
Я спросил их:
– Куда Бог несет?
Не отвечая сразу на вопрос, приземистый, с желтым стариковским взглядом путник обратился ко мне:
– Не из священников ли будешь, желанный?
Я ответил утвердительно. Вопросивший меня обрадовался и с тихим довольством посмотрел на спутников.
– А ведь угадал я, старики? Говорил же вам, что это батюшка! Я, желанный, – улыбнулся мне зазябшим лицом, – издали признал, что ты из духовных! Пословица-то не зря молвится: попа и в рогожке спознаешь!
Подошли ко мне под благословение и стали рассказывать:
– Мы, батюшка, в Москву идем!.. О Боге хлопотать!
– Как так?
– Да так, чтобы, это, Бога нам разрешили и всякие гонения воспретили… А то беда!
Говорят спокойно, по-крестьянски кругло, и только в глазах их как бы блуждание и муть.
– Шибко стали Бога поносить! – сказал сгорбленный старик, опираясь двумя руками на посох в страннической покорности. – Жалко нам Его… Терпеть невозможно!..
– Ведь до чего дошло?! – перебил его другой, с косыми глазами и впалыми забуревшими щеками. – Миколаха Жердь из нашего посада анкубатор для выводки цыплят сделал… из дедовских икон! Говорит Миколаха, что они, иконы-то, подходящие для этого, так как толстые, вершковые, а главное – дерево сухое!..
– А внук мой Пашка из икон покрышку сделал в своем нужнике… – задыхаясь, прошамкал беззубый тихий старик, весь содрогнувшись. Спрашиваю их:
– Кому же вы жаловаться будете в Москве?
– Как кому? Ленину! Ильичу то исть!..
– Да он помер…
– Это мы слышали, но только не верим! Нам сказывали, что он грамоту такую объявил, чтобы не трогать больше Бога…
Я чуть не заплакал. Застывшая в глазах моих боль заставила стариков на время задуматься. Что-то поняли они. Растерянно взглянули друг на друга и на меня посмотрели.
– Ну а ежели не найдем Ленина, так к самому патриарху пойдем, – заявил желтоглазый старик. – Пусть он рассудит и анафемой безбожникам пригрозит… Патриаршая-то анафема дело не шуточное… Убоятся!.
– И святейшего патриарха нет в живых!..
Они не удивились, сняли шапки и перекрестились, сказав шепотом: «Царство ему Небесное!» Глаза стариков гуще налились мутью.
– А Калинин-староста жив? Ну так мы к нему пойдем… Он нас приветит!
Вначале тихо, а потом все горячее и горячее я стал убеждать их не делать этого, вернуться к себе, терпением препоясаться и ждать Божиего суда.
– Не можем! – с земляным упорством заявили они и даже рассердились на меня.
– Сто верст пешком прошли! – взвизгнул один из них. – Сам Господь идет с нами рядышком… а ты… вернуться!
– На смерть идете! – сказал я в отчаянности. Только улыбнулись тихо так: «Что нам смерть!» – поклонились мне и пошли вперед степенным деревенским шагом. Долго слушал я хрустень морозного снега под их валенками.
Я проходил мимо оскверненных храмов, сожженных часовен, монастырей, превращенных в казармы и торговые склады, был свидетелем надругательства над мощами и чудотворными иконами, соприкасался со звериным ликом человека, видел священников, ради страха отрекавшихся от Христа… Был избиваем и гоним не раз, но Господь помог мне все претерпеть и не впасть в уныние. Да разве могу я ослабнуть духом, когда вижу я… сотни пастырей идут с котомками и посохами по звериным тропам обширного российского прихода. Среди них были даже и епископы, принявшие на себя иго апостольского странничества… Все они прошли через поношение, заключения, голод, зной и ледяной ветер. У всех были грубые обветренные лица, мозолистые руки, рваная одежда, изношенная обувь, но в глазах и в голосе сияние неизреченной славы Божией, непоколебимость веры, готовность все принять и все благословить…
При встрече кланялись земно друг другу, обнимались, тихо беседовали среди поля или леса. На прощание крестили друг друга и расходились по разным дорогам…
Молился я в потаенных монастырях, где подвизались иноки из бывших отрицателей и поносителей имени Божиего.
Видел иноков в миру, всегда готовых поделиться Богом с неимущими Его и тоскующими по Нему. Был очевидцем великого раскаяния русского человека, когда он со слезами падал в дорожную пыль и у каждого встречного просил прощения.
Видел власть имущих, которые в особой ладанке носили на груди частицу иконы или маленький образок и потихоньку, яко Никодим в нощи, приходили ко мне за утешением.
Знаю одного из них, который хранит в чулане иконы отцов своих и в моменты душевного затемнения затепляет перед ними лампаду и молится…
Видел запуганных отцов, заявлявших мне: сами-то мы безбожники, а детей наших выучи закону Божиему, чтобы они хулиганами не стали… И в большой тайне у многих из этих отцов я учил детей их… Слышал и новые народные сказания о грядущем Христовом Царстве, о пришествии на землю Сергия Радонежского и Серафима Саровского, о Матери Божией, умолившей спасение Русской земле.
Не одну сотню исповедей выслушал я (и страшные были эти исповеди), и все кающиеся готовы были принять самую тяжкую епитимию и любой подвиг, чтобы не остаться вне чертога Господня.
Вся Русская земля истосковалась по Благом Утешителе. Все устали. Все горем захлебнулись. Все чают Христова утешения.
Я иду к ним, пока сил хватит, и крепко еще обнимает рука мой дорожный посох.
Примечания
1
Ломоть (диал.).
(обратно)2
Северный ветер (диал.).
(обратно)3
Волхвы (церк. – слав.).
(обратно)4
Престидижитатор (из фр.) – фокусник, эскамотаж (из фр.) – фокус с прятанием чего-л., малабарист (из. исп.) – жонглер.
(обратно)5
В прошлом году (диал.).
(обратно)6
Форштадт (из нем.) – предместье, пригород.
(обратно)7
Айхенвальд, Юлий Исаевич (1872”1928) – выдающийся литературный критик, поэт, переводчик. До революции преподавал в гимназии и в Московском университете. В 1922 г. был арестован советскими властями и выслан из России на знаменитом «философском пароходе».
(обратно)8
Лапти из старых веревок.
(обратно)9
Тяжко (устар.).
(обратно)10
Привратника (устар.).
(обратно)11
Речь идет об обновленческом расколе, поддерживавшемся в 1920-е гг. советскими властями.
(обратно)







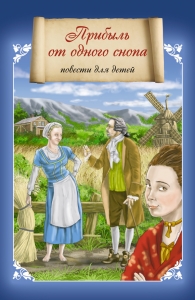


Комментарии к книге «Ключи заветные от радости», Василий Акимович Никифоров-Волгин
Всего 0 комментариев