Адам Мицкевич Стихотворения
ГОРОДСКАЯ ЗИМА
Прошли дожди весны, удушье лета, И осени окончился потоп, И мостовой, в холодный плащ одетой, Не режет сталь блестящих фризских стоп. Держала осень в заточенье дома. На вольный воздух выйдем, на мороз! Кареты лондонской не слышно грома, И не раздавит нас металл колес… Приветствуй горожан, пора благая! И неманцев и ляхов одарят, Сердца их для надежды раскрывая, Улыбки тысяч фавнов и дриад. Все радует, бодрит и восхищает! Пью воздуха холодную струю, Которая дыханье очищает, Или на хлопья снежные смотрю. Одна снежинка плавает в стихии, Другая – та, что тяжелей, – легла. А эти улетят в поля сухие. Вилийские побелят зеркала. Но кто в селе глядит, как заключенный, На лысый холм, на одичавший дол И на деревья рощи обнаженной, Ветвям которых снегопад тяжел, Тот, опечален небом, ставшим серым, Бросает край уныния и льда И, променяв на Плутоса Цереру, В карете с золотом летит сюда. Пред ним – гостеприимные ворота. Дом краской и резьбою веселит. Он забывает сельские заботы В кругу очаровательных харит. В селе, едва редеет мгла ночная, Церера сразу встать неволит нас. Здесь – солнце жжет, зенита достигая, А я лежу, не размыкая глаз. Потом в нанкине, наскоро надетом, Я, модной молодежи круг созвав, Болтаю с ними, – и за туалетом Проходит утро, полное забав. Один в трюмо себя обозревает, Бальзам на кудри золотые льет; Другой стамбульский горький дым вдыхает Или настой травы китайской пьет. Но вот уже двенадцать бьет! Скорее На улицу – и я уже в санях. И росомаха или соболь, грея, Игольчатые на моих плечах. Я в зал вхожу, где, восхищая взоры, Стол пиршества для избранных накрыт. Напитков вкусных, здесь полны фарфоры, И яства разжигают аппетит. Коньяк и пунши в хрустале граненом, Столетний зной венгерского вина; Мускат по вкусу дамам восхищенным: Он веселит, однако мысль – ясна. Блестят глаза, а чаши вновь налиты… Остроты, шутки, пылкие слова… Не у одной из дам горят ланиты, В огне от нежных взглядов голова. Но вот и солнце никнет. Сумрак синий Таит благодеяния зимы. Сигнал разъезда дали нам богини. И лестницы гремят. Уходим мы. Тот, кто слепому счастью доверяет, Вступает, фараон, в твою страну Или искусно кием управляет Слонов точеных гонит по сукну. Когда же ночь раздвинет мрак тяжелый И в окнах вспыхнет множество огней, Кончает молодежь свой день веселый, Шлифуя снег полозьями саней.[1817]
ВОСПОМИНАНИЕ
Сонет
Лаура, помнишь ли те сладостные годы, Когда вдали от всех бытийственных забот Друг другом жили мы, не числя дней полет, Забыв докучный мир для счастья и свободы. Ты помнишь этот сад, аллей живые своды, И речку, и покой ее прозрачных вод, И нег ночных приют – обвитый хмелем грот, Где проникали к нам лишь голоса природы. А месяц озарял то груди белизну, То золотых волос роскошную волну, И ты божественным влекла очарованьем. В подобные часы восторгам нет конца, Уста встречаются, блаженство пьют сердца, И вздоху вторит вздох, признания – признаньям.[Начало 1819]
* * *
Уже с лица небес слетел туман унылый. Ты, кормчий, встань к рулю, пускай шумит ветрило, Режь соль седых валов рукой неутомимой. Простерся океан вдали необозримый. Пусть не страшит тебя ни дальняя дорога, Ни хрупкая ладья, ни то, что нас немного. Подумай, ведь Язон, когда отплыл впервые, Доверясь прихотям обманчивой стихии, Корабль имел простой и сердце не из стали, Ведь ад и небеса герою угрожали, Но, цель высокую поставив пред собою, Он все преодолел, добыл руно златое. Нам тоже ведомы высокие дерзанья, Должны воздвигнуть мы на новом месте зданье, И, если подвиги не меньшие нас манят, Пусть аргонавтов нам живой пример предстанет. Они, из отчих гнезд впервые вылетая, Предприняли поход, опасностью играя. Мы их наследники. Страшиться мы не вправе. Преодоленный труд – всегда ступенька к славе. Там каждый отдавал свой труд на пользу дела: Кто – мощь, кто – зоркость глаз, кто – голос лиры смелой. И мы поступим так. Ведь мы не бесталанны И сил не лишены. Свершим же путь желанный. Стремиться будем все, – один свершит, быть может: Неравной мерою дары даются божьи. Но там, где поприще огромно и прекрасно, Неравенство сие не может быть опасно. Счастлив, кому венок достанется лавровый, Он увлечет других стремленьем к славе новой, Но пусть тщеславие не завладеет нами, Гордится дерево не листьями – плодами, Нам станут гордостью полезные деянья, Не пальма первенства и не рукоплесканья. Пусть каждый говорит, как воины ахеян: «Я – сильный, дайте мне доспех потяжелее». Пока, спеша к мете, поставленной на бреге, Ты не опередил других в могучем беге, До той поры народ, на состязанье глядя, Спокойно ждет того, кто подлежит награде, Но если уж других ты позади оставил, Гляди, чтобы навек себя не обесславил. Спеши, дабы тебя опять не обогнали, Нажав в последний миг, отставшие вначале. Ведь если выше ты других себя считаешь, О славе более высокой ты мечтаешь, Победу одержав в публичном состязанье, Услышать всякий рад толпы рукоплесканье, Но, если полубог сразил в бою кентавра, Что значит для него простой венок из лавра! Пусть примет больший труд, в ком громче голос чести, Себя позорит он, когда стоит на месте! К вам, братья славные, я обращаю взоры, Вы, дня грядущего надежда и опора, Кого природа-мать любовно наградила, Взмахните крыльями, взлетите с новой силой Затем, чтоб, досягнув вершины величавой, По-братски звать других в поход зановрй славой! А нам, которые идут за вами следом, Высокий ваш полет укажет путь к победам. В соревновании с могучими мужами Гордились юноши десятыми венками. Мы тоже их возьмем. Пусть зависть не хлопочет. Червь равнодушия в нас воли не подточит. Свободен наш союз, нам принужденье чуждо. Труд – наше божество, девиз священный – дружба. Настанет день, когда, соединивши руки, Девиз воспримут наш и нас восхвалят внуки. Но, право, нужно быть тупицей недалеким, Чтоб сделать доступ к нам открытым и широким. Строенье лишь тогда не рушится веками, Когда строители кладут отборный камень. И чтобы замысел не оставался словом, Пусть исполнители пройдут отбор суровый! Кротонец, в таинствах природы умудренный, Покровом призакрыл лик правды обнаженной И, добродетели подъемля жезл крылатый, Не всем ученикам давал названье брата. Так было некогда на таинствах Орфийских, И на мистериях так было Элевзинских. Немало жаждущих попасть в наш круг стремится, Но разные у них намеренья и лица. Личину с них сорвав, увидим их в натуре: Отыщем среди них волков в овечьей шкуре! Кто жадностью томим, а кто из горделивых, Кто ищет не друзей, а слуг, покорных, льстивых. Коль цели хитростью достигнуть не способны, Пред нами предстают и мстительны и злобны. Иной из прихоти иль в детском увлеченье За непосильное берется порученье, Но, лишь с малейшею преградою столкнется, Легко он, как дитя, с мечтою расстается. Когда к нам доступа таким не будет людям, Когда в согласии стремиться к цели будем, Все личные забыв обиды и расчеты, На благо общее положим все заботы, Тогда скажу, учтя минувшего страницы: Нам будут подражать, нам будет чем гордиться![Сентябрь 1818]
ПЕСНЬ
Пусть счастьем глаза загорятся, Чело нам украсит венок, Обнимемся все мы по-братски, Сойдемся в веселый кружок! Пускай к нам не ведают входа Обманы, предательство, лесть; Здесь чтится высоко свобода, Отчизна, наука и честь. Мы руки друг другу протянем, Откроем друг другу сердца И помыслы, чувства, желанья Поведаем все до конца. Здесь сгинут страдания тени Средь песен, утех, развлечений. Кто стал нашим братом и другом, В труде, средь веселых забав, В зеленом венке и за плугом Пусть помнит всегда наш Устав. Пусть он вдохновится присягой, Что здесь согласился принесть, Всю жизнь защищает с отвагой Отчизну, науки и честь! Дойдем мы, хоть трудной дорогой, До счастья, когда подадут Все руки друг другу. Помогут Нам смел ость, согласье и труд![Октябрь 1819]
ОДА К МОЛОДОСТИ
Без душ, без сердца! Толпа скелетов! О дай мне, молодость, крылья! И я над мертвым взлечу мирозданьем, В пределы рая, в обитель светов, Животворящий восторг изведав, Где над цветеньем и созиданьем Златые сонмы картин открылись! Пускай годами отягощенный Склонился старец, уставясь в землю, Потухшим оком едва объемля Мир омраченный. Ты, молодость, прах юдоли отринешь, Взлетишь и, светлым взглядом ширяя, Все человечество ты окинешь От края до края! Глянь вниз! Там ночь воздвиглась немая, Планету своим зловонным потоком Всю обнимая. Глянь вниз! Над этой заводью гнусной Какой-то гад всплывает искусно, Он служит рулем себе и флагштоком И прочих мелких зверушек топит, Всплывает кверху, нырнет обратно И снова сух в волне коловратной. А если жалкий пузырик лопнет, Нам дела нет, что проглочен глубью Гад себялюбья! О молодость! Сладок напиток жизни, Когда его с другими поделим! Так лейся же, опьяняй весельем, Избытком золота в сердце брызни! Друзья младые! Вставайте разом! Счастье всех – наша цель и дело. В единстве мощь, в упоенье разум. Друзья младые! Вставайте смело! Блажен и тот на дороге ранней, Чье рухнет в битве юное тело, Другим оно служит ступенью в брани. Друзья младые! Вставайте смело! На скользких срывах по кручам этим Сила и слабость на каждой грани. На силу силой, друзья, ответим, А слабость сломим в юности ранней! Кто в младенчестве гидру задушит, Подрастет, – взнуздает кентавров, Изведет из Тартара души, Удостоится вечных лавров. Досягни, куда глаз не глянет! Чего разум неймет, исполни! Орлим взлетом молодость прянет, Обнимая перуны молний! Други, в бой! И строем согласным Всю планету вкруг опояшем! Пусть пылает в единстве нашем Мысль и сердце пламенем ясным! Сдвинься, твердь, с орбиты бывалой, С нами ринься на путь окрыленный, Ты припомнишь возраст зеленый, С кожурой расставшись завялой. Когда в мирах былой полунощи Вражда стихий пировала бурно, Одно ДА БУДЕТ господней мощи Обосновало закон природы, Запели вихри, помчались воды, Возникли звезды в тверди лазурной, Так и сейчас еще ночь глухая, Все человечество в алчных войнах. Чтобы любовь благая воскресла, Встанет из хаоса Дух полыхая; Пускай зачнет его юность во чреслах, А дружба взрастит в объятьях стройных. Ломают льды весенние воды. С ночною свет сражается тьмою. Здравствуй, ранняя зорька свободы! Солнце спасенья грядет за тобою![Декабрь 1820]
ПЕСНЬ ФИЛАРЕТОВ
Эй, больше в жизни жара! Живем один лишь раз: Пусть золотая чара Недаром манит нас. Живей пускай по кругу Веселых дней подругу![1] Хватай и наклоняй до дна, Чтоб жизни глубь была видна! К чему здесь речь чужая? Ведь польский пьем мы мед: Нас всех дружней сближает Песнь, что поет народ. У древних нам учиться Не в книжном прахе гнить: Как греки – веселиться, Как римляне – рубить. Вон там юристы сели. И им бокал поставь: Сегодня – право силы, А завтра – сила прав. Сегодня громогласье Свободе невдомек: Где дружба и согласье Молчок, друзья, молчок! Кто гнет металл и плавит, Тот плавит времена: Нам, чтоб его прославить, Пусть Бахус даст вина! Тому из мудрых слава, Кто в химии знал вкус: Тончайшего состава Пил мед любимых уст. Измеривший дороги, Пути небесных тел, Был Архимед убогим: Опоры не имел. А нынче, если двигать Задумал мир Ньютон, У нас пусть спросит выход И этим кончит он. Чертеж небесной сферы Для мертвых дан светил, Для нас же – сила веры Вернее меры сил. Затем, что – где пылает Порывов сердца дух. Зря мерку снять желают! Единство – больше двух! Эй, больше в жизни жара! Живем ведь только раз: Вот золотая чара, Не медли, дорог час. Кровь стынет в бедном теле, Поглотит вечность нас И взор затмится Фели, Вот филаретов сказ.[Декабрь 1820]
ТОСТЫ
Как наша прожила б планета, Как люди жили бы на ней Без теплоты, магнита, света И электрических лучей? Что было бы? Пришла бы снова Хаоса мрачная пора. Лучам – приветственное слово. А солнцу – громкое ура! Но что лучи иль искры света, Когда морозом мир объят И сердце наше не согрето? Привет теплу! Теплу виват! Теплу и свету люди рады, Но ветер их разъединит, Не встретив на пути преграды. Магнит сюда! Ура, магнит! Теперь мы тесный круг составим При ярких солнечных лучах И электричество восславим С бутылкой лейденской в руках![1821?]
ПЛОВЕЦ
О море бытия, каким ты страшным стало! Когда я отплывал, твоя сияла гладь, Теперь же ночь кругом и грозный грохот вала! Нельзя ни дальше плыть, ни к берегу пристать: Что толку руль сжимать рукой усталой? Блажен, на чьей ладье за кормчих – Красота И Добродетель! В час, когда вскипают аолны И меркнет день, к пловцу небесная чета Склоняется: в руках у этой кубок полный, Свой чудный лик приоткрывает та.. И с Добродетелью одной к утесу славы Вы сможете доплыть: стоический бальзам Вас дивно укрепит на подвиг величавый; Но если Красота не улыбнется вам, Вы доплывете, пот пролив кровавый. Однако Красота, лик показавши свой, Нередко средь пути коварно улетает, Надежды лживые все унося с собой; О, как тогда душа, осиротев, страдает, Великою охвачена тоской! С небесной Красотой в мучительной разлуке, Бороться с бурею, в кромешной тьме тонуть, Хвататься в ужасе за каменные руки, Валиться замертво на ледяную грудь Кто долго выдержит такие муки? Пресечь их так легко! Одним движеньем я Навек спастись бы мог от бурь и тьмы дремучей… Иль тем, кто брошены в пучину бытия, Ни сгинуть целиком в волне ее гремучей, Ни вырваться из недр ее нельзя? Мне люди говорят, что все живое тленно:.. Но голос веры им во мне не заглушить, Да, звездам духа чужд закон природы бренной, Им до конца времен светиться и кружить По необъятной глубине вселенной. Кто крикнул с берега? Ужели до сих пор, – О братья и друзья, вы на скале стоите? Ужель в такую даль ваш долетает взор ..И до сих пор вы сквозь туман глядите, Как я держусь, волнам наперекор? Коль в бездну брошусь я, отчаяньем гонимый, Упреков тьма падет на голову мою От вас, которым туч громады еле зримы, Чуть слышен ураган, терзающий ладью, И мнится, что гроза проходит мимо. Вам не понять того, что пережито мной Тут, на моей ладье, – под громом, ливнем, градом! Судья нам – только бог: кто хочет быть судьей, Тот должен быть во мне, а не со мною рядом. Я дальше поплыву, а вы, друзья, домой.17 апреля 1821 г.
К… Фон Д… РИСУЮЩЕМУ ДЛЯ МЕНЯ ПОРТРЕТ МАРИИ
Тебе, картин творец, обязан большим я, Чем вечному творцу живого бытия. Лишен я счастья был злбкозненной судьбою, Оно моим глазам возвращено тобою. Я с детства ничему учиться не хотел, Но если бы твоим искусством я владел! Судейского крючка забота вечно гложет, От мертвецов живых отбиться врач не может, Паллады верный жрец избрал науки путь, Всю жизнь уча тупиц, он надрывает грудь. Желудку мудреца частенько роздых нужен Всё лавры на обед да похвалы на ужин! И лишь вокруг тебя прелестный вьется рой, И ты для милых дам – прославленный герой. В глаза красавицы ты взоры погружаешь, Искусною рукой ее изображаешь. Прекраснейших картин немало в мире есть, По праву среди них твоим хвала и честь. Твой гений наградят наградой несравнимой То юноши восторг, то нежный взгляд любимой. Тобой похищен лик возлюбленной моей, Ты отдал мне его, художник-чародей, Благодарю, она теперь навек со мною, В ее глазах тону я сердцем и мечтою, И волшебство твое меня освободит От пытки тягостной, что разум мой мутит. К воображаемой стремился я богине, Для сердца, глаз и рук она живая ныне.[1821]
ИОАХИМУ ЛЕЛЕВЕЛЮ НА ОТКРЫТИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В ВИЛЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, б ЯНВАРЯ 1822 ГОДА
Belorum causas et vitia, et modos
Ludumque Fortunae gravesque
Principum amicitias et arma…
Periculosae plenum opus aleae
Tractas et incedis per ingnes
Suppositos cineri doloso…
H or at., L. II, I
[Причина войн, их ход, преступления,
Игра судьбы, вождей союзы,
Страшные гражданам, и оружье,
Об этом ныне с гордою отвагою
Ты пишешь, по огню ступая,
Что под золою обманно тлеет.
Гораций. Оды, кн. II, I]
(Перевод Г. Церетели)
Давно взыскуемый питомцами своими, Лелевель славный, вновь предстал ты перед ними, И снова дружеской ты окружен толпой, Глядящей на тебя, как на родник живой. Не тот, кто красными словцами щеголяет, Гордится, что его везде на свете знают, Что груз его трудов сгибает книгонош, Нет, не такой увлечь способен молодежь, А тот, кто славится высоких дум полетом И средь своих слывет горячим патриотом. В том и другом пример, Лелевель, ты для нас: В науке и делах непогрешим твой глаз. Хоть молод ты еще, седым Мафусаилам С тобою мудростью равняться не по силам. Не только у себя в стране ты знаменит. За рубежом ее хвала тебе гремит. О том, что твой приезд нам сделал солнце краше, Ладони и уста свидетельствуют наши. Как долго уходил из здешних зал домой Безрадостно наш слух, воспитанный тобой! Начни ж ученикам, тебе внимать готовым, Вновь чудеса являть своим волшебным словом, Из гроба поднимать искусством колдовским Элладу древнюю и стародавний Рим. Герои вновь живут и дышат, как бывало, С чела их сброшено Плутоново забрало, С груди, таившей дум проникновенных клад И волю страстную, железный панцирь снят. Вот македонский вождь с творцом «Федона» рядом. В их думы и сердца мы проникаем взглядом. Тут искра яркая, там подвига зерно, А искре сноп огня родить порой дано, Зерну же вырасти в такого исполина, Которому равна вселенной половина. Античных гениев сильна над миром власть, Пред их величием должны мы ниц упасть; Лучами славы их, не знающей затменья, Озарены веков позднейших поколенья. Но только ли герой велик? Велик и тот, Кто подвиги его до глубины поймет. Бывает, город вдруг, как камень, в бездну канет, Из вод огонь забьет, и тьма над миром встанет. Таких событий жив свидетель не один, Но мало кто умел дойти до их причин. Еще трудней найти свидетеля такого, Который бы сумел дойти до основного, Дороги, разумом указанной, держась: Какая между всех явлений этих связь? Как привести могла, единая причина В смятенье небеса, и землю, и пучину? Природу мертвую оставим и к живой, Стократ сложнейшей, взор теперь направим свой. Легко ли находить причин и следствий звенья – Там, где людских судеб царит переплетенье? Картина пестротой наш поражает глаз, Разноголосица сбивает с толку нас, А Истина за мглой скрывается густою, Лишь слабые лучи бросая нам порою. Но не доходит к нам и этот слабый свет. С рожденья слепы мы в теченье многих лет. Когда ж едва-едва мы обретаем зренье, Нас чужаки тотчас берут на попеченье: Очки нам подают, изделие их рук, И через них ясней мы видим все вокруг. Беда, однако, в том, что стали все предметы Для нас такого же, как эти стекла, цвета. Ошибки зрения, благодаря очкам, Переносить на мир с тех пор привычно нам. Мы – вечные рабы: не только в настроеньях Зависим от других, но также и в сужденьях. Ребенок чувствует, как чувствует отец, Страдает от цепей обычая юнец. Нередко собственным гордятся мненьем люди; Нет, всосано оно из материнской груди Или наставником посеяно поздней В глубь сокровенную их молодых ушей. И все ж ты выдаешь любым своим движеньем, Что европеец ты, поляк происхожденьем. А солнце Истины горит для всех равно, Различия племен не ведает оно, Всех одинаково своим ласкает светом, Жар посылает всем, живущим в мире этом. Кто хочет Истине святой в лицо взглянуть, Тот должен знать: один к ее Познанью путь Ум от влияния освободить чужого И Человеком быть в высоком смысле слова. К такой работе бог историков зовет, Но многим ли она по силам? Нет, лишь тот, Кому в удел дало благое провиденье Сверх пары крепких рук и крылья вдохновенья. Способен воспарить над торжищем страстей, Над интересами, делящими людей, Угадывать, где взрыв готовится на свете, Иль погружаться в мрак умчавшихся столетий. В их темной глубине копая, он на свет Выносит не один бесценный самоцвет. Лелевель, мы тобой гордимся, сознавая, Что родила таким тебя земля родная. Внимает истину из уст твоих народ О том, что было, есть, что нас в грядущем ждет. Людское общество впервые наблюдаем На землях, занятых Двуречья древним краем. Среди равнин, чья гладь не ведает препон, В один большой народ сложился ряд племен. Тираны в городах, стенами обнесенных, Уселись на спине селян порабощенных. Средь островов и бухт, прославленных навек, Поздней республику построил бойкий грек; Затем, что муравьем был схож своей природой. Грек мирмидонскою считал себя породой. Он, в городах чужих селясь, их украшал, Чужие божества в свои преображал; Кумирни Красоте воздвиг и милой Воле Двум дочерям небес, непознанным дотоле. Их духом вдохновлен, душой открыт и смел, Он мыслил, воевал, любил, учил и пел. Но вот мидиец меч свой поднял над землею, Восточный идол в страх ввергает все живое. Толпа невольников, гонимая бичом, Из-за Кавказских гор несется напролом, Все на своем пути топча, круша и руша; Ксеркс море захватил, ордою залил сушу, Но с тучки греческой сорвался гром, и вот Рассеялась орда, на дне мидийский флот. Уйдя от гибели, не покорясь невзгодам, Грек к азиату в дом отправился походом. И там он на коврах персидских опочил, И меч заржавленный из рук он уронил, И был в железо взят в своем бессилье сонном Пастушьим племенем, волчицею вскормленным. Привыкли Ромула драчливые сыны, Отвагой воинской и хитростью сильны, Соседей истреблять, в годину же покоя Они крепили дух для нового разбоя Иль меж собой дрались, пока их в общий бой Не призывал расчет на выгодный разбой. Но вот у забияк противников не стало, И в праздных мышцах нет упругости бывалой. Над миром Рим царит, над Римом же тиран, Уже не воин Рим, а дряхлый великан. Кто жизнь опять зажжет в его остывшем теле? Вы, чада пылкие страны седых метелей! Вот гордый сюзерен, верхом на скакуне, С копьем и четками в руках и весь, в броне, Небес и госпожи своей слуга, вассалов Под кров готический созвал. Там звон бокалов, В руках у дам венки, хор лютней с пеньем схож, И копья яростно ломает молодежь. Нежнее, чем у нас, у них сердца под сталью: Впервые с горных круч они Любовь призвали Сердечную, какой не ведали в свой век Жрец духа иудей и в плоть влюбленный грек. Когда грозила смерть законности основам, Они их рыцарским своим крепили словом; Чтоб кривды исправлять, в заморские края Пускались, в памяти прелестный взор тая; Из дальних стран они везли домой трофеи Иль клали головы за веру в Иудее. В их замках между тем засели чернецы, Забрали в руки власть церковные отцы; Под выстрелами булл заколебались троны, Рим снова стал земле давать свои законы. Позднее короли при помощи штыков Смирили подданных и свергли чужаков. В краях, где издавна в почете просвещенье, Есть хартии свобод и прав у населенья. Такую хартию мы в Англии найдем, Такую даровал нам Ягеллонов дом. В других-же странах власть – примеров тут немало Дворян-мятежников с крестьянами сравняла. Испанцу повезло: пустившись в океан, Достиг он берега богатых новых стран, Его сокровища растут, и с каждым годом Он все наглей грозит оружием народам. Его соперники дают ему отпор Открыто иль войдя друг с другом в заговор, Но друг на друга все ж поглядывая косо, Всяк палку вставить рад союзнику в колеса. Всегда настороже с приятелями будь, При них не вырони из рук чего-нибудь. Коль мирно ты живешь и никому на свете Не хочешь повредить, милейшие соседи Рассорят в доме всех и дом твой подожгут. К утру спасителей ватага тут как тут. Торговцы странами, народных слез менялы, Спасители крадут, что под руку попало; Заступник на врага разительно похож, Тебя обворовать обоим невтерпеж. Так шла в Европе жизнь, покуда над Секваной Не разразился гром вскипевшего вулкана. Созрела лава в нем: старинный произвол, Меж властью светскою и церковью раскол, Мечты мыслителей, горячих душ порывы, Рабов восставших злость на род дворян спесивый. Как древле из семян нечищеных на свет Пифоны родились, уродливы, как бред, Так из посева чувств и дум разноречивых Змий революции взошел на галльских нивах, Его ни побороть нельзя, ни в прах втоптать, Рождает мстителей земли любая пядь. Они встают толпой; они горят желаньем Жизнь по Платоновым построить начертаньям. Другие же казну сносили в новый дом, Чтоб с помощью ее разбогатеть потом; Врагов сломив, они пошли, мечом бряцая, И кровью истекли, чужую проливая. Там императором вчерашний консул стал, И польскую там кровь Домбровский проливал. Хотя уже давно в могиле исполины, Еще их кровь могла б плодотворить равнины. Однако что же я? Как смею воспевать Моря, в которых мне не довелось бывать? Как смею, жалкий червь, к орлам себя причисля, Полету подражать твоей ученой мысли? Приди на помощь мне, ведь ты слывешь у нас Первейшим среди всех историков сейчас, Ты ложь разоблачил бесчисленных писаний И правду извлекал из самой лжи преданий, Кому ж, как не тебе, науки глубь видна, Кому прекраснее дарит плоды она? Нам, рукоплещущим тебе сегодня рьяно, Скажи, как на Парнас вознесся ты так рано? И взором ласковым нас примани туда, Откуда светишь ты, как кормчая звезда, Хотя и более достойными руками Увенчан ты, – прими венок, сплетенный нами, И погордиться тем нам разреши, любя, Что для него цветы мы взяли у тебя.[Январь 1822 г.]
БАЛЛАДЫ И РОМАНСЫ
ПЕРВОЦВЕТ
С небесной песней самой ранней Примчался жаворонок звонкий; Цветочек ранний на поляне Блеснул под золотистой пленкой. Я Цветочек милый, рановато! Еще морозом полночь веет, Еще в дубравах сыровато И плесень на горах белеет. Прижмурь златые огонечки, Под матушкин подол укройся, Зубочков инея побойся, Страшна роса холодной ночки! Цветочек Как мотыльки, родясь с рассветом, Мы к полдню гибнем. Больше счастья В одном апрельском миге этом, Чем в целых декабрях ненастья. Коль дар богам воздать ты хочешь, Друзьям своим, своей любимой Вплети меня ты в свой веночек, И будет дар незаменимый! Я Средь чахлых травок перелеска Ты вырос, о цветочек милый; В тебе ни мощи и ни блеска, Так чем ты мил, цветочек хилый? Чем? У тюльпана есть корона, Весь облик лилии – державен, У розы – расписное лоно, У зорь – огонь… А ты чем славен? И почему ты полон все же Надеждою несокрушимой, Что будешь ты всего дороже Моим друзьям, моей любимой? Цветочек Твои друзья мне будут рады Весны посланцу, ангелочку; Ведь дружбе блеска и не надо, Ей тень любезна, как цветочку! Достоин ли я доли этой? Ах, очи неземной Марыли За молодости первоцветы Лишь первой слезкой отдарили![Вторая половина 1820]
РОМАНТИКА
Methinks, I see… Where?..
In my mind's eyes.
Shakespeare
[Как будто вижу… Где?..
В очах моей души.
Шекспир (англ.)
Девушка, что ты? – И не ответит. Нет ни души здесь. Ну что ты? Тихо местечко. Солнышко светит, С кем говоришь ты в эти минуты? Руки простерла к кому ты? – И не ответит. То в пустоту ненароком Смотрит невидящим оком, То озирается с криком, То вдруг слезами зальется. Что-то хватает в неистовстве диком, Плачет и тут же смеется. «Здесь ты, Ясенько? Вижу, что любишь, Если пришел из могилы! Тише! меня ты погубишь, Мачеха дома, мой милый! Слышит? – и ладно, пусть я в ответе! Ты ведь не здесь – на том свете! Умер? Как страшно в сумраке ночи! Нет, мне не страшно, ты рядом, как прежде, Вижу лицо твое, губы и очи! В белой стоишь ты одежде! Сам ты холстины белее, Боже, как холодны эти ладони! Дай их сюда – отогрею на лоне. Ну поцелуй же, смелее! Умер! Прошли две зимы и два лета! Как холодна ты, могила! Милый, возьми меня с этого света, Все мне постыло. Люди все злобою дышат, Горько заплачу – обидят, Заговорю я – не слышат, То, что я вижу, – не видят! Днем не придешь ты… Не сон ли?.. Как странно! Я тебя чувствую, трогаю даже. Ты исчезаешь. Куда ты? Куда же? Рано, совсем еще рано! Боже! Запел на окраине кочет, В окнах багряные зори. Стой же! Уходит. Остаться не хочет. Горе мне, горе!» Так призывает девушка друга, Тянется следом и плачет. Голос печали слышит округа, Люди толпятся, судачат. «Богу молитесь! – твердят старожилы. Просит душа о помине, Ясь неразлучен с Карусей поныне, Верен был ей до могилы». Я в это верю, не сомневаюсь, Плачу, молиться пытаюсь. «Девушка, что ты? – крикнет сквозь ропот Старец и молвит солидно: Люди, поверьте, поверьте в мой опыт, Мне ничего здесь не видно. Духи – фантазия глупой девицы, Что вы за темные души! Спятила – вот и плетет небылицы, Вы же развесили уши!» «Девушка чует, – отвечу я сразу, Люди без веры – что звери. Больше, чем разуму, больше, чем глазу, Верю я чувству и вере. Будет мертва твоя правда, покуда Мертвый твой мир настоящим не станет. Жизни не видишь – не видишь и чуда. Было бы сердце – оно не обманет!»[Январь 1821 г.]
СВИТЕЗЬ
Баллада
Когда ты держишь в Новогрудок путь, Плужинским проезжая бором, Над озером дай коням отдохнуть, Окинь его любовным взором. Ты видишь Свитезь. Гладь воды ясна, Как лед, недвижна и блестяща, И вкруг нее, как черная стена, Стоит таинственная чаща. Когда в ночи проходишь той тропой, Ты видишь небо в темных водах, И звезды – под тобой и над тобой, И две луны на синих сводах. И не поймешь: вода ли в вышину Уходит зеркалом бездонным Иль опустилось небо в глубину И там блестит зеркальным лоном. Не знаешь, то вершина или дно Во мраке берега пропали, И кажется, с мирами заодно Плывешь в неведомые дали. Прозрачен воздух, ясен небосклон, И тот обман отраден взору. Но если ты не храбрецам рожден, Не езди тут в ночную пору. Такого начудесит сатана, Таких накрутит штук бесовских! И вспомнить – страх! Всю ночь лежишь-без сна, Послушав былей стариковских! То, словно люди в страхе гомонят, Из бездны шум идет великий, Валит столбами дым., гремит набат, Оружья звон и женщин крики. Вдруг дым пропал, стихает гром и звон, И только смутно шепчут ели, И, словно над покойником псалом, В пучине жалостно запели. Что это значит? Кто ж ответ вам даст? На дне ведь люди не бывали. Болтают всякое – кто что горазд, А правда есть ли в том? Едва ли. Плужинский пан, тот самый пан, чей дед И прадед Свитезью владели, И сам все думал и держал совет: Как разобраться в этом деле? С заказом в город он послал людей, Большие сделал там закупки, И мастерят уж невод в сто локтей И строят парусные шлюпки. Тут я сказал: «Бог да поможет вам, Ему усердно помолитесь». Пан дал на мессу, в Цирин съездил сам, И ксендз приехал с ним на Свитезь. На берег вышел, свой надел орнат, Все окропил и помолился. Нам подал знак, гребцы взмахнули в лад И с шумом невод погрузился. Уходит вглубь, и поплавки за ним, Как будто под водой и дна нет. Канаты напряглись, мы все глядим; Неужто ничего не тянет? Но невод тяжко из воды идет, Так тяжко, словно тащит глыбу. Сказал бы, – да поверит ли народ, Какую выловили рыбу. Не рыбу, нет, – болтать не стану зря, Из волн красавица явилась. Уста – кораллы, щеки как заря. Вода с кудрей льняных струилась. На всех тут страх напал. Иной бежит, Иной стоит белее мела. Она под воду скрыться не спешит И молвит ласково и смело: «О юноши! То знает весь народ: Никто в задоре безрассудном Веслом не смел коснуться этих вод Он потонул бы вместе с судном. Ты, дерзкий, также и твои челны Истлели б скоро под волнами, Но здесь твой дед и прадед рождены, И ты единой крови с нами. Так знай, хоть любопытство – ваш порок, Но вы призвали божье имя, И быль об этом озере вам бог Устами огласит моими. Когда-то здесь, где тростники шуршат, Где царь-травой покрыты мели, Кипела жизнь, стоял обширный град, Строенья крепкие белели. Красавиц много было в граде том, Мужей, искусных в деле бранном. И Свитезью владел тот княжий дом, Что славен доблестным Туганом. Кругом леса в ту пору не росли, Желтела на полях пшеница, И Новогрудок виден был вдали Литвы цветущая столица. Но русский царь войной пошел на нас, И осадил он град Мендога, И обуяла в этот грозный час Литву великая тревога. С гонцом письмо литовский государь Шлет моему отцу Тугану: «Ты выручал наш стольный град и встарь, Спеши, ударь по вражью стану!» Туган прочел – и приказал скликать Мужей для воинской потехи. И собралось охочих тысяч пять, При каждом – конь и все доспехи. Труба гремит – и пыль столбом взвилась: То скачет рать за княжьим стягом. Но вижу, вдруг остановился князь И в замок воротился шагом. Он говорит: «Могу ль губить своих, Чтоб князю дать помогу в брани? У Свитези ведь нет валков иных, Как только крепость нашей длани. Но если в битву мы не все пойдем Друзьям не будет обороны. А все пойдем – как защитить свой дом, Где наши дочери и жены?» И я в ответ: «Отец! Послушай дочь: Ступай! Над нами власть господня. Мне снилось, ангел огненный всю ночь Летал над городом сегодня. Мечом он Свитезь очертил твою, Златыми осенил крылами И мне сказал: «Пока отцы в бою, Не бойтесь, чада, – я над вами». И внял Туган, – за войском он спешит. Но вот уже И ночь настала. И вдруг раздался грохот, стук копыт, И крик «ура», и звон металла. Таранами по стенам замка бьют, Стреляют ядрами по сводам. И дети, старцы, женщины бегут Весь двор заполнился народом. Кричат: «Скорей ворота на запор! Спасите! Русь валит за нами! Пусть лучше смерть, но только не позор! Убьем, убьем друг друга сами!» И яростью сменяется их страх, Приносят факелы, солому, Сокровища сжигают на кострах, Огнем грозят гнезду родному. «Кто убежит – будь проклят!» Я – во двор. Унять хочу их – не умею. Благодарят поднявшего топор, Торопятся подставить шею. Но что преступней: жизнь и честь губя, Отдаться под ярем кровавый Иль душу погубить, убив себя? И я вскричала: «Боже правый! Ты видишь, нам не совладать с врагом, К тебе взываем, погибая: Пусть лучше нас убьет небесный гром, Укроет мать-земля сырая!» И белизна внезапно разлилась, Закрыла мир, как покрывало. Я опустила очи, изумясь… И подо мной земли не стало. Взгляни на луг прибрежный: это бог Избавил слабых от расправы: Он дев и жен безгрешных уберег, Их обратил в цветы и травы. Подобно белым бабочкам, цветы Парят над спящею водою. Напоминают свежестью листвы Зеленую под снегом хвою. Так белый цвет безгрешности своей Они хранят в веках нетленным. Не оскорбит их пришлый лиходей Прикосновением презренным. То был царю и всем врагам урок: Победу празднуя над нами, Иной из них хотел сплести венок, Иной – украсить шлем цветами. Но лишь к цветам притронулись они, Свершилось чудо правой мести: В недуге страшном скорчились одни, Других застигла смерть на месте. Хоть все уносит времени поток, Но быль народ не забывает: Поет о чуде, и простой цветок Он царь-травою называет». Так молвит нам – и прочь плывет она. И тонут сети, шлюпки тонут. Летит на берег с грохотом волна, Деревья в пуще дико стонут. Как бездна, хлябь разверзлась перед ней, Она исчезла в темном чреве, И с той поры никто до наших дней Не слышал о прекрасной деве.[1820]
СВИТЕЗЯНКА
Баллада
Кто там мелькает в лунном сиянье, Кто там идет, – отзовитесь! Юноша с девой ходят в молчанье Берегом озера Свитезь. Он ей цветы в венок собирает На луговинах зеленых. Дева малиной его угощает, Знать, это пара влюбленных. Каждою ночью в травах болотных Бродит чета молодая. Юноша – это здешний охотник; Кто эта дева – не знаю. Как появилась, где и отколе Вряд ли иной угадает. Лютиком нежным явится в поле И светлячком – пропадает. «Тайну открой мне, дева, молю я, Видимся мы не впервые, Как ты попала в чащу лесную? Где же твой дом, где родные? Лето проходит, листья валятся, Солнце нам светит все реже… Вечно ли будем здесь мы встречаться, Возле озерных прибрежий? Что ты блуждаешь призраком сонным, Серною легкой, лесною? Лучше останься вместе с влюбленным, Лучше останься со мною! Малый мой домик близко отсюда, В зарослях пышной лещины; Вдоволь припасов я раздобуду, Хватит плодов и дичины!» «Стой, своевольный! – молвила дева. Помню советы отцовы: Как соловьи, щебечете все вы, К лисьим уловкам готовы. Мало я верю страстным моленьям, Хитрость предвижу мужскую: Пусть снизойду к твоим увереньям, Сдержишь ли клятву святую?» Пав на колени, горсточку праха Взял он, творит заклинанья: Страшную клятву давши без страха, Сдержит ли он обещанья? «Помни, охотник, клятву сдержи ты: Ибо кто клятву нарушит Горе тому! Не сыщет защиты, Тело погубит и душу!» Кудри венком украсила дева И, не прибавив ни слова, Прочь удалилась, тихо, без гнева, В сумрак приюта лесного. Следом охотник мчится за нею; Все-таки, как ни старался, Скрылась, дыханья ветра нежнее, Он одинокий остался. Молча идет он дикой тропою, В топях блуждает прибрежных; Тихо повсюду, лишь под ногою Изредка хрустнет валежник. К. озеру вышел неторопливо, Ходит и смотрит безмолвно. Ветер качает темные ивы, Бурно вздымаются волны. Бурно вскипели, глубь зачернела, Силы небесные с нами! Свитезь разверзся; девичье тело Вдруг поднялось над волнами. Щеки – нежнее розы румяной В свете зари золотистой; Перси, как легкой дымкой тумана, Тканью одеты струистой. «Юноша статный! Юноша милый! Девы слышны увещанья. Что ты здесь ищешь ночью, унылый, В лунном блуждаешь сиянье? Долго ли будешь бегать, вздыхая, Ты за девчонкою шалой? Только измучит юношу, злая И надсмеется, пожалуй; Верь мне, желаю только добра я. Хватит стенаний печальных! Мне лишь отдайся! Станем, играя, В водах резвиться хрустальных; Будешь над влагой озера зыбкой Ласточкой быстрою мчаться Или же рыбкой, резвою рыбкой Вместе со мною плескаться; Ночью ж, в прозрачной этой купели, Где только звезд отраженья, Будешь меж лилий, в мягкой постели, Дивные видеть виденья!» Тут распахнулись тонкие ткани, Перси манят белизною; Дева подходит легче дыханья: «Юноша! – кличет, – за мною!» Волн чуть касаясь стройной стопою, Радугой в озеро канув, Брызги рассыпав дерзкой рукою, Мчится она средь туманов. Юноша следом, стал у обрыва, Хочет идти – отступает; А голубые волны лениво Юноши ноги ласкают. Нежно ласкают, вглубь увлекают; Сердце так сладко томится, Словно стыдливо руку сжи-мает Милому другу девица. Вмиг позабыл он деву лесную, Клятву забыл, ослепленный; Кинулся в волны, буйно ликуя, Новой красой увлеченный. Дальше и дальше, страстью влекомый; Волны безумца уносят. Вот уж чуть виден берег знакомый. Вот уж охотник на плесе. Белые руки стиснул руками, Взорами тонет во взоре, Жаждет к устам прижаться устами Вольно ему на просторе! Ветер повеял, мгла расступилась, Новое диво являя. Смотрит охотник – что приключилось? Ах, это дева лесная! «Где ж твои клятвы? Где уверенья? Помнишь: кто клятву нарушит, Горе тому! Не сыщет спасенья, Тело погубит и душу! Нет, не тебе, знать, доля сулила Водной владеть глубиною. Тело сырая скроет могила, Очи засыплет землею. А твою душу адское пламя Будет терзать без пощады: Будешь томиться здесь, под ветвями, Не ощущая прохлады» Слышит охотник, смотрит тоскливо, Вдруг содрогнулся безмолвно; Ветер качает дальние ивы, Бурно вздымаются волны. Разом вскипели волны, бушуя, Полные ярого гнева: В черную бездну, в глубь водяную Скрылись охотник и дева… Волны доныне мечутся в пене, А среди топей болотных Видно: мелькают бледные тени Дева и юный охотник. В озере дева пляшет беспечно, Юноша смотрит, стеная Кто он? – Известен нам он, конечно. Кто эта дева? – Не знаю.[12 августа 1821 г.]
Существует поверье, что на берегах Свитези появляются ундроны, или нимфы, которых в народе называют свитезянками.
(Из народной песни)
Село покинув родное, Бежит девица с пригорка; Распались косы волною, Рыдает горько-прегорько. Сбежала на луговину, Где речка льется неспешно, И, руки белые вскинув, Зовет она безутешно: «Красавицы водяные, Любезные свитезянки! Узнайте, сестры родные, О горе бедной селянки! Я верно любила пана, И пан твердил мне, что любит, Теперь икая желанна, Он Кшисю бедную губит. Живи же, пеблагодарный, С своею знатной женою, Но только не смей, коварный, Глумиться здесь надо мною! Ох, как несносно томиться Обманутой, нелюбимой! Меня примите, сестрицы; Но сын мой… сын мой родимый!..» Так молвив, вновь зарыдала, Ломает руки в кручине, И в омут с берега пала, И скрылась в водной пучине. А там, за. лесом, огнями Сверкает ярко усадьба; Там пан пирует с гостями, Идет веселая свадьба. Вдруг, музыку заглушая, Дитя заплакало тонко; Старик, к груди прижимая, Несет из чащи ребенка. К реке идет торопливо, Туда, где тесной гурьбою Стоят зеленые ивы, Сплетясь шатром над рекою. И став под сенью ветвистой, И плачет, и призывает: «Ах, Кшися, мне отзовись ты! Кто дитятко приласкает?» «В реке лежит мое тело, Чуть слышен отклик средь ночи, От стужи вся онемела, Песком засыпало очи; Меня по острым каменьям Несут жестокие волны; Питаюсь горьким кореньем, Росой уста мои полны». Но старый в сени ветвистой По-прежнему призывает: «Ах, Кшися, мне отзовись ты! Кто дитятко приласкает?» И что-то вдруг шевельнулось В воде – легонько, не шибко; Волна о берег плеснулась, И кверху выплыла рыбка. Собой совсем невеличка, Скользит по отмели белой, Так выскользает плотичка Из-под руки неумелой. Спина в сверкающих блестках. Бока – багряной окраски, Головка точно наперсток, Как бисер – быстрые глазки. И вдруг чешуйки раскрылись, Девичий облик являя, И косы вновь распустились, И грудь видна молодая. На щечках – алые розы… Камыш раздвинув руками, Туда, где клонятся лозы, Плывет, взмахнув плавниками. И, на руки взяв ребенка, К груди прижала родимой И вдруг запела так звонко: «Люли-люли, мой любимый!.. Затих ребенок, довольный; На сук повесила зыбку И вновь кидается в волны И превращается в рыбку. Оделась вновь чешуею, Совсем как было вначале; Плеснула – и над водою, Кипя, круги побежали… И к ночи и спозаранку, Лишь старый сойдет в долину, Являлася свитезянка, Кормила милого сына. Но раз, в урочную пору, Никто к реке не явился. Уже и сумерки скоро Нет старого! Где ж он скрылся? Не мог он тропкой лесною К тому пройти закоулку: Сам пан с своею женою Пошел туда на прогулку. Сидит старик под ветвями И ждет; ему непонятно: Часы бегут за часами, Не видно пана обратно! Ладонью глаз прикрывая И щурясь, смотрит он зорко: Жара свалила дневная, Горит вечерняя зорька. И лишь когда потемнело И звезды вышли ночные, Старик подкрался несмело, Глядит в просторы речные. О господи! Что за чудо? Все дивно переменилось: Песчаные рвы повсюду, Где прежде речка струилась. Лишь клочья одежды рваной Валяются где попало. Ни пани нету, ни пана Как будто и не бывало! А там, где речка бежала, Большая глыба чернела И странно напоминала Два человеческих тела. Застыл старик в изумленье, Не может вымолвить слова; Искал в уме объясненья И не нашел никакого! Позвал он: «Кшися, эй, Кшися!» Лишь эхо вторит ответно; Но ни в долине, ни в выси Живой души не приметно. Взглянул на ров, на каменья, Пот вытер бледной рукою И, словно бы в подтвержденье, Кивнул седой головою. Взял на руки он малютку, Творя молитву невнятно, И вдруг, осклабившись жутко, Заторопился обратно.[1820]
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦА
Баллада
«Детки мои, собирайтесь проворней, К кресту на холмик идите, Там пред иконой святой, чудотворной С мольбой горячей падите! Должен отец ваш вернуться к нам скоро, Я жду в слезах и тревоге; Реки в разливе, зверье среди бора, Разбой – на каждой дороге». Мать так сказала, и дети проворно К кресту на холмик взбегают, Там пред иконой святой, чудотворной Молиться вслух начинают. Землю целуют, молитву читая Все вместе, громко, усердно: Да славится троица пресвятая, Да будет к нам милосердна! «Отче наш», «Верую», всё по порядку, Как нужно, они прочитали, Далее книжку, молитвенник краткий, Из сумки дети достали. Старший из них начал петь литанию, Все с плачем молились, вторя: «Нашего папу, о дева Мария, Спаси от лютого горя!» Тут вдруг послышался грохот обоза. Навстречу телеге знакомой Кинулись дети, забыли про слезы: «То папа наш едет к дому!» Спрыгнул с повозки купец, их заметя, Целует поочередно: «Как без меня поживали вы, дети? Меня вы ждали сегодня? Что у вас дома? Как мама? Здорова? А я привез вам изюма…» Каждый торопится вымолвить слово, Так много смеха и шума! Слугам купец закричал: «Погоняй-ка! Домой скорей бы добраться!» Едут… вдруг вышла разбойничья шайка, Злодеев – счетом двенадцать. Густо они заросли волосами, Весь облик страшен звериный: Острые сабли за поясами, В руках – ножи и дубины. Дети кричат, подбежали в испуге К отцу, укрылись полою; Струсили слуги; дрожащие руки Купец подъемлет с мольбою: «Ах, все берите! Детей-малолеток Лишь не губите напрасно! Не оставляйте сиротками деток, Жену – вдовою несчастной!» Шайка не внемлет, – один выпрягает Коней, а рядом злодеи «Денег!» – вопят, кистенем угрожают. Застыли слуги, немея. «Стойте!» – вдруг крикнул вожак, и вся шайка Сошла поспешно с дороги. Молвил купцу атаман: «Поезжай-ка С детьми домой без тревоги!» Благодарить стал купец, а разбойник Сказал: «Кистень молодецкий Бьет без пощады, ты был бы покойник, Спасен ты молитвой детской. Я ни при чем тут, всё сделали дети, Тебе оказана милость! Лишь ради них еще жив ты на свете. Скажу, как это случилось. Слышали мы о твоем здесь проезде, И, вдаль на дорогу глядя, Нынче с друзьями надежными вместе В лесу залег я в засаде. Тут и услышал я, как прозвучала Молитва детская богу. Вздорной она мне казалась сначала, Потом внушила тревогу. Вспомнил я дом свой, о прошлом тоскуя, И сердце горестно сжалось… Вспомнил сыночка, жену молодую И вдруг почувствовал жалость. В город – твой путь, мой же – в лес, где поглуше; Вы, дети, крест навещайте И за мою многогрешную душу Порой молитву читайте!»[Февраль 1821 г.]
МОГИЛА МАРЫЛИ
Романс на тему литовской песни
Чужой человек, девушка, Ясь, мать, подружка. Чужой человек Там, где Неман разветвленный Омывает луг зеленый, Что за славный бугорочек? У подножья, как веночек, Розы, бузина, малина, А бока одеты в травы, И белым-бела вершина От черемухи в расцвете. С бугорка ведет дорога Прямо к хате, до порога, И бежит другая вправо, И уводит влево третья. По реке баркас мой мчится. Ты скажи-ка мне, девица, Что это за бугорочек? Девушка А спроси в деревне, братец, Все там скажут, что Марыля Обитала в этой хате, Опочила в той могиле. Вот они, дорожки-стежки: Тут проходит мать-старушка, Пастушок – по той дорожке, А по этой вот – подружка. Как сейчас блеснет денечек Все взойдут на бугорочек. Выдь на берег, встань за хворост С головой тебя он спрячет, Сам увидишь, как им лихо, Что за слезы, что за горесть. Вот идет ее милочек, Мать идет, скорбя о дочке, И подружка – тихо-тихо, И несут цветочки, Плачут! Я сь Марыля! Блещет зорька, А мы не повстречались Й не поцеловались. Марыля! Плачу горько Я, бедный твой дружочек. Неужто весь денечек Проспать ты хочешь? Или Ты сердишься, Марыля? Ах, где ж ты запропала? Нет-, ты не заспалася, Не сердишься на Яся В живых тебя не стало, Ушла под бугорочек. Вернуться не удастся! Тоскует твой дружочек! Коль засыпал я прежде – одни мечты манили: Проснусь я утром рано, да и пойду к Марыле. И сны мне сладки были. Ах, здесь, от всех далекий, засну я, одинокий. Авось тебя увижу, когда сомкну я веки, Быть может, и навеки. Счастлив я был, трудился, Соседи уважали, Старик отец гордился. Теперь отец – в печали. Ни людям я, ни богу, Зачем мне урожаи? Да пусть в полях – ни стогу, Да пусть бы волчьи стаи Весь скот передавили! Нет, нет моей Марыли! Сулил отец мне хату, Да с утварью богатой: Пора хозяйку взять бы! Уж приходили сваты… Но нет моей Марыли! Нет, не уговорили! Жениться силы нету. Отец мой, вместо свадьбы Пойду по белу свету. Сбегу я, прочь уеду Да так скрываться стану, Что не найдете следу. Я к москалям пристану, Чтоб сразу бы убили. Нет, нет моей Марыли! Мать Ах, снова проспала я! Уж в поле добры люди. Нет, нет тебя, родная, И кто ж меня разбудит? Всю ночь я прорыдала, Заснула – рассветало. Мой Шимон, видно, в поле Ушел еще до света; Не разбудил, моей не тронул боли, Не ел с утра, голодный косит где-то. Коси, покуда в силе. Я лягу на могиле. Зачем домой стремиться? Ей там не домовничать К обеду не покличет! Ах, с кем за стол садиться? Пока у нас была ты, Был рай под кровлей хаты У нас и вечеринки, И пареньки и девки; Веселые зажинки И шумные досевки. Теперь наш дом – пустыня, Его обходят ныне. Петли ржавеют, зелен Мох лезет из расщелин. Господь и люди нас забыли. Нет, нет моей Марыли! Подружка Бывало, мы встречались Вот здесь, на бережочке, И о моем шептались И о твоем дружочке. Шептались-говорили! Нет, нет моей Марыли! Чью выслушаю повесть? С кем толковать на совесть? Коль радостью и горем С тобой нам не делиться Мы горя не разгоним И радости не сбыться! Чужой человек Это слыша, прослезился Человек чужой проезжий, И вздохнул, и в путь пустился Он от этих побережий.[Ноябрь 1820 г.]
ДРУЗЬЯМ
При посылке им баллады «Люблю я!» Бьет раз, два, три… удар за ударом. Уж полночь. Все глухо во мраке, Лишь ветер шумит по развалинам старым Да воют уныло собаки. Почти до конца догоревший огарок Мерцает в подсвечнике медном, На миг огонек раздувается, ярок, И меркнет миганием бледным. Мне страшно! И ночь не приносит покоя И ласки, как было когда-то: В мечтах вспоминается время другое! Прочь!., сгинуло все без возврата. Забвенья ищу я, уткнувшись в страницы, Иль, книгу отбросив, мечтаю И вижу любимые, милые лица; Очнусь вдруг и снова читаю. А то вдруг почудится мне на мгновенье Любимая входит иль братья; Вскочу и стою перед собственной тенью, Ко мне протянувшей объятья. Нет, лучше, пока еще светится пламя, Стихами, запевшими звонче, Беседовать буду с моими друзьями, Начну, но, наверно, не кончу. Быть может, согрею весенним порывом Стих зимний, полночный, унылый; Хочу написать что-нибудь о любви вам, Об ужасах и о Марыле. Кто кистью прославить решил свое имя Пусть пишет с Марыли портреты, Пусть имя Марыли стихами своими Навек обессмертят поэты. Хотя сознаю я все это прекрасно, Но я ведь пишу не для славы; Отом расскажу вам, что в вечер ненастный Марыле читал для забавы. Марыля любовь отмеряла так скупо, Была равнодушна ко вздохам; Ни разу не скажут «люблю» ее губы На сто раз ей сказанных «кбхам». За это вот в Руте, как полночь звонили И тени бродили по саду, Не раз перед сном на прощанье Марыле Читал я вот эту балладу.27 января [1819 г], Ковно
ЛЮБЛЮ Я!
Баллада
Ты видишь, Марыля, у края опушки Направо, там заросль густая, Налево долина, где вьется речушка, Горбатится мост, нависая. Вон старая церковь и сруб колокольни, Там ухает филин уныло, Малинник густой там разросся привольно, В малиннике ж этом – могилы. Душа ль там заклятая, бес ли в безлюдье, Но в полночь по этой дороге, Наскблько запомнили старые люди, Никто не пройдет без тревоги! И чуть только полночь покров свой набросит, Вдруг храм открывается с треском И ветер трезвон похоронный разносит, Кусты озаряются блеском. Вдруг вспыхнет, как молния, бледное пламя, И громы подземные грянут, Могилы в кустах зашевелят горбами, И призраки страшные встанут. То труп по дороге ползет безголовый, А то голова, но без тела, Ощеривши рот искривленный, лиловый, Таращит глаза остеклело. То волк-нетопырь свои крылья раскинет, А кто отогнать его хочет, Скажи только: «Сгинь, пропади!» – и он сгинет, Но дьявольски вдруг захохочет. И каждый, кто ездит, со злобой покинет Проклятую эту дорогу: Тот дышло сломает, тот воз опрокинет, Иль конь его вывихнет ногу. Не раз я с Анджеем беседовал старым Про это заклятое место: Смеясь над чертями, не верил я чарам, Там ездил всегда без объезда. Однажды, когда ехал ночью я в Руту, На самом мосту, там, у кручи, В упряжке вдруг вздыбились лошади круто. «Гей!» – крикнул, стегая их, кучер. И кони, рванувшись из всей своей мочи, Сломали оглоблю тугую. «Остаться здесь в поле, к тому же средь ночи, Сказал я, – вот это люблю я!» И только промолвил, как призрак девицы Вдруг выплыл из вод серебристых: Вся в белой одежде, как снег, белолица, В венке из мерцаний лучистых. И замерло сердце, застынуть готово, От ужаса вздыбился волос. Кричу: «Да прославится имя Христово!» «Во веки веков!» – слышу голос. «Кто б ни был ты, путник, будь счастьем отмечен, Меня ты избавил от муки. В довольстве, в покое живи, долговечен, Пусть чтут тебя дети и внуки! Ты видишь здесь образ души моей грешной, Теперь уж ее не сгублю я: Меня от чистилища – ночи кромешной Избавил ты словом: люблю я! Пока еще звезд не померкло сиянье, Еще петухи не пропели, Тебе расскажу, – и другим в назиданье О грешном поведай ты деле! Когда-то беспечно жила я на свете, Марылей звалась я когда-то; Отец мой был первый чиновник в повете, Всесильный, вельможный, богатый. При жизни он справить хотел мою свадьбу: К богатой, красивой невесте Поклонников много съезжалось в усадьбу, И я привыкала к их лести. Вниманием их я надменно кичилась. Толпа их под музыку бала За мною, как шлейф по пятам, волочилась, Но всеми я пренебрегала. Приехал и Юзек; двадцатое лето Встречал он, правдивый и скромный, Не требовал он на признанья ответа Вздыхал лишь, застенчивый, томный. Напрасно вздыхал он и таял всечасно: Влекло меня к странным утехам, Меня забавлял лишь страдалец несчастный, Ему отвечала я смехом. «Уйду!» – говорил он. «Ступай себе с богом!» Ушел он со вздохом влюбленным; Погиб от любви, – на прибрежье отлогом Лежит он под кровом зеленым. С тех пор стала жизнь для Марыли постылой, Раскаялась я, только поздно; Того, кто навеки взят темной могилой, Вернуть ли мольбою мне слезной! Однажды, когда забавлялась я дома, Раздался вдруг грохот ужасный И Юзек явился, средь свиста и грома, Как признак пылающий, красный. Схватил и унес и в удушливом дыме В чистилище бросил, в потоки. Средь скрежета, стонов, словами такими Он вынес мне суд свой жестокий: «Ты знала, что бог сотворил из мужчины Жену как венец мирозданья. Чтоб в жизни тяжелой смягчала кручину, Для радости, не для страданья. А сердце твое из куска ледяного, Никто, преклонясь пред тобою, Не выпросил с губ твоих нежного слова Признаньем, слезами, мольбою. В чистилище долгие годы за это, Терзать тебя будут здесь, злую, Покуда мужчина живой с того света Тебе не промолвит: люблю я! То слово вымаливал Юзек твой бедный, Лил горькие слезы, несчастный; Пусть молит о том же и призрак твой бледный, Терзаемый мукой ужасной!» Сказал, и схватили меня злые духи И вот – уже скоро год сотый Днем мучат, а ночью скитаюсь я глухо По зарослям топким болота; Близ церкви у Юзя сижу на могиле, И долу и выси чужая, Пугаю прохожих, чтоб ночью спешили, Подальше тот мост объезжая. Болотом веду или темною чащей Иль порчей коня погублю я; И каждый клянет меня руганью мстящей, Ты первый сказал мне: люблю я! За это с грядущего занавес мрака Сниму я, как тучу ненастья: Ты встретишь Марылю, полюбишь, однако…» Запел тут петух на несчастье. Кивнула мне радостно, словно воскресла, И, облачком утренним тая, Она на глазах моих тихо исчезла Над речкой, как мгла золотая. Смотрю: воз исправен, стоит, где посуше, Пропали все страхи ночные; Прошу всех: три раза за грешную душу Прочесть «Пресвятая Мария».[1819]
ПАНИ ТВАРДОВСКАЯ
Баллада
Курят люльки, пьют, хохочут, Дым столбом, корчма вверх дном, Свищут в пляске и топочут – Стены ходят ходуном. Сам Твардовский в этом хоре Восседает, как паша, По колено пану море: «Гей, душа! Гуляй, душа!» Видит пан вояку-хвата, Что бахвалиться привык, Свистнул саблей – нет солдата, Зайцем стал он в тот же миг. Пан судье из трибунала Сунул золото под нос, Лишь раздался звон металла, Нет судьи – пред вами пес. Пан сапожника-пьянчужку Щелкнул по носу – и вот Изо лба бедняги в кружку Водка гданьская течет. Пан хлебнул, но что за чудо! Кто там возится на дне?.. Черт?.. «Здорово, кум! Откуда? С чем пожаловал ко мне?» В кружке чертик из прожженных, Истый немец с ноготок, Изогнулся весь в поклонах, Шляпу снял и на пол – скок. И мгновенно на два локтя На глазах у всех подрос. Ну и облик! – птичьи когти И крючком изогнут нос. «А, Твардовский?! Встретить братца Мне приятно, дорогой! Что? Со мной не хочешь знаться? Мефистофель пред тобой! Договором нас связала В полночь Лысая гора. Дней с тех пор прошло немало, Рассчитаться б нам пора! Клялся ты на коже бычьей, Что спустя два года сам В Рим придешь свершить обычай, То есть выдашь душу нам. Ад служил тебе исправно, Не жалел ни чар, ни сил, Семь годков ты пожил славно, Но о Риме позабыл. Шел ты в сеть путем незримым, Не страшился здешних мест, Глянь, корчма зовется «Римом», Так что, пане, под арест!» Не предвидел пан такого. Марш – к дверям. Но бес лукав: «Стой! А как же честь и слово?» Уцепился за рукав. Как тут быть? Близка могила, Знать, придется в пекло лезть… Но внезапно осенило, Пан подумал: выход есть! «Верно, черт! Себе на горе Я пошел на сделку, но… Погляди-ка, в договоре Есть условие одно: Перед смертью три задачи Дать могу. И кончим спор! Все исполни, а иначе Расторгаем договор. Видишь вывеску у входа С намалеванным конем? Дело вот какого рода: Я скакать хочу на нем. Чтобы лошадь гарцевала, Плеть сплети мне из песка. Да построй мне для привала Дом у ближне. го леска. Из орехов сбей просторный, Высотой с Карпаты, дом, Вместо крыши мака зерна Уложи на доме том. Зерен требуется уйма, Не сочтешь – в глазах черно; Тьг ж забей гвоздей в три дюйма По три в каждое зерно!» Свистнул бес, и все готово: Свита плетка из песка, Конь оседлан, бьет подковой, Дом построен у леска. На коня вскочил Твардовский, Конь под ним, храпя, взвился, Взял в галоп скакун бесовский, Пана по полю неся. «Наша бита, пане дьявол, Но еще не все, постой, Ты, дружок, в тазу не плавал Со свяченою водой». Тварь нечистая не рада, Весь в поту холодном бес, Но приказ исполнить надо, Крякнул он и в таз полез. «Ну и баня! Вот так страсти! Черт взвился, как из пращи, Уж теперь ты в нашей власти, Едем в пекло – не взыщи!» «Нет! Еще одно осталось! Тут спасует сатана! Погоди, нечистый, малость, Вон идет моя жена! Груз твоих бесовских тягот Я бы мог в аду принять, Если б ты Твардовской на год Взялся мужа заменять. Обещай ей послушанье, Угождать ей дай обет. Если ж ты рассердишь пани, Весь наш договор – на нет». Только черт уже не слышит, Все косится на порог, От испуга еле дышит, Задрожал и – наутек. Пан за ним к дверям метнулся, Хвать его, но прыткий бес Изловчился, извернулся, Юркнул в щелку и исчез:[Первая половина 1820 г.]
ЛИЛИИ
Баллада
Беда стряслась нежданно Убила пани пана, В лесной зарыла чаще Над речкою журчащей, Сажала клубни лилий И пела на могиле: «Растите так высоко, Как пан зарыт глубоко, Как он зарыт глубоко, Так вам расти высоко». Вся в брызгах крови алой Мужеубийца встала, Бежит, по рощам рыщет, По склонам и по долам. Стемнело. Ветер свищет Во мраке невеселом. Прокаркал ворон в ухо, Заухал филин глухо. Избушка на поляне, Ручей и старый бук. К избушке мчится пани, Стучится в дверь – тук-тук! «Кто там?» – И на пороге Отшельник с ночником. Она, крича в тревоге, Как дух, ворвалась в дом. Лицо бело, как иней, Безумный взор горит, Рот искривился синий, Хохочет: «Муж! Убит!» «Постой. Господь с тобою. Что бродишь дотемна Ненастною порою В глухом лесу одна?» «Мой замок за кудрявым Леском, у синих вод. На Киев с Болеславом Ушел мой муж в поход. И нет о нем ни слова. Проходит год, года. Стезя добра сурова, А я ведь молода. Был грех – пришла тревога: Что станется со мной? Король карает строго. Ах, едет муж домой! Узнает муж немного! Вот кровь! гляди! вот нож! А мужа нет… Ну что ж, Старик, я все сказала. Сними же грех с души, Тоску души усталой Молитвой заглуши. Приму я муки ада, На казнь пойду за грех, Одно мне только надо Позор мой скрыть от всех». Ответил схимник старый: «Тебя не совесть жжет, Страшишься только кары? Не бойся – все сойдет, Будь весела, беспечна, Жить этой тайне вечно, Так, знать, судил нам бог, Смолчишь – и все в секрете. Муж рассказать бы мог, Да нет его на свете». Обрадовалась пани, За дверь – и на поляне, Домой во мраке ночи Помчалась что есть мочи. Навстречу дети: «Мама! Твердят они упрямо, Послушай, где отец?» «Мертвец? Где? Ах, отец? И молвит наконец: Отец ваш там у бора. Домой придет он скоро». Прождали вечер дети, Ждут и второй, и третий, Неделю погрустили И наконец забыли. Но пани не забыла, Все время в мыслях грех И комом в горле смех, А сердцу все постыло. Все ночи до утра Ей не сомкнуть ресницы: Кто там к дверям светлицы Приходит со двора? И слышно на рассвете: «Я здесь! Я с вами, дети». Вновь утро. Вновь уныло И снова в мыслях грех, И комом в горле смех, А сердцу все постыло. «Что это? Стук копыт? Эй, Ганка, – за ворота! Я слышу, мост гудит. Неужто едет кто-то? Взгляни, кто скачет там? Быть может, гости к нам?» «Да, вижу их на склоне, Хотя в тумане даль, Ржут вороные кони, Сверкает сабель сталь. Да, едут! Как нежданно! Ах, это братья пана?» «Привет! Мы снова вместе! Встречай нас честь по чести! Где брат наш?» – «Брата нет. Покинул этот свет». «Давно ли?» – «Год уж минул, Как он в сраженье сгинул». «Не верь! Все это бред! Войны в помине нет. Он жив, забудь же горе, Увидишь мужа вскоре». Как пани побледнела, На миг обмякло тело, В глазах застыл испуг, Смятенье и тревога. «Где мертвый?.. Где супруг?» Пришла в себя немного; Приняв пристойный вид, Она гостям твердит: «Где муж мой? где мой милый? Так жду – нет больше силы!» «Он с нами был вначале, Но поспешил тотчас Твои унять печали, Достойно встретить нас. Он будет завтра дома. Пошел кружным путем, Дорогой незнакомой. Немного подождем, На поиски пошлем. Он будет завтра дома». Послали челядь в лес, Все тщетно – брат исчез. День ждали, не дождались, В слезах домой собрались. Но пани у порога: «Родные, хоть немного Прошу вас обождать. В дороге что за счастье Осеннее ненастье? Глядите – дождь опять». Ждут, ждут – не видно брата, Промчалась без возврата Зима. Все ждут и ждут: Придет весной, быть может? А брата черви гложут, Цветы над ним растут, Так выросли высоко, Как он лежит глубоко. Ждут братья, и домой Не тянет их весной. Хозяйство тут завидно, Хбзяйка миловидна. Пора бы в путь собраться, Нет, ждут, как прежде, братца, Прошла весна, и к лету О нем помина нету. Хозяйство тут завидно, Хозяйка миловидна, Вдвоем тут загостились, Вдвоем в нее влюбились. Надежды не помогут, Сомнений не избыть, Вдвоем с ней жить не могут, А без нее – не жить! Чтоб все решить по чести, Идут к невестке вместе. «Хотим промолвить слово, Не будь же к нам сурова. Уже почти что год Мы брата ждем напрасно, Ты молода, прекрасна, Но молодость пройдет, Пусть нелегка утрата, Возьми за брата – брата». Они умолкли оба, Их стала ревность жечь, В глазах сверкнула злоба, Бессвязной стала речь, В сердцах вражда до гроба, Рука сжимает меч. Невестка, видя это, Не в силах дать ответа И просит обождать. Она бежит опять Туда, где на поляне Ручей и старый бук. К избушке мчится пани, Стучится в дверь – тук-тук! И старику с начала Всю правду рассказала. «Как быть, скажи, отец? Объяла братьев злоба: Они милы мне оба; Так с кем же – под венец? Есть дети, есть достаток, Есть деревень с десяток, Хотя живется хуже, Чем я жила при муже. Мне счастья бог не судит, Замужества не будет. Как мне уйти от кары? Чуть ночь – опять кошмары: Едва сомкну ресницы, Трах! – настежь дверь светлицы, Вскочу – и ухо слышит, Как он идет, как дышит, Мне слышен шаг, отец, Я вижу – он… мертвец! Склонился к изголовью С ножом, залитым кровью, Из пасти искры сыплет, Меня терзает, щиплет. Ах, что это за страх! Не жить мне в тех стенах, Мне счастья бог не судит, Замужества не будет!» Сказал ей схимник старый: «Злодейства нет без кары, Но, слыша покаянье, Смягчает бог страданье. Такое знаю слово Чудотворящий знак: Захочешь – муж твой снова Вернется в мир. Ну, как?» «Воскреснет? Боже правый! Нет! только не сейчас! Навеки нож кровавый Разъединяет нас. Пусть я достойна кары, Снесу любые кары, Но только б не кошмары. Все брошу – дом, веселье И в монастырской келье От всех укроюсь глаз. Но это!.. Боже правый! Нет, только не сейчас! Навеки нож кровавый Разъединяет нас!» Вздохнул старик в печали, Лишь слезы замерцали, И заслонил старик Ладонью скорбный лик. «Ступай, венчайся в храме. Мертвец навеки в яме. Себя ты не тревожь, Он канул в мрак унылый, Не выйдет из могилы, Пока не позовешь». «Но как мне быть, отец? Но с кем же – под венец?» «Вернейшая дорога Отдаться воле бога. Чуть свет, с росою ранней, Пусть братья на поляне Цветов нарвут и вместе Сплетут венки невесте, На них оставят метку Тесемку или ветку, Пусть в алтаре положат, И тут господь поможет: Чей ты венок возьмешь, С тем под венец пойдешь». Обрадовалась пани: Скорее – под венец! Не страшен ей мертвец, Все решено заране: Во сне ли, наяву Его не призову! Повеселела пани, За дверь – и на поляне, Домой во мраке ночи Помчалась что есть мочи. Мелькает лес, поляны, Захватывает дух, И ловит чуткий слух Какой-то шепот странный. Кто это там, незваный? Ночная шепчет глушь: «Я муж твой! Слышишь? Муж!» Чу! Снова шепот странный. Бегом! Все как во сне, Мурашки по спине, Как страшен мрак бездонный. Кто это? В чаще стоны. И снова шепчет глушь: «Я муж твой! Слышишь? Муж!» Час близится. В усадьбе Приготовленья к свадьбе, Во двор выходят братья, Невеста в белом платье Стоит среди подруг И в их толпе веселой Идет под свод костела, Берет венок. Застыли В молчанье все вокруг. Венок сплетен из лилий! «Не ты ли сплел? Не ты ли? Кто? Кто же мой супруг?» Выходит старший брат, Смеется, пляшет, рад, Пылают щеки маком. «Он мой, венок! Он мой! Моей сплетен рукой, Моим отмечен знаком Приметною тесьмой! Он мой, он мой, он мой!» «Ложь! – закричал второй. Пойдемте все из храма К могиле над рекой, Туда пойдемте прямо, Где собственной рукой Цветы сорвал я в чаще Над речкою журчащей. Он мой, он мой, он мой!» В неукротимой страсти Так братья горячи! Схватились за мечи И рвут венок на части. Жестокий вспыхнул бой. «Он мой, он мой, он мой!» Дверь настежь. Вмиг погасло Во всех лампадах масло, И, в саване до пят, Знакомая фигура Возникла – все дрожат, Возникла – смотрит хмуро. И – = – голос гробовой: «Венок не ваш, а мой! Цветы – с моей могилы, Меня венчай, прелат! Жена! Я здесь – твой милый, Твой муж! А вам я – брат! Спасетесь вы едва ли: Мои цветы вы рвали. Я здесь. Я муж и брат. Вас обуяла злоба. Я к вам пришел из гроба, Теперь идемте в ад!» Постройка задрожала, Обрушился портал, Разверзлась глубь провала, И рухнул храм в провал. Над ним, как на могиле, Белеют чаши лилий И так растут высоко, Как пан лежит глубоко.[Май 1820 г.]
ДУДАРЬ
Романс (На тему народной песни)
Кто этот старец сереброгривый, Куда голубчик плетется, Его под ручки ведут два хлопца, Ведут мимо нашей нивы. Запел, за лиру свою берется, Дуть в дудочки хлопцы ладят. Окликну старца, пускай вернется, Под тем пригорком присядет. «К нам на досевки пожалуй, старец, Да с нами повеселись-ка! Попей, искушай! Деревня близко Переночуешь, скиталец!» Внял, поклонился, уселся старец, С ним рядом хлопцы садятся На наши игры полюбоваться, На деревенский наш танец. Звучат свистульки и погремушки, Валежник в кострах пылает; Девицы скачут, поют старушки, Досевки они справляют. Но смолкли дудки и погремушки, И возле костров нет люда Бегут девицы, спешат старушки Туда, где присел дед-дударь. «Ах, как мы рады! Дед-дударь, здравствуй! В веселый ты час явился! Идешь, наверно, из дальних странствий? Озяб ты и утомился!» К огню подводят, к столу из дерна Сажают, на первом месте; Подносят меда, прося покорно Откушать со всеми вместе. «Мы видим лиру, мы дудки видим. Сыграйте же добрым людям! Набьем вам сумки, уж не обидим И благодарны вам будем!» В ладоши хлопнул: «Уймитесь, дети! Уймитесь! Ну, ладно, коль уж Вы так хотите – могу вам спеть я. Но что ж вам петь?» – «Что изволишь!» Взял в руки лиру. И медом сладким Грудь старческую согрел он. За дудки взяться мигнул ребяткам И тронул струны, запел он. «Где Неман льется, там путь мой вьется. К селу от села шагаю Через дубравы, через болотца И песенки распеваю. И внемлют люди, но все ж едва ли Мое им понятно слово. Смахну слезу я, вздохну и снова Шагаю в дальние дали. А кто поймет уж, так тот в печали В ладони белы ударит, В ответ на слезы слезой подарит, И я уж не двинусь дале». Тут замолчал он и, озирая Народ на лужочке этом, Нахмурив брови: «А кто ж такая Прислушалась в стороне там?» А там пастушка плетет веночек, Сплетает и расплетает, А рядом с нею ее дружочек Веночком ее играет. На лике девы покой душевный, Опущены долу очи; Стоит не радостной и не гневной, Задумчива только очень. И, как колеблет свой стан травинка, Хоть ветер уже не дышит, Вот так над грудью дрожит косынка, Хоть вздоха никто не слышит. С груди рукою она снимает Какой-то листочек вялый, О чем-то шепчет, глядит, бросает, Сердясь на него, пожалуй. И отступила, отворотилась И ввысь повела глазами, И вдруг румянцем лицо покрылось, Покрылись глаза слезами. И щиплет струны старик безмолвный, На девушку он воззрился; Взор соколиный, вниманья полный, Как будто ей в сердце впился. Он поднял чашу, и медом сладким Грудь старческую согрел он; За дудки взяться мигнул ребяткам И тронул струны, запел он: «Для кого в венок вплетаешь[2] Лилии, тимьян и розы? Ах, счастливца увенчаешь, Для него венок сплетаешь! Любишь! Как ты ни скрываешь Выдают румянец, слезы. В свадебный венок вплетаешь Лилии, тимьян и розы! Одному в венок вплетаешь Лилии, тимьян и розы, А другого отвергаешь Не ему венок сплетаешь! Коль счастливцу ты вручаешь Лилии, тимьян и розы, Так несчастному отдай уж Хоть румянец свой и слезы!» Пошли тут толки да пересуды, Вздыхая, заговорили: «Знакома песня для добра люда, Но кто ее пел – забыли!» И поднял руку печальный старец. «Эй, дети! – он голос подал. Мне пел ту песню один страдалец, Быть может, отсюда родом. Знавал в Крулевце в былые лета Какого-то пастуха я; Туда на струге литовец этот Приплыл из вашего края, Всегда вздыхал он, всегда томился, Как видно, не без причины; Домой в Литву он не возвратился, Отстал от своей дружины. Я часто видел – горят ли зори Или в сиянии лунном Он бродит в поле иль возле моря, Блуждает молча по дюнам. И сам как камень между камнями, И в непогодь и в морозы, Каким-то горем делясь с ветрами, Волнам поверял он слезы. К нему пришел я, взглянул он смутно, Но все же со мной остался; Я, слов не тратя, настроил лютню, Запел я, за струны взялся. И тут кивнул он мне головою Ему понравились песни, Пожал мне руку. Обнял его я, И мы заплакали вместе. И так сближались мы постепенно И стали потом друзьями; Хранил молчанье он неизменно, И я не сорил словами. И вот, снедаем своей тоскою, Однажды свалился с ног он; И стал я верным его слугою, Когда совсем занемог он. Изнемогая от тайной боли, Он подозвал меня к ложу; Сказал он: «Близок конец недоли, Исполнится воля божья! Лишь тем я грешен, что жизнь пустая Здесь без толку пролетела. Без сожаленья мир покидаю: Давно я – мертвое тело! Меня давно уж от лика света Укрыли дикие камни; Жизнь мира стала так далека мне В воспоминаньях жил где-то! Остался верен мне до конца ты! Сокровищ я не имею, Не награжу я тебя богато Возьми же, чем я владею! С тобою песня пусть остается, В печали пел ее здесь я; Наверно, помнишь, что в ней поется И как звучит эта песня. И вот со светлых волос повязка Ветвь кипариса сухая; Храни ту ветку, пой песню часто Вот все, что я завещаю! Ступай на Неман: найдешь, быть может, Ту, что рассталась со мною; Быть может, песня ее встревожит, Всплакнет над веткой сухою. Пригреет старца и в дом свой примет! Скажи…» – Но глаза застыли, Пречистой девы святое имя Уста не договорили. И все ж на сердце он, умирая, Успел показать рукою И обернулся к родному краю За Неманом за рекою». Замолк тут старец, в руке белело Письмо – листа четвертушка. Но из толпы уж уйти успела Кого он искал – пастушка. Уйти спешила, спешила скрыться, Под платом пряча лик божий, И вел под ручку красу-девицу Какой-то парень пригожий. Воззвала к старцу толпа тревожно: «Дед, что случилось такое?» Но промолчал он. И знал, возможно, Да что говорить с толпою![Вторая половина 1821 г.]
ПРИЗРАК
Из поэмы «Дзяды»
Стиснуты зубы, опущены веки, Сердце не бьется – оледенело; Здесь он еще и не здесь уж навеки! Кто он? Он – мертвое тело. Живы надежды, и труп оживился, Память зажглась путеводной звездою, Видишь: он в юность свою возвратился, Ищет лицо дорогое. Затрепетали и губы и веки, И появился в глазах жизни признак. Снова он здесь, хоть не здесь он навеки. Что он такое? Он – призрак! Ведомо всем, кто у кладбища жили, Что пробуждается в день поминальный И восстает из кладбищенской гнили Этот вот призрак печальный. Но зазвонят из тумана ночного, Что воскресенье уже наступило, С грудью как будто разодранной снова Падает призрак в могилу. Живы его хоронившие… Часто О человеке ночном говорится… Кто же он, юноша этот несчастный? Это – самоубийца! Терпит, наверно, он страшную кару: Весь пламенеет, тоскует ужасно… Слышал однажды наш ризничий старый Призрака голос неясный. Передрассветные звезды блистали, И привиденье, покинув могилу, Руки вздымая в великой печали, Жалобно заговорило: «Ты, дух проклятый, зачем жизни пламя Вновь заронил под бесчувственный камень? Ведь угасало оно в этой яме! Снова зачем этот пламень? О, приговор справедливо суровый! Вновь познакомиться, вновь разлучиться, Из-за нее умереть смертью новой, Помнить о ней и томиться. Вновь между всякого сброда шататься Буду я всюду, гонясь за тобою; Впрочем, с людьми не хочу я считаться В жизни изведал всего я! Если смотрела ты – взор опускал я, Точно преступник; когда говорила, Слышал я все, но молчал и молчал я, Словно немая могила. Это замечено было друзьями, Юноши это причудой считали, Старшие – лишь пожимали плечами Либо мораль мне читали. Слушал насмешки я, слушал советы… Впрочем, и я бы на месте другого Точно вот так же осмеивал это И осуждал бы сурово. Некто решил, что моим поведеньем Гордость задета его родовая, Но отстранялся с любезным терпеньем, Будто бы не замечая. Горд был и я: мол – понятно мне это! Громко дерзил я в ответ на молчанье Или выказывал вместо ответа Полное непониманье. Ну, а иной не прощал прегрешенья, И на лице у него выражалась Сквозь оскорбительное снисхожденье Лишь лицемерная жалость. Жалости той не прощу ни за что я! Я не молил его – я улыбнулся, Но, и презрением не удостоив, Он от меня отвернулся! Вновь подвергаюсь я всем испытаньям, В мир устремляясь кладбищенской тенью. Эти – как черта, хлестнут заклинаньем, Те – убегают в смятенье. Этот смешит меня глупою спесью, Этот – навязчив, а этот – ехиден… Рвусь лишь к одной. Почему же всем здесь я Дивен иль даже обиден? Тем, кто жалел, покажу непочтенье, А зубоскалам, пожалуй, – и жалость!.. Только бы ты, о любимая, с тенью Снова сейчас повстречалась! Ты погляди и скажи мне хоть слово, Не осуди беспокойную душу. Только на час ведь я – призрак былого Новое счастье нарушу! Может быть, к солнцу привычные очи Не испугаются темного гостя, И до конца ты дослушать захочешь Речь, что звучит на погосте. Может быть, мысль и твоя устремится, Пусть на мгновенье хотя бы, к былому К сорным травинкам в щелях черепицы Старого, старого дома».[1823]
ЗАВОРОЖЕННЫЙ ЮНОША
Из первой части поэмы «Дзяды»
Пан Твардовский в замок входит, Двери выломав с размаха, Рыщет в ямах, в башнях бродит… Сколько чар здесь, сколько страха! Удивительное в склепе Покаяние творится: Юноша, закован в цепи, Перед зеркалом томится! Он томится и казнится: С каждым мигом он теряет Жизни некую частицу, В хладный камень он врастает! Уж по грудь он тверд, как камень, Но на лике все ж пылает Мужества и силы пламень, Очи нежность излучают! «Кто ты? – говорит заклятый, Смело ты вошел под своды, Где ломаются булаты И теряется свобода!» «Кто я? Целый мир страшится Моего меча и слова, Ибо я – могучий рыцарь, Славный рыцарь из Твардова!» «Из Твардова? Это имя В наши дни мы не слыхали Под шатрами. боевыми И когда мы пировали. Но, видать, за годы эти, Что томлюсь я здесь, в темнице, Много нового на свете, Расскажи мне, что творится! Ольгерд наш как прежде в силе? Он Литву в походы водит? Немцев бьем, как прежде били? На монголов рати ходят?» «Ольгерд? Что ты? Пролетело Двести лет, как лег в могилу! Нынче внук его Ягелло Сокрушает вражью силу». «Вот как! Ну, еще два слова: Может быть, могучий витязь, По дороге из Твардова Заезжал ты и на Свитезь? Там тебе не говорили, Как с врагом Порай сражался И о девушке Марыле, Чьей красе он поклонялся?» «Юноша! Тот край я знаю, Неман знаю, Днепр я знаю, Но не слышал никогда я О Марыле и Порае! Впрочем, что мы тратим время! Из скалы тебя добуду Сам увидишься со всеми, Побываешь ты повсюду. Знаю цену этим чарам И сейчас же разобью я Зеркало одним ударом И тебя я расколдую!» Меч он вырвал быстрым взмахом, К зеркалу идет он, смелый. Только юноша со страхом Крикнул: «Этого не делай! Это зеркало бесценно! Ты подай его мне в руки Сам избавлюсь я от плена, Сам свои закончу муки!» Зеркало тут в руки взял он, Глянул, смертно побледнел он. Зеркало поцеловал он И совсем окаменел он!К М… СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В 1823 ГОДУ
«Прочь с глаз моих!..» – послушаюсь я сразу, «Из сердца прочь!..» – и сердце равнодушно, «Забудь совсем!..» – Нет, этому приказу Не может наша память быть послушна. Чем дальше тень, она длинней и шире На землю темный очерк свой бросает, Так образ мой, чем дальше в этом мире, Тем все печальней память омрачает. Все в тот же час, на том же самом месте, Где мы в мечте одной желали слиться, Везде, всегда с тобою буду вместе, Ведь я оставил там души частицу. Когда на арфу ты положишь руку, Чтоб струны вздрогнули в игре чудесной, Ты вспомнишь вдруг, прислушиваясь к звуку: «Его я развлекала этой песней». Иль, наклонясь над шахматной доскою, Готовя королю ловушку мата, Ты вспомнишь вдруг с невольною тоскою: «Вот так и он играл со мной когда-то». Иль, утомясь от суматохи бальной, Окинув место у камина взглядом, Ты вспомнишь вдруг с улыбкою печальной: «Он там не раз сидел со мною рядом». Возьмешь ли книгу, где судьба жестоко Двух любящих навеки разлучила, Отбросишь книгу и вздохнешь глубоко, Подумав: «Ах, и с нами так же было!» А если автор все ж в конце искусно Соединил их парой неразлучной, Гася свечу, подумаешь ты грустно: «Такой бы нам конец благополучный!» Зашелестит в саду сухая груша, Мигнет во тьме летучая зарница, Сова простонет, тишину наруша, Ты вздрогнешь: «Это он ко мне стремится!» Все в тот же час, на том же самом месте, Где мы в одной мечте стремились слиться, Везде, всегда с тобой я буду вместе, Ведь там оставил я души частицу.ИМПРОВИЗАЦИЯ ДЛЯ Э. СЛЕДЗЕЕВСКОЙ
О, счастлив тот, кто в памяти твоей, Как жемчуг иль коралл, навек утонет, Когда в прозрачной глубине своей Его лазурь балтийская хоронит. Но мне, увы, ни красотой коралла, Ни жемчуга сверканьем не блеснуть. О, если б мной волна хоть миг играла, А там – в песке забвенья утонуть!Написано на берегу Балтийского моря.
[Июль 1821 г.]
ИЗ АЛЬБОМА МАРИИ ПУТТКАМЕР
Nessun maggior dolore che ricor darsi del tempo felice nella mi seria!
[Тот страждет высшей мукой, кто радостные помнит времена в не счастии! Данте. Ад. V, 121–121]
Перевод М. Лозинского.
Те имена блаженство ожидает, Которые зовешь, Мария, ты своими; А кто Марию в свой альбом включает, Записывает в нем всего лишь имя.[1821–1822]
МАРИИ ПУТТКАМЕР ПРИ ПОСЫЛКЕ ЕЙ ВТОРОГО ТОМИКА СТИХОВ
Мария, сестра моя! Пусть не по крови близки мы, По духу, по мысли и чаяньям мы – побратимы. Когда б не причуды судьбы, не твое повеленье, Иное – нежнее – к тебе я б нашел обращенье; Взгляни ж благосклонно на то, что прошло без возврата, И строки любви прими от далекого брата.[1823]
К*** в альбом
Руки тянули мы в разные дали, К разному помыслы наши клонило, Видели розно и врозь мы страдали, Что же нас, милая, соединило? Звездам высоким и равновеликим Двум обреченным на рознь и блужданья, Вечным изгоям под игом безликим Неумолимого к ним мирозданья, Гордым скитальцам со всеми в раздоре, Вечно в пути, чтоб не быть под пятою. Благословение им или горе, Что полюбили друг друга – враждою?[Июль 1824 г.]
В АЛЬБОМ М. С
Разнообразными усеян сад цветами: Одним затейник дал причудливый наряд, Иные друг сажал – они взрастут с годами Иль, расцветя едва, могил украсят ряд, В которых спят сердца, надежды и мечтанья… Порой вздохнешь, порой с улыбкой глянешь ты, Пройдя среди цветов в саду воспоминаний… Взгляни на уголок, где я растил цветы. Его ты не сравнишь с цветущими грядами, Заброшен он в глуши, невзрачен и убог, Там солнца не было, дожди шли за дождями, И он зазеленеть и расцвести не мог. Но все-таки о нем ты вспоминай порою Ведь он лежит в саду, взлелеянном тобою.[Ковно, 16 августа 1824 г.]
МАТРОС
«Зачем, о беглец несчастный, Ты с нами спешишь расстаться, Покинуть берег прекрасный И больше не возвращаться? Зачем ты от нас скрываешь Свой взгляд, озаренный светом, Улыбкой нас не встречаешь, Не даришь прежним приветом? Все бродят вокруг лениво, Ты мчишь по палубе зыбкой. Возможно ль быть торопливым И край покидать с улыбкой?» «Послушай, – матрос ответил, Я долго прожил в отчизне, Но радости в ней не встретил, Не видел счастливой жизни. Я видел страданья правых И горе с нуждою в хатах, Ничтожность сердец лукавых И жадность в глазах богатых. Меня не прельщает счастье, Я бренность жизни измерил. Остаток мыслей и страсти Родимой ладье доверил. Искать ли мне наслажденья И верить в любовь, как прежде, В последней ладье крушенье Последней видя надежды? Но бог осветил мне душу, Покрытую мглой холодной. Еще не оставив сушу, Нашел я дом благородный. Мать с сердцем спартанки встретил, Что польской плачет слезою, Дочь с ангельским ликом заметил И с твердой сарматской душою. Как девы шли к жертвам Нерона, Льву брошенным на съеденье, Так братьям несут обреченным Они слова утешенья. Не видя взглядов суровых, Не слыша окриков вражьих, Навстречу звериному реву Идут мимо грозной стражи. Ничто меня не тревожит… Эй! Ставьпаруса прямые!.. Погибнуть страна не может, Где жены и девы такие».[Вторая половина 1824 г.]
В АЛЬБОМ ЛЮДВИКЕ МАЦКЕВИЧ
Неведомой, дальней – безвестный и дальний, Пока нас уводит по разным дорогам, Два вечные знака разлук и свиданий Я шлю тебе разом: и «Здравствуй» и «С богом». Так путник альпийский, бредя по отрогу, Когда что ни шаг, то пустынней округа, И не о ком петь, чтобы скрасить дорогу, Поет, вспоминая любимую друга. И, может, домчится к ней эхо по кручам, Когда заметет его снегом сыпучим.[22 октября 1824 г.]
Людвике, будущей Ходзько, я написая эти стихи через час после получения приказа о высылке.
В АЛЬБОМ С. Б
Ушли счастливые мгновенья лета, Когда легко так было на лугу Нарвать цветы для целого букета, Теперь цветка найти там не могу. Завыли бури, мрак на небосклоне, И там, где золотился пестрый луг, Хотя б листочек для твоих ладоней, Увы, так трудно отыскать, мой друг. Нашел листок, несу его с приветом. Пусть оттого тебе он будет мил, Что дружеской моей рукой согрет он Последний дар, что я тебе вручил.22 октября 1824 г., через несколько часов после получения приказа покинуть Литву.
СТИХОТВОРЕНИЯ 1825 – 1829 В АЛЬБОМ К. Р
Носясь, как две ладьи, в житейском бурном море, Мы встретились с тобой в лазоревом просторе! Твоя ладья в броне, сверкает краской свежей, Вздувает паруса и грудью волны режет. Моя же после бурь и ужасов уныло С поломанным рулем скользит, почти бескрыла. И грудь ейточит червь, и туч зловещих стаи Скрывают звезды все, и компас я бросаю. Мы разошлись. И вновь не встретимся. Свиданья Искать не будешь ты, а я – не в состоянье.13 января 1825 г.
С.-Петербург
ВОСТОК И СЕВЕР
В альбом госпоже М. Сенковской
В краю, где мы живем, владычествует вьюга. Завидовать ли тем, кто ближе к солнцу юга? Ковром кашмирским ширь без края и конца, Цветы в шелках зари, из пламени сердца, Но там бюльбюль, запев, уже смежает очи, Цветенье розы там мгновения короче, Наш материк суров, но память он хранит О тех, кто сотни лет в его могилах спит. А там, где чтит земля тех, кто лежит в могилах, Живые о живых вовек забыть не в силах!24 января 1825 г.
С.-Петербург
Бюльбюль – по-арабски соловей.
ПУТНИКИ
В альбом Э. Головинской
Меж двух седых пучин жизнь пролегла тропой Для нас, в теснине дней блуждающих толпой: В пучину мрачную несемся из пучины. Одни – летят стремглав, торопят час кончины, Других земная ложь порою отвлечет, Цветущий сад любви, богатство и почет. Блажен, кто разогнал иллюзии сурово И дружбой освятил конец пути земного!1825 [10 февраля]
Стеблево
ПЛОВЕЦ
(Из альбома 3.)
Когда увидишь челн убогий, Гонимый грозною волной, Ты сердце не томи тревогой, Не застилай глаза слезой! Давно исчез корабль в тумане, И уплыла надежда с ним; Что толку в немощном рыданье, Когда конец неотвратим? Нет, лучше, с грозной бурей споря, Последний миг борьбе отдать, Чем с отмели глядеть на море И раны горестно считать.14 апреля 1825 г., Одесса
В АЛЬБОМ АПОЛЛОНУ СКАЛЬКОВСКОМУ
Искусно нежностью добыл ты сувениры От русских женщин, – пуд набрал ты, говорят. Пускай же наконец и дружеская лира В сентиментальный твой сундук внесет свой вклад. В какие бы края ни увлекли скитанья, Пусть компас стрелкою укажет путь твой вдаль, Пусть будет на одном ее конце – желанье, Всегда влекущее, а на другом – печаль.Москва, 1826, июнь
М. Ш
В каких краях ты б ни блистала мира, Повсюду видели в тебе кумира. Певцы, которых всюду лаврами венчали, Напевом сотен арф тебя встречали. Вдруг слышишь ты, смущением объята: В хор ангелов, в ликующие клики Ворвался голос незнакомый, дикий, Как будто селянин попал в палаты, Всех растолкал, спеша к тебе навстречу, Приблизился, обнял бесцеремонно, Но будь, царица звуков, благосклонна: Ведь то твой старый друг – звук польской речи.Москва, 1827 [12 декабря]
* * *
Когда пролетных птиц несутся вереницы От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине, Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы Знакомым им путем к желанной стороне. Но, слыша голос их печальный, вспомни друга! Едва надежда вновь блеснет моей судьбе, На крыльях радости помчусь я быстро с юга Опять на север, вновь к тебе!6 апреля 1829 г.
В АЛЬБОМ ЦЕЛИНЕ Ш…
Набор уж начался. Вот движется колонна Пехота, конница, гусары и уланы Идут на твой альбом, воинственны и рьяны, Вздымая имена, как грозные знамена. В дни старости, – бог весть в каком я буду ранге, – Вернувшись к прошлому, гордясь былым примером, Я расскажу друзьям, что первым гренадером Я в армии твоей стоял на правом фланге.С.-Петербург, 1829 г.
ПРИВАЛ В УПИТЕ
(Истинное происшествие)
Упита встарь была богата, знаменита, Теперь забыли все, что где-то есть Упита: Одна часовенка, десяток жалких хат; Где шумный рынок был, одни грибы торчат; Где были вал и мост преградой силе вражьей, Крапива и лопух стоят теперь на страже; Где замок высился на темени холма, Стоит среди руин убогая корчма. Застряв в Упите, я забрел в корчму без цели И за людьми следил, что за столом сидели. Сидело трое там. Один – старик седой В конфедератке был да с саблею кривой; Жупан его был пепельного цвета, Бог весть какой он был в былые лета; Усы предлинные, как в августовский век… С ним рядом молодой сидел там человек. Из грубого сукна, но модного покроя На нем был фрак. То чуб он теребил рукою, То кистью сапога играл, труня притом Над дьяконом в плаще предлинном и с крестом. Четвертый был корчмарь. Старик в конфедератке Ему и говорит: «С тебя, что ж, взятки гладки, Покойником тебя пугать не стану я. Но с вами об заклад побьюсь я, кумовья, Пускай найдет приют Сицинский[3] на кладбище, Корчмарь поставит мед! Не правда ли, дружище?» Корчмарь кивнул в ответ. Я всполошился весь. «Простите, – я спросил, – ужель Сицинский здесь?» «Да, разговор о нем, – сказал старик в жупане. Извольте, изложу все по порядку, пане. Громадный замок был там, где корчма стоит, И в нем Сицинский жил, богат и именит. Был связан узами со знатными родами, Был вечно окружен друзьями и льстецами. На сеймиках всегда имел он большинство, Диктаторствовал там, все слушались его, С вельможами держал себя запанибрата. Для выгоды своей не раз топил магната. Но дольше спесь его никто стерпеть не мог, На сеймике одном ему был дан урок: Сицинский избранным себя уже считает, Благодарит за честь, к себе на пир сзывает, Как сейма высшего почтенный депутат, Но голоса сочли. И что же? Шах и мат! Сицинский в бешенстве. За это оскорбленье Он шляхте страшное изобретает мщенье. Всех на обед созвал, и сеймик весь пришел. Вино лилось рекой, от яств ломился стол. Но были вина все настояны на зелье. И пьяной дракою закончилось веселье. Кто саблей действует, кто просто кулаком Наотмашь, что есть сил, – Гоморра и Содом! Дрались отчаянно, и битва продолжалась, Пока ни одного в живых там не осталось. Сицинский не успел упиться торжеством: Вдруг молния сожгла его, семью и дом. Как некогда Аякс, прикованный к вулкану, Сгорел в огне живьем преступник окаянный». «Аминь!» – костельный дед сказал, а эконом Стал сравнивать рассказ с невеяным зерном, И, правду, мол, стремясь очистить от мякины, Он важно рассуждал с презрительною миной: Вот пан маршалок сам, с которым в дружбе он, Который и умен, который и учен, Считал: Сицинского господь призвал к ответу За то, что королю мешал своими вето. И сделал вывод свой премудрый эконом, Что сейм и выборы тут вовсе ни при чем, Что дело тут в войне – понятно, враг неведом, Но надо полагать, что с турком или шведом. Сицинский короля в Упиту заманил И предал там врагу, а враг его убил. Хотел он речь продлить, но возмущенный дьякон Его тут оборвал: «Нехорошо, однако, Когда ксендза учить задумает звонарь Иль яйца кур учить, как говорили встарь. Послушайте меня, и все вам станет ясно. Ни сеймик, ни война тут к делу не причастны. Безбожие его – причина всех невзгод! У церкви отобрал он землю и доход, Не только то, что сам он не бывал в костеле, И слуг он не пускал, работать их неволя. Епископ сам ему писал, увещевал, Анафемой грозил – безбожник не внимал, В тот час, когда народ в костеле бога славил, Сицинский слуг своих колодец рыть заставил. Себе на горе рыл – беда его ждала: Вдруг хлынула вода, кругом все залила, Окрестные леса и нивы затопила, Цветущие луга в болота превратила. Затем – нам пан судья уж говорил о том, Что молния сожгла его, семью и дом. И, богом проклятый, не предан погребенью, Землей не принятый, он не подвержен тленью, Покоя вечного не обрела душа, И вот все бродит он, честной народ страша. И труп в корчму не раз подбрасывал проказник, Чтоб корчмаря пугать покойником под праздник». Окончил дьякон речь и дверь раскрыл, а там, Внушая страх живым, стоял Сицинский сам. Крест-накрест кисти рук, висят, как жерди, ноги, Лицо измождено, на нем печать тревоги, В пустом оскале рта один изгнивший зуб, Могильным холодом пропитан мерзкий труп. Но сохранились все ж на нем следы былого, И он обличьем всем напоминал живого, И даже по чертам угасшего лица Нельзя было признать в нем сразу мертвеца. Бывает так порой: на выцветшей картине, Где свежести былой давно нет и в помине, Мы прежние черты, вглядевшись, узнаем. Так здесь: лицо живым хоть не горит огнем, Кто знал Сицинского. тотчас его узнает, А кто его узнал, былое вспоминает. Приводит в трепет, в дрожь его злодейский вид, Застывшей злобою по-прежнему грозит, Глядит на вас, как встарь, с улыбкою злорадства, Готовый совершить любое святотатство. Повисла голова с проклятьем на челе, Казалось, груз грехов клонил его к земле И что душе его, исторгнутой из ада, Вернуться снова в ад – последняя отрада. Бывает, логово, в котором жил злодей, Разрушит молния или рука людей: По лужам кровяным и по следам багровым Нетрудно угадать, кому служило кровом; По шкуре сброшенной мы узнаем змею; Так жизнь Сицинского по трупу узнаю. И я сказал: «Друзья, да в чем вы не согласны? Всех преступлений он виновник был злосчастный: Он отравлял людей, владел чужой казной, И королям мешал, и край губил родной!» И думал: «Что же ты, народное преданье? Иль в пепле истины убогое мерцанье? Иероглиф, что нам хранит о прошлом весть, Но смысл которого не в силах мы прочесть? Иль славы отзвук ты, веками донесенный? Иль ты событий след, неправдой искаженный? Ученых смех берет. Я их спросить готов: Что значит вообще история веков?»Одесса, 1825 г.
КОЛОКОЛ И КОЛОКОЛЬЦЫ
Колокол недвижен в песке под костелом. Колокольцы говорят щебетом веселым: «Малыши мы, но поем прихожанам всем, Ты же – старый великан – вечно глух и нем!» «О звонкоголосые, – колокол сказал, Ксендзу будьте благодарны – он меня в песок втоптал!»[1825]
БЛОХА И РАВВИН
Почувствовал раввин, сидевший над Талмудом, Укус блохи, притом с неимоверным зудом, Вот изловчился он, схватил ее рукой, Но лапки подняла она к нему с мольбой: «О праведный мудрец из древнего колена, Меня ли хочешь ты добычей сделать тлена? Безгрешною рукой прольешь ли кровь мою?» Тот крикнул: «Кровь за кровь! Немедленно пролью! Ты Велиала дщерь! Ты паразитка злая! Ты пьешь людскую кровь, трудом пренебрегая. Вот скромный муравей, вот строгая пчела: У каждого свои полезные дела. Лишь ты одна, блоха, проводишь дни впустую, Живешь за счет людей и кровь сосешь людскую!» Сказал и раздавил; она же в смертный час Чуть слышно пискнула: «А чем вы лучше нас?»[1825]
ДРУЗЬЯ
Я с искренней дружбой не встретился, сколько ни ездил. Последний ее образец обнаружен в Ошмянском уезде. Там Мешек – кум Лешка и Лешек – кум Мешка, Из тех, что не «ты» и не «я» – а «одно»! Настолько дружили, что даже орешка Они меж собою делили зерно. И так они дружбу хранили священную эту, Что – я утверждаю – такого содружества нету, Хоть ты обыщи до последней травинки планету! О дружбе своей, не бывалой нигде до сих пор, Однажды в дубраве они повели разговор. Вордны летали, кукушка вдали куковала, Как вдруг по соседству какая-то Тварь зарычала. И Лешек – на дуб! От опасности дальше как двинет! И, дятла проворней, он быстро бежит по суку, А Мешек беспомощный руки простер к нему: «Кум!» А кум-то уже на вершине. И Мешек еще не успел побледнеть, Как рядом уже очутился медведь, Он тело ощупал, потом обоняньем медвежьим Почувствовав запах, какой От страха бывает порой, Решил, что покойник пред ним и к тому же несвежий, И в чащу брезгливо ушел, продолжая реветь На тухлое мясо не падок литовский медведь. «Ах, Мешек, мой друг! Я так счастлив, что жив ты остался! С вершины кричит ему кум дорогой: Но что это он так упорно пыхтел над тобой, Как будто с тобою о чем-то шептался?» «Медвежью пословицу мне прошептал он – о том, Что только в беде настоящих друзей познаем!»1829
СВАТОВСТВО
Покамест пел я дочке дифирамбы, Мать слушала, а дядюшка читал. Но я шепнул: «Вот пожениться нам бы», Весь дом я, оказалось, взволновал. Мать говорит о душах, об именьях, А дядя – о доходах и чинах, Слугу служанка просит без стесненья Сказать, каков в амурных я делах. Мать! Дядюшка! Парнас – мое поместье. Душой владею я всего одной. Чины смогу в веках лишь приобресть я. Доход? Перо – вот весь достаток мой. Любовь? Нельзя ль, плутовка, без расспросов! О ней скажу тебе наедине, Когда ты, моего лакея бросив, Одна заглянешь вечерком ко мне.[1825]
СОМНЕНИЕ
Тебя не видя – в муках не терзаюсь, При встрече – не краснею, не теряюсь; Но если друг от друга мы далеко И грустно мне, и очень одиноко, И не могу я разрешить секрета: Любовь ли это? Дружество ли это? Вдали от глаз и от улыбок милых Я облик твой восстановить не в силах, И пусть усилья памяти напрасны, Он все же рядом, зыбкий, но прекрасный. И не могу решить я до рассвета: Любовь ли это? Дружество ли это? Я много пережил, но тем не мене Не мнил тебе открыться в горькой пени, Без цели идучи и не держась дороги, Как отыскал я милые пороги? И что вело меня? Не нахожу ответа: Любовь ли эта? Дружество ли это? Тебе отдам здоровье, если надо, За твой покой стерплю мученья ада; И не пустым я движим суесловьем, Себя сочтя покоем и здоровьем. Но что причина дерзкого обета: Любовь ли это? Дружество ли это? Коснусь ли я руки твоей украдкой, Забудусь ли в мечтательности сладкой, Едва решу, что так навеки будет А сердце вновь сомнения разбудит И у рассудка требуетсовета: Любовь ли это? Дружество ли это? Не диктовал мне этих шестистрочий Друг стихотворца – вещий дух пророчий; В толк не возьму: откуда на листочке Возникли рифмы, появились строчки? Что вдохновляло твоего поэта? Любовь ли это? Дружество ли это?[1825]
К Д. Д
Элегия
О, если б ты жила хоть день с душой моею… День целый! Нет, тебе дать мук таких не смею. Хотя бы только час… Счастливое созданье, Узнала б ты тогда, как тяжело страданье! В терзаньях мысль моя, бушует в чувствах буря; То гнев грозой встает, чело мое нахмуря, То мысли скорбные нахлынут вдруг волнами, То затуманятся глаза мои слезами. Виной мой гнев, что ты торопишь миг разлуки, Иль слишком я уныл, и ты боишься скуки. Не знаешь ты меня, мой образ страсть затмила, Но в глубине души есть все, что сердцу мило: Сокровища любви и преданности нежной, И грез, что золотят наш рок земной мятежный. Но ты не видишь их. Так в бурях урагана Не видно нам на дне сокровищ океана: Прекрасных раковин и дорогих жемчужин, Чтоб обнаружить их, свет яркий солнца нужен! О, если б я не знал в твоей любви сомненья, О, если б страх изгнать я мог хоть на мгновенье, Забыть, как от твоих измен мне было больно! О, был бы счастлив я, была б ты мной довольна! Как дух, волшебницы послушный заклинанью, Покорно б исполнял я все твои желанья. А если подданный, забыв, что он бесправен, Вдруг возомнит на миг, что госпоже он равен, О, смейся, милая! Хоть запрещает гордость Слугою быть твоим, – как проявлю я твердость? Я прикажу, чтоб ты мной дольше забавлялась, По вкусу моему порою одевалась, Прическу изменив, и средь хлопот домашних Нашла досуг и для признаний тех всегдашних, Что я в стихах пишу. Тебе б немного муки То стоило: лишь час один терпенья, скуки, Притворства полчаса, минуту лицемерья, Что ты моим стихам внимаешь, я поверю. И пусть твои глаза лгать будут, лицемерить, Я буду в них добро читать и лжи их верить. Тебе вручил бы я мою судьбу и долю, К твоим ногам сложил свой разум, чувства, волю. Воспоминанья все я скрыл бы, как в могиле, Чтоб в чувствах мы всегда одною жизнью жили. Тогда бы улеглось волненье дикой страсти, Сейчас я, как ладья, в ее стихийной власти, Она еще валы вздымает на просторе. Поплыли б тихо мы с тобой в житейском море. И если б снова рок волной грозил надменно, Тебе бы все ж я пел, всплывая, как сирена.[1825]
К Д. Д
Моя баловница, отдавшись веселью, Зальется, как птичка, серебряной трелью, Как птичка, начнет щебетать-лепетать, Так мило начнет лепетать-щебетать, Что даже дыханьем боюсь я нарушить Гармонию сладкую девственных слов, И целые дни, и всю жизнь я готов Красавицу слушать, и слушать, и слушать! Когда ж живость речи ей глазки зажжет И щеки сильнее румянить начнет, Когда при улыбке, сквозь алые губы, Как перлы в кораллах, блеснут ее зубы, О, в эти минуты я смело опять Гляжуся ей в очи – и жду поцелуя, И более слушать ее не хочу я, А все – целовать, целовать, целовать!Одесса, 1825
ДВА СЛОВА
Когда с тобой вдвоем сижу, Могу ль вопросы задавать: В глаза гляжу, уста слежу, Хочу я мысли прочитать, Пока в глазах не заблестели; Хочу слова твои поймать, Пока с губ алых не слетели. И вовсе пояснять не надо, Чего ждет слух и жаждут взгляды, Оно не сложно и не ново, О, милая, всего два слова: «Люблю тебя! Люблю тебя!» Когда продолжим жизнь на небе, Будь воля властна там моя, Всегда и всюду видеть мне бы Запечатленными сто раз В зрачках твоих прелестных глаз Все те ж слова: «Люблю тебя!» И слушать там хотел бы я Одну лишь песню, чтоб с рассвета До ночи ею упиваться: «Люблю тебя! Люблю тебя!» И чтоб звучала песня эта В мильонах нежных вариаций![1825]
СОН
Меня оставить все ж тебе придется, Но в этот час не обрекай на муки И, если в сердце верность остается, Не говори, прощаясь, о разлуке. Пусть в эту ночь пред сумрачным рассветом Блаженное мгновение промчится, Когда ж настанет время разлучиться, Вручи мне яд, прошу тебя об этом! Уста к устам приблизятся, а веки, Когда в них смерть заглянет, не сомкну я; И так блаженно я усну навеки, Твой видя взор, лицо твое целуя. И сколько лет спать буду так – не знаю… Когда ж велят с могилой распроститься. Ты, об уснувшем друге вспоминая, Сойдешь с небес, поможешь пробудиться! И, ощущая вновь прикосновенье Любимых рук, к груди твоей прильну я; Проснусь, подумав, что дремал мгновенье, Твой видя взор, лицо твое целуя!Одесса, 1825
РАЗГОВОР
К чему слова! Зачем, моя отрада, С тобою чувства разделить желая, Души я прямо в душу не вливаю, А на слова ей раздробиться надо? Остынет слово, – выветриться может, Покуда к слуху, к сердцу путь проложит! Влюблен я, ах, влюблен! – твержу тебе я, А ты грустишь, ты начала сердиться, Что выразить я толком не умею Своей любви, что не могу излиться, Я – в летаргии; не хватает силы Пошевелиться, избежать могилы. Уста мои от слов пустых устали; С твоими слить их я хочу. Хочу я, Чтоб вместо слов звучать отныне стали Биенье сердца, вздохи, поцелуи… И так бы длилось до скончанья света, И вслед за тем продолжилось бы это!Одесса, 1825
ЧАС
Элегия
Час назад не спускала ты глаз с циферблата, Подгоняла глазами ты стрелок движенье И, сквозь шум городской, нетерпеньем объята, Узнавала знакомых шагов приближенье. О, единственный час! И мне вспомнить отрадно, Что еще чье-то сердце ждало его жадно. Этот час – моя пытка. Душою плененной Я кружил вкруг него Иксион возрожденный. Час настал – мне казалось, я ждал его вечно. Час прошел – вспоминать я могу бесконечно. Столько милых подробностей вновь оживало: Как вошел, как беседа текла поначалу, Как срывалось порою неловкое слово; Вызвав ссору. Потом примирение снова. Опечалюсь – причину в глазах прочитаешь, Просьбы есть у меня – ты их предупреждаешь… Есть еще одна – взглянешь, не смею открыться… Лучше завтра… Иль вдруг начинаю сердиться Улыбнешься, и я безоружен. Порою Я прощенья прошу, преклонясь пред тобою. Слово каждое, взгляда любого намеки, Мимолетную ласку, надежды, упреки Мелочь каждую в сердце моем сохраняю, Вновь и вновь пред глазами ее вызываю, Как скупец над казной, по червонцу добытой, Смотрит, сохнет и не наглядится досыта. Этот час меж былым и грядущим граница, Им открыл и закончил я счастья страницы. В серой мгле моей жизни, в сплетенье событий Он блеснул золотою единственной нитью. Шелкопрядом крылатым в ту нить я вцепился, Вил и вил себе кокон и в нем затворился. Солнце круг свой свершило в обычную пору. Снова пробил тот час. Где теперь ее взоры? И о чем ее мысли? Быть может, в ладонях, Нежит руку чужую и голову клонит На чужое плечо, и с горячим волненьем Внемлет кто-то коварного сердца биеньям. Если б громом меня на пороге сразило, Разве это бы их хоть на миг разделило? Одиночество! Я от твоей благостыни Отвернулся в тот час, – так прими меня ныне! Как ребенок, приманкой на миг соблазненный, Возвращается к няне, иду, преклоненный. Будь ко мне благосклонно! Хоть счастье и манит, Хоть и трудно поверить, что снова обманет, Может быть, погашу я в себе это пламя: Я надеюсь на гордость и горькую память. О надежды! Теперь поискать бы покоя Средь полей и лесов или в шуме прибоя. Час прогулки настал. Что ж я медлю, бессильный? Слышу, скрипнула дверь. «Не с письмом ли посыльный?» Снова письма ее положу пред собою… То хватаю часы, посмотрю и закрою… То бегу… Побежал и застыл у порога… Был тотчас… И привычна былая тревога. Так, отдавши земле существо дорогое, Полный смертной тоски, с наболевшей душою, Человек вдруг забудет на долю мгновенья О потере своей. Так отрадно забвенье! Входит в дом… остановится, молча глазами Обведет все кругом и зальется слезами.[1825]
РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
Откуда эта горечь? Что со мной такое? Я снова возвращаюсь в стылые покои И одичалым взором, смутный и смятенный, Прощально озираю дружеские стены; Они глухою ночью и в часы рассвета Внимали терпеливо горестям поэта. Я подхожу к окошку, где стоял подолгу, Высматривая что-то тщетно и без толку, И отхожу, прискучив зрелищем проулка, И эхо в целом доме отдается гулко; Я двери отворяю и снова затворяю, И с маятником мерным шаги свои сверяю, И слышу – где-то шашель древесину точит; Видать, к своей подруге проточиться хочет. Утреет. Заждались настырные возницы. Что ж! Забирайте книги, вынесем вещицы. Пошли! Опальный странник, встречен без участья, Уеду восвояси без напутствий счастья. Пускай покину город, и пускай в тумане, К пришельцу безучастны, сгинут горожане. Пускай не огорчатся, всхлипнув простодушно, Мне, говоря по чести, слез ничьих не нужно. Так над раздольным лугом, золотым и щедрым, С увядшей ветки сорван нетерпеливым ветром, Цветок летит засохший, утлый и гонимый, И розы он коснется, пролетая мимо, И хочет вечно длить случайное свиданье, Но ветер засвистит и длит его скитанье: Так среди улиц шумных я, пришелец странный, Носил чужое имя, облик чужестранный; И многих дев прелестных занимал прохожий, На местных сердцеедов чем-то непохожий. Цветного мотылька поймают дети в поле И, наигравшись всласть, кричат: лети на волю! Летим же! коли перья сберегли для лёта: Летим! И поклянемся не снижать полета! Когда-то, покидая отчую округу, И молодых друзей, и пылкую подругу, Я словно бы летел на рысаках крылатых, Мелькали меж дерев платочки провожатых; Я плакал! Слезы льет порывистая младость; А нынче стар я стал, и плакать мне не в радость. Смерть молодым легка. Мы уповаем свято Остаться жить в сердцах невесты, друга, брата; Но лживый свет познав, живет старик согбенный И свой провидит гроб, покинутый и тленный, И знает, что надежду тешить нету нужды… Довольно! Мне пора! Простимся, город чуждый! И с богом! Кто задержит гробовые дроги? Их не проводит взглядом путник на дороге И, воротясь домой, слезинки не уронит, Услышав, как бубенчик в дальнем поле стонет.К ЛАУРЕ
Едва явилась ты – я был тобой пленен. Знакомый взор искал я в незнакомом взоре. Ты вспыхнула в ответ, – так, радуясь Авроре, Вдруг загорается раскрывшийся бутон. Едва запела ты – я был заворожен, И ширилась душа, забыв земное горе, Как будто ангел пел, и в голубом просторе Спасенье возвещал нам маятник времен. Не бойся, милая, открой мне сердце смело, Коль сердцу моему ответило оно. Пусть люди против нас, пусть небо так велело, И тайно, без надежд, любить мне суждено, Пускай другому жизнь отдаст тебя всецело, Душа твоя – с моей обручена давно.* * *
Я размышляю вслух, один бродя без цели, Среди людей – молчу иль путаю слова. Мне душно, тягостно, кружится голова. Все шепчутся кругом: здоров ли он, в уме ли? В терзаниях часы дневные пролетели. Но вот и ночь пришла вступить в свои права. Кидаюсь на постель, душа полумертва. Хочу забыться сном, но душно и в постели. И я, вскочив, бегу, в крови клокочет яд. Язвительная речь в уме моем готова. Тебя, жестокую, слова мои разят. Но увидал тебя – и на устах ни слова. Стою как каменный, спокойствием объят! А завтра вновь горю – и леденею снова.* * *
Как ты бесхитростна! Ни в речи, ни во взоре Нет фальши. Ты сердца влечешь не красотой, Но каждому милы твой голос, облик твой, Царицей ты глядишь в пастушеском уборе. Вчера текли часы в веселье, в песнях, в. споре, Твоих ровесниц был прелестен резвый рой. Один их восхвалял, и порицал другой. Но ты вошла – и все, как в храме, смолкло вскоре. Не так ли на балу, когда оркестр гремел И буйно все неслось и мчалось в шумном зале. Внезапно танца вихрь застыл и онемел, И стихла музыка, и гости замолчали, И лишь поэт сказал: «То ангел пролетел!» Его почтили все – не все его узнали.СВИДАНИЕ В ЛЕСУ
«Так поздно! Где ть был?» – «Я шел почти вслепую: Луна за тучами, и лес окутан тьмой. Ждала, скучала ты?» – «Неблагодарный мой! Я здесь давно – я жду, скучаю и тоскую!» «Дай руку мне, позволь, я ножку поцелую. Зачем ты вся дрожишь?» – «Мне страшно – мрак ночной, Шум ветра, крики сов… Ужели грех такой, Что мы с тобой вдвоем укрылись в глушь лесную?» «Взгляни в мои глаза, иль ты не веришь им? Но может ли порок быть смелым и прямым? И разве это грех – беседовать с любимым? Я так почтителен, так набожно смотрю И так молитвенно с тобою говорю, Как будто не с земным, а с божьим херувимом».* * *
Осудит нас Тартюф и осмеет Ловлас: Мы оба молоды, желанием томимы, И в этой комнате одни, никем не зримы, Но ты – в слезах, а я не поднимаю глаз. Гоню соблазны прочь, а ты, ты всякий раз Бряцаешь цепью той, что рок неумолимый Нести назначил нам, – и мы, судьбой гонимы, Не знаем, что в сердцах, что в помыслах у нас. Восторгом ли назвать иль мукой жребий мой? Твои объятия, твой поцелуй живой Ужель, о милая, могу назвать мученьем? Но если в час любви рыдаем мы с тобой И если каждый вздох предсмертным стал томленьем, Могу ли я назвать все это наслажденьем?УТРО И ВЕЧЕР
В венце багряных туч с востока солнце встало, Луна на западе печальна и бледна, Фиалка клонится, росой отягчена, А роза от зари румянцем запылала. И златокудрая Лаура мне предстала В окне, а я стоял, поникший, у окна. «Зачем вы все грустны – фиалка, и луна, И ты, возлюбленный?» – так мне она сказала. Я вечером пришел, едва ниспала мгла, Луна восходит ввысь, румяна и светла, Фиалка ожила от сумрака ночного. И ты, любимая, ты, нежная, в окне, Вдвойне прекрасная, теперь сияешь мне, А я у ног твоих тоскую молча снова.К НЕМАНУ
Где струи прежние, о Неман мой родной? Как в детстве я любил их зачерпнуть горстями! Как в юности любил, волнуемый мечтами, Ища покоя, плыть над зыбкой глубиной! Лаура, гордая своею красотой, Гляделась в их лазурь, увив чело цветами, И отражение возлюбленной слезами Так часто я мутил, безумец молодой! О Неман, где они, твои былые воды? Где беспокойные, но сладостные годы, Когда надежды все в груди моей цвели, Где пылкой юности восторги и обеты, Где вы, друзья мои, и ты, Лаура, где ты? Все, все прошло, как сон… лишь слезы не прошли. охотник Я слышал, у реки охотник молодой Вздыхал, остановись в раздумий глубоком: «Когда б, невидимый, я мог единым оком, Прощаясь навсегда с любимою страной, Увидеть милую!» Чу! Кто там за рекой? Его Диана? Да! Она в плаще широком Несется на коне – и стала над потоком, Но обернулась вдруг… глядит… Иль там другой? Охотник побледнел, дрожа, к стволу прижался, Глазами Каина смотрел и усмехался.. Забил заряд, – в лице и страх и торжество, Вновь опустил ружье, на миг заколебался, Увидел пыль вдали и вскинул – ждет его! Навел… все ближе пыль… и нет там никого.РЕЗИНЬЯЦИЯ
Несчастен, кто, любя, взаимности лишен, Несчастней те, чью грудь опустошенность гложет, Но всех несчастней тот, кто полюбить не может И в памяти хранит любви минувшей сон. О прошлом он грустит в кругу бесстыдных жен, И если чистая краса его встревожит, Он чувства мертвые у милых ног не сложит, К одеждам ангела не прикоснется он. И вере и любви равно далекий ныне, От смертной он бежит, не подойдет к богине, Как будто сам себе он приговор изрек. И сердце у него – как древний храм в пустыне, Где все разрушил дней неисчислимый бег, Где жить не хочет бог, не смеет – человек.К ***
Ты смотришь мне в глаза, страшись, дитя, их взгляда: То взгляд змеи, в нем смерть невинности твоей. Чтоб жизни не проклясть, беги, беги скорей, Пока не обожгло тебя дыханьем яда. Верь, одиночество – одна моя отрада, И лишь правдивость я сберег от юных дней, Так мне ль судьбу твою сплести с судьбой моей И сердце чистое обречь на муки ада! Нет, унизительно обманом брать дары! Ты лишь в преддверии девической поры, А я уже отцвел, страстями опаленный. Меня могила ждет, тебя зовут пиры… Обвей же, юный плющ, раскидистые клены, Пусть обнимает терн надгробные колонны!* * *
Впервые став рабом, клянусь, я рабству рад. Все мысли о тебе, но мыслям нет стесненья, Все сердце – для тебя, но сердцу нет мученья, Гляжу в глаза твои – и радостен мой взгляд. Не раз я счастьем звал часы пустых услад, Не раз обманут был игрой воображенья, Соблазном красоты иль словом оболыценья, Но после жребий свой я проклинал стократ. Я пережил любовь, казалось, неземную, Пылал и тосковал, лил слезы без конца. А ныне все прошло, не помню, не тоскую, Ты счастьем низошла в печальный мир певца. Хвала творцу, что мне послал любовь такую, Хвала возлюбленной, открывшей мне творца!* * *
Мне грустно, милая! Ужели ты должна Стыдиться прошлого и гнать воспоминанья? Ужель душа твоя за все свои страданья Опустошающей тоске обречена? Иль в том была твоя невольная вина, Что выдали тебя смущенных глаз признанья, Что мне доверила ты честь без колебанья И в стойкости своей была убеждена? Всегда одни, всегда ограждены стенами, С любовной жаждою, с безумными мечтами Боролись долго мы – но не хватило сил. Все алтари теперь я оболью слезами Не для того, чтоб грех создатель мне простил. Но чтобы мне твоим раскаяньем не мстил!ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
День добрый! Дремлешь ты, и дух двоится твой: Он здесь – в лице твоем, а там – в селеньях рая. Так солнце делится, близ тучи проплывая: Оно и здесь и там – за дымкой золотой. Но вот блеснул зрачок, еще от сна хмельной: Вздохнула, – как слепит голубизна дневная! А мухи на лицо садятся, докучая. День добрый! В окнах свет, и, видишь, я с тобой. Не с тем к возлюбленной спешил я, но не скрою: Внезапно оробел пред сонной красотою. Скажи, прогнал твой сон тревог вчерашних тень? День добрый! Протяни мне руку! Иль не стою? Велишь – и я уйду! Но свой наряд надень И выходи скорей. Услышишь: добрый день!СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
Спокойной ночи! Спи! Я расстаюсь с тобой. Пусть ангелы тебе навеют сновиденье. Спокойной ночи! Спи! Да обретешь забвенье! И сердцу скорбному желанный дашь покой. И пусть от каждого мгновения со мной Тебе запомнится хоть слово, хоть движенье, Чтоб, за чертой черту, в своем воображенье Меня ты вызвала из темноты ночной! Спокойной ночи! Дай в глаза твои взглянуть, В твое лицо… Нельзя? Ты слуг позвать готова? Спокойной ночи! Дай, я поцелую грудь! Увы, застегнута!.. О, не беги, два слова! Ты дверь захлопнула… Спокойной ночи снова! Сто раз шепчу я: «Спи», – чтоб не могла уснуть.ДОБРЫЙ ВЕЧЕР
О добрый вечер, ты обворожаешь нас! Ни пред разлукой, в миг прощания ночного, Ни в час, когда заря торопит к милой снова, Не умиляюсь я, как в тот прекрасный час, Когда на небесах последний луч погас, И ты, чта целый день таить свой жар готова, Лишь вспыхивая вдруг, не проронив ни слова, То вздохом говоришь, то блеском нежных глаз! День добрый, восходи, даруй нам свет небесный И людям озаряй их жизни труд совместный, Ночь добрая, укрыть любовников спеши, В их чаши лей бальзам забвения чудесный! Ты, добрый вечер, друг взволнованной души, Красноречивый взор влюбленных притуши!К Д. Д
визит
Едва я к ней войду, подсяду к ней – звонок! Стучится в дверь лакей, – неужто визитеры? Да, это гость, и вбт – поклоны, разговоры… Ушел, но черт несет другого на порог! Капканы бы для них расставить вдоль дорог, Нарыть бы волчьих ям, – бессильны все затворы! Ужель нельзя спастись от их проклятой своры? О, если б я удрать на край вселенной мог! Докучливый глупец! Мне дорог каждый миг, А он, он все сидит и чешет свой язык… Но вот он привстает… ух, даже сердце бьется! Вот встал, вот натянул перчатку наконец, Вот шляпу взял… ура! уходит!.. О творец! Погибли все мечты: он сел, он остается!ВИЗИТЕРАМ
Чтоб милым гостем быть, послушай мой совет: Не вваливайся в дом с непрошенным докладом О том, что знают все: что хлеб побило градом, Что в Греции – мятеж, а где-то был банкет. И если ты застал приятный tete-a-tete, Заметь, как встречен ты: улыбкой, хмурым взглядом, И как сидят они, поодаль или рядом, Не смущены ль они, в порядке ль туалет. И если видишь ты: прелестнейшая панна, Хоть вовсе не смешно, смеется непрестанно, А кавалер молчит, скривив улыбкой рот, То взглянет на часы, то ерзать вдруг начнет, Так слушай мой совет: откланяйся нежданно! И знаешь ли, когда прийти к ним? Через год!ПРОЩАНИЕ
К Д. Д.
Ты гонишь? Иль потух сердечный пламень твой? Его и не было. Иль нравственность виною? Но ты с другим. Иль я бесплатных ласк не стою? Но я ведь не платил, когда я был с тобой! Червонцев не дарил я щедрою рукой, Но ласки покупал безмерною ценою. Ведь я сказал «прости» и счастью и покою, Я душу отдавал – за что ж удар такой? Теперь я понял все! Ты в жажде мадригала И сердцем любящим, и совестью играла. Нет, музу не купить! Мечтал я, чтоб венком Тебя парнасская богиня увенчала, Но с каждой рифмы я скользил в пути крутом, И стих мой каменел при имени твоем.ДАНАИДЫ
Где золотой тот век, не ведавший печали, Когда дарили вы, красавицы, привет За праздничный наряд, за полевой букет И сватом голубя юнцы к вам засылали? Теперь дешевый век, но дороги вы стали. Той золото даешь – ей песню пой, поэт! Той сердце ты сулишь – предложит брак в ответ! А та богатства ждет – и что ей в мадригале! Вам, данаиды, вам, о ненасытный род, Я в песнях изливал всю боль, что сердце жжет, Все горести души, алкающей в пустыне, И пусть опять пою в честь ваших глаз и губ, Я, нежный, колким стал, я, щедрый, ныне скуп. Все отдавал я встарь, – все, кроме сердца, ныне.ИЗВИНЕНИЕ
В толпе ровесников я пел любовь, бывало; В одном встречал восторг, укор и смех в другом: «Всегда любовь, тоска, ты вечно о своем! Чтобы поэтом стать – подобных бредней мало. Ты разумом созрел, и старше сердце стало, Так что ж оно горит младенческим огнем? Ужель ты вдохновлен высоким божеством, Чтоб сердце лишь себя всечасно воспевало?» Был справедлив упрек! И вслед Урсыну я, Алкея лиру взяв, высоким древним строем Тотчас запел хвалу прославленным героям, Но разбежались тут и лучшие друзья. Тогда, рассвирепев, я лиру бросил в Лету: Каков ты, слушатель, таким и быть поэту!Урсын – второе имя Юлиана Немцевича.
Алкей – прославленный греческий лирик, уроженец Митилены, который жил около 604 г. до рождества Христова.
Лета – река забвения в Элизиуме, из которой пили души умерших, чтобы забыть пережитые на земле страдания; когда, по истечении нескольких веков, они воплощались в иные тела, они снова должны были пить из нее, чтобы изгладить из памяти тайнь потустороннего мира. (Мифология.)
КРЫМСКИЕ СОНЕТЫ
Wer den Dichter will verstehen,
Muss in Dichter's Lande gehen.
Goethe
[Кто хочет поэта постичь,
Должен отправиться в сторону поэта.
Гете (нем.)]
Спутникам путешествия по Крыму.
АвторI
АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
Выходим на простор степного океана. Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод, Меж заводей цветов, в волнах травы плывет, Минуя острова багряного бурьяна. Темнеет. Впереди – ни шляха, ни кургана. Жду путеводных звезд, гляжу на небосвод… Вон блещет облако, а в нем звезда встает: То за стальным Днестром маяк у Аккермана. Как тихо! Постоим. Далеко в стороне Я слышу журавлей в незримой вышине, Внемлю, как мотылек в траве цветы колышет, Как где-то скользкий уж, шурша, в бурьян ползет. Так ухо звука ждет, что можно бы расслышать И зов с Литвы… Но в путь! Никто не позовет.II
ШТИЛЬ НА ВЫСОТЕ ТАРКАНКУТ
Едва трепещет флаг. В полуденной истоме, Как перси юные, колышется волна. Так дева томная, счастливых грез полна, Проснется, и вздохнет, и вновь отдастся дреме. Подобно стягам в час, когда окончен бой, Уснули паруса, шумевшие недавно. Корабль, как на цепях, стоит, качаясь плавно. Смеются путники. Зевает рулевой. О море! Меж твоих веселых чуд подводных Живет полип. Он спит при шуме бурь холодных, Но щупальца спешит расправить в тишине. О мысль! В тебе живет змея воспоминаний. Недвижно спит она под бурями страданий, Но в безмятежный день терзает сердце мне.III
ПЛАВАНИЕ
Гремит! Как чудища, снуют валы кругом. Команда, по местам! Вот вахтенный промчался, По лесенке взлетел, на реях закачался И, как в сетях, повис гигантским пауком. Шторм! Шторм! Корабль трещит. Он бешеным рывком Метнулся, прянул вверх, сквозь пенный шквал прорвался, Расшиб валы, нырнул, на крутизну взобрался, За крылья ловит вихрь, таранит тучи лбом. Я криком радостным приветствую движенье. Косматым парусом взвилось воображенье. О счастье! Дух летит вослед мечте моей. И кораблю на грудь я падаю, и мнится: Мою почуяв грудь, он полетел быстрей. Я весел! Я могуч! Я волен! Я – как птица!IV
БУРЯ
В лохмотьях паруса, рев бури, свист и мгла… Руль сломан, мачты треск, зловещий хрип насосов. Вот вырвало канат последний у матросов. Закат в крови померк, надежда умерла. Трубит победу шторм! По водяным горам, В кипящем хаосе, в дожде и вихре пены, Как воин, рвущийся на вражеские стены, Идет на судно смерть, и нет защиты нам. Те падают без чувств, а те ломают руки, Друзья прощаются в предчувствии разлуки. Обняв свое дитя, молитвы шепчет мать. Один на корабле к спасенью не стремится. Он мыслит: счастлив тот, кому дано молиться, Иль быть бесчувственным, иль друга обнимать!V
ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА ПИЛИГРИМ И МИРЗА
Пилигрим Аллах ли там воздвиг гранитную громаду, Престол для ангелов из мерзлых туч сковал? Иль дивы из камней нагромоздили вал И караванам туч поставили преграду? Какой там свет! Пожар? Конец ли Цареграду? Иль в час, когда на дол вечерний сумрак пал, Чтоб рой ночных светил в потемках не блуждал, Средь моря вечности аллах зажег лампаду? Мирза Там побывал я… Там – гнездо зимы седой, Истоки родников и быстрых рек начало; Из уст моих не пар, но снег валил густой; Где нет пути орлам, моя нога ступала; Шли тучи подо мной, а в них гроза дремала, И лишь одна звезда горела над чалмой. Там Чатырдаг! П ил и гр и м О-о!VI
БАХЧИСАРАЙ
Безлюден пышный дом, где грозный жил Гирей. Трон славы, храм любви – дворы, ступени, входы, Что подметали лбом паши в былые годы, Теперь гнездилище лишь саранчи да змей. В чертоги вторгшийся сквозь окна галерей, Захватывает плющ, карабкаясь на своды, Творенья рук людских во имя прав природы, Как Валтасаров перст, он чертит надпись: «Тлей!» Не молкнет лишь фонтан в печальном запустенье Фонтан гаремных жен, свидетель лучших лет, Он тихо слезы льет, оплакивая тленье: О слава! Власть! Любовь! О торжество побед! Вам суждены века, а мне одно мгновенье. Но длятся дни мои, а вас – пропал и след.VII
БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ
Молитва кончена, и опустел джамид, Вдали растаяла мелодия призыва; Зари вечерней лик порозовел стыдливо; Златой король ночей к возлюбленной спешит. Светильниками звезд гарем небес расшит; Меж ними облачко плывет неторопливо, Как лебедь, дремлющий на синеве залива, Крутая грудь бела, крыло как жар горит. Здесь минарета тень, там – тень от кипариса, Поодаль глыбы скал уселись под горой, Как будто дьяволы сошлись на суд Эвлиса Под покрывалом тьмы. А с их вершин порой Слетает молния и с быстротой фариса Летит в безмолвие пустыни голубой.VIII
ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ
Ты в сказочном саду, в краю весны увяла. О роза юная! Часов счастливых рой Бесследно пролетел, мелькнул перед тобой, Но в сердце погрузил воспоминаний жала. Откуда столько звезд во мраке засверкало, Вот там, на севере, над польской стороной? Иль твой горящий взор, летя к земле родной, Рассыпал угольки, когда ты угасала? Дочь Польши! Так и я умру в чужой стране. О, если б и меня с тобой похоронили! Пройдут здесь странники, как прежде проходили, И я родную речь услышу в полусне, И, может быть, поэт, придя к твоей могиле, Заметит рядом холм и вспомнит обо мне.IX
МОГИЛЫ ГАРЕМА МИРЗА – ПИЛИГРИМУ
До срока срезал их в саду любви аллах, Не дав плодам созреть до красоты осенней. Гарема перлы спят не в море наслаждений, Но в раковинах тьмы и вечности – в гробах. Забвенья пеленой покрыло время прах; Над плитами – чалма, как знамя войска теней; И начертал гяур для новых поколений Усопших имена на гробовых камнях. От глаз неверного стеной ревнивой скрыты, У этих светлых струй, где не ступал порок, О розы райские, вы отцвели, забыты. Пришельцем осквернен могильный ваш порог, Но он один в слезах глядел на эти плиты, И я впустил его – прости меня, пророк!X
БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА
Скачу, как бешеный, на бешеном коне; Долины, скалы, лес мелькают предо мною, Сменяясь, как волна в потоке за волною… Тем вихрем образов упиться – любо мне! Но обессилел конь. На землю тихо льется Таинственная мгла с темнеющих небес, А пред усталыми очами все несется Тот вихорь образов – долины, скалы, лес… Все спит, не спится мне – и к морю я сбегаю; Вот с шумом черный вал подходит; жадно я К нему склоняюся и руки простираю… Всплеснул, закрылся он; хаос повлек меня И я, как в бездне челн крутимый, ожидаю, Что вкусит хоть на миг забвенья мысль моя.XI
АЛУШТА ДНЕМ
Пред солнцем – гребень гор снимает свой покров; Спешит свершить намаз свой нива золотая. И шелохнулся лес, с кудрей своих роняя, Как с ханских четок, дождь камней и жемчугов; Долина вся в цветах. Над этими цветами Рой пестрых бабочек – цветов летучих рой Что полог, зыблется алмазными волнами; А выше – саранча вздымает завес свой. Над бездною морской стоит скала нагая. Бурун к ногам ее летит и, раздробись И пеною, как тигр глазами, весь сверкая, Уходит с мыслию нагрянуть в тот же час; Но море синее спокойно – чайки реют, Гуляют лебеди, и корабли белеют.XII
АЛУШТА НОЧЬЮ
Повеял ветерок, прохладою лаская. Светильник мира пал с небес на Чатырдах, Разбился, расточил багрянец на скалах. И гаснет. Тьма растет, молчанием пугая. Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая, Как будто в полусне журчат ручьи впотьмах; Ночная песнь цветов – дыханье роз в садах Беззвучной музыкой плывет, благоухая. Дремлю под темными крылами тишины. Вдруг метеор блеснул – и, ослепляя взоры, Потопом золота залил леса и горы. Ночь! одалиска-ночь! Ты навеваешь сны, Ты гасишь лаской страсть, но лишь она утихнет Твой искрометный взор тотчас же снова вспыхнет!ХIII
ЧАТЫРДАГ
Мирза Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни, Великий Чатырдаг, могучий хан Яйлы. О мачта крымских гор! О минарет аллы! До туч вознесся ты в лазурные пустыни И там стоишь один, у врат надзвездных стран, Как грозный Гавриил у врат святого рая. Зеленый лес – твой плащ, а тучи – твой тюрбан, И молнии на нем узоры ткут, блистая. Печет ли солнце нас, плывет ли мгла, как дым, Летит ли саранча, иль жжет гяур селенья, Ты, Чатырдаг, всегда и нем и недвижим. Бесстрастный драгоман всемирного творенья, Поправ весь дольный мир подножием своим, Ты внемлешь лишь творца предвечные веленья!XIV
ПИЛИГРИМ
У ног моих лежит волшебная страна, Страна обилия, гостеприимства, мира. Но тянется душа, безрадостна и сира, В далекие края, в былые времена. Литва! В твой темный лес уносится она От соловьев Байдар, от смуглых дев Салгира. Мне ближе зелень мхов, чем в небе цвет сапфира, Чем апельсинных рощ багрец и желтизна. Оторван от всего, что мне навеки свято, Средь этой красоты я вновь грущу о ней, О той, кого любил на утре милых дней. Она в родном краю, куда мне нет возврата, Там все кругом хранит печать любви моей. Но помнит ли она? Тяжка ли ей утрата?XV
ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ В ЧУ ФУТ-КАЛЕ
Мирза Молись! Поводья кинь! Смотри на лес, на тучи, Но не в провал! Здесь конь разумней седока. Он глазом крутизну измерил для прыжка, И стал, и пробует копытом склон сыпучий. Вот прыгнул. Не гляди! Во тьму потянет с кручи! Как древний Аль-Кайр, тут бездна глубока. И рук не простирай – ведь не крыло рука. И мысли трепетной не шли в тот мрак дремучий. Как якорь, мысль твоя стремглав пойдет ко дну, Но дна не досягнет, и хаос довременный Поглотит якорь твой и челн затянет вслед. Пилигрим А я глядел, Мирза! Но лишь гробам шепну, Что различил мой взор сквозь трещину вселенной. На языке живых – и слов подобных нет.XVI
ГОРА КИКИНЕИЗ
МИРЗА Ты видишь небеса внизу, на дне провала? То море. Присмотрись: на грудь его скала Иль птица, сбитая перунами, легла И крылья радугой стоцветной разметала? Иль это риф плывет в оправе из опала? Не риф, но туча там. Она, как ночи мгла, Полмира тенью крыл огромных облекла. А вот и молния. Видал, как засверкала? Но конь твой пятится – тут пропасть, осади! Пусть он, как мой скакун, возьмет ее с размаха! Я прыгаю! Сперва исчезну, но следи: Мелькнет моя чалма – ударь коня без страха И, шпоры дав, лети, лишь призови аллаха! А не мелькнет – вернись: тут людям нет пути!XVII
РАЗВАЛИНЫ ЗАМКА В БАЛАКЛАВЕ
Обломки крепости, чья древняя громада, Неблагодарный Крым! твой охраняла сон. Гигантским черепом торчащий бастион, Где ныне гад живет и люди хуже гада. Всхожу по лестнице. Тут высилась аркада. Вот надпись. Может быть, герой здесь погребен? Но имя, бывшее грозой земных племен, Как червь, окутано листами винограда. Где италийский меч монголам дал отпор, Где греки свой глагол на стенах начертали, Где путь на Мекку шел и где намаз читали, Там крылья черный гриф над кладбищем простер, Как черную хоругвь, безмолвный знак печали, Над мертвым городом, где был недавно мор.XVIII
АЮДАГ
Мне любо, Аюдаг, следить с твоих камней, Как черный вал идет, клубясь и нарастая, Обрушится, вскипит и, серебром блистая, Рассыплет крупный дождь из радужных огней. Как набежит второй, хлестнет еще сильней, И волны от него, как рыб огромных стая, Захватят мель и вновь откатятся до края, Оставив гальку, перл или коралл на ней. Не так ли, юный бард, любовь грозой летучей Ворвется в грудь твою, закроет небо тучей, Но лиру ты берешь – и вновь лазурь светла. Не омрачив твой мир, гроза отбушевала, И только песни нам останутся от шквала Венец бессмертия для твоего чела.ОБЪЯСНЕНИЯ
АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ Минуя острова багряного бурьяна. – На Украине и побережье бурьяном называют великорослые кусты, которые летом покрываются цветами и приятно выделяются на степном фоне. ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА Дивы – по древней персидской мифологии, злые гении, некогда царствовавшие на земле, потом изгнанные ангелами и ныне живущие на краю света, за горою Каф. Какой там свет! Пожар?.. – Вершина Чатырдага после заката солнца благодаря отражающимся лучам в течение некоторого времени представляется как бы охваченной пламенем. Чатырдаг – самая высокая вершина в цепи Крымских гор на южном берегу; она открывается взору издалека, верст за двести с разных сторон, в виде исполинского облака синеватого цвета. БАХЧИСАРАЙ Бахчисарай. – В долине, окруженной со всех сторон горами лежит город Бахчисарай, некогда столица Гиреев, ханов крымских. Как Валтасаров перст, он чертит надпись: «Тлей!» – «В то час изыдоша персты руки человечи и писаху противу лампады на покоплении стены дому царства, и царь (Валтасар) видяше персты руки пишущие». Пророчество Даниила, V, 5, 25, 26, 27, 28. БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ Молитва кончена, и опустел джамид,//Вдали растаяла мелодия призыва… – Меджид, или джамид, – обыкновенная мечеть. Снаружи, по углам ее, возвышаются тонкие стрельчатые башенки, называемые минаретами (менаре); на половине своей высоты они обведены галереею (шурфе), с которой муэдзины, или глашатаи, созывают народ к молитве. Этот напевный призыв с галереи называется изаном. Пять раз в день, в определенные часы, изан слышится со всех минаретов, и чистый и звучный голос муэдзинов приятно разносится по городам мусульманским, в которых благодаря отсутствию колесных экипажей царствует необычайная тишина (Сенковский. Collectanea, т. I, с. 66). Как будто дьяволы сошлись на суд Эвлиса… – Эвлис, или Иблис, или Гаразель – это Люцифер у магометан. …с быстротой фариса… – Фарис рыцарь у арабов-бедуинов. ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ Недалеко от дворца ханов возвышается могила, устроенная в восточном вкусе, с круглым куполом. Есть в Крыму народное предание, что памятник этот был поставлен Керим-Гиреем невольнице, которую он страстно любил. Говорят, что эта невольницы была полька, из рода Потоцких. Автор прекрасно и с эрудицией написанной книги «Путешествие по Тавриде», Муравьев – Апостол, полагает, что предание неосновательно и что могила хранит останки какой-то грузинки. Не знаем, на чем он основывает свое мнение, ибо утверждение его, что татарам в половине XVIII столетия нелегко было бы захватить невольницу из рода Потоцких, неубедительно. Известны последние волнения казаков на Украине, когда немалое число народа было уведено и продано соседним татарам. В Польше много шляхетских семейств, носящих фамилию Потоцких, и невольница могла и не принадлежать к знаменитому роду владетелей Умани, которая была менее доступна для татар и казаков. На основе народного предания о бахчисарайской могиле русский поэт Александр Пушкин с присущим ему талантом написал поэму «Бахчисарайский фонтан». МОГИЛЫ ГАРЕМА В роскошном саду, среди стройных тополей и шелковичных деревьев, находятся беломраморные гробницы ханов и султанов, их жен и родственников; в двух расположенных поблизости зданиях свалены в беспорядке гробы; они были некогда богато обиты, ныне торчат голые доски и видны лоскутья материи. Над плитами – чалма, как знамя войска теней… – Мусульмане ставят над могилами мужчин и женщин каменные чалмы различной формы для тех и других. И начертал гяур для новых поколений… – Гяур, точнее киафир, значит «неверный». Так мусульмане называют христиан. БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА Прекрасная долина, через которую обычно въезжают на Южный берег Крыма. АЛУШТА ДНЕМ Алушта – одно из восхитительнейших мест Крыма; туда северные ветры никогда не доходят, и путешественник часто в ноябре должен искать прохлады под тенью огромных грецких орехов, еще зеленых. Спешит свершить намаз свой нива золотая… – Намаз – мусульманская молитва, которую совершают сидя и кладя поклоны. Как с ханских четок, дождь камней и жемчугов… – Мусульмане употребляют во время молитвы четки, которые у знатных людей бывают из драгоценных камней. Гранатовые и шелковичные деревья, алеющие прелестными плодами, – обычное явление на всем Южном берегу Крыма. ЧАТЫРДАГ …могучий хан… (падишах) – титул турецкого султана. Как грозный Гавриил у врат святого рая. – Оставляю имя Гавриила как общеизвестное, но собственно стражем неба, по восточной мифологии, является Рамег (созвездие Арктура), одна из двух больших звезд, называемых Ассемекеин. ПИЛИГРИМ …от смуглых дев Салгира – Салгир – река в Крыму, берущая начало у подножья Чатырдага. ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ ЧУФУТ-КАЛЕ Чуфут-Кале – городок на высокой скале; дома, стоящие на краю, подобны гнездам ласточек; тропинка, ведущая на гору, весьма трудна и висит над бездною. В самом городе стены домов почти сливаются с краем скалы; взор, брошенный из окон, теряется в неизмеримой глубине. …Здесь конь разумней седока. – Крымский конь при трудных и опасных переправах, кажется, проявляет особый инстинкт осторожности и уверенности. Прежде нежели сделать шаг, он, держа ногу в воздухе, ищет камня и испытывает, можно ли ступить безопасно и утвердиться. ГОРА КИКИНЕИЗ То море. Присмотрись: на грудь его скала/Иль птица, сбитая перунами, легла… – Известная из «Тысячи и одной ночи», прославленная в персидской мифологии и многократно восточными поэтами описанная птица Симург. «Она велика, – говорит Фирдоуси в «Шах-намэ», – как гора; сильна – как крепость; слона уносит в своих когтях…» И далее: «Увидев рыцарей, Симург сорвался как туча, бросая тень на войска всадников». Смотри Г а м м е р a. Geschichte der Redekunste Persiens. Wien, 1818, x. 65. He риф, но туча там. – Если с вершины гор, вознесенных под облака, взглянуть на тучи, плавающие над морем, кажется, что они лежат на воде в виде больших белых островов. Я наблю дал это любопытное явление с Чатырдага. РАЗВАЛИНЫ ЗАМКА В БАЛАКЛАВЕ Над заливом того же названия стоят руины замка, построенного некогда греками, выходцами из Милета. Позднее генуэзцы возвели на этом месте крепость Цембало. Веселые вчера простились мы с тобой:
Своей назвал тебя. И, словно окрыленный,
Я ныне шел к тебе, счастливый и влюбленный.
Услышать милый смех, увидеть взор живой.
Но отведенный взгляд, но вздох невольный твой
Укором отдались в моей груди стесненной,
И я не оскорбил невинности смущенной,
Я был почтителен к стыдливости немой.
Стыдливость и печаль для милой – украшенье,
Но если совести жестокое смятенье
Под ними кроется, твою терзая грудь,
На что твоя печаль, твой стыд мне, дорогая,
Не огорчай меня, краснея и вздыхая,
Несовершенною, зато счастливой будь!
[1825–1826]
* * *
Где, синих глаз твоих озарены огнем, Небесные цветы взошли в былые лета, Потом цветы я рвал для твоего букета, Но горькая полынь уже таилась в нем. Когда бурьян и терн покрыли все кругом, Ужель средь них цветок увянет до расцвета? Прими теперь букет, хоть скудный, от поэта На память о земле, сродйившей нас в былом. Ах, сердце, отстрадав, как этот луг, увяло. Огнем прекрасных чувств оно тебя питало, Когда я молод был и был тобой любим. Хоть по своей вине оно преступным стало, Хоть много мучилось, принадлежа другим, Не презирай его – ведь ты владела им.[1825–1826]
ЯСТРЕБ
Несчастный ястреб! Здесь, под чуждым Зодиаком, Заброшен бурею вдаль от родных дубрав, Упал на палубу и, крылья распластав, Весь мокрый, на людей глядит померкшим зраком. Но не грозит ему безбожная рука, Он в безопасности, как на вершине дуба. Он гость, Джованна, гость, а гостя встретить грубо, То значит – бури гнев навлечь на моряка. Так вспомни, обозри весь путь, судьбой нам данный; По морю жизни ты средь хищников плыла, Я в бурях утомлял намокшие крыла. Оставь же милых слов, пустых надежд обманы, В опасности сама, не ставь другим капканы[1825–1826]
* * *
Ответь, Поэзия! Где кисть твоя живая? Хочу писать, но жар и сердца и ума Так слаб, как будто ритм и звук – его тюрьма, Где сквозь решетку мысль не узнаешь, читая. Поэзия! Где страсть, где мощь твоя былая? Пою, но для кого? Но где она сама? Так внемлет соловью душистой ночи тьма, А под землей, один, бежит ручей, рыдая. Не только ангелы сознанья – звук и цвет, Но и перо – наш друг, невольник и рабочий, Здесь, на чужой земле, не знает прав поэта. Он чертит знаков сеть, но песни новой нет, Им новой музыкой не зазвучать средь ночи, Его возлюбленной не будет песня спета.[1825–1826]
ДОКТОРУ С, ПРЕДПРИНИМАЮЩЕМУ НАУЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В АЗИЮ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Жрец Эскулапа ты, язычник ты заклятый, Чтоб твоего божка признали азиаты, Вступаешь, не страшась, со смертью в поединок, Покинувши сердца тоскующих литвинок, Ты не умрешь с тоски: и Средь чужого края Тебе, как друг, близка любая тварь земная, И узнаёшь, взглянув в высь неба голубого, Как подданных король, ты жителя любого. И сразу скажешь ты, откуда эта птица И сколько лет еще ей над землей носиться. Тебя не устрашит морей прибой бурливый, В их глубину влечет тебя твой дух пытливый. Ты спустишься туда, где под волнами скрыты Растенья водные, питомцы Амфитриты. Причудлив облик их, как сновиденье, сказка, И, как у радуги, изменчива окраска. Звезда морская там дно моря освещает, Об Аристотеле фонарь напоминает, Ладья с живым веслом скользит в стеклянной зыби, Мечами острыми сражаются там рыбы. Немало там чудес, однако пилигрима Подстерегает смерть на дне неуловимо. Оставим царства рыб, подводные темницы, На суше много тайн для разума таится! Волшебник, превратишь ты, палочку взяв в руки, И астраханские пески в исток науки. Раздвинем горы мы, чтоб в кузнице природы Найти сокровища и рудные породы. Не драгоценности, в которых много блеска, Ценю открытия, значенье коих веско, И я готов уйти от россыпи лучистой К геодам, запертым на ключ из аметиста. Ты знаешь, как они в земном возникли чреве? Когда наш праотец в раю вздохнул о Еве, То этот вздох любви невинной, первородной Был заключен землей в сей камень благородный. Нам иудейские о том вещают знаки, Которые архив земли хранит во мраке. Гумбольдт ключи тебе даст к этим алфавитам, Биографом земли ты станешь знаменитым. Пугает летопись земная свитком длинным, Года земли сочтешь ты по пластам, морщинам. А если в чем пробел загадочный случится, Ты мамонта о том спроси, как очевидца. «Боянус!» – крикнешь ты, будя земные недра. Покинет ложе он из каменного кедра, Протрет глаза, и пасть раскроет, и ответит, Расскажет, как текла, жизнь сорока столетий. Как мир, она стара, как чудо, неизвестна, Правдива, словно счет, и, как мечта, чудесна! Прощай! Витай в былом средь сгинувших величий И матери-земле напомни век девичий. А я на путь иной вступить надеюсь скоро: О будущем завел я с небом разговоры. На звезды поглядел как астролог, пытливо, Увидел странствий всех моих конец счастливый. Тогда, свой пыльный лоб от зноя освежая, Разбавим неманской струей вино Токая, Чтоб мудрым королем науки величали Того, кто первый дно исследует в бокале. Тогда враги добра и разума все сгинут, Тогда вернувшихся друзья опять обнимут, Чтоб мы о тяжких днях разлуки и печали, Как о делах давно минувших, вспоминали![1827]
НА ГРЕЧЕСКУЮ КОМНАТУ В ДОМЕ КНЯГИНИ ЗИНАИДЫ ВОЛКОНСКОЙ В МОСКВЕ
Я следовал во мгле по черному эбену За звездоокою в хитоне белотканом. Где я? За Летою? Иль мумией нетленной, Мощами городов лежит здесь Геркуланум? О нет! Весь древний мир восстал здесь из былого По слову Красоты, хоть и не ожил снова. Мир мозаичный весь! В нем каждая частица Величья памятник, искусство в ней таится. Тут не решаешься на камень ставить ногу Глядит с него лицо языческого бога: Стыдясь за свой позор, гневливо он взирает На тех, кто древнее величье попирает, И снова прячется во мраморное лоно, Откуда был добыт резцом во время оно. Вот усыпальницы, ваятелей творенья, Должны бы прах царей хранить от оскорбленья, Но сами выглядят, как прах непогребенный. Вот снятая глава неведомой колонны Вся искалечена, среди своей же пыли, Валяется теперь, как череп на могиле. А вот и обелиск, пришлец из Мицраима, Едва он держится, так стар; но ясно зримы На нем загадочного вида начертанья: То древних сфинксов речь, лишенная звучанья. Глубокий смысл таят иероглифы эти! Сном летаргическим здесь спит тысячелетья Мысль, в бальзамическое ввергнутая ложе, Как мумия, цела, но не воскресла все же! Но, смертный, не одни творения людские Зуб времени берет, – крошит он грудь стихии; Вот брошен на песок осколок самоцвета: Как солнце, самоцвет сверкал в былые лета, Покуда весь свой блеск он наконец не вылил И, как погасшая звезда, не обессилел. Цела среди руин лишь статуя Сатурна Да около нее коринфской бронзы урна, Проснулась искра в ней, живет, не угасает. Эллады гений там, быть может, воскресает? Он поднял голову и вот, сверкнув очами, На крыльях радужных летит венчать лучами И дремлющих богинь, и олимпийцев лица, И твой прелестный лик, о нимфа-проводница. О, пусть все боги спят в стране воспоминаний Своими бронзовыми, мраморными снами, Тебя б лишь пробудил, о нимфа-проводница, Тот, самый юный, бог, что и поныне чтится. Но он на виноград сменил Венеры лоно И перси алые посасывает сонно. Великий грех, коль мы без жертв божка оставим! О нимфа чудная! Мы набожность проявим! Нет, смотрит свысока прелестнейшее око! И жезл Меркурия не бил бы столь жестоко! Надежды рушились. Безжалостно и строго Душе в краю блаженств сказали: «Прочь с порога!» В мир смертных я вернусь о чем оповещая? Ах, расскажу, что был на полдороге к раю. Душа, полускорбя, уж полуликовала, И райская мне речь вполголоса звучала Сквозь райский полусвет в смешенье с полутенью, И получил, увы, я только полспасенья!Москва, 1827
МОЕЙ ПРИЯТЕЛЬНИЦЕ
О, если б небеса мне подарили крылья, Что рвутся в вышину, как дух мятежный мой, Все ветры б одолел, без устали парил я И долетел туда, где взор сияет твой. Потом готов навек я превратиться в птицу, Чтоб крылья подостлать ковром к твоим ногам, Когда уж не смогу я в небо возноситься, Покорствуя любви и времени богам. Заступница моя в дни горя и печали, Вознагради за то, что я в разлуке чах: Подумай – небеса твоим молитвам вняли, И радость пусть сверкнет огнем в твоих глазах. О, если претерпеть свои я мог мученья И боль перенести чужих сумел я мук, Тебе обязан я. С тех пор мое стремленье Жить, чтоб тебя за то благодарить, мой друг. О легкомысленный! Ужель земным даяньем Тебя, небесную, могу вознаградить? Ты на уста мои кладешь печать молчанья, И должен чувства я в душе своей таить. Но в небе знают всё, как люди б ни скрывали, И там ведется счет всем подвигам твоим: Пером из хрусталя на каменной скрижали Записывает их вседневно херувим.[1827]
НЕЗНАКОМОЙ СЕСТРЕ МОЕЙ ПРИЯТЕЛЬНИЦЫ
Когда судьбы жестокий приговор Порой друзей навеки разлучает, Звезду избрав, к ней устремляют взор, Она сердца их вновь соединяет, И, нимбом той звезды обручены, Они былые вспоминают сны. Но есть звезда милей светил небесных, Роднит людей, друг другу неизвестных. Пока она блестит на нашем небе, Взгляд, обращенный к ней, и мне дари. Когда ж тебе ее закинет жребий, Глядеть на вас я буду до зари. О, если было б суждено судьбою Ее нам вечно видеть пред собою![1 октября 1827 г. Москва]
ВОЕВОДА
Поздно ночью из похода Воротился воевода. Он слугам велит молчать; В спальню кинулся к постеле; Дернул полог… В самом деле! Никого; пуста кровать. И, мрачнее черной ночи, Он потупил грозны очи. Стал крутить свой сивый ус… Рукава назад закинул, Вышел вон, замок задвинул; «Гей, ты, – кликнул, – чертов кус! А зачем нет у забора Ни собаки, ни затвора? Я вас, хамы!.. Дай ружье; Приготовь мешок, веревку Да сними с гвоздя винтовку. Ну, за мною!.. Я ж ее!» Пан и хлопец под забором Тихим крадутся дозором, Входят в сад – и сквозь ветвей, На скамейке, у фонтана, В белом платье, видят, панна И мужчина перед ней. Говорит он: «Все пропало, Чем лишь только я, бывало, Наслаждался, что любил: Белой груди воздыханье, Нежной ручки пожиманье… Воевода все купил. Сколько лет тобой страдал я, Сколько лет тебя искал я! От меня ты отперлась. Не искал он, не страдал он, Серебром лишь побряцал он, И ему ты отдалась. Я скакал во мраке ночи Милой панны видеть очи, Руку нежную пожать; Пожелать для новоселья Много лет ей и веселья, И потом навек бежать». Панна плачет и тоскует, Он колени ей целует, А сквозь ветви те глядят, Ружья наземь опустили, По патрону откусили, Вбили шомполом заряд. Подступили осторожно. «Пан мой, целить мне не можно, Бедный хлопец прошептал. Ветер, что ли, плачут очи, Дрожь берет; в руках нет мочи, Порох в полку не попал». «Тише ты, гайдучье племя! Будешь плакать, дай мне время! Сыпь на полку… Наводи… Цель ей в лоб. Левее… выше. С паном справлюсь сам. Потише; Прежде я; ты погоди». Выстрел по саду раздался. Хлопец пана не дождался; Воевода закричал, Воевода пошатнулся… Хлопец, видно, промахнулся: Прямо в лоб ему попал.[Конец 1827 г.]
БУДРЫС И ЕГО СЫНОВЬЯ
Три у Будрыса сына, как и он, три литвина. Он пришел толковать с молодцами. «Дети! седла чините, лошадей проводите Да точите мечи с бердышами. Справедлива весть эта: на три стороны света Три замышлены в Вильне похода. Паз идет на поляков, а Ольгерд на прусаков, И на русских Кестут-воевода. Люди вы молодые, силачи удалые (Да хранят вас литовские боги!), Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу; Трое вас, вот и три вам дороги. Будет всем по награде: пусть один в Новеграде Поживится от русских добычей, Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах, Домы полны, богат их обычай. А другой от прусаков, от проклятых крыжаков, Может много достать дорогого, Денег с целого света, сукон яркого цвета, Янтаря – что песку там морского. Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха. В Польше мало богатства и блеску, Сабель взять там не худо; но уж верно оттуда Привезет он мне на дом невестку. Нет на свете царицы краше польской девицы. Весела – что котенок у печки И как роза румяна, а бела, что сметана; Очи светятся будто две свечки! Был я, дети, моложе, в Польшу съездил я тоже И оттуда привез себе женку; Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю Про нее, как гляжу в ту сторонку». Сыновья с ним простились и в дорогу пустились. Ждет, пождет их старик домовитый, Дни за днями проводит, ни один не приходит. Будрыс думал: уж, видно, убиты! Снег на землю валится, сын дорогою мчится, И под буркою ноша большая. «Чем тебя наделили? что там? Ге! не рубли ли?» «Нет, отец мой; полячка младая». Снег пушистый валится; всадник с ношею мчится, Черной буркой ее покрывая. «Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?» «Нет, отец мой; полячка младая». Снег на землю валится, третий с ношею мчится, Черной буркой ее прикрывает. Старый Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет, А гостей на три свадьбы сзывает.[Конец 1827 г.]
ШАНФАРИ
Касыда с арабского
Поднимите верблюдов на резвые ноги! Покидаю вас, братья, для бранной тревоги. Время в путь. Приторочены вьюки ремнями, Ночь тепла, и луна заблистала над нами. Как в защиту от зноя есть тень у колодца, Так для мужа укрытье от срама найдется, И добро ему, если спасет его разум От лукавых соблазнов и гибели разом. Отыщу я друзей, незнакомых с изменой, Буду рыскать по следу с голодной гиеной, С пестрым барсом и волком охотиться вместе. Нет меж них недоумков, забывших о чести, Тайны друга хранить не умеющих свято И коварно в беде покидающих брата. За обиду они добиваются крови, Храбрецы! Все же я и храбрей и суровей. Первый мчусь на врага и отставших не кличу, Но стою в стороне, если делят добычу: Жадность тут во главе со сноровкой своею; Я же скромно довольствуюсь тем, что имею, И ни с чьим не сравнится мое благородство, И достойно несу я свое превосходство. Я не вспомню вас, братья мои, средь скитаний. Не связал я вас узами благодеяний, К вам не льнуло вовек мое сердце мужское; У меня остается товарищей – трое: Сердце жаркое, чуждое трусости злобной; Лук, изогнутый шее верблюда подобно; Меч за поясом шитым с цветной бахромою… Тот ли лук мой точеный с тугой тетивою, Что, стрелу отпустив, стонет грустно и тонко, Словно мать, у которой отняли ребенка. Не хозяйка мне алчность, что в прахе влачится И, вспугнув жеребенка, доит кобылицу; Я не трус, что за женским подолом плетется И без женской подсказки воды не напьется; Непугливое сердце дано мне: от страха Не забьется оно, словно малая птаха; Я чуждаюсь гуляк, до рассвета не спящих, Завивающих кудри и брови сурьмящих. Разве ночь хоть однажды с пути меня сбила, Окружила туманом, песком ослепила? На верблюде лечу – кипяток под ногами, Щебень брызжет, вздымаются искры снопами, И о голоде лютом средь жгучей пустыни Я вовеки не вспомню в надменной гордыне, Утоляю свой голод клубящейся пылью, Чтобы он своему подивился бессилью. Я имел бы, коль в вашем остался бы стане, И еды и напитков превыше желаний, Но душа восстает в эту злую годину И покинет меня, если вас не покину; Жажда мести мне печень скрутила в утробе, Словно нить, что прядильщица дергает в злобе. Я чуть свет натощак выхожу, как голодный Волк, глотающий ветер пустыни бесплодной, За добычей спешащий в овраг из оврага Осторожный охотник, бездомный бродяга. Воет волк. Он устал. Он измучился, воя, Вторит брату голодному племя худое, И бока их запавшие вогнуты, точно Еле видимый в сумраке месяц восточный. Лязг зубов – будто стрел шевеленье сухое Под рукой колдуна иль пчелиного роя Шум, когда он, как черная гроздь, с небосвода Упадет на решетку в саду пчеловода. Злобно блещут глаза, ослабели колена, Пасть разверста, подобно расщепу полена; Воет волк, вторят волки на взгорье пустынном, Словно жены и матери над бедуином. Смолк – другие умолкли. Ему полегчало, И приятен был стон его стае усталой, Будто в общности голода есть утоленье… Воет снова – и вторят ему в отдаленье. Наконец обрывается жалоба волчья. Чем напрасно рыдать, лучше мучиться молча. Еду, жаждой томимый. За мной к водопою Мчатся страусы шумной нестройной толпою. Не обгонит меня их вожак быстроногий, Подъезжаю, – они отстают по дороге. Дале мчусь. Птицы рвутся к воде замутненной. Зоб раздут, клюв, над желтой водою склоненный, Служит вестником жалкой их радости. Мнится, На привале, шумя, караван суетится. То в пески отбегут, то опять у колодца Окружают кольцом своего полководца; Наконец, из воды клювы крепкие вынув, Удаляются, точно отряд бедуинов. Мне подруга – сухая земля. Не впервые Прижимать к ее лону мне плечи худые, Эти тощие кости, сухие, как трости, Что легко сосчитать, как игральные кости. Снова слышу призывы военного долга, Потому что служил ему верно и долго. Как мячом, моим духом играет несчастье, Плоть по жребию мне раздирают на части Все недуги, сойдясь над постелью моею; Неотступные беды мне виснут на шею; Что ни день, как припадки горячки, без счета За заботой меня посещает забота; Надо мною, как скопище птиц над рекою, Вьется стая тревог, не дает мне покоя, Отмахнешься сто раз от крикливой их тучи, Нападает опять караван их летучий… В зной сную босиком по пескам этим серым, Дочь пустыни – гадюка мне служит примером. И в богатстве и в неге я жил от рожденья, Но возрос – и окутал одеждой терпенья Грудь, подобную львиной; и обувь упорства Я надел, чтоб скользить по земле этой черствой. В жгучий зной без палатки, в ночи без укрытья Весел я, ибо жизни привык не щадить я. В пору счастья излишеств бежал я сурово, Не был пойман я леностью, пустоголовой. Чутким ухом внимал ли я сплетне лукавой? Клеветою боролся ли с чьей-нибудь славой? Я ту черную ночь позабуду едва ли, Столь холодную ночь, что арабы сжигали, Греясь, луки свои и пернатые стрелы, В бой спешил я средь мрака, могучий и смелый; Пламень молний летел впереди как вожатый, Были в свите моей гром и ужас крылатый. Так – вдовство и сиротство посеял я щедро, Ночь меня приняла в свои черные недра, Утром я в Гумаизе лежал утомленный; И бежала молва по стране опаленной. Вражьи толпы шумели, друг друга встречая, Вопрошала одна, отвечала другая: «Вы слыхали, как ночью ворчала собака, Словно дикого зверя почуя средь мрака Иль услышав, как птица крылами взмахнула? Заворчала собака и снова заснула… Уж не Див ли столь многих убил, пролетая? Человек?.. Нет, немыслима ярость такая…» Днем, когда небосвод полыхал, пламенея, И от зноя в пустыне запрыгали змеи, Снял чалму и упал я на гравий кипящий. Мне на темя обрушился пламень палящий, Космы грязных волос залепили мне веки Колтуном, благовоний не знавшим вовеки. Жестко лоно пустыни, лежащей пред нами, Словно кожа щита. И босыми норами Я ее исходил без воды и без хлеба; Видел скалы я там, подпиравшие небо, И на скалы, как пес, я взбирался по щебню; Видел я антилоп, посещавших их гребни. В белоснежном руне, словно девушки в длинных Белых платьях, стояли они на вершинах; И, пока я взбирался, хватаясь за камни, Стадо их без тревоги смотрело в глаза мне, Будто я их вожатый с рогами кривыми… То крестца своего он касается ими, То за выступ скалы зацепясь на вершине, Повисает на них в бирюзовой пустыне…[1828]
АЛЬМОТЕНАББИ[4]
О, доколе топтать мне песчаные груды, За высокими звездами мчаться в тревоге? Звездам ног не дано, не устать им в дороге. Как в степи устают человек и верблюды. Смотрят звезды – и нет у них вежд воспаленных, Словно тяжкие вежды скитальцев бессонных. Лица наши обуглены солнцем пустынным, Но не стать уже черными этим сединам. Судия ли небесный к нам будет жесточе Наших дольных, не знающих жалости судей? Я не жажду в пути: дождь омоет мне очи И воды мне оставит в дорожном сосуде. Я верблюдов, не гневаясь, бью в назиданье: Да поймут, что идут с господином в изгнанье. Говорил я верблюдам, пускаясь в дорогу: «Пусть нога подгоняет без устали ногу!» И, покинув Египет, рванулся стрелою Джарс и Аль-Элеми у меня за спиною. Конь арабский за мною летит, но покуда Голова его – рядом с горбами верблюда. Знает стрелы дружина моя молодая, Как ведун, что их сыплет на землю, гадая. Воин снимет чалму – вьются волосы черной Шелковистой чалмой, на ветру непокорной. Первый пух над губою, – а если нагрянет Свалит всадника наземь, коня заарканит. Больше жданного воины взяли добычи, Но несытую ярость я слышу в их кличе. Мира, словно язычник, не хочет мой воин, И, встречаясь с врагом, он, как в праздник, спокоен Копья, в сильных руках заиграв на раздолье, Научились свистеть, словно крылья сокольи, А верблюды, хоть в пене, но жесткой стопою Топчут Рогль и Янем, красят ноги травою. От чужих луговин отдаляемся ныне, Там – на дружеской – мы отдохнем луговине. Нас не кормит ни перс, ни араб. Приютила Дорогого султана Фатиха могила. И в Египте подобного нет на примете, И другого не будет Фатиха на свете. Не имел ни сильнейших, ни равных по силе, С мертвецами Фатих уравнялся в могиле. Напрягал я мой взор, повторял его имя, Мир пустым пребывал пред глазами моими. И увидел я снова дороги начало, Взял перо и вступил с ним в былую забаву; Но перо языком своим черным сказало: «Брось меня и мечом зарабатывай славу. Возвращайся ко мне после трудного боя. Меч прикажет – перо не запросит покоя». Так перо наставляло меня в разговоре. Нужно было б от глупости мне излечиться, Не послушался я – и мой разум не тщится Опровергнуть, что сам он с собою в раздоре. Можно цели достичь лишь оружьем да силой, А перо никого еще не прокормило. Если только ты принял скитальческий жребий, Для чужих ты – как нищий, молящий о хлебе. Племена разделяет неправда и злоба, Хоть единая нас породила утроба. Буду гостеприимства искать по-другому И с мечом подойду я к недоброму дому. Пусть железо рассудит, кто прав в этом споре: Угнетатель иль те, кто изведали горе. Мы надежных мечей не уроним до срока: Наши длани – без дрожи, клинки без порока. Мы привыкнем глядеть на страданья беспечно: Все, что въяве мы видим – как сон, быстротечно. И не жалуйся: каждое горькое слово, Словно коршуна – кровь, только радует злого. Вера прочь улетела и в книгах осела, Нет ее у людского реченья и дела. Слава богу, что мне посылает в избытке И труды, и несчастья, но также терпенье; Я в изгнанье моем нахожу наслажденье, А другие в неслыханной мучатся пытке… Удивил я судьбу, ибо выстоял гордо, Ибо телом я тверже руки ее твердой. Люди стали слабее метущейся пыли, Жить бы древле, а ныне лежать бы в могиле! Время смолоду наших отцов породило, Нас – никчемных – под старость, с растраченной силой…[1828]
ФАРИС[5]
Касыда, сочиненная в честь эмира Тадж-уль-Фехра, посвященная Ивану Козлову
Как, брег покинув, радуется челн, Что вновь скользит над голубой пучиной И, море веслами обняв, средь пенных волн Летит, ныряя шеей лебединой, Так бедуин метнуть с утеса рад Коня в простор степей открытый, Где, погрузясь в поток песка, шипят, Как сталь горячая в воде, его копыта. Мой конь в сухих зыбях уже плывет, Сыпучие валы дельфиньей грудью бьет. Все быстрей, быстрей сметает Зыбкие гряды песка; Выше, выше их взметает Над землей, под облака; Как туча он, мой черный конь ретивый. Звезда на лбу его денницею горит; Как перья страуса, летит по ветру грива, Сверкают молнии из-под копыт[6]. Мчись, летун мой белоногий! Лес и горы, прочь с дороги! Пальма тень свою и плод Мне протягивает тщетно: Оставляет мой полет Эту ласку безответной, И пальма в глубь оазисов бежит, Шурша усмешкой над моей гордыней. А вот, на страже у границ пустыни, Чернеют скалы. Цокоту копыт Ответив отзвуком, они сурово в спину Глядят и смерть пророчат бедуину: «Ты куда летишь? Назад! Смертоносны солнца стрелы. Там шатры не охранят Жизнь безумца сенью белой. Там шатер – лишь небосвод, Там и пальма не растет. Только скалы там ночуют, Только звезды там кочуют». Я лечу во весь опор, Их угрозам не внимая; К ним свой обращаю взор И едва их различаю: Длинной тают чередой И скрываются за мглой. Поверил коршун им, что я его добыча. За мной пустился он, взмахнув крылом, И трижды – надо мной паря и клича Мне черным голову обвил венком. «Чую, – каркнул, – запах трупа[7]. Эй, безумный всадник, глупо Средь песков искать пути, Трав коню здесь не найти. Горькая вас ждет расплата, Вам отсюда нет возврата. Ветер бродит тут, свой след Неустанно заметая; Где пасутся гадов стаи, Для коней лугов там нет. Только трупы тут ночуют, Только коршуны кочуют». В глаза мои когтей направив острия, Он каркал. Трижды мы взглянули око в око. Кто ж испугался? Коршун, а не я. Он крыльями взмахнул и улетел высоко. Лук натянувши, взор я бросил в глубь небес: Враг пятнышком висел в синеющем просторе, Весь с воробья… с пчелу… с комарика, и вскоре В лазури растворился и исчез. Мчись, летун мой белоногий! Скалы, коршуны – с дороги! Тут, от закатных отделясь лучей, Вдруг облак полетел за мной на крыльях белых: Прослыть в небесных захотел пределах Таким гонцом, каким был я в песках степей. Спустившись, он повис над головой моею И свистнул мне, в лучах закатных пламенея: «Стой! Умерь ты прыть свою! Зной сожжет тебя тлетворный; Не прольется благотворный Дождь на голову твою. Там ручей не отзовется Серебром своих речей; Там голодный суховей Пьет росу, чуть та прольется». Я все вперед лечу, не слушая угроз. Усталый облак стал на небесах метаться, Все ниже головой склоняться… Потом улегся на утес. Я оглянулся – он не превозмог бессилья, На небо целое его опередил я, Он видел издали, что в сердце он таил: Побагровев от злобы волчьей, От зависти налившись желчью, Он почернел, как труп, и в горы пал без сил. Мчись, летун мой белоногий! Степи, тучи – прочь с дороги! Огляделся я кругом: На земле и небосклоне Уж никто не смел в погоню За моим лететь конем. Тут объятой сном природе Не слыхать людских шаг. ов; Тут стихии без оков Спят, как звери на свободе, Что укрыться не спешат, Человечий встретив взгляд. Глядь! Я не первый тут! Какие-то отряды Там за песчаной прячутся оградой. Кочуют ли они иль вышли на разбой? Какой пугающей сверкают белизной! Взываю к ним, – в ответ молчанье. Трупы это! Здесь караван погиб, засыпанный песком. И дерзкий ураган отрыл его потом. Верблюды, всадники – с того пришельцы света. Между голых челюстей, Сквозь широкие глазницы, Мне конец пророча дней, Медленно песок струится: «Бедуин, вернись назад! Ураганы там царят». Я не ведаю тревоги. Мчись, летун мой белоногий! Ураганы – прочь с дороги! Тут африканский смерч, пустыни властелин[8], Блуждая по сухим волнам ее стремнин, Заметил издали меня. Он, изумившись, Остановил свой бег и крикнул, закружившись: «Что там за вихрь? Не юный ли мой брат? Как смеет он, ничтожный червь на взгляд, Топтать мои наследные владенья?» И – пирамидою – ко мне в одно мгновенье. Увидев смертного с душой, где не жил страх, Ногою топнул он с досады, Потряс окружных гор громады И, словно гриф, сдавил меня в своих когтях. Жег меня огнем дыханья, Из песка до неба зданья Возводил биеньем крыл И на землю их валил. Не сдаваясь, бьюсь я смело, Чудище в объятьях жму, Ярыми зубами тело Тороплюсь разгрызть ему. Столбом хотел уйти на небо смерч сыпучий, Но нет! Дождем песка рассыпавшись, упал, И, словно городской широкий вал, У самых ног моих лег труп его могучий. Вздохнул свободно я и поднял к звездам взор. Очами золотыми все светила Послали мне привет в земной простор, Мне одному: кругом безлюдие царило.!. Как сладостно дышать всей грудью, полной силой! Казалось мне, во всей полуденной стране Для легких воздуха не хватит мне. Как сладостно глядеть вокруг! С безмерной силой Я напрягаю восхищенный взор, И убегает он все дале, дале, Чтобы вобрать в себя земные дали И улететь за кругозор. Как сладко обнимать красу природы милой! Я руки с нежностью вперед простер, И мнится мне: от края и до края Весь мир к своей груди я прижимаю. В безбрежную лазурь несется мысль моя, Все выше, в горние незримые края, И вслед за ней душа летит и в небе тонет, Так, жало утопив, пчела с ним дух хоронит.[1828, Петербург]
К***
На Альпах, в Сплюгене 1829
Нет, не расстаться нам! Ты следуешь за мною, И по земным путям, и над морской волною Следы твои блестит на глетчерах высоко, Твой голос влился в шум альпийского потока, И дыбом волосы встают: а вдруг однажды Увижу въявь тебя? Боюсь тебя и жажду! Неблагодарная! На поднебесных кручах. Схожу я в пропасти, и исчезаю в тучах, И замедляю шаг, льдом вечным затрудненный, Туман смахнув с ресниц, ищу во мгле бездонной Звезду полярную, Литву, твой домик малый. Неблагодарная! Ты и сейчас, пожалуй, Царица бала там и в танце хороводишь Веселою толпой. А может быть, заводишь Интрижку новую, вот так, для развлеченья, Иль говоришь, смеясь, про наши отношенья? Своими подданными можешь ты гордиться: Загривок рабски гнут, кадят тебе: «Царица!» Роскошно задремав, проснешься в ликованье. И даже не томят тебя воспоминанья? Была б ли счастливей ты, милая, со мною, Вручив свою судьбу влюбленному изгою? Ах, за руку б я вел тебя по скалам голым И песни пел тебе, чтоб не был путь тяжелым. Я устремлялся бы в бушующие воды И камни подстилал тебе для перехода. Чтоб ты, идя по ним, не промочила ножки. Целуя, согревал бы я твои ладошки. Мы в горной хижине искали бы покоя. В ней под одним плащом сидели бы с тобою, Чтоб там, где теплится пастушеское пламя, Ты на моем плече дремала бы ночами![24 сентября 1829]
МОЕМУ ЧИЧЕРОНЕ
Мой чичероне! Здесь вот, на колонне, Неясное, незнаемое имя Оставил путник в знак, что был он в Риме… Где путник тот? Скажи, мой чичероне! Быть может, вскоре скроется он в пене Ворчливых волн, иль немо, бессловесно Поглотят жизнь его и злоключенья Пески пустынь, и сгинет он безвестно. Что думал он, – хочу я догадаться, Когда, блуждая по чужой отчизне. Слов не нашел, сумел лишь расписаться, Лишь этот след оставил в книге жизни. Писал ли это он, как на гробнице, В раздумье, медленно рукой дрожащей; Иль обронил небрежно уходящий, Как одинокую слезу с ресницы? Мой чичероне, с детским ты обличьем, Но древней мудростью сияют очи, Меня по Риму, полному величьем, Как ангел, водишь ты с утра до ночи. Ты взором в сердце камня проникаешь. Один намек – и делается зримым Тебе былое… Ах, быть может, знаешь Ты даже то, что будет с пилигримом![Рим, 30 апреля 1830 г.]
К ПОЛЬКЕ-МАТЕРИ
Стихи, написанные в 1830 г.
О полька-мать! Коль в детском взгляде сына Надеждами тебе заблещет гений И ты прочтешь в нем гордость гражданина Отвагу старых польских поколений; Коль отрок – сын твой, игры покидая, Бежит он к старцу, что поет былины, И целый день готов сидеть, внимая, Все слушать, весь недетской полн кручины, Словам былин о том, как жили деды, О полька-мать! Сыновнею забавой Не тешься, – стань пред образом скорбящей, Взгляни на меч в ее груди кровавой; Такой же меч тебе готовит враг грозящий. И если б целый мир расцвел в покое, Все примирилось – люди, веры, мненья, Твой сын живет, чтоб пасть в бесславном бое, Всю горечь мук принять – без воскресенья. Пусть с думами своими убегает Во мрак пещер; улегшись на рогоже, Сырой, холодный воздух там вдыхает И с ненавистным гадом делит ложе; Пусть учится таить и гнев и радость, Мысль сделает бездонною пучиной И речи даст предательскую сладость, А поступи – смиренный ход змеиный. Христос – ребенком в Назарете Носил уж крест, залог страданья. О полька-мать! Пускай свое призванье Твой сын эаране знает. Заране руки скуй ему цепями, Заране к тачке приучай рудничней, Чтоб не бледнел пред пыткою темничной, Пред петлей, топором и палачами. Он не пойдет, как рыцарь в стары годы, Бить варваров е-ввим мечом заветным Иль, как солдат под знаменем трехцветным, Полить евфею кровью сев свободы. Нет, зов ему пришлет шпион презренный, Кривоприсяжный суд задаст сраженье, Свершится бой в трущобе потаенной, Могучий враг произнесет решенье. И памятник ему один могильный Столб виселицы с петлей роковою, А славой – женский плач бессильный Да грустный шепот земляков порою.[11–14 июля 1830 г.]
БЕГСТВО[9]
Баллада
Он воюет – дни уплыли, Год – не едет; знать, в могиле. Панна, жалко юных лет: Выслал свата князь-сосед. Князь пирует неустанно, Слезы льет в светлице панна. Уж зеницы – не зарницы, А Две мутные криницы; Ясный месяц – лик девицы Ныне будто мгла скрывает: Панна чахнет, панна тает. Мать в кручине и в смятенье, Князь назначил оглашенье. Свадьба едет с гудом, с людом. «К алтарю не поведете, На погост меня свезете, А постель в гробу добуду. Если мертв он – пусть умру я, Мать, и ты умрешь, тоскуя!» Ксендз в костеле восседает, К покаянью призывает. Входит кумушка-мегера: «Знаться нечего с попами! Бог и вера – бред, химера! Мы с бедою сладим сами. У кумы найдется в келье Папоротник и царь-зелье[10], У тебя ж – дары милого Вот и все для чар готово! Змейкой прядь его сплети, Вместе два кольца сведи, Кровь из ручки нацеди, Будем змейку заклинать, В два колечка дуть, шептать, Он придет невесту взять». Шабаш начат – всадник скачет. Сам в проклятье – внял заклятью. Ледяной открыт приют. Панна, панна, страшно тут! Все затихло в замке, спит он. Глаз лишь панна не закрыла. Дремлет стража. Полночь било. Панна слышит стук копыта. Будто силы не имея, Пес завыл и смолк, немея. Тихо скрипнули ворота, Кто-то там, внизу, ступает, В коридорах длинных кто-то Дверь за дверью открывает. Входит всадник в белом платье И садится на кровати. Быстро сладкий час промчался. Ржанье вдруг, совы стенанье. Бьют часы. «Конец свиданью, Ржет мой конь, меня заждался; Или – встань и вместе в путь, И моей навеки будь!» Месяц мглится – всадник мчится, Густ кустарник, ветки бьют. Панна, панна, страшно тут! Мчится полем конь летящий, Мчится чащей – глухо в чаще; Только слышно из-за клена Крик встревоженной вороны, Да зрачками из-за елки Лишь посверкивают волки. «Вскачь, мой конь, во весь опор! Месяц вниз плывет из туч, А пока он в дебрях туч, Одолеть нам девять гор, Десять скал и десять вод; Скоро петел пропоет». «А куда мы едем?» – «К дому. Дом мой на горе Мендога[11]; Днем доступна всем дорога, Ночью ж – ездим по-иному». «Есть там замок?» – «Замок скоро; Заперт он, хоть без запора». «Тише, милый, я слабею, Придержи коня немножко». «За седло держись сильнее, Что в твоей ладони, крошка? Не мешочек ли с канвою?» «Мой молитвенник со мною». «Нет! Вперед погоня рвется, Слышишь топот? Нас настигнут. Конь у пропасти споткнется, Брось книжонку – перепрыгнет». Конь, избавясь от поклажи, Перепрыгнул десять сажен. По болоту, между кочек, Конь несется что есть силы, От могилы до могилы Пролетает огонечек, Словно верный провожатый, След за ним голубоватый, А по следу – конь проклятый. «Милый, что тут за дорога? Не видать следа людского». «Все дорога, раз тревога, Бегству нет пути прямого. Где следы? В мой замок входа Нет для пешего народа: Богатея – ввозят цугом, Победнее – ноша слугам. Вскачь, мой конь, во весь опор! Загорелся небосклон, Через час раздастся звон. А пока услышим звон Мимо речек, скал и гор Проносись во весь свой дух: Через час – второй петух». «Натяни поводья лучше! Конь пугливо скачет боком, За скалу или за сучья Зацеплюеъ я ненароком». «Что там, милая, надето Шиур, кармашки с ремешками?» «Мой любимый, четки это, Это ладанки с мощами». «Шнур проклятый! Шнур, сверкая; Пред конем моим маячит: Он дрвжит и боком скачет. Бровь игрушки, дорогая!» Конь, избавясь от тревоги, Отмахал пять миль дороги. «Не погост ли это, милый?» «Это замка укрепленья». «А кресты, а те могилы?» «Не кресты, то башен тени. Вал минуем – и дорога Оборвется у порога. Стой, мой конь ретивый, стой! До зари ты миновал Столько рек, и гор, и скал: Что ж дрожишь ты, резвый МОЙ Знаю, маемся вдвоем Ты крестцом, а я крестом». «Опустил твой конь копыта. Веет стужей ветер лютый. Ледяной росой омыта, Вся дрожу – плащом укутай!» «Ближе! Я хочу недаром Лбом к груди твоей склониться: Он таким пылает жаром, Что и камень раскалится! Что за гвоздь тут, дорогая?» «Это крест, что мать надела». «Крестик тот остер, как стрелы, Лоб он ранит, обжигая. Выбрось гвоздик, дорогая!» Крест упал и в прахе скрылся, Всадник панну сжал руками, Из очей блеснуло пламя, Конь вдруг смехом разразился, За стену махнул в мгновенье. Слышен звон, петушье пенье. Ксендз не начал службы ранней Конь исчез и всадник с панной. На погосте тишь царила. В ряд стоят кресты и плиты, Без креста одна могила, И земля вокруг разрыта. У могилы ксендз склонился И за две души молился.[1830–1831]
СНИЛАСЬ ЗИМА
В Дрездене, в 1832 г марта 23, видел я сон, темный и для меня непонятный. Проснувшись, записал его стихами. Теперь, в 1840, переписываю для памяти.
Снилась зима, и по белым сугробам Шли вереницами, словно за гробом; Чудилось, будто идем к Иордану, А в вышине отозвалось нежданно: «Господу слава! Народ, к Иордану!» И впереди меня пара за парой Двигались люди – и малый и старый В белой одежде и цвета печали; Слева шли в черном и свечи держали, Как золотые точеные стрелы; Пламенем долу – и пламя горело. А шедшие в белом Справа цветы проносили, как свечи, Шли без огней и терялись далече; Глянул на лица – знакомых немало, Все как из снега – и страшно мне стало. Кто-то отстал; в пелене погребальной Взгляд засветился – женский, печальный. Выбежал мальчик, догнал меня сзади И заклинает подать Христа ради. Дал ему грош – она два ему тянет, Сколько ни дам – она вдвое достанет; Нас обступают, мы золото мечем, Шарим – кто больше; дарить уже нечем Стыд нестерпимый! «Отдай им обратно, Слышно вокруг. – Пошутили, и ладно!» Мальчик кивает: «Берите, кто жадный». Но повернулся я к той, белорукой, Перекрестила, как перед разлукой. Вспыхнуло солнце и снег озарило, Но не сошел он, а взмыл белокрыло И полетел караваном гусиным И все вокруг стало теплым и синим! Запах Италии хлынул жасмином, Веяло розами над Палатином. И Ева предстала Под белизной своего покрывала, Та, что в Альбано меня чаровала, И среди бабочек, в дымке весенней, Было лицо ее как Вознесенье, Словно в полете, уже неземная, Глянула в озеро, взгляд окуная, И загляделась, не дрогнут ресницы, Смотрит, как будто сама себе снится, И, отраженная той синевою, Трогает розу рукой снеговою. Силюсь шагнуть – и не чувствую тела, Речь на раскрытых губах онемела, Сонное счастье, отрада ночная! Кто о ней скажет и есть ли иная Слаще и слезней? От яви палящей Сон исцеляет, как месяц над чащей… Молча приблизился, взял ее руку, И поглядели мы в очи друг другу И не видал я печальнее взгляда. Молвил: «Сестра моя! Что за отрада Снится во взгляде твоем невеселом Словно иду полутемным костелом!» Оборотилась с улыбкою детской: «Прочит меня за другого отец мой, Но ведь недаром я ласточкой стала Видел бы только, куда я летала! А полечу еще дальше, к восходу, В Немане крыльями вспенивать воду; Встречу друзей твоих – тяжек был хмель их: Все по костелам лежат в подземельях. В гости слетаю к лесам и озерам, Травы спрошу, побеседую с бором: Крепко хранит тебя память лесная. Все, что творил, где бывал, разузнаю». Тихо я слушал – и, полный загадок, Был ее голос понятен и сладок. Слушал – и сам себя видел крылатым И умолял ее взять меня братом. Но защемило от давней тревоги, Что же расскажут лесные дороги. И, вспоминая свой путь легковерный С буйством порывов и пятнами скверны, Знала душа, разрываясь на части, Что недостойна ни неба, ни счастья. И увидал я – летит над водою Белая ласточка с черной ордою: Сосны и липы явились за мною, Ветка за веткой – вина за виною… К небу лицом я проснулся от муки Как у покойника, сложены руки. Сон мой был тихим. И в рани белесой Все еще пахли Италией слезы, Все еще теплили запах жасмина, И гор Албанских, и роз Палатина.Стихи эти писались, как приходили, без замысла и поправок.
К ОДИНОЧЕСТВУ
К тебе, одиночество, словно к затонам, Бегу от житейского зноя Упасть и очнуться в холодном, бездонном, Омыться твоей глубиною! И мысли текут, ни конца им, ни краю Как будто с волнами играю, Пока изнуренного, хоть на мгновенье, Меня не поглотит забвенье. Стихия родная! Зачем же я трушу. Лишь только твой холод почувствую жгучий, Зачем тороплюсь я рвануться наружу, На свет, наподобие рыбы летучей? Здесь нечем согреться – там нету покоя, И обе стихии карают изгоя.[Весна 1832 г.]
* * *
Расцвели деревья снова, Ароматом дышат ночи; Соловьи гремят в дуброве, И кузнечики стрекочут. Что ж, задумавшись глубоко, Я стою, понурив плечи? Сердце стонет одиноко: С кем пойду весне навстречу? Перед домом, в свете лунном, Музыканта тень маячит; Слыша песнь и отзвук струнный, Распахнул окно и плачу. Это стоны менестреля В честь любимой серенада; Но душа моя не рада: С кем ту песнь она разделит? Столько муки пережил я, Что уж не вернуться к дому; Не доверить дум другому, Только лишь немой могиле. Стиснув руки, тихо сядем Пред свечою одинокой; То ли песню в мыслях сладим, То ль перу доверим строки. Думы-дети, думы-птицы! Что ж невесело поете? Ты, душа моя, – вдовица, От детей своих в заботе. Минут весны, минут зимы, Зной, снега сменяя, схлынет; Лишь одна, неизменима, Грусть скитальца не покинет.[Весна 1832 г.]
СМЕРТЬ ПОЛКОВНИКА
Ночевала зеленая рота У избы лесника на опушке. Часовые стояли в воротах, Умирал их полковник в избушке, Шли крестьяне толпой из поместий: Был он славным начальником, значит, Если люди простые так плачут И о жизни его ловят вести. Приказал он коня боевого Оседлать, привести к нему в хату: Хочет он повидать его снова Послужившего в битвах солдату. Приказал принести ему пояс, И тесак, и мундир ему нужен, Старый воин, он хочет, покоясь, Как Чарнецкий, проститься с оружьем. Когда вывели лошадь из хаты, Ксендз вошел туда с именем бога. Побледнели от горя солдаты, Люд молился, склонясь у порога. И солдаты Костюшки, что в битве Много пролили вражеской крови И своей, но не слез, – морща брови, Повторяли за ксендзом молитвы. Утром рано в селе зазвонили. Часовых уже нет на поляне, Так как русские тут уже были. К телу рыцаря шли поселяне. Он на лавке покоился в мире, Крест в руке, в изголовье седёлко, Рядом сабля его и двустволка. Но у воина в строгом мундире Облик нежный, – ему бы косынка. Грудь девичья… Ах, это литвинка, Это девушка в воинском платье Вождь повстанцев, Эмилия Плятер![1832]
РЕДУТ ОРДОНА
Рассказ адъютанта
Нам велели не стрелять. Чтоб виднее было, Я поднялся на лафет. Двести пушек било. Бесконечные ряды батарей России Прямо вдаль, как– берега, тянулись, морские. Прибежал их офицер. Меч его искрится. Он одним крылом полка повел, будто птица. И потек из-под крыла сомкнутый пехотный Строй, как медленный поток слякоти болотной, В частых искорках штыков. Как коршуны, к бою Стяги черные ведут роты за собою. Перед ними, как утес, белый, заостренный, Словно из морских глубин, – встал редут Ордона. Тут всего орудий шесть. Дымить и сверкать им! Столько не срывалось с губ криков и проклятий, Сколько ран отчаянья не горело в душах, Сколько ядер и гранат летело из пушек. Вот граната ворвалась в средину колонны, Точно так кипит в воде камень раскаленный. Взрыв! – и вот взлетает вверх шеренга отряда, И в колонне – пустота, не хватает ряда. Бомба – издали летит, угрожает, воет. Словно перед боем бык – злится, землю роет. Извиваясь, как змея, мчась между рядами, Грудью бьет, дыханьем жжет, мясо рвет зубами. Но сама – невидима, чувствуется – в стуке Наземь падающих тел, в стонах, в смертной муке. А когда она прожжет все ряды до края Ангел смерти будто здесь проходил, карая! Где же царь, который в бой полчища направил? Может, он под выстрелы и себя подставил? Нет, за сотни верст сидит он в своей порфире Самодержец, властелин половины мира. Сдвинул брови – мчатся вдаль тысячи кибиток; Подписал – и слезы льют матери убитых; Глянул – хлещет царский кнут, – что Хива, что Неман! Царь, ты всемогущ, как бог, и жесток, как демон! Когда, штык твой увидав, турок еще дышит, А посольство Франции стопы твои лижет, Лишь Варшава на тебя смотрит непреклонно И грозит стащить с твоей головы корону Ту, в которой Казимир по наследству правил, Ту, что ты, Василья сын, украв, окровавил. Глянет царь – у подданных поджилки трясутся, В гневе царь – придворные испуганно жмутся. А полки все сыплются. Вера их и слава Царь. Не в духе он: умрем ему на забаву! С гор Кавказских генерал с армией отправлен, Он, как палка палача, верен, прям, исправен. Вот они – ура! ура! – во рвах появились, На фашины вот уже грудью навалились. Вот чернеют на валу, лезут к палисадам, Еще светится редут под огненным градом Красный в черном. Точно так в муравьиной куче Бьется бабочка, – вокруг муравьи, как тучи; Ей конец. Так и редут. Смолкнул. Или это Смолк последней пушки ствол, сорванный с лафета? Смолк последний бомбардир? Порох кровью залит?.. Все погасло. Русские – загражденья валят, Ружья где? На них пришлось в этот день работы Больше, чем на всех смотрах в княжеские годы. Ясно, почему молчат. Мне не раз встречалась Горстка наших, что с толпой москалей сражалась, Когда «пли» и «заряжай» сутки не смолкало, Когда горло дым душил, рука отекала, Когда слышали стрелки команду часами И уже вели огонь без команды, сами. Наконец, без памяти, без соображенья, Словно мельница, солдат делает движенья: К глазу от ноги – ружье и к ноге от глаза. Вот он хочет взять патрон и не ждет отказа, Но солдатский патронташ пуст. Солдат бледнеет: Что теперь с пустым ружьем сделать он сумеет? Руку жжет ему оно. Выходов других нет, Выпустил ружье, упал. Не добьют – сам стихнет. Так я думал, а враги лезли по окопам, Как ползут на свежий труп черви плотным скопом. Свет померк в моих глазах. Слезы утирая, Слышал я – мой генерал шепчет мне, взирая Вдаль в подзорную трубу с моего оплечья На редут, где близилась роковая встреча. Наконец он молвил: – Все! – Из-под трубки зоркой Несколько упало слез. – Друг! – он молвил горько; Зорче стекол юный взор, посмотри, там – с краю Не Ордон ли? Ведь его знаешь ты? – О, знаю! Среди пушек он стоял, командуя ими. Пусть он скрыт – я разыщу спрятанного в дыме. В дымных клубах видел я, как мелькала часто Смелая его рука, поднятая властно. Вот, как молния из туч вырваться стремится, Ею машет он, грозит, в ней фитиль дымится. Вот он схвачен, нет, в окоп прыгнул, чтоб не сдаться…~ Генерал сказал: – Добро! Он живым не дастся! Вдруг сверкнуло. Тишина… И – раскат стогромый! Гору вырванной земли поднял взрыв огромный. Пунцси подскочили вверх и, как после залпа, Откатились. Фитили от толчков внезапных Не попали по местам. Хлынул дым кипучий Прямо к нам и окружил нас тяжелой тучей. Вкруг не видно ничего. Только вспышки взрывов… Дождь песка опал. Редел дым неторопливо. На редут я посмотрел: валы, палисады, Пушки, горсточки солдат и врагов отряды Все исчезло, словно сон. Всех похоронила Эта груда праха, как братская могила. Защищавшиеся там с нападавшим вместе Заключили вечный мир, в первый раз – по чести. И пускай московский царь мертвым встать прикажет Души русские царю наотрез откажут. Сколько там имен и тел, взрывом погребенных! Где их души? Знаю лишь, где душа Ордона. Он – окопный праведник! Подвиг разрушенья В правом деле свят, как свят подвиг сотворенья! Бог сказал: «Да будет!», бог скажет и: «Да сгинет!» Если вера с вольностью этот мир покинет, Если землю деспотизм и гордыня злая, Как редут Ордона, всю займут, затопляя, Победителей казня, их мольбам не внемля, Бог, как свой редут Ордон, взорвет свою землю.[23 июня 1832 г.]
ПЕСНЬ СОЛДАТА
Дай-ка горницу другую, В той не спится до зари! В окна видно мостовую, Мимо скачут почтари; Режет по сердцу, не скрою, Звук рожка в тиши ночной, Как сигнал: «По коням! К бою!..» До утра я сам не свой. Чуть сомкнутся веки, снова Снятся кони у костров, Знамя, крики часового, Песни наших храбрецов. Сразу сон с меня сгоняет Мой капрал. Уже заря. Он в плечо меня толкает: «Встать! К оружью! На царя!» Встал. Эх, прусская граница!.. Лучше б холод, голод, грязь, Спать, в трясину погрузясь, Только б в Польше очутиться! Там я не проспал бы ночи, Лишь бы поскорей капрал, В спину стукнув что есть мочи, «Встать! К оружью!» – закричал.[Лето 1832 г.]
ЛИСА И КОЗЕЛ
Уже с гусыней поздоровалась лиса, Но – бедная – прыжка не рассчитала И в сруб колодезный упала… Что говорить – прыжок не удался! Хоть сруб – сооружение простое, Не выскочить оттуда ни за что ей Для лисьих ног Весьма высок порог! Так отшлифован он – до полного скольженья! Безвыходное, скажем, положенье! Другой бы зверь, не столь смышленый, Метался бы, как в клетке, разъяренный, И стал о стенки головою биться. Но, как известно всем, не такова лисица И на других зверей нисколько не похожа! Отчаянье – всегда источник зла. Лиса взглянула вверх и – что же? Увидела почтенного козла, Недвижно, с любопытством грубым Стоящего над срубом. Тотчас же, морду опустив на дно, Зачмокала лиса с притворным наслажденьем: «Водица – упоение одно! Такой – клянусь – я не пила с рожденья! И так чиста, что жаль к ней прикоснуться! Ах, так и тянет всю ополоснуться, Да вот печаль Мутить такую воду жаль! Ну, и вода!» Козел, пришедший за водой сюда, «Эй! – крикнул сверху, – рыжая ты шуба! Подальше прочь от сруба!» И прыгнул вниз… Лисица – на козла, С рогов – на сруб, – и ноги унесла![1832]
ТРОЙКА
Антоний – наш поэт, в Литве весьма известный, Владел когда-то тройкою чудесной. Тех добрых лошадей запомнил наш Парнас, Я вмиг нарисовать сумел бы тройку эту. И вот недавно за столом, Ведя беседу о былом, Вопрос я задал моему поэту: – Что с ними сталось? Где они сейчас? Он мне в ответ: – И сам я не пойму, Какая тайна тут сокрыта. Их всех держали на одном корму, Конюшня не узка, приличное корыто. Чего бы им еще? Но через год они Дошли между собой до форменной грызни… Что делать? И вздохнувши тяжко, Решил я врозь продать их всех, Но угодили, как на грех, Они в одну кацапскую упряжку! И вот лишь тройка в путь – у них раздор опять. – Эй, ваше хохлородие! Молчать! Так говорит хохлу потомок гордый Леха. Мазур примерно отвечает так: – Ты, мол, хоть шляхтич, а дурак. Огрею, будет не до смеха! Ну, а козацкий конь, от ног до головы Весь в мыле, так им ржет: – Эй, вы! Ты, шляхтич, ты, мужичья кляча, Когда приедем мы и станем по местам, Я и тому и этому задам! – А те в ответ: – Получишь сдачи! Кацапу-ямщику их ссоры нипочем, Он стеганул хохловича бичом, Мазура он огрел, и Леха шлепнул люто, И дело повернул так круто, Что тройка к станции пришла в одну минуту! А сам Кацап, добром закончив путь, Засыпал им овса и дал им отдохнуть. Какой же вывод здесь? Нетрудно разобраться: Дерутся за едой, а под кнутом мирятся.1832
ХОРЕК НА ВЫБОРАХ
Однажды после пораженья В зверином войске началось смятенье. Совет собрался в штабе. На совете Скандал, какой и не бывал на свете. Поднялся там неугомонный вой, Доволен каждый лишь самим собой, Других, а не себя, считая бед виною. Лишь одного хорька оставили в покое. В правительстве хорек не заседал И сроду никогда не воевал, Так что политикой себя не запятнал. И, этим горд, он записался в пренья: «Позвольте высказать свои соображенья! Чем объяснить нам бедствия такие? Не тем ли, что вождя у нас доселе нет? Мы до сих пор в тисках проклятой тирании, Больны пороками Далеких древних лет. Не тем, кого достойными считаем, Не тем, друзья, мы булаву вручаем! А тем вручаем мы бразды правленья, Кто хищного происхожденья Иль у кого прославленные предки. Такие случаи у нас, увы, нередки. Смотрите – кто у нас у руководства встал! Лев – председатель наш – пророков идеал, Советник зубр – старик, чуть двигает рогами, А наш медведь-ворчун что скажет пред войсками? Годился б леопард – да неумен. Полковник волк? Грабитель он! А квартирмейстер лис? Сказал бы я, да лучше Тут промолчать на всякий случай, Чем заглянуть в его расчетные тетрадки, На взятки исстари лисицы падки! Прекрасно знают все, что делает. кабан, Накопит желудей и дрыхнет, важный пан! Ему милее грязь, чем слава боевая… Осел же… Я шута глупей, чем он, не знаю!..» На этом речь свою хорек кончает, Его собрание овацией встречает Вот кто страну спасет в короткий срок! Единый вопль звучит: «За здравствует хорек!» А тот смутился вдруг, и сразу стало ясно, Что криками зверей напуган он ужасно. И вновь собрание подняло дикий вой: «Он трус – хорек! В нору его! Долой!» Под общий хохот юркнул наш хорек В ближайшую нору, рыл, не жалея ног! Когда же был на сажень под двором, Сказал себе, совсем не ради шутки: «Не знатен я. У нас живучи предрассудки, И был бы я вождем, не будь хорьком!»1832
* * *
Дом вырастал на поле – светлый, красивый, новый. Рядом лягушки жили, ночью кричали совы. Сказала сова спросонья: «Мне этот новый дом!» А жаба, зевнув, прошипела: «Я поселюся в нем!» Сказал человек: «Известно, в развалинах совы живут, А жабы в гнилье и в скважинах свой находят приют! В доме моем высоком, светлом, красивом, новом Не приютиться жабам и не поселиться совам!»[1833]
EXEGI MUNIMENTUM AEKE PERENNIUS…
[Я воздвиг крепость прочнее бронзы… (лат.)]
Из Горация Встал памятник мой над пулавских крыш стеклом. Переживет он склеп Костюшки, Пацов дом, Его ни Виртемберг не сможет бомбой сбить, Ни австрияк-подлец немецкой штукой срыть. Ведь от Понарских гор до ближних к Ковно вод, За берег Припяти слух обо мне идет, Меня читает Минск и Новогрудок чтит, Переписать меня вся молодежь спешит. В фольварках оценил меня привратниц вкус, Пока нет лучших книг – в поместьях я ценюсь. И стражникам назло, сквозь царской кары гром В Литву везет еврей моих творений том.Париж, 12 марта 1833 г.
Стихотворение, навеянное визитом Францишка Гжималы
ЭПИЛОГ К ПОЭМЕ «ПАН ТАДЕУШ»
Так думал я на улицах парижских, В шумихе, в хаосе обманов низких, Утраченных надежд, проклятий, споров, И сожалений поздних, и укоров. О, горе нам? бежавшим на чужбину В суровый час, кляня свою судьбину. Тревога неотступно шла за нами, Все встречные казались нам врагами. Все туже сдавливали нас оковы, Еще. чуть-чуть – и задушить готовы. Когда и к жалобам все были глухи, Когда из Полыни доносились слухи, Как похоронный звон, как плач надгробный, Когда притворный друг и недруг злобный Старались сжить нас поскорей со света И даже в небе не было просвета, То дива нет, что нам постыло это, Что, потеряв от долгой муки разум, Накинулись мы друг на друга разом. Хотел бы малой птицей пролететь я Сквозь бури, грозы, ливни, лихолетье И вновь вернуть безоблачность погоды. Отцовский дом, младенческие годы. Одна утеха в тяжкую годину С приятелями ближе сесть к камину, От шума европейского замкнуться, К счастливым временам душой вернуться, Мечтать о родине, забыв чужбину. Зато о крови, льющейся рекою, О родине, охваченной тоскою, О славе, что еще не отгремела, О них помыслить и душа не смела! Народ перетерпел такие муки, Что мужество заламывает руки! Там в горьком трауре мои собратья, Там воздух тяжелеет от проклятья, В ту сферу страшную лететь боится И буревестник – грозовая птица. Мать-Польша! Так недавно в гроб сошла ты, Что слов нет выразить всю боль утраты! Ах! Чьи уста похвастаться готовы, Что ими найдено такое слово, Которое вернет надежды снова, Развеет мрак отчаянья былого, Поднимет сердца каменное веко, Чтоб горе выплакать. Не хватит века Такое слово отыскать на свете, Придется ждать его тысячелетье. Когда же наконец с рычаньем гордым Ударят мщенья львы по вражьим ордам И смолкший крик врагов всему народу Вдруг возвестит желанную свободу, Когда орлы родные с громом славы Домчатся до границы Болеслава, Врагов в тяжелой битве уничтожат, Упьются кровью всласть и крылья сложат, Тогда, увенчанны листвой дубовой, Уже без снаряженья боевого, Герои к песням возвратятся снова: Им в доле их высокой и завидной О прошлом слушать будет не обидно, Над судьбами отцов заплачут сами Печальными, но чистыми слезами. Сегодня нам, непрошеным, незваным, Во всем былом и будущем туманном Еще остался мирный край, однако В котором счастье есть и для поляка: Край детства, с нами неразрывно слитый, Как первая любовь не позабытый. Он не отравлен горьким заблужденьем, Не омрачен бесплодным сожаленьем, Не затуманен времени теченьем. О, если б сердце улететь могло бы Туда, где я не знал ни слез, ни злобы, Где, как по лугу пестрому, по свету Бродили, радовались первоцвету, Топтали белену, а трав целебных Не избегали на лугах волшебных. Тот край счастливый, небогатый, скромный Был только наш, как божий мир – огромный. Все в том краю лишь нам принадлежало, Все помню, что тогда нас окружало, От липы той. что на холме росла там И зеленью дарила тень ребятам, До ручейка, бегущего по скатам, Все было близко нам и все знакомо Вплоть до границы, до другого дома. Те земляки, покинутые нами, Одни еще остались нам друзьями Союзниками верными навечно. Кто жил там? Мать, сестра, еще, конечно, Приятели; когда мы их теряли, Как долго предавались мы печали! И не было конца слезам, рассказам… Там к пану крепче был слуга привязан, Чем муж к жене в иных краях. Там, в Польше, Солдат о сабле сокрушался дольше, Чем брат о брате здесь. Там горше втрое Оплакивали пса, чем здесь героя. Друзья мои, лишь в руки взял перо я, За словом слово в песню мне бросали, Как в сказке журавли, что услыхали Над диким островом в стране тумана Крик заколдованного мальчугана, По перышку бросали, по другому, Он, сделав крылья, долетел до дому. Дожить бы мне до радостного мига, Когда войдет под стрехи эта книга, Чтоб девушки за пряжею кудели Не только бы родные песни пели Про девочку, что скрипку так любила, Что и гусей для скрипки позабыла, Про сиротинку зорьку-заряницу, Что на ночь глядя загоняла птицу, Чтоб взяли девушки ту книгу в руки, Простую, как народных песен звуки. Бывало, предавались мы забаве Под липою валялись на отаве, Читая о Юстине и Веславе, Садился эконом за столик рядом, А то и пан, коль проходил он садом, И не мешали чтению, порою Нам объясняли то или другое, Хваля хорошее, простив дурное. И ревновали мы поэтов к славе, Еще гремящей там, в лесу и в поле, Хотя не увенчал их Капитолий Но рутовый венок, сплетенный жницей, Лаврового венка милей сторицей.* * *
От самого себя меня оборони! Сквозь письмена твои я зрю в иные дни, Как солнце сквозь туман, который золотою Нам мнится пеленой, а солнце – слепотою. Но тот, кто зрячей солнц, жемчужный тот туман Воспринимает как очей самообман. Лучом моей людской и солнечной зеницы Пронзаю глубь твою, тянусь к твоей деснице И.вопию: «Открой мне тайн твоих темницы!» Узнай про мощь мою – ты равен только ей Премудростью своей и волею своей. Не знаешь своего начала? Так и племя Людское своего не помнит появленья. Чем занят ты? В себя извечно погружен. И род людской – в своих делах погряз и он. Для мудрости своей ты сам непознаваем, И мы о нас самих в незнанье пребываем. Не знаешь ты конца – и мы не можем знать, Умеем, как и ты, делить, соединять. Ты – разный, ну и мы умами несводимы, Един? Ну что ж, и мы – сердцами мы едины. Ты мощен в небесах, мы звезды числим там; Всевластен на морях – мы бродим по морям. Ты, что сияешь без восхода и захода, Чем отличён, скажи, ты от людского рода? Воюешь на земле и в небе с сатаной? Воюем мы в себе и боремся с собой. Однажды ипостась ты принял человека, На миг – или таким ты пребывал от века?[1835–1836]
РАСКАЯНИЕ ПРОМОТАВШЕГОСЯ
О, сколько вас, приятелей, подруг, В очах, подобно звездам, промелькнуло. К моим рукам тянулось столько рук! Ни разу сердце к сердцу не прильнуло. Проматывал я сердце, как казну Младой транжир. Но должники, не каясь, Сбежали. Можно ль ставить мне в вину, Что стал приметлив, что остерегаюсь Довериться сомнительным рукам? Прощайте вы, прелестницы, прощайте, Знакомцы юности – прощаю вам! А крохи, уцелевшие на счастье, До времени я прячу, юный мот. Уже о старческом забочусь хлебе… Нашел того, который часа ждет, Чтоб отплатить с лихвою… Он на небе![1835–1836]
* * *
Прясть любовь, как шелкопряд нить внутри себя снует, Источать из сердца, как льется из земли ручей, Развернуть, как златобой, что из зернышка кует Золотой листок; впитать в глубину души своей, Словно ливни пьет земля; реять с ней среди высот, Словно ветер; и раздать, как пшеница раздает» Семена; и, словно мать, – пестовать среди людей. И сравнится мощь твоя с полнотою сил природных, А потом, как мощь стихий, разрастется мощь твоя, А потом сравнится мощь с мощью соков живородных, После – с силою людской, с мощью ангелов господних, И сравняешься в конце со владыкой бытия.1839, Лозанна
* * *
Над водным простором широким Построились скалы рядами, И их отраженья глубоко В заливе кристальном застыли… Над водным простором широким Промчалися тучи грядами, И их отраженья глубоко. Как призраки дымные, плыли… Над водным простором широким Огонь в облаках пробегает, Дрожит в отраженье глубоком И, тихо блеснув, угасает… Опять над заливом день знойный, И воды, как прежде, спокойны. В душе моей так же печально, И глубь ее так же кристальна… И так же я скал избегаю, И так же огни отражаю… Тем скалам – остаться здесь вечно, Тем тучам – лить дождь бесконечно… И молньям на миг разгораться… Ладье моей – вечно скитаться.Лозанна [1839–1840]
* * *
Когда мой труп садится перед вами, В лицо глядит и тешится словами, Душа не здесь, она давно с ним розно О, далека в тот миг она и слёзна! Есть и у мысли край ее родимый То дивный край, и для меня он отчий, У сердца моего там побратимы И та родня ему дороже прочей. Туда в разгар забот или забавы Вдруг ухожу. Там запах медуницы, Там на лугу, где по колено травы, Со мной играют бабочки и птицы. И светлая сбегает по ступеням, Пересекает жито молодое, И тонет в нем, и, выплывая с пеньем, Встает на взгорье утренней звездою.[1839–1840]
* * *
Полились мои слезы, лучистые, чистые, На далекое детство, безгрешное, вешнее, И на юность мою, неповторную, вздорную, И на век возмужания – время страдания: Полились мои слезы, лучистые, чистые…[1839–1840]
УПРЯМАЯ ЖЕНА
Самоубийствами весьма богат наш век, И если только человек На берег выйдет погулять, Встревожен чем-то – по всему видать, И если плохо он одет, обут, Речная стража тут как тут! Решает, что пришел несчастный утопиться, И, от души сочувствуя ему, Спасает – и ведет в тюрьму. Однажды человек над Сеною бежал Против течения. Его жандарм поймал, Спросив с официальным удивленьем, Чем объяснить такое поведенье. «Несчастье! – тот кричит, – спасите человека! Моя законная жена Упала в реку!» На что жандарм ему ответствует резонно: «Не знаешь, видно, ты гидравлики закона: Утопленника вниз всегда несет теченье! Против теченья ты несешься почему ж, Когда бежать в обратном должен направленье?» «Моей не знаешь ты жены! – воскликнул муж. Не жизнь у нас была, а вечный спор! Всегда все делала она наперекор, И у меня теперь такое убежденье, Что даже мертвая она плывет против теченья!»1840
БРИТО – СТРИЖЕНО!
Кто немного нездоров, Приглашает докторов, Кто ж серьезней захворает, Тот знахарок приглашает, А у них своя аптека Вмиг излечат человека, Ревматизм, чахотку, рожу Иль желудка несваренье. Глухота и глупость тоже Поддаются излеченью, Лишь упрямство, как ни бились, Излечить не научились. Жил под Згежем некий Мазур, У него пропала сука Сторож дома и лабаза. Без нее в хозяйстве – мука. Ищут, ищут, ищут всюду, Но она – как знать причину?.. Вдруг сама вернулась… Чудо! Выбрита наполовину! «Негодяи! – вскрикнул Мазур, Чтоб ее узнать не сразу, Выкинули, черти, штуку И побрили нашу суку!» «Нет, она острижена, Говорит ему жена, Псов стригут, а эта брита?..» Мазур смотрит ядовито: «Ты – с лицом ладони глаже, Бородатых обучаешь! Бредни! Стыдно слушать даже! А наш пан – как ты считаешь, Как по-твоему? – старик Лысину свою постриг?» «А усат наш эконом, Скажем прямо, словно сом, Мне, пожалуйста, скажи ты: Что же – стрижен или брит он?» «Будь он проклят, этот сом, Этот пан и эконом! Мазур говорит сердито. Хорошо, что сука дома, Хоть чудовищно обрита…» «Да, ты прав. Я тоже рада, Говорит жена со вздохом, Но, увы, признаться надо, Что ее остригли плохо…» «Ты о ножницах опять!» «Ты о бритве вспоминать! Повнимательней смотри ты Видишь, стрижена!» «Нет, брита!» «Отчего же так неровно? Это стрижка, безусловно!» Так заспорили супруги… Шум идет по всей округе, Все смеются и галдят, «Брито! Стрижено!» – кричат. «Подойди, скажи, сосед, Сука стрижена иль нет?» «Подъезжай, еврей, скажи ты, Разве сука не побрита?..» Ксендз потом опрошен был, Даже пан смотреть ходил. Сей консилиум решил Твердо и единогласно, Что слепому даже ясно Брита бедная собака… «Поняла ли ты, однако?» Муж спросил жену в дороге. Нет ответа. На пороге Сучку увидали вдруг. «Здравствуй, мой побритый друг!» А жена: «Как рада я, Стриженая ты моя!» Тут не выдержал наш Мазур. Онемев от злости сразу, Молча он жену берет И к пруду ее несет. Как с соленьями кадушку, Окунул свою подружку. Захлебнулась баба сразу, Но во гневе страшен Мазур, Он кричит: «Ну, что, жена, Брита или стрижена?» Задыхается бедняжка, Но, как ни было ей тяжко, Пальцы высунув наружу, Словно ножницами, стала Ими стричь под носом мужа. Мазур в ужасе тогда Прочь метнулся от пруда… Добрела жена до хаты, Бедный муж ушел в солдаты.[1840]
ГРАЖИНА
Литовская повесть
Дул ветер – и холодный и сырой. В долине – мгла. А месяц плыл высоко, Средь круговерти черных туч порой Ущербное показывая око. Вечерний мир – как сводчатый чертог: Вращающийся свод его поблек, И лишь окно чуть брезжит одиноко. Весь Новогрудский замок на крутом Плече горы луною позолочен. Поросший дерном вал высок и прочен. Песок синеет. Тень косым столбом Уходит в ров, где вздохи влаги сонной Колеблют бархат плесени зеленой. Спит Новогрудок. В замке тушат свет. Лишь стражам, окликающим друг друга, Ни сна на башнях, ни покоя нет. Но кто внизу проносится вдоль луга? Кто при луне закончить путь спешит? За тенью тень ветвистая бежит, И топот слышен, – верно, это кони, И что-то блещет, – верно, это брони. Слышнее ржанье, громче звон подков… Три рыцаря торопят скакунов. Приблизились – и вспыхнул отблеск лунный. Один из них дохнул в рожок латунный, И троекратно прозвучал рожок. И рог ему ответил с башни темной, Зажегся факел, зазвенел замок, И с лязгом опустился мост подъемный. На звон подков дозорные спешат, Чтоб разглядеть мужей и их наряд. Был первый рыцарь в полном снаряженье, Что надевает немец для сраженья. Нагрудный крест на золотом шнуре, Крест на плаще – на белой ткани четкий, Рог за спиной, копье в гнезде, и четки За поясом, и сабля на бедре. Литовцам эти признаки не внове, И рыцаря нетрудно им признать. «Из крестоносной псарни прибыл тать, Пес, разжиревший от литовской крови! Когда бы стража не стояла здесь, В глубоком рву свою он смыл бы спесь И голову ему я вбил бы в плечи!» Так шепчутся, – и рыцарь изумлен И возмущен… Хотя и немец он, А все ж людские разумеет речи!1 «Князь во дворце?» – «Он здесь, но в этот час Литавор-князь принять не может вас, Посольство ваше слишком запоздало; Быть может, поутру…» – «Не поутру, А сей же час! Нам ждать нельзя нимало. Я на себя ответственность беру. Ступайте, о посольстве доложите И перстень этот князю покажите, Князь по гербу поймет, кто я такой И почему смутил его покой». Все тихо. Замок спит. Но что за диво? Куда как ночь осенняя длинна, А в башне князя лампа зажжена И звездочкой мерцает сиротливой. Князь длительной поездкой утомлен, Отягощенным векам нужен сон. Но спит ли князь? Идут узнать. Он даже И не ложился. Из дворцовой стражи Никто ступить на княжеский порог В столь поздний час осмелиться не мог. Посол напрасно и грозит и просит, И просьбы и угрозы – звук пустой., «Где Рымвид?» – «Спит». Идут в его покой. Он волю князя подданным приносит, Его считает князь вторым собой И на совете, и на поле брани; Он, может князя видеть в час любой В опочивальне и в походном стане. Темно в опочивальне. На столе Светильник еле теплится во мгле. Литавор ходит взад-вперед угрюмо И застывает, омраченный думой. О немцах Рымвид речь свою ведет. Краснеет князь, бледнеет и вздыхает, Хоть внемлет – ничего не отвечает, А на челе его – печать забот. Князь поправляет лампу: в ней до масла Фитиль не доставал; но почему Он сделал так, что лампа вдруг погасла, Нарочно иль невольно – не пойму… Спокойствия, тревожась чрезвычайно, Лицу придать не мог он своему, Хоть и желал, чтоб сокровенной тайной Слуга его не завладел случайно… Молчит Литавор и вперед-назад Под окнами решетчатыми ходит; Луна свой луч на смуглый лик наводит. Черты суровы. Рот угрюмый сжат, Нахмурен лоб, и ярко блещут очи, Как молнии среди глубокой ночи, И взор суров. Уходит в угол князь, Дверь запереть велит, оборотясь. Волнение он сдерживает снова И говорит, спокойным притворись, Глумливым смехом приправляя слово: «Ты в Вильне был и знаешь, Рымвид мой, Что милостивый Витовт не в обиде На своего слугу и князем в Лиде Меня готов поставить. За женой Я земли взял. И мне мои владенья Дарует Витовт в знак благоволенья!» «Все правда, князь!» «Так выступим же в путь. Как подобает князю, за дарами. Вели мои знамена развернуть! Вели мой замок озарить огнями! Где трубачи? Они спешить должны На рынок новогрудский о полночи И там на все четыре стороны Трубить без передышки, что есть мочи, И труб да не опустят трубачи, Пока всех рыцарей не перебудят. Пускай наточат копья и мечи! Пусть каждый рыцарь в бронь закован будет! Взять корму для людей и лошадей, А женам снедь готовить для мужей, Чтобы с утра до вечера хватило! Пасутся кони – в город привести, Седлать их и готовиться к пути. Когда, блеснув над Мендога могилой, За Щорсами зажжется факел дня, Пускай, подняв мой стяг ширококрылый, На Лидском тракте войско ждет меня!» И князь умолк. Советника седого Смутил обычный боевой приказ; Зачем он был в полночный отдан час И почему взор князя так сурово Сверкал, когда за словом резким слово Вперегонки бежало, как в бреду? Казалось – высказана половина, В груди другая смята, словно глииа, Со смыслом речи голос не в ладу, Все предвещает бурю и беду. Желал Литавор, чтоб с его приказом Советник удалился, все же тот Как будто бы еще чего-то ждет. Увиденное искушенным глазом С услышанным сопоставляет разум И легких слов тяжелый чует гнет. Что предпринять? Он знает: уговорам Не часто князь внимает молодой, Пустым не любит предаваться спорам, В душе скрывает замысел любой; Встает преграда – все ему едино, Он только разгорается сильней… Но Рымвид – и советчик господина, И рыцарь, верный родине своей, Погряз бы в несмываемом позоре, Когда б народа не сберег от бед. Сказать? Молчать? Колеблется… Но вскоре Он сообщает князю свой совет: «Куда мой государь ни устремится, Нам хватит и людей и лошадей. Едва укажет путь твоя десница, Все ринутся за славою твоей, Да и меня помчит мой конь горячий… Но относись, мой государь, иначе К толпе простой – орудью рук твоих И тем мужам, что большего достойны. От всех таясь, и твой отец покойный Прял часто нить деяний боевых; Но, прежде чем мечи сзывать на дело, Звал на совет мудрейших старый князь, Где слово мог и я промолвить смело, Своим свободным мнением делясь. Прости, когда сейчас, в ночное время, Устам замолкнуть сердце не велит. Я долго жил. Мне на седое темя Времен и дел легло большое бремя. Но вот теперь приемлет новый вид, И сердце постаревшее томит… Коль впрямь идешь на Лидские владенья, Тебе принадлежащие, в поход, Такой поход, подобный нападенью, Всех подданных от князя оттолкнет. Смутится старый подданный, а новый Изведает лишенья и оковы. Весть, как зерно, на землю упадет, Молва ее взлелеет и умножит, Потом родится ядовитый плод, Отравит мир и славу изничтожит, И скажут: алчность жадная твоя Тебя в чужие завлекла края. Не так пути прокладывали к славе Князья Литвы в былые времена: Закон и мир несли своей державе, И тех князей мы помним имена. Верна дорога старая. Коль скоро Пойдешь по ней, то я – твоя опора. Я рыцарям благую весть подам И тем, что близко в городе остались, И что по сельским разбрелись грядам, Чтобы немедля в замок собирались. Твоя родня и знатные мужи, Великолепья и охраны ради, Со свитой будут у тебя в отряде; А мы хоть завтра, только прикажи, Иль послезавтра, при любой погоде, Пойдем вперед с прислугой и жрецом, Потребное для пиршеств припасем И заготовим, как велит обычай, Побольше меду и побольше дичи. Не только что простой народ, а знать От лакомства – и та не отвернется И служит преданно, коль доведется Руки господской щедрость увидать. Таков обычай на Литве и Жмуди, Как старые рассказывают люди». Стал у окна и молвил погодя: «Уж как бы ветер не нагнал дождя! Вон чей-то конь у башни. Дремлет стоя. Там рыцарь, на седло облокотясь. А там коней прогуливают двое… Я узнаю послов немецких, князь! Впустить послов? Иль ждут пускай, доколе Ты княжеской не сообщишь им воли?» Спросив, окошко затворил на крюк, На господина поглядел украдкой; Он о тевтонах речь завел не вдруг; Приезд послов был для него загадкой. Князь торопливо говорит в ответ: «Когда в чужом нуждаюсь я совете, Себе не веря, для меня на свете Один советчик – ты, другого нет. Ты истинно доверия достоин, В совете – старец, в поле – юный воин. Я не люблю, чтоб видел чуждый глаз То, что в тиши взрастил я одиноко. Мысль, что во мраке сердца родилась, Нельзя на солнце выставлять до срока. Пусть, воплотясь, она, как вешний гром, Убьет сначала, а сверкнет – потом! Спроси: когда? Спроси: куда? Не скрою: Сегодня-завтра – через Жмудь, на Русь!» «Не может быть!» – «Так быть должно, клянусь! Я сердце открываю пред тобою. Я потому велел седлать коней И выйти с войском Витовту навстречу, Что ищет он погибели моей, Готовит мне губительную сечу. Меня он хочет в Лиду заманить, Чтоб заточить в темницу иль убить! Но предложили мне союз тевтоны, Они отряд мне посылают конный, А я магистру Ордена за труд Пообещал добычи нашей долю. Ты видишь сам – послы у замка ждут: Спешит магистр мою исполнить волю. Еще Седьмые Звезды не зайдут, Мы выступим, и в общий строй с Литвою Три тысячи тевтонов на конях Войдут, а с ними кнехтов пеших вдвое. Когда я у магистра был в гостях, Я сам назвал количество такое. Бронь боевая тяжко облегла Их мощные, огромные тела, Копейщики, что скалы, рядом с нами. А уж когда начнут рубить мечами… А каждый кнехт – с железною змеей! Накормит он змею свинцом и сажей, И пасть ее направит к силе вражьей, И хвост уколет искрой огневой, Убьет иль ранит, кнехтом наведенный, Железный гад!.. Так древле в миг один Повержен был мой прадед Гедимин На достославных насыпях Велоны. Готово все. Мы потайным путем Приблизимся, покуда Витовт в Лиде Еще не приготовился к обиде… Ворвемся, перережем, подожжем!» В смятенье Рымвид. Недоумевая Стоит, нежданной вестью поражен. От близких бурь спасенья ищет он. В бегущей мысли тонет мысль другая. Но ждать нельзя. Печалясь и гневясь, Он говорит Литавору: «Мой князь! Ужель на брата брат пойдет? О, горе! Зачем я дожил до такой поры! Вчера на немцев шли мы в топоры, Днесь топоры мы точим им в подспорье! Ужасна рознь, но хуже мир такой. Огонь скорее примиришь с водой!.. Случается, что со своим соседом Сосед враждует много лет подряд, Вдруг, словно им старинный гнев неведом, Обнимутся, друг другу молвив: «Брат!» Бывает, что и злейшие соседи, Закон вражды приявшие в наследье, Литвин и лях, – из чаши общей пьют, Проводят время в дружеской беседе, Ночуют рядом, делят ратный труд. В былой вражде сыны Литвы и Польши Нередко доходили до войны; Но человек и гад ползучий – больше Друг против друга ожесточены. А если уж вползает к нам в жилище, Ему во славу божию литвин От века не отказывает в пище: Пьют молоко, и ковш у них один. И, зла не причиняя, в колыбели Гад на груди младенца мирно спит, Свернувшись в бронзовое ожерелье. Но кто тевтонских гадов укротит Гостеприимством, просьбами, дарами? Мазовии и Пруссии царями Добра немало брошено им в пасть, И гады часа ждут, чтобы напасть, И пасти их зияют перед нами! Единство сил – вот верный наш оплот! Напрасно мы влечемся что ни год, Чтоб срыть одну из крепостей тевтона. Похож проклятый Орден на дракона: С плеч голова – другая отрастет. Другая с плеч, – а как нам быть с десятой? Все сразу ссечь! Его мирить с Литвой Напрасный труд. У нас простой оратай, Не то что князь, – твой подданный любой Возненавидел злобный и лукавый Нрав крестоносца. Крымскую чуму И ту литвины предпочтут ему; Им легче лечь костьми в борьбе кровавой, Чем увидать врага в своем дому, И лучше руку на огне держать им, Чем обменяться с ним рукопожатьем. Грозит нам Витовт?.. Разве до сих пор Без немцев мы не выходили в поле? Разросся впрямь раздор, – но до того ли, Что куколя семейных наших ссор Не вырвут руки дружеской приязни, Меч сохранив для справедливой казни? Откуда, князь, уверенность, что слова Не сдержит Витовт и откажет снова И договор нарушит? Почему Изменит он? Отправь меня к нему, Возобновим союз…» – «Нет, Рымвид, хватит! Что Витовту его договора! Попутный ветер нес его вчера, Сегодня новый на него накатит. Вчера еще я верить мог ему, Что Лиду я в приданое возьму. Сегодня замышляет он другое, В удобный час пускаясь на обман: Мои войска далеко, на покое, А он под Вильной свой раскинул стан И заявляет, будто бы лидяне Мне подчиниться не хотят, и он, Князь Лиды, в исполненье обещаний Иной удел мне выдать принужден. Пустую Русь, варяжские болота!.. Вот где мне быть! Он, верно, оттого-то Родных и братьев гонит в край чужой, Что всей намерен завладеть Литвой. Вон как решил! Хоть разные дороги, Да цель зато у Витовта одна: Была бы спесь его вознесена, А равные – повержены под ноги! Иль не довольно Витовт на коне Держал Литву? Навеки ль, в самом деле, Кольчуги наши приросли к спине. Ко лбу заклепки шлема прикипели? Грабеж да битва, битва да грабеж, Весь мир прошел, а все еще идешь: То немцев гнать; то через Татры, дале, На села Польши; то в глухих степях, За ветром, уплывающим в печали, Монголов бить, взметая жгучий прах… И все, что мы в походах добывали, Чего живая сабля не ссечет, Не сгложет голод, пламя не дожжет, Все Витовту! На этих исполинских Усильях наших мощь его растет; Все города он взял себе – от финских Заливов бурных до хазарских вод. Ты видел, каковы его чертоги! Я был в тевтонских крепостях. В тревоге Глядят на них, бледнея, храбрецы. Но трокский или вильненский дворцы Еще величественней их. Под Ковно Широкий дол открылся предо мной: На нем русалки раннею весной Цветы и травы расстелили ровно, Нет благодатней места под луной! Но – веришь ли! – у Витовта в палатах Узорчатые травы и цветы Куда свежее на коврах богатых, На тканях несравненной красоты! То серебро, то золото… Богини Таких цветов создать бы не могли, Но выткали их ляшские рабыни. Стекло для окон замка привезли Откуда-то из дальних стран земли: Блестит, как польская броня иль Неман, Когда еще под ранним солнцем нем он И с берегов уже снега сошли. А я – что взял за ратный труд! С пеленок Что принял я? Кольчугу да шелом. Природный князь, как нищий татарчонок, Я был вскормлен кобыльим молоком. Весь день в седле. В ночи лошажья грива Подушкой мне: прижался к ней – и стой До утреннего трубного призыва… В те времена, когда ровесник мой Верхом на палке, с саблей деревянной, Решив потешить мать или сестру Сражения картиною обманной, Устраивал невинную игру, Не в шутку я с татарами сражался И с польской саблей мой клинок скрещался. За Эрдвиллом сменялся князем князь, А вотчина моя не разрослась. Ты погляди на мой дворец кирпичный, На частокол дубовый погляди, Моих отцов обитель обойди, Где свод стеклянный? Где металл добычный? Покрыты стены мшистой скорлупой, А не бесценной тканью золотой. Я шел сквозь дым из боя в бой кровавый Не за богатством, а за бранной славой. Но Витовт всех их славою затмил: Он – словно солнце средь других светил, Его поет, как Мендога второго, За пиршественной чашей вайделот, Его дела до внуков донесет Гул вещих струн и песенное слово. А кто, скажи мне, наши имена В грядущие припомнит времена? Я не завистлив. Пусть ведет с кем хочет Победный бой – и славен, и богат, Но пусть зубов на княжества не точит, Что не ему, а нам принадлежат. Давно ль потряс – в дни мира и покоя Литовскую столицу произвол И Витовт беспощадною рукою С престола прочь Ольгердовича смел? О властолюбец! Как во время оно Гонец Крывейта, так его гонец Князей возводит и низводит с трона. Но мы положим этому конец. На спинах наших ездил он довольно! Пока горит в моей груди огонь, Пока руке железо подневольно, Пока быстрее кречета мой конь, Что был добычей крымскою моею (Такого же я дал тебе коня, Другие десять в стойлах у меня: Для верных слуг я их не пожалею), Пока мой конь… Пока я полон сил…» Тут горло князю гнев перехватил, Меч зазвенел. Собою не владея, Князь вздрогнул и поднялся. И тогда Какое пламя пронеслось над князем? Так, покидая небосвод, звезда Летит стремглав, роняя искры наземь… Князь обнажил тяжелый свой клинок И в пол ударил, и под своды зданья Снопом взлетело пламя из-под ног. И окружило снова их молчанье. Вновь князь заговорил: «Довольно слов! Пожалуй, ночь достигла половины, Сейчас вторых услышим петухов. Отдай приказ вождям моей дружины. Я лягу. Телу надобен покой, И сна возжаждал дух смятенный мой: Три дня, три ночи я не спал в дороге. Взгляни, как блещет месяц полнорогий, День будет ясен. Кейстута сынам Достанутся не пышные чертоги, А только щебень с пеплом пополам!» В ладони хлопнул князь. Вбежали слуги, Ему раздеться помогли. Он лег На ложе при советнике и друге, Чтобы с орей тот вышел за порог. И Рымвид подчинился поневоле И, господину не переча боле, Ушел. По долгу верного слуги Веленье князя передал дружине И в замок вновь направил он шаги. Ужель вторично он посмеет ныне Литавора тревожить? Нет, идет К другому, левому крылу твердыни. Уж позади подъемный мост. И вот Он в галерее, у дверей княгини. Тогда за князем замужем была Дочь величавой Лиды властелина, И первою на Немане слыла Красавицей прекрасная Гражина. Она уже пережила рассвет, Она вступила в полдень женских лет, Зато владела прелестью двойною И зрелой и девичьей красотою. Казалось – видишь летом вешний цвет, Что молодым румянцем розовеет, А в то же время – плод под солнцем зреет… Кто краше, чем Литавора жена? Кто стройностью с княгинею сравнится? Гражина тем еще могла гордиться, Что ростом князь не выше, чем она. Когда, как лес, прислужники со свитой Вокруг четы толпятся именитой, Князь молодой с красавицей женой Как тополя над чащею лесной. Не только стан красавицы княгини, Но и душа была под стать мужчине. Забыв о пяльцах и веретене, Она не раз, летя быстрее бури Верхом на жмудском боевом коне, Охотилась – в медвежьей жесткой шкуре И рысьей шапке – с мужем наравне. Порой, со свитой возвратясь, Гражина Обманывала глаз простолюдина, Литавору подобная вполне; Тогда не князю, а его супруге Почет смиренно воздавали слуги. Среди трудов совместных и забав, Усладой – в горе, в счастье – другом став, Княгиня, с мужем разделяя ложе, С ним разделяла бремя власти тоже. И суд, и договоры, и война, Хоть не было другим известно это, И от ее зависели совета. Была мудрей и сдержанней она Хвастливых жен, главенствующих дома, Самодовольство не было знакомо Супруге князя. Удавалось ей Хранить от постороннего вниманья, От самых проницательных людей Живую силу своего влиянья. Но Рымвиду известно было, где Искать ему поддержку надо ныне. Все, что узнал, поведал он княгине, Сказал, что скоро быть большой беде, Что князь не может избежать позора, Ведя народ дорогою раздора. Словами Рымвида потрясена, С собой сумела совладать она. Волненья своего не выдавая, Промолвила княгиня молодая: «Не думаю, чтоб женские слова Влияние на князя возымели. Он сам себе советчик и глава И замысел осуществит на деле. Но если это временный порыв, То гнев пройдет, грозы не возбудив. Ведь молод князь: порой свое стремленье Он ставит выше разума и сил: Пусть время и благое размышленье Утишат мысли и остудят пыл, Забвенья тьма его слова покроет… А нам пока тревожиться не стоит». «Прости, княгиня! Слышал я слова Не те, что в час беседы откровенной Мы забываем, высказав едва; Мне выдал князь не замысел надменный, Которым только миг душа жива; Я наблюдал пожар души смятенной, Я чуял гнева крепнущий порыв И жар, который предвещает взрыв! Уже немало лет при господине Я неотлучно состою слугой, Но я не помню, чтобы князь доныне Так откровенно говорил со мной. На Лидском тракте он велел дружине Собраться перед утренней звездой. Спеши! Не жди до рокового срока, Ведь ночь светла и Лида недалеко». «Какую весть приносишь, старый друг! По всей Литве молва промчится вскоре, Что брата взял за горло мой супруг, Чтоб отстоять приданое! О, горе! Как вынуть мне у мужа меч из рук? Пойду скажу, что счастья нет в раздоре… Покуда солнце высушит росу, Ответ благоприятный принесу!» Хоть цель пред ними общая стояла, Они простились, кончив разговор. Не медля в горнице своей нимало, Княгиня вышла в тайный коридор, Советнику терпенья не хватало Спокойно ждать, чем разрешится спор, И вот он по наружной галерее К покоям князя поспешил скорее. Он смотрит в щелку. Вдруг, приотворясь, Дверь заскрипела в боковом приделе Опочивальни. «Кто здесь?» – крикнул князь. «Я», – женский голос отвечал. С постели Литавор встал. Хоть слов отдельных связь Порой терялась и слова слабели, Поглощены камнями стен сырых, Но Рымвид понял содержанье их. Княгинин голос чаще раздавался. Ее, сперва взволнованная, речь К концу беседы тише стала течь, А князь молчал и, мнилось, улыбался. Он встал (поднять иль оттолкнуть жену?), Когда она упала на колени, И что-то через несколько мгновений Промолвил с жаром. Больше тишину Ничто не нарушало. Отворилась Неслышно дверь. За ней княгиня скрылась, И – снизошел ли князь к ее мольбе, Она ль решила прекратить моленья Княгиня удаляется к себе. Ложится князь. Пройдет еще мгновенье, Пред ним предстанут сонные виденья. Советник, выйдя, увидал пажа: Тот немцам что-то говорил с балкона; И Рымвид замер, слух насторожа. Хоть ветер, гнавший тучи с небосклона, Ему ни слова разобрать не дал, Значенье речи Рымвид разгадал: Паж на ворота указал рукою. Тевтон, взбешенный дерзостью такою, В седло вскочил, крича: «Святым крестом Клянусь тебе – сим знаком командора, Когда бы только не был я послом, Я б не стерпел подобного позора И пролила бы кровь моя рука! Властители с почетом не меня ли У кесарских и папских врат встречали! А здесь, в Литве, у твоего князька Я под открытым небом жду ответа, И паж велит мне убираться прочь! Ни в чем языческая хитрость эта Не может вам, отступники, помочь. Вы с Витовтом договорились вместе Оружье против нас оборотить, Но Витовту секиры нашей мести От ваших тощих шей не отвратить! Так и скажи. Князь не поверит, – снова Все повторю сначала слово в слово, Не изменив ни буквы, потому Что рыцарская клятва как молитва, И мой клинок, чуть разразится битва, То, что сказал я, подтвердит ему. Для нас вы яму роете, но сами Окажетесь еще сегодня в яме! Я – Дитрих фон Книпроде, командор Поклялся так. Эй, кнехты, марш за мною!» И взвился конь. Пустеет княжий двор. Три всадника летят во весь опор Через пустое поле под луною. Порой заблещут брони седоков, Порой услышишь звяканье подков, Коней раздастся ржание порою… И в лунной мгле, среди глухих лесов, Скрываются за дальнею горою. «Спеши, посол! Чтоб этих гордых стен Тебе до гроба не увидеть боле! С улыбкой Рымвид вглядывался в поле: За ночь одну – как много перемен! Как благотворно женское влиянье! Нет, не дается смертному познанье Чужого сердца! Гневен и суров, Князь не давал мне вымолвить двух слов, У птицы взял бы крылья для полета, Чтоб ринуться на Витовта, – но вот Одна улыбка, нежной речи мед И вмиг прошла к сражениям охота». Забыл старик – остывшая душа, Что молод князь, княгиня хороша. В раздумье Рымвид подымает очи: «Ужель в окне лампада не зажглась? Но не желтеет огонек средь ночи… И – снова на крыльцо: быть может, князь Уже зовет? Ни звука. Часового Он спрашивает, не было ли зова. К дверям подходит – слышит, как во сне Князь мерно дышит в полной тишине. «Все, все смешалось ныне. Что за диво! Я, право, ничего не разберу… Вчера во власти гневного порыва Велел мне князь войска собрать к утру И спит еще, хоть близок час рассвета. Он сам призвал врагов страны своей… И вдруг приказ уехать без ответа Послам принес паж госпожи моей! Хотя не мог расслышать я ни слова, Но ясен был мне княжеский ответ Он говорил так резко и сурово… Ужель она, не глядя на запрет, Могла решиться на такое дело, Лишь на свою надеясь красоту? Но как бы ей, летящей слишком смело, Не изменили крылья на лету! Она была решительна и ране, Но это – выше всяких ожиданий…» Закончить мысли Рымвид не успел: По лестнице прислужница сбегает И с нею в левый замковый придел Идти ему тихонько предлагает. Княгиня вводит Рымвида в покой И двери затворяет за собой. «Советник добрый, дело наше худо, Но прочь гони отчаяния тень! Ушла надежда в эту ночь отсюда, Ее вернет, быть может, новый день. Терпение! Не выдадим ни словом Своих тревог солдатам и дворовым, Послов отправим с честью, чтобы князь. Еще пылая местью и гневясь, Не поспешил до времени с ответом: Он будет сам раскаиваться в этом. Не бойся! что бы ни произошло, Не будет князю твоему во зло. Он соберет войска в любое время, Коль гнев его дотоле не пройдет. Но – чтоб немедля вставить ногу в стремя И столь поспешно двинуться в поход?.. Как? Даже дня он здесь не проведет! Вчера Литавор снял кольчуги бремя, Ужель ему сегодня в бой идти, Не отдохнув от долгого пути?» «Что слышу я, княгиня! Промедленья Не может быть. Увы, ошиблась ты! Кто за собой решился сжечь мосты, Не станет ждать ни часа, ни мгновенья. Но как твои советы принял князь? Ты высказалась, – что же было дале?» Она уже ответить собралась, Но говорить Гражине помешали. Шум во дворе: примчался верховой. Едва дыша, вбегает паж в покой С известьем от литовского дозора: «На Лидском тракте взяли языка; Тот показал, что подняты войска Тевтонские по воле командора. Уже из леса, как язык донес, За ратью конной двинулась пехота, А за пехотой тянется обоз. Идут они, чтоб город взять с налета. Скорей, скорей! Пока не грянул гром, Пусть Рымвид сговорится с государем! На стенах оборону мы займем Иль в чистом поле на врага ударим? Дозорный говорит, что время есть Удар внезапный коннице нанесть. Покуда кнехтов пешие отряды Еще влекут орудья для осады, Мы конных уничтожим на пути, Не дав им к Новогрудку подойти, Потопчем пеших быстрыми конями И крестоносцы в прах падут пред нами!» Княгиня удивляется. Она Сильнее Рымвида потрясена. «А где ж посол?» – Гражина восклицает. Паж удивленно брови подымает, В упор княгиня смотрит на пажа. Тот говорит: «Что слышу, госпожа! Иль ты не помнишь слов своих? Не мне ли, Когда вторые петухи пропели, Ты княжескую волю принесла, Чтоб до зари спровадил я посла? И твой приказ я выполнил на деле». Она, бледнея, отвращает лик, Не в силах скрыть невольное смущенье, И речи ей – лишенные значенья, Бессвязные – приходят на язык: «Да, я забыла… Я припоминаю… Иду… Как быть? Постойте!.. Нет, я знаю!» Потуплен взор, склоняется чело, Задумалась, не говорит ни слова; Ее черты какой-то мыслью новой Взволнованы. Мелькнуло – и ушло Сомнение. И лик ее светло Созревшее решенье озарило. Тогда, шагнув, она заговорила: «Пойду – и мужа разбужу опять. Пускай у замка строится дружина. Паж, торопись! Вели коня седлать Доспехи принеси для господина. Должно быть все готово сей же час. Ты, Рымвид, отвечаешь мне за это, Я волей князя отдаю приказ. О целях и намереньях – до света Не спрашивать! Ждать во дворе, пока Не выйдет князь, чтобы вести войска!» Ушла, захлопнув двери за собою, И Рымвид размышляет на ходу: «Уже давно колонной боевою Войска стоят. А я куда иду?» Вот он шаги замедлил понемногу, Вот он стоит с потупленным лицом И думает, не зная сам о чем, Уже не в силах одолеть тревогу; Разрозненных и беспокойных дум Собрать не может истомленный ум. «Жду, а меж тем уйдут ночные тени, Разгадку тайны принесет рассвет. Проснулся государь мой или нет Пойду к нему!» Советник входит в сени. Чуть слышно дверь скрипит, приотворясь, Выходит из опочивальни князь. С плеч ниспадает, пурпуром пылая, Обычная одежда боевая Широкий плащ, а лик забралом скрыт, Грудь облегает тяжело и туго Блестящая железная кольчуга; В деснице – пояс, в левой – малый щит. Забота ли его душой владела, Но князь нетвердым шагом шел, и знать, Что вкруг него, как пчелы, зашумела. Не пожелал он взглядом обласкать; Из рук он взял свой лук несмело. Меч справа прикрепил, но указать Никто не смел на это, хоть едва ли Не все оплошность князя увидали. Предвозвещая бой, дружине люб, Стяг золотой уже струит сиянье. Князь на коне. Подъяты жерла труб, Но опустить их, против ожиданья, Он знак дает, не размыкая губ. И, не нарушив странного молчанья, Дружину князь выводит из ворот И в поле через мост ее ведет. Но не по тракту воины погнали Своих коней, а вниз – направо. Дале Среди холмов и зарослей. Потом Пересекли пустынную дорогу И расширяющимся понемногу Идут оврага темным рукавом. От замка на таком же расстоянье, Как слышен гром немецкого ружья, Течет лесная речка без названья, В теснине извиваясь, как змея; И в зеркале озерном цель скитанья Находит беспокойная струя: К воде сбегают вековые чащи С большой горы, над озером стоящей. Примчась туда, литовцы на горе Тевтонские отряды увидали. Сверкнули шлемы в лунном серебре, И по сигналу звякнули пищали. Сомкнулась рота – и за рядом ряд Сплошной стеною рейтеры стоят. Не так же ли на Понара вершине В лучах луны великолепен бор, Когда зеленый облетит убор И росный бисер превратится в иней, Мерцающий, как жемчуг светло-синий, И смотрит путник, сердце веселя, На дивные дворцы из хрусталя? Во гневе меч подняв над головою, Помчался князь на немцев. Позади Нестройною рассыпалась толпою Дружина. Удивляются вожди, Что князь войска не приготовил к бою, Что неизвестно, будет он среди Стрелков иль латников, каким отрядам На флангах быть, каким сражаться рядом. Но Рымвид, князю и слуга и друг, Летит и строит по пути дружину. Растянутый сжимает полукруг: «Стрелки – на фланги! Латники – в средину!» Обычный строй! Сигнал – и в сотнях рук Запели струны луков и лавину Свистящих стрел отправили в полет. «Исус-Мария! На врага! Вперед!» Ударит через несколько мгновений В железо лат тяжелых копий лес… Зачем, о ночь побед и поражений, Твой грозный блеск во тьме времен исчез? Сошлись! Хрустит броня. Мятутся тени. Ударов лязг доходит до небес. Гудят клинки. С плеч головы слетают. Меч пощадит – подковы попирают. Литавор не страшится ничего. Он впереди, как и в начале боя. Враги узнали красный плащ его И герб на шлеме. С целою толпою Он рубится. Враги бегут, и он Летит за ними, битвой увлечен. Какой же бог Литавора карает И почему ослаб его клинок, Что по броне со звоном ударяет, Но никого свалить не может с ног? С оружьем, видно, не в ладу десница: Удар то мимо, то плашмя ложится. Слабеет князь. Тевтоны, осмелев, К нему внезапно лица обращают, И грозным лесом копий окружают, И на него обрушивают гнев, А он, смутясь, глядит на лес железный И опускает меч свой бесполезный. Спасенья нет! Уже со всех сторон Сверкают копья, пули свищут рядом. Но вот – литовских конников отрядом Литавор окружен и защищен; Одни – его щитами прикрывают, Другие – путь мечами пролагают. Уже розоволосая заря На облаке летит по небосклону, А битва все бушует, не даря Удачи ни литвину, ни тевтону. И бог победы равномерно льет Потоки крови в чаши весовые, А все ж весы недвижны роковые… Так старец Неман, князь литовских вод, Румшишского встречая великана, То стан врага рукою обовьет, То взроет дно, сражаясь неустанно. Скала ему дороги не дает, Войдя в песок до половины стана, И продолжает Неман голубой, Не отступая, вековечный бой. У немцев, неудачей раздраженных, Еще один, резервный был отряд. Сам фон Книпроде возглавляет конных, Литовцев силы новые теснят. В рядах бойцов, сраженьем утомленных, Царит смятенье. Строй литовский смят. Но клич неведомого исполина Услышала литовская дружина. Все взоры на него устремлены: Муж на коне – как ель на круче горной. Как ветви долу клонятся, темны, Так ниспадает плащ его. просторный… И плащ его и шлем его – черны, И конь под ним горе подобен черной. Клич прогремел, как троекратный гром. Кому ж своим послужит он мечом? И черный рыцарь за тевтоном мчится; Доносятся до слуха с тех сторон, Где щедро сеет смерть его десница, То звон железа, то протяжный стон. Там – стяг упал, а здесь – шишак рогатый. Уже враги бегут, страшась расплаты. Проникший в лес могучий лесоруб В широкошумной зелени потонет, Но упадет с протяжным гулом дуб, Ствол за стволом под топором застонет, И человек средь поредевших куп Появится и в пень топор свой вгонит… Так пролагал дорогу под горой, Круша врагов, неведомый герой. К победе, рыцарь, оживи стремленье: Грозит литовским воинам позор! В сердца мужей вдохни ожесточенье! Тяжелых копий и мечей забор Разрушен в прах. Пылая жаждой мщенья, По полю брани рыщет командор. Навстречу – князь, меча не опуская… Сейчас начнется схватка роковая. Литавор нападает, разъярясь, Но командир стреляет из пищали. О, горе, горе! Меч роняет князь. Взглянув на них, литовцы задрожали. На помощь князю не пришли, смутясь, И повода персты не удержали. В тяжелом шлеме голову клоня, Литавор наземь падает с коня. Безвестный рыцарь застонал и тучей На командора яростно летит. Свистит клинок, трещит немецкий щит… Недолгий бой! Один удар могучий И командор во прахе под конем, И черный конь дробит броню на нем! Вот победитель свиту и прислугу Расталкивает, и глядят они, Как тот окровавленную кольчугу Снимает с князя, разорвав ремни. В себя приходит раненый. Туманный Блуждает взор. Струится кровь из раны. И вот рука, холодная как лед, Надвинув снова на лицо забрало, Слуг отстранив и гневно и устало, Немея, руку Рымвидову жмет. И слышит Рымвид: «От людского взора В груди, старик, до гроба тайну скрой. Везите в замок! Час настал. Я скоро Навек расстанусь со своей душой!» И Рымвид смотрит, недоумевая, Озноб его охватывает вдруг: От слез влажна, десница ледяная Выскальзывает из дрожащих рук… Не в силах Рымвид вымолвить ни слова То не был голос князя молодого! Поводья черный рыцарь старику Вручает, князя обхватив рукою. По сторонам не глядя на скаку, К дороге мчится с ношей дорогою; Из-под ладони кровь бежит ручьем… На двух конях они летят втроем. И горожане путь им преградили, У городских ворот встречая их, Но всадники, взметая вихри пьи л, Помчались к замку на конях лихих. Подъемный мост за ними опустили, И рыцарь повеление дает Ни перед кем не отворять ворот. С победой возвращаются отряды. Но воины в столицу на мечах Не принесли на этот раз отрады: На лицах скорбь, сердца стесняет страх. В тревоге спрашивает горожанин: Что с князем? Жив ли? Тяжело ли ранен? Мост подняли, задвинули засов. Нельзя проникнуть в замок. С топорами И пилами бойцы сбегают в ров: И лиственницы падают рядами, И слышен треск подрубленных стволов… Привозят бревна и щепу возами И тащат в город хворост на плечах, И встречными овладевает страх. У храма бога, свищущего в тучах, И гневного владыки гроз гремучих, Где точит кровь коней или волов На зорях жрец коленопреклоненный, Горою встал костер, нагроможденный Превыше набежавших облаков. В средине дуб, к нему прикован пленный, Тройную должен искупить вину. Магистра дерзкого посол надменный, Тевтонский вождь, затеявший войну, Убийца князя, чтимого в народе, Да сгинет трижды Дитрих фон Книпроде! У мещанина, рыцаря, жреца Одни надежды и одни страданья: Одной и той же мукой ожиданья Томятся их тревожные сердца. Не ослабляя ни на миг вниманья, Ждут горожане вести из дворца. Мост опустился, и труба запела, И похоронный двинулся кортеж: Несут, несут безжизненное тело, День почернел от траурных одежд, Лишь ткань покрова пурпуром горела И меч блестел. Но неподвижных вежд Рыдавшая толпа не увидала: Лицо скрывало плотное забрало. Смотрите, вот глава народа! Где, В каком краю найдется мощь такая? С кем вам, литовцы, заседать в суде, Тевтонов гнать и воевать Ногая? Обычаев твоя родня в беде Не помнит, стариной пренебрегая: Не так в последний путь, о государь. Князей Литвы мы провожали встарь! Что ж не ступает твердою стопою Оруженосец верный твой в огонь И на костер не всходит за тобою С пустым седлом олененогий конь? Где псы, что ветер встречный рассекали? Где сокол твой таится в час печали? Уж тело на костре. Льют молоко. Медовые выдавливают соты. Слышны труба и флейта далеко. Поют во славу князя вайделоты. Зажегся факел. Жрец занес кинжал. Вдруг: «Стойте!» – черный рыцарь закричал. Кто этот муж? Народ в недоуменье. Дружина незнакомца узнает: «Вчера его мы видели в сраженье, Князь ранен был. Он кинулся вперед… Дружине бы не избежать позора, Да из седла он вышиб командора… Мы ничего не ведаем о нем… Его коня и плащ мы узнаем… Не знаем – кто он и откуда родом… Смотрите все! Он хочет снять шелом!» Литавор-князь стоит перед народом! Молчит народ, как громом поражен, Затем, очнувшись, всколыхнулся он, Приветствуя воскресшего героя, Крик сотрясает небо голубое: «Литавор жив!» Сверкает шелк знамен. А он стоит, склоняя лик свой бледный. Еще разносит эхо гул победный… Князь подымает взор, благодаря Дружину и народ улыбкой странной, Не той улыбкой – светлой и желанной И радостной, как вешняя заря, Но словно силой привлеченной, словно Рожденной, чтобы отлететь в тоске, Улыбкой слабой, как цветок бескровный, Увядший у покойника в руке. «Зажечь костер!» Восходит к солнцу пламя. Князь продолжает: «Знайте, кто она Чья плоть в огне сгорает перед вами! Герой по духу, красотой – жена, Она, как муж, несла доспехи эти… Я отомстил, но нет ее на свете!» И падает в огонь на милый прах, И погибает в дымных облаках. ЭПИЛОГ ИЗДАТЕЛЯ Мой читатель, ты в повесть вникал терпеливо. Но концом недоволен. Что ж, это не диво; В лабиринте событий заблудится разум, Не насытишь тогда любопытства рассказом. Как случилось, что войско доверил Гражине Князь, так поздно пришедший на помощь дружине? Своевольно ли князя жена заместила И в ночи против немцев меч-и обратила? Понапрасну, читатель, ты ищещь ответа! Знай, что автор, кем повесть изложена эта, Живший в те времена, для потомства украдкой То, что видел и слышал, записывал кратко. В тайну он не проникнул внимательным взором, Почитая догадки обманом и вздором. От него унаследовав рукопись эту, Выдать я наконец порешил ее свету, Чтоб доставить, читатель, тебе развлеченье. Приложив к ней, однако, свое добавленье. Я расспрашивал всех, кто доверья додтоин. В Новогрудкс один лишь дряхлеющий воин Рымвид – знал кое-что, но молчал он об этом, Видно, связан присягою или обетом. Вскоре умер старик. Но другого случайно Встретил я человека, владевшего тайной: Паж княгини присутствовал в замке в то время. Почитал он молчанье за тяжкое бремя, Я следил за теченьем рассказа живого И записывал бережно каждое слово. Что здесь правда, что вымысел – кто же рассудит? Уличит кто во лжи, мне обидно не будет: Расскажу все, как было услышано мною, Не прибавлю ни слова, ни слова не скрою. Вот как паж говорил мне: «Княгиня в тревоге Долго мужа молила, упав ему в ноги, Чтоб не звал он врагов на литовскую землю, Но упрямился князь, ей с насмешкою внемля: «Нет и нет!» Не сменил, видно, гнева на милость, И от князя супруга ни с чем удалилась. Понадеясь, что он переменит решенье, Мне тотчас отдала госпожа повеленье Прочь отправить послов. Оба мы виноваты, И отсюда – беда, ибо немец проклятый Обозлился, и к нашему замку с досады Приказал он тараны везти для осады. Услыхав эту новость, княгиня, бледнея, Побежала к супругу. Я – следом за нею. Было тихо в покоях. Стою на пороге Крепко спит государь после долгой дороги. То ли князя будить госпожа не посмела, То ли снова его умолять не хотела, План другой приняла и, приблизясь к супругу, Меч близ ложа нашла. Боевую кольчугу, Плащ надела – и вышла и дверь затворила, Строго-настрого мне говорить запретила. Конь уже был оседлан. И странное дело! На боку ее левом, когда она села, Я меча не увидел. На месте и пояс, И кольчуга, и шлем… Нет меча! Беспокоясь, Возвращаюсь, ищу… А за ротою рота Выступает в поход. Затворяют ворота. Страшно стало, меня словно обдало жаром, Что мне делать – не знаю… Удар за ударом Слышу издали я, вижу блеск отдаленный. Понял я: это начали битву тевтоны. Вдруг Литавор проснулся и спрыгнул с постели: Гром и скрежет до слуха его долетели. Слуг зовет – никого! Разум мой помутился, Я, от страха дрожа, в темный угол забился… Тщетно ищет оружье свое боевое, В дверь колотит, бежит он к супруге в покои, Возвращается – и на крыльцо выбегает. Я в окошко смотрю, а уже рассветает, Князь стоит во дворе, озирается дико И кричит. Но не слышит никто его крика. Княжий двор обезлюдел. Спешит к коновязям. Обезумеа от страха, слежу я за князем. На коня – и застыл, чтоб услышать, отколе Слышен грохот сраженья… И ринулся в поле. Через двор, через город летел он стрелою, Черный плащ трепетал у него за спиною… Стихло все. Истомило меня ожиданье. Наконец встало рдяное солнце в тумане, Возвратились они. Госпожу без сознанья Нес Литавор. Печальные воспоминанья! Тяжко ранена пулей немецкой Гражина, Кровь бежит, погибает княгиня безвинно, Молит князя – то ноги его обнимая, То в беспамятстве слабые руки ломая: «Я впервые тебя обманула… Прости же!» Плачет князь. Подойти я осмелился ближе: Умерла! Он лицо закрывает рукою, Слезы льет и недвижно стоит над женою. А когда они тело на ложе слагали, Убежал я… Все знают, что следует дале». Вот и все, что мне паж рассказал под секретом, Ибо Рымвид молчать заповедал об этом. Рымвид умер. Запрет был нарушен, и вскоре Весть проникла в народ, разрослась на просторе. Никого в Новогрудке не сыщется ныне, Кто бы песни тебе не пропел о Гражине! Повторяют ее дудари по старинке. А долина зовется Долиной литвинки.[1823]
ДОРОГА В РОССИЮ
По диким пространствам, по снежной равнине Летит мой возок, точно ветер в пустыне. И взор мой вперился в метельный туман, Так сокол, в пустынную даль залетевший, Застигнутый бурей, к земле не поспевший, Глядит, как бушует под ним океан, Не знает, где крылья на отдых он сложит, И чует, что смерть отвратить он не может. Ни города нет на пути, ни села. От стужи природа сама умерла. И зов твой в пустыне звучит без ответа, Как будто вчера лишь возникла планета. Но мамонт, из этой земли извлечен, Скиталец, погибший в потопе великом, Порой, непонятные новым языкам, Приносит нам были минувших времен Тех дней, когда был этот край обитаем И с Индией он торговал и с Китаем. Но краденый томик из дальних сторон, Быть может, добытый на Западе силой, Расскажет, что много могучих племен Сменилось на этой равнине унылой. Всё – в прошлом. Стремнины потопа ушли, Их русла теперь не найдешь на равнине. Грозою народы по ней протекли И где же следы их владычества ныне? Лишь в Альпах утесов холодный гранит Минувших веков отпечатки хранит, Лишь в Риме развалин замшелая груда Расскажет о варварах, шедших одсюда. Чужая, глухая, нагая страна Бела, как пустая страница, она. И божий ли перст начертает на ней Рассказ о деяниях добрых людей, Поведает правду о вере священной, О жертвах для общего блага, о том, Что свет и любовь управляют вселенной? Иль бога завистник и враг дерзновенный На этой странице напишет клинком, Что люди умнеют в цепях да в остроге, Что плети ведут их по верной дороге? Беснуется вихрь, и свистит в вышине, И воет поземкой, безлюдье тревожа. И не на чем взор задержать в белизне. Вот снежное море подъемлется с ложа, Взметнулось – и рушится вновь тяжело, Огромно, безжизненно, пусто, бело. Вот, с полюса вырвавшись вдруг, по равнине Стремит ураган свой безудержный бег И, злобный, бушует уже на Эвксине, Столбами крутя развороченный снег, И путников губит, – так ветер песчаный Заносит в пустынных степях караваны. И снова равнина пуста и мертва, И только местами снега почернели. То в белой пучине видны острова Из снега торчащие сосны да ели. А вот – что-то странное: кучи стволов, Свезли их сюда, топором обтесали, Сложили, как стены, приладили кров, И стали в них жить, и домами назвали. Домов этих тысячи в поле пустом, И все – как по мерке. А ветер свистящий Над трубами дым завивает винтом, Подобно султану на каске блестящей. Рядами иль кругом – то реже, то чаще Стоят эти срубы, и в каждом живут, И все это городом важно зовут. Но вот наконец повстречались мне люди, Их шеи крепки, и могучи их груди. Как зверь, как природа полночных краев, Тут каждый и свеж, и силен, и здоров. И только их лица подобны доныне Земле их – пустынной и дикой равнине. И пламя до глаз их еще не дошло Из темных-сердец, из подземных вулканов, Чтоб, вольности факелом ярким воспрянув, Той дивной печатью отметить чело, Которой отмечены люди Восхода И люди Заката, вкусившие яд Падений и взлетов, надежд и утрат, Чьи лица – как летопись жизни народа. Здесь очи людей – точно их города, Огромны и чисты. И, чуждый смятенью, Их взор не покроется влажною тенью, В нем грусть состраданья мелькнет без следа. Глядишь на них издали – ярки и чудны, А в глубь их заглянешь – пусты и безлюдны. И тело людей этих – грубый кокон, Хранит несозревшую бабочку он, Чьи крылья еще не покрылись узором, Не могут взлететь над цветущим простором. Когда же свободы заря заблестит, Дневная ли бабочка к солнцу взлетит, В бескрайную даль свой полет устремляя, Иль мрака создание – совка ночная? Дороги по голым полям пролегли. Но кто протоптал их? Возов вереницы? Купцы ль, караваны ли этой земли? Царь – пальцем по карте – провел их в столице. И в Польше, куда бы тот перст ни попал, Встречался ли замок, иль дом, или хата Их лом разбивал, их сносила лопата, И царь по развалинам путь пролагал. В полях не увидишь дорог под снегами, Но тотчас приметишь их в чаще лесной. На север уводят они по прямой, Светлы в полутьме, как река меж скалами. Кто ездит по ним? Вот выходят полки, То конница скачет, за нею пехота Змеей растянулась, за ротою рота, А там артиллерия – пушки, возки. И все они посланы царским указом Тех гонят с восточных окраин сюда, Те с Запада вышли, на битву с Кавказом, Не знают, зачем, почему и куда, Не спросят о том. Ты увидишь монгола Скуласт, косоглаз, отбивает он шаг, А далее бледный, больной, невеселый, Плетется литовский крестьянин-бедняк. Там ружья английские блещут, там луки, И дышит калмык на озябшие руки. Кто их офицеры? Немецкий барон. В карете ездой наслаждается он, Чувствительно Шиллера песнь напевает. И плеткою встречных солдат наставляет. Француз либеральную песню свистит Бродячий философ, чиновный бандит С начальником занят беседой невинной: Где можно достать по дешевке фураж? Пускай перемрет солдатни половина Деньгам не ущерб. Если маху не дашь, Рассудят, что это – казны сбереженье, Царь орден пришлет и в чинах повышенье. Но мчится кибитка – и все перед ней Шарахнулось в сторону: пушки, лафеты, Пехота и полк кирасир-усачей, Начальство свои повернуло кареты. Кибитка несется. Жандарм кулаком Дубасит возницу. Возница кнутом Стегает наотмашь солдат, свирепея. Беги или кони сшибут ротозея! Кто едет в кибитке? Не смеют спросить. Жандармы сидят в ней, и путь их – в столицу. То царь приказал им кого-то схватить. «Наверное, взят кто-нибудь за границей? Кто б мог это быть? – говорит генерал. Французский король то, саксонский иль прусский? Кого самодержец не милует русский, Кого он в тюрьму заточить приказал? А может быть, в жертву и свой предназначен? Быть может, Ермолов жандармами схвачен? Кто знает! Бесстрашен и горд его взгляд. Хоть он на соломе сидит, как в темнице. Из крупных, как видно! За ним вереницей Возки, точна свита в них едет, летят. Но кто ж эти люди? Как держатся смело! Сверкают их очи, отвагой горя. Вельможи ль они? Камергеры царя? Нет, мальчики, дети! Так в чем же тут дело? Иль принцы они и король, их отец, Дерзнул покуситься на русский венец?» Так, строя догадки, начальство дивилось; Кибитка меж тем в Петербург уносилась.ПРИГОРОДЫ СТОЛИЦЫ
И вот уже слышно столицы дыханье. Дорога отлична – ровна, широка. Дворцы по бокам. Точно сена стога, В соломе, под снегом, стоят изваянья. Большая часовня с крестом золотым, Античного стиля портал, и за ним Дворец итальянский под кровлею плоской, А рядом японский, китайский киоски. Екатерины классический век Воздвиг и руины в классическом стиле. На южных развалинах – северный снег. Решеткой дома, как зверей, оградили, Дома всех размеров и стилей любых, Строения всякого вида и рода. Но где же свое, самобытное, в них, Где нации гений, где сердце народа? А зданья чудесны! Искусной рукой Взнесен на болоте их каменный строй. Для цезарей цирк воздвигали когда-то, И золото в Риме струилось рекой, А в этих снегах, чтоб дворцы и палаты Воздвиглись на радость холопам царя, Лились наших слез, нашей крови моря. И сколько измыслить пришлось преступлений, Чтоб камня набрать для огромных строений, И сколько невинных убить иль сослать, И сколько подвластных земель обобрать! Слезами Украины они оплатили И кровью литовской и польской земли Все то, что сюда из Парижа ввезли, Чем в Лондоне их магазины прельстили. И моют в их замках шампанским паркет, И модный его залоснил менуэт. Но зданья пусты. Двор в столице зимой. И мухи придворные радостным роем Во след ему ринулись, к царским помоям. В домах только ветер танцует шальной: В столице вельможи, и царь их в столице. В столицу стремит и кибитка свой бег. Бьет полдень. Морозно, и падает снег. А солнце уж к западу стало клониться. Безжизненно светел и чист небосклон, Ни тучки, ни облачка в бездне пустынной. Все бледно и тускло, ни краски единой, Так взор замерзающих жизни лишен. Но вот уже город. И в высь небосклона Над ним воздымается город другой, Подобье висячих садов Вавилона, Порталов и башен сверкающий строй: .. То дым из бесчисленных труб. Он летит, Он пляшет и вьется, пронизанный светом, Подобен каррарскому мрамору цветом, Узором из темных рубинов покрыт. Верхушки столбов изгибаются в своды, Рисуются кровли, зубцы, переходы, Как в городе том, что, из марева свит, Громадою призрачной к небу воспрянув, В лазурь Средиземного моря глядит Иль зыблется в зное ливийских туманов И взор пилигримов усталых влечет, Всегда недвижим и всегда убегает… Но цепь загремела. Жандарм у ворот. Трясет, обыскал, допросил – пропускает.ПЕТЕРБУРГ
С рожденья Рима, с древних дней Эллады Народ селился близ жилья богов В лесах священных, у ручья наяды Иль на горах, чтоб отражать врагов. Так Рим, Афины, Спарта возникала. Века промчались, готика пришла, И замок стал защитою села, Лачуги жались к башням феодала Иль по теченью судоходных рек Медлительно росли за веком век. Бог, ремесло иль некий покровитель, Вот кто был древних городов зиждитель. А кто столицу русскую воздвиг, И славянин, в воинственном напоре, Зачем в пределы чуждые проник, Где жил чухонец, где царило море? Не зреет хлеб на той земле сырой, Здесь ветер, мгла и слякоть постоянно, И небо шлет лишь холод или зной, Неверное, как дикий нрав тирана. Не люди, нет, то царь среди болот Стал и сказал: «Тут строиться мы будем!» И заложил империи оплот, Себе столицу, но не город людям. Вогнать велел он в недра плывунов Сто тысяч бревен – целый лес дубовый, Втоптал тела ста тысяч мужиков, И стала кровь столицы той основой. Затем в воза, в подводы, в корабли Он впряг другие тысячи и сотни, Чтоб в этот край со всех концов земли Свозили лес и камень подобротней. В Париже был – парижских площадей Подобья сделал. Пожил в Амстердаме Велел плотины строить. От людей Он услыхал, что славен Рим дворцами, Дворцы воздвиг. Венеция пред ним Сиреной Адриатики предстала И царь велит строителям своим Прорыть в столице Севера каналы, Пустить гондолы и взметнуть мосты, И вот встают Париж и Лондон новый, Лишенные, увы! – лишь красоты И славы той и мудрости торговой. У зодчих поговорка есть одна; Рим создан человеческой рукою, Венеция богами создана; Но каждый согласился бы со мною, Что Петербург построил сатана. Все улицы ведут вас по прямой, Все мрачны, словно горные теснины, Дома – кирпич и камень, а порой Соединенье мрамора и глины. Все равно: крыши, стены, парапет, Как батальон, что заново одет. Языков и письмен столпотворенье Вам быстро утомляет слух и зренье, Афишам и таблицам счета нет: «Сенатор и начальник управленья При комитете польских дел, Ахмет, Киргизский хан». А рядом, не хотите ль: «Monsieur Жоко, начальных школ смотритель, Придворный повар, сборщик податей, Играл в оркестре. Взрослых и детей Парижскому акценту обучает». Другая надпись миру сообщает: «Миланец Джокко, поставщик колбас Для царских служб, уведомляет вас, Что в этом доме он откроет вскоре Девичий пансион». А на заборе Афиша: «Пастор господин Динер, Трех орденов имперских кавалер, С амвона проповедует сегодня, Что царь – наш папа волею господней, И совести и веры господин Вас призывает, братья кальвинисты, Социниане и анабаптисты, Признать закон всевышнего един И, как велит вам император русский И верный брат его – владыка прусский, Отныне веру новую приняв, Единой церкви соблюдать устав». Вот вам «Игрушки», «Дамские наряды», «Кнуты». – Мелькают магазины, склады, А на полозьях, быстры и легки, Как призраки в волшебной панораме; Проносятся бесшумно перед вами Кареты, колымаги и возки. Сидит на козлах бородач-возница, Все в инее: армяк, усы, ресницы. Кнут щелканет. А впереди возка Несутся на конях два казачка И гикают, дорогу расчищая. Как от фрегата – белых уток стая, Испуганный шарахается люд. От стужи здесь не ходят, а бегут. Охоты нет взглянуть, остановиться. Зажмурены глаза, бледнеют лица. Дрожат, стучат зубами, руки трут, И пар валит из бледных губ столбами И белыми расходится клубами. Глядишь на них, и, право, мысль придет, Что это ходят печи, не народ. А по бокам толпящегося стада Идут другие в два широких ряда, Медлительно, как в праздник крестный ход, Как по реке идет прибрежный лед. И что им ветер или стужа злая Подумаешь, соболья вышла стая! Метель, но кто заботится о том? Ведь в этот час гуляет царь пешком, А значит, все гуляют. Вот царица, И фрейлины за нею по пятам. Вот камергеры, рой придворных дам, Всё – высокопоставленные лица. Дистанции в рядах соблюдены Вот первые, потом вторые, третьи, Как будто шулер кинул карты эти. Те старше, те моложе, те красны, А те черны, – король, валет иль дама. Тем влево лечь, тем вправо, этим – прямо По сторонам проспекта, по мосткам, Покрытым облицовкой из гранита. Все высшие чины увидишь там: Иной идет – и ветру грудь открыта, Пусть холодно, зато видны сполна Его медали все и ордена. Как толстый жук, ползет он и поклоном Ответствует чиновным лишь персонам. За ним гвардейский франт, молокосос, Весь тонок, прям, подобен пике длинной, Тугой ремень вкруг талии осиной. За ним – чиновник. Позабыв мороз, Глядит кругом, кому бы поклониться, Кого толкнуть, пред кем посторониться, И, пресмыкаясь, точно скорпион, Пред старшими юлит и гнется он. В средине – дамы, мотыльки столицы: На каждой шаль и плащ из-за границы, Во всем парижский шик, и щегольски Мелькают меховые башмачки. Как снег белы, как рак румяны лица. Но двор отъехал. Время по домам. К хозяевам, как челноки к пловцам, Теснясь в морозном северном тумане, Катят кареты, колымаги, сани. И вот разъезд. Пустеет все кругом. Последние расходятся пешком. Иной в чахотке, кашляет, и все же Соседу вторит: «Я доволен тоже! Царя видал, с пажами поболтал, И мой поклон заметил генерал». Но чужеземцев кучка там гуляла. Иной был весь их облик, разговор. Они прохожих замечали мало, Но каждый дом приковывал их взор. Они на стены пристально глядели, На кровли, на железо и гранит. На все глядели, будто знать хотели, Как прочно каждый камень здесь сидит. И мысль читалась в их глазах унылых: «Нет, человек его свалить не в силах!» И десятеро прочь пошли, а там, На площади, лишь пилигрим остался. Зловещий взор как бы грозил домам. Он сжал кулак и вдруг расхохотался, И, повернувшись к царскому дворцу, Он на груди скрестил безмолвно руки, И молния скользнула по лицу. Угрюмый взгляд был тайной полон муки И ненависти. Так из-за колонн На филистимлян встарь глядел Самсон. Вечерний сумрак на челе суровом Лежал недвижным гробовым покровом, И мнилось – ночь, сменяющая день, Покинув неба горние селенья, На том лице промедлила мгновенье, Чтоб над землей свою раскинуть тень. Невдалеке стоял там и другой, Но не пришелец из чужого края, А житель Петербурга молодой. В тот самый вечер, нищих оделяя, Встречал их всех приветом братским он, Расспрашивал про их детей и жен. Потом, простясь, он на гранит прибрежный Облокотился и стоял, смотря На темный город, на дворец царя, Смотрел не так, как пилигрим мятежный. Он взоры опускал, издалека Солдата распознав иль бедняка. И, полон дум, воздел он к небу руки, Как бы небесной горестью томим. Так в бездны ада смотрит херувим, И зрит народов неповинных муки, И чувствует, что им страдать века, Что в безутещной жажде избавленья Сменяться долго будут поколенья И что заря свободы не близка. И часто в снег на берегу канала Его слеза горячая стекала; Но бог ведет слезам подобным счет, И счастье он за каждую пошлет. Был поздний час. И так они стояли, Друг другу незнакомы и одни. Но наконец опомнились они И долго друг за другом наблюдали. И подошел к скитальцу тот, другой, И молвил: «Брат, ты, верно, здесь чужой. Откуда ты, куда твоя дорога? Приветствую тебя во имя бога. Я сын христовой церкви и поляк. Крест и Погоня – видишь, вот мой знак». Но тот взглянул, не проронив ни слова, И прочь пошел, в раздумье погружен. И вспомнил незнакомца молодого Лишь поутру, когда тревожный сон Бежал с его очей. И думал он: «Зачем ему вчера я не ответил?» О, если бы его он снова встретил! Та речь, тот голос был ему знаком. И образ тот, как тень скользнувший мимо, Запал так странно в душу пилигрима… А может быть, все это было сном?ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ
Шел дождь. Укрывшись под одним плащом, Стояли двое в сумраке ночном. Один, гонимый царским произволом, Сын Запада, безвестный был пришлец; Другой был русский, вольности певец, Будивший Север пламенным глаголом. Хоть встретились немного дней назад, Но речь вели они, как с братом брат. Их души вознеслись над всем земным. Так две скалы, разделены стремниной, Встречаются под небом голубым, Клонясь к вершине дружеской вершиной, И ропот волн вверху не слышен им. Гость молча озирал Петров колосс, И русский гений тихо произнес: «Вершителю столь многих славных дел Воздвигла монумент Екатерина. На буцефала медный царь воссел, И медный конь почуял исполина. Но хмурит Петр нетерпеливый взор: Хоть перед ним без края даль открыта, Гиганту тесен родины простор. Тогда за глыбой финского гранита В чужой предел царица шлет баржи, И вот скала, покорствуя царице, Идет, переплывает рубежи И упадает в северной столице. Тут скакуну в веселье шпоры дал Венчанный кнутодержец в римской тоге, И вихрем конь взлетел на пьедестал И прянул ввысь, над бездной вскинув ноги. Нет, Марк Аврелий в Риме не таков. Народа друг, любимец легионов, Средь подданных не ведал он врагов, Доносчиков изгнал он и шпионов. Им был смирен домашний мародер, Он варварам на Рейне и Пактоле Сумел не раз кровавый дать отпор, И вот он с миром едет в Капитолий. Сулят народам счастье и покой Его глаза. В них мысли вдохновенье. Величественно поднятой рукой Всем гражданам он шлет благословенье. Другой рукой узду он натянул, И конь ему покорен своенравный, И, кажется, восторгов слышен гул: «Вернулся цезарь, наш отец державный!» И цезарь едет медленно вперед, Чтоб одарить улыбкой весь народ. Скакун косится огненным зрачком На гордый Рим, ликующий кругом. И видит он, как люди гостю рады, Он не сомнет их бешеным скачком, Он не заставит их просить пощады. И дети близко могут зреть отца, И мнится – ждет бессмертье мудреца И нет ему на том пути преграды. Царь Петр коня не укротил уздой. Во весь опор летит скакун литой, Топча людей, куда-то буйно рвется, Сметает все, не зная, где предел. Одним прыжком на край скалы взлетел, Вот-вот он рухнет вниз и разобьется. Но век прошел – стоит он, как стоял. Так водопад из недр гранитных скал Исторгнется и, скованный морозом, Висит над бездной, обратившись в лед. Но если солнце вольности блеснет И с запада весна придет к России Что станет с водопадом тирании?»СМОТР ВОЙСКА
Есть плац обширный, псарней прозван он, Там обучают псов для царской своры. Тот плац еще уборной окрещен, Там примеряет царь свои уборы, Чтоб, нарядясь в десятки батарей, Поклоны принимать от королей. С утра дворцовый раут предвкушая, Пред зеркалом кокетка записная За целый день не скорчит тех гримас, Какие царь тут сделает за час. Еще и саранчатником иные Тот плац зовут, затем что, возмечтав Опустошить пределы всех держав, Там саранчу выводит царь России. Еще тот плац зовут станком хирурга: По слухам, точит царь на нем ножи, Чтобы Европу всю из Петербурга Проткнуть, перерезая рубежи, В расчете, что смертельной будет рана И прежде, чем разыщут лекарей, Он, обескровив шаха и султана, Прирежет и сармата поскорей. Еще зовут… но кончить не пора ли? Плац этот власти смотровым назвали. Сегодня смотр. На башне десять бьет. Мороз – колючий. Но толпа густая Все прибывает, площадь обрамляя, Как темный берег – чашу светлых вод. Любого пикой оттеснить готовы Или нагайкой съездить по лицу, Как над водою чайки-рыболовы, Казаки заметались на плацу. Вот из толпы, как жаба, вылез кто-то, Хлестнула плеть – и он назад, в болото. Внезапно, монотонный и глухой, Как мерный стук цепов на риге дальней Иль грохот молотков по наковальне, Вдали раздался барабанный бой. И вот – они! Мундир на всех зеленый, Но черной массой движутся войска На белый плац, колонна за колонной, Вливаются, как в озеро река. Дай, Аполлон, уста мне ста Гомеров, Дай языков парижских трижды сто, Дай перья всех бухгалтеров – и то Смогу ли всех исчислить офицеров, Всю перебрать ефрейторскую рать И рядовых героев сосчитать? И как поймешь, герой ли, не гервй ли? Стоят бок о бок, точно кони в стойле. И так однообразны их ряды, Как в книге – строки, на поле – скирды, На грядке – всходы конопли зеленой, Как саженцы вдоль черной борозды, Как разговоры, коими горды Столицы русской модные салоны. Я лишь скажу: иные москали На четверть ростом прочих превзошли, И у таких на шапке литер медный Отсвечивает лысинкою бледной. То – гренадеры. Я стоял вдали, Но насчитал три взвода их. За ними, Как огурцы под листьями большими, Все, кто до мерки той не доросли, Построились рядами, рота к роте. Чтоб сосчитать полки в такой пехоте, Быть зорким надо, как натуралист, Он выудил вам червячка в болоте И без раздумий скажет: «Это глист». Играют трубы – конница въезжает. Тут всех мастей, цветов и форм игра, Все яркое, все взоры поражает: Папахи, шапки, каски, кивера. Так на прилавке шапочник с утра Раскладывает свой товар. Гусары, Драгуны, кирасиры, полк улан Все блещут медью, словно самовары, И снизу – морда конская, как кран. Отличий много есть у каждой части, Но отличать – верней по конской масти. Таков обычай русский испокон, Таков и новой тактики закон. Сам Жомини признал его всецело, Сказав: не всадник – конь решает дело. В России ценят издавна коней; Гвардейский конь солдатского ценней, За трех солдат идет он при расчете, А офицерский, тот совсем в почете: В одной цене с ним писарь, брадобрей Иль гармонист, а в дни худые – повар, Как постановит полюбовный сговор. Казенных кляч, возящих лазарет, Которые стары, худы и слабы, Таких на карту ставят, – споров нет: Цена за клячу – две хороших бабы. К полкам вернемся. Въехал вороной, За ним буланый, два мышастых, чалый, За ними – белый, точно снег подталый, Потом гнедой, потом опять гнедой, Гнедой англизированный, соловый, Полк меринов, полк с меткой между глаз, Бесхвостый полк, согласно моде новой. Всего их шло тринадцать в этот раз. Потом вкатили пушек три десятка Да ящиков – на вид десятков шесть. Чтоб их точней в одну минуту счесть, Нужна наполеоновская хватка Или, по крайней мере, твой талант, Начальник склада, русский интендант: В любом строю, чуть глянув острым глазом, Ты их число угадываешь разом И знаешь, сколько и какую часть. Патронов удалась тебе украеть. Уже мундиры площадь покрывают, Вы скажете: как зелень – вешний луг. Кой-где зарядный ящик поднимают, Он тоже зелен, как болотный жук Иль клоп лесной, на лист похожий цветом. А рядом – пушка со своим лафетом. Топорщится, чернея, как паук. У паука, одетые в мундиры, Две пары задних, две – передних ног: Те – канониры, эти – бомбардиры. Когда паук, уснув на краткий срок, Стоит недвижно и не ждет тревоги, Покинув брюхо, бродят эти ноги, И брюхо повисает пузырем. И вот приказ, – и, будто грянул гром, Очнулась пушка от недолгой лени. Так, разомлевший на песке степном, Тарантул, вдруг настигнутый врагом, То сдвинет ноги, то согнет колени, Встопорщится, закружится волчком, Сучит ногами, морду задевая; (Вот так же, угостившись мышьяком, Хлопочет муха, рыльце обмывая), Передние две ножки подогнет, Напружится, трясет и вертит задом, Откинет ножки вбок, на миг замрет И, наконец, смертельным брызнет ядом. Внезапно все застыло в тишине. Царь едет, царь! В кортеже генералы, Полк адъютантов, старцы-адмиралы, Но первым – царь на белом скакуне. Кортеж причудлив. Те желты, те сини, Нет счета лентам, ключикам, звездам, Портретикам, и пряжкам, и крестам. Так на ином заправском арлекине Побольше пестрых насчитаешь блях, Чем пуговиц на куртке и штанах. Любой блестящ и горд, но вся их сила В улыбке государевых очей. Нет, эти генералы – не светила, А светлячки Ивановых ночей; Иссякнет царских милостей поток, И, смотришь, гаснет жалкий червячок. Он не бежит служить в чужой пехоте, Но где влачит он век? В каком болоте? Сраженья генерала не страшат: Что пули, раны, если царь доволен! Но если был неласков царский взгляд, Герой дрожит, герой от страха болен. Пожалуй, чаще стоика найдешь Среди дворян: хоть скверное почует, Не сляжет он, не всадит в горло нож, А только в свой удел перекочует, В деревню – и письмишки застрочит, Тот – камергеру, тот – придворной даме, А либерал снесется с кучерами, И смотришь, он уж снова фаворит. Так, выкинь пса в окно – он разобьется, А кот мяукнет, вмиг перевернется, На лапки мягко станет и потом Найдет дыру и вновь пролезет в дом. А стоик, вольнодумничая тихо, В деревне ждет, пока минует лихо. Мундир зеленый с золотым шитьем Был на царе. Рожденный солдафоном, Он сросся с. облачением зеленым Растет, живет и даже тлеет в нем. Едва на ножки стал наследник царский, Ему приносят пушечку и кнут, Игрушечную сабельку дают, Рядят в мундир казацкий иль гусарский; И сабелькой по кубикам водя, Как войско, их выстраивает в слоги Иль такт, в танцклассе упражняя ноги, Отхлестывает кнутиком дитя. А подрастет – есть новая забава: Солдат набрать, из них составить рать, Потом рычать «налево» и «направо», Скликать на смотр и плетью муштровать. Вот почему Европа их боится, Ведь каждый царь воспитывался так. Старик Красицкий прав: как говорится, Мудрец докажет, разобьет дурак. Самим Петром – ему за это слава Открыта царепедии забава: Величием облек он царский трон, Недаром был Европой просвещен. Сказал он: «Русских я оевропею, Кафтан обрежу, бороду обрею». Сказал – и мигом, как французский сад, Подрезаны кафтанов княжьих полы; Сказал – и бороды бояр летят, Как листья в ноябре, и лица голы. Кадетский корпус дал дворянам он, Дал штык ружью, настроил тюрем новых, Ввел менуэт на празднествах дворцовых, Согнал на ассамблеи дев и жен. На всех границах насажал дозорных, Цепями запер гавани страны, Ввел откуп винный, целый штат придворных, Сенат, шпионов, паспорта, чины. Умыл, побрил, одел в мундир холопа, Снабдил его ружьем, намуштровал, И в удивленье ахнула Европа: «Царь Петр Россию цивилизовал!» Он завещал наследникам короны Воздвигнутый на ханжестве престол, Объявленный законом произвол И произволом ставшие законы, Поддержку прочих деспотов штыком, Грабеж народа, подкуп чужеземцев, И это все – чтоб страх внушать кругом И мудрым слыть у англичан и немцев. Но дайте срок, француз, германец, бритт! Когда начнут вас потчевать кнутами, Когда указы зажужжат над вами, Когда ваш край пожаром загудит (О, разве это выразить словами!), Когда вам царь прикажет обожать Мундир, этап, Сибирь, остроги, плети, С какою песней вы и ваши дети Царю восторг придете выражать? Влетает царь, как палка в городки, Здоровается с войском для начала. «Здравья желаем!» – шепчут все полки, И точно сто медведей зарычало. Царем сквозь зубы брошенный приказ Мячом несется в губы коменданта, Из уст в уста, все дальше, и как раз Доносится до крайнего сержанта. И по рядам нестройный гул прошел, Штыки блеснули, сабли засверкали. Вы кашеварный видели котел, Коль на линейном крейсере бывали: Валят пшено – бочонков шесть туда, Шипя, хрипя, работают насосы, Рекою шумной хлынула вода, И, чтоб варилась весело бурда, Ее мешают веслами матросы. Еще стократ бурливее котла Французская палата депутатов, Когда проект комиссия внесла И наконец подходит час дебатов, А уж Европе подвело живот, И на обед она свободы ждет. Крик начался. Один в потоп словесный Спешит облечь свой либеральный пыл; Тот вспомнил вольность, а народ забыл; Тот веру славит. Некий неизвестный, О страждущих народах говорит, Царя и разных королей корит. Ему ответом – гул весьма нелестный. Орут: «К порядку болтуна призвать!» Вдруг настежь дверь. Министр финансов входит, Держа в руках огромную тетрадь, И канитель на три часа заводит: Долги, кредит, учет, переучет, Проценты, сборы, пошлины, доход. Послушали – и загалдели снова, Шумят, как шторм, не разобрать ни слова. Народы уж готовы ликовать, Правительства поджали хвост в тревоге, А речь идет… всего лишь о налоге. Так вот – кому случилось побывать На депутатских прениях в Париже Иль кашеварню посмотреть поближе, Поймет, какой раздался шум и гам, Когда приказ разнесся по полкам. Три сотни барабанов затрещали, И, как весной расколотые льды, Пехотные расстроились ряды, Колоннами сошлись – и зашагали. Крик командиров, барабанный гром… Царь – будто солнце, рой планет кругом, То цепью полк проходит за полком. Царь выпускает стадо адъютантов, Как свору псов иль стаю воробьев, Летят, кричат, своих не слыша слов, Им вторит крик полковников, сержантов, Оружья звон и грохот музыкантов. И вдруг, полки собрав в единый ряд, Сомкнулась кавалерия стеною, За ней громадой поползла стальною Пехота, как размотанный канат. Потом пошли фигуры, повороты, Вот конница лавиной в семь полков Во весь опор несется в тыл пехоты, Так свора псов, трубы заслыша рев, Летит к медведю, что, зажат в капкане, Стоит, бессильно корчась, на поляне. А вот пехота сдвоила ряды И словно ощетинилась штыками, Так еж топорщит иглы в час беды. Вот конница тринадцатью полками Летит навстречу скрытому врагу И застывает вдруг на всем скаку. И долго там шагали и скакали, И пушки взад-вперед передвигали, По-русски, по-французски всех ругали, Под стражу брали, по шеям давали, С коней слетали, головы ломали, И, наконец, монарха поздравляли. Предмет велик, и важен, и богат, Певца его бессмертье ждет, нет спора; Но муза гаснет, как в песке снаряд, Под кучей прозаического сора. И как Гомер, поющий спор богов, Заснуть на полуслове я готов. Но наконец проделал царь с войсками Все то, о чем слыхал или читал. И, как прибрежный отбегает вал, Шумя, стуча замерзшими ногами, Расходится и тает круг зевак, Ряды тулупов, кожухов, сермяг: Озябнув, любопытство утомилось А во дворце роскошный стол готов. На завтрак иностранных ждут послов, Что, покупая царственную милость, Чуть свет встают, презрев мороз и лень, Чтобы на смотр являться каждый день И повторять в восторге: «Дивно! дивно!» Царя все гости хвалят непрерывно, Кричат, что в мире лучший тактик он, Что полководцев он собрал могучих, Что воспитал солдат он самых лучших, Что царь – пример монархам всех времен, И, пресмыкаясь перед царским троном, Смеются над глупцом Наполеоном, А между прочим, на часы глядят, Скорей бы, мол, кончалась эта мука. Мороз под тридцать. Все уж есть хотят, Всем челюсти зевотой сводит скука. Но царь еще раз отдает приказ. И вновь полкам – буланым, серым, бурым Приходится вертеться по сто раз, Шагать, скакать неистовым аллюром, Смыкаться иль растягиваться шнуром, Раскидываться веером опять Иль ждать атаки, строй сомкнув стеною. Так старый шулер часто сам с собою За стол садится – карты тасовать, Раскладывать и смешивать, сдавать, Как будто жадной окружен толпою. Но, видно, стало и царю невмочь Он повернул и вдруг поехал прочь. И на ходу застывшие колонны Стояли долго, брошены царем. Но наконец раздался трубный гром, И двинулись, качнувшись, пеший, конный, Ряды, ряды – кто сосчитает их? Вползли в ущелья улиц городских, Ни в чем не уподобясь тем потокам, Что с диким ревом, мутны и грязны, Свергаются с альпийской вышины, Чтоб в озере прозрачном и глубоком Свои очистить волны, отдохнуть И дальше, средь сияющей природы, Спокойно мчать смарагдовые воды, В цветущий дол прокладывая путь. Блестящий, свежий, будто снег нагорный, Вливался утром каждый полк сюда, А выходил усталый, потный, черный, Грязнее в грязь растоггганного льда. Плац опустел. Ушли актер и зритель. На площади чернеют здесь и там Убитые. На этом белый китель: Улан. Другой разрезан пополам, И кто, кем был он? В грязь одежда вбита, И размозжили голову копыта. Один замерз и так стоит столбом, Полкам он здесь указывал дорогу. Другой в шеренге сбил со счета ногу И, по лбу ошарашен тесаком, Пал замертво. Жандармы на носилки Его швырнут, и в яме гробовой Очнется среди мертвых он, живой. Вот снова труп – с проломом на затылке. Другой раздавлен пушкой. Нет руки. И на снегу распластаны кишки, Упав, он, колесом уже прижатый, От боли трижды страшно закричал, Но капитан взревел: «Молчи, проклятый! Молчи, здесь царь!» И что ж, он замолчал. Солдатский долг – послушным быть приказу. Плащом закрыли раненого сразу: Ведь ежели случайно на смотру Заметит царь такой несчастный случай, Увидит кровь и мясо – туча тучей Потом он приезжает ко двору. Там для придворных стол уже накрыт, А у царя испорчен аппетит. Зато последний раненый немало Всех удивил. Угрозами взбешен, Бранился, не боясь и генерала, А на царя проклятья сыпал он. И люди, слыша крики, за парадом Несчастных жертв следили скорбным взглядом. Скакал – передавали – стороной С приказом отделенному связной, Но конь вдруг стал – и далее ни шагу. А сзади мчался целый эскадрон. Лавиной так отбросило беднягу, Что под копыта камнем рухнул он. Но, видимо, коням знакома жалость: Они не люди. Пять полков промчалось, Но лишь одним он был задет конем Подковою плечо ему сломало. Прорвав мундир зеленый острием, Белела кость кровавая. Сначала От боли белый сам, – как говорят, Надолго впал в беспамятство солдат. Потом очнулся, поднял к небу руку И хоть терпел неслыханную муку, Но приподнялся из последних сил И звал к чему-то, что-то говорил. Чего хотел он? Люди разбежались, Затем что царских сыщиков боялись, И все ж народ рассказывал потом, Что говорил по-русски он с трудом, Что слово «царь» он повторял стократно, А остальное было непонятно. И слух пошел, что это был литвин Или поляк и, видимо, богатый. Быть может, князя или графа сын. Что был из школы силой взят в солдаты, Потом попал в кавалерийский полк; Ему полковник, невзлюбив поляка, Дал дикого степного аргамака, Пускай свернет, мол, шею лях-собака! Однако вскоре слух о нем замолк, Его забыли, имени не зная. Но помни, царь, придет пора иная. И будет суд над совестью твоей, И он предстанет там, окровавленный, Меж тех, кого ты гнал сквозь строй зеленый, Иль растоптал копытами коней, Иль в шахты бросил до скончанья дней. Над площадью кружился утром снег. Выл где-то близко пес. Сбежались люди И мерзлый труп отрыли в снежной груде. Он после смотра там обрел ночлег. Под скобку стрижен, борода густая, Плащ форменный и шапка меховая, На вид полусолдат, полумужик, То, верно, офицерский был денщик, Стерег несчастный шубу господина И люто мерз. Хотя крепчал мороз, Уйти не смел он. Снег его занес. К утру он бездыханен был, как льдина, И мертвого нашел здесь верный пес. Хоть замерзал, но не надел он шубы. Заиндевели смерзшиеся губы. И был залеплен снегом глаз один. Другой еще глядел остекленело На площадь – не идет ли господин. Терпенью слуг российских нет предела: Велят сидеть – не встанет никогда И досидит до Страшного суда. Он мертв, но верен барину доселе И держит шубу барскую рукой. Погреть пытался пальцы на другой, Но, видно, пальцы так закостенели, Что их под плащ просунуть он не мог. А где же барин? Так он осторожен Иль так он черств, что даже не встревожен Тем, что слуга исчез на долгий срок? То был недавно прибывший в столицу Заезжий офицер, как говорят. Пришел он не по долгу на парад, А чтоб мундиром новым похвалиться. С парада, верно, зван был на обед, Затем побрел ночной красотке вслед, Иль, забежав к приятелю с поклоном, Забыл бородача за фараоном, Иль шубу с ним оставил для того, Чтоб не могли знакомые глумиться: Мол, офицер, а холода боится, Ведь не боится русский царь его! Чтоб не сказали: «В шубе! На параде! Он либерал! Он вольнодумства ради Ее надел!» Несчастный ты мужик! Такая смерть, терпение такое Геройство пса, но, право, не людское. Твой барин скажет: «То-то был денщик! Верней собаки был!» – и усмехнется. Несчастный ты мужик! Слеза течет При мысли о тебе, и сердце бьется… Славянский обездоленный народ! Как жаль тебя, как жаль твоей мне доли! Твой героизм – лишь героизм неволи.День перед петербургским наводнением, 1824
ОЛЕШКЕВИЧ
Морозом лютым небо пламенело, Но вдруг померкло, из конца в конец Покрылось пятнами и посинело. Так близ огня – промерзнувший мертвец Не оживет, но, жар вобрав мгновенно, Обдаст живых дыханьем смрадным тлена. Мороз упал. Миражем ледяным Над кровлями раскинувшийся дым Воздушный город, замок великана Повис, обмякнув, клочьями тумана И, в испареньях теплых растворясь, Покрыл столицу белою завесой. Снег начал таять. В темноте белесой На улицах, как Стикс, чернела грязь. Полозья сняты, вмиг исчезли сани, Колеса вновь гремят по мостовой. Карету за аршин перед собой Не разглядишь во мраке и в тумане. Лишь огоньком, скользящим средь болот, От фонарей чуть видный луч мелькнет. Был поздний вечер. Над Невою сонной Гуляли снова те же. В этот час Пустеет все. Шпион не встретит вас, Да и чиновник вам своей персоной Пейзаж не портит. Разговор вели Они на языке чужой земли. Порой чужую песню напевали, Порой, шаги замедлив, озирали Окрестность – нет ли сыщика вдали? Береговой гранит вздымался хмуро, Как скалы в Альпах. Только на песке, Где спуск ведет ступенями к реке, Чернела одинокая фигура. У самых вод мужчина с фонарем Стоял, неверным освещен огнем. Не сыщик ли? Но что ж глядит он в воду? Иль перевозчик? Н. о спроси природу: Возможно ль через лед переплывать? Рыбак? Но с ним лишь книги да тетрадь. Приблизились. Но он не обернулся, Он вытянул веревку из воды, Пересчитал на ней узлы, нагнулся И записал каких-то цифр ряды В свою тетрадь, как будто вычисляя, Как велика здесь глубина речная. Свет фонаря, от книги отражен, Упал на льды мерцанием блестящим, И в том луче казался желтым он, Как облако над солнцем заходящим. Лицом красив и благородно строг, Листал он том старинный в увлеченье. Не слышать подошедших он не мог, Но продолжал, не отрываясь, чтенье, Лишь руку молча поднял в знак того, Что просит их не отвлекать его. И это было так необычайно, Что путники, хоть на устах у всех Уж был вопрос, прервали шепот, смех, И смолкли все, как бы смутившись тайно. Но вдруг один воскликнул: «Это он!» Кто – он? Поляк, художник. Но без дела Лежит его палитра. Он всецело В науку чародейства погружен, И Каббалу он знает. Ходят слухи, Что запросто беседуют с ним духи. Тут чародей захлопнул книгу, встал, Сложил листки и, глядя вдаль, сказал: «С восходом солнца день чудес настанет, Вслед за второю третья кара грянет. Господь низверг Ассура древний трон, Господь низверг развратный Вавилон, Но третьей пусть мои не узрят очи». И, глаз не подняв, не взглянув кругом, Он осветил ступени фонарем, Взошел по ним и скрылся в мраке ночи. Никто не понял смысла тех речей, Кто засмеялся, кто нахмурил брови. Один вскричал: «Шутник ваш чародей!» Река шумела, ветер стал суровей, И, постояв немного над Невой, Продрогли все и побрели домой. Но был один. Он в странном нетерпенье По лестнице взошел почти бегом, Хотел догнать поляка. В отдаленье Мерцал фонарь болотным огоньком. Хотя в лицо не видел чародея, Что говорили – не дослушал он, Но, предсказаньем темным потрясен, Смирить свое волненье не умея, Хотел понять загадку пилигрим И мчался в ночь по скользким мостовым. Он вспомнил голос тот. Во тьме глубокой Дразнящий луч порой то словно гас, То, загоревшись точкой одинокой, Мерцал опять. Так длилось добрый час. И вдруг он стал на площади широкой. И пилигрим идет быстрей, быстрей, Нагнал, – на груде сваленных камней Стоит художник без плаща, без шляпы. Рука подъята ввысь. Луч фонаря Направлен прямо на дворец царя. Дворец заснул. Спят царские сатрапы. Но он глядит на угол, где окно, Одно окно еще освещено, Глядит, пытливых глаз не отрывая, И словно богу молится. И вдруг Заговорил он сам с собою вслух: «Царь! Ты не спишь! Повсюду ночь глухая, Уже давно твои вельможи спят, Лишь ты в окно вперил бессонный взгляд. В великом милосердье всемогущий Ниспосылает ангела к тебе, Чтоб ты помыслил о своей судьбе, Затрепетал пред карою грядущей. Ты сон зовешь. Не раз во. сне с тобой Беседовал хранитель ангел твой. И был ты чужд и злобе и гордыне, Но низко пал, тиранство возлюбя, Твой ангел отступился от тебя, И стал добычей дьявола ты ныне. Ты, как виденье, как ненужный бред, Забыть стремишься ангела совет. Сегодня льстец тебя как бога славит, Но завтра сатана тебя раздавит… Жильцы лачуг – ничтожный, мелкий люд Допрежь высоких кару понесут. Так молния страшней на горных скатах Или на башнях в шумный час грозы, А меж людей, казня невиноватых, Она скорей в людские бьет низы… В разврате, в пьянстве, в роскоши блестящей Погрязли вы и спите крепким сном, Забыв, что завтра грянет божий гром, Как тот стрелок, что бродит в сонной чаще И зверя бьет без выбора, пока Не узрит вепря в гущах дубняка. Я слышу: словно чудища морские, Выходят вихри из полярных льдов. Борей уж волны воздымать готов И поднял крылья – тучи грозовые, И хлябь морская путы порвала, И ледяные гложет удила, И влажную подъемлет к небу выю. Одна лишь цепь еще теснит стихию, Но молотов уже я слышу стук…» Тут он заметил слушателя вдруг, Задул свечу и поглощен был мраком, Исчез, как то видение, что нас Ошеломляет в некий странный час, Очам блеснув неведомого знаком.РУССКИМ ДРУЗЬЯМ
Вы помните ль меня? Среди моих друзей, Казненных, сосланных в снега пустынь угрюмых, Сыны чужой земли! Вы также с давних дней Гражданство обрели в моих заветных думах. О где вы? Светлый дух Рылеева погас, Царь петлю затянул вкруг шеи благородной, Что, братских полон чувств, я обнимал не раз. Проклятье палачам твоим, пророк народный! Нет больше ни пера, ни сабли в той руке, Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев. С поляком за руку он скован в руднике, И в тачку их тиран запряг, обезоружив. Быть может, золотом иль чином ослеплен, Иной из вас, друзья, наказан небом строже: Быть может, разум, честь и. совесть продал он За ласку щедрую царя или вельможи. Иль деспота воспев подкупленным пером, Позорно предает былых друзей злословью, Иль в Польше тешится награбленным добром, Кичась насильями, и казнями, и кровью. Пусть эта песнь моя из дальней стороны К вам долетит во льды полуночного края. Как радостный призыв свободы и весны, Как журавлиный клич, веселый вестник мая. И голос мой вы все узнаете тогда: В оковах ползал я змеей у ног тирана, Но сердце, полное печали и стыда, Как чистый голубь, вам вверял я без обмана. Теперь всю боль и желчь, всю горечь дум моих Спешу я вылить в мир из этой скорбной чаши, Слезами родины пускай язвит мой стих, Пусть, разъедая, жжет – не вас, но цепи ваши. А если кто из вас ответит мне хулой, Я лишь одно скажу: так лает пес дворовый И рвется искусать, любя ошейник свой, Те руки, что ярмо сорвать с него готовы.[1832]
Примечания
1
Первая строфа – это подражание песне немецких буршей.
(обратно)2
Для кого в венок вплетаешь… – Эти триолеты взяты из стихотворения Томаша Зана.
(обратно)3
Сицинский, будучи депутатом сейма от Упиты (1652), первый подал пример срыва решений сейма незаконным применением вето, чем нанес сокрушительный удар королевской власти, а страну поверг в водоворот шляхетской анархии. Существует легенда, будто, когда он возвращался с сейма, проклинаемый своими соотечественниками, на самом пороге своего дома он был поражен молнией. Несколько лет тому назад в Упите показывали старый, но хорошо сохранившийся труп, будто бы Сицинского, который церковные сторожа волокли на потеху всему местечку.
(обратно)4
Альмотенабби – славный рыцарь и поэт арабский, изгнан ный из своего отечества, отправился в Египет к своему другу султану Абу-Ходж-Фатиху. Не застав его в живых, Альмотенаб би покинул Египет и сложил в пути эту касыду.
(обратно)5
Фарис – всадник, почетное звание у арабов-бедуинов, означающее то же, что кавалер, рыцарь в средние века, под этим именем известен был на Востоке граф Вацлав Жевуский.
(обратно)6
Как туча он, мой черный конь ретивый.
Звезда на лбу его денницею горит;
Как перья страуса, летит по ветру грива,
Сверкают молнии из-под копыт. – Эти четыре строки, содержащие описание коня, являются переводом арабского четверостишия, помещенного в примечаниях к «Арабской антологии» Лагранжа.
(обратно)7
«Чую, – каркнул, – запах трупа…» – На Востоке распространено поверие, будто коршуны чуют смерть издалека и кружат над человеком, которого ждет смерть. Как только путник умирает в дороге, тотчас же появляется поблизости несколько коршунов, хотя раньше их не было видно.
(обратно)8
Тут африканский смерч, пустыни властелин… – Смерч (ураган) – это название (американское – урикан), означающее ужасную тропическую бурю. Так как это название широко известно в Европе, я употребил его вместо арабских слов сесум, серсер, асыф для обозначения вихря, смерча (тайфуна), засыпающего иногда целые караваны. Персы называют его гирдебад.
(обратно)9
Сюжет этот знаком народам всех христианских стран. Поэты по разному использовали его. Бюргер построил на нем свою «Лерy». He зная народной немецкой песни, невозможно определить, какой мере Бюргер изменил содержание и стиль ее. Свою балладу я сложил по песне, которую слышал когда-то в Литве на польском языке. Я сохранил содержание и композицию, но из всех стихов этой народной песни в памяти осталось всего несколько, которые послужили образцом стиля.
(обратно)10
Папоротник и царь-зелье… – растения, употребляемые в колдовстве для ворожбы.
(обратно)11
Дом мой на горе Мендога… – Гора Мендога под Новогородком превращена в кладбище, поэтому в окрестностях Новогородка выражение «пойти на гору Мендога» означает «умереть».
(обратно)

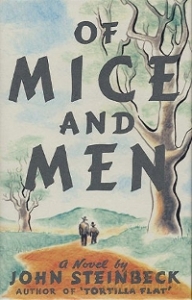



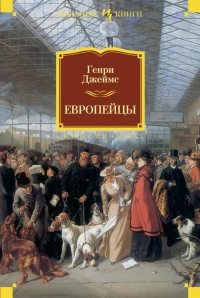

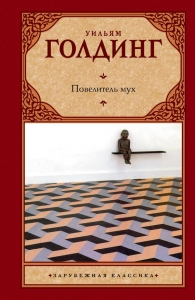
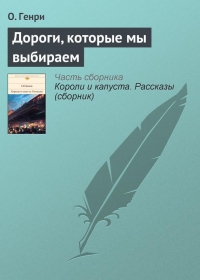

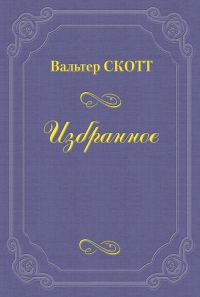
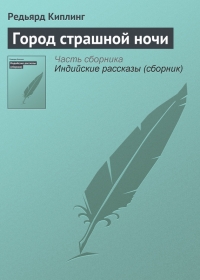
Комментарии к книге «Стихотворения», Адам Мицкевич
Всего 0 комментариев