Елена Долгопят Чужая жизнь. [рассказы]
© Долгопят Е.О., 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
Цветная изнанка жизни
Это умная проза. Ее простота обманчива, ее кажущаяся безыскусность – итог опыта и мастерства, а авторская сдержанность отзывается в нас неожиданно сильным чувством.
Каждый рассказ Елены Долгопят неповторим и может принадлежать только ей. Каждый болезненно бередит душу чувством непрочности, а то и призрачности человеческого существования в отнюдь не иллюзорном, но самом что ни на есть реальном, очень узнаваемом мире. Даже те, где присутствует элемент фантасмагории, воспринимаются не как фантастика, а как возведенная в степень обыденность. Приемы, за счет которых достигается этот эффект, мне неизвестны. Подозреваю, что загадка воздействия этих текстов на читателя в чем-то таком, чему не научат ни на каких литературных курсах.
Как человек, много лет проработавший учителем в школе, я знаю, что если на уроке ты о чем-то рассказываешь, а дети начинают шуметь, бесполезно форсировать голос. Ты один, а их много, всё равно ты их не перекричишь. Лучший способ заставить прислушаться к себе – начать говорить тише. По-моему, что-то подобное происходит сейчас в литературе: отчаявшись быть услышанными, мы стараемся крикнуть громче, чтобы перекричать шум мира, но у большинства это плохо получается.
Елена Долгопят никогда не пыталась повысить голос. Ее рассказы давно публикуются в журналах и выходят отдельными книгами, но лишь в последние годы мы, кажется, начинаем понимать, что своим тихим голосом она говорит о «цветной изнанке жизни», вещах, важных для всех нас.
Леонид ЮзефовичЛёша
Это произошло непроизвольно, без усилия.
Очередь не двигалась, мать не отпускала Лёшу от себя, держала за воротник, как маленького. Люди подходили, спрашивали, что дают.
Сосиски.
Сказали не занимать.
Килограмм в руки.
Стояли терпеливо, плотно друг к другу. Кто-то пытался пробиться без очереди, на него кричали матом.
Очередь то стояла намертво, то продвигалась на шажок, и сколько еще таких шажков до продавщицы в белом колпаке, тысячу? Сто тысяч? Лёша бы сходил, измерил, но мать не отпускала, держала крепко.
– Мне жарко, – пожаловался Лёша.
Мать отпустила воротник, наклонилась. И в этот момент, в то самое мгновение, когда лицо матери приблизилось к Лёшиному, время остановилось. Мать и все люди, все существа и все предметы застыли, как в сказке про заколдованный замок. Лёша множество раз читал ее в тонкой детской книжке. В книжке имелась картинка с замершими в танце обитателями замка. Впрочем, на любой картинке мир со всеми его обитателями замирает.
Лёша пошевелился и понял, что время остановилось не для него. Все застыли, Лёша оставался свободен. Он не особенно удивился. Он воспринял случившееся спокойно. Отступил от очереди. Прошел вдоль нее. Отметил, что не слышно звуков, и даже его собственные шаги не слышны. Не чавкает черная жижа на полу. Идешь, как будто в пустоте.
Лёша ступал осторожно, боялся спугнуть уснувшее время. Боялся пробудить. Наверное, так нужно красться мимо задремавшего льва.
В воздухе застыла новенькая блестящая монетка. Пятачок. Лёша разглядел год, 1972-й. Только что начавшийся. Дверь была приоткрыта, видимо, не успела захлопнуться за багровым от холода дядькой. Для Лёши проход оказался достаточным.
Мальчик вышел на зимнюю улицу. В воздухе сверкала ледяная пыль. Ребенок катился по ледяной дорожке, растопырив руки. Лёша заглянул ему в лицо, в светлые прозрачные глаза и отправился дальше. Лёша знал, что улица должна привести его к реке, ему хотелось посмотреть на лед, и, может быть, даже пройти по нему на тот берег. Ребята говорили, что посреди реки гудит страшный ветер и может снести пешехода, уволочь аж до самого фанерного завода. Там всегда пахло распиленным деревом. Впрочем, в остановленном мире Лёша не чувствовал запахов.
Идти оказалось легко, невесомо. Лёша наблюдал облачка пара и дым сигарет, как будто запечатленные на фотографических снимках. Вдоль спускавшейся к реке улицы стояли небольшие одноэтажные дома. Над печными трубами замер дым. Из колонки била в ведро ледяная алмазная струя. Тетка поддерживала на крючке ведро. Она стояла прочно. В валенках с черными гладкими калошами, в сером ватнике, из-под которого выглядывала длинная темная юбка. Лёша обошел тетку, рассмотрел со всех сторон, как статую в музее. Подивился на обширный зад, на крепкие, как бетонные сваи, ноги, на черную волосатую родинку над верхней губой.
Лицо у тетки сморщено; похоже, она собиралась чихнуть, да не успела.
Лёша подумал: надо же, я гуляю и нисколько не мерзну, и есть не хочется. А в очереди очень уже хотелось есть, тем более что пахло в магазине не только холодом и людьми, но и свежим хлебом, и сосисками пахло, которые привезли к ним продавать из Москвы.
Ничего уже не хотелось, только смотреть.
Лёша оставил тетку и отправился дальше, то задерживаясь перед вспорхнувшим воробьем, то перед каким-нибудь прохожим. Лёша переходил на проезжую часть, шагал, не опасаясь машин; не было слышно их ворчания и звериного бензинового запаха, который Лёша обожал.
У реки, за сараями, открылся проулок, и Лёша увидел в нем маленькую, скрюченную фигурку. Мальчик лежал на снегу, поджав ноги, прикрыв руками голову, на которую летела уже нога в тяжелом, точно камень, ботинке. Летела, да не долетела, остановилась в воздухе. Лицо у нападавшего перекосилось, серая армейская шапка с вмятиной от кокарды свалилась и зависла у самой земли.
Лёша знал обоих ребят. Лежащего звали Валькой, он учился вместе с Лёшей в четвертом классе а; его палач, по прозвищу Бык, учился в восьмом гэ. Не учился, а тянул срок, как мать в таких случаях говорила. Валька обращал на себя внимание лишь тихим прозрачным голосом. Учительница всегда подходила к нему поближе, чтобы расслышать. Рядом с ними застыл наблюдателем еще один знакомец и Лёшин одноклассник – Петя. И не просто знакомец и одноклассник, а лучший Лёшин друг. Он стоял, засунув руки в карманы короткого пальто, и наблюдал избиение с улыбкой.
С ужасом смотрел Лёша на лицо друга. И это Петя! Веселый, умный, ловкий, обожаемый Петя! Тот, кому Лёша рассказал свой сон о смерти (а больше не рассказал никому), тот, кто научил его плавать этим летом. Петя, который умел заговорить кровь. Лучший человек на земле хладнокровно и с видимым удовольствием наблюдал избиение.
Лёша опустился на колени и заглянул в лицо бедного Вальки.
Глаза зажмурены, нос разбит в кровь.
Лёша подумал: схвачусь за каменный ботинок и дерну на себя, Бык грохнется об лед затылком, а мы с Валькой рванем. До фанерного, по льду.
Лёша схватился за ботинок и в ту же самую секунду очутился в очереди и оглох от обрушившихся звуков. Голоса, шаги, кашель, хлопанье двери. Мать сказала:
– Потерпи, сынок, мы уже рядом.
Она выпрямилась, отвлеклась, и Лёша сиганул к двери.
В переулке за сараями никого уже не было. Лёша разглядел пятна крови на утоптанном снегу. Огляделся, подождал невесть чего. И побрел к магазину. Дыхание постепенно восстанавливалось.
Дома мать сказала, что сосисок он не получит.
– Я за своей долей отстояла, дотерпела, а ты, видать, не пожелал.
И больше она с ним в этот вечер не разговаривала. И не смотрела в его сторону, как будто Лёша – пустое место. Сварила сосиску и съела. Лёша пожевал картошку с квашеной капустой и сел за уроки. Назавтра Любаша, так они звали классную, обещала контрольную. Лёша чувствовал себя старым, много пережившим.
На другой день Валька в школе не появился, а Петя пришел с заплывшим глазом и рассказал Лёше, как шел вчера по переулку у реки, думал о своем и вдруг увидел, как Бык молотит Вальку.
– Я, конечно, бросился отбивать и получил, хорошо, что дядька проходил военный. Он Быка рубанул по шее, и всё, Бык сдох. Дядька обещал научить боевым приемам. Пойдешь?
Лёша понял примерно следующее: по мгновению, по тонкому срезу, нельзя судить о событии. Нельзя судить с абсолютной точностью. С уверенностью. Ты не знаешь, отчего на лице человека застыла улыбка. Он смотрит на тебя, но, быть может, тебя не видит и улыбается собственной, неведомой тебе мысли.
После боя Петя проводил Вальку до дома, и по дороге Валька рассказал, что гулял себе спокойно за хлебом и вдруг увидел – у сарая стоит Бык и плачет. Валька прибавил шаг и вдруг услышал, что Бык его нагоняет. Нагнал, двинул в спину, Валька упал.
Звонок прозвенел, вошла Любаша.
Ребята стояли тихо. Любаша посмотрела на них с такой грустью, с какой мать иногда смотрела на Лёшу, как будто заранее, на всю оставшуюся жизнь, его жалея.
Любаша опустилась на стул возле своего учительского стола, закрыла маленькими ладошками круглое молодое лицо и застыла.
И класс застыл. Никто не шевелился. Рукав коф-ты у Любаши был испачкан мелом, очень хотелось, чтобы эта белая полоса исчезла, не беспокоила взгляд. Всё это походило на вчерашнее, вдруг остановленное время. Правда, на этот раз и Лёша был в нем остановлен.
Никто не мог пошевелиться, никто, пока Любаша не отняла рук от покрасневшего лица и не вздохнула. И тогда все вздохнули.
Девчонки закудахтали:
– Любовь Николавна, Любовь Николавна, что такое, что?
Любаша махнула рукой, остановила квохтанье. Платочек вынула из кармашка в кофте, белый, тоненький, промокнула глаза, промокнула нос.
– Вы всё равно узнаете. Бориса Евдокимова нашли убитым сегодня утром. Да вы садитесь уже.
Борис Евдокимов и был Бык. Был.
Через день Петя перехватил Лёшу до начала уроков возле школы. Он сказал, что сегодня восьмой гэ едет хоронить Быка. У крыльца уже стоял «пазик».
– Пока они собираются, мы пешком дойдем.
Лёша не спросил, зачем. Он (вероятно, как и Петя) чувствовал, что должен идти. То ли попрощаться, то ли разрешить какой-то вопрос.
Бык жил (был) на окраине, в прилепившейся к городу деревне. Ребята прошли через заглохший парк у завода Дзержинского, прошли по обочине узкой, обледенелой дороги, перебрались через пути, через маленькую замерзшую речушку, оттуда уже видна была деревня. Шли они всю дорогу молча.
Белое поле лежало под фиолетовым небом. Любаша приводила их сюда в декабре. Лопатой разрезали снег и смотрели слои. Светлые, темные, впитавшие копоть и жесткий ледяной наст, это значит, подморозило после оттепели. Увидели желтый след мочи, похихикали. Любаша сказала, что к весне вся эта снежная книга, которую она их учит читать, растает без следа.
Белое чистое поле под сумрачным небом слепило глаза. Мальчики приближались к деревне по пробитой тропинке, и всё казалось таким давним: и снег, и тропинка, и деревянные дома, и печной дым, и сами они, маленькие люди.
– У нас из Александровки братья Крысенковы учатся.
– Да, точно.
У дома Быка топтались люди. Красная крышка гроба стояла у забора возле настежь распахнутой калитки. Мальчики прошли. Тропинка была широко и гладко расчищена. Снег светился. Мужчины курили на крыльце.
В комнате оказалось холодно, нетоплено.
Скудный свет из небольшого окна. Зеркало завешено черным платком. На голом столе посреди комнаты – открытый, обитый красным гроб. На стуле возле него – женщина, вся в черном. Губы сжаты, глаза сухие.
Мальчики робко приблизились с другой стороны стола к гробу. Лежавший в нем не походил на себя живого. Одели его в черный парадный костюм и белую отглаженную рубашку. Блестели и пахли гуталином черные тяжелые ботинки. Часы на буфете стояли. От холода стыло лицо. Петя коснулся Лёшиной руки, и мальчики тихо отступили от гроба.
Они вышли на волю, постояли с мужчинами на крыльце, вдохнули горький дым.
Подъехал «пазик», открылась дверь. Восьмиклассники выбирались молча.
– Айда домой, – решил Петя.
– Я останусь еще, – сказал Лёша.
Петя взглянул на него удивленно, но ничего не спросил. Пожал руку на прощание.
Лёша сошел с крыльца, топтался рядом. Бог его знает, для чего он оставался, что еще хотел увидеть. Может быть, понять.
Лёша дождался, когда гроб вынесли из дома, и отправился вслед за черной тихой толпой.
На кладбище мужчины долбили землю и пели неслыханные Лёшей стихи:
– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Не было на кладбище священников, несколько старушек крестились и плакали (мать Быка не плакала и не крестилась), а мужчины долбили землю, и пели, и пели:
– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
И это казалось Лёше страшным и нужным.
Остался он и на поминки в уже натопленном доме, послушал разговоры, поел и даже глотнул водки.
Убили Быка ножом в грудь на путях, за депо. За ночь занесло его снегом.
Мать Быка всё молчала, а потом вдруг сказала, негромко, но все услышали:
– Ушел он вовремя, без греха, его убили, не он, это милость Божия.
– Откуда ты знаешь? – кто-то из женщин спросил молодым голосом. – Есть у него на душе такой грех или нет?
Мать Быка помолчала, подумала.
– Не знаю. Но и обратного не знаю.
И выпила целую, до краев, стопку.
Вернулся Лёша домой уже к ночи. Мать его не попрекала. Предложила поесть, но Лёша сказал, что сыт. Зубы почистил, умылся, поглядел в зеркало на свое мокрое лицо и подумал, что совсем не хочет умирать, никогда.
Чужая жизнь
Когда у него отрастали волосы, они начинали виться и отливать рыжизной. Жене́ нравилось, но он такой длины старался не допускать, аккуратно стригся каждые две недели. Дело в том, что с отросшими волосами он становился похож на известного по сериалам актера. И тогда люди смотрели на него умиленно, изумленно, восторженно. Но все эти взгляды не имели отношения к нему.
Был он человек вежливый, но холодный, другими людьми особенно не интересовался. Выглядел то старше, то младше своих тридцати пяти – зависело от состояния. На работу носил белые отутюженные рубашки под темные пиджаки. Был неразговорчив. Особенно не любил рассуждать о политике и религии, об устройстве мироздания и о смысле жизни, о чужих странах, даже если в них бывал, и о фильмах, даже если их видел. Мог поговорить об автомобилях. Точнее, не поговорить, а так, поддержать разговор, чтобы не угас.
Летом его жене предложили выгодный долгосрочный контракт за границей. Она пришла в тот вечер с таинственно-счастливым лицом, глядела потемневшими, встревоженными глазами, как будто только что, впервые в жизни, влюбилась. И Михаил ничего другого не мог ей сказать, кроме как: да, здо́рово.
Она рассматривала снимки той страны, куда собиралась, как в сказку. Слушала ее песни, они вместе слушали, с Михаилом, и она понимала их смысл, а он нет, и ему было не по себе.
– Работу найдешь легко, – убеждала жена, чувствуя его беспокойство, – поверь мне, такие специалисты, как ты, везде нужны. Язык поймешь, освоишь, ты умный и музыкальный, музыкальный слух важен для языка, у каждого языка своя музыка, я эту обожаю, я, наверно, в прошлой жизни там жила и была счастлива, я хочу вновь дышать тем воздухом, я даже мечтать не могла, что так будет.
Ну что тут скажешь? И Михаил молчал, пока не пришло время и ему оформлять документы. И тогда он признался, что для него этот отъезд как смерть, что он человек привычки, и пошутил про «берег турецкий». Осенью она уехала.
Квартиру сдали, а Михаил вернулся к матери, в свою бывшую комнату. Мать по-прежнему ночевала в гостиной на диване, у сестры тоже имелась своя комната, так что квартирный вопрос их не мучил. С женой переписывались по электронной почте. Михаил отмечал с удивлением, что не скучает по ней. И не сразу узнаёт на фотографиях, которые она присылает.
Он ее забывал. Как будто течением его уносило от нее.
То ли по закону сюжетосложения, то ли по закону судьбы Михаил не мог избежать рокового сходства, как ни старался.
В феврале он тяжело заболел гриппом и слег почти на месяц, а когда поднялся, увидел в зеркале отросшие кудри, точнее, увидел того актера вместо себя, он нагло занял его место. Михаил покашливал и в ногах чувствовал слабость, но все-таки побрился, оделся потеплее и пошел из дому на улицу. Остановить его никто не мог, сестра с матерью были на работе.
Обычно Михаил ездил в одну и ту же парикмахерскую, к одному и тому же мастеру, к которому следовало записываться. Он привык к его рукам, к его манере, он и правда был человек привычки. Но в этот раз Михаил ехал без звонка – всё равно к кому попадет, лишь бы состричь поскорее ненавистные кудри. Из-за них даже цвет глаз менялся. Уже в автобусе он сообразил, что есть парикмахерская возле дома, в двух шагах.
Он сидел у окна, напротив девушки. Смотрел в окно и видел в стекле ее кривое отражение поверх уплывающих огней. Шапку он натянул на глаза, как бы спрятал, затолкал актера за шапку. Он был в черной куртке, в старых джинсах, и в этой пацанской одежде, бледный и слабый от болезни, казался моложе своих лет. Казался мягче.
Он привалился головой к стеклу и перевел взгляд на девушку. Рассмотрел тонкую шею, смуг-лую щеку, тень от ресниц. Вдруг подумал, что это лицо скоро исчезнет. Он, как бы это сказать, почувствовал мимолетность этого лица. Этого существа. Этого существования. Карие глаза потускнеют, морщинки лягут в углах губ, лицо состарится, начнет разрушаться. В общем, ничего особенного, ничто не вечно, но почему-то именно это лицо стало ему жальче других. Захотелось протянуть ладонь и защитить, укрыть, удержать. Если бы только нашлась такая комната, только одна комната, одна-единственная, со стеклянной стеной, и время в этой комнате было бы остановлено каким-то чудом, Михаил заключил бы девушку в эту комнату, а сам стоял бы за стеклянной стеной и смотрел. И был бы спокоен, и не было бы этой внезапной жалости, чуть ли не слез.
Это болезнь говорила в нем, слабость.
Рука девушки лежала на черной сумке. Он разглядел порез на пальце. Он захотел представить, как она что-то режет, готовит. И вдруг встретил ее карий взгляд.
– Что? – спросила она резко.
Голос как будто не ее. У нее должен быть другой, не такой ледяной.
Он отстранился от окна и, не сводя с нее глаз, стянул шапку. Ему захотелось, чтобы девушка узнала в нем актера. Чтобы она удивилась, чтобы растерялась. Хотел увидеть в карих глазах смущение и робость.
Волосы высвободились, упали на лоб. И она узнала. Но ни смущения, ни робости в глазах не появилось. Удивление.
Она отвернулась к окну. Как раз проезжали парикмахерскую. За широкой витриной уборщица заметала щеткой разноцветные волосы.
Не выдержала любопытства и вновь на него посмотрела.
Он улыбнулся.
Она смотрела серьезно.
– Что? – спросил он, взглянув на ее палец. – Порезались?
Приподняла палец и опустила.
– Давно уже.
И улыбнулась. Все-таки улыбнулась.
Михаилу было всё равно, что она улыбается не ему.
– Я гриппом болел, – сказал он, – и у меня сел голос.
– Заметно.
Они глядели друг на друга, молчали, улыбались. Автобус тряхнуло на трамвайных путях.
– Я выхожу, – сказала она.
Он спрыгнул первым и подал руку. Он представлял, как она будет говорить, что встретилась с известным актером и что он – ничего себе.
Она как будто бы не замечала, что он шагает следом. Вдруг остановилась, взглянула на него.
– Я думала, вы повыше.
– Эффект экрана.
– Мой дом. – Она указала на панельную девятиэтажку, возле которой они стояли.
– Отличный дом.
– Не особенно.
– Ваш – значит, отличный.
Она усмехнулась.
– Так странно, вы знаете мое имя, а я вашего – не знаю. Вы, наверно, даже в курсе, где я родился. А вы где?
Она рассмеялась и протянула ему руку.
– Счастливо.
Он взял ее ладонь в свою. Хотел задержать, но ее рука выскользнула, ускользнула. Девушка направилась к подъезду. Он смотрел вслед.
Она набирала код. Он надеялся, что она оглянется, улыбнется. Но девушка не оглянулась.
Дверь за ней закрылась. Михаил спохватился, что холодно, полез в карман за шапкой, но шапки не нашел, видимо, обронил в автобусе.
У ларька на другой стороне улицы стоял парень и смотрел на Михаила упорными, недобрыми глазами. Михаил перешел на его сторону, не обращая на парня внимания, мгновенно позабыв его взгляд.
Направился к остановке, позабыв уже и о девушке. Он хотел побыстрее вернуться домой, к себе вернуться. Вдруг почувствовал рядом чье-то дыхание.
Парень пристроился рядом. Шел с ним и молчал. Не отставал. Михаил прибавил ход, и парень прибавил. Когда Михаил остановился, не дойдя нескольких шагов до стеклянного короба со ждущими автобус людьми, парень остановился тоже.
Повернулся к Михаилу и спросил:
– И о чем ты с ней говорил?
Глаза – белые от ненависти.
Михаил молчал. С такими людьми лучше не связываться, лучше не отвечать и в глаза им не смотреть. Ни в коем случае.
Приближался автобус.
– Стоп-стоп. – Парень заступил Михаилу дорогу.
– Мой автобус.
Парень ухватил его за плечо.
– Руку!
– Я тебя спросил.
– Иди на хрен.
– О чем говорил, урод? С моей девушкой. О чем?
– Ни о чем.
– Сволочь.
Михаил попытался отодрать от себя цепкую руку.
Автобус уже забрал пассажиров, уходил.
Несколько прохожих остановились и смотрели на них, топчущихся друг против друга со злобным шипением.
Неожиданно чужая рука отпустила Михаила, и тут же он получил удар в лицо. Из носа потекла кровь. Михаил бросился на парня. Парень был здоровее, он ухватил Михаила за ворот куртки, стянул так, что Михаил задохнулся и захрипел.
– Ты решил, тебе можно? Если ты в телевизоре, всё можно, да?
Михаил хрипел в стянутой на горле куртке, извивался, пытался вырваться, выбиться. Парень рванул его лицо к своему. Он дышал перегаром.
Михаил пнул, врезал парню в колено, парень взвыл, хватка ослабла. Михаил пнул снова со всей злобой, что-то хрустнуло, парень осел. Михаил налетел на него, опрокинул, упал на него, схватил за волосы и стал бить парня головой об асфальт, затылком об асфальт. И вдруг увидел, что глаза у парня тускнеют. Неживой, неживой. Так Михаил думал. Не когда бежал, когда бежал, ничего не думал.
Бежал дворами. Стоял, согнувшись, в темной подворотне, задохнувшись от бега. Тихо, медленно брел, трогая распухший нос.
Ключ нашел. Выронил. Ползал по кафелю, искал. Вталкивал в замочную скважину, ключ дрожал мелкой дрожью. Живой в неживой руке. Сухой жар во рту, боль в висках.
Всё с себя стянул, сбросил: кроссовки, джинсы, куртку, свитер, трусы. Перевернул ящик в тумбочке, ножницы звякнули об пол. Сунулся в зеркало, схватил себя за вихор, обкорнал. Выглянул большой лоб. Лицо стало странным. Ни на кого не похожим. Ни на Михаила, ни на актера, ни на кого. Чужой человек. И нос разбит. Михаил потрогал нос и чуть не заплакал, так больно.
Он забрался под одеяло. Спрятался, укрылся в сон, в забытье.
Проснулся, то ли утро было, то ли темный, серый день. Стучала, строчила машинка. Как будто бы он проснулся в прекрасном прошлом, двадцать лет назад, когда у них имелась еще машинка, когда мать шила. Уснул под швейный стук.
Уже за ужином, когда сидели втроем, и он был выбрит и с подровненными Дашкой волосами, Дашка его рассмотрела и сказала, что он похож на инопланетянина, и если бы не разбитый нос, то было бы даже красиво. Он придумал, что хотел подстричься, вышел и упал на улице, поскользнулся, ударился, разбил нос, вернулся домой, голова кружилась. Сказал, что просыпался один раз и слышал, как стучит швейная машинка.
– Это ты не просыпался, – сказала мать, – это тебе снилось.
– Мне сны не снятся.
– Малину положи в чай, вместо сахара.
После ужина он ушел в свою комнату, затворил дверь и наконец-то решился включить комп. Открыл почту. Удалил спам. Прочитал внимательно письма. Ответил жене.
За окном шел тихий снег. Михаил поглядел на снег и набрал в поисковике имя актера.
Его арестовали по обвинению в убийстве.
Актер ничего не отрицал. Но и рассказать о драке не мог. Не помнил. Свидетели драки вызвали скорую и полицию. Не погнались за ним из страха. Когда его задержали, он был сильно пьян и с разбитым носом. Консьержка сказала, что пьяным он возвращался часто, пьяным и битым, так что ничего удивительного. Актер уверял, что парня совершенно не знает и не помнит, что обычно почти ничего не помнит, протрезвев. Говорил, что все его пьяные дни – черные дни, провалы. Он говорил, что собирался лечиться. Должен был закончить съемки и лечь в клинику.
Девушка, невольная виновница трагедии, утвер-ждала, что актер был абсолютно трезв. Ее показания никак не вписывались в общую картину. Люди в интернете считали, что она зачем-то врет. Хочет то ли погубить актера, то ли, наоборот, спасти. Предполагали, что между ними все-таки что-то было.
Михаил перечитал всё, что только смог отыскать, и выключил комп.
В комнате темно. Снег падает за окном, как в рождественском фильме. Завтра выходить на работу.
Он надеялся, что найдутся неоспоримые свидетели, которые видели актера в другом месте. Надеялся, что дело рассыплется. Но оно крепло. Актер ничего не пытался отрицать. Все жалели его талант, говорили о душевной тонкости, которая проглядывала в любой его роли, о мягкости, покорности характера, отчего он и подпадал под влияние дурных людей.
Драка не вызывала сомнений ни у кого, кроме девушки. Но показания девушки все считали сомнительными. Тем более что нашлись пассажиры того же автобуса, которые уверяли, что актер был, конечно же, пьян и что девушка не могла этого не заметить. Уверяли совершенно определенно и твердо.
Удивительным образом дело вписывалось в судьбу актера, в траекторию его жизни. Как будто было предопределено. И Михаил утешал себя, что всё бы так и сложилось, что всё к тому шло и пришло бы. С ним или без него. Не в этот день, так на следующий. И он сам себя уговорил, что ни при чем.
Кто еще актеры, как не призраки, лишь притворяющиеся настоящими людьми? Такая мысль приходила в голову Михаилу, и в ней он находил утешение.
К середине весны никаких уже новых материалов об актере не появлялось в интернете. Поисковик выдавал всё уже читаное-перечитанное. И всё же каждый день после ужина Михаил вводил имя актера и нажимал «энтер». Иногда по ТВ повторяли сериалы с его участием, но Михаил сериалы не смотрел. Он вообще не смотрел ТВ, даже новости.
Раньше он засыпал мгновенно, и сны ему не снились. По крайней мере, он их не помнил, когда просыпался. Просыпался, смотрел на будильник и соображал, что его не было семь часов, как если бы эти семь часов вырезали из его жизни. Точнее, его вырезали из жизни на семь часов. Сон всегда оказывался его небытием.
После убийства, которое совершил не он, как он сам себя убедил, его ночная жизнь перевернулась. Снов не было. Но и сна не было.
Засыпал он по-прежнему мгновенно. Но через пару часов вдруг просыпался.
Ночь. Проезжала за окном машина, и казалось, что именно ее гул разбудил. Сосед курил на балконе, и дым его сигареты проникал в комнату. Голова оставалась ясной. Жутковатая ясность, как наваждение, от которого не избавиться, не отвертеться.
Он лежал с открытыми в темноту глазами. Он думал о прошлой своей жизни. Но не о том прошлом, с женой. То прошлое казалось ошибкой. Вся жизнь сейчас казалась Михаилу ошибкой. Только один эпизод он и вспоминал как настоящий.
В прихожей темные углы. С черного зонта течет вода. Он не знает, куда его пристроить. Женщина берет у него зонт.
Михаил моет руки и видит его свернутым на крюке. С зонта капает в ванну. Михаил вытирает руки поданным полотенцем, чистым, только что вынутым, видимо, из шкафа. Женщина приглашает его пить чай. Компьютер уже в порядке, он его «вылечил». И она ему шутливо говорит:
– Проходите, доктор, не стесняйтесь.
И он, как это ему ни странно, не стесняется. Пьет обещанный чай с вареньем. Не то чтобы варенье ему нравится, но здесь, на этой кухне, оно кажется отличной добавкой к чаю, к настроению, к состоянию.
Уходить решительно не хочется. За окном, в темноте, лупит дождь. И Михаилу кажется, что он всегда присутствовал здесь, в этом доме, в ее жизни. Всегда. Он понял это, едва переступив порог.
Они сидят на кухне и пьют чай. Ребенок, мальчик, скорее всего, берет стакан с молоком. Конечно же, у них есть ребенок. Ему семь лет.
Звонят в дверь, она идет отворять, он слышит, как она говорит:
– Привет, милый, какой дождь, а нам комп починили, на кухне мастер, чай с малиной, Витенька звонил, скучает по нас, а как ты думаешь?
Так что он чужой в этой кухне, гость. Но это ошибка, что он здесь чужой. Это неправильно.
Михаил лежал без сна и смотрел в темноту, и слышал, как едет внизу машина, и представлял правильный вариант: ту квартиру, ту женщину, ее тепло, их вечность.
Стук швейной машинки из детства тоже казался в темноте чем-то верным, единственно правильным, чем-то, к чему надо вернуться.
Под утро он забывался.
Мечты-видения о несостоявшейся его жизни с той женщиной стали являться ему не только по ночам вместо снов. Он и днем, с открытыми глазами грезил о той несбывшейся жизни, в которой мог быть счастлив, которая ему была предназначена. Правильный вариант его жизни. Но он жил в неправильном. О правильном только грезил.
Как-то раз Михаил очнулся от своей грезы в глухом парке поздним вечером.
Он сидел на обледенелой лавке.
Пустынная аллея. Он не помнил, как сюда попал. Посмотрел на часы, как будто время теперь – единственный его ориентир в запутавшемся мире.
Михаил испугался, что сходит с ума с этими своими фантазиями о другой, правильной жизни. Чего уже только не происходило в них, каких только событий не было пережито, и он ощущал эту выдуманную жизнь гораздо более настоящей, более материальной, плотной. Тогда, на аллее, он даже подумал поехать в дом к той женщине, он помнил дорогу. Он думал, приедет, она ему откроет и скажет:
– Милый, замерз, ужин как раз готов.
Больше того, он поехал. И постоял у дома. И посмотрел на ее окна. Войти не решился.
В этот же вечер, в ночь практически, зашел в круглосуточную аптеку и попросил хорошее снотворное. Все-таки он хотел жить, а не грезить. Какую-то ценность своей реальной жизни он всё еще ощущал. Или просто хотел добраться до смысла, до развязки.
Снотворное действовало, он засыпал, сны не приходили. Силой воли отучил себя грезить наяву. Мать заметила, что наконец-то он стал лучше выглядеть. Она переживала, что он не поехал с женой. Искала в этой непоездке другую причину. Боялась, что ее сына обидели, обманули, предали.
Мать сварила холодец, испекла рулет с грецкими орехами и черносливом, потушила говядину с овощами, накрутила паштет из печени. И всё ей казалось мало, недостаточно, казалось прозой. Она считала Новый год праздником поэтическим, волшебным.
Они встречали этот Новый год вдвоем с Михаилом, Дашка уехала к друзьям за город. Михаил сидел весь вечер у себя, за работой, он служил техническим переводчиком в фирме, а компы ремонтировал по знакомству, отлично разбирался и в железе, и в программном обеспечении. За два часа до полуночи мать принялась накрывать стол в большой комнате. Постелила традиционную белую скатерть, достала и перемыла новогодний чешский сервиз, хрустальные бокалы. Поставила коньяк. Проверила, как лежит в холодильнике шампанское. Погасила свет и полюбовалась на елку, на мигающие разноцветные огоньки. И тут сообразила, чего им не хватает для праздника. Для поэзии зимней ночи. Она заглянула в комнату к сыну и попросила сбегать в круглосуточный за мороженым.
– Возьми самое дорогое, самое лучшее, белое, пломбир. И воздуха заодно глотнешь, целый день за экраном, под излучением.
На кафельном полу в подъезде – цветное конфетти. Михаил поморщился от одной только мысли, что оно налипнет на подошвы. Он пробрался к лифту, нажал черную кнопку, и она загорелась. Маршем ниже, на площадке у окна, стоял в тени человек, и Михаилу почудилось, что он на него смотрит. Михаил от человека отвернулся. Лифт подъехал и отворил двери. За поручень кто-то засунул промокшую, грязную рукавицу. Михаил в лифт не шагнул и повернулся к человеку внизу. Лифт замкнул двери.
Михаил спустился на марш. Человек, к которому он подступил, выпрямился.
Актер.
Он смотрел на Михаила и смущенно улыбался. Голова коротко острижена, на лице проступила рыжеватая щетина. Он мало уже походил на себя прежнего, постарел, осунулся, глаза запали. Но Михаил узнал его мгновенно. Он, кажется, даже раньше его узнал, чем рассмотрел. Едва лишь почувствовал взгляд, знал уже, кому он принадлежит.
– Ждете кого-то? – негромко поинтересовался Михаил.
– Я? Нет.
– А что стоите здесь?
– Так. Греюсь.
– Холодно на улице?
– Ветер.
– А я подумал, что вы ждете кого-то.
Не уходил, не мог вот так просто уйти Михаил, он должен был разгадать, почему здесь актер, зачем. Да и актер как будто бы ждал чего-то от него.
– Вы из шестьдесят седьмой квартиры вышли, – заметил актер. – Вы там живете?
– Нет, – почему-то соврал Михаил.
– А Даша? Вы ее знаете?
Вопрос поразил Михаила.
– Стоп. О чем вы?
– Вы ее знаете?
Михаил заглянул в полубезумные, потемневшие глаза актера и решил сказать правду. Чтобы всё прояснить. Чтобы иметь право спрашивать.
– Даша – моя сестра.
– Ой, в самом деле? – актер обрадовался, облизнул сухие губы и придвинулся к Михаилу.
Михаил отстранился.
– И что? – спросил он холодно. – При чем тут моя сестра? Какое она к вам имеет отношение?
Актер рванул молнию на куртке, полез во внутренний карман и что-то вытащил оттуда, что-то плоское, дрожащее, бумажное. И протянул Михаилу.
Затертый, пожелтевший конверт. Михаил взял его, рассмотрел. Письмо. Актеру, в колонию, от Даши. Михаил взглянул на актера. Он смотрел взволнованно, ожидающе. Михаил вытянул из конверта листок, и актер прикусил нижнюю губу.
«Здравствуйте, я много раз хотела написать Вам. Вы подумаете, что я дурочка. Вот поэтому я и не писала, что Вы так подумаете. А сейчас пишу потому, что все Вас ругают, и в интернете, и по радио, везде.
Я хочу Вам сказать, что тоже один раз чуть не убила человека, пульнула в девочку камнем, мимо, повезло. Могла в голову. Вы мне сейчас снитесь каждую ночь, и мы вместе идем. Я просыпаюсь с мокрым лицом, плачу. Ответьте мне на письмо. Ваш адрес мне выпросила подружка, у папы, он работает в МВД. Мы будем писать друг другу, и Вам будет легче. Я Вас очень люблю. Даша».
Михаил опустил листок и встретился с потерянным взглядом актера. Даже неловко было смотреть на такого совершенно раздавленного, униженного человека.
Он ждал, что Михаил скажет. Но Михаил хранил молчание. Листок сложил и аккуратно спрятал в конверт. Протянул актеру. Но тот не решался забрать конверт, как будто не имел уже на него права, да и никогда не имел.
– Я ей не ответил, – вымолвил он.
– И слава богу.
– Да.
– Других писем она не писала?
– Нет-нет.
– Большое облегчение. Но сейчас что вы от нее хотите? Чего ждете?
– Я?
– Ну не я же.
Актер молчал растерянно.
– Дома ее сейчас нет. Она у друзей, встречают Новый год своей компанией. И парень у нее есть, он тоже там. Вы меня слышите?
– Да-да, конечно.
– Чего вы вообще ждали? На что надеялись?
– Я сам не знаю.
– Даже если бы она дома была? Что бы вы ей сказали? Неужели бы это письмо сунули? – Михаил тряхнул письмом.
– Нет.
– Она вам что-то должна этим письмом?
– Нет! Я, я сам не знаю, я знаю, что сглупил.
– Новый год не с кем встретить?
– Да.
– Ничего страшного. Встретите один, спать ляжете пораньше.
– Мне вообще идти некуда. В принципе. Квартира того, ушла за долги.
– Я сожалею, но Даша тут ни при чем.
– Конечно.
– Идите к друзьям, к знакомым.
– Я пойду. Конечно. Всё правильно.
Глаза у актера опустели и смотрели уже без всякого выражения.
Хлопнула наверху чья-то дверь, запахло сигаретным дымом. Актер взглянул на конверт в руке Михаила. Отделился от подоконника и тихо отправился вниз по лестнице стариковским шагом. Михаил услышал, как открывается и закрывается дверь подъезда. Подошел к окну.
Актер медленно шел через двор. Поскользнулся на льду, взмахнул руками, удержался. Черная ссутулившаяся фигура. Михаил разорвал конверт вместе с письмом. Старая бумага рвалась легко. Руки дрожали.
17 марта был будний день, и все они встали рано, засветло. Вместе сели завтракать. Бубнило радио, которое мать всегда включала, чтобы услышать погоду. И, когда передавали прогноз, она им говорила:
– Тише-тише!
Даже если они молчали. А сама переставала жевать и слушала.
Пообещали туман и гололед, минус два утром, до нуля днем; сразу после прогноза ведущий утреннего эфира сообщил, что сегодня хоронят известного актера, еще два года назад благополучного человека. Девушка – она тоже вела эфир – ахнула совершенно искренне и стала расспрашивать:
– Где умер? В тюрьме?
– Нет, – сказал ведущий, – он вышел в декабре, по амнистии.
– Отчего же умер? Такой молодой! Сколько ему было?
– Не знаю, сколько, может, кто-то позвонит нам из слушателей, скажет. Умер он в больнице, на Галушкина, его нашли где-то в районе Яузы, с обморожением, привезли, алкогольное опьянение, конечно.
– Да, он пил.
– Потому и в тюрьму попал, что пил, едва уже себя помнил.
– Бедный-бедный.
– Знаешь, а мне его нисколько не жалко. Сам виноват.
– А мне жалко. Он очень был талантливый, очень.
Дашка ковырялась в тарелке, глаз не поднимала. И вдруг всхлипнула.
– Даша, – растерянно воскликнула мать. А Даша уткнулась в ладони и разревелась.
Мать гладила ее по спине, по волосам, смотрела беспомощно на Михаила.
Даша увернулась от материнской руки, убежала в ванную. Там зашумела вода.
– Чего она так? – спросила мать Михаила.
В студию дозвонился врач из той самой больницы на Галушкина. Ведущий оторопел от радости, что такой важный свидетель у них в эфире. Врач сказал, что ничего уже нельзя было сделать, полная интоксикация организма плюс обморожение, слишком поздно он к ним попал. Сказал, что прощание с актером будет у них, в больничном морге, желающие могут прийти завтра в десять.
Вернулась зареванная Дашка. Мать налила ей свежего чая, погладила по руке.
– Всё нормально, – сказала Дашка, – всё прошло. Чего теперь.
Она уверила, что действительно успокоилась, только попросила мать переключить на какую-нибудь другую программу, без новостей, чтобы только музыка.
Михаил взял на работе отгул и поехал к десяти на Галушкина. Он думал, что народу соберется немало. Но на снегу возле морга топтались всего трое. Дед с младенческими голубыми глазами, возможно, родственник. Две пожилые дамы. Они походили на старомодных театралок, которые приносят с собой в театр торжественные туфли, пудрятся, пахнут весенними духами и всегда преподносят актерам цветы. Они стояли с печально опущенными хризантемами. Девственно-белыми, холодными и невинными.
Через двадцать минут после назначенных десяти часов двери отворились, их пригласили войти. Дед отбросил сигарету, и она прошипела в снегу. Михаил вошел в промозглое помещение последним.
Священник говорил. Михаил прислушивался, он надеялся услышать что-то важное, то, чего не знал сам. Священник говорил о прощении. Лицо человека в гробу было совершенно белым. Чужое лицо. Михаил никак не мог узнать в нем актера. Он повернулся и отправился к выходу. У самой двери стояла девушка. То существо, которое он так пожалел когда-то, чью мимолетность так остро, до боли, почувствовал. Она стояла с темными розами. Их взгляды встретились. Михаил понял, что и она его узнала. Мгновенно. Поняла, кого приняла тогда, в автобусе, за актера.
Ни слова они друг другу не сказали.
Михаил отворил дверь и вышел под серое мглистое небо. Направился по дорожке от морга. У ворот оглянулся. Почему-то он думал, что девушка идет за ним. Но никто его не преследовал.
В метро от тепла и духоты, однообразного движения, круговорота толпы, черных окон, качки на него нашло оцепенение. Он проехал свою станцию, недостало сил встать и пробраться к выходу. Он ехал всё дальше и дальше от собственного дома и думал, зачем она пришла. Тоже чувствовала вину?
Думал, что так и не прожил свою жизнь.
Поездка
Он сказал жене, что таких маслин нет, и она попросила заехать еще в один магазин, а если и там не будет, то возвращаться домой, так как гости уже начали собираться. Он спрятал телефон и направился к машине.
Темно, восьмой час, середина декабря, в Москве слякоть.
Он уселся в машину, но поехал не сразу. Мокрый снег залепил лобовое стекло, он перестал видеть, что происходит снаружи, мир ограничился холодным салоном, свернулся в горошину, свился в клубок. Он включил приемник. Чей-то голос сказал: «…около нуля…». В боковое стекло постучали. Лицо за стеклом было размыто, оно как будто таяло.
Он опустил стекло. Женщина сказала продрогшим голосом:
– Простите, вы не могли бы меня подбросить?
Дыхание ее было влажным.
– До метро. Двести рублей.
Он отворил дверцу. Она уселась и сказала:
– Холодно.
До метро было минут десять. Ехал не спеша. Женщина ему понравилась, только он не знал, чем. Он хотел угадать, прежде чем ее высадит. На светофоре перед метро спросил:
– Далеко вам еще?
– В область.
Часы у нее на запястье. Старые. Он помнил такие у мамы. Что-то в ней чудилось из того, давно прошедшего времени.
Сейчас таких лиц не бывает – так примерно он подумал.
Их только на фотографиях можно увидеть или в хронике.
Лицо казалось молодым – полумрак растворял морщинки. И хорошо, пусть растворяет, иногда совершенно не хочется никакой четкости, ясности, определенности. Полумрак растворяет и разделяет.
– Как долго красный! – воскликнула она.
– Торопитесь?
– Электричка в двадцать сорок пять. Следующую ждать два часа, я не выдержу и усну где-нибудь в зале ожидания, я ночь не спала и едва на ногах, если я усну, то уже до утра, и опять весь день маяться, потому что человек, к которому я еду, бывает дома только к вечеру, а мне его нужно застать. Долгая история. Но почему красный до сих пор? Может, светофор сломался?
– Правительство едет.
– Черт!
Когда она говорила, иллюзия того, что ее лицо принадлежит прошлому, исчезала. И таким образом, когда она то молчала, то говорила, ее лицо то уходило в туман времени, то выступало из него и становилось прозаически близким. Это волновало. Еще ему было любопытно, один он ее так воспринимает или нет?
«Дворники» упорно расчищали поле обзора, поле снежной битвы.
– Трасса пуста, – сказал он, – сейчас промчатся.
– Тогда вот что, – сказала женщина и выложила на приборную панель две сотенные, – спасибо, а я побегу, быстрей вас к метро успею.
Она стала отщелкивать ремень безопасности.
– Куда вам конкретно ехать?
– По Ярославке. Далеко. За Пушкино.
– Пристегните ремень. Я вас довезу.
Он не очень разбирал выражение ее лица в полумраке, и она, очевидно, не разбирала, что выражает его лицо, всматривалась близоруко-удивленно.
– Вам по пути?
– Да.
Правительство тем временем пролетело. Опустевшую трассу перебежала дворняга, точнее, перешла. Она не спешила, знала каким-то образом, что можно не спешить.
– Я смогу еще двести рублей заплатить, не больше.
Дали зеленый.
Дома собирались гости, жена волновалась, посматривала на часы. Николай Алексеевич вез незнакомую женщину далеко, за город. Совершал неразумный поступок. А Николай Алексеевич был человеком разумным.
Что на него вдруг нашло, он и сам не мог объяснить. Почему-то не хотел он упускать эту женщину, она его встревожила, он сам себе должен был разъяснить чем. Да, в этом, наверно, и заключалось всё дело: он не любил неясностей.
Она меж тем успокоилась в мягком кресле, расслабилась и задремала. Он выключил радио. Старался ехать ровно, без толчков. Зазвонил его мобильник. Он нажал кнопку, сказал в наушник:
– Да?
Старался говорить негромко, но спутница проснулась. Ночь скрывала, скрадывала приметы времени. Время было украдено, они ехали вне его по ночному шоссе.
Он разъяснил в наушник:
– Закон трактуется неоднозначно. Формулировка должна быть особенно осторожной. Я предлагаю вернуться к первому варианту.
Отключил телефон.
Ехали в ровной тишине, и он думал, что сейчас она снова уснет, сомлеет. Огни приближались и вдруг оказывались позади.
– Вы юрист? – спросила она.
– Нет, – соврал он.
Она смотрела вперед, на дорогу, отрешенно, вся отдавшись движению, полету. В темноте это и правда казалось полетом, тверди не чувствовалось, огни проносились в черном пространстве, почти космическом.
– Я ресторанный критик, – зачем-то сказал он.
Он остановил машину и приоткрыл дверцу, чтобы вдохнуть здешний тихий воздух. Услышал шорох и не сразу понял, что это с шорохом идет снег. Пассажирка выложила еще двести рублей на приборную панель. Попрощалась и забыла о нем.
Он наблюдал, как она выбирается из машины, идет к подъезду, поскальзывается и удерживает равновесие.
Николай Алексеевич видел из машины окно освещенного желтым светом подъезда. Видел ее, поднимающуюся по лестнице. Картинка в волшебном фонаре.
Она поднялась на площадку.
На втором этаже осветилось окно.
Он всё чего-то ждал. Медлил уезжать.
Вдруг увидел в волшебном фонаре, как она спускается по маршу, придерживаясь за обшарпанные перила белой рукой.
Свет всё горел на втором этаже.
Она вышла из подъезда. Прежние ее следы уже занесло.
Свет в окне погас, но кто-то там стоял за потемневшим окном и смотрел, как она выходит.
Снег поскрипывал.
– Садитесь, – позвал он ее.
Она обошла машину и села рядом с ним.
– Зачем вы не уехали?
– Ждал.
– Чего?
– Не знаю.
Она молчала и смотрела в залепленное снегом окно. «Дворники» замерли.
– Куда едем? – спросил он.
– А вам не надо домой?
– Нет. Я в отпуске.
– Вы мне скажите сразу, чего вы от меня ждете?
– Ничего.
– Денег у меня нет.
– Я понял.
– И… ничего вы от меня не дождетесь.
– Я понял.
– По виду вы человек солидный. Положительный, как сказали бы прежде.
– Я и есть положительный. В конце концов, выбор у вас небольшой. Тот, к кому вы так стремились, вас даже на порог не пустил. И вы остались одна в спящем поселке, без денег, без надежды.
Она вдруг рассмеялась.
– Так что? – спросил он. – Назад в Москву?
– Тот, к кому я так стремилась, уехал из дома. И мне по-прежнему нужно его увидеть.
– Куда он уехал?
Снег кончился к утру. Далеко от Москвы.
Спутница его спала, он пристал на обочине и тоже уснул. Очнулся в сумерках. Ее не было. Он потрогал пустое, холодное сиденье. Машины проносились, вздымая грязь. Он выбрался наружу и огляделся. Место было грустное. Серое небо, снежное поле. В деревне на той стороне уже зажглись огоньки. Там, у обочины, стоял старик и никак не мог решиться перейти. Машины проносились на огромной скорости, старик боялся. Почти уже решался, но, завидев горящие, летящие фары, отступал. Николай Алексеевич побрел по обочине. Ушел недалеко, чтобы не упустить из виду машину.
Он проверил карманы. Бумажник, деньги, карточки, всё было на месте.
Куда она могла уйти? Зачем? Может, остановила другую машину. Или вышла размять ноги, и кто-то притормозил, спросил, в чем проблема, и предложил подвезти, по пути оказалось. Хотя бы записку оставила. И он бросился к машине – вдруг не заметил записку.
И на полу посмотрел, не нашел. Почему-то остался уверен, что записка была, что видел спросонья белый листок, соскользнувший с приборной панели на пол. Он его затоптал, вынес наружу, и записка пропала в грязной снежной каше.
Старик всё стоял неподвижно на обочине. Всё должно было остановиться, машины, время, чтобы он перешел. Николай Алексеевич достал тряпку, протер стекла, зеркала. От усердия оттопырил губы. Действие помогало отвлечься.
Он не мог решиться завести мотор и уехать. Он чувствовал себя старым, старше старика на обочине. Грязным, грузным, некрасивым, брошенным и глупым до пустоты, до звона в голове. Ведущий юрист, уважаемый человек, отец семейства, где он? Лежит мертвый в московском переулке.
Николай Алексеевич чувствовал себя убийцей себя самого. Он был сейчас один в безвоздушном пространстве. Земля – дом, колыбель, – видна, но не доступна, он кружил вокруг нее на далекой орбите, кислород еще есть в легких, но скоро закончится.
Николай Алексеевич бросил тряпку в багажник. Фура проехала, он перешел на ту сторону, взял старика под костлявый локоть, переправил.
Старик побрел по обочине. Николай Алексеевич смотрел ему вслед. И сам пошел следом. Куда приведет его старик – неважно. Даже неинтересно. Свернул к автозаправке. Старик ушел дальше.
Николай Алексеевич сходил в туалет, ополоснул лицо, выпил жутко горячий, огнем дымящийся, обугленный кофе. Он был один в крохотной забегаловке. Смотрел, как заправляют грязный внедорожник. Водитель курил в сторонке, на краю асфальтового круга. Ничего интересного в таком бездумном смотрении, кроме того, что ты видишь, а тебя нет, тебя нет, а ты видишь.
Смял бумажный стаканчик.
Вернулся к машине.
Она сидела как ни в чем ни бывало. Пакет со свертками лежал на заднем сиденье. Она смотрелась в зеркальце, подводила губы. Он уселся, машина качнулась от его тяжести.
– Я поесть купила, – сказала она. – На той стороне магазинчик, очень симпатичный.
– У вас же денег нет.
– Оставалось немного. А вы куда ходили?
– В туалет.
Смеркалось. Ели они в полумраке. Она взяла хрустящую пачку и попросила зажечь свет. Прочитала всё, что на этой пачке написано: название, производитель, состав, срок годности. Вслух, ровным голосом. Прочитала и взглянула на него.
– Нормально, – сказал он, – не отравимся.
– Будете?
– Не сейчас.
Она бросила пачку в пакет.
– Вы, наверно, учительница, – сказал он.
Уже далеко отъехали от той обочины, еще дальше от земли-колыбели, в новый, неизведанный мир.
– Нет, – сказала она, – не угадали. Хотя в детстве думала. Видела себя в черном строгом платье у доски с указкой в руках… И тишина в классе.
Она смолкла.
– Я хотел быть шпионом. Серьезно. Жить в какой-нибудь загранице, пить виски в баре, ждать встречи с тайным агентом. Меня привлекала двойная жизнь. Жизнь мнимая и жизнь реальная. Мнимая – очевидна…
Она его не слушала, смотрела в окно отрешенно. Он был ей неинтересен. Она была в своем времени, в которое он не знал ходу.
Приближался большой город, шоссе раздалось, фонари появились, но они свернули на дорогу узкую, темную, и ехать по ней предстояло целую ночь.
– …Проездом, из Белоруссии, там у нас родные, домой возвращаемся…
Она молчала, не возражала, не мешала ему нести всё что угодно, строить любую реальность с ней в главной роли. Пожилой, добродушный милиционер сидел на заднем сиденье, слушатель. Он их тормознул на заброшенной остановке среди поля, сказал:
– Час жду, никого, ни одной машины, автобус рейсовый, видно, сломался, это счастье, что вы, думал, заночую тут на скамейке, а скамейка ледяная, а куртку форменную продувает, сейчас приеду, ноги попарю, водки выпью, и в постель.
В машине он постепенно отогрелся и спросил, откуда они и куда, сказал, что это у него стариковское любопытство к людям. И Николай Алексеевич начал про родственников, про Белоруссию. Женщина взглянула недоуменно и не прервала.
– …Устали, по дому соскучились, у нас дом свой, огород, садик небольшой, из окошек реку видно.
– Хорошо, – сказал милиционер.
– Больше, конечно, по детям соскучились, у нас их четверо, тетка с ними сейчас, моя сестра, она у нас старая дева.
– Четверо деток – это много. Редкость, в том смысле. У кого сейчас четверо? Я и не знаю. Справляетесь?
– Потихоньку.
– Их еще кормить надо. Вы чем занимаетесь?
– Ресторанный критик, – сказала женщина, глядя в окно, лица ее он не видел.
– Она шутит, – не растерялся Николай Алексеевич. – Какие у нас рестораны? Магазинчик у меня небольшой, продукты. Жена бухгалтерией занимается, я – доставкой, персоналом, работы много. Сестра нам помогает по дому, но я ей зарплату плачу, вы не думайте.
– Хорошо, – милиционеру всё больше нравилась нарисованная картина.
– Мы с женой в одном классе учились, она отличницей была, а я так. Не любил отличниц, мне казалось, они все дуры.
Милиционер рассмеялся.
– Как-то мы дежурили вместе по классу, полы мыли после уроков, и я руку порезал, стекло было на полу, я не увидел. Я крови испугался, а она нет, руку мне перевязала носовым платком, я поразился, какой чистый платок и как вкусно пахнет, и она отвела меня в больничку, потому что кровь все-таки шла, мне даже шов наложили, до сих пор след. Вот с тех пор я жить без нее и не могу.
– Хорошо, – сказал милиционер, сторонний человек.
И рассказал, что его жена сейчас болеет и по дому он всё делает сам, что устал уже от зимы, хочется солнца, а летом внуки приедут, он их в лес поведет, землянику собирать.
– Я люблю варенье из земляники, – сказал Николай Алексеевич.
Милиционера высадили у деревни, от его ста рублей Николай Алексеевич отказался.
Проехали молча несколько минут.
– Да, – сказал Николай Алексеевич, – совсем пустая дорога, как во сне.
– У вас номер московский, – сказала женщина.
– Что?
– Милиционер мог заметить, что номер московский. Он долго нам вслед смотрел. Не обратили внимания?
– Ну и что? Разве это преступление – московский номер? Думаете, он нас в розыск объявит? Из-за пустого разговора? Надо больно. Он уже ноги парит.
Еще через пару минут:
– Шрам у вас правда есть?
– Нет.
Чпок. Или не такой звук? Более сухой. Цток. Что-то вроде этого. Мяч о ракетку – с таким звуком. Скучная игра. Скучная.
Николай Алексеевич знал, что это несправедливо. Что под солнцем и в полной почти тишине натянуто напряжение, невидимые силовые линии, надо только подключиться.
Цток. Цток. Разряд.
Но не сегодня, не сейчас.
Солнечная картинка в телевизоре мерцала в углу столового зала. Картинку смотрели несколько человек. Николай Алексеевич со спутницей сидели от них далеко. В зале было прохладно, и еда быстро остывала и становилась невкусной. Тем не менее Николай Алексеевич аккуратно съел всё. Женщина ела мало. Поставила стакан с недопитым чаем.
– Вы в порядке? – спросил Николай Алексеевич.
– Устала.
Она посмотрела в дальний угол, в мерцающий экран.
– Теннис кончится – будет кино. Комедия.
Она промолчала.
– Что вы обо мне думаете?
Она повернулась, посмотрела на него отстраненно, почти так же, как на ту дальнюю картинку, откуда-то с другой стороны света.
– Не знаю. Ничего. Мне не очень хочется вникать в ваши обстоятельства, если честно. Вас это обижает?
Он помолчал.
«Цток. Цток», – говорил мяч.
– Обижает.
– Напрасно.
Допила чай, пожелала вежливо спокойной ночи. Ушла к себе в номер. К себе от него.
Официантка собрала грязную посуду, он попросил пива. Сидел один за голым столом. Уже началась комедия, люди у телевизора ржали, молодежь. Одна девушка отвернула лицо от телевизора. Она смотрела на него. Смотрела без улыбки, ошалелыми какими-то глазами. Как будто у нее была температура, жар. Он, толстый, небритый, помятый, был частью ее бреда. Что-то вроде этого. Он отвел глаза.
На лестнице он споткнулся и выругался. Услышал чей-то смешок. Оглянулся. Никого.
Сразу пошел в ванную. Принял душ. Всё было в общем чистым, даже новым, но каким-то шатким, хлипким, недостоверным. Он чувствовал свою тяжесть. Еще из ванной он услышал, что в дверь стучат, но спешить не стал. Завернул кран. Вода со всхлипом ушла в сток. Что-то было человеческое в этом всхлипе.
В дверь опять постучали. Он не спешил. Оделся. Подошел к тонкой двери. Сигаретный дым проползал сквозь щели из коридора. Он повернул ключ и отворил. На пороге стояла та девушка из зала. На этот раз она улыбалась.
Кажется, она забыла о сигарете в своей руке. Столбик пепла нарос и опал. Ни слова не говоря, девушка переступила порог. Николай Алексеевич молча ее пропустил. Девушка заглянула на ходу в ванную, в ней всё еще горел свет, и бросила окурок в унитаз, он шлепнулся в воду. Она погасила в ванной свет. И в комнате. В комнате она и ждала его, он всё еще стоял в коридоре.
Ей понравилось, что он влажный после душа. Он ничего на это не ответил. Ему не до слов было, он так захотел эту полупьяную бесстыжую девку. Он сам как будто опьянел, ее нечистым дыханием надышался, она не поддавалась, она с ним боролась, ей это нравилось, она была очень сильной, эта девчонка, он был старый, толстый, но не сейчас, сейчас всё это было неважно, он был сильнее ее, он раздавить ее мог, придушить. Хлипкая кровать ходуном ходила, стонала.
Ей чего-то еще хотелось. Он лежал уже неподвижно, опустошенный. Она рукой провела по его груди, животу. Он ее руку остановил. Убрал с себя.
– Вы из Москвы? – спросила она как-то по-светски. Очень у нее смешно это вышло.
– Нет.
– В Москве народу много. Дед говорит, войны давно не было.
Он расхохотался. Девушка тоже рассмеялась. Она не очень поняла, что этот смех значит, чем вызван. Отсмеявшись, Николай Алексеевич сказал:
– Ты извини, я не могу вдвоем спать, койка узкая.
Она встала. Он наблюдал, как она ищет свои колготки, он видел, где они валяются, но молчал. Нашла, натянула. Встала перед ним.
– Рублей триста не одолжите?
– Брюки подай.
Дверь за ней захлопнулась, и он уснул почти сразу. Спалось ему легко в эту ночь.
Последний рубеж отделял их от пункта назначения. Река.
У спуска он остановил машину и заглушил мотор. На зиму понтонный мост убирали, переправлялись по льду.
Она спала. Он медлил. Он представил вдруг, что она умерла. Не сейчас, давным-давно. И следа не осталось он нее. И от него, сидящего сейчас рядом с ней. Машина, река, ночь – всё прошло без следа, без памяти. И этой планеты уже нет.
Николай Алексеевич смотрел на свою живую руку (ногти отрасли безобразно), слышал дыхание спящей, серый морозный воздух стоял над землей, часы стрекотали на запястье. На самом деле ничего этого не было. Никогда. Николай Алексеевич просто не существовал.
– Мы где?
Николай Алексеевич дернулся. Он чуть не расплакался от этого вопроса, от этого сонного голоса, вернувшего к жизни. Было уже утро, ясно виднелся недальний тот берег, маленькие дома, серый дым над печными трубами.
На вопрос Николай Алексеевич не ответил. Завел мотор.
– Секунду, – остановила она.
Достала из сумочки косметичку. Посмотрела на себя в круглое зеркальце. Припудрилась.
Он ехал тихо по льду, боязливо. Мальчик на лыжах шел навстречу. Скользнул любопытным взглядом.
– Налево.
Он свернул в переулок, узкий, с черными дощатыми заборами, с отвалами снега по обе стороны проезжей дороги.
– Чуть помедленнее.
Она всматривалась в дома по левой стороне. Старые дома, обветшалые, и подновленные, и с надстройками, сонные еще, и уже проснувшиеся.
– Остановите.
Этот дом еще спал. Синица клевала сало и качалась вместе с ним, и ветка яблони, к которой оно было привязано, качалась. Осыпался снег. За окнами белели занавески. Крыльцо запорошило, шли по нему кошачьи следы.
Женщина приотворила дверцу, оглянулась на Николая Алексеевича.
– Спасибо. И…
Но не договорила, что «и…», кивнула, выбралась из машины.
Николай Алексеевич не уезжал, медлил.
Она взошла на крыльцо. Позвонила. Отступила от двери, так что тот, кто отогнул в доме занавеску (самый край), увидел ее из окна.
Дверь отворилась, и она исчезла за ней.
Николай Алексеевич ждал. Прошла женщина с пустым ведром. В доме на другой стороне затопили печь.
Занавески неподвижно белели за окном.
Кошка появилась. Постояла на крыльце и спрыгнула.
Николай Алексеевич ждал.
Из дома на взгорке вышли две девочки и стали выбивать в снегу половик. И Николай Алексеевич представил свежий запах этого половика, когда он ляжет в протопленной комнате на чисто вымытый пол.
Дверь, за которой скрылась его спутница, отворилась. На крыльцо вышел мужчина. Он был в мятой рубашке на голое тело, в трениках, в тапках на босу ногу.
Синица давно улетела, а сало качалось.
Мужчина вынул сигареты. Закурил. Николай Алексеевич всё пытался рассмотреть его лицо, но оно как-то не давалось, ускользало в тень.
Мужчина курил. Дверь оставалась приоткрытой. Николай Алексеевич завел мотор.
В центре стояли дома в несколько этажей, большей частью старинные, купеческие, толстостенные, с арками во дворы. Николай Алексеевич припарковался у парикмахерской. В широких окнах горел теплый свет, в кресле сидел человек в белой простыне.
Николай Алексеевич попросил вымыть голову, побрить лицо, ногти привести в божеский вид. Парикмахер холодно пах одеколоном. Смотрел на Николая Алексеевича подозрительно. И за работу взялся неохотно, как бы с сомнением. Закончив же, удивился:
– Глядите-ка, другой человек.
Николай Алексеевич настороженно встретился с собой взглядом.
На третий день он вернулся в Москву.
С женой они прожили к тому времени двадцать лет. Они подходили друг другу, любили оба аккуратность, удобную одежду, удобную, хорошо организованную, неспешную жизнь. Дети их радовали.
Жена говорила подруге, что у нее объяснения нет. Она предпочитает обо всем забыть, не думать. Николай Алексеевич утверждает, что звонил ей в тот вечер. Он утверждает, что говорил с ней в тот вечер! О срочной поездке, о том, что вернется через неделю.
– Он лжет, я знаю, – говорила подруге жена. – И он знает, что я знаю. Но мы делаем вид, что он все-таки звонил, а я почему-то об этом не помню. Так удобнее.
Объект
5 октября 1986. Боровск-23. Письмо № 1
Юлька, привет! Письма от тебя все получила, я тоже буду нумеровать, как ты. Первое и далее. Я ничего не отвечала, так как времени не находила. Зато теперь у меня времени выше крыши, девать некуда. Нет, в больницу я не попала, всё гораздо хуже.
Ты, наверное, удивилась, что письмо из Боровска-23, а не из Ярославля. Сейчас думаю, какого черта я согласилась, зачем не осталась в Ярославле, польстилась на командировочные.
В Ярославль мы прибыли: я, Танька Дьячкова и Гуля Бакаева. Общежитие новое, не то что наше. Небольшое, мирное, семейное. На каждом этаже душ. Правда, воду горячую отключили, и мы ходили в баню. Баня и баня, ничего особенного, голые тетки. Снаружи парень сидел на дереве и смотрел через открытую форточку.
Город мне понравился, чистый, река большая, магазины, конечно, не московские, но тоже ничего. Брали яйца, хлеб. Масло растапливали на сковородке, крошили хлеб, заливали яйцами, и вполне себе ужин. Завтракали на фабрике-кухне. Каша, чай.
Дней через десять начальник предложил Боровск-23. Объяснил, что числиться мы по-прежнему будем в Ярославле, на головном предприятии, а жить и работать на объекте, то ли в Московской области, то ли в Калужской, как-то там хитро устроено, на карте не отыщешь. Зарплата плюс командировочные. Можно добраться до Москвы часа за два с хвостиком. Многие снимают квартиры вскладчину, чтобы ездить на выходные. Хочешь, в театр, хочешь, по магазинам. Соблазн велик. Подписали бумаги, получили командировочные и отправились.
Прикатили на поезде в Москву. Были мы когда-то ее жители, родные, кровные, а теперь чужаки, никто. Походили маленько по прежним местам. Помнишь «Шоколадницу» на Пушкинской улице? Жареные цыплята. Смородиновое желе. Посидели мы в «Шоколаднице». Рядом с ней закусочная – «Зеленый огонек». Пять лет прожила в Москве, сто раз мимо проходила и никогда не заглядывала. Чего-то мне грустно от этого стало.
Танька говорит:
– Это, наверно, для шоферов закусочная, зеленый огонек, такси свободно.
Доели цыплят (скучаю по ним, пишу, и слюнки текут, эх-эх), доели желе (со взбитыми сливками, попробую хоть еще разок, или уж всё, нет спасения?). Выбрались на улицу, посмотрели на солнце и нырнули в «Зеленый огонек»; через два шага дверь.
Полуподвал. После солнца темно. Посудой гремят. Мужик стоит за столом (сидячих мест не предусмотрено), пельмени наворачивает.
Танька говорит:
– Ну что, довольна?
В общем, помотались по Москве, как сироты, устали и уже рады были, что время ехать. С Киевского вокзала до станции Балабаново. Там спички делают, обращала внимание на коробки́?
Электричка наша пришла в Балабаново вовремя, и автобус ждали недолго, и влезть успели первыми, так что сидели, я – у окна.
Танька сказала:
– Хороший знак.
Она по всякому поводу что-нибудь да скажет. А Гуля молчит и смотрит, и всё кажется, что с укором. Я и сигарету при ней закурить стесняюсь, в сторону отхожу.
Время было четыре часа, когда автобус отправился, еще светло. Ехать интересно, места незнакомые; то поле, то роща, то дома стоят. Народу поначалу набилось много. Тетки с кошелками, несколько мужиков, один, военный, вошел последним. Видный, ему в кино сниматься, белых офицеров играть. Иногда голову повернет вбок, и я любуюсь.
Остановки поначалу случались часто, народ выходил, выходил, и в конце концов остались в автобусе мы, офицер и тетка с мальчиком-подростком. Офицер устроился на свободное место. Смотрел в окошко не отрываясь, а за окошком тянулся лес и лес, всё больше сосновый. Дорога узкая, сосны большие.
Водитель включил фары, а в салоне сумрак, прохладно, мотор гудит низко. Танька ушла на свободное сиденье, ноги вытянула. Ехала бы я так и ехала, смотрела бы на дорогу, на пляшущий перед нами свет. Военный вдруг поднялся, подошел к водителю, ухватился за поручень.
И сказал:
– Командир, что-то долго мы едем.
Водитель ничего не отвечал. Офицер не отходил от него, автобус катил, сотрясаясь на выбоинах. Я посмотрела на часы. Минут двадцать, как должны уже быть на месте. Девчонки дремали. Женщина глядела встревоженно. Или мне так казалось. Мальчик дышал на оконное стекло, возникал туманный островок, и мальчик стирал его ладонью.
Дорога стала хуже, автобус потряхивало часто, хотелось уже добраться до места.
Автобус сбросил скорость и встал. Дорога упиралась в полуразрушенную стену с остатками ржавой колючки поверху.
Военный сказал:
– Ты проскочил поворот, командир.
Шофер ответил:
– Я новенький.
Танька фыркнула.
Мальчик прошептал что-то матери на ухо.
Мать попросила:
– Пять минут подождите.
Шофер заглушил мотор, отворил дверь. Мальчик выскочил и побежал за дерево. Мы все вышли на старую выщербленную бетонку. Оказалось не так темно, как виделось из автобуса, небо еще не погасло.
Мы с Танькой пролезли в пролом в стене, Гуля осталась у автобуса.
Увидели заросший плац, длинное серое здание с громадным шаром на крыше. Из дыры в шаре росла березка, как из глазницы в старом черепе. Из каждой щели пробивались растения.
Всё тихо под прозрачным небом. Я закурила, огонек не дрогнул – ни малейшего шевеления в воздухе. Как в заколдованном царстве. Автобус загудел.
Военный объяснил, что мы заехали на старый заброшенный объект, его строили заключенные еще до войны.
Мы ехали обратно, военный стоял возле водителя, смотрел на освещенную фарами дорогу. Ехали медленно, чтобы вновь не прозевать поворот. До места добрались уже в ночной тьме. У КПП светился фонарь.
Нам выделили комнату в местной гостинице. Гостиница в пятиэтажке, тут все дома пятиэтажные. Старое здание, видавшее виды. В фойе телевизор на длинных ножках, диван, фикус в кадке. Чайник нам выдали, мы его вскипятили на общей кухне. Уперли чью-то заварку из шкафчика. Напились чаю с сахаром и рухнули спать. Гуля, четкий человек, завела будильник, не поленилась. И богу своему помолилась.
Ах, Юлька, ты, наверное, думаешь, чего я тяну, медлю и никак не перехожу к сути. А то и медлю, что больше мне делать нечего, кроме как медлить. Помнишь, мы в школе над Толстым мучились? Какие длинные предложения, рассуждения, как будто идет товарный поезд, вагон за вагоном, вагон за вагоном, конца нет, а ты стоишь на переезде и ждешь. У меня предложения короткие, рассуждений мало (по скудоумию), а времени уйма. Вот я и занимаю себя, пишу, вспоминаю подробности. Пишу про мою жизнь и вроде как от нее отвлекаюсь. Поговорить мне об этом не с кем, кто меня станет слушать? А ты почитаешь все-таки, пожалеешь меня и ответ напишешь.
Ночь я спала крепко, будильник не слышала. Танька меня растолкала. Гуля уже ставила чайник. Служебный автобус отходил от КПП строго в восемь часов, так что мы бежали. Мы бежали, а солдаты шагали по плацу и пели: не плачь девчооонка… Утро тихое. Остаться бы, пойти в лес, набрать грибов, посидеть на пне, покурить, поглядеть на золотую-то осень. На позолоченную. Смоет позолоту холодный дождь.
Автобус полон. Взял нас, закрыл двери и покатил. Гражданские и военные в салоне, но больше гражданских. Тащились минут десять от городка к Объекту, от КПП до КПП.
Предъявили пропуска, прошли охрану и направились по асфальтовой дорожке к длинному серому зданию с белыми шарами на крыше. Чистые шары, без пробоин. Антенны ловят сигнал из космоса, со спутника. Военная тайна?
Удивило меня сосуществование (вполне мирное) новейших ЭВМ, дисплеев и казенных столов тридцатых, наверное, годов. Новых столов полно, но есть и эти, старорежимные, тяжелые, впитавшие чернильные пятна. Мне достался такой, я обрадовалась.
Уважаемый стол, не с того ли ты забытого объекта (практически с того света)? Не далее как вчера побывала на твоей родине, там всё быльем поросло, а ты спасся.
Он, несколько телефонных аппаратов, черных, как каменный уголь, которым моя бабушка топит печь. И пожелтелые плакаты на стенах: «Болтун – находка для шпиона!».
Комната, в которой мы сидим, громадная, больше, чем спортзал. Столы программистов стоят в два ряда, просторно, никто друг другу не мешает. Вдоль долгой стены, под узким во всю стену окном сидят инженеры. Паяют. Дымок синеет. Нам выдали каждой по прошитой и опечатанной тетради, карандаши, ручки. В тетрадях будем писать программы. По окончании рабочего дня тетради следует сдавать на хранение в сейф. Отлаживать программы надо ходить в дисплейный зал. Никаких тебе перфокарт, красота. Прогнал, получил распечатку.
День прошел нормально. Гуля свою программу написала быстро, Татьяна еще возилась, а я совершенно не понимала, как писать. Нарисовала елку. Зайчика. В обед отправились в буфет. Произвел впечатление. Можайское молоко – свободно. Рыба жареная нормальная. Картофельного пюре мне прямо гору положили. Но я умяла. Мы ж не завтракали. И не ужинали. Уже голова кружилась. Кольца песочные обыкновенные, но свежие. Чай, понятно, дурной. Но горячий. С сахаром нормально. Я спросила Гулю насчет программы, она губы поджала, но подошла после обеда, объяснила. Я старалась понять.
Сдали мы тетрадки в половине пятого нашему начальнику. Он посмотрел, полистал и спрятал в сейф. Собрались и поспешили домой. Длиннющий тоскливый коридор с дверьми и плакатами, за поворотом фойе, выход. На выход надо предъявить пропуск. Стоит солдат у дверей и смотрит. Я сумку перекопала, карманы обыскала, не нашла пропуск.
Солдат говорит:
– Не могу пропустить.
Что делать? Девчонки уже на автобус опаздывают.
Я говорю:
– Бегите.
Они рванули на автобус, а я – к рабочему месту. Обшарила стол, на полу посмотрела, залезла в каждую урну. Сейф мне никто не открыл, чтобы в тетрадке посмотреть, начальник ключ сдал и уехал. Так что я оказалась вроде как в западне. Хоть плачь. Только плакать пока что не хотелось.
Я сидела в зале одна-одинешенька.
Белый свет люминесцентных ламп под потолком. Знаешь, Юлька, они не умеют светить молча, они подвывают. Негромко. Когда сидишь долго одна под их светом, слышишь.
Дверь отворилась, явились уборщица и солдат. Уборщица собрала мусор, намыла полы, солдат попросил меня выйти, погасил свет, запер дверь, опечатал. Я постояла, постояла и побрела на площадку, где разрешено курить. Села у стены на корточки, как зек, щелкнула зажигалкой. Тихо, глухо.
Докурила сигарету, поднялась, размяла затекшие ноги. Дотащилась по коридору до дисплейного зала. Дверь приоткрыта. Конечно, люди здесь торчат круглосуточно, обрабатывают космические сигналы. Нас предупреждали, что будут ночные смены.
Я вошла.
Дисплейный зал невелик. Десять экранов светятся жемчужным светом. Они подключены к большой ЭВМ в машинном зале. Люди сидят за экранами, как доктора, в белых халатах. Я тоже сняла с крючка халат, надела, длинные рукава завернула и устроилась на свободное место. Мой экран был тих, неподвижен, спал. На бодрствующих экранах бежали сверху вниз зеленые мерцающие столбцы цифр. И легко представлялось, что экраны – иллюминаторы, смотрят в морские глубины, мерцают зеленые водоросли, корабль наш опускается всё ниже, всё глубже, но дна не достигает, дна нет.
Меня тронули за плечо, я очнулась.
Высокая женщина с маленьким круглым лицом сказала негромко:
– Пойдем.
Я ничего не спросила, не удивилась, не обрадовалась, пошла. Шаг у нее оказался широкий, как у царя Петра на картине художника Серова. Очень не хватало ветра, туч, свободы. Мы топали по глухому, только дежурными лампами освещенному коридору. Свернули в фойе. Солдат глядел на нас равнодушно из-за барьера.
Мы повернули к лестнице, спустились на марш и скрылись под лестницей.
Табличка на двери – «ТЕХНИЧКИ». Технички – это значит уборщицы. И точно, в небольшой комнатке за старым кухонным столом с выдвижным ящиком сидела та же уборщица и пила чай из стакана в подстаканнике. В углу громоздились ведра, швабры. Тряпки сушились на батарее, впрочем, холодной, помещения еще не отапливали.
Уборщица подлила себе кипятка из электрического чайника. На нас она не смотрела.
В комнатке нашлась еще дверь, мы в нее прошли и оказались в уютном помещении (когда-то, наверное, кладовой) со старым диваном, этажеркой. На ней синела небесной синевой стеклянная вазочка, да стучал будильник. На полу возле дивана притулились мирные домашние тапочки.
Женщина сообщила:
– Диван разложим и ляжем вдвоем. Валетом. Пока так.
– Пока?
– Может быть, тебе повезет, и ты найдешь свой пропуск. Я полгода ищу. Уже не ищу. Чай хочешь?
Ну, конечно, Юлька, разумеется, я говорила, что это невозможно, что надо идти к начальству, мы не в тюрьме, мы советские люди.
Женщина сказала:
– Да-да, сходишь к начальству, напишешь заявление, а пока помоги, я хочу спать. Туалет здесь, на этаже, душа нет, становлюсь в таз, поливаюсь из ковшика. Попроси подружек, чтоб принесли тебе мыло, шампунь, белье. Книги. В городке библиотека хорошая, я еще не все перечитала. Зови меня Валентиной, без отчества.
И что ты думаешь, мы разобрали диван, под голову я сунула Валентинин плед, накрылись кое-как одним одеялом. Валентина уснула и захрапела во сне, я думала, что не усну, но уснула. Утром не враз сообразила, где нахожусь, отчего такая непроглядная тьма.
За утренним чаем Валентина мне сказала, что не надеется на освобождение, так как хлопотать за нее на воле некому. Знакомых-то полно, и родные есть, но никто там по ней не скучает, есть она, нет ли, им не важно. И я подумала, а кому я так уж сильно нужна? Чтобы хлопотали, добивались. Разве что маме, но маму никак нельзя волновать. И тебе, Юлька, хлопотать за меня не с руки, у тебя ребенок, работа, да и далеко, не докричишься. В конце концов, я пока здорова и даже письма пишу, а раньше, когда я была на воле, писем бы ты от меня не дождалась. Засим, как в старину выражались, кланяюсь я тебе. В надежде на лучшее.
Шура6 октября 1986. Боровск-23. Письмо № 2
Проснулась и подумала: то ли я умерла, то ли ослепла. Открыть глаза, закрыть – одинаково темно. Душно.
Насекомое точит. Дерево или камень. Что-то.
Валентина вздохнула, и я сообразила, что лежу под ее жарким боком на диване в кладовой без окон, что насекомое – часы, точат время, точат в нем проход и никогда, никогда не проточат. Время, конечно, не дерево и не камень, субстанция мягкая, прозрачная, но конца ей нет, уж если попал – пропал, увяз, не выберешься до смерти. А что там после? Ничего, пусто.
Будильник загрохотал, Валентина включила лампу. Сказала:
– От койки до работы три минуты. Большой плюс.
Мы умылись в прохладном и чистом туалете. Валентина дала мне зубную пасту и мыло. У нее нашлась запасная зубная щетка. Настроение у Валентины было прекрасное, бодрое, словно и не отсидела полгода в заключении, не видя свежего воздуха. Она радовалась утру, прохладной чистой воде. Сделал зарядку там же, у рукомойников. И меня уговорила присесть – встать.
Выпили чаю за столом уборщиц (техничек), съели по ломтю белого хлеба.
Валентина:
– Масла не держу, холодильника нет.
Велела мне убрать посуду, достала косметичку и принялась, как она выразилась, наводить марафет. Я ополоснула стаканы и села наблюдать. Кончиками пальцев Валентина нанесла на лицо крем. Напудрилась. Подрисовала брови, наложила тени, накрасила ресницы, под скулы положила розовые блики.
Предупредила:
– Косметику не дам, свою заводи. Губы нормально?
– Нормально.
– Не старит меня эта помада?
– Нет. Нормально. Художественно.
– Мне Клавдия покупает. И никак не попадет в цвет. Я прошу такой, знаешь, самый бледный розовый, а у нее всё как будто вишня. Не то, не то.
Я спросила, сколько ей лет.
– Сорок пять стукнет в декабре месяце. Тебе, наверное, кажется, ух, как много.
– Рано мы встали, еще час целый до работы.
– Я люблю рано вставать. Не хочу, знаешь ли, опускаться. Раскисать. Хочу выйти на волю в хорошей форме. Хочу еще пожить. У меня денег накопится, когда выйду, буду королевой. Замуж выскочу.
– Вы деньги не тратите?
– Ты совсем дурочка. Маленькая и глупая. Жизни не знаешь. Не дуйся, без обид. Деньги нам приходят на сберкнижку, так? И зарплата, и командировочные. Ну и кто их вместо тебя снимет? Никто. Не выдадут. И доверенность не оформишь. Так что наличных у меня нет, и у тебя скоро не будет. Приятельница подбрасывает мне иногда и в книжечку записывает, чтобы потом, если я выберусь, предъявить счет.
Если. Ты слышишь это «если», Юлька? Меня аж передернуло.
Что-то мы еще говорили, попивая чай, пустяки какие-то. Даже смеялись. Чай, кстати, неплохой. «Бодрость». Я помню, мы такой брали в булочной возле общаги. Какое прекрасное время. Какие большие окна. Как далеко из них видно. Останкинская телебашня, самая высокая в мире. Или не самая. Не важно. Вспоминаю, как отжившая свой век старуха, как будто ничего уже не будет. Чушь! Я подземный ход прогрызу. Я поумнею и придумаю.
Валентина мне сказала, в какой идти кабинет и во сколько, чтобы записаться на прием к самому главному.
– Я ему что, увидел и забыл, а ты молоденькая, личико бледное, детское, сжалится, хоть какой винтик, да сдвинет.
– А тебе он что говорил? (Мы уж перешли с Валентиной на «ты».)
– Здесь он выписать пропуск мне не может, только на головном предприятии, то есть в Ярославле, и только при личном моем присутствии. В общем, примерно та же история, что и с деньгами на сберкнижке. Заколдованный круг.
Юлька, а ведь я такое читала. Правда, невнимательно. Серёжа приносил книжку. Я тебе о нем рассказывала, когда приезжала на зимние каникулы после первой сессии. Я в него тогда втрескалась по уши. Я вечно по умненьким сохну.
Книжка – листочки в папке, штук двести. Машинопись. Слепая печать. Финала нет и не будет. Герой не мог проникнуть в Замок, ему обещали там работу, и он всё ждал, когда же его пустят. Плюнуть и уйти отчего-то не мог. Я бы на его месте плюнула. На своем месте я не плюну, мне деваться некуда, мне гораздо хуже, чем ему.
Понимаешь разницу? Он тупо не уходил, хотя мог уйти. А я не могу уйти. Застрелят. У солдатиков автоматы настоящие. Заряжены боевыми. Нас предупреждали. Так что я ему не сочувствую, я себе сочувствую, по полной программе. И все мне сочувствуют. Я как увидела, что все меня жалеют, как смертельно больную, – мурашки по коже.
Гуля приволокла журналов из библиотеки, целую гору. Читай, говорит, развлекайся, в них сейчас интересное печатают. Танька подушку пронесла и плед. Подушку умяла в сумку, пледом завернулась под пальто. Охраннику улыбнулась, пропустил. И конфет принесли, и денег, чтобы было на что в буфет ходить. У меня глаза на мокром месте и у них. Обнялись, поплакали, успокоились и потопали работать, как если бы всё встало на свои места, как если бы не замуровали живого человека.
День прошел обыкновенно. Я не знаю, чего я ждала. Все-таки со мной произошло невероятное, а день шел себе, люди работали, мужики говорили о футболе, о грибах, о здешних лесах.
Я сижу отупело. Солнце светит в узкое окно (не открывается, не надейся). Я подхожу к окну, мужики паяют свои схемы. За окном – дорога, она ведет на КПП, к выходу, к автобусу, к лесу, через который можно и пешком добраться до нашего городка. Девчонки вчера так возвращались с работы, дышали воздухом.
Гуля написала за меня программу. Причем губы сердито не поджимала, даже что-то пыталась объяснить ласковым голосом. И сказала, что молится обо мне.
Но, вообще говоря, все уже (уже!) успели привыкнуть к моему дикому положению. И я успела.
Спокойно сижу за дисплеем, перепечатываю из тетрадки программу. У Гули L в точности D. В обед шагаем в буфет. Я набираю еды побольше, чтоб уж наесться. К вечернему чаю приберегу пару плюшек, в конце концов растолстею на них. Девчонки говорят, что вечером собираются в кино, смотрят на меня виновато. Я спрашиваю, что за фильм.
– Какой-то иностранный. На афише дядька с пистолетом.
Завтра расскажут.
Всё было ничего, пока рабочий день не завершился.
Сдали тетрадки в сейф. Я спросила девчонок, как они сегодня, через лес?
– Если дождя не будет.
Я хотела попросить принести мне сосновую ветку, но не стала смущать людей.
Постояла у окна, посмотрела. Журналы разложила. Читать не хотелось, я решила погадать. И выпало мне: «…весь мир до сих пор заключался в нем самом…». Грустно мне было, Юлька, как будто бы я оторвалась от Земли и лечу в космическом пространстве всё дальше и дальше, во тьму и пустоту ночи.
Я листала журналы, ждала уборщицу. Наконец она пришла со своим тяжеленым ведром в сопровождении охранника. Он встал в дверях, а она принялась подбирать с пола бумажки. Я бросилась ей помогать и кстати спросила, нет ли еще где на объекте кладовки, уголка, где я бы могла обустроиться, пока не решится мое дело.
Уборщица отвечала:
– Не знаю.
Она вымыла пол, я вышла, охранник запер и опечатал дверь.
Времени еще мало, всего-то восемь часов.
Я поплелась к Валентине. С пледом и подушкой в обнимку. Подумала, что выпью чаю «Бодрость», взбодрюсь.
Лестница. Часовой. Он сидел за барьером, как дежурный милиционер в отделении.
Я не помню, писала ли я тебе. Наверное, нет. На втором, кажется, курсе мы шли ночной улицей. Уже и не помню, как она называлась. Мне двадцать два, а я, как старуха, теряю память! Не помню. А может быть, и не знала. Недалеко от Бутырского вала? Или от Минаевского рынка? Охо-хо. Кто-то из ребят нес прекрасный японский двухкассетный магнитофон «Панасоник» (вот марку я помню). Магнитофон, конечно, мы врубили на полную. «Пинк Флойд». «Стена». Да-да, это я тоже помню. Возведение стены и разрушение. На ночной московской улице, в условном 1982-м. Осенью.
Еще тепло. Мы идем вместе, маленькая армия, разведотряд, отряд-снаряд, музыкальная бомба, поберегись.
Нас задержали и привели в отделение. Пожилой дежурный тихо спросил, откуда мы взяли магнитофон. Галина объяснила, что магнитофон привез отец, он плавает на научно-исследовательском судне.
– Тралом выловил, – пошутил Мишка.
– Неплохой улов, – ответил дежурный.
Записал показания и отпустил. Велел не шуметь по ночам, не мешать людям отдыхать.
– Им завтра на работу. В отличие от вас.
Я приблизилась к часовому. Он разгадывал кроссворд в газете. Дописал слово («астма»).
– Привет, – сказала я.
Он не отвечал.
– Ты откуда? – я спросила.
Он не отвечал. Написал слово («галактика»).
– Какие ты слова знаешь.
От не отвечал.
– Будь здоров, солдат. Извини.
Коридор. Лестница. Каморка.
Валентина с уборщицей пили чай. Полулитровая банка клубничного варенья стояла у них на столе. Бутылка можайского молока.
Светила настольная лампа, и сидели они в ее свете уютно. Пар поднимался над чаем. Валентина бросила в свой стакан кусок рафинада и принялась его размешивать, звякая, брякая ложкой. Я стояла на пороге в некоторой растерянности, Валентина на меня не смотрела, и уборщица не поворачивала головы. Не могли же они не услышать, как я отворяю дверь, как вхожу.
Я пожелала им приятного аппетита.
Уборщица намазала хлеб вареньем и обратилась к Валентине:
– Клубники мало уродилось в этом году.
– Картошки зато будет много.
– Да. Слава богу.
– Класс. (Это моя реплика; решила вступить в беседу.)
Валентина медленно повернула голову, посмотрела на меня выпуклыми карими глазами. И вымолвила:
– Не стой. Иди себе. И дверь за собой закрой, нам дует.
– В смысле? Куда идти?
– Да куда хочешь. Мир велик. Здесь тебе не по нраву, уж не знаю, почему, хлеб мой не по вкусу, или, может, я тебе не по нутру, так бывает, ничего, иди. Курица безмозглая. Отдельная жилплощадь ей требуется. Цаца.
Так она сказала и отвернулась.
Откуда ж мне было знать, Юлька, что уборщица доложит, а Валентина оскорбится. И куда мне теперь деваться с пледом, подушкой и всеми моими вещичками, я ни малейшего представления не имела.
Я вышла из подсобки совершенно оглушенная.
Целая ночь впереди. Целая и неделимая.
Ох, Юлька, я попала. Сил нет.
Шура6 октября 1986. Боровск-23. Письмо № 3
Пишу в тот же день. Вернее, в ночь. То письмо уже запечатала. Можно, конечно, подержать над паром. Но не экономить же мне на конвертах.
Валентина меня выгнала, и я вернулась к часовому. С пледом и подушкой в обнимку, всё по-прежнему.
Сидит за барьером и смотрит на меня. Взгляд пустой, как у фашиста в фильме.
Я ему говорю:
– Привет.
Он не отвечает. Но не гонит.
– Кроссворд весь разгадал?
Молчит.
– Ты откуда? – я спрашиваю.
Он молчит.
– А я из города, – говорю.
И рассказываю про нашу реку, про сопки и про сладкий запах от свинцово-цинкового и титано-магниевого. Про солнце, про маленькие сладкие арбузы, про живых карпов и желтые осенние листья, про каменный мост.
Не знаю, слушает он или нет. Молчит. На спинке стула у него автомат. Я говорю, что разбирала автомат с закрытыми глазами. Быстрее всех в классе. И он спрашивает:
– За сколько?
Бинго! Плотина прорвана, крепость пала.
Не то чтобы он пустился в разговоры. Но усмехнулся, когда я ему рассказала про нашего полковника, про то, как он мальчикам волосы сантиметром измерял, а девочек отправлял в туалет смывать тушь.
– Ты смотри, не стань таким. Когда уйдешь со службы, снимай форму, надевай гражданское, копайся в огороде, лови рыбу, поезжай в Крым на всё лето, только не иди в школу преподавать НВП.
– Не пойду, – он усмехнулся. – Я вообще не собираюсь быть военным.
– А что ты собираешься?
– Не знаю.
– А скоро у тебя дембель?
– Не твоего ума дело. Много хочешь знать – скоро состаришься. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Болтун – находка для шпиона. Меньше знаешь – крепче спишь.
– Ну ты даешь.
– Иди. Не отвлекай от службы.
– Куда? Куда мне идти?
И я разревелась. Не собиралась, не думала. Стою и реву взахлеб и остановится не могу, сама не рада. Плед с подушкой, сумку, всё на пол бросила и вою. А он растерялся, побледнел, схватил телефонную трубку. Я не слышала, чего и говорил, всё рыдала.
Пришел офицер. Тот, что с нами ехал от Балабанова. И не так уж велик ростом оказался, как мне тогда почудилось. И в этот раз я разглядела на его погонах по большой звездочке. Значит, майор, это я поняла, спасибо НВП. Посмотрел на меня и ушел. Он ушел, и слезы у меня иссякли, устала я.
С пола ничего не подняла, потащилась в туалет, умылась ледяной водой, высморкалась. Возвращаться не спешила. В зеркало на себя посмотрела с такой ненавистью, с какой ни на кого и не смотрела прежде. Ей-богу. Вышла, вернулась за вещами, а там майор.
– Я вам помогу, – говорит.
Подхватил мои вещички с пола и понес, а я следом. На солдата и не взглянула.
Поднялась за майором на другой этаж. Прошли коридором. Такой здоровенный коридор – целая улица, да еще и кривая, как будто в Москве. Двери все без табличек, все заперты, лампы только дежурные горят, через одну, того и гляди выйдет из полумрака какой-нибудь тип и попросит закурить.
В торце коридора дверь распахнута, свет из проема, солдаты суетятся, выносят громадный стол, обломки какие-то.
– Скоро? – спрашивает майор строго.
Минуты три мы еще подождали, пока они всю рухлядь вынесли, полы протерли (да!), внесли топчан. Тумбочку, стул, настольную лампу. Мгновенно всё обустроили. Майор осмотрел, сказал им:
– Молодцы, свободны.
Вещи мои бережно положил на топчан, вручил ключи (!) и ушел. Так получила я отдельную жилплощадь. Что-то вроде бывшей их кладовой.
Ничего, уютно.
Я постелила плед, бросила подушку, легла. Смотрю на стену. Стена и стена. Выкрашена зеленой масляной краской. Не весенней зеленой и не темной зеленой, как на исходе лета, когда уже пахнет по утрам осенним дымом, а казенной зеленой – не сравнимой ни с чем. Мрак. Отблески от электрического света впечатления не смягчают.
Ох, боже мой.
Я хотела еще поплакать, но не смогла. Подумала о майоре, что симпатичный. Роста небольшого, чуть выше меня, но стройный, плечи развернуты, спина прямая, походка легкая. Затылок круглый, а волосы – бог его знает, мягкие или жесткие. В другой раз спрошу:
– Можно потрогать ваши волосы?
Светлые, острижены коротко.
Представила его голым.
Думала, думала и уснула. А проснулась – лампа горит, стена бликует. Я на часы посмотрела – ого, рабочий день начался.
Вот так, Юлька, друг мой ситный.
Шура3 января 1987. Боровск-23. Письмо № 4
Привет, Юлька, я пока жива.
Твои письма все получила (слежу по номерам). Отвечать не могла, сил не хватало. Вообще ни на что сил не оставалось.
Я как попала в ту комнату, так и застряла в ней. Сломалась. Ходила только в туалет, больше никуда. И свет не зажигала. Так привыкла к темноте, что фотоны видела, они ко мне проникали. Шучу. Но что-то различала. Кто-то со стороны отворял дверь (выходит, у них были запасные ключи, но меня это не заботило). Мне становилось больно от света, я закрывала глаза и отворачивалась к стене.
Девчонки оставляли мне на столе бутеры, конфеты, молоко. Я ела, одна, в темноте. В компании с фотонами. Ела, лежала, больше ничего. Не думала ни о чем, всё передумала, что могла.
Девчонки уже не уговаривали, рассказывали, что там зима, холод, белый снег. И что скоро Новый год. Они уедут в Москву. Они сняли там квартиру. На Окской улице. Однокомнатную, в панельной башне, под крышей. И Окская улица мне воображалась рекой.
Белый снег, белый снег. Я лежала и видела его, он светился в темноте. Снежинки летели с шорохом. На меня. Заносил меня снег, заметал. Дышать нечем, снег во рту, в ноздрях. Надо проснуться, надо вырваться, или смерть!
Я закричала, только чтобы услышать свой голос.
Нащупала выключатель.
Я выбралась из своей норы в празднично освещенный коридор, безлюдный и тихий. Времени я не знала, часы у меня давно стояли. Я привыкла к свету, вернулась к себе, захватила мыло, зубную щетку и пасту. Полотенце. Кто-то мне его принес, пока я пребывала во тьме небытия. Да много чего принесли – все мои вещички здесь собрались, возле меня. И даже маленький транзисторный приемник. Корпус из ярко-синего пластика, черный кожаный чехол с узким ремешком.
Спасибо, конечно, только страшно ведь, что они все уже при мне, а я при них, да в этих стенах. Страшно, что теперь навсегда. А впрочем, Юлька, я переживать устала. Ко всему человек привыкает. И во всяком положении находит повод для радости. Или не во всяком.
В туалете я заложила дверь шваброй, вымылась в трех водах до скрипа. В зеркало уставилась. Волосы отрасли, глаза ввалились. Ничего, жить буду.
Вдруг поняла, что в туалете пахнет елкой. Настоящий лесной запах. Я подумала, что это род галлюцинации, но обнаружила в помойном ведре еловые ветки в новогодней мишуре. Из чего, как истинный Шерлок Холмс, сделала вывод, что новый год наступил. И наступил не так давно.
Хвойный запах как будто переключил меня. Мне показалось, что вот-вот свершится что-то чудесное. Или уже свершилось. Я только не могла пока уловить что́. Я стала внезапно счастлива, вопреки всему, и только боялась, что скоро это праздничное чувство погаснет. Я старалась его сберечь, как маленький огонь в очаге выстуженного дома. Топливо, топливо мне нужно было, чтобы пламя занялось. Я бросилась убираться в моем закутке.
Лампа сияла, я протирала полы, стены. И вдруг наткнулась на картинку. Прежде ее здесь не было.
Картинка. Репродукция. Ее прибили к стене маленькими посылочными гвоздями. Так, чтобы я могла лежать на топчане и видеть ее, а не электрические казенные блики.
На репродукции изображено поле под пасмурным, но светлым небом. В поле угадывается тропинка, на горизонте слева темнеет лес, но тропинка, не дойдя до леса, поворачивает направо.
Никто по ней не шел. Пейзаж был безлюден и относиться мог к любому историческому времени. Утро, вечер, день – неясно. Мир или война. Кто ж его знает. Я посчитала этот пейзаж паузой. Остановкой во времени и пространстве. Как говорится, отдохни и ты.
Я взяла в руки приемник. Включила. Услышала шорох. Голос эфира. Помехи. Эфир был ими густо заселен. Точно души всех когда-то живших зашелестели.
Так я подумала и выключила приемник.
Я вышла с ним из своего убежища, дверь закрыла на ключ и направилась далеко, по коридору, по лестницам, то вверх, то вниз, к обиталищу Валентины. Мне по-прежнему было радостно. И мне хотелось попросить у нее прощения. Ведь Новый год. Я не думала, что она, может быть, спит или работает. Я должна была идти. На лестницах пахло морозным воздухом, он проник в нашу темницу, это тревожило и внушало надежду.
Дверь в подсобку оказалась заперта. Я постучала.
Шаги и сонный голос Валентины:
– Кто?
– Я! Пустите, пожалуйста, дорогая Валентина. Я очень-очень виновата перед вами, и я хочу загладить вину. Позвольте мне это сделать!
– Ты пьяна?
– Нет, что вы!
Она молчала за дверью и не уходила, я стояла перед дверью и не уходила. Может быть, что-то происходило в мире, а может быть, и ничего. Я включила приемник. Зашелестели, задрожали души. Я повернула ручку и мужской голос пропел:
«Утомленное солнце…»
Валентина отворила дверь.
Я протянула ей поющий приемник.
«…нежно с морем прощалось…»
– Это вам. Подарок. С Новым годом.
«…в этот час ты призналась…»
– Через порог нельзя.
«…что нет любви…»
– Входи.
Мы пили сладкую наливку. Приемник бормотал под сурдинку какие-то новости, они нас не касались, ни меня, ни Валентины.
Мы пили наливку, ели хлеб с колбасой.
– Хочешь на волю? – спросила вдруг Валентина.
Она смотрела на меня, и ее глаза мне казались огромными.
– Еще бы.
– А я нет. Мне здесь лучше. Там я лишняя. В Москве в квартире народу много, все шумят, меня не любят, я это чувствую, то плачу, а то кричу на них, я кричу, а меня не слышат. В городке в комнате соседки смеются надо мной, смеются тихо, а я слышу. Не любят. Да и за что меня любить?
Я заплакала и бросилась Валентину обнимать, гладить по голове.
И я плакала, и Валентина плакала. Я говорила, что всё это глупости, что люди хорошие, что Валентина хорошая. Она меня от себя отстранила. Высморкалась. Велела подать сумку.
– Она под подушкой у меня, для сохранности. Поди принеси, а то мне вставать нет охоты.
Я принесла сумку, Валентина ее открыла.
– Здесь у меня всё. И от московской квартиры ключи, и от комнаты в городке, и от этой конуры ключ, и пропуск твой в потайном кармане.
Она вынула пропуск и положила на стол.
– Бери. Свободна. Прости, если сможешь.
Я не двигалась.
– Да. Вот так. Украла. Очень уж ты мне приглянулась. Простая душа.
Я молчала.
– Бери. Иди.
– А ваш пропуск, он тоже там, в потайном кармане?
– Там.
Я взяла свой пропуск со стола.
Поднялась.
Направилась к двери.
Услышала:
– Всем расскажешь?
Обернулась.
– Никому.
Тут я соврала, потому что, Юлька, тебе никак не могу не рассказать.
Всё, моя дорогая. Целую.
ШураP.S.
В городок я пришла пешком, морозной ночью, через лес. Шла и ничего не боялась, шла, как песню пела. И фонари освещали мне путь электрическим светом.
На КПП предъявила пропуск, и меня пропустили, о чудо.
Я шагала, снег скрипел. На площади стояла громадная ель, на макушке ее горела звезда, а возле ели курил майор.
Я приблизилась и стала смотреть на него. Я запела тихо:
«Утомленное солнце…»
Он обернулся. Отбросил в снег сигарету.
«…тихо с морем прощалось…»
Я положила ему руки на плечи.
«…в этот час ты призналась…»
Он обнял меня.
И так мы стояли.
Katerinaa
Вы читаете журнал Katerinaa.
29 декабря 2012, 20:00
Katerinaa: Я, конечно, спросила на всякий случай, не свободно ли место.
– Нет, – сказала старуха.
Она сидела у окна, а место рядом с ней стерегли рукавицы.
Народ всё прибывал, старуха смотрела растерянно, а я надеялась, что никто к ней не подойдет, что придется ей убрать своих псов, и тогда я сяду наконец. Стоять уже сил не было.
Псы старухины были из серой шерсти, простой вязки, один с зеленым глазом-заплаткой на большом пальце. Бархатная заплатка, между прочим. Оттенок темный, малахитовый, красивый. Бог его знает, откуда у этой нищей старухи в старой мужской куртке, в темной лоснящейся юбке, в валенках с галошами, взялся такой красивый обрезок. Может быть, жакет такой водился у нее в дни молодости. Я попыталась представить ее молодой и красивой, в темно-зеленом бархатном жакете, с припудренным лицом, с ароматом, едва слышным, «Красной Москвы». Напомнила мне эта старуха мою так, что сердце сжалось.
Электричка тронулась, старуха еще надеялась, выглядывала людей, пробирающихся по проходу. Я ее не торопила.
Она посмотрела на меня и убрала псов.
Я уселась. В проходе стояла толпа, покачивалась в такт ходу поезда.
Душно, сонно.
Старухины иссохшие, с пожелтелыми ногтями пальцы вдруг коснулись моей руки.
– Дочка, – спросила старуха, – у тебя есть телефон?
Она расстегнула куртку и вынула из внутреннего потайного кармана сложенный вчетверо листок. Пожелтелый, в клетку, наверно, из древней школьной тетради, от внуков сохранилась где-нибудь в чулане, с оценками и замечаниями.
Большими, два раза для четкости обведенными буквами на листке записан был номер. Я его набрала.
Ответил высокий мужской голос:
– Алё-алё!
– Здравствуйте. Ваша бабушка будет говорить.
И я вложила телефон старухе в ладонь.
– Митя! – заголосила старуха в трубку. – Я здесь! Еду, еду! Ты где? Где?
Что там ей отвечал ее Митя, я не знаю.
После разговора она успокоилась, вытянула из-под сиденья школьный, хорошо поживший темно-синий рюкзак, раскрыла молнию и вынула из рюкзака пакет. В нем оказались пирожки. Из русской печки, как старуха сказала. И предложила отведать. Я не отказалась. Сама я не пекла, но за моей бабушкой много раз наблюдала. Дрова в каменном зеве должны прогореть, затем на кирпичи над углями ставится противень, а зев загораживается железным щитом, и там, за щитом, в каменной пещере, поднимаются и румянятся пироги да пышки.
Старухины пироги были с картошкой и жареным луком. Я ела и была счастлива. Расстались мы друзьями. Даже имя ее мне теперь известно: Дарья Сергеевна.
Наевшись пирогов, я и ужинать не спешила, брела по нашему городку, по центральной улице, в магазины заглядывала, смотрела, но ничего не покупала. Дома только чай выпила. Завтра думаю поехать в «Икею» за диваном, мой уже развалился.
Snezanna: В «Икее» на завтрак кофе бесплатный) Или чай.
Dimon: Кофе у них отвратительный.
Snezanna: Вы придираетесь. Как всегда.
Dimon: Я объективен. Как всегда.
Katerinaa: Мне нравится, что там всё сборное. Я с детства конструкторы люблю.
Dimon: Замаетесь одна диван собирать.
Katerinaa: Я со шкафом справилась, было дело.
Dimon: О!
Snezanna: Можно доплатить за доставку и сборку, не очень дорого, кстати.
29 декабря 2012, 23:40
Katerinaa: Разбудил звонок.
Тонкий мужской голос, как острая игла:
– Митя, я – Митя; сегодня с вашего телефона мне бабка моя звонила!
– И что?
– Она пропала. Она должна была до платформы доехать и там меня ждать, и нет ее на платформе.
– Вы откуда звоните-то? – спрашиваю.
– С платформы.
– Так вы что, только сейчас до нее добрались?
– Ну да, – говорит, – так вышло, меня задержали сильно, я как только освободился, так и рванул, я вообще-то должен был ее на вокзале еще встретить.
– Вы на часы-то гляньте, – говорю, – сколько она вас должна была на платформе ждать? Зима на дворе.
– Да я понимаю!
– Вы не кричите. Я ведь не знаю, где она сейчас. Может, до дома добралась. Адрес она знает?
– В принципе да, всё записано, но дома ее нет, я уже слетал до дома, нет и не видел никто.
– Ну, может быть, магазин какой теплый при станции?
– Да был уже!
– Чего вы кричите? Я при чем?
– Да я не знаю, что делать, я ошалел совсем.
– В полицию звоните. По больницам. Людей еще поспрашивайте. Вы извините, но мне вставать завтра рано.
– Конечно, я понял. А вы когда ехали, всё нормально было?
– Всё путем.
– Ладно. Но я не виноват! Честно…
Объяснений я его уже слушать не стала. И сна теперь нет. Где эта Дарья Сергеевна? Куда забрела? Так и вижу ее с этим школьным рюкзаком за плечами.
Dimon: Не ее вы видите, а собственную свою бабку. Это называется замещение.
Katerinaa: А, вы тоже не спите?
Dimon: Очевидно. У нас половина пятого утра, я еще не ложился.
Katerinaa: Какая у вас погода?
Dimon: Тридцать шесть.
Dimon: Мороза.
Katerinaa: Я поняла.
Dimon: У вас так не бывает.
Katerinaa: На улицу выходите?
Dimon: В космическом скафандре. Почти. Теплое белье. Два свитера. Пуховик. Была б моя воля, вообще бы не выбирался, сидел бы у печки.
Katerinaa: У вас печка???
Dimon: Батареи. Обычная квартира в обычной пятиэтажке с паровым отоплением. Примерно как у вас.
Katerinaa: У бабки моей была печка.
Dimon: Вы говорили. Пироги. Деревенский был дом?
Katerinaa: Почти.
Dimon: Я бы не отказался от такого. Где-нибудь в ваших краях, где зима помягче, а Париж поближе.
Katerinaa: Вы хоть отдаленно представляете, как в таком доме живется? За водой на колонку, газ привозной в баллонах, уголь и дрова тоже заказать и привезти, проводка вся древняя, электричество едва тлеет, антенна на крыше ловит полтора канала, балки гнилые, крыша протекает, в подполе сырость, грибок. Это уже не дом, а склеп. Его надо разобрать и заново построить и желательно на другом месте, тогда еще можно.
Я приезжала каждое лето, помогала и уговаривала переехать ко мне, но нет, ни за что, хотела быть сама в своем доме, быть хозяйкой. «Что, – говорила, – я буду у тебя в городской квартире делать, из окна глядеть? У подъезда на лавке прохожих караулить?»
Это правда, делать ей здесь было бы нечего, она привыкла к свободе, но ведь старость! Уже и снег разгребать тяжело, и ведро поменьше купила за водой ходить, и в подпол уже лезть опасалась. Но так и не сдвинулась. Уперлась. Так и померла там в одиночестве.
Dimon: А что у вас из окна видно?
Katerinaa: Красную площадь. Дома, правда, загораживают. На полсотни примерно километров домов и деревьев. Если всё снести, то как раз и будет видно Красную площадь, в телескоп.
Dimon: Сердитая вы.
Katerinaa: Станешь тут.
Dimon: А у меня из окна даже днем ничего не видно. Мединститут через дорогу, но от мороза туман, и он всё съел: и здания, и людей, и деревья. И меня съел.
Katerinaa: Зачем вы опять с работы уволились?
Dimon: Устал.
Dimon: Скоро опять устроюсь.
Katerinaa: Куда?
Dimon: Всё туда же, на скорую.
Katerinaa: Отдохнули, значит?
Dimon: Деньги кончаются.
3 января 2013, 21:35
Katerinaa: Приподнимается серый чехол, в черной лаковой глубине загораются огни, глубина оживает. Чехол соскальзывает под огромное, во всю стену, окно. В черной заоконной глубине тоже горят огни.
Высокий, худой мужчина отодвигает стул и садится за рояль. Он поднимает крышку и разминает пальцы. Глаза его опущены.
Мало кто в большом зале видит пианиста. Многие спят. Плачет ребенок. Небритый дядька, сосредоточенно ступая, несет дымящийся стаканчик. Запах кофе и гул кофемашины сбивают с толку. Если закрыть глаза и сосредоточиться только на этом запахе и этом звуке, то можно представить, что ты в кафе. Можно выбрать любой город. Париж. Рим. Где ты был или не был. В любом случае, это воображаемый город.
Диктор объявляет посадку на поезд до Читы. Слышно, как собираются люди.
Надя открывает глаза. Она в зале ожидания на Ярославском вокзале, на втором этаже с огромным панорамным окном над железнодорожными путями и черной далью. Рояль здесь кажется неуместным.
Укрытый в серый чехол, он не привлекал внимания. Но вот высокий мужчина в драповом пальто подошел к нему. Снял пальто, сложил и повесил на спинку стула. Снял подставку с объявлением:
КОНЦЕРТ ЕЖЕДНЕВНО С 15:15 ДО 16:00.
Приподнял чехол.
Наде пора уже идти. До электрички пятнадцать минут, как раз чтобы успеть занять место.
Мужчина начинает играть. Ожидающие своих поездов люди поворачиваются на звук рояля. Вытягивают шеи. Кто-то привстает. Кто-то возвращается с дымящимся стаканчиком к своему месту. Кто-то приближается к роялю. По-прежнему гудит кофейный аппарат. Диктор объявляет о прибытии поезда.
Пианист играет популярные мелодии. Семидесятых и восьмидесятых годов. Советская и зарубежная эстрада. Наверно, в концертном зале его игра показалась бы тусклой, маловразумительной. Но здесь его музыка звучит празднично и ярко. Странно. Он здесь Рихтер. Бог.
Отыгрывает сорок пять минут. Убирает руки с клавиш. Раздается несколько хлопков. Он поднимается, кланяется.
Серый чехол укрывает рояль.
Snezanna: Здорово. Мне очень нравится. А Надя – это вы?
Katerinaa: Я статьи для газетки подписываю: Надя К.
Dimon: Хоть слово правды имеется?
Katerinaa: Всё правда.
Dimon: Я позавидовал вашему пианисту.
Katerinaa: Я тоже.
Dimon: Я, правда, сейчас всем завидую. Такая у меня полоса.
Dimon: Рискну спросить: что вы делали в зале ожидания поездов дальнего следования? Уж не в наши ли края собирались за озеро Байкал?
Katerinaa: Ждала свою электричку. Ту, на которую рассчитывала, отменили, предпочла два часа провести в тепле и более-менее уюте.
Snezanna: Потрясающе. Неужели правда: рояль и музыкант, на вокзале?
Katerinaa: Правда.
Snezanna: Даже не верится. Интересно, кто он.
Katerinaa: Пенсионер-любитель. Бывший железнодорожник. Наверно. Я так думаю.
Dimon: Насколько помню, вы Москву не жалуете. По какой нужде ездили?
Katerinaa: По газеткиным делам моталась.
Dimon: И как Наде К. столица в начале года? В начале времен, можно сказать.
Katerinaa: Нормально. Народу мало.
Dimon: Что вашей мелкой провинциальной газетке понадобилось в Москве?
Katerinaa: Художник-мультипликатор. У него дача в нашем районе, в московской квартире только зиму зимует и по памяти наши провинциальные пейзажи пишет. И не только природу, но и мелкие городские задворки. Какая-нибудь пятиэтажка старая, к примеру, в землю вросла. Двор, белье на веревке. Постельное, нательное – всё наружу. Цветная изнанка жизни.
Dimon: Вам нравится?
Katerinaa: Да. Но говорить с ним тяжело. Всё время кажется, что спрашиваю что-то не то. Что отвечает он чисто из вежливости. Что мог бы что-то гораздо более интересное рассказать, только я нужного вопроса не нахожу. Может быть, вот сейчас сидит и рисует меня по памяти.
Dimon: Надю К.? Катерину?
Katerinaa: Не знаю. Мало ли кого он во мне разглядел. Не рискну предположить.
Dimon: Культурный у вас день был. Художник, пианист. Но это для Нади К. в основном. Для Катерины-то было что-нибудь?
Katerinaa: Пианист ушел, и я рванула на свою электричку. Это уже была вторая после отмены, впритык после первой, первая и увезла весь народ, а здесь я села вольготно, у окна.
Топили жарко, меня разморило. Я не спала, но мне казалось, что сплю. И если проснусь, то исчезнет вагон со всеми его пассажирами и со мной в их числе, и зима за окном исчезнет, долгие перегоны и одинокие платформы, а что явится вместо них, я в своем сне не представляла. И видела всё как-то отрывочно, с провалами. То вдруг человек стоит в проходе и жонглирует какими-то шарами. То вдруг тетка входит вся в снегу и пахнет от нее холодом. А то вдруг вижу: обледенелая платформа, скамейка, на ней лежит серая обмерзлая рукавица и смотрит зеленым глазом. И я медленно соображаю, что рукавица-то, пожалуй, старухина. И вдруг оказываюсь снаружи вагона, на платформе, и вслед за ушедшей электричкой поднимается снежный вихрь.
Вот тут, на этой маленькой платформе, мой сон и кончился. Я осознала, что стою одна, что место безлюдно, что уехала я в сомнамбулическом трансе далеко от моей станции, и когда будет обратная электричка, одному богу известно.
Снежная пыль улеглась, я вынула из ограды промерзшую рукавицу. Очень похожа на старухину. И шерсть серая, и, главное, этот глаз зеленого бархата.
Я достала телефон, позвонила Мите, но он сбросил звонок. Я набрала сообщение: «Нашлась ваша бабушка?»
Долго дожидалась ответа.
«нет»
«Хоть какие-то новости?»
Пауза.
«нет»
«Я вроде бы ее рукавицу заметила на платформе, скажите в милиции»
Нет ответа.
Думала, он перезвонит.
Я стояла с одноглазой рукавицей и не представляла, что делать. Сошла с платформы и побрела по тропке вдоль железной дороги. В лесу стучал дятел.
Переезд. Рыночек небольшой. Собаки крутятся, банки с медом красиво так на свету смотрятся. Пятиэтажки рядом. В ларьке свет горит. Творог у них в витрине, сметана.
Я взяла пачку девятипроцентного, думаю, сделаю сырники. Спросила продавщицу, не видала ли она тут старуху. Продавщица далеко надо мной в своем ларьке, там, наверно, у нее настил высокий.
– Да здесь, – говорит, – туча старух, может, и видала, только я их не очень различаю, я свое-то лицо недавно в зеркале увидела и не поняла, что это за тетка чужая.
– А творог у вас хороший?
– Люди берут, не жалуются.
На рынке я еще народ поспрашивала, – никто ничего. Замерзла, прибрела к домам, в аптеке погрелась, спросила их охранника. Нет, ничего не знает про старуху. Тоже сказал, что много их тут ходит, умирать не хотят.
Рукавица старухина у меня тоже отогрелась, оттаяла, глаз зеленый потемнел, повлажнел.
«Смотри, смотри, – говорю ему, – вдруг что увидишь».
Вернулась я к платформе, перешла на противоположную сторону, посмотрела расписание. Час с лишним мыкаться.
Взяла билет и спросила кассиршу. Ответ тот же:
– Их тут полно, все на одно лицо. И куда на старости лет ездят? Чего дома не сидится? Вот доживу до их лет, никуда мотаться не буду.
Вернулась я через переезд к домам. Зашла в парикмахерскую. Спросила у девушки-администратора, можно ли у них подстричься. Ничего, кстати, подстригли. Про старух сказали, что они ходят, с них за стрижку всего по сто рублей берут. Может, и моя была, кто ж знает. Хорошие девчонки оказались, кофе меня угостили.
Snezanna: А вдруг это не ее рукавица?
3 января 2013, 23:44
Katerinaa: В детстве я жила с бабушкой. Дом без удобств, я уже писала. Так что мы ходили в общественную баню раз в неделю. По четвергам, так как по субботам там собиралась громадная очередь. Мы ходили со своими тазами, с резиновыми шлепками в газете, с лыковыми мочалками и с кусками банного мыла. Я пользовалась шампунем изумрудного цвета, волосы от него пахли яблоком, бабушка мыла голову детским мылом. Мы выбирали местечко подальше от парилки и поближе к душу. После мытья, в предбаннике, вытирались, остывали. Одевались неторопливо, приходили домой, ставили чайник, пили чай с вареньем, чашек по пять.
В один из банных четвергов я увидела в предбаннике старух. Человек, наверное, двадцать. Голые, костлявые, кривые, уродливые, некоторые без грудей, со шрамами, они шли ко входу в банное отделение босиком, медленно, неуверенно ступая по скользкому кафельному полу, цепочкой, держась друг за дружку. Я смотрела, как они скрываются одна за другой в белом пару.
Дверь за ними закрылась, и бабушка сказала мне, что старух привезли мыться из дома престарелых.
Dimon: Жалеете?
Katerinaa: Конечно.
Dimon: Это вы себя жалеете. Своей старости боитесь.
Katerinaa: А вы? Не боитесь?
Dimon: Я не доживу.
Dimon: Надеюсь.
Katerinaa: А что вы опять не спите?
Dimon: Сны видеть не хочу.
5 января 2013, 19:40
Katerinaa: Ездила по газеткиным делам в поселок Л. Городское поселение, если точно. Почти одиннадцать тысяч жителей, много восточных лиц.
Кошки. Вороны, синицы, воробьи. Бродячие и хозяйские псы.
Во дворах стоят машины, полузанесенные снегом. На площади – Ленин на постаменте. Привозят цистерну с молоком. Пенсионеры толкутся с бидонами и флягами. Кому-то наливают бесплатно по бумажке с печатью. Местная власть поддерживает неимущих. Дороги во дворах застыли ледяной лавой, снег ее припорошил. Не пройдешь так запросто.
Люди сидят по домам, едят и спят. Выходят редко, до магазинов и обратно. Небо серое, низкое. Открываешь форточку, и серое небо втекает в квартиру. Скука смертная. Нет хуже подмосковных городских поселений. Это вам не дачи под золотыми соснами в девственном снегу, как на картинке в детской книжке.
Автобус старый, раздолбанный. Вместо стекла в дверях – фанерка. Чихает синим дымом. Я подозреваю, что и мотор у него на деревянных костылях, в проволочных скрепах, но держится не на них, а на честном слове. Но берут тем не менее полновесные двадцать пять рэ, ни копейкой меньше. Подняли цены на билеты прямо сразу, с первого дня нового года.
Народу немного по причине праздников. Мальчик лет десяти с мамашей. Лица у обоих сонные. Трое мужиков-рыбаков с железными ящиками. Я. Девушка с урчащей в наушниках музыкой.
Уселись все, автобус тронулся, кондукторша поднялась, большая, важная, собрала нашу мелочь.
Мальчик сидел прямо передо мной.
В автобусе холодно, окна замерзли, он протопил в инее оконце своей ладошкой и смотрел в него, как в иллюминатор подводной лодки.
У матушки его затрезвонил телефон.
– Должны успеть, – уверила она невидимого нам всем собеседника. – Если не сломаемся.
– Продержимся, – усмехнулась кондукторша. – До аэродрома дотянем.
Автобус вез нас к последней перед большим двухчасовым перерывом электричке. Казалось чудом, что он не разваливается на ходу. Может быть, кондукторша его поддерживала силой своего духа. Ей было весело, тепло и скучно так просто сидеть и молчать. Она спросила мальчика, куда везет его мамаша.
– В кино, – отвечал мальчик.
– На обратном пути расскажешь.
– Если другой автобус будет, не расскажу.
– Другого не будет, только наш на линии. Так что молись, чтобы не сломался.
Автобус вдруг захрипел, снижая скорость, и, резко качнувшись, встал на Ярославке.
– Живы, живы пока, – весело успокоила нас кондукторша.
Автобус отворил со скрипом старые двери. Грузная, заснеженная тетка занесла на ступеньку ногу, вцепилась в поручень и попыталась влезть. Нога у нее соскальзывала. Мама мальчика обеспокоенно взглянула на часы. Один из рыбаков ухватил тетку и втащил.
– У меня пенсионный, – сообщила тетка.
– Всё равно плати, – велела кондукторша. – За перегруз.
Тетка уселась на свободное место и вынула кошелек.
– Сколько?
– Сто рублей. Да ладно, ладно, чего ты, я шучу, не обижайся.
– А я обиделась, – сказала тетка, – бери свою сотню.
– За сотню ты бы и на такси доехала. Не обижайся.
Автобус меж тем уже сворачивал с Ярославки на проселок.
С горки на горку, по мосту через речку идет проселок. К станции.
Электричка еще не подходила.
– Отмены нет, – успокоила нас кассирша из своего окошка. – Опаздывает.
Мальчик стоял на краю платформы и пристально смотрел на лес.
Лес небольшой, исхоженный, но с платформы казалось, что там дебри, непроходимая чаща, сказочная тьма.
– Отойди от края, – велела мальчику мамаша.
Он ее не слышал. Смотрел на лесную чащу, строго сдвинув брови. Ни ветра не было, ни снега, даже машин не слышно.
– Мама, – произнес в этой зимней тишине мальчик, – а я опять старуху видел.
Мать взяла его за плечо и отвела от края.
– Где видел? Там? – Указала на лес.
– Нет. Я из автобуса видел. – Он махнул в сторону проселка.
– Ну и прекрасно, значит, жива.
– Подожди, какую старуху, где? Где конкретно? – Подступила я к мальчику.
– В чем дело? – обеспокоилась мамаша. Она смотрела на меня настороженно.
– Вы простите, но у меня знакомая старуха пропала, где-то в нашем районе, прямо перед новым годом, в последний рабочий день, 29-го. При ней еще такой школьный рюкзак.
– Точно, – обрадовался мальчик, – рюкзак.
– Ее Дарья Сергеевна зовут.
– Нам она по имени не представилась.
И мать мальчика рассказала, как в последний рабочий день старого года, 29 декабря, поздним вечером, проезжая по проселку, подхватили они старуху. Старуха топталась на остановке и ждала, по-видимому, автобус; она не могла знать, что автобус стоит на конечной сломанный.
– Не тот, который нас сегодня привез, другой, который поновее. Мы с той стороны возвращались, из городка, на машине, через переезд, и дальше к Ярославке, домой, это сегодня мы без машины, на машине у нас сегодня папа. Так вот, пожалели мы старуху, притормозили, спросили, куда ей. Она смотрит на нас и молчит. Может, плохо слышит. «Вам куда? В поселок? Забирайтесь, подвезу». Забралась. Витька мой устал, смотрю, глаза у него слипаются, да и меня в сон клонит, день тяжелый был. Я, чтоб сон разогнать, поставила музыку. Едем себе с горки на горку, старуха в окно глядит, я даже не уловила, в какой момент вдруг она рваться стала из машины. Я скорей торможу, дверь ей открываю, старуха из машины вываливается и бегом в лес, а уже совсем темно, между прочим.
– А вы не обратили внимания, у нее одна была рукавица или две?
– Ни одной, – сказал мальчик.
Я попросила номер мобильного и оставила свой – на всякий пожарный. Все-таки они чуть не каждый день ездят той шоссейкой.
Она мне дала визитку. «Алла. Менеджер по продажам».
Я в детстве мечтала, чтобы меня Аллой звали.
Snezanna: А почему мальчишка сразу не сказал, как увидел, еще в автобусе?
Katerinaa: Не знаю. Был сам в себе, в своем мире, в волшебном ледяном круге. Может быть, даже и не очень осознавал, я не знаю.
Dimon: Почему Аллой?
Katerinaa: Хотела отправить Мите эсэмэску, а потом раздумала. Вдруг малому почудилось. Или вообще не та старуха.
С электричкой я не поехала, электричка всех увезла, а я побрела назад, через переезд, по проселку, по обочине. За полчаса до Ярославки и добрела. Старуху не встретила. Села с горя на автобус из Сергиева Посада, и он довез меня до ВДНХ.
Dimon: Почему Аллой?
Katerinaa: На ВДНХ мед купила, алтайский. Сейчас вот с ним чай пью.
Snezanna: Ой, я тоже с медом чай пью вот сейчас. Представляете?!:)
6 января 2013, 01:20
Katerinaa: Все-таки я отправила Мите эсэмэску. Спросила:
«Есть новости?»
Ответ пришел через минуту:
«Есть скайп?»
Я увидела Митю воочию – на экране своего компа. Зрелище мучительное, так как сигнал приходил с большим запозданием. Я слышала голос, потом лицо искривлялось, рот пытался выговорить то, на что я уже успела ответить. Мы слишком далеко друг от друга, на разных концах земли.
Митя в Мексике. Очень важная командировка. 29 декабря прошлого года я заняла в электричке его место возле старухи, так как он опоздал.
– У меня такая работа, – сказал Митя.
Он пытался оправдаться. Передо мной, перед собой, перед всем белым светом.
– Я просто задержался. Она обещала меня ждать на платформе. Я приехал, как только смог, ее там не было.
– И сколько она вас там прождала?
– Не знаю.
– Гипотетически. Сколько?
– Полтора часа.
– Многовато по зиме-то.
– Я понимаю, но что делать? Я не мог всё бросить, никак. Я должен был всё закончить в офисе, я зашивался просто, я в эту ночь улетал в Мексику, билет на руках, все дела. Я и улетел. Вы что хотите думайте, но я не мог не улететь. У нас договор, что я ее привожу домой, всё показываю и улетаю. Я на всякий случай оставил ей записку в дверях, чтобы звонила соседям. Соседи предупреждены, ключ у них. Весь подъезд в курсе. Она не появлялась. В милиции ничего. В полиции то есть. Что прикажете делать? Я не знаю.
– Я тоже не знаю.
– Тогда не доставайте меня больше.
– А почему она вообще к вам ехала?
– А почему я перед вами отчитываться должен?
– Не должны.
– Не справлялась уже одна, вот и всё.
Dimon: Почему Аллой?
Katerinaa: Вы когда-нибудь спите?
Dimon: Я боюсь спать.
Katerinaa: Дурные сны? Что вам снится? Расскажите. Облегчите душу.
Katerinaa: А я видела улицу, на которой вы живете. Наверно, даже ваше окно.
Dimon: Во сне?
Katerinaa: ‹ссылка на Яндекс. Карты, где представлена не просто карта города, но город, снятый специально установленными веб-камерами; таким образом можно буквально путешествовать по улицам, едва ли не заглядывая в окна домов и в лица прохожих›
Katerinaa: Возможно, что и вас видела. Я же настоящее ваше лицо не знаю, вы же свои фотки не размещаете.
Dimon: Я не фотографируюсь. И в зеркало не смотрюсь.
Katerinaa: Вы бреетесь?
Dimon: Иногда. На ощупь.
Katerinaa: Есть ваш дом на карте?
Dimon: Есть.
Katerinaa: Снега у вас мало что-то.
Dimon: Ветер уносит снег. Я иногда стою на ветру и думаю, вот бы мне ветер так мысли вышиб, и я бы жил пустой и счастливый.
Katerinaa: Я вас по мединституту вычислила. Два дома напротив, через сквер, один из них – ваш.
Dimon: Уныло.
Katerinaa: Да ничего. Штукатурка, конечно, обвалилась. Но у нас тоже примерно так же. Меня асфальт поразил, такой асфальт растрескавшийся на тротуарах.
Dimon: Резко континентальный климат, жаркое лето, холодная зима, вечная мерзлота.
Katerinaa: Солнечно.
Katerinaa: Как думаете, старуха моя жива?
Dimon: Не знаю.
Katerinaa: Хочется верить.
Dimon: 29 декабря она пропала. Сегодня уже 6 января. Больше недели. Зима.
Katerinaa: Но если предположить, что вчерашний мальчишка действительно видел старуху в свой иллюминатор. ВЧЕРА. Действительно мою старуху. Если предположить, что именно ее они подвозили 29-го. Значит, как-то она просуществовала все эти дни. Я думаю, где-то она там нашла себе пристанище, в этом райончике, где-то между железной дорогой, шоссейкой и Ярославкой. В этом почти что треугольнике. Почти что Бермудском. Жалко, что там нигде веб-камер нет, ни на одной елке. Во всяком случае, интернету об этом неизвестно.
6 января 2013, 22:50
Katerinaa: Надела угги с шерстяными носками, пуховик финский, думаю, что и в Чите бы не замерзла. Рюкзачок собрала: термос с горячим чаем, пакет с бутербродами, конфет шоколадных с показательным названием «Космическая одиссея». Рукавицы вязаные, на рынке еще в прошлую зиму прикупила, ни разу до сего дня не надевала. Доехала до станции по железке и побрела по шоссейке, не то чтобы в надежде встретить там на обочине старуху, но так, приглядеться.
Светлело. И топать было приятно по белому еще снегу.
На остановке никого. Я немножко подождала, сама не знаю чего. Машины время от времени проезжали. От остановки вела в глубь леса тропинка, по ней уже сегодня ходили, оставили следы. По моей карте эта тропинка должна вести к дачному поселку. К нему и отдельный подъезд имеется, прямо от Ярославки. Но я решила через лесок, через черный тихий ход.
Шла. Останавливалась. Прислушивалась к лесным звукам. Видела белку.
Тропинка оборвалась перед крохотной узкой речкой. Никакого моста, так что я поковыляла по льду. Рыбак сидел на своем ящике перед лункой. Может, из тех рыбаков, что ехали тогда в автобусе, а может, из других. Небо открылось. Вот так бы легла навзничь, прямо на лед, руки бы раскинула и смотрела в небо, пока бы не почудилось мне, что я там, в небе, и лежу, раскинув руки.
Я выбралась на другой берег, довольно крутой. Тропинка возродилась. За поворотом появилась дача. Точнее, дом. За огромной каменной стеной.
Я обошла вокруг. Заметила несколько камер наблюдения. Увидела железные ворота. Позвонила в звонок. Никто не отозвался.
От ворот тянулась вычищенная от снега, выскобленная бетонка.
Я встала у ближней сосны, сбросила рюкзачок, вынула термос, налила себе дымящегося чая. Стояла, прислонившись к золотому стволу, пила чай, смотрела на железные ворота. За оградой тоже возвышались сосны. Вышло из тумана солнце. Над моей головой точно сам собой просыпался снег. Послышался гул мотора. Я выплеснула остатки чая и накрыла крышкой термос.
Показалась на бетонке машина. «Форд». Полиция. Машина затормозила метрах в пяти от ворот.
Отворилась передняя дверца с пассажирской стороны. Выбрался из машины пожилой дядька в серых полицейских штанах и пятнистой куртке без погон и каких-либо знаков различия. Посмотрел на искрящийся солнечный снег и направился ко мне.
– День добрый. – Провел широкой ладонью по коротко остриженной седой голове.
– Здравствуйте, – ответила я.
– Отличная сегодня погода.
– Шикарная.
– Даже тепло на солнце. Гуляете?
– В общем и целом.
– Остановились передохнуть?
– Чаю выпила.
– Да, чай прекрасно.
– Хотите? – Протянула я ему термос.
– Спасибо, я только что. Едва чаю выпил – звонок: женщина, говорят, какая-то рыскает вокруг дома, проверьте, вот я и проверяю, уж извините. Вот, примите удостоверение, пожалуйста.
Он показал удостоверение. Я наклонилась и прочитала имя его и отчество.
– Очень приятно, Сергей Петрович. А меня Катерина зовут.
– Ну вот, Катерина, вы тут прогуливались, воздухом дышали, чаю выпить остановились, а мне забота вышла – ехать, выяснять.
– Не скажу, что совсем без дела тут стою.
– Вот так здрасьте.
– Я хозяев дожидаюсь. Я и в звонок им звонила.
– Да они вроде как не должны быть сегодня.
– А когда будут?
– А чего мы с вами на морозе тут топчемся, я без шапки выскочил, в кабинете забыл. Солнце-то греет, но ветерок пробирает, а в машине у меня тепло, водитель, небось, и спит уже.
У Сергея Петровича было свойство располагать к себе. Он как будто излучал поле безопасности. Домашне-уютное, бесхитростное. Из этого поля не хотелось уходить.
Мы уселись с ним на заднее сиденье их «Форда». Водитель не спал, читал какую-то маленькую потрепанную книжицу. Полицейский приемник бормотал под сурдинку.
– Сегодня точно не приедут, – сообщил Сергей Петрович, – напрасно бы прождали. Вы бы им по мобильному позвонили, справились, когда будут. Уговорились бы.
– Да как же я могу? Я ни телефона их не знаю, ни вообще. Я так, наугад.
И я объяснила ему про мою старуху.
– Мало ли, вдруг люди ее видели. Из окна, к примеру.
Выслушал он меня внимательно.
– В этом доме видеть ее никак не могли, они в отъезде вторую неделю.
– А камеры слежения? Они тут по всему периметру. Вдруг проходила старуха мимо.
– Можно взглянуть, отчего же нет. Вы мне скажите поточнее время, когда она из той машины выскочила. Плюс когда ее малец из автобуса видел.
Он вынул из внутреннего кармана куртки коротенький карандашик и пухлый блокнот, потертый, грязноватый, чудом еще не развалившийся. Нашел где-то там свободный уголок и записал. Когда он писал, то оттопыривал по-детски нижнюю губу.
Водитель вдруг хмыкнул. Чему-то из своей книжки.
– Сейчас подумала, – сообразила я. – Когда старуха пропала, то есть 29 декабря, не было ли у нас, в нашем районе, еще какого-либо происшествия?
– Ох, голубушка, происшествия у нас каждый божий день. – Сергей Петрович щелкнул пальцем по своему пухлому блокноту и улыбнулся. – Ни дня без строчки. То побьют, то подожгут, то дверь взломают, то машину угонят.
– Это не то. Я имею ввиду что-то не совсем ординарное. Не знаю.
Сергей Петрович открыл блокнот и начал его перелистывать. Когда он писал, то оттопыривал нижнюю губу, а когда читал – поднимал брови. И казалось, что он читает свои записи с недоумением.
Бормотало полицейское радио. Водитель хмыкал в свою книжицу.
– Двадцать девятое декабря. Двадцать девятое де. За два дня. До нового. До нового, две тыщи три. Две тыщи три. Надцатого. В двадцать тридцать поступил сигнал. Так. Найден труп молодого человека. Николая Ивановича Кудрявцева. 1994 года рождения. Ай-ай-ай, какой молодой. Найден в тамбуре. В какой вы электричке ехали? Так-так. А в каком вагоне? Еще лучше. Ваша электричка и ваш вагон. Второй тамбур по ходу поезда. В двадцать тридцать, уже на конечной, обнаружен пассажирами труп молодого человека. В красной куртке и синих джинсах, в кроссовках фирмы «Найк». Блондин. Стрижка короткая. Не помните такого?
– Нет.
– Во внутреннем кармане куртки обнаружен студенческий билет. И плеер. С присоединенными к последнему наушниками. Плеер стоял на паузе воспроизведения музыкальной композиции «Снегирь» группы «Контрольный выстрел». Один наушник был в ухе молодого человека, другой – снят. Умер Николай Кудрявцев от потери крови. Предположительно – его ударили ножом в живот. Орудия преступления не обнаружено. Свидетелей нет.
– Это может быть и не связано, – сказала я.
– Вполне, – согласился Сергей Петрович.
– А если связано, то как?
– Не в силах представить.
– Она была свидетелем?
– Возможно.
– В любом случае это как-то мало помогает. Объясняет, но не помогает.
– Не особенно и объясняет.
– Если она видела, то просто могла перепугаться, потеряться от страха в буквальном смысле.
– Видела или не видела, мы с вами, голубушка, не знаем. А если и видела, то что́?
Он спрятал блокнот во внутренний карман куртки. Взглянул на часы.
– Подбросить вас? Куда прикажете?
Разумеется, я нашла в интернете композицию «Снегирь» группы «Контрольный выстрел».
‹ссылка на музыкальную композицию на Яндекс. Музыке›
По мне – ничего особенного. Скачала себе, мало ли.
Я уже улеглась в постель, погасила свет, закрыла глаза и собиралась засыпать, как вдруг поняла, что должна задать вопрос. Был уже первый час ночи, но я не могла терпеть до утра. Я отправила Алле сообщение: «Какая музыка звучала в машине, когда старуха забилась в припадке?»
Ответ пришел утром, в восемь тридцать. Точнее, ссылка. На ту самую композицию «Снегирь» той самой группы «Контрольный выстрел».
Народ, вы не обижайтесь, но комментарии я пока отключаю.
7 января 2013, 23:47
Katerinaa: Была в Москве по газеткиным делам. Ученый родом из нашего городишки; интервью, воспоминания детства, пятое-десятое. На вокзале я оказалась, когда серый чехол должен соскальзывать с черного пианино. Решила послушать пианиста и, может быть, в самом деле познакомиться. Но пианино так и стояло под чехлом. (Почему-то вспомнились составы с зачехленной военной техникой на открытых платформах. Из далекого давнего детства.)
На подставочке по-прежнему белело объявление, что концерт ежедневно с 15:15 до 16:00.
Спросила тетку в буфете, она сказала, что пианист, скорее всего, заболел. Спросила я, кто он и почему здесь играет. Она не в курсе. Я подумала, что где-нибудь в Англии эти выступления в большом зале ожидания над железнодорожными путями стали бы непременно традицией, не прервались бы ни с болезнью исполнителя, ни с его смертью. Всенепременно были бы подхвачены и продолжены. Нашлись бы чудаки.
Но у нас так не будет. У нас возможен только всплеск, короткая вспышка. И вновь тишина и сумерки.
На электричку я не спешила. Решила дождаться той, где встретила старуху. Как будто надеялась встретить ее вновь. Как будто действительно сяду на ту же самую электричку. Как будто повторение возможно.
Жизнь – театр, как было сказано. Во всяком случае – представление. Я взяла кофе, села и наблюдала пассажиров.
На электричку я отправилась загодя, не как в прошлый раз. Чтобы уж точно сесть. Не улыбалось стоять в толпе.
Только я позабыла, что еще длятся праздники. Так что я совершенно спокойно устроилась в том же самом вагоне, на том же самом месте. И с этого места уже наблюдала прибывающих пассажиров.
Электричка в конце концов тронулась.
Мне всё казалось, что должно что-то произойти, что-то для меня значимое. Я прислушивалась к разговорам. Вглядывалась в лица. Весь мир бормотал и покачивался, бормотал и покачивался. В вагоне было душно, я постоянно проваливалась в сон.
Уже после Пушкино я разглядела женщину. Ее лицо показалось мне знакомым. Она ехала в этом же вагоне, в этой же электричке, тогда, 29-го. Совершенно точно. Как и тогда, она сидела с вязанием, и свитер, который 29-го был едва начат, еще и не распознавался как свитер, сегодня, в седьмой день нового года, близился уже к завершению. Место возле женщины оказалось свободно, и я пересела к ней.
– Здравствуйте, – улыбнулась я ей.
Она взглянула на меня удивленно, но ответила:
– Здравствуйте.
– Мы с вами 29-го, перед Новым годом, этой электричкой ехали. Вы меня не помните? Я там, возле старухи, сидела.
– Не помню.
– Вы, наверно, тогда с работы ехали.
– Я и сейчас с работы еду, я по сменам работаю.
– Она пропала. Старуха. Возле которой я сидела.
– Не помню, извините. Я на людей особо не смотрю, я на работе от людей устаю. Вязанием себя развлекаю.
– Да, тогда вы тоже вязали. Как раз начинали этот свитер.
– Я, правда, думала, что я жилет начинаю. Но передумала.
– Красивый.
– Спасибо.
Речка. Дорога. Огни машин. Поезд подходил к моей станции.
Привокзальная площадь. Платформа.
На меня нашло оцепенение. Машинист объявил станцию и открыл двери. Вагон почти совсем опустел. Вошли несколько человек и принесли с собой холодный воздух.
– Следующая станция… – сказал машинист.
И объявил отправление.
Помедлил и затворил двери. Поезд тронулся.
Он увозил меня от дома. И я была бы не прочь, если бы он увез меня как можно дальше. Мы бы ехали и ехали, и сутки, и двое, и десять лет. Правда, Земля маловата для такого путешествия. Во всяком случае, я сделала то, о чем много раз думала, подъезжая к своей станции: поехала дальше. Туда, не знаю куда.
Поезд шел. Одна станция. Другая. Спицы мелькали в руках женщины. Не отвлекаясь от вязания, она вдруг тихо сказала мне:
– Видите мужчину? Только что вошел. Через проход от нас. Третье отделение от двери. Да. Ничего, он на нас не смотрит. Я его вспомнила. Он тоже ехал 29-го. Вошел на этой же станции. Сел возле вашей старухи.
– Вы же говорили, что не помните старуху.
– А сейчас вспомнила. Его увидела и вспомнила. О чем-то они говорили. Но, правда, я недолго наблюдала. Мне уже выходить надо было, у меня с собой торт, куча подарков, на работе к Новому году надарили, и я мимо них со своими коробами, и что-то у меня выпало из сумки, какая-то мелочь, а мужчина этот подхватил и передал. Потому и вспомнился. 29-го. Точно. Под Новый год.
Женщина свернула вязание, спрятала в сумку. И, пожелав мне всего хорошего, поспешила к выходу. Поезд уже тормозил у ее платформы.
Мужчина сидел один в своем отделении. Я поднялась и перешла к нему. Села напротив.
Лицо доброжелательное, мягкое. Седые, редкие волосы. Одет аккуратно. Заметил мой взгляд. Я улыбнулась, и он улыбнулся в ответ.
– Вы извините, – сказала я. – Но мне показалось, я вас где-то видела.
– Всегда возвращаюсь этой электричкой.
– Нет. Где-то, наверно, в другом месте.
– В этом районе живете? Рентген никогда не делали?
– Вы в больнице работаете?
– Рентгенолог. Так что, если бывали.
– Точно. Скорей всего. В больнице.
– К нам со всего района направляют.
– Да-да.
Про старуху я его не спрашивала. Может быть, это было предчувствие, я не знаю. Но у меня язык не поворачивался спросить. Я улыбнулась, вынула из кармана свой плеер.
Его взгляд стал внимательным.
– Вы только слишком громко не включайте.
– Не включать?
– Нет, вы слушайте на здоровье, но не так громко. Знаете, как иногда? Вроде бы через наушники, но так громко, что и все вокруг слышат. Это тяжело. Хочется тишины.
– Да, – сказала я. – Но у меня наушники не работают. Я просто включу тихонько.
– Нет, простите, вы же понимаете что. Вы же разумный человек.
Но я уже включила плеер. Не скажу, чтобы очень громко.
Композиция «Снегирь», группа «Контрольный выстрел».
Я тогда именно поняла, что вдохновение – это волна, она тебя подхватывает и несет, тут главное – удержаться.
– Будьте любезны, – произнес он чрезвычайно вежливо. – Выключите.
Глаза его заледенели.
Я улыбалась и слушала.
ТаАААммм-парРРАаам!
В принципе, он мог встать и пересесть, свободных мест в вагоне – полно. Но это «таАААммм-парРРАаам!» как будто вцепилось в него и требовало ответа. Он уже собой не владел.
– Выключите! – потребовал он звенящим голосом. – Немедленно.
Я не обращала внимания. Я его игнорировала. Тогда он раскрыл молнию на своей простой черной сумке, поставил сумку к себе на колени, повернул, чтобы я видела, и сказал:
– Видите?
Покачивался свет в узком, длинном лезвии.
Нож.
Я тихо поднялась и ушла в тамбур. Двери за мной сомкнулись. Я стояла у ледяной железной стены. В руке моей разрывался, громыхал плеер.
ТаАААммм-парРРАаам!
В тамбуре курил подросток. Он не обращал на меня внимания.
Двери откатились, и в тамбур вошел мужчина. Сумка висела у него на левом плече. Молния на сумке – раскрыта. Он передвинул сумку на живот, запустил в нее правую руку и, видимо, ухватил там нож. Он не сводил с меня заледеневшего взгляда.
Я выключила плеер. И стал слышен грохот колес.
Мы стояли друг против друга. Мужчина не сводил с меня взгляда. Поезд сбавлял ход.
– Извинись, – тихо и спокойно сказал мужчина.
– Извините, – сказала я.
– «Извините, пожалуйста».
– Пожалуйста. Извините, пожалуйста.
Электричка встала. Двери отворились на белую, заснеженную платформу. Мужчина помедлил и – выскочил из дверей.
– Осторожно… – сказал машинист.
Подросток стоял, прилепившись к стене. Сигарета дымилась в его белых пальцах.
Комментарии отключаю. Всё равно не смогу отвечать. Не сейчас.
8 января 2013, 03:15
Katerinaa: Допустим, что малец именно ее видел в ледяное окошко. Через неделю после того, как она вырвалась из их машины. Оба события произошли недалеко от одной и той же станции. Где-то там она и скрывается. Нашла убежище. Где-то недалеко. Всё тот же треугольник.
Не может ведь она не есть, не пить в своем убежище? Рюкзак у нее вряд ли волшебный, вряд ли как раскроешь, так и пирожок выскочит. Сколько-то денег у нее с собой было. Хотя бы хлеб должна брать.
У платформы возле станции за небольшим рынком стоят пятиэтажки. Магазинчики в первых этажах. Всё как везде.
Я отправила Мите сообщение. Под утро он прислал мне старухину фотографию. Летнюю. Лицо взято близко, это хорошо. Пятна света сквозь листву. В фотошопе я слепила объявление.
‹ссылка на изображение: лицо старухи в солнечных бликах; над снимком надпись: «29 декабря пропала Дарья Сергеевна Кащина 1925 года рождения, одета в черную мужскую пуховую куртку, серый платок, черную длинную юбку, валенки с галошами, при ней был школьный темно-синий рюкзак. Родственники готовы вознаградить за любую информацию. Номер телефона…»›
Уже не ложилась. Посмотрела какой-то дурацкий фильм с мордобитием. Сварила кофе.
С утра, еще впотьмах, побрела на остановку. Народу мало, дни тянутся праздничные, окна в домах почти все черные, слепые. Подошел пустой автобус, влезли мы, несколько человек, и покатили к станции. Всё так медленно, сонно. И что удивительно, мне и не хотелось спешить. Я была в ладу со временем, сумерки меня не тяготили. Рассеянный электрический свет, медлительность кондукторши – всё казалось правильным. И даже необходимым. Как будто я исполняла давно уже написанный, продуманный и отлаженный сценарий. И спешить как раз нельзя. Нужно тщательно исполнить каждый шаг. Расслышать каждый звук. Ничего не пропустить. И только тогда путь приведет меня к цели.
Такое чувство.
Но главное – я оставалась спокойна.
Приехали к станции, развернулись. Отворились ветхие двери. Я спрыгнула на занесенную белым ночным снегом площадку. Поднялась на платформу. Дожидаясь электрички, смотрела на запад. Кремль не видела, но видела красное зарево, в самую темную ночь оно стоит над этим городом.
Подошла электричка. Я оказалась совсем одна в вагоне.
Зябко, мигала лампочка. Можно было перейти в другой вагон, но мне это казалось неправильно.
Через десять минут я вышла. И вагон укатил совершенно пустой.
Я сошла с платформы и побрела к домам. Кое-где уже горел в окнах свет, открывались магазинчики. Рынок стоял заснеженный, безлюдный. Крутилась между рядами собака. Я лепила свои объявления у подъездов, у входов в магазины. На остановке. На платформе у билетной кассы. На столбах у помойки. У детской площадки на деревьях.
Уже рассвело, когда я закончила. Взяла в ларьке кофе в пластиковом стаканчике и выпила, обжигаясь, горькую жидкость. Дождалась электрички, поехала к себе. В автобусном расписании оказался перерыв, так что я поймала такси и покатила, как королева.
Дома стянула куртку и обувь, прошлепала в комнату, забралась на диван под плед.
Был сон. Как будто бы море, штиль, туман, я в маленькой лодке, берегов не видно, наклоняюсь через борт, хочу заглянуть в морскую глубину, но не успеваю – раздается звонок, я выныриваю из сна.
Номер незнакомый на мобильном.
– Здравствуйте, – просипела я в трубку.
Молчание.
– Я вас слушаю.
Молчание.
Отбой.
Я подождала и решилась позвонить по определившемуся номеру.
Гудки, соединение, и вновь – молчание.
– Простите, – сказала я самым своим вежливым голосом, самым доброжелательным и ровным тоном. – Мы очень волнуемся о Дарье Сергеевне. Если бы вы только могли нас успокоить. Вы ее видели?
И – после молчания пискнул тоненький девчоночий голосок:
– Да.
– Она жива?
– Не знаю.
Помаленьку, полегоньку, по слову вытянула из девчонки всю историю.
Как будто стояла она со своими подружками на лестничной площадке у батареи.
– Когда стояла?
– В шесть.
– Темно уже было на улице?
– Нет еще.
– А сейчас темно в шесть, зима, только-только день начал прибывать.
– В три, наверно.
– До Нового года? Или после?
– Не знаю. Я не помню уже.
Выяснилось, нарисовалось вот что.
На третьем этаже живет у них одиноко старушка, маленькая и горбатая, ей сто лет или тыща, никто не знает, все умирают, а она живет. И вот эта старушка сколько-то дней назад, не утром, не днем, но и не совсем вечером, вошла в подъезд не одна, а с другой старушкой, которая шла за ней тихо и покорно. На девочек, когда проходила мимо них, покорная старушка взглянула жалобно. Так, что девочки смолкли и тихо проводили ее глазами. Бедная старушка была заколдована, своей воли у нее не оставалось ни капли, она шла во власти колдуньи.
Девочки слышали, как открывается на третьем этаже дверь, слышали шорох шагов, щелчок замка.
Больше они жалкую старушку никогда не видели. И никто не видел.
– А рюкзак был при ней?
– Был.
– Темно-синий?
– Темно-синий. Или черный.
– Или розовый?
– Нет.
– Адрес скажи мне, пожалуйста.
– А вы награду дадите?
– Что ты хочешь?
Молчание.
– Я не знаю.
– Говори адрес.
Опять же отключаю комментарии. После поговорим. Сорри.
9 января 2013, 23:50
Katerinaa: Казалось, что вчерашнее утро повторяется до мельчайших подробностей.
Тот же час, те же мертвые окна, тот же тихий автобус и тот же вагон электрички, и всё, кажется, повторяется, всё, но я вижу, замечаю, чуть больше, чем вчера.
Я замечаю шрам на руке кондукторши. Откуда мне знать, был ли он вчера, вчера я его не видела. Я замечаю, что одно стекло в вагонном окне странного зеленоватого цвета. Было ли оно таким же вчера? Не знаю, не видела. Я замечаю надпись на стене в тамбуре:
«Если ехать дальше лень, дерни эту» (последнее слово было затерто).
Была эта надпись вчера? Я не видела. Я как будто заново читаю одну и ту же книгу или пересматривают фильм и удивляюсь своей первоначальной слепоте. Если бы мне пришлось жить мою жизнь заново, я бы точно прожила ее точно так же, но по-другому, – другое бы увидела, всё, что в первый раз пропустила.
Та же платформа и те же дома, только утро теплее, да, это точно не вчерашнее утро, снега нет, но кажется, что вот-вот пойдет. Снежинка попадает сослепу тебе в лицо. Может быть, единственная снежинка, слетевшая с неба в это утро.
Я уже знаю, где нужный мне дом, видела на спутниковой карте. Каким неживым кажется на ней мир. На ней нет именно подробностей: шрамов, надписей, теней, шагов, голосов, лиц.
Обычная пятиэтажка. Обычный подъезд. Я знаю код, волшебное сим-сим.
Площадка, где стояли девчонки. Я устраиваюсь на подоконнике и готовлюсь ждать. Услышать поворот замка, шаги. Увидеть горбатую старушку. Она пойдет за хлебом, за картошкой, за чем-нибудь, что необходимо всякому живому существу, даже колдунье. Я не верю в колдунью, это всё детский мир, я живу в другом. Но все наши миры пересекаются.
Дом просыпается. Тянет сигаретным дымом с верхних этажей. Пахнет жареной картошкой. Хлопает где-то дверь, и я улавливаю обрывок смеха.
Я увидела ее за окном, на посветлевшей уже улице.
С самого раннего утра, значит, выходила, все магазины проверила, обследовала, развлеклась. Купила маловато, один пакет в руке. Прозрачный: хлеб виден и конфеты, грамм двести. Скудно живет девчоночья колдунья, наворожила бы себе чего побогаче.
Поднимается тяжело.
Ну вот, показалась.
– Здравствуйте, – я сползла с подоконника, улыбнулась. – Меня Катя зовут, я вас здесь дожидаюсь, за Дарь Сергевну хочу спасибо сказать, что приютили, как она там?
Молчала. Смотрела серыми зимними глазами.
– Митя, внук, совсем уже отчаялся, вы бы сказали ей про Митю, скажите, что Митя голову от горя потерял. Митя в командировке сейчас, а я вроде как вместо него. Как она там?
Крикнули наверху: «Коооля!»
– Жива она хоть?
– Жива.
Вымолвила. Наконец.
– Себя помнит?
– Что-то помнит.
– А что Мите-то не позвонили?
– Не говорила она про Митю. Кто он?
– Внук, я же говорю, внук.
– Молодой?
– Молодой.
– Она не говорила.
– Где вы ее подобрали?
– На почте сидела. Им закрываться, а она сидит.
– В полицию надо было позвонить.
– Зачем? Для чего?
– Вы же не знаете ничего про нее. Может, она свой адрес забыла, а родные с ума сходят.
Молчала, губы поджав.
Думала наверняка и про адрес, и про родных. Но согрешила – так не хотела отпускать, так хорошо ей вместе с ней. Разговоры разговаривать, чай пить, время коротать.
Что одиночество с человеком делает.
Snezanna: Но вы ее видели? Да? Как она?
Katerinaa: Видела. Всё нормально.
Snezanna: Какая же вы умница, так всё догадаться, невероятно. Можно об этом статью в вашу газету написать. Несколько статей, с продолжением.
Katerinaa: В газету Надя К. пишет, а ей такие темы не катят.
Dimon: Развлекли.
Katerinaa: На здоровье.
Dimon: Диван приобрели?
Katerinaa: Завтра.
Иллюзион
Предисловие
2011-й. Январь. Первый рабочий день после Нового года, темный и сырой. Как он прошел – не помню. Вечером в электричке было жарко, полно народу, белый люминесцентный свет мерцал и дрожал. Передо мной сидели мама с дочкой лет семи-восьми, они накупили деревянных игрушек, наверно, такие делали в старину: круг с курочками, клюющими зерно, кукла с веревочными ногами и тяжелыми деревянными башмаками. Кукла качалась на пружинке и улыбалась нарисованной улыбкой, безмятежно-счастливой.
Машинист объявил, что поезд не останавливается на станциях Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская.
– Со всеми остановками, – вздохнула девочка.
– Нет, – возразила мама.
– Со всеми, – не сдавалась девочка.
И я подумала, какая глупая девочка, но девочка оказалась умная, поумнее нас. Они вышли в Мытищах. И потому Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма и Мамонтовская для них не существовали – были уже после того, как они покинули электричку, после Мытищ. Да, большая часть мира для нас не существует, не имеет значения. Видимого значения, по крайней мере.
Чуть впереди и через проход от нас сидел парнишка. Сидел ко мне спиной, но иногда поворачивал лицо, так что я могла его разглядеть. И сразу было ясно по его лицу, что он слабоумный. Не знаю, почему это сразу так ясно. Кажется, что на его лице не было выражения. Не было усталости, не было радости, не было мысли. Даже в деревянном лице куклы было выражение, художник его худо-бедно изобразил.
Поезд шел, я по большей части смотрела на девочку, как она играет, как стучат клювами курочки в наклеенное на деревяшку пшено, как улыбается и качается на пружине кукла. Затем я устала от них, отвлеклась, перевела взгляд и увидела чуть впереди через проход от нас руку. Это была рука глупенького. Он закинул ее за спинку сиденья и, не глядя, водил рукой по плечу сидевшего к нему спиной пассажира. Рука трогала спящего пассажира за плечо, гладила, она была как бы отдельно от глупенького, жила своей жизнью. Но пассажир проснулся, дернулся, обернулся, увидел чужую руку и крикнул:
– Руку убери!
Рука мгновенно исчезла.
Еще несколько раз он забывался и закидывал свою руку, и она гладила пассажира по плечу и после окрика исчезала. В окрике был испуг, гадливость, ненависть. Как будто бы не рука человека коснулась пассажира, а паучья лапа. Боюсь, что и я так бы вскрикнула:
– Руку убери!
Глава 1. Коричневое лицо
Я вижу свое лицо на фотографии и не знаю, всегда ли я была так сосредоточена и грустна. Лицо на фотографии слишком даже с выражением – замкнутое, печальное лицо. Надеюсь, что оно не всегда такое было, что бывало и веселым. Но фотографии со смеющимся лицом нет, а есть только эта. Она вообще одна-единственная из того времени. И я даже не знаю точно, сколько мне здесь лет. Семнадцать или восемнадцать.
Я без очков, глаза видят, но плохо, кажется, что глаза черные из-за огромных зрачков, да и качество фотографии не бог весть какое, чтобы передавать оттенки. Черно-белая, небольшая, вся умещается на ладони.
Я пытаюсь понять, могла бы я такая понравиться какому-нибудь мальчику. Вряд ли. Он бы, скорей всего, испугался этого моего сосредоточенного лица, безумных, ничего не видящих глаз. И все знакомства, которые все-таки состоялись в моей жизни, начинались не с этого выражения лица. Жаль, жаль, что нет другой фотографии, я бы смотрела на нее.
1981-й. Моя первая осень в Москве, далеко от родительского дома. В то время я писала домой часто. Письма не сохранились, но помню, что почерк у меня был тогда детский и что в каждом буквально письме я описывала погоду. Не знаю, можно ли было доверять этим письмам даже по части погоды. Не уверена. Что касается внутренней жизни, то в них она не отражалась. Лживое зеркало эти письма, всегда бодрые и торопливые.
Я возвращалась из института троллейбусом номер три, от Новослободки. Мужчина в троллейбусе спросил, где я учусь. Я честно ответила, что в институте инженеров железнодорожного транспорта. До сих пор, если я знакомлюсь с кем-либо и этот некто – кто угодно – спрашивает, как меня зовут, где я работаю, где живу, замужем или так и есть ли детки, я отвечаю на все вопросы честно и прямо. Как будто мне вкололи сыворотку правды. И незнакомец узнаёт обо мне, что я не замужем и что детей мне Бог не дал. Тогда, в третьем троллейбусе, вопрос о детях не возник, я сама была ребенок.
Я отвечаю правду на вопросы, но ведь не всегда люди спрашивают, бывает, что и сами догадываются. В таком случае я всегда соглашаюсь с их догадками. – Вас дома ждут. – Ага. – Муж. – Точно. – Наверно, военный. – Ну да.
Так что, с одной стороны, не могу соврать, а с другой – предоставляю полную свободу обманываться.
Тот мужчина в троллейбусе был очень загорелым, не легким курортным загаром, а слишком темным, рабочим. Глаза у него были светлые на фоне коричневого лица. Он ничего не предполагал. Получил на свои вопросы правдивые ответы: живу в общаге, учусь на первом курсе, отец служит в Казахстане. Почему он вообще ко мне обратился, мне сейчас сказать трудно. По всей видимости, наши взгляды встретились совершенно случайно. Мы просто увидели друг друга, так бывает.
Он назначил мне свидание в Сокольниках в восемь вечера.
Пока я в общаге искала утюг, гладила блузку, чистила зубы, красила ресницы перед крохотным зеркальцем, пока ехала в третьем троллейбусе до Новослободки, а от Новослободки, под землей, до Сокольников, я уже мысленно вышла замуж за этого коричневого парня и родила ему сына, и сын этот был со мной в метро, и я гладила его светлую голову, и все смотрели на нас и улыбались.
В восемь уже темнело и загорались фонари. Я вышла из метро и напугалась, что не узна́ю его. Возможно, что я отличаюсь в этом отношении от других людей, но я не умею запомнить лицо человека с первой же встречи. Увидев человека во второй раз, я всегда с удивлением отмечаю, что он не такой, как мне представлялось. Образ, более-менее отвечающий реальному человеку, складывается, может быть, при третьей-четвертой встрече, и то я не уверена насчет цвета глаз. Для цвета глаз нужна особая близость.
Видимо, я всё же не особенно отличаюсь от других людей, потому что мужчина, стоявший у метро, тоже смотрел на меня неуверенно. Неуверенно и выжидающе. Наконец он решился и приблизился. – Привет. – Привет.
Кто знает, меня ли он ждал на самом деле, его ли я видела в троллейбусе номер три? Как бы то ни было, мы отправились вместе по асфальтовой аллее в парк. Небо было еще светлым, а на земле сгущались сумерки. Цветов при мужчине не было. Я представляла, что цветы должны быть, но их не было, и я решила тут же, что и не обязательно. Это еще одна моя особенность – соглашаться с тем, что происходит, не спорить с реальностью и ничего от нее не требовать. Другие лучше знают, как оно всё должно быть, и я им покоряюсь.
Широкая аллея повернула, сузилась, стала глуше, мы невольно замедлили шаги. Осторожно он взял меня за руку. Я чувствовала, что моя рука лежит в его как мертвая, так я вдруг испугалась, что осталась одна с совершенно незнакомым мне мужчиной в глухом углу огромного пустынного парка. И никто не знает, где я.
– Сядем? – предложил он. И мы сели на лавку, освещенную грустным электрическим светом. Этот свет преображает вещи, и мне показалось, что брюки моего незнакомца лоснятся от старости, а лицо у него скорее серое, чем коричневое. Серое, нездоровое и гладкое, как будто бы борода на нем не растет в принципе. За руки мы уже не держались, я вынула свою руку, чтобы расправить плащик, когда садилась.
Он чуть придвинулся. Я не шевельнулась. Он накрыл мою ладонь своей, поймал.
– О чем думаешь? – спросил он.
– Что ты – маньяк.
Он посмотрел на меня растерянно. Понял, что не шучу. И тихо разжал пальцы, освободил мою ладонь. Мы сидели, молчали, и я чувствовала, что он меня боится. Боится, что испугаюсь чего-нибудь – шороха, кашля – и заору. Наверно, он решил, что я сумасшедшая, параноик. Я осторожно поднялась с лавки и отправилась по узкой аллее, окруженной глухими зарослями. Он остался на лавке. И посейчас там сидит – в моей памяти. Человек с коричневым лицом.
Глава 2. Ой – мама
Мы ехали в девятнадцатом автобусе от Марьиной рощи, я и Рита, моя соседка по комнате. Уже была зима, ехали мы к общаге, стояли на задней площадке, окна плакали, а моя соседка читала мне такие стихи: «Языки, словно змеи, ласкались в глубине двуединого рта».
– Правда, здорово? – спрашивала Рита.
– Да, – отвечала я неуверенно.
Автобус потряхивало, за туманными окнами плыли огни, глаза моей соседки светились, что-то она такое понимала в этих строках, чего я по невинности никак не могла уловить. Она была причастна к этим стихам, а я – всё еще нет.
– Да, – соглашалась я, – здорово.
Вот бы почувствовать эти стихи так же, как она.
Над пивзаводом поднималась черная туча птиц, автобус уже шел по Огородному, на котором и стояла наша общага. На одной стороне – общага, жилые дома с магазинами в первых этажах, детским садом и кафе-мороженым, а на другой – пивзавод, мясокомбинат, молочноперерабатывающий завод, экспериментальная кондитерская фабрика. Из окна нашей комнаты виднелась Останкинская башня, она качалась под ветром и скрывалась в опускавшихся на город тучах. Слышалась железная дорога. Узким проулком между высоченными каменными стенами пивзавода и мясокомбината можно было пройти до станции Останкино Октябрьской железной дороги. Днем – не страшно.
Я проскакивала эту щель, западню, пропахшую гнилью, страшась дворовых собак. Проскакивала, чтобы доехать до Ленинградского вокзала, перейти площадь, сесть на Казанском на поезд и ехать до города Мурома, в котором жила тогда моя бабушка. И все мои поездки туда были поездками в прошлое, в мое несуществование, потому что в том дальнем прошлом меня еще не существовало. Москва тоже для меня была прошлым, но об этом чуть позже.
В Муроме стоял деревянный дом на четыре семьи. Для каждой семьи огород и сад, и такое чувство, что живешь совсем отдельно ото всех. Печка, вода на колонке, туалет во дворе, поленница возле сарая прикрыта толем, от дождей. Старинная жизнь, застывшая в другом времени, ушедшая на дно. На самом дне течение времени замедляется, на поверхности оно бежит, а чем глубже, тем спокойнее, так что я в Муроме оказывалась на самой глубине, дай бог выплыть. Я ложилась на койку с железными шишечками и слушала радио со стеклянной шкалой, брала чашку из буфета, черную, с рыбкой на боку, я разглядывала черно-белые снимки в альбоме. Как-то раз я проснулась ночью от голоса Левитана, он читал сводку Совинформбюро. Я расширившимися зрачками глядела в черное окно и верила, что проснулась прямо во время войны, ушла в ту глубь. Собаки лаяли издалека. Я догадалась, что Левитан говорил в каком-то фильме, у соседей работал телевизор. Не всё ли равно? Я была в том времени, я вступила в его воды.
И старину Москвы я узнала в Муроме. Мой маленький брат был с нами одно лето. Он просил меня почитать сказку перед сном, я читала: «…Петровский замок, мрачно он…», – отрывок из школьной хрестоматии для пятого класса. Мне нравилось повторять эти слова, а ему нравилось слушать, он засыпал под мой размеренный тихий голос, в темноте, на самом дне времен.
Ездила я в субботу вечером, чтобы утром в понедельник вернуться, успеть к первой паре. Не слишком часто, но ездила. В Муром – с московскими гостинцами, колбаса и конфеты, обратно – с бабушкиными, плюшки, которые я называла поцелуйчиками, варенье вишневое, соленые огурцы.
Итак, ноябрь. И поезд в Муром. Светлый плацкартный вагон.
Читать я не могла, меня укачивало за чтением, ехали мы уже давно, проводница разносила только что поспевший чай. Я разорвала бумажную обертку и бросила сахар в стакан, и стала помешивать и постукивать по твердому, неподдающемуся рафинаду. От стакана валил пар.
– Так что? – сказал мне строго молодой человек. – Будем знакомиться?
Он сидел напротив со своим чаем, но сахар бросать в него не спешил. Говорил он строго, но смотрел весело. Я чувствовала себя не слишком уютно, но на вопросы его отвечала.
– Как тебя зовут?
– Лена.
– И сколько же тебе, Лена, лет?
– Семнадцать.
– Давно живешь на свете. Куда едешь?
– К бабушке.
– А в Москве что?
– Учусь.
– Я тоже в Москве учусь. После армии. Заканчиваю, последний год, пишу диплом, распределение уже знаю, Урал. Поедешь со мной на Урал, Лена?
– Я на первом курсе пока.
– Это я понял. В общаге живешь?
– Да. У вас чай остынет.
– Говори мне «ты», Лена, а чай я горячий не люблю. Расскажи мне, что ты любишь.
– Мне выходить скоро.
Я вышла в Муроме, а он поехал дальше, в Казань. Забавно, я шла от вокзала к Казанке, так назывался наш район, а поезд уносил моего попутчика в Казань. А выезжали мы из Москвы с Казанского вокзала. Казанский Бермудский треугольник. И бумажная иконка Казанской Божьей Матери стояла у бабушки на буфете.
В декабре пришли холода. Выяснилось, что я выросла из купленного летом новенького зимнего пальто. Лет до двадцати я продолжала расти.
Еще не Новый год, но уже близко. Пахло не мандаринами, как в детстве всегда пахло под Новый год, но апельсинами. Их немерено завезли в магазинчик на Огородном, мы их брали и ели каждый день, апельсиновая зима была, со шкурками на полу, на подоконнике и даже в постели. Удивительно, только я не разлюбила ни вкус апельсинов, ни запах. Жили мы как в войну при затемнении. Страшно похолодало, ветер дул в наше окно. Щели мы забили, но ветер пробирался и пробирал, так что мы придумали завесить окно синим казенным одеялом, прибили к раме крохотными гвоздиками, которыми тогда забивали посылочные ящики. И стало теплее, хотя и без вида из окна.
Я читала на своей койке, включив лампу. Просунулась голова в дверь.
– Ленка, а тебя ищут.
Голова исчезла, вошел незнакомец, сказал строго:
– Здравствуй. У тебя ночь?
Я книгу закрыла.
– Здравствуйте.
– Мы на «ты».
Я смотрела неуверенно. Где-то я слышала его голос. Лицо казалось незнакомым.
– Ты меня не узнаешь, что ли? Тук-тук, тук-тук, – стучат колеса.
Парень из поезда?
– Узнаю, – сказала я осторожно.
– Ну и хорошо. Бокалы у вас есть? Или из стаканов будем пить?
И он поставил на стол шампанское. «Советское». Сладкое. Я его не любила.
У меня от шампанского болела голова, но отказаться я не решилась. Бокалов не было, как и стаканов, так что я достала чашки. Он тем временем обошел нашу комнатушку. Три койки, шкаф один на всех, стол у стены ближе к выходу, три тумбочки, три книжные полки. Шкаф у нас был развернут лицом в комнату, спиной к двери, он отгораживал что-то вроде прихожей.
Мы уселись за стол, и он вытянул пробку, бережно и осторожно. Я и не знала, что так можно, без грома и пальбы, с легким всего лишь хлопком и тонким вьющимся из горлышка дымком. И разливал он шампанское так же бережно и нежно, без пены.
– Давай, – сказал он. – До дна.
И проследил, как я пью.
– Ну вот, – заключил строго, – порозовела, оживилась.
– Вы написали диплом? – спросила я.
– На брудершафт с тобой, что ли, выпить?
– Нет, спасибо, я не хочу больше.
Мы помолчали. К стенке было приткнуто радио, и он нажал кнопку, радио что-то воскликнуло, но ничего не успело объяснить, он выключил. Спросил:
– Чья это картина на стене?
– Крамского. «Незнакомка». Репродукция.
– Я не про автора. Кто прикнопил?
– Девочка. – И я указала на койку этой девочки.
– Романтично, – сказал он. И, помолчав, спросил. – А где она?
– Дома. Она редко здесь ночует. Она в Московской области живет.
– Далеко?
– Загорский район.
– С ума сойти. Сколько же она на дорогу тратит? Зачем?
– Скучает по своим.
– Романтичная барышня. А вторая чем интересна?
– Стихи наизусть читает.
– Не может быть.
– Вот, например, в очереди стоит и читает, чтобы отвлечься. Не вслух, конечно.
– Романтичные барышни.
Помолчал, потрогал кнопку на радио, но не включил.
– Ну, а ты?
– Я в «Иллюзион» хожу.
– Что такое «Иллюзион»?
– Кинотеатр. Старое кино.
– Романтичные барышни, – повторил он в который уже раз. И налил нам в чашки еще шампанского.
– Я не хочу.
– Я тоже. – Он поднял чашку. – Но выпить надо. Выдохнется.
Мы стукнулись чашками и выпили.
– А поесть что у тебя?
– Колбаса.
– Тащи.
– Хлеба нет. Могу сходить, одолжить.
– Не суетись.
Он жевал колбасу и запивал шампанским.
– Мне показалось, в поезде, тогда, что ты постарше.
– В феврале мне будет восемнадцать.
– Да. Но выглядишь ты на тринадцать, не больше.
– Это я подстриглась.
– Да, точно, стрижка молодит. Чувствую себя отвратительно. Как будто ребенка спаиваю.
В дверь просунулась голова.
– Ленка, ты лекции вчера писала по матану?
– Нет.
Голова исчезла.
– Что ж ты лекции не писала? – спросил он строго.
– У меня очки разбились, я не вижу ничего на доске.
– Очки надо заказать. – Он посмотрел на часы. – Пора.
Встал, ушел за шкаф, надел там свою шуршащую куртку. Дверь затворил за собой тихо, бережно. Я посидела, выждала, чтобы он успел пройти весь долгий коридор до лифта, и поплелась из темной комнаты в общую, на весь этаж, кухню. Белый свет из кухонного окна ослепил, напомнил, что день на дворе.
Я включила горячую воду. Смотрела, как она течет и дымится, и думала примерно следующее.
Вот интересно, почему он сюда притащился, симпатичный парень, неужели у него девушки нет, или поссорился, или совсем расстался, а может, я ему и правда понравилась, там, в поезде, зачем я только подстриглась, дура, еще очередь сидела почти час, а парикмахерша ножницы роняла, два раза.
Я оставила воду и рванула из кухни к лифту, лифт был занят, и я покатилась вниз по лестнице, вылетела на улицу, на обледеневший тротуар.
Парень стоял на остановке, ждал автобус. В темно-синей куртке, стройный, симпатичный. Он меня не видел. Я так и не решилась к нему подойти. Пришел автобус и увез его. И тогда я заметила, что я в тапочках и в тонком свитерке и что дует и пробирает морозный ветер.
У лифтов стояла толпа, и я потащилась по лестнице, марш за маршем, к себе, на восьмой этаж. На площадке стояла знакомая девочка, сигарета тлела в ее пальцах.
– Слушай, – сказала я, – дай закурить.
– А ты умеешь?
– Нет.
Курить она меня выучила так:
– Смотри. На вдохе – как будто говоришь «ой». На выдохе – «мама». Вдох – «ой», выдох – «мама». Ой – мама, ой – мама.
Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Кружилась голова.
Глава 3. Лучшие книги
Лучшие книги были в Муроме.
«Том Сойер». Его я читала летом, на лавке под яблоней.
«– Том!
Нет ответа».
«Детство» Николеньки, тонкая книжка, твердый переплет, плотные, чуть пожелтелые листы. Она стояла в терраске на этажерке с журналами «Квант» в одном тесном ряду. Промерзала, отогревалась, пахла серым, подтаявшим снегом. Я забирала ее в дом и читала под светом странной лампы на очень высокой ножке под крохотным железным колпаком ярко-красного цвета. Колпак надевался прямо на лампу и накалялся так, что можно было обжечь пальцы.
Третья лучшая книга – «Пиквикский клуб», я ее купила зимой, в Москве, в «Букинисте», привезла с собой в Муром, читала возле печки. Дверца была приотворена, я читала и наблюдала пламя. Так что в «Пиквикском клубе» на каждой странице есть наша облупленная, беленая голубоватой известкой печь и отсветы пламени, и перестук круглых часов на буфете. И детская фотография моей мамы.
В «Детстве» совершенно определенно написано про вкус чая, который я пила за чтением, грузинский, номер тридцать шесть, и про мою задачку по математике там есть, которую я никак не могла решить. Пришла соседка, сбила с валенок снег, села на край дивана у самой двери, тоже думала над моей задачей и ничего не надумала.
В «Томе Сойере» трепещут тени от яблоневой листвы, на страницах, где они были на острове, и все думали, что они мертвые, а они были живые в своем мальчишеском раю.
В Москве в семнадцать лет я читала Достоевского. «Преступление и наказание». То, что задавали еще в школе. Читала как в первый раз. И Москва казалась мне местом действия. Петербургские улицы оказались в Москве. Раскольников жил где-то в Марьиной роще. Лекции кончались, я шла от МИИТа и знала, что он следует за мной, погружен в свои лихорадочные мысли, я заражалась его лихорадкой, у меня горел лоб. Я оборачивалась и почти что успевала его заметить, но встретиться взглядом – никогда. Я слышала его мысли.
Удивительно, меня преследовал человек, который понятия не имел, что он меня преследует, понятия не имел о моем существовании, да и сам не существовал. Хотя я-то уверена в существовании вымышленных героев. Они существуют для меня с гораздо большей определенностью, чем те миллиарды человек, о которых я не имею ни малейшего представления. Я лишь знаю, что они существуют. Но кто они? Я не могу вообразить их лиц, их занятий, их образа мыслей, забот, их боли. Только в самом общем, общечеловеческом, плане могу. Но не конкретно, не так, чтобы все эти миллиарды стали живыми для меня. И точно так же я не существую для них. И никогда не буду существовать. Как будто бы и вовсе не была на этом свете.
Воображаемый герой Раскольников занял мои мысли до такой степени, что я чувствовала его живое присутствие. Он шел той же улицей, по которой и я шла из института. Я могла бы его увидеть, если бы оглянулась. Я в этом не сомневалась. Отвязаться от такого преследователя невозможно. Отвязаться, уйти, обмануть. Ты можешь повернуть назад, запрыгнуть в автобус, скрыться в толпе, – преследователь от тебя не отстанет ни на шаг, ни на секунду.
Мне стало не по себе в тот стылый вечер с моим спутником, задумавшим убийство. Его лихорадка меня заразила, я чувствовала себя больной.
Моим спасителем оказался парень с нашего потока. В потоке три группы по двадцать пять человек, семинары у каждой проходили отдельно, а лекции мы слушали вместе, потоком. Парень шел медленно, я его нагнала, пристроилась рядом. Имени его я не помнила.
– Привет.
– Да, – он ответил, как бы соглашаясь с моим приветствием.
– Куда идешь?
Мне было необходимо отвязаться от призрака, и я позабыла свою застенчивость, бросилась к живому человеку. Мне повезло, парень охотно отвечал на вопросы, охотно и доброжелательно. Возможно, он даже помнил мое имя.
Он сказал:
– Я иду в Марьинский мосторг. Хочу купить заварочный чайник. Взамен разбитого вчера вечером при странных обстоятельствах.
– Серьезно? А у нас нет заварочного чайника.
– Как же вы завариваете чай?
– В кружке. Полулитровая кружка эмалированная, блюдцем накрываем, очень хорошо, только проливается, конечно, когда по чашкам.
– Я бы на вашем месте завел все-таки чайник.
– У нас был, но разбился, причем неизвестно, кто разбил, смотрю утром, нет чайника, осколки в мусорке, и никто не признаётся, у меня есть подозрение, но я молчу, я бы купила, но я хочу, чтобы тот, кто разбил, купил, так будет справедливо.
Мне было легко идти с ним рядом, как будто со старинным приятелем, с которым мы часто вот так уже ходили вместе, и болтали, и молчали. Он улыбался, и я узнавала его улыбку. Узнавала взгляд. Это странно, оказаться вдруг рядом с человеком, который кажется тебе близким и родным, хотя ты даже имени его не помнишь.
Маленьких чайников не было, и он взял большой. Сказал, что будет заливать кипятком на треть. Я заметила, что этот чайник на большую компанию и потому будет притягивать к себе гостей, гости будут на него слетаться, как мотыльки на свет, теперь не придется пить чай в одиночестве.
– Не дай бог, – отвечал он серьезно.
Мы вместе доехали до общаги, проверили внизу почту, ее раскладывали в открытые ячейки по алфавиту, и поднялись на лифте, я сошла на восьмом, а он отправился выше, на последний девятый этаж. В лифте я успела спросить его о странных обстоятельствах, при которых он грохнул чайник.
– Обстоятельства такие, что я был один, и вдруг меня кто-то окликнул, я дернулся, чайнику не повезло. Я был один, никто меня не окликал, мне почудилось.
В его голосе была, или мне казалось тогда, что была, какая-то особая, ко мне только обращенная доверительность.
Рита притащила в тот день с почты посылку, здоровенный фанерный ящик. Ей не терпелось его вскрыть, но гвозди вошли прочно, насмерть, мы даже не могли втиснуть нож под крышку. Рита раскраснелась, запыхалась, сказала мне:
– Подожди, я сейчас, не трогай без меня, смотри! – не трогай!
Она умчалась, я осталась одна в комнате. В этот вечер я всё как будто к чему-то прислушивалась – и когда с Риткой пытались содрать крышку, и когда осталась одна. В окно глядела ночь, луна была ее зрачок, желтый и бледный, с подтаявшим краем. Я сидела с ножом на полу возле фанерного ящика, он, конечно, таил сюрпризы. Риткин отец плавал на научно-исследовательском судне, они заходили в заграничное порты, мне сложно было представить тамошние улицы и магазины, я только дары оттуда видела и держала в руках: блузки, бусы, тушь. И всё это было особенным, совершенно не нашим, удивительным, инопланетным.
Дверь распахнулась, Рита привела Яшу.
Он выдирал гвозди клещами, Рита удерживала ящик, они смеялись. Я тоже смеялась и удерживала, но все к чему-то прислушивалась.
В посылке, тесно набитой, были и шоколадные конфеты. Всегда, в каждой посылке, либо шоколад, либо шоколадные конфеты, и в письме, лежавшем всегда на самом дне, так что до него еще надо было добраться, всегда была приписка: «…и для Лены – шоколадный сувенир». В самом начале нашего обще-жития Рита написала отцу, что в каждом кармане у меня хрустит серебряная фольга от шоколада, который я жую прямо на улице, и от этого щеки у меня круглые и румяные, и что я трачу на шоколад половину стипендии, и что мороженое ем только шоколадное, и пирожные только шоколадные, и масло шоколадное мажу на булку, когда пью утром чай, наверно, это болезнь. И Ритин отец, которого я только на фотографиях видела, а сейчас уже не вспомню его лица, присылал мне шоколадные сувениры, и меня поражало, что никогда он об этом не забывал, и я даже чувствовала себя ему немножко родственницей.
Совсем недавно он мне приснился, хотя я и не помню его лица, и не знаю, на этом ли он свете. Такое странное явление из прошлого. Я не стану пересказывать этот сон. Я много раз пробовала пересказывать свои сны, но всякий раз выходило, что я сочиняю их заново, а не пересказываю. Сон разрушается при свете дня.
Мы разобрали посылку и сели пить чай. С присланным шоколадом, конечно. Яша его тоже любил, хотя и говорил, что наш советский не в пример лучше. Не знаю, мне тогда всякий нравился. Я спросила за чаем, знают ли они парня с нашего потока, который живет на девятом этаже.
– Кто-то живет, – сказал Яша.
– Его фамилия начинается на «а».
– Моя фамилия тоже начинается на «а».
– Твоя фамилия начинается на «ш», – рассмеялась Рита.
– Когда я ее забываю и пытаюсь вспомнить, она начинается на «а».
– Потому что «а» есть в середине.
– Скорее, в первой четверти.
Я их слушала и то же время прислушивалась к чему-то. И вдруг вспомнила, что точно так же прислушивалась моя мама как-то ночью. Мы сидели в кухне, не спали, пили чай, играли в дурака, я что-то рассказывала, мама слушала меня и прислушивалась – не ко мне. Мой брат должен был приехать в эту ночь.
Я ушла из комнаты и поднялась на девятый этаж. Он был тише и чище восьмого, в основном здесь жили семейные, на площадке стояла детская коляска, трехколесный велосипед. Из кухни пахло не запустением, а борщом. Я прошлась по этому тихому, теплому этажу, оглядывая двери. Дошла до лифта и вернулась обратно, спустилась по лестнице на несколько маршей, попросила сигарету.
Глава 4. Он
Москва мне казалась городом чужим и холодным, городом, навсегда обращенным в прошлое, а не в будущее, городом, который меня не видит и не знает, для которого я никогда не рождалась. Москва разрушалась, в ней были облупленные стены. В булочных в граненых стаканах продавали кофе с молоком, и, когда я пила его, мне представлялось, что время зашло в тупик. Я чувствовала себя не девочкой, а старухой, которая уже прожила свою жизнь. Я бы не удивилась, увидев свою детскую еще руку иссохшей, сморщенной, с выступившими жилами и пожелтелыми ногтями.
И все-таки я любила ходить по Москве несуществующим человеком. Я и не думала, что однажды осуществлюсь. Что это случится, хотя и ненадолго.
В ту ночь я спала плохо, смотрела на свой фосфорный будильник. За окном, которое было у нас занавешено недавно купленным прозрачным тюлем, горели сигнальные огни Останкинской телебашни. Я уговаривала себя, что несомненно увижу его завтра, что он не заболеет и не умрет в эту ночь. И я не заболею и не умру. Мы увидимся. Я к нему подойду и скажу: привет. Всё будет хорошо. Ничего еще в жизни я так не хотела, как увидеть его, подойти, сказать: привет. Без него, без уверенности, что я его увижу, я как будто теряла равновесие, летела к Земле каменным обломком.
Будильник прозвенел, утро настало, я отправилась чистить зубы. Над умывальником в общем туалете висело зеркало, закапанное, замызганное. Я вынула из кармана кусок туалетной бумаги и протерла в зеркале островок, разглядела в нем себя. Могу ли я, такая, ему понравиться? Много, наверно, зеркало видело таких вопросительных взглядов. Ничего, ресницы накрашу – и будет лучше. А иначе – каменным обломком.
На остановке он меня окликнул. Стоял в толпе, а я не заметила близорукими глазами. Так что не я ему, а он мне сказал: привет. И вышло опять так, будто мы сто лет знакомы, так давно, что успели друг друга позабыть.
– Я тебя не заметила, – сказала я уже в автобусе, толпа нас притиснула к стеклу на задней площадке, к поручню. – Ты не удивляйся, если я пройду мимо и не поздороваюсь, я плохо вижу, а очки не ношу, они мне не идут. И стекла потеют, когда холодно.
– Можно линзы.
– От линз глаза болят.
– Я вижу нормально, но я задумываюсь и тоже могу пройти и не увидеть, так что мы на равных.
Автобус затормозил, меня качнуло, и я коснулась его руки, рука показалась мне горячей. Автобус подходил к Новослободке.
Мы шли к институту переулком, молчали. По рельсам громыхал ослепительный трамвай. Мы шли очень медленно.
– Ты куришь? – спросил он вдруг.
– Да.
– У меня астма. Я от дыма задыхаюсь.
– Да я не особенно курю, баловство.
Переулок повернул, уже виднелся институт за старинной оградой.
– Неохота учиться, – сказал он.
– Да.
– У меня так бывает, что я не хочу учиться и не иду.
– И что делаешь?
– Бреду куда-нибудь.
Мы приблизились к черной решетке ворот. Пара уже началась, в окнах горели огни, утро было сумрачным. Мы прошли мимо ворот. Еще одни трамвай нас перегнал с тревожным лязгом. Или это мне было тревожно.
Я не помню, как мы оказались в этом дворе, тихом, замкнутом. Качели поскрипывали, ветер их качал, гнал поземку по голому асфальту. Мы разом остановились и стали смотреть на этот дом.
– Хотела бы здесь жить?
– Почему нет? Тихо. Кирпичный дом, старый, чугунные батареи, наверно, и потолки высокие. Да, годится.
– А где? На каком этаже?
– На третьем.
– Где?
– Вон то окно.
– Где кошка сидит?
Я вынула из сумки очки, надела.
– Где кошка?
– Она уже спрыгнула. Есть, наверно, пошла.
Он смотрел на меня улыбающимися глазами.
– Что? Не идут мне очки?
– Не знаю. Я этого не понимаю, идут – не идут.
– А ты бы здесь хотел жить?
– Очень. Только повыше, вид будет хороший, на всю Москву.
– Последний этаж рискованно, крыша протечет весной.
– Нет, здесь не протечет, здесь недавно ремонт был, и топят здесь хорошо, я тепло люблю, я бы как кот сидел на подоконнике над батареей, здесь широкие подоконники, я бы сидел и глядел.
– Откуда ты знаешь, что тепло топят?
– На форточки погляди, балда, у многих раскрыты.
Я переводила взгляд с одного окна на другое, видела через очки непривычно четко, даже немного голова кружилась, оттого что дальняя жизнь вдруг вышла из тумана, приблизилась ко мне со всеми подробностями.
– А здесь занавешено окно. До сих пор спят?
– Я бы тоже спал.
– А я нет, я бы уже встала. Я бы завтрак готовила.
– Что именно?
– Не знаю. Кашу бы сварила, геркулес.
– На молоке?
– Ну да, на молоке вкуснее. Яйцо бы всмятку.
– А я бы ничего не готовил, я бы пошел в булочную на первом этаже, взял бы свежих булок, кофе с молоком.
– И что нам мешает пойти в эту булочную?
В булочной я заметила, что он без перчаток. Он сказал, что его руки никогда не мерзнут. Я потрогала. Рука была горячей. Как в автобусе, когда я нечаянно ее коснулась.
Обычно я стеснялась самой себя. Всё во мне как будто было не к месту. Но с ним я чувствовала себя спокойно. Он едва ли не любовался мной. В очках я была или без. И даже когда я расплескала кофе и закашлялась. Ходили мы в этот день долго, еще не в одну булочную заходили и пили кофе, и я не казалась себе старухой, я была девочкой, мы оба были детьми, он брал меня за руку горячей рукой, и я как будто чувствовала ток его крови, как будто у нас был общий ток крови. Не знаю, была ли волшебной та страна. Разве что в тот день и в тот вечер, когда уже стемнело и мы попали в Замоскворечье, где тоже нашли дом, в котором поселились, и в моем окне горела лампа под красным железным колпаком, а в его окне было темно, он не включил свет, поставил пластинку и лег на пол слушать. Что-то классическое, громоподобное, звучащее с небес.
Имени его я так и не спросила. Не уверена, что он помнил мое. Не назвал ни разу.
В общаге мы поднимались в лифте. Не одни, в толпе. Наши взгляды встретились. И его взгляд был взглядом чужого человека. Возможно, он задумался и потому уже не видел меня.
– Мой этаж, – напомнила я о себе.
– Да. Спокойной ночи.
Я вышла, лифт закрыл двери и унес его на девятый этаж, под крышу. Наверно, он уговорил комендантшу поселить его повыше. А может быть, ему разрешили из-за астмы, на девятом этаже меньше курят, там дети.
– Ну хорошо, – спросила меня Ритка, – вы целовались хотя бы?
Мы сидели за нашим столом у стены, по клеенке бежали зеленые олени, Ритка заварила чай, он дымил в чашках. Я смотрела на башню за окном, она покачивалась под ветром.
– Ну, то, что ты ему нравишься, – однозначно. Так что всё идет по плану. Другое дело, что вот лично мне он не очень нравится. И между прочим, чтоб ты знала, он кандидат на вылет после сессии. Потому что слишком много гулять любит, а староста у нас такая, что все его прогулы отмечает. Так что ты смотри, не полети вместе с ним.
– А вы с Яшей сразу целовались?
– Нет.
Она помолчала и прочитала такие строки:
«Сближеньем с вами на мгновенье Я очутился в той стране…»Не знаю, что там было после или до, но эти две строки говорили обо мне, Ритка угадала.
Кстати, она мне сказала его имя. Как будто нарекла. Потому что до Ритки имени у него не было.
На другой день Ритка дала мне свой свитер, новенький, из последней посылки, итальянский, так называемая лапша, цвета спелой вишни. Дала мне кулон из черного полупрозрачного камня, квадратный, тяжелый, на серебряной цепочке. Сказала, что, если потеряю, не выживу. Сказала, что у меня отвратительная тушь и что губная помада мне не идет, так что я накрасила ресницы ее французской тушью и ее французской помадой губы. Она была бледно-розового цвета, и Ритка сказала, что от моих губ глаз не отвести. Джинсы я ее примерила, но они мне были великоваты, Ритка огорчилась, она не думала, что настолько толще меня, к тому же ей действительно не хотелось, чтобы я надевала свои, купленные в Марьинском за тридцатку. Но что делать. Шапку она мне не разрешила надевать, сказала, что мое уродство пора выбросить или отвезти к бабушке, пусть она распустит и свяжет носки. На улице не так холодно, переживешь без шапки – так она сказала. Еще сказала, чтобы я не щурилась и почаще улыбалась.
– А то, когда ты не улыбаешься, кажется, что ты внутри плачешь.
Только всё оказалось напрасно, потому что его не было. Ни на остановке, ни в автобусе. Но в автобусе я еще надеялась, он мог раньше или позже, или вообще на троллейбусе, были варианты; я еще и на паре надеялась, что он опоздал и вот-вот постучит в дверь и вступит с виноватой физиономией или ко второй паре успеет. Но он не пришел, и я с тоской рисовала в тетрадке рожицы и думала, что он бредет по Москве один и не помнит обо мне, находит дом, где будет жить, конечно же, без меня. А может быть, он заболел и не бредет, а лежит в бреду или бредет в бреду, и если в бреду, то со мной. И мне больше хотелось, чтобы он заболел и даже умер, но со мной в мыслях, жаль, что не увидел в вишневом свитере с черным кулоном, не засмотрелся на мои бледно-розовые губы, они даже пахнут розой, утренней, свежей.
Из института я поехала сразу в общагу, стояла на задней площадке у плачущего окна, смотрела на убегающую дорогу, и мне казалось, что моя жизнь обрывается. Я поднялась на девятый тихий этаж и подошла к его комнате, номер мне сказала Ритка. За дверью была глухая тишина. Я осторожно, робко постучала, ничто за дверью не шелохнулось. Я подумала, вдруг он и в самом деле там лежит без сознания или уже без жизни, от страха я забила в дверь кулаками. Отворилась соседняя дверь, из нее высунулось женское измученное лицо.
– Я только что уложила ребенка.
– Извините.
– Там никого нет.
– Да?
– Он уехал утром и еще не возвращался, здесь картонные стены.
– Он что, один там живет?
– Почти. У второго девушка в Москве. Насколько я знаю.
Несколько раз за этот вечер я поднималась на девятый этаж по холодной каменной лестнице. На девятом охватывало домашнее тепло, домашние звуки, домашние запахи. Я подходила к его двери, осторожно стучала.
Ритка ушла с Яшей в кино, я взяла книгу, поднялась на девятый, послушала тишину за его дверью, постучала, ушла к окну возле кухни, забралась на подоконник, широкий, каменный и теплый, под ним жарили чугунные батареи. Я сидела на под-оконнике, прямо как он в той своей фантазии, в которой он был котом на подоконнике. Книга лежала у меня на коленях, внизу сиял огнями ночной город, но я не смотрела ни в окно, ни в книгу, боялась пропустить его. Этаж жил своей домашней жизнью, на кухне варили еду, ребенка выпустили в коридор на трехколесном велосипеде, он изо всех сил вращал педали, трезвонил. Его сняли с велосипеда и понесли домой ужинать, он не хотел, захлебывался криком, оглядывался на свой велик.
Он вышел из лифта в начале одиннадцатого. Я мгновенно опустила глаза в книгу. Я надеялась, что он меня заметит, обрадуется, подойдет, спросит, а что ты тут делаешь. И я скажу, что живу тут, на подоконнике, совсем неплохо, правда, из окна дует, но вид прекрасный.
Он меня не заметил, наверно, был погружен в свои мысли. Я смотрела, как он идет по коридору, обходит велосипед, вынимает из кармана ключ. Он не знал, что кто-то его видит, был как бы сам с собой, был больше самим собой, так мне думалось, хотя что я видела? Только его удаляющуюся фигуру. Навряд ли его походка бы изменилась, если б он знал, что я на него смотрю. Усталая походка. Он отворил дверь, вошел в комнату. Я услышала щелчок выключателя. Дверь затворилась, он меня не заметил.
Коридор продолжал жить своей жизнью. Мне казалось, что я не существую. Вижу, слышу, отчасти понимаю, но не живу здесь, да и нигде не живу.
– Кто тебе мешал постучать к нему? – спросила Ритка. – Стучала же ты в пустую дверь.
– Я подумала, что он устал, у него была усталая походка.
– «Когда усталая подлодка из глубины идет домой», – пробормотала Ритка.
Мы лежали в темноте на своих койках. Фосфорные стрелки показывали второй час ночи. Я спросила Ритку, можно ли мне и завтра надеть ее свитер. Но Ритка уже спала.
Глава 5. Математика
Будильник я слышала, но проснуться сил недостало. Ритка уверяла, что и не слышала и что, если бы я ее не растолкала, проснулась бы только в 2000 году, на пороге нового тысячелетия. Нас тогда очень занимал этот далекий год, мы подсчитывали, сколько нам будет лет, гадали, что с нами станется, в кого мы превратимся, а я думала, что до 2000-го еще доживу, но до 3000-го – никогда, и никто из нас не увидит того времени, что это и есть бесконечность – 3000 год от Рождества Христова. Это звучало торжественно: от Рождества Христова. Нас там не будет.
Мы опоздали на пятнадцать минут, лектор оглянулся, когда мы проскальзывали в аудиторию, староста с неохотой вычеркнула из журнала наше небытие. Мы сели с краю, где нашли свободные места. Я оглянулась. Он был здесь, в последнем ряду у стены. Он смотрел прямо на меня. Серьезным, внимательным взглядом. Я улыбнулась. Он поднял палец и погрозил мне. В перерыве я к нему пересела. Он строго велел мне надеть очки, чтобы я видела, что пишет лектор на доске. Я сказала, что всё равно не пойму. Он сказал, что ничего сложного нет, он объяснит, можно прямо сегодня, если у меня нет других планов. Я хотела сказать, как Пятачок, что до пятницы совершенно свободна. Но промолчала. А вдруг он никогда не видел этот мультфильм. Он мне казался совершенно особенным, исключительным, не как все.
Я оказалась в его комнате в этот же вечер, за той самой казенной дверью, на том самом тихом этаже. Из его окна тоже была видна Останкинская телебашня. Она и должна была быть видна, но мне почему-то казалось странным, что он смотрит на ту же самую башню, что и я. Правда, с чуть большей высоты. Но для башни это не имело значения. Для ее роста это было мнимостью, величиной, не принимавшейся в расчет.
По дороге из института он сказал, что не умеет ничего объяснять на голодный желудок. В булочной на Огородном проезде взяли его любимых булок, калорийных с изюмом и орехами, и шоколад для меня. Его комната оказалась меньше нашей, рассчитана только для двоих. Он сказал, что живет с аспирантом, аспирант хочет жениться, но девушка боится, что только из-за прописки, и не решается. Собственно, так оно и есть, хотя не только. Но роль прописки исключать нельзя из уравнения, иначе не сойдется.
– А ты бы женился из-за прописки? – я спросила.
– Возможно.
– В том доме, под крышей.
– В том доме – несомненно, не раздумывая.
– Даже на старухе?
– Отличный вариант, и ей недолго мучиться, и мне.
– На старой сморщенной старухе, которая видела Наполеона.
– Послушаю о Наполеоне.
– У нее склероз.
Чай он заварил в том самом большом чайнике, и я сказала, что была права, чайник притянул гостей, то есть меня. Пили из стаканов. Точно таких же граненых стаканов, из которых пили в булочных сладкий кофе с молоком. И он сказал, что стащил их именно из булочных, четыре стакана, один уже разбит. Во-первых, сэкономил денег, во-вторых, ему нравится пить из граненых стаканов. Ложки тоже были краденые, алюминиевые. Шелестела-хрустела серебряная фольга. Он сказал, что я измазалась в шоколаде, и попросил провести шоколадным пальцем по верхней губе, он хотел посмотреть, пойдут ли мне усы. Никогда, ни один человек не казался мне ближе. Мы сидели совсем рядом, и я вдруг мазнула шоколадным пальцем и по его верхней губе. Он растерялся. Молча стер шоколад ладонью, стер, конечно, не до конца, больше размазал. Буркнул: я сейчас – и ушел из комнаты большими шагами. Я подошла к зеркалу, увидела свои усы, я бы хотела, чтобы он их слизал. Смутилась от этой мысли, достала платок. В зеркале за моей спиной отражалась карта Москвы, она была разбита цветными фломастерами на квадраты, три были пронумерованы. Я спросила, не шпион ли он, когда он вернулся с чисто вымытым, серьезным лицом. Он сказал, что квадраты – отметки пешехода. Нумерует те, что исхожены. Без номеров те, что планирует исходить. И сказал, сдвигая к стене стаканы и шелестящую фольгу, что пора заняться делом, линейная алгебра нас ждет.
На меня он не смотрел. Вырвал из тетрадки лист. Произнес холодно:
– Рассмотрим неоднородную систему линейных уравнений.
Он объяснял слишком быстро, я не успевала. Он бросил на стол ручку и стал смотреть, как я читаю всё, что он успел уже написать. Он заметил вслух, что у меня шевелятся губы, когда я читаю. И добавил, что мозги, наверно, тоже шевелятся. Я попросила еще раз объяснить метод исключения.
– Не буду.
– Почему?
– Потому что это – элементарно. Элементарно и очевидно. Очевидные вещи пусть в детском саду дважды объясняют. Зачем ты вообще пошла сюда учиться? У тебя ноль способностей к математике.
Я растерялась, такая была неприязнь в его голосе.
– А ты зачем?
– Чтобы в армию не попасть.
– Но ты же не учишься, ты по Москве гуляешь.
– Не учусь, но знаю.
– И вылетишь после сессии.
– С какой стати? Я всё сдам.
– И вылетишь. За прогулы.
– Значит, мы вылетим вместе. Я за прогулы, а ты за глупость.
Я ушла.
Спустилась на третий этаж, там на площадке курил мужчина. Он дал мне сигарету и сказал, что лучше бы я бросала курить, это вредно. Я обещала. Он приехал к дочке на несколько дней. Хотел посмотреть, как она здесь. Сказал, что она стала совсем взрослой, раньше, когда она была маленькой, он был ей нужен, а сейчас нет, сейчас она его стесняется, и еще никогда он не чувствовал себя так одиноко, проживет еще как-нибудь оставшиеся два дня и вернется домой.
– Я бы женился на Валентине, – сказал он, – но как-то боязно.
Уж не знаю, почему он жил один и кто такая была эта Валентина. Не хотела знать и не спросила.
Ритка вернулась во втором часу ночи, по свидетельству фосфорных стрелок. Я лежала и смотрела в черное окно на красные огни нашей башни. Она за шкафом стягивала сапоги, пила из чайника воду.
– Вы ссоритесь? – спросила я.
– Бывает.
– Из-за чего?
– Вчера мне не понравился фильм. Яшка сказал, что не виноват, не он же его снял, я сказала, что его фильм был бы еще хуже, и объяснила почему, он разозлился. Наверно, полнолуние.
– Нет. Луна идет на убыль.
– Странно.
– А во второй раз вы уже целовались?
– Ну, почти, – Ритка вышла наконец из-за шкафа.
– Почти?
– Я вырвалась.
– Почему?
– Не знаю. Испугалась. Подумала, вдруг он заразный.
– Да ты что.
– Серьезно. Я потом целый день губы в зеркале рассматривала, не вскочило ли чего.
Она улеглась на свою койку, не раздеваясь, не разобрав постели. Повернула ко мне лицо.
– А ты чего не спишь?
– Думаю.
– «Что это? Жар любви? Жар неприязни?»
Я закрыла глаза. Поэт угадал. Откуда бы ему знать обо мне?
Глава 6. «Где печали, где качели, где играли мы вдвоем?»
Спалось плохо, мешали огни башни и ход часов. И его презрение, которое я не умела забыть, и лишь презрение казалось мне в нем искренним, пока была эта ночь. Она шла медленно и тяжело, со скрипом. Казалось, что стоит разобрать часы и смазать механизм, их ход повеселеет, и мы проскочим ночь на фосфорных часах.
В четыре я решила подняться. Я, пожалуй, никогда так рано не вставала в общаге, я только в детстве так рано вставала, в Муроме, когда мы собирались за грибами на пригородном рабочем поезде, мама, и я, и бабушка, и баба Катя, и Мишка.
В кухне горела забытая газовая горелка. Стояла на полу лужа. Валялись картофельные очистки. Бежал по обитому жестью столу таракан. Я отправилась чистить зубы. Тихо, чтобы не разбудить Ритку, собралась. Будильник придвинула к ней поближе. И ушла. Мне очень не хотелось с ним встречаться, и я решила, что это самое верное, выйти пораньше, не в свой час, в ничей час.
Поехала полупустым автобусом по ранним улицам, по ничейным улицам. Они всегда ничейные, ничьи, но только в этот час ты это понимаешь. Институт был наверняка еще закрыт, так что я медлила, шла тихо, заглядывала в окна, и ни в каком мне не хотелось жить. Я заметила переулок, в котором никогда не была, и свернула в него. Переулок оказался тупиком, его перегораживал дом, нежилой, с полосками бумаги на окнах, крест-накрест. Как во время войны. Чтобы взрывной волной не вынесло стекла. Бумажные кресты их удерживали. От близкого взрыва не удержали бы. Я понимала, конечно, умом, что дом не из войны. Наверное, снимали кино и заклеили окна. Я понимала, но это понимание было мнимой величиной. Как с Левитаном когда-то в Муроме. А существенной и важной величиной было чувство, что я вошла прямиком в раннее утро 1942 года от Рождества Христова. И мне не было страшно. И если я вернусь из тупика на улицу, но не в свое время, если так и не выберусь из войны, не испугаюсь, останусь там жить, как сумею. Но я вышла из тупика в 1982-й, навстречу ослепительному трамваю. Я остановилась и проводила его глазами. Значит, буду жить здесь как получится.
Я вошла в аудиторию, только что вымытую уборщицей. В форточку залетали снежинки. Я забралась на подоконник и захлопнула форточку. Снег шел тихий, крупный. Стоял уже март, первый весенний месяц. Я как будто парила над землей вместе со снегом.
Я спрыгнула с подоконника и уселась у окна в первом ряду, достала тетрадку и ручку, очки положила, и в стеклах немедленно отразился электрический свет. Я раскрыла тетрадку и стала перечитывать лекции внимательно, сосредоточенно, отрешившись от шагов и голосов. Я не желала видеть, когда он войдет, не желала знать, войдет ли он вообще. Ни видеть, ни знать. Так что, когда лектор начал лекцию, я понятия не имела, здесь ли он.
Я старалась сосредоточиться на лекции, в конце концов и в самом деле сосредоточилась, увлеклась, поняла, о чем речь, и, когда лектор задал вопрос по ходу доказательства, я ответила. Сама удивилась, когда услышала свой голос.
– Молодец, – похвалил лектор.
Я оглянулась на аудиторию, мне вдруг захотелось, чтобы он был там, был свидетелем похвалы, успеха.
Он был там, на последнем ряду, у самой стенки. Встретился со мной взглядом, улыбнулся и поднял в знак одобрения большой палец. Я показала язык. Я была счастлива. Совершенно.
Обедать мы пошли вместе. В буфете стояла громадная очередь, как всегда. Обычно я переживала оттого, что вот-вот прозвенит звонок и придется бежать на пару голодной, а нахалы лезут без очереди, буфетчица треплется с теткой из подсобки и вообще не шевелится. Звонок прозвенел, но не для нас. Народ рассеялся, буфетчица спросила, что мы желаем, но не любое желание она могла исполнить. Он взял любимых булочек, а я сосиски и черный хлеб, хотела взять шоколад, но он сказал, что возьмет мне, в подарок. Для него это был жест. Он не любил тратиться, да и не на что ему было разгуляться, стипендия сорок, и мать присылала тридцатку, он говорил, что ему хватает на его образ жизни, а летом надеялся подработать.
С этого дня мы ездили вместе в институт, вместе сидели на лекциях, вместе прогуливали, вместе возвращались, ходили в кино, пили чай вечерами из граненых стаканов в его комнате. Люди считали, что мы живем вместе. Я не разубеждала, я уже говорила, что не люблю разрушать чужих представлений о себе, обычно мне просто лень их разрушать, объяснять, как обстоят дела на самом деле. Не всё ли равно, как они обстоят? Пусть люди думают то, что им хочется. Но в данном случае мне бы и самой хотелось, чтобы было так, как думают люди. Но не случилось. Он не допускал. Я даже поцеловать его не могла. Самое большее – взять за руку. Как будто бы он растает от моего поцелуя или превратится в лягушку. Что-то было во всем этом странное, непостижимое моим детским умом, ирреальное. Я плакала по ночам в подушку, думала, что дело во мне, спрашивала Ритку, что во мне не так. Она объясняла, что проблема у него, а не у меня, и уговаривала его бросить, чем скорее, тем лучше. Я соглашалась и не могла. Не могла без него. Или – каменным обломком.
Пришло лето. Его астма и моя близорукость избавили нас от стройотряда. Мы остались вдвоем в опустевшем общежитии, в опустевшем институте, в лаборатории. Она была в старинном корпусе, в подвале, и добираться до нее надо было подвалом. Пружинили под ногами деревянные серые доски настила. По стене шли толстые трубы в клочковатой обмотке. Дни стояли жаркие, но мы зябли за толстыми стенами, не было ни дня, ни ночи, горело электричество, гудели высокие металлические шкафы ЭВМ, мы прогоняли программы, отлаживали, сдавали распечатки, болтали. Он расспрашивал меня о детстве, о местах, в которых я жила с родителями, – Средняя Азия, Забайкалье. Он там не бывал. Муром он проезжал, видел вокзал-крепость. И мы установили, когда он проезжал, в каком году, в какой день, и я пыталась вспомнить или придумать, где была и что делала в тот самый момент. Это было лето, так что я совершенно точно была в Муроме, у бабушки, на каникулах. Мы даже решили, что я была на вокзале и смотрела на его поезд, видела окно в вагоне, за которым – его силуэт. Нам нравилась эта выдуманная нами встреча.
Всё было хорошо, всё было невыносимо. Так близко, и невозможен последний шаг.
На восьмом затеяли ремонт, и комендантша выдала мне ключ от свободной комнаты на втором. Чем ниже, тем хуже. Больше грязи, шума, дыма, тараканов, щелей в окнах. Мы перетащили мои и Риткины вещи и вещи девочки, которая с нами не жила, только числилась. И «Незнакомку» тоже не забыли. Он сказал, что устал, наглотался дыма: лифт сломался, и мы таскали по каменной лестнице, мимо курильщиков, хотя и мало их оставалось в это лето. Он ушел, едва начался вечер.
Мне было далеко от него на новом месте, и даже башни не видно. Окно выходило на другую сторону, во двор. Прежде я смотрела на башню и думала, что и он смотрит на нее. Мне всегда казалось, что мы смотрим одновременно. Сейчас я смотрела на кусты сирени, давно отцветшие, темные. Кусты вдруг зашелестели – пошел дождь. Я долго слушала его ход.
Я взяла казенный чайник с номером комнаты на алюминиевом боку, чтобы пойти в кухню, налить воды, вскипятить, отвлечься. Едва я взялась за ручку, как услышала поворот ключа в замочной скважине. Я тихо, бесшумно, поставила чайник на место, на грязный, еще не отмытый стол. Дверь отворилась широко, настежь, и в комнату вошел совершенно мокрый парень. Увидев меня, он застыл, мгновенно натекла вокруг его башмаков лужа. В правой его руке был ключ, а в левой фанерный чемоданчик, старый-престарый, с железными углами, мой папа когда-то давным-давно ездил с таким в командировки.
– Двести девятая? – растерянно спросил парень.
Я повернула к нему бок чайника с номером. Он сощурился.
– Черт. А мне комендантша сказала, что пустая комната.
– Комендантша дура.
– Это да.
Он потоптался и ушел разбираться, я перешагнула лужу и побрела в кухню. Здесь башню загораживали дома. Не было высоты, полета, второй этаж приземлен. Я чувствовала свою оторванность, одинокость, потерянность.
Я вернулась с кипящим дымящимся чайником, тяжеленным, слишком много я бухнула в него воды. И – следуя моей логике – большой чайник притянул гостя. Он постучал в дверь, дождался моего «да!» и вошел. Он уже переоделся в сухое, правда, вся эта сухая одежда была ему великовата. Белые огромные кроссовки едва виднелись из-под спадающих штанин. Я хмыкнула – Чарли Чаплин.
– Ты чего?
– Так.
– Слушай, а можно с тобой чаю выпить? Я тортик принес. – И он вывел руку из-за спины и показал белую, перевязанную бечевкой коробку. Рука, торчавшая из большого рукава футболки, казалась совсем детской, мальчишеской.
– Где ты его добыл? Магазины закрыты.
– Если честно, спер у ребят из холодильника, меня подселили к каким-то парням, у них не то что холодильник, у них телевизор есть и кассетник, все дела, в принципе, они разрешили взять чего-нибудь пожевать. Они спят, а мне скучно одному жевать.
– А что за тортик?
– Понятия не имею. Я бы с большим удовольствием колбасы съел, но у них колбасы не было.
– Ну, открой мой холодильник, вдруг найдешь.
Я постелила на стол клеенку, достала чашки. Он нашел в холодильнике банку скумбрии. Я подкинула ему открывалку.
– С тебя штаны сваливаются.
– И штаны, и башмаки, и всё остальное, потому что не мое, мое промокло. Представляешь, открываю чемодан, а там вода хлюпает.
– Чемодан у тебя хипповый.
– Ага. Кто хиппует, тот поймет. У меня была нормальная сумка, ее уперли, а чемодан дед одолжил, он даже за границей побывал, чемоданчик этот.
– В какой стране?
– В социалистической.
Парень чихнул.
– Заболею. Водки бы, согреться.
– Водки нету.
– У комендантши всегда есть.
Он был кристально ясным, простым. Как будто не из нашего времени, а из шестидесятых примерно годов, ранних шестидесятых, таких, какими я видела их в кино, когда незнакомцы улыбались, и пускали ночевать, и одалживали денег. И можно ходить без страха по дальним улицам, и каждый человек друг, и каждого впереди ждет жизнь, исполненная смысла. Прекрасный утренний мир.
Мы с ним выпили комендантской водки. Треть чашки, и еще треть, и еще столько же, тепло и легко, как никогда, и можно сказать: ты славный, да, ты как брат, нет, зачем брат, я не брат, я хочу тебя поцеловать, можно, я не умею, серьезно, да, я тебя научу, подожди, ты можешь встать, запросто, голова кружится, обними меня, держись, молчи, мне дышать-то надо, носом дыши, не смейся, дурочка.
Он был меньше меня ростом, но крепкий, с твердыми мышцами, когда он скинул штаны, оказалось, что у него лиловые ноги, до лодыжек, он объяснил, что это носки вымокли и полиняли, я хохотала.
Я сказала ему, что никогда еще, что в первый раз; я тоже, он сказал, не бойся, давай матрац на пол бросим, а то эта койка, да, голова и так едет, и койка едет, лучше пол, пол твердый, к земле близко, второй этаж.
Слушай, а ты тоже близорукий. Откуда ты знаешь? Щуришься.
Ты ничего?
Нормально.
А я тоже первый раз.
Да ладно.
Фосфорные стрелки показали начало девятого. Они светились в полумраке. Здесь, в этой комнате, за глухой сиренью, всегда был полумрак, утро начиналось выше. Меня тошнило, болела голова. Парень замерз под утро, завернулся в серое казенное одеяло, на лице у него выступила золотистая щетина.
Я встала, нашла зубную щетку, уронила мыло, подняла, оно опять выскользнуло. Парень не просыпался. В туалете я сунула два пальца в рот, меня вырвало, но легче не стало.
Я занесла в полутемную комнату щетку и мыльницу. Парень перевернулся на спину. Приоткрыл во сне рот. Из-под одеяла выползла лиловая нога. Я тихо, морщась от головной боли, оделась.
Лифт по-прежнему не работал. Пришлось тащиться на девятый по лестнице, вдыхать зловонный дым. После пятого марша я села передохнуть на каменной ступеньке. За узким, пыльным окном росло дерево, ветка утыкалась в стекло. На ветке сидел маленький серый воробей. Наши глаза встретились. Мы с птицей были словно бы один на один во всем мире, никого, кроме нас. Одно лишь мгновение, но так было.
На тихом девятом пахло подгоревшим молоком. Я прошла долгим коридором и постучала в его дверь. Слышала, как он встает со скрипучей койки, как двигает стул, идет. Распахнул дверь и уставился на меня светлыми, удивленными глазами.
– Что с тобой?
– А что?
– Тебе плохо?
– Нормально. Просто тошнит.
– Что же тут нормального? Заходи.
– Я водки вчера выпила, до сих пор плывет, всё плывет.
– Заходи, чай сделаю. Сколько же ты выпила?
– В общем и целом бутылку на двоих.
Я устроилась за столом, он пошел ставить чайник. Вернулся, заварил чай, поставил стаканы, сахарницу. И только тогда переспросил:
– На двоих?
– Да, понимаешь, парень один, долго рассказывать, он под дождь попал, мы целовались, ну и не только. Понимаешь?
Он промолчал. Налил одной черной заварки мне в стакан, бросил четыре куска сахару.
– Больно сладко, – сказала я.
– Пей.
Сел и смотрел, как я отпиваю крохотными глотками.
– Ну и как? – спросил.
– Горячо.
– Я не про чай.
– Нормально. А что?
– Ничего. Какие планы?
– Не знаю. Давай пойдем куда-нибудь.
– Куда?
– Не знаю. В Третьяковскую галерею.
И мы в самом деле пошли в Третьяковскую галерею, и бродили по залам, и смотрели картины, и даже что-то обсуждали. Возвращались пешком до самой общаги. Замоскворечье, Красная площадь, площадь имени Дзержинского, улица Кирова, Садовое кольцо, проспект Мира. Улицы и переулки. Дома, в которых зажигались уже огни. Дома, в которых мы никогда бы не могли жить. Двор, качели. Он сел на доску, качнулся. Я подошла. Он взял меня за руку, усадил на колени. Уткнулся лицом мне в спину, затих. Спокойный был двор, глухой. У гаражей мужики возились с машиной, ковырялись в моторе. Он поднял лицо, подтолкнул меня, и я встала. Оглянулась и увидела, что он плакал. До общаги молчали. Он пошел к лифту, а я к себе, на второй.
Дверь была открыта. Парень сидел за столом и что-то писал. Увидел меня и радостно улыбнулся.
– Слушай, я матери письмо сочиняю. Помоги.
– Напиши про погоду.
– Уже.
Я взяла чайник.
– Ты долей, чтоб побольше, я много пью. И ем.
Звали его Коля. У него был разборчивый почерк и добрый нрав.
Квартира
Занятий не было, он проспал до одиннадцати. Выбрался из постели, по нагретой солнцем половице добрался до окна. Ополоснул лицо, глотнул воды из чайника, оделся и побежал за папиросами. Заметил белый проблеск в круглом отверстии железной дверцы.
Письмо шло семь дней. Отправлено в Москву 12 сентября 1970 года, проштемпелевано в Москве 17-го, получено 18-го. Шесть дней. 281 километр. Можно рассчитать скорость. Задачка для начальной школы.
Гарик тут же на площадке вскрыл конверт. Мать всегда тратилась на АВИА, хотя самолеты от их города до Москвы не летали и письма шли тихим ходом в почтово-багажных поездах или вагонах. Но мать не хотела этого понимать.
«…Так что, сынок, живем помаленьку, сосед наш дядя Вася всё играет на гармонике, обещают нам провести троллейбус, и тогда хорошо будет добираться до города, не то что сейчас, на днях сорок минут ждала, с рынка…»
Их дом стоял на рабочей окраине, у заводов. Таких домов настроили много, деревянных, под железными крышами, с печками и небольшими участками земли, на которой росли яблони и вишни, картошка и огурцы. Дома поставил до революции бывший хозяин завода, немец, чьей фамилии Гарик не знал.
«…Яблок в этом году было очень уже много, я и продавать ходила к поезду, и варенья наварила, и так раздавала. Варенье стоит в подполе. И смородиновая наливка стоит. Что еще? Здоровье у меня нормальное, вечером хожу в кино с Андреевой Ритой, помнишь, как вы с ней задачку решали, вам на дом задали? Она всё говорила: не горюй, Игорёк. Смеялись мы тогда много…»
Гариком Игоря прозвали в Москве.
«Новость есть про Ерофееву Светлану. Приехала вчера из Ленинграда, может быть, на неделю, а может быть, дольше, еще не знает. Приехала одна, говорят, что развелась. С ребеночком, мальчик, хорошенький, кудрявый, глаза карие. Я ей говорила, что тебя на кафедре оставили, пусть знает…»
Гарик сложил письмо в конверт и вернулся в квартиру.
Возвращался он медленно, но в квартире вдруг заторопился, достал деньги со дна резной шкатулки, в которой хранил еще документы и письма, схватил из шкафа рюкзак, затолкал в него свитер, огляделся, поправил одеяло на диване и, закинув рюкзак на плечо, направился в прихожую. Снял с крючка кепку, куртку.
Автобуса дожидался долго, топтался у кромки тротуара, пытался остановить редкие такси. Не выдержал и зашагал пешком, и автобус, конечно, его обогнал. Как бы то ни было, через сорок минут Гарик добрался до станции метро и еще через сорок вышел на «Комсомольской» к Казанскому вокзалу.
У касс томилась толпа. Объявили посадку на пассажирский, и Гарик рванул на перрон. Общий вагон был в хвосте. Люди пробивались в дверь с тюками и чемоданами, кто-то кричал: «Варя! Варя!» Плакал ребенок.
Гарика затянуло в вагон – мимо проводника.
Он тут же забрался на багажную полку, под самый потолок. Рюкзак под голову – и затих. Люди всё прибывали и прибывали, садились по четверо и по пятеро на одно сиденье, даже на боковые лавки, спиной к окну. Занимали все верхние полки и багажные, кое-где втискивались по двое.
Едва состав тронулся, Гарик закрыл глаза. Билеты уже никто не спрашивал, проводник не показывался, сгинул.
От духоты распахнули двери в оба тамбура, и запахло тут же дымом, Гарик вспомнил о папиросах, которые так и не купил, вспомнил и забыл. Он спал и не спал, слышал все разговоры и восклицания, звяканье, смех, кашель. Поезд шел еле-еле, останавливался часто. Гарик иногда свешивал голову, смотрел в окно и видел, казалось, одно и то же: насыпь и потемневшую состарившуюся траву. Солнце то выходило, то пряталось, кто-то пробирался к выходу по загроможденному проходу.
Поезд выехал из Москвы в час тридцать, а до станции добрался через семь долгих часов, в осенних сумерках, в девятом вечернем часу.
Люди соскакивали на низкую платформу и шли через пути к вокзалу. Гарик боялся, что кто-то его узнает, окликнет, заговорит, задержит, и направился не к вокзалу, а наискосок, к депо, срезая дорогу, известную Гарику, как, может быть, ни одна дорога в мире, хоженую, перехоженную, и летом, и зимой, и во всякое время. И, кажется, был бы слепым, всё равно бы прошел ее, не сбившись, зная каждую выбоину и поворот, по запаху и по шелесту определяя – вот уже заводская столовая, а вот узкоколейка, и по ней движется состав, надо переждать.
Гарик не спешил, не бежал, как будто уже страшась скорого приближения своей цели. Миновал керосиновую лавку, свернул на Красную Пресню (называлась по красным кирпичным домам в три этажа). Пересек дорогу и попал на пустырь. По правую руку, за гудящей подстанцией, стоял дом Светланы Ерофеевой, такой же дом, как у них с матерью, деревянный, под железной крышей.
В занавешенном окне брезжил свет.
Узкая, красным кирпичом мощеная дорожка. Темный куст дикой колючей розы. Крыльцо. Три ступеньки. Всё знакомо. Всё как во сне, который уже много раз снился.
Белье сохло на веревке между яблонь: женские панталоны, сорочка, детские майки, трусы, простынь.
Гарик стоял, смотрел. Вдруг отодвинулась занавеска, и в освещенном окне показалось лицо. Приблизилось к стеклу. Знакомое, долгожданное, оно показалось Гарику чужим. Может быть, виноват был желтый электрический свет, а может быть, время, давно разделившее их.
Гарик отступил на тропинку. И зашагал к вокзалу. Мать не узнала, что он приезжал.
В Москву вернулся ночным поездом. Ехал с удобствами, плацкартом. Взял белье, лег и не мог уснуть. Ворочался на узкой полке, слушал дыхание спящих. В конце концов сполз вниз и ушел курить в холодный тамбур. Мужик поднес к его сигарете горящую спичку. Спросил:
– Болеешь?
* * *
Николай говорил, что район отличный, обжитой.
Говорил:
– Ты вообще не изменилась. Нисколько.
Улыбался.
Спросил, не жарко ли ей.
Знаешь, я ужасно рад, что тебе пригодился. Старые друзья, знаешь.
Вера отмалчивалась.
Его телефон зазвонил, отвлек. Слава богу.
– Да. Я. Да. Понял.
Воскликнул:
– Черт бы их побрал совсем! Вызывают. Приспичило! Я тебя у метро высажу, ты сама посмотри квартиру, если что-то не устроит, мы обсудим. Держи ключи.
– Ты уверен?
– Конечно. Вот здесь я припаркуюсь. Там тебе хорошо будет. Увидишь. Устраивайся. Если что, звони. В любое время дня и ночи.
Он вдруг ткнулся губами Вере в щеку.
Когда-то они учились на одном курсе, и Коля безнадежно и утомительно за Верой ухаживал. Алла уговорила ее позвонить ему, дала номер. Она всё про всех знала.
Вера осталась одна в незнакомом еще месте и с любопытством огляделась. Горели огни фонарей, светились витрины лавочек, пахло выпечкой и кофе. Чем-то еще, горячим и сытным. Вера не удержалась, взяла кофе в бумажном стаканчике и слойку с чем-то вроде мяса.
Кофе был – огонь, и она долго ждала, пока он остынет, глазела на прохожих, и один мужчина ей вдруг подмигнул.
Доела слойку, выпила кофе. Голуби подбирали крошки.
Вера шагала асфальтовой дорожкой. Обогнула башню, прошла вдоль серой панельной громады. Повернула и увидела единственную в округе пятиэтажку.
«Мой новый старый дом».
Во дворе теснились машины.
Четвертый подъезд. Код.
Домофон пискнул, и Вера потянула дверь на себя.
Подъезд был неплох. Чистый. Стеклопакеты. Конечно, раздражали запоздалые вспышки чувствительных к движению экономных ламп. Пахло застарелым сигаретным дымом, рекламные листки валялись на подоконнике и на полу возле почтовых ящиков.
Вера отыскала в связке маленький ключик и отворила свой (с нынешнего вечера) ящик, вынула листки, рассмотрела (заказ пиццы, ремонт квартир, вновь ремонт) и сложила их на подоконник в общую свалку. Как будто бы узаконила свое здесь пребывание. Поднялась на пятый этаж по исхоженным каменным ступеням.
Дверь самая обыкновенная, стандартная, металлическая, обтянута черным дерматином. Два замка. Глазок.
Вера достала ключи, отомкнула замки. И наконец-то переступила порог своего нового жилища. Дверь поспешила захлопнуть. Услышала щелчок. Дернула ручку. Дверь не поддалась.
С таким защелкивающимся замком надо полегче, не дай бог без ключей выскочить.
Вера нащупала выключатель, нажала рычажок, и лампа осветила прихожую.
Голая лампа на витом шнуре.
Вера удивленно посмотрела на эту тусклую и в то же время слепящую лампу. На оклеенные бумажными обоями стены, на деревянные, окрашенные коричневой масляной краской полы, на сиротские мужские тапки со стоптанными задниками.
На крючке висело черное мужское пальто. Пыльное на широких плечах.
Удивительно.
Николай наплел ей о евроремонте, о натяжных потолках, об итальянских светильниках.
Вера оглянулась. Изнутри дверь оказалась деревянной, простой, выкрашенной той же краской, что и полы, разве что посветлее. И замок был только один, старый, так называемый английский, он и защелкнулся. И никакого глазка в двери.
Вера прошла в небольшую кухню. Включила лампу под стеклянным старомодным колпаком.
Из щели в деревянной, неплотно пригнанной раме дуло. Светились огни дальней башни. В мойке скопилась грязная посуда. На столе, на клеенке, среди крошек и колбасных шкурок поблескивала капля воды. Вера коснулась ее, как будто хотела убедиться в ее (или своей) реальности. Мокрый палец вытерла о юбку. Погасила свет. Прошла в комнату.
Ее освещала трехрожковая смешная люстра. В точности такая была когда-то в доме Вериной бабушки. Точнее, прабабушки. Но Вера звала ее бабушкой. И диван стоял в точности такой же. И трехстворчатый полированный шкаф.
Открывая дверцу, Вера готова была встретить бабушкино синее платье из крепдешина, но увидела мужской пиджак на плечиках. Во втором отделении, на полках, лежало постельное и нательное мужское белье. И тут же резная шкатулка, тоже в точности бабушкина. Вера подняла крышку и увидела поверх писем в почтовых конвертах темно-зеленую книжицу паспорта. Ровно бабушкин из шкатулки, один в один (в те давние времена именно такого вида паспорта были у нас в обиходе).
Вера открыла документ.
Молодой человек на черно-белой фотографии. Темные глаза, темная челка, прямой маленький нос. Белая рубашка, галстук. Игорь Васильевич Никодимов, 1944 года рождения, русский.
Вера убрала паспорт, замкнула шкатулку, закрыла шкаф. Она решила, более не медля, позвонить Николаю.
Сигнал смартфон не ловил. Ни в комнате, ни на кухне, ни в коридоре.
Вера подумала: ладно.
Она слишком устала. В конце концов, квартира была старомодной, но не запущенной, наоборот, всё это старье, включая газовую плиту, телевизор, краны и, что самое удивительное, паспорт, казалось новым. Так что Вера спрятала бесполезный смартфон. Всё равно идти ей было некуда.
Она подняла и установила вертикально сиденье дивана. В ящике под сиденьем, как Вера и думала, лежало одеяло в стародавнем пододеяльнике, простынь и подушка. Белье показалось Вере не совсем свежим, она сняла его, бросила на пол у стены, вынула из шкафа чистое, с нашитыми метками прачечной.
Вера постелила, приняла душ, забралась под одеяло, посмотрела на огни дальней башни и уснула.
* * *
Поезд пришел во втором часу ночи. На фасаде вокзала горела праздничная иллюминация. В этот год отмечали столетие со дня рождения В.И. Ленина. Гарик подступил к машине с зеленым огоньком. Водитель сидел в салоне, закрыв глаза.
Гарик постучал в стекло. Договорились за трешку.
Ехали молча пустынными ночными дорогами, которые все казались чужими. В кабине было тепло. Гарик сидел рядом с водителем. Добрались они минут за тридцать – долетели, – водитель гнал. Гарику жалко стало, что так быстро закончилась эта поездка, он был бы не прочь сидеть и сидеть в теплой машине, катить и катить – куда-нибудь, подальше.
У своего дома Гарик посмотрел на темное окно кухни.
Поднялся на два марша, открыл почтовый ящик, вынул газету (он выписывал «Известия») и, не спеша, нехотя, стал подниматься к себе на пятый. На ходу достал ключ.
Он вошел в темноту прихожей, захлопнул дверь. Замок защелкнулся.
Не разуваясь, Гарик протопал в комнату, сбросил рюкзак и увидел на полу что-то белое. Какую-то кучу. Он наклонился. Простынь. Пододеяльник. Гарик оглянулся и увидел на диване спящую женщину.
Рука на белом пододеяльнике.
Гарик осторожно подкрался. Женщина дышала. Спала. Пахла яблоком. Антоновским. Занавески были открыты, за ними темнело небо. Впрочем, над Москвой и тогда небо не бывало непроницаемо темным.
Гарик стоял, смотрел на спящую. Тикал круглолицый будильник.
Гарик отступил от дивана, расшнуровал и стянул ботинки, бесшумно вернулся в прихожую. Наткнулся на что-то, остановился. Прислушался. Тихо. Наклонился, нащупал оставленные Верой туфли. Снял с крючка тяжелое зимнее пальто. В комнате он сдвинул гору белья, постелил пальто, улегся на него, подобрал ноги. Он так вымотался, что сил не осталось думать или, тем более, разбираться, откуда эта женщина в его квартире, в его постели, кто она, каким образом вошла.
«Наверное, Лёха, – так решил Гарик. – Наверняка. Завтра. Разберусь».
И закрыл глаза. Собственное тело показалось ему тяжелым, чугунным.
Он проваливался сквозь пол, сквозь все поверхности, сквозь землю, и дальше, дальше, дальше.
Вера проснулась засветло.
Открыла глаза, закрыла. Лежала, слушала, как проезжают внизу машины, как урчит на кухне старый холодильник.
Всхрап.
Вера открыла глаза, приподнялась на локте. И увидела у стены на полу спящего. Не закричала, не охнула. Очень тихо сползла с дивана на ледяной пол. Не спуская глаз со спящего, оделась.
Он не шевелился. Дышал затруднено. Простуженно. Вера захватила свою сумку, пробралась в прихожую. Обулась в темноте. Нащупала замок.
Она выскочила на площадку, захлопнула дверь и помчалась вниз по лестнице.
Гарик проснулся от ахнувшей двери. Не мог понять, почему он лежит на полу в ворохе постельного белья. Рука затекла. Гарик сел и принялся ее растирать, шевелить пальцами. И замер, вспомнил о женщине. На диване ее не было. Гарик поднялся, прислушался.
Стрекочет будильник. Слышны чьи-то голоса на площадке.
Яблочный прохладный запах.
Гарик обошел квартиру, заглянул в туалет и ванную.
На кухонном столе он увидел тонкий прямоугольник. Точнее, что-то вроде пластины прямоугольной формы, толщиной, может быть, в пять миллиметров. Она была металлическая, гладкая, с одной стеклянной стороной. Стекло черное, непрозрачное, холодное. У металлического края в стекле было небольшое круглое углубление, вмятина, как раз под палец. Гарик погладил углуб-ление, чуть надавил, и стекло осветилось. Появились небольшие цветные картинки. Под каждой – пояснение:
«Сообщения». «Календарь». «Фото».
В левом верхнем углу мельчайшими буквами надпись: «Нет связи».
Гарик осторожно коснулся картинки с надписью «Фото». На экране (Гарик уже, конечно, понял, что это экран) появилось множество мелких изображений. Гарик коснулся одного из них. Изображение раскрылось.
На цветном снимке он увидел женщину.
Она сидела на скамейке. Наверное, в парке. Пятно солнечного света лежало на круглой щеке. Фотография летняя, ясная, хотелось смотреть на нее и смотреть. Гарик коснулся освещенной щеки, и фотография свернулась.
Чудеса.
Гарик оставил механизм (нет, это слово, конечно, не годилось) на столе и направился в ванную. Посмотрел на свое лицо в зеркале, достал бритву. Когда он вернулся из ванной на кухню, экран был непроницаем. Гарик не стал его тревожить. Допил остатки воды из чайника, надел ботинки и куртку и вышел из квартиры.
За углом возле булочной стояла телефонная будка. Она была занята. Дверь запиралась неплотно, и Гарик слышал разговор.
– Нет, ты не понимаешь. И никогда не поймешь. И хлеб он не ест.
Лёхе дозвониться Гарик не смог, только напрасно потратил двушку, а когда вернулся, удивительной штуки на кухонном столе (да и нигде в квартире, Гарик всё обшарил, даже антресоли) уже не было.
Вера вспомнила о смартфоне у самых дверей метро, в утренней и уже усталой толпе. Выбралась из толчеи и побежала назад, к дому, по обочине, против людского течения.
Она позвонила в дверь несколько раз. Никто не откликнулся.
Вера отомкнула замки. Не переступая порог всмотрелась в полумрак прихожей. Ничего. Ни тени, ни шороха. Вера шагнула в прихожую, но двери за собой не закрыла, оставила путь к отступлению. Ни на что не обращая внимания, пролетела на кухню, схватила со стола смартфон и рванула из квартиры вон. Дверь захлопнула и понеслась вниз по лестнице.
– Твою мать! – вскрикнул, едва успев посторониться, мужчина; он поднимался тяжело, грузно.
Уже выскочив из подъезда, Вера включила смартфон. Связь восстановилась. Вера набрала номер Николая. Он отозвался мгновенно.
– Верочка? Доброе утро.
– Да, Коля, это я. Не понимаю, зачем ты мне лгал. Евроремонт, все дела. Зачем? Мужик какой-то. Спасибо, что не убил во сне.
– Верочка, милая, о чем ты?! Я ничего не понимаю, я сейчас же приеду. Ты где?
– Подхожу к метро.
– Подожди, я мигом.
– Поторопись. Ключи тебе верну.
Ларьки все уже работали, пахло дешевым кофе, и Вера его купила. Заняла место у высокого столика. Отпивала понемногу приторный напиток, ей казалось, что губы слипаются.
Он ее успокаивал, этот дешевый растворимый кофе с молоком, три в одном, чистая химия. Успокаивал и напоминал детство. Он точно ее баюкал. Вера пила его по утрам из громадной кружки. Мать еще спала, Вера собиралась в школу самостоятельно, на кухне включала телевизор, звук почти убирала, ей не хотелось, чтобы от какого-то вскрика мать вдруг проснулась, пришла и начала бы говорить:
– Ну почему ты себе кашу не завариваешь, ведь вот же лежит, ты же взрослый человек, мы же договорились, держи слово.
Мелькали на экране картинки, вспыхивали и гасли. Подобие первобытного костра, очага.
Вера умывалась, пила свой кофе, одевалась, выключала телевизор, уходила, запирала дверь. Мать хвасталась ее самостоятельностью, ответственностью, спокойным и твердым характером. Собранностью. Вера сама себе казалась в детстве очень уже старой, давней, всё про эту жизнь понявшей.
Припарковалась машина. Выбрался из нее Николай, завертел головой.
Вера сердито за ним наблюдала, ждала. Высокий, с маленькой головой на тонкой шее. Увидел наконец, заулыбался, побежал к ней.
– Верочка!
– Пойдем.
И Вера, швырнув пустой стаканчик в урну, широким шагом направилась по асфальтовой дорожке от метро. Николай догнал, взял ее под локоть. Вера почувствовала, что пальцы его дрожат, и отдернула руку.
Подъезд, истертые ступени, вспыхивающие, как в фильме о конце света, лампы. Обитая черным дерматином дверь. Два замка. Черный непроницаемый глазок.
Вера отперла дверь, распахнула. Открылся полумрак прихожей.
Вера оглянулась на Николая, внимательно на него посмотрела и переступила порог. Николай вошел следом, хлопнул клавишу выключателя, и прихожая озарилась светом.
Не было старых (хотя и новых) обоев, не было старомодной вешалки с крючками и полочкой для головных уборов, не было пальто и стоптанных тапок. Ничего не соврал Николай. И подвесные потолки, и плазменный телевизор, и кофемашина. Всё, как обещал, без обмана.
На столе в круглой стеклянной вазе синели ирисы.
Он наблюдал за ней. Вера же растерялась, смутилась.
– Так что же не так? – мягко поинтересовался Николай.
– Я не знаю, я где-то не здесь была, – пробормотала Вера. – Я. Правда. С ума схожу.
Он торопливо принялся ее утешать:
– Ты могла перепутать подъезд, и ключи могли совпасть, знаешь, как в кино, «Ирония судьбы».
– Чушь. Нет. Подъезд тот.
– Этаж?
– Тот. Самый верхний.
– И крыша, заметь, не протекает, в доме был капитальный ремонт, весьма удачный, я тебе говорил.
– Да. Извини. Я не понимаю.
– И я. Но если всё нормально, давай я сделаю кофе. В холодильнике пачка, я оставил. Ты знаешь, что кофе надо хранить в холодильнике?
– Нет. Не важно. Я не хочу.
– Верочка?
– Что?
– Ты можешь бесплатно здесь жить. Сколько хочешь.
– Нет, Коля, бесплатно мне не нужно.
– Понял.
– Я хочу побыть одна.
– Понял. Ухожу. Ты только. Ты загляни всё же в холодильник.
Он оставил ее, слава богу, его присутствие было мучительно.
Вера обошла прекрасную квартиру, касаясь чудесных ровных стен комнаты, как будто зефирных.
Она вынула смартфон. Связь была, и прекрасная. Вера позвонила Алле и сказала, что приедет позже в связи с непредвиденными обстоятельствами.
– Может, тебе отгул взять? У тебя есть отгул.
– У меня встреча на двенадцать.
– Ну, будь молодцом, не опаздывай. А директрисе все-таки доложишь.
Кофемашина из светлого металла, основательная. Не кофемашина, а кофезавод. И Вера решила попробовать, какой получится кофе. Заглянула в холодильник, тоже из светлого благородного металла. Он умещался на крохотной кухне и не загромождал ее, так как всё здесь было продумано, просчитано, мебель, очевидно, делали на заказ. В холодильнике в прозрачном коробе торжественно лежал торт. Вера посмотрела на него недоуменно и затворила дверцу.
Вера сварила кофе, крохотную чашку густого эспрессо, и выпила его, стоя у окна, глядя на дальние башни, пытаясь вообразить, как люди в них спят или, может быть, завтракают, или уходят, покидают свои жилища, и в них сейчас темно и тихо.
Так, на сегодня кофе достаточно.
Вера взяла смартфон и сфотографировала дальние башни.
Чашку Вера вымыла. Подкрасила губы у овального зеркала в прихожей, погасила свет и вышла на площадку. Дверь она захлопнула, но замок отчего-то не защелкнулся. Вера вставила ключ в замочную скважину, повернула. Спустилась на марш и вспомнила, что вновь оставила смартфон, забыла на подоконнике.
Да что ж я…
Пришлось возвращаться, и вынимать ключи, и отпирать замки. Кто-то бубнил на площадке.
В прихожей стоял мужчина. Он оглянулся и посмотрел изумленно в открытую дверь.
Он ли спал сегодня на полу у стены, или кто-то другой, Вера не могла сказать точно.
– Простите. Я…
Вера не успела договорить, мужчина махом захлопнул дверь.
Кажется, он даже ее не заметил.
– Ничего себе, – сказала Вера. И надавила кнопку звонка.
Она слышала трезвон в квартире. Мужчина и не думал открывать.
Что было делать? И в полицию не позвонишь, смартфон за железной дверью, в плену, пока будешь бегать, его и следа не останется, да и уже нет. Бред. Бред.
«Вот сейчас открою дверь, войду и меня убьют», – так подумала Вера и принялась открывать замки (оба оказались замкнуты).
Вера вступила в прихожую с деревянным крашеным полом и оклеенными бумажными обоями стенами. Пальто на крючке. Ботинки. Вера об них споткнулась.
Гарик с ножом в руке (резал хлеб) направился в прихожую – на шум.
Вера вскрикнула.
– Ага, – сказал Гарик. – Вы.
Вера не отводила глаз от лезвия, от грозного кинжального клинка.
Когда-то в детстве Игорю (и Горюну – такие он носил тогда имена) выточили его в железнодорожных мастерских знакомые ребята. Ручка красивая, наборная, удобная. Мечта шпаны. Мать, конечно, отобрала, а когда он собрался учиться в Москву, вручила. Словно оружие собравшемуся в путь рыцарю.
– Я Лёху убью, пусть пишет завещание. Он вам ключ дал?
– Николай. Я у вас телефон забыла.
– Телефон не телефон, но какую-то штуку вы здесь действительно оставили.
– Смартфон. Будьте любезны, верните мне его.
– Не могу. Я бегал звонить этому идиоту Лёхе, не дозвонился, вернулся, а этой штуки нет, испарилась. А что это? Это какая-то новая разработка?
– Это я его забрала. Я его дважды забыла. Видимо, пока вы ходили звонить, я вернулась, но потом я сюда пришла с Николаем и опять забыла. Он должен быть на кухне. На подоконнике. Я там стояла и фотографировала вид из окна.
– Нет его на подоконнике. Правда. Проверьте. Пожалуйста. Проходите. Туфли можно не снимать.
И Вера прошла. Она поняла, что Гарик (тот самый мужчина, который захлопнул перед ее носом дверь), несмотря на клинок, безопасен.
На кухне (Вера уже поняла, что это будет за кухня и что, конечно, никакого смартфона на ней нет) Вера хотела спросить, не замечал ли мужчина странностей в своей квартире, и разрыдалась. Никогда еще с Верой такого не случалось, разве что в самом раннем детстве.
Гарик растерялся, спохватился, бросился усаживать Веру на табурет, подал воды.
Вера отпила глоток, шмыгнула носом, спросила разрешения пройти в ванную.
– Конечно, конечно! – воскликнул Гарик и побежал за чистым полотенцем.
Вера умылась холодной водой, он подал полотенце и сказал:
– У меня чай заварен.
Он налил ей чая, и себе налил чая, сахарницу придвинул, хлеб, колбасу.
– Не отказывайтесь, пейте, ешьте, найдем мы ваш этот смарт. Это всё Лёха, он прибрал, больше некому, ему заняться нечем, козлу, живет как в кино, сплошные приключения. Себе же на жопу.
Гарик придумал себе вот какое объяснение происходящего:
Вера (он уже спросил ее имя и назвался сам) работает в секретном НИИ, Лёха с ней, конечно, познакомился, он и с академиками знаком, и с космонавтами; удивительный прибор, который Вера забыла у него на столе, а потом еще где-то, – ее изобретение, о нем никто не знает, военная тайна; идиот Лёха (зачем я ему дал ключи от своей квартиры, вот дебил), этот хмырь болотный, сказал девушке, что она может здесь переночевать (почему-то ей негде переночевать, мало ли), зачем-то у нее оказался при себе этот смартфон. Да. И Лёха его спер. Шуточка такая. Нехилая такая шуточка. Были в этой версии нестыковки, но худо и скудно она всё же объясняла, годилась как заплатка.
Вера молчала, и Гарик ее не тревожил вопросами, тоже молчал.
Она отхлебнула чаю (и как будто вновь всхлипнула) и посмотрела в окно.
Серая мгла, окна мерцают в дальних башнях. На улице мгла, а на кухне, на клеенке – пятно света. Солнечный теплый луч. Вера протянула руку и пошевелила осветившимися пальцами.
– Откуда солнце?
– Из окна.
– А что там, за окном?
– Ну, солнце.
– А еще?
– Небо.
– Синее?
– Синее.
– А еще?
– След от самолета. В небе.
– А год нынче какой?
– А какой надо?
– Я серьезно.
Гарик взял с подоконника газету и протянул Вере.
– Сегодняшняя.
«“Известия народных депутатов, – прочитала Вера. – 1970 год. 19 сентября. Суббота”. А у нас вторник. 2017 год».
– Ого, – подумал Гарик, – значит, та штука была машиной времени.
Не то чтобы он враз поверил, что Вера из будущего, но и не отверг с налета и в сумасшедшие ее не записал. Он жил в эпоху, когда будущее казалось чем-то вроде рая, земли обетованной, куда очень хотелось заглянуть. И фантасты заглядывали, и вопрос о машине времени оставался открытым.
– А у вас что за окном? – спросил Гарик.
– Слякоть.
Вера, пожалуй, походила на иностранку. На француженку. Хотя француженки все худенькие, как школьницы, а Вера была как спелое яблоко. И пахла яблоком, садом. И прохладой. Туфли у нее в грязных каплях, и подол плаща. В грязных и непросохших. Так что – задумаешься.
Плащ, туфли, длинная юбка в косую клетку. Плащ синий, яркий – синяя шаровая молния. Не бывает синих молний, так будет. Кольца нет на безымянном пальце.
– Вы мне не верите.
– Почему? Смартфон этот был вполне фантастический.
– Это телефон. Без проводов. По сути, маленький компьютер. Но вы, наверное, не знаете, что такое компьютер? Ладно. Я пойду. Попробую. Не знаю. Что-нибудь.
Она поднялась и направилась в прихожую. И Гарик поспешил за ней. Открыл дверь.
– Лёха ваш тут ни при чем, – сказала Вера и шагнула через порог на площадку.
И тут же растаяла в воздухе.
Ошалелый Гарик выскочил на площадку, упустил дверь, и она захлопнулась.
Яблочный прохладный запах. Но и он растаял.
Вера стояла на площадке. Смотрела на захлопнувшуюся дверь.
Черный дерматин. Сухим блеском отсвечивающий глазок. Два замка. И ключи от них у Веры в сумке. Вера достала ключи, но открывать не спешила, не решалась. Услышала тяжелые и редкие шаги. Они приближались.
На площадку пятого этажа поднимался грузный мужчина. Его она недавно едва не сшибла. Он поднимался по маршу. Раз-два. Пауза. Раз и два. Пауза. В таком примерно ритме.
Уже на площадке взглянул хмуро и направился к соседней двери.
– Подождите, – сказала Вера. – Могу я попросить вас об одолжении?
Она попросила его отворить ей дверь, сказала, что ключ заедает, но вдруг у него получится. Он помедлил, но отворил. Отступил, и Вера услышала трезвон смартфона. Мелодию из сериала «Шерлок».
– Вера-Вера, – только и сказала секретарь (и надсмотрщик) Алла, когда-то однокурсница (и староста).
Вера добралась до работы в первом часу. Клиенты уже двадцать минут ее дожидались, спасибо, не роптали.
Опоздание свое, два с половиной часа, Вера отработала, вышла из конторы в половине десятого вечера. Глаза не смотрели, язык не ворочался, ноги едва шли. Даже есть уже не хотелось. Тем более не хотелось звонить Николаю. Да и что бы она ему сказала? Что если сама открывает дверь (сама и, наверное, без свидетелей; это еще следовало проверить), то попадает в квартиру 1970 года. В ту самую, очевидно. Та самая квартира, тот самый дом, тот самый город, та самая страна – время другое.
Вера-Вера, как говорит Алла.
Просить кого-либо отпереть дверь, чтобы попасть в современную квартиру, зефирную, практически съедобную, на это куража не было. Так что Вера поднялась на свой пятый, жмурясь от белых вспышек, сама отворила черного циклопа и вошла к Гарику в его 1970 год. Вошла и сказала:
– Это я, – как будто к себе домой вошла, как будто ее ждали.
Ждали или не ждали, но не услышали. Бренчала гитара, журчали голоса, дымом пах воздух.
О нет, только не это.
И Вера решила уже вернуться к себе в 2017-й, но не успела, в прихожую заглянул веселый человек с налипшими на потный лоб волосами, и лицо веселого человека показалось Вере знакомым.
– Простите, – сказала Вера.
– Молчите. Я всё знаю. Вас зовут Вера, вы исчезаете и появляетесь, у вас ключи от Гарькиной квартиры, и он думает, что их вам дал я, а я не давал, но он не верит.
Голоса бормотали и восклицали, дребезжала гитара.
– Вы обязаны меня реабилитировать, пойдемте.
– Я устала, как собака, я сглупила, прошу прощения, я ухожу.
– Ни за что вас не отпущу!
И молодой человек вмиг проскользнул к двери и загородил ее.
– Имейте совесть.
– Вот чего-чего, а совесть у меня есть. Пойдемте, Верочка, к нам, а? Там хорошие все люди.
– Я не люблю пьяные компании, Лёша (видите, я тоже знаю ваше имя). Мне нужно отдохнуть.
– Мы не пьяные, мы культурные, и вы отдохнете. У нас картошка есть. Только что отварили. Такая, знаете, рассыпчатая, Гарик от матери привез, она там у него живет, за лесами.
– Болтун, – сказала миролюбиво Вера.
Лёха замолчал и смотрел на нее умильно-ласково, как добродушный дворовый пес. И Вере вдруг захотелось к ним на маленькую кухню, в тот мир, мирок, который она только в кино и видела (фильмы оттепели или, может быть, чуть более поздние). Товарищество, любовь.
«А за окном то дождь, то снег, тататататари», – проговорила гитара.
– Картошка, – сказала Вера. – Масло-то есть к картошке?
– Не уверен.
Картошку они отварили в мундирах, ели с крупной блестящей солью. Стояла на столе водка, и Вера выпила стопочку, не отказалась. Гарик чистил ей картошку (снимал мундир) и смотрел блестящими глазами. Он ее представил как ученого из секретного НИИ, Вера не отреклась.
Лёха, Гарик, очкарик с гитарой, девушка Оля. Они разговаривали, Вера не вслушивалась, но вдруг поняла, что они говорят о «Белом солнце пустыни» (кто-то воскликнул: «Гюльчатай»), видимо, фильм вышел совсем недавно.
– Бергман! Вот настоящее.
Звук их голосов был ей приятен. Глаза слипались.
– Народ, – сказал Гарик. – Объявляю заседание закрытым.
И все они, даже неутомимый, искрящийся, солнечный (наверное, даже во сне) Лёха, распрощались, заспешили по домам, разошлись, и Вера осталась с Гариком вдвоем на прокуренной кухне, в тишине. Впрочем, тишина была только для Гарика, ночная тишина 1970 года, Вера слышала то вой автомобильной сигнализации, то тяжелые басы, кажется, от соседей снизу. Свой 2017-й.
– Я вам постелю на диване, а себе здесь на кухне.
– Где здесь? На полу?
– Я половик постелю, у меня половик есть на антресолях, знаете, такой пестрый, деревенский, он мне вроде как в наследство достался.
– Прекрасно. Вот мне на нем и постелите.
– Ни в коем случае. Мне на кухне удобнее. Во-первых.
– А во-вторых, чем вы моете посуду?
Они убрали со стола. Вера мыла, Гарик вытирал («полотенце принесите чистое для посуды», – и он принес). Вытирал и ставил в шкафчик тарелки, стопки.
Тихо, молча, как уже привычные друг другу люди, как близкие.
– Я вам покажу мой вид из окна, – сказала Вера, когда уже протерли стол насухо.
Вера включила смартфон, открыла фотографии, развернула во весь экран последний снимок.
Окно, а за ним огни дальних башен.
– А вы что видите? Подождите, не говорите, попробуйте снять, я вас научу, это элементарно просто. Свет погасите.
Гарик примерился, коснулся белого кружка внизу экрана осторожно, как будто смартфон был чем-то вроде корытца с водой и он боялся ее расплескать или даже слегка поколебать (тогда изображение исчезнет).
За окном Гарика луна освещала дальние поля.
Вера положила смартфон на стол. Экран погас, и Гарик дотронулся губами до круглой мочки ее маленького уха.
– Мне бы в душ, – сказала Вера.
– Зачем?
Уснули они на диване вдвоем. Гарик поставил будильник на семь. Фосфорные его стрелки и фосфорные его цифры светили выморочным бледным светом из темного угла.
Гарик проснулся в пять, смотрел на циферблат, похожий на маленькое лицо, и не шевелился. Вера дышала ему в плечо. Гарик думал о времени. В тогдашних фантастических книгах пугали встречей с будущим. Она меняла прошлое, меняла историю.
«А и бог с ней», – подумал Гарик и закрыл глаза.
Уже в метро, в толпе, Вера вдруг поняла, что Леха похож на актера; фамилию, Вера, конечно, не помнила. Пришлось спрашивать Аллу.
– Фильм был. Красивая женщина, она шпионка, она голову ему кружит, он легкомысленный, но хороший, у него дядя на заводе, инженер-конструктор, самолеты, и ей надо к дяде через него подобраться, к чертежам. Старый фильм.
– Я поняла, – остановила ее Алла. – Это тридцать пятого года фильм. Молодого играл Ковальский Степан, красавчик неимоверный, его расстреляли в сороковом.
Википедия, впрочем, уверяла: были свидетели, видели Степана Ковальского в лагере, в Магадане, в сорок втором. А некто Удодов К.С. встретил Степана на фронте, в штрафбате, в сорок третьем.
«…Достоверно известно, что Ковальского арестовали 5 мая 1940 года, а в январе 1941-го, 21 числа, у жены Ковальского Клавдии родился сын Леонид. С 1966 года его сходство с отцом стало разительным, молодого человека начали узнавать на улицах (несколько фильмов, в которых снялся Ковальский, не утратили популярности и по сей день; актер обладал харизмой, как принято сейчас говорить).
Лицо, походка, голос и, главное, обаяние, всё это сыну Леониду досталось по наследству. Он не получил актерского образования (с трудом окончил строительный институт), но его приглашали сниматься. В фильмографии Леонида Степановича один игровой фильм и два документальных – в одном из них он сыграл своего отца; многие до сих пор пребывают в уверенности, что это хроникальные кадры. Кроме того, Леонид выступал на сцене молодежного экспериментального театра в небольших ролях.
После 1970 года он стал меняться; никто уже не узнавал в нем отца. Леонид отяжелел, обрюзг, пил, работал то грузчиком, то кочегаром. После 1973 года следы его теряются. Во всяком случае, мы более не нашли свидетельств его жизни. О смерти его мы также ничего не знаем».
Вера закрыла статью в Википедии, налила себе чаю и принялась за работу.
* * *
Оливки, маслины. Черное и зеленое.
Чай. Черный и зеленый.
Надо будет на эту тему пошутить.
Вера кружила по супермаркету, толкала тележку и не могла придумать шутку.
Вечер был спокойный, тихий, не в пример вчерашнему. Затеплились фонари, а небо не остывало, не гасло. Вера шла домой и воображала, как выложит на маленький кухонный стол все свои дары, и зеленый плод авокадо, и черные сливы.
Черное и зеленое. Что бы придумать?
Гарик обещал взять серого хлеба, отварить картошки. Основа, так сказать, трапезы. А по ней уже расшивать. Черное и зеленое.
Немного розового – форель. И розовое французское. И пирожные брауни, темно-коричневые, почти черные. И зеленые листья салата. Так!
Никого не должно было быть гостей, только Вера и Гарик. И окна они занавесят. Так и будет. Так и было.
Гарик посмотрел на накрытый стол. И пропел:
– …Красное, зеленое, желтое, лиловое…
– Я знаю! – воскликнула Вера. – Эту песню!
Чудо. Чудо из чудес.
* * *
Николаю позвонил грузный сосед. Сообщил, что новая жиличка дымит. Курит.
– Вулкан Везувий. Я утром на кухню боюсь войти, я задыхаюсь.
– Милая Вера, – жаловался Николай по телефону, – он ведь не успокоится, он нас обоих изведет. Он через стену живет с вами и ко всему принюхивается. Крыса.
Вера объяснила, что не курит и гостей курящих (да и некурящих) не водит.
– Может быть, снизу дым.
Звонил Николай днем, Вера была на работе, говорила тихо, сдержанно. Николай извинился, что отнимает время, уверил, что всё уладит.
Через час с небольшим он входил в свою квартиру.
Сосед, несомненно, сумасшедший. Ни следа пепла. Пахло разве что пылью. И пыль Николая удивила. Здесь никто не появлялся давным-давно. Вера платила за квартиру, в которой не жила. Для чего?
Николай проверил счетчики. Вода и электричество не расходовались. Он фиксировал все показания в особом блокнотике.
Вызвонил соседа, показал квартиру. Сосед хмурился, не отступал:
– Сейчас не пахнет, а то пахло. Спалит она тебя. И меня заодно.
– Она здесь вообще не появляется, пыль лежит ковром.
– Каждый вечер приходит. В восемь тридцать, плюс-минус. Пакеты тащит из нашего супермаркета. Я вижу.
– Чудишь ты на старости лет.
– Я в полицию напишу.
– Пиши. Пусть с экспертизой приходят. Если уговоришь.
Сосед хлопнул дверью.
Николай походил по дому. Ирисы увяли, вода в стеклянном шаре замутилась, пахло от нее гнилым болотом. В холодильнике в прозрачном коробе лежал нетронутый торт. Как царевна в хрустальном гробу.
Николай съездил по своим делам и вернулся к восьми. Встал у окна и к восьми тридцати действительно дождался Веры. Как и предсказывал сосед, с пакетами из супермаркета. В одном из них Николай разглядел бутылку.
Он ждал, прислушивался, ходил на цыпочках в прихожую, смотрел в глазок, но Вера на появлялась. Николай выходил уже на площадку. Нет. После девяти он уехал. Не знал, что и думать.
Положим, она познакомилась с кем-нибудь этажом ниже, и ходит туда, и там живет. Но зачем платить за ненужную квартиру?
Николай не любил загадок.
На Веру он обиделся. Ему казалось, она его грубо использовала. Его к ней чувство.
* * *
Звонил Николай, просил о встрече. Вера ответила:
– Сейчас не могу, у меня клиенты.
– Дело срочное, Вера, – голос нежданно печальный, серьезный. – Квартиру продаю – обстоятельства.
– Хотя бы не сегодня, – просила Вера. – Мне и ночевать негде. Ты же знаешь.
– Ночуй у меня.
– Нет, Коля.
Он молчал, молчал, молчал.
Хорошо, что клиенты ждали спокойно, без раздражения. В фейсбуке, впрочем, не преминули сообщить о своем терпеливом и снисходительном ожидании.
– Ладно, – решил он в конце концов, – давайте попробуем обсудить. Сегодня вечером. В восемь тридцать. Я закажу столик.
Ресторан был в одном из крутых, прихотливых переулков между Маросейкой и Солянкой. В полуподвале, с огоньками свечей на тяжелых столах и сводчатыми потолками. И всё это походило в воображении Веры на катакомбную церковь, где переговариваются вполголоса, где не едят, а причащаются, лица прячут в тени; ясно видны только белые тарелки, большие и плоские, а на них начертаны тайные соусные знаки, алые, желтые, зеленые. Иероглифы.
– Я виноват, – сказал Николай. – Я виноват, и я угощаю.
– Если тебе нужны деньги, – тонким голосом умоляла Вера, – я могу взять кредит.
– Не стоит, милая. К чему влезать в долги? Я подыскал для тебя квартиру в этом же районе. Прямо сегодня можешь въезжать.
Подлил ей в бокал прохладное вино.
– Верочка-Верочка.
– Я бы хотела остаться в твоей квартире. Я найду деньги. Правда. Я куплю ее.
– Покупатель уже найден. Не отступишь.
– Я с ним поговорю.
– Ах, Вера, загадочная Вера, для чего тебе моя квартира, ведь ты в ней даже не живешь? Я там был вчера, пыль и запустение.
Кажется, Николай наслаждался ее растерянностью.
– Но самое поразительное, что я тебя видел. Я дожидался у окна и дождался. Ты вошла в подъезд в половине девятого, я смотрел на часы. Но до квартиры так и не добралась. И я не могу взять в толк, что тебе в моей квартире, если ты живешь у кого-то другого, пусть даже в этом же подъезде?
Вера вдруг успокоилась. Посмотрела на Николая прямо.
– Хорошо. Придется показать. Я жду тебя на улице.
Она поднялась из-за стола и направилась к выходу из катакомб.
Он торопливо расплатился.
Выступил из полутьмы на узкий тротуар.
Вера разглядывала светящуюся витрину, дурацкие, нелепые сувениры: книги с пустыми страницами («Мертвые души», «Война и мир», «Война миров»), гнущийся нож, будильник на птичьих ножках. Алюминиевая фляжка-радио.
Николай приблизился. Ему казалось, что неслышно, но Вера оглянулась. Посмотрела на него без волнения, с какой-то даже скукой.
Они подъехали к скромной пятиэтажке, вошли в подъезд и поднялись на самый верх.
– Я войду, – приказала Вера, – а ты чуть позже. И, пожалуйста, не смотри, как я отворяю дверь, повернись ко мне спиной.
– Чтобы ты сбежала?
– Куда? Сбежать невозможно.
– Но зачем тогда?
– Чтоб не сглазить. Отвернись и не подглядывай. Потерпи и всё узнаешь. Тебе же любопытно?
– Детский сад, – пробормотал Николай. И отвернулся.
Он слышал отчетливо, как входит ключ в замочную скважину, как поворачивается. И второй ключ входит и поворачивается. Дверь открывается и тут же закрывается.
Николай развернулся и взялся за ручку двери. Заперта. Не поддавалась. Николай позвонил раз и второй.
Вот чертова Вера.
Достал свои ключи.
Веры в квартире не оказалось, он заглянул в каждый закуток. И запаха ее (яблочного, свежего) не было.
Николай выбрался из нежилой квартиры на площадку, замкнул дверь. Что делать дальше, он не представлял. Стоял под выморочным белым светом. Вдруг только что запертая им дверь отворилась, из темноты квартиры вышла Вера.
– Это что, фокус?
– Почти. Отворяй дверь, зайдем теперь вместе.
Вошли.
Велела следовать за ней. Николай был растерянно-покорен.
Сели за голым столом на кухне.
– Это был не фокус. Твоя квартира особенная: в нее люди можно войти, а обратно не выйти. Она взята под наблюдение. И поверь, в твоих интересах молчать о том, что ты сегодня увидел. Мне лично всё равно, что с тобой станет, если проболтаетесь. Это вообще не моя забота. Я лишь предупреждаю.
Николай молчал.
– Дошло?
– Да.
– Будем надеяться. Давно ты сдаешь квартиру?
– Пять лет. Семья с ребенком. Русские.
– Отчего съехали?
– В другом районе им удобнее стало. Кажется. Я не вникал. Отремонтировал после них. – Оглядел небольшую кухню.
Стены, как сливочный крем. Уютный плафон зеленого стекла.
– Здесь бабушка моя жила. Как вселилась в девяносто четвертом и до конца, до своего конца, до одиннадцатого года.
Вера молчала. Приказала:
– Оставь меня.
Ушел. Наконец-то.
Вера бродила по квартире, зажигала и гасила свет, включала и перекрывала воду. Прислушивалась к глухим, тяжелым звукам.
Музыка. Откуда?
Проводила ладонью по гладким приторным стенам. Смотрела в окно.
Мужчина стоял в желтом свете фонаря. Был он в черном пальто и в черной же шляпе и походил на героя нуара, то ли на сыщика, то ли на убийцу. И мелкий снежок летел кстати. И белела сигарета в пальцах.
Вера погасила забытый в ванной свет, проверила краны, покинула квартиру и вернулась – уже в 1970-й. Вот только за окном она по-прежнему видела год 2017. Желтый круг света, в нем – черный человек.
Гарик рассказывал о французском фильме; был закрытый показ, Гарик переводил синхронно.
– Болтают французы ужасно много, – жаловался Гарик, – я справился чудом. Легче разгружать вагоны, а я разгружал.
Вера полюбила за ним наблюдать. Как закуривает (всегда прячет в ладонях огонек, даже в комнате с неподвижным воздухом), как своим бандитским ножом кромсает хлеб (именно хлеб, серую буханку с поджаристой прочной корочкой), как стелет простынь, разглаживая складки, как бреется, серьезно глядя в зеркало. Она полюбила его запах, его темно-русые вихры (она сама их подстригала, ей думать было невыносимо, что кто-то еще может касаться его волос), она даже кашель его полюбила. Она таскала ему из своего 2017-го сладости и вино, дорогую одежду.
– Я только боюсь, – говорил Гарик, – что когда-нибудь ты не придешь. Я буду ждать, ждать, ждать. Я всегда буду ждать тебя.
Как-то раз, уже близко к Новому году, к запаху апельсинов и хвои, Лёха (а он захаживал к ним по воскресеньям, ближе к вечеру, точно грелся у них) пристал, прилепился к Вере, всё зазывал на премьеру, уговаривал, даже сердился.
– Таинственная женщина Вера, – говорил, – ну что вам стоит выйти с Гариком в свет, там будут приличные люди, шампанское в буфете. И я – на сцене. Ровно пять минут. Мне встать на колени? Гарик, давай встанем на колени.
– Давай ты успокоишься, Лёха. Или я тебя успокою, и твоя премьера не состоится, или состоится без тебя, подыщут другого, на пять-то минут, а ты будешь в Склифе со сломанным носом. И к нам не придешь уже никогда. Не пущу.
И говорил Гарик так сердито, что Лёха успокоился, точно протрезвел, точно и не был под легким градусом. Протрезвел и погрустнел. Допил свой чай и распрощался.
Гарик сказал, глядя в окно, что брел Лёха по ледяному тротуару совсем потерянно.
Они иногда вставали у окна оба и рассказывали друг другу, кто что видит. И, наверное, если бы кто-то из семидесятого года разглядел их кухню с той стороны стекла, то удивился бы самому с собой разговаривающему человеку. Целующему пустоту.
На второй день после Нового года у метро все ларьки были закрыты, смежили веки, спали, и в редком окошке башен горел свет. Валялся праздничный мусор, бутылки, бумажки, шелуха. Гарик уехал на работу, в институт, у них там не было долгих каникул, и Вере стало скучно одной, она решила добраться до центра, пройтись, а если где-то вдруг откроют кафе, то и посидеть с чашкой кофе. По эспрессо она скучала, в семидесятом его еще не знали в Москве. Гарик варил кофе в турке, сладкий, густой.
У метро Вера включила смартфон. Николай звонил несколько раз и, конечно, не дозвонился. Вера не стала откликаться, доехала, как и мечтала, до центра и даже нашла в Камергерском открытые двери кафе.
Вера попросила эспрессо, сказала:
– Не двойной, а тройной.
Звонок.
– Да, Коля, с Новым годом.
– Да уж, с Новым. У вас там есть связи? Вы можете помочь?
– В чем?
– Вы не в курсе? Поразительно. Вы первые должны. Наш дом сносят. Помогите. Люди не хотят уезжать. Многие. В ваших же интересах.
– Понятно, – сказала Вера и отключила смартфон.
Горек утренний кофе.
Вот они лежат вместе, брезжит зимнее утро, воскресенье, каждому сквозь стены доносятся свои звуки, прибой своего времени, шум. У каждого свое время и время общее. Как так получилось, они не знают. Почему именно Вера открывает дверь и входит сюда, к Гарику, в семидесятый, нет, уже в семьдесят первый?
– Не знаю, не знаю, – говорит Вера, – это единственное чудо, которое со мной приключилось в жизни, ничего больше не было, я не видела призраков, я не читала чужие мысли, я приехала работать в Москву, потому что у нас там работы нет, я живу на съемных квартирах, то на одной, то на другой, я никого не любила до тебя, связи были, но непрочные, нитяные, все оборвались.
– Я без тебя никто, – шептал Гарик. – Вот почему.
О том, что дом их снесут в 2018 году, Вера молчала.
Уже в марте жильцов выселили.
Дом еще стоял, но свет отключили и воду, и перекрыли газ.
Но дом еще стоял, и Вера входила в подъезд с фонариком, электрошокер держала наготове.
Изношенные ступени. Она и вслепую могла по ним подняться.
В самый последний день марта, 31-го, Вера поднялась на пятый этаж (он с каждым днем казался ей выше). Дверь в квартиру сорвали. Открывался темный проем. Вера шагнула в него. Осветила фонариком полы и стены. Кто-то уже нагадил, и весь прекрасный ремонт Николая Сергеевича пошел прахом.
Окно выбито на кухне. Был дом, было живое тело, а стал череп.
Бедный Йорик.
В 1980 году Гарик (Игорь Васильевич Никодимов, 1944 года рождения) женится на француженке и уедет к ней в Париж. Будет преподавать в Сорбонне. В 1981-м у него родится сын. В 1984-м – второй. Он издаст комментарии к средневековым философам. Переведет на русский с десяток полицейских романов. В 2005-м станет дедом.
Всё это Вера прочла в интернете вскоре после знакомства с Гариком.
Ему – не рассказала.
Вторая половина
Аня проснулась. Она не открыла глаз, не шевельнулась, но он знал, что она не спит. Он смотрел на нее, и она чувствовала его взгляд. Но скоро чувство ее ослабело, она вновь стала засыпать и ушла в глубину сна. Ему хотелось положить руку ей на живот, но он не решился, – вдруг ребенок там тоже спит одним сном с мамой, с мамой в одном сне, и его рука тенью войдет в их сон. Надо будет спросить, что ей снилось.
Начался день.
Он приготовил завтрак – сварил овсянку, заварил чай. Аня встала и пришла к нему на кухню. Он поставил перед ней чашку.
– Сливки у нас есть? – спросила она. И он отправился за сливками.
За завтраком он сказал Ане, что день у него расписан по минутам. И спросил с любопытством:
– А ты что будешь делать сегодня?
Ему хотелось знать в любой момент, чем она сейчас занята. Ему необходимо было знать это – для душевного равновесия.
Она сказала, что не может так всё точно рассчитать, как он.
– Для начала вымою посуду или полежу еще немного. Музыку послушаю. Галка наверняка позвонит. Это точно, никаких сомнений, но вот во сколько?
Она усмехнулась.
– Галка, в отличие от тебя, человек мало предсказуемый. Мои же дела все известны. Книжку почитать, пасьянс разложить.
– За компьютер не садись. Лучше погуляй с Галкой. Если она закурит при тебе, убью, так и передай.
– Да ведь я не скажу тебе, курила она или нет.
Взгляд насмешливый, он не любил, когда у нее такой взгляд. Он тогда казался себе глупцом, вернее, ум его обесценивался, обессмысливался под этим взглядом.
– Мне и говорить не надо. Волосы у тебя дымом пропахнут.
– Я их вымою.
– Ладно. Как хочешь.
– Не дуйся. – Наклонилась к нему, ткнулась в щеку. – Не будет она курить. Обещаю… Как я люблю, когда ты свежевыбритый, у тебя щека шелковая. И губы.
Совещание. Поездка на склад.
По дороге начался дождь. Он подумал, что сейчас они в парке без зонтов, позвонил. Аня сказала, что они смотрят телевизор.
Разговор с менеджером. Ответы на письма. Встреча с важным клиентом.
В офисе клиент встречаться не захотел, выбрали кафе на окраине. Саша приехал на пять минут раньше времени. Заказал кофе. Клиент позвонил, растерянно извинился и отменил встречу. Он объяснил, что случилось, но Саша потом никак не мог вспомнить, что именно. То ли квартирная кража, то ли угон машины, то ли сердечный приступ. Так вдруг образовался у него в конце дня пустой временной интервал, окно, в которое он и выпал.
Час, ничем не занятый, не загроможденный, пустой, он показался Саше соразмерным вечности. Саша как будто оказался вдруг на берегу океана. Волны накатывали и, шурша галькой, отступали.
Саша огляделся. Кафе небольшое. Свет неяркий. Музыка негромкая, на втором плане. Саша уселся поудобнее в мягком кресле, достал мобильный.
Официант принес кофе. Саша позвонил жене. Она сказала, что сидит сейчас в парикмахерской. Нет, не стрижется, конечно, это плохая примета, когда беременна. Стрижется Галка.
– …Мы гуляли… Дождя нет уже. И ветра.
Почему-то он не сказал ей, что у него окно. Как будто оно могло закрыться, захлопнуться, если сказать.
Он пил кофе и никуда не спешил. Чувство казалось новым и приятным. Он ни на кого не глядел, но знал, что народу мало – голоса едва доносились. Он глядел на освещенную витрину с разнообразными пирожными. Они казались волшебными. Одно несло смерть, другое долгую жизнь и здоровье, третье любовь и томление, но какое именно несло любовь, а какое смерть, никто не знал, даже кондитер. Посетители задумывались над выбором и рисковали. Ели не спеша, прислушиваясь к переменам в себе. Ложки постукивали о тарелки.
Он пирожное не брал, так что ничем не рисковал, был сторонним наблюдателем.
Саша усмехнулся своей фантазии, представил, как расскажет о ней Ане, и Аня восхитится и немного испугается, и поймет, что совсем еще его не знает. Он сам не знал, что может придумать такое.
Посмотрел на часы и огорчился, что вечности приходит конец. Подозвал официанта, расплатился и отправился в туалет.
Ополаскивая руки, он увидел в зеркале знакомого когда-то преподавателя. Он вел у них линейную алгебру на втором курсе.
– Здравствуйте, – радостно сказал Саша.
И встретил в зеркале удивленный взгляд.
Он хотел напомнить об институте, о лабиринте коридоров в четвертом корпусе, о преподавательском буфете, где никогда не бывало очередей. Но ничего этого Саша не сказал, понял вдруг, что ошибся – в зеркале отражался другой человек.
– Мы встречались? – спросил человек, внимательно разглядывая Сашу.
– Нет. Я ошибся, простите.
– За кого же вы меня приняли? Просто любопытно.
– Неважно.
– И всё же?
– За преподавателя. Лет десять уже прошло. Обознался. Извините.
Саша отвернулся от зеркала. Он, смущаясь, всегда мрачнел и казался сердитым. Вытер руки, скомкал повлажневшую салфетку.
Проход загораживал невысокий улыбающийся мужчина. Он посторонился, но недостаточно, и Саша задел его.
– Простите.
– Всё нормально, – сказал мужчина.
И Саше показалось, что он навеселе.
Саша вышел на улицу и удивился, что уже горят фонари. Было пасмурно, сумрачно. Мелкая дождевая пыль оседала на машине. Саша провел ладонью по капоту, оставил влажную зеркальную дорожку. Стряхнул воду с руки. Он отворил дверцу и забрался в салон. Включил «дворники». В запотевшее, рябое от дождя окно постучали. Саша опустил стекло.
Невысокий мужчина и тот, кого он принял за преподавателя.
– Вы нас не подвезете? – спросил улыбчивый мужчина.
– Если нам по дороге. Я спешу, простите, мне далеко, за город.
Им оказалось по дороге.
«Преподаватель» сел на заднее сиденье, невысокий устроился рядом с Сашей. И видно было, что устроился хорошо, удобно.
– Вы пристегните ремни, пожалуйста, – попросил Саша.
Они ехали по широкому шоссе почти свободно. Саша вел легко, плавно, даже Аню не укачивало, когда он вел, она говорила, что в вождении лучше всего раскрывается его характер. И невысокий заметил:
– Как вы ведете… деликатно.
Саша всё посматривал в зеркальце на человека на заднем сиденье. Ему казалось, что он обидел его, приняв за другого. И потому, наверно, стал вдруг объяснять, что тот другой был хороший человек.
– Он читал у нас линейную алгебру, только семинары, так как еще не защитился. Даже нерадивые студенты не получали у него двоек, и не потому, что он был таким уж снисходительным. Он всегда помогал разобраться в неясных вопросах прямо на экзамене, так что в конце концов человек начинал понимать и двойку уже не заслуживал. Во всяком случае, Борис Самуилович не ставил. Вы ничего против евреев не имеете? – спохватился Саша.
Человек на заднем сиденье не отвечал, а сидевший рядом с Сашей успокоил:
– Не имеем.
– Борис Самуилович организовал у нас музыкальный клуб. Исключительно на общественных началах. У нас в институте был Дом культуры, нам выделили комнату. Собирались два раза в неделю по вечерам. Борис Самуилович рассказывал о дирижерах, об исполнителях, о композиторах, приносил пластинки, мы слушали, обсуждали. Один раз привел к нам самого Шнитке. Он тогда работал над оперой о Фаусте, мы слушали фрагменты.
– Любопытно, как сложилась судьба этого замечательного человека? – спросил невысокий. Это лишь казалось, что он всегда улыбается, лицо имело такой склад.
– Кажется, он уехал в Америку.
– И, зная это, вы вдруг решили, что столкнулись с ним на краю Москвы?
– Во-первых, он вполне мог приехать в Москву, с родными повидаться.
– У него здесь родные?
– Не знаю. Из любопытства мог приехать. По делам. Факт тот, что я вас принял за него тогдашнего, за него десятилетней давности. – Саша обращался к молчаливому человеку в зеркале. – Как если бы он совсем не постарел. На самом деле он наверняка сейчас так переменился, что я бы сорок минут сидел перед ним и не узнал.
– Почему сорок?
– Не знаю. Ну, сорок пять. Или неделю. Или год.
– Да, – согласился мужчина рядом с Сашей. – Люди меняются.
Некоторое время все в машине молчали, и Саша немного успокоился, неловкость прошла, он уже почти и не думал о своих пассажирах, заволновался об Ане, что она ела на обед, о предстоящих переговорах с директором подмосковного заводика.
Машина проезжала деревню. Саша подивился, как много яблок в этом году.
– Остановите, пожалуйста, – сказал вдруг сидящий рядом мужчина. Саша свернул к обочине.
Поблагодарили, вышли, дверцы закрыли аккуратно, мягко. Он поехал не сразу, посмотрел, как они переходят дорогу, идут по обочине, сворачивают к церкви.
За деревней шоссе расширилось, открылись взору осенние поля, небо с громадами летящих в нем туч. Через три километра Саша почувствовал себя плохо. Успел прижаться к обочине, затормозить. Потерял сознание.
Буквально через минуту возле него остановился потасканный «жигуленок». Из него выбрался человек лет пятидесяти.
Мотор Сашиной машины работал. Человек из «жигуленка» подошел и заглянул в опущенное стекло. Оглянулся, открыл дверцу и сел рядом с Сашей. Саша казался спящим. Человек достал мобильный.
В десятом часу вечера Аня заволновалась и позвонила Саше по служебному телефону. Неверным голосом Ане сказали, что с Сашей случилось несчастье.
На третий день его похоронили. Народу пришло много: и с работы, и соседи, и однокурсники, даже из школы несколько человек. Аня как будто не понимала, что происходит, зачем собрались эти люди, большинство из них она и знать не знала. Зачем она пришла к ним, сюда, на больничный двор? Почему они все стоят на промозглом ветру у низкого здания морга, почему так тихо переговариваются? Почему все стараются на нее не смотреть и все-таки смотрят? Зачем у всех и каждого цветы?
Открываются двери, и почему-то никто в них не идет. Аня смотрит в черный квадрат входа. Галка берет ее под руку и ведет первой в эти двери. В гробу кто-то чужой в Сашином новом костюме. Аня смотрит на него напряженно-вопросительно. Башмаки новые, ни разу еще Сашей не надетые, а шнурки завязаны так, как Саша никогда не завязывал. Ане хочется перевязать шнурки. И она даже наклоняется к гробу. Но оттуда пахнет холодом. Галя берет ее под локоть и отступает с ней чуть в сторону.
В разгар поминок Галя увела ее из-за стола. Уложила в маленькой комнате, плотно закрыла дверь. Но и через дверь слышались голоса. Чей-то совсем ясно:
– Наверняка и раньше сердце прихватывало, да он молчал, чтоб жену не волновать и всё такое.
– Уработался, – ответил кто-то пожилой.
Аня лежала на спине с широко открытыми глазами. Галя включила настольную лампу и погасила верхний свет.
– Усни, – сказала, – отпусти себя, о ребенке подумай.
И Аня заплакала наконец.
Саша пришел в себя в маленькой, вроде чулана, комнате. Через крохотное окошко виднелись заиндевелые ветки. Оконце закрывалось неплотно, и оттуда тянуло морозцем, но дощатая стена за спиной отдавала тепло. Угол темного потолка был заткан серой паутиной. С витого шнура свисала лампочка. Саша приподнялся, но голова закружилась, и он опустил ее на подушку.
На столике под оконцем стоял пузырек с каким-то лекарством. Саша чувствовал его горький запах. За стеной кто-то прошел, закашлялся. Из досок сбитая дверь отворилась, и появился человек из «жигуленка», Саше – незнакомый.
Незнакомец вытащил из-под стола табурет. Сел у Сашиного изголовья, подвернул обтрепанные рукава свитера, от которого пахло печкой. Щетина серебрилась на обветренном лице.
– Где я? – и себе едва слышно произнес Саша.
– Сейчас я вас бульоном напою, – сказал незнакомец, – как раз сварился. Чтобы у вас силы были для разговоров. – И кашлянул в кулак.
– Мне домой надо позвонить.
– Конечно.
После бульона Саша уснул. Проснулся ночью. За оконцем холодный ветер трепал деревце. Фонарный свет пробивался, налипший на стекло снег казался черным. Тени метались по стене. Саша не сразу догадался, что тени от веток. Он сполз пониже под теплое одеяло и вновь уснул.
Наутро незнакомец накормил его манной младенческой кашей и дал выпить чаю.
– Вы помните, что с вами произошло? – спросил он.
– Мне стало плохо в машине.
– Вы один ехали?
– Да.
– Вы уверены?
– Со мной были пассажиры, но они уже вышли.
– Ваши знакомые?
– Нет. В том-то и дело, что нет.
И Саша рассказал незнакомцу о своей ошибке, о хорошем человеке Борисе Самуиловиче, сказал, что, если бы его спутали с таким человеком, он бы гордился, а не обижался.
– А этот обиделся?
– Сначала я думал, что обиделся. Но он мне не поверил, кажется. Как будто на самом деле я знал именно его, но не признался и прикрылся Борисом Самуиловичем. Он так на меня смотрел, как будто хотел вспомнить. Это я только сейчас понял.
– А Борис Самуилович действительно существует?
– Десять лет назад существовал, – обиделся Саша.
– Это замечательно, – сказал незнакомец и встал.
Он вышел, и Саше стало досадно, что он ему даже не представился, а Саша не догадался спросить. И главное, не успел спросить про Аню. И почему он здесь, в этом чулане, а не в больнице или дома?
Дверь вновь отворилась. Вошла пожилая женщина в платочке. Она приблизилась к Саше, потрогала его лоб мягкой рукой и сказала, что нагрела воды и сейчас Сашу помоет.
– Как вас зовут? – спросил Саша.
– Тетя Паша.
– Что со мной было?
– Отравился.
– Чем? Почему я здесь, а не в больнице?
– Ты у Василь Андреича спроси.
– Где он?
– В город уехал.
– В какой?
Тетя Паша откинула одеяло. Саша даже не застеснялся, наверно, потому, что глаза у нее были как у старой, всего хлебнувшей дворняги и проблеска женского интереса в них не было.
– Худющий ты. Как скелет.
Она помогла ему встать и повела в темную ванную, где никакой воды из крана не лилось, а поливала тетя Паша из ковшика. Она мылила его жесткой мочалкой и напевала. Тягучая мелодия казалась знакомой, но откуда – Саша не мог припомнить.
После мытья тетя Паша надела на него всё чужое, ношеное, но чистое.
Она кормила его картошкой и поила чаем со смородиновым вареньем. Они сидели в большой светлой комнате, печка топилась, одним боком грелся от нее и чуланчик.
– Ну вот, – сказала тетя Паша, дуя на чай в синем блюдце. Она глядела в окно, и Саша туда же посмотрел.
По дорожке к дому шел бодро Сашин незнакомец Василь Андреич. Тетя Паша оставила чай и бросилась к дверям. В буфете звякнуло.
Василь Андреичу тетя Паша разогрела ту же картошку, и он ел со сковородки, подбирал картошины прямо пальцами, сопел от удовольствия, отогревался. Он сказал, что на воле хоть и не мороз, но очень холодно, ветер слезу вышибает. Он был гладко выбрит, и одно это изменило его лицо, в щетине оно казалось простоватым, невыразительным, а без нее – умным и значительным; нельзя было уже не обратить внимания.
Саша ни о чем не спрашивал. Наблюдал, как Василь Андреич насыщается, вытирает руки бумажной салфеткой, скатывает ее в комок. Как промасленный этот комок лежит в опустелой сковородке, а тетя Паша наливает тем временем Василь Андреичу чай. У Саши сил не было спрашивать, требовать, или он расхотел получить ответы на свои вопросы. С одной стороны, ему уютно было в комнате с белой печкой за спиной и не хотелось, физически не хотелось нарушать установившееся равновесие и уюта этого лишаться. С другой стороны, уют казался западней, липкой смолой, в которой он застрял, застыл на веки вечные.
Василь Андреич, отпив чаю, добавил в него еще сахару. И, помешивая ложечкой, стал говорить будничным тоном.
– Вы жену Бориса Самуиловича знали?
– Видел. Один раз. Случайно встретил их обоих, на Арбате.
– Она тоже математик.
– Я не знал.
– У них трое детей. Старший мальчик увлекается компьютерами. Дом у них в Бостоне, не в самом Бостоне, в пригороде. Лягушки кричат по ночам.
– Откуда вы знаете? Уж не туда ли ездили часом?
– Почти.
– Быстро вы обернулись.
– Тот человек, с которым вы спутали Бориса Самуиловича, и в самом деле походит на него молодого.
– А кто он?
– Он – человек, который скрывает свое прошлое. Думаю, он поверил, что вы его спутали с кем-то, что вы не из его прошлого. Но на всякий случай все-таки вас убрал.
– Что значит убрал?
– Убил. Уже три месяца, как вас похоронили. Памятник поставили.
Саша не поверил или сделал вид, что не поверил, и рассмеялся. Посмотрел на тетю Пашу. Она щипчиками накрошила сахар в розетку с вареньем. Взяла ложкой пропитанный вареньем сахарный осколок и допила с ним свой чай.
– Вы хотите сказать, что сейчас я нахожусь на том свете? В чистилище, судя по всему. Неплохо здесь, тепло и кормят.
Тетя Паша собрала грязную посуду и ушла из комнаты. Василь Андреич посмотрел на Сашу внимательно и отстраненно. И рассказал историю как будто из голливудского боевика, но каким-то образом героем этой истории был Саша.
– Вы вели машину. Человек рядом с вами задавал вопросы, выяснял, что вам известно о прошлом того, кто на заднем сиденье. Он практически поверил, что неизвестно ничего. Тем не менее на всякий случай решил от вас избавиться. Точнее, даже не он решил, не им это было предопределено, вы сами запустили механизм, как только взглянули на того человека в зеркале и поздоровались.
– Но я не знал…
– Вас укололи смоченной особым раствором иголкой.
– Они всегда с собой смоченные особым раствором иголки носят?
– Думаю, это выглядит как простая шариковая ручка. Только вместо чернильной пасты в ней особый раствор. И ручка не пишет, а укалывает. Через полчаса примерно вы должны были умереть. От остановки сердца, как сказали бы врачи. Я забрался в вашу машину через два-дцать минут после укола. И успел ввести противоядие.
– Вы тоже держите при себе особые ручки?
– Вам повезло, я следил за ними. Вдруг вы вошли в их орбиту. Ваша роль была мне непонятна, и я воскресил вас, чтобы всё прояснить.
– Значит, я точно не на том свете?
– Нет, поскольку я не небесный житель.
– Если я не умер, то кого положили в землю?
– Нашли в морге подходящий труп.
– Но зачем?
– Чтобы ваши убийцы ничего не заподозрили. Если только они подумают, что вы живы, то найдут и убьют вас уже самым верным способом, голову, скажем, отрежут.
– Да почему?!
– Мало ли. Вдруг вы все-таки что-то знаете.
– Что?!
– Неясно. Это-то и пугает – неизвестность, неопределенность. Ваше воскресение уверит их в значительности, вернее, в значимости вашей фигуры. Как ни была бы она на самом деле эфемерна.
Потрясенный Саша молчал.
Тетя Паша появилась за окном. Деревянной лопатой начала счищать снег с дорожки.
– А как там Аня?
– Родила сына.
– Уже?
– Несколько преждевременно. От потрясения, надо полагать.
– Как его назвали?
– В вашу честь.
– Как она себя чувствует?
– Всё в порядке.
– А ребенок?
– Всё в порядке.
– Что мне теперь делать?
– Начинать новую жизнь. С новым именем и с новым лицом. С новым прошлым.
– Откуда мне взять новое лицо?
– Сделаем пластическую операцию. И документы новые выправим. И биографию придумаем.
За окном тетя Паша остановилась передохнуть. Воткнула лопату в сугроб. Перевязала потуже платок на голове.
– Вам это зачем? Делать мне новое лицо и биографию. Столько хлопот, затрат. Гораздо было бы проще, как вы выражаетесь, избавиться от меня. Все детали вы узнали, больше я вам не нужен.
– Спать я стал плохо последнее время. Боюсь помереть во сне. Грехов много. Может, за вашу жизнь мне чего простится.
– Мы далеко от Москвы?
– Да нет.
– А где мне будут… лицо делать?
– Да здесь и сотворим.
– В этой прямо избе?
– Здесь тихо. Да и выбора у нас с вами нет. Начальство мое тоже ведь думает, что я вас устранил. Я сильно рискую, между прочим.
– Какой ужас.
– Врач у меня надежный, зависит от меня прочно, и постарается, и промолчит. Впрочем, как хотите. Можете прямо сейчас одеваться и на все четыре стороны. Но я и гроша ломаного не дам за вашу жизнь.
– А если у меня будет новое лицо, сколько дадите за мою жизнь?
– Если будете твердо придерживаться правил, скорей всего умрете своей смертью.
– Каковы правила?
– Держаться подальше от прежнего места жительства. Не вступать в контакт с людьми, которые знали вас раньше. Постараться совершенно забыть свое прошлое, заместить его новым. Биографию мы придумаем как можно более простую, скромную, непротиворечивую.
Дальнейшая Сашина судьба была уже не в руках Василь Андреича.
* * *
Посмотрел он на дом, где был теперь прописан, и вернулся к машине.
В длинной многоэтажке горели уже огни. Он сел за руль. Он должен был решить, куда ему ехать. Звали его теперь Костей. Он казался повыше ростом, так как сильно похудел и перестал горбиться. И походка у него изменилась. Стала мягкой, едва слышной. На носу появилась горбинка, разрез глаз изменился, брови сошлись к переносице. Волосы он подстриг коротко, и лоб казался выше. Голос обесцветился, точно состарился. Василь Андреич уверил, что никто не узнает в нем прежнего Сашу. Если, конечно, не рисковать и соблюдать правила.
Стояло позднее лето. Саша, то есть Костя, сидел за рулем почти новой «Волги». Он купил ее, как только вышел в мир с новым именем и лицом. Мир был велик. И можно было поехать далеко, и тогда его новая жизнь стала бы road movie, дорожной историей, с калейдоскопом встреч, коротких связей, жизнь стала бы долгой дорогой, иначе говоря, дорога поглотила бы его жизнь, он бы и не заметил, как поглощает она всех едущих и не насыщается.
Солнце зашло, воздух потемнел. Распахнулось окно в многоэтажке, и кто-то заорал из него:
– Виталииик!!!!
Медленно поехал Костя.
Он привык в прежней жизни, что времени нет, всё рассчитано, теперь же он ехал бесцельно, проваливался в пустоту. На самом деле цель была, хоть он и старался ее не видеть. Он ее не изобретал, она просто была, запретная и единственная. Только она его волновала и манила. Он к ней не стремился, она сама притягивала его, он был как маленький осколок, вошедший в ее орбиту.
Выехав на шоссе, Костя повернул на запад. Он махнул рукой и подчинился цели, и, подчинившись, ехал уже быстро, уверенно. Совершенно стемнело. По встречной полосе проносились огни. И ему на самом деле казалось, что он мчится в черном космосе, всё больше ускоряясь по мере приближения к цели. Он ехал всю ночь, нигде не останавливаясь, не вступая в разговоры, как по касательной к текущей жизни.
Ранним утром в северном районе столицы он припарковался к обочине. Было около семи, но народ уже спешил к метро. Еще не все киоски открылись. Маленький смуглый человек тянул платформу, нагруженную всевозможным товаром: какими-то коробками, цветными тряпками, чем-то блестящим, лаковым. Дворник выметал мусор. В «Макдоналдсе» уютно горел свет. В такую рань уже торговала прессой тетка у метро, пачки журналов и газет пирамидой громоздились у нее на тележке, образцы пришпилены были к ручке. Костя взял «Из рук в руки» и направился в «Макдоналдс».
Утро было холодное, почти осеннее, и Костя пожалел промерзшую на ветру тетку, он прекрасно ее видел из широкого окна. В «Макдоналдсе» было тепло, еще немноголюдно. Костя взял кофе с молоком и тост с сыром. Он просматривал объявления, газета пахла типографией и пачкала пальцы. Костя достал мобильный, который купил еще на въезде в Москву. Деньги на укоренение в новой жизни дал Василь Андреич, всё в той же надежде на прощение грехов.
– Доброе утро, – сказал Костя бесцветным своим, прозрачным голосом, – я не слишком рано? Да, по объявлению. Да. Хотелось бы.
Написал несколько цифр возле объявления и позвонил по следующему.
Он вышел из кафе, и уже был час пик, открылись киоски и палатки, толпа валила в метро.
Поразил затхлый запах, как будто бы никогда эта квартира не проветривалась. И действительно, рамы заклеены были пожелтелым лейкопластырем. Кое-где он, впрочем, отошел. Пахло пригорелой кашей. Грузная хозяйка показала Косте комнату. Дверь была без замка, и Костя сказал, что это его не устраивает.
– Поставь замок, ради бога, можешь и ремонт сделать, что хочешь, только тихо по ночам, и баб не водить. – Посмотрела на Костю каким-то словно бы подпорченным взглядом. – Никого не водить, понял?
Как бы то ни было, дешевле комнату Костя вряд ли бы нашел.
Костя щелкнул выключателем, и убогая комната осветилась.
– Электричество днем не жги.
– В потемках жить? – комната была как пещера, за окном стояли деревья и загораживали свет.
– Тогда я тебе плату увеличу.
– Тогда до свидания.
– Подожди. – Она молчала, думала. Тяжело дышала от работы мысли. Решила. – Месяц поживи, а там видно будет. Только плату вперед.
Костя вынул бумажник из кармана, отсчитал деньги. Она глаз не могла отвести от бумажек. Даже приблизилась.
– Расписку, – сказал Костя, не выпуская денег.
Она смотрела на них, сопела. Наконец, вымолвила:
– У меня бумаги нет и ручки.
Костя достал ручку, достал блокнот, вырвал из него страницу.
Она присела к шаткому столу. Долго думала, долго выводила слова. Костя смотрел сверху. Она отложила ручку.
– Автограф свой поставьте, – сказал Костя.
– Деньги положь на стол.
Он положил, но руку с них не убрал.
Она расписалась, придвинула листок, но руки с него тоже не сняла. Тогда Костя выпустил деньги, и она мгновенно их цапнула, а он успел перехватить расписку.
– Когда въедешь? – спросила она, пересчитав бумажки.
– Уже въехал. Ключик мне дайте от квартиры.
Хозяйке не понравилось, что вещей у него с собой нет. Он сказал, что ушел от жены и все вещи свои оставил там.
– На что ей твои шмотки?
– Заберу в конце концов, что вы волнуетесь?
– Вдруг ты из тюрьмы сбежал?
– Всё может быть, – сказал Костя серьезно.
Она стояла перед ним, смотрела. Тяжело ворочала какую-то мысль. Так ничего и не сказала, отправилась в свою комнату, затворила дверь. Костя прошел в кухню, увидел гору грязной посуды в мойке, таракана, бредущего по замызганному подоконнику. Бубнил радиоприемник.
В туалете подтекал бачок и не было туалетной бумаги. В ванной плавало замоченное белье. Казалось, оно уже заплесневело, прокисло.
Телефон стоял в прихожей на тумбочке. Костя снял трубку. Перед глазами висела выцветшая репродукция «Незнакомки». Костя набрал номер. На том конце знакомый голос тихо спросил: «Алё?» Костя не сразу решился ответить.
– Алё? – спросили еще раз.
– Здравствуйте, – сказал он.
– Здравствуйте, – ответила Аня.
– Могу я поговорить с Сашей?
Она молчала. Он слышал ее дыхание.
– Я его давний знакомый, еще по Новосибирску, мы не виделись лет пятнадцать или даже больше, я просто…
– Саши нет.
– Да? А когда он будет?
– Никогда, – повесила трубку.
Хозяйка наверняка приникла к двери и всё слышала. Журчала вода из туалета. Костя вновь набрал номер.
– Простите ради бога, я просто хотел повидаться…
– Это невозможно. Он умер.
Так просто она это сказала: «Он умер». Он только сейчас, после этих слов, осознал, что это действительно и бесповоротно так.
– О господи. Давно?
– Год уже прошел.
– Простите. Простите меня, но, может быть, вы позволите к вам зайти? Ненадолго. Я должен был Саше некоторую сумму.
Когда Аня ждала ребенка, ей казалось, что она уже знает его характер, и его внешность, и чуть ли не всё, что с ним произойдет, знает, но забыла, и всё будущее ее ребенка станет воскрешением того, что она запамятовала. По выходным они гуляли с Сашей по бульвару. Аня опиралась о Сашину руку. И Аня говорила Саше, как она чувствует будущее их сына, хотя и не может выразить.
– Но хотя бы счастлив он будет? – спросил как-то Саша.
– Не знаю. Я буду молиться.
Однажды после работы Саша зашел в «Детский мир». Магазин показался даже больше, чем он помнил по детству. Величественный, как древнеегипетский храм Солнца. Саша бродил по огромному торговому залу, замирал перед машинками, солдатиками и фантастическими существами, брал их в руки, представлял их в руках своего сына. Как будто руками сына брал. Хотел купить самолетик. Но не решился. Аня говорила, что нельзя покупать еще не рожденному, плохая примета. С сожалением оставил крылатую машину. И оглянулся, когда уходил, взглянул напоследок.
Костя увидел самолетик за стеклянной витриной газетного киоска, возле резиновых шариков и игрушечного мобильного телефона с глупыми розовыми кнопками. Увидел и обрадовался как знакомому, с которым связаны дорогие воспоминания.
Плоская картонная коробка не помешалась в карман, и он купил пакет.
Вышел на улицу из метро. Замедлил шаг.
Это было невозможно – он видел то, чего не мог, – улицу возле своего дома.
Заглянул в магазинчик, в который заходил когда-то запросто, не радуясь этому событию и не печалясь, не ощущая это как событие. Сейчас это было грандиозно, невероятно – зайти в магазинчик, устроенный в маленьком стеклянном павильоне, увидеть то, что видел когда-то много раз и что сейчас видел против всех законов природы.
Свое нечеткое отражение в стекле витрины. Увидел и не узнал в нем себя, забылся. Узнав – вспомнив, растерялся и на вопрос продавщицы, что он хочет, не сразу нашелся, смотрел на нее ошеломленно. Кстати, ее он не знал, не помнил.
– Вы недавно здесь работаете? – спросил он, забирая с прилавка поданные ею конфеты.
– Полгода.
– Как быстро.
– Что?
– Меняется всё очень быстро.
Он вошел в подъезд и замер.
Потрогал гладкую, видимо, совсем недавно покрашенную стену. Она как будто отодвинулась от него, так как стала уже другой, и до прежней выщербленной стены он никак уже не мог дотянуться, ее не существовало. Он испугался, что и Аня стала чужой.
Дверь отворила мгновенно.
Оглядела его пристально. Отступила.
– Заходите, пожалуйста.
Она была всё та же, и одежда на ней была вся прежняя, он помнил, даже на ощупь. И все-таки он отвык, и нужно было еще привыкнуть видеть ее перед собой и к тому, что ты тоже находишься прямо перед ней и не узнан, как человек в маске на карнавале.
Она провела его в комнату и усадила на диван. Через окно он глядел на балкон. Сохло на веревках белье, детское, крохотное, трогательное.
– У вас ребенок?
– Да. Мальчик.
– Сколько ему?
– Год скоро.
Костя поднял свой пакет, вынул из него конфеты и коробку с самолетом. Пакет шуршал при каждом движении, это безумно Костю раздражало. Он передал Ане конфеты и коробку, смял скрипнувший пакет и сунул зачем-то в карман. И теперь пакет сухо и как будто самостоятельно шуршал в кармане, но Костя уже не мог его вынуть, совершенно не представлял, куда его тогда девать.
– Я не знал, есть ли у вас ребенок, на всякий случай купил игрушку и угадал.
– Спасибо. – Она разглядела за пластиковым окошком в коробке самолет. – И что мальчик угадали.
– Я подумал, что девочке самолет тоже понравится, будет летать в дальние страны, в какой-нибудь Париж или Египет.
– Да, замечательно, спасибо.
– А где сейчас ваш мальчик?
– Он спит.
И она, и Костя посмотрели одновременно на прикрытую дверь второй комнаты.
– Навряд ли вам Саша обо мне рассказывал, – прошептал Костя.
– Вы не бойтесь, он нас не слышит, он спит очень крепко. Я, к сожалению, не помню, чтобы Саша о вас рассказывал. Хотите чай или кофе?
– Да, если можно. Пожалуйста.
В кухне он наконец вынул дурацкий пакет и затолкал его в мусорку.
– Вы, наверное, хотите помыть руки?
Он сам, своими руками, навешивал это зеркало в ванной. Оно помнило его руки, его прежнее лицо. Но уже не могло отразить. Всё почти оставалось в ванной, как при нем. И мыло лежало то, которым они всегда прежде пользовались. Вот только махрового халата уже не было, он исчез с крючка.
«Выбросила его Аня или просто спрятала?»
Спросить было невозможно.
И дезодорант исчез, и бритва, и крем после бритья. Наверно, выброшены.
Костя включил воду и долго и тщательно мыл руки. Он подумал, что не только воспоминания, отпечатки пальцев остались у него Сашины; он словно пытался их смыть.
– Вам кофе со сливками?
– Нет, черный. Люблю черный с лимоном.
– У меня есть лимон.
Он опустил в чашку лимонный кружок. Положил немного сахару, пол-ложки. Аня смотрела внимательно.
– Саша тоже любил кофе с лимоном. И сахару клал ровно пол-ложки.
– У нас во многом вкусы совпадали.
– Странно, что он о вас не рассказывал.
– Мы поссорились. Наверно, он не хотел обо мне вспоминать.
Аня налила себе в кофе сливки. Намазала маслом хлеб. Странное дело, он умер, а она пила кофе, и ела хлеб с маслом, и занималась ребенком, стирала, кормила, сказки рассказывала. Он умер, а жизнь продолжалась. Не каждому дано вот так вот запросто увидеть ее продолжение.
– Что с ним случилось?
– Сердце остановилась.
– Он никогда на сердце не жаловался.
– Мне тоже.
Она открыла его коробку с конфетами. Взяла одну с краю. Попробовала. Шоколадная с ликером.
– Ничего?
– Вкусно. Я люблю такие, вы опять угадали.
Прислушалась.
– Извините.
Ушла. Наверно, взглянуть на сына. Костя тоже поднялся и направился за ней неслышным своим шагом.
Дверь во вторую комнату была приоткрыта.
Он подошел. Заглянул. Полумрак, занавески задернуты. Аня склонилась над детской кроваткой. Того, кто в кроватке, не видно. Она выпрямилась, и он тихо отступил.
Аня вернулась на кухню. Он клал колбасу на хлеб, поднял голову, когда она вошла.
– Что у вас случилось в Новосибирске?
– Я там жил, а Саша приехал на практику.
– Да, я знаю, после второго курса.
– 1990 год. В магазинах ничего практически нет. Крупа, сахар, макароны – всё по талонам. На рынке чего-то покупали. Я в том же НИИ проходил практику, где Саша. Только он из Москвы приехал и жил в общаге, а я был новосибирцем и жил у себя дома, и я Сашу водил к себе обедать и ужинать, у нас с участка были свои соленья, варенья, картошка. Мы с ним подружились не только на почве этих обедов. Нам было интересно друг с другом, мы говорили о Джеймсе Бонде, о буддизме, о политике, о разных разностях, которыми тогда интересовались. О девушках, конечно. Мы и поссорились из-за девушки. Наверно, поэтому Саша не говорил вам обо мне. Хотя ничего такого и не было с его стороны. Она на него запала, как сейчас говорят, а я за ней уже второй год ухаживал безуспешно и взревновал. Подрались. Он уехал, мы не попрощались. Через неделю мне пришел денежный перевод. «За обеды». Я оскорбился, конечно, выслал обратно. Перевод вернулся – на имя матери, а мать у меня скуповата была и взяла деньги.
– И вы решили их вернуть? – усмехнулась Аня.
– И деньги сейчас другие, и не в деньгах дело. Столько лет прошло. Я просто впервые за эти годы в Москве оказался и захотел повидаться.
– С девушкой у вас сладилось?
– Я как-то поостыл к ней после той драки.
Зазвонил телефон, и Аня поспешно взяла трубку.
– Привет. Нет, спит. У меня гости. Прежний Сашин знакомый. Нет, ты не знаешь. Хорошо. Договорились.
Положила трубку.
– Это моя подруга.
«Галя?» – чуть не спросил Костя.
– Галя. Волнуется за меня.
– Спасибо вам за кофе, очень вкусный, я вообще люблю, когда в турке варят.
– Как Саша.
– А Саша какой был?
– Мне трудно ответить.
– Вам легко с ним было?
– По-разному. Он был очень неуверенный в себе человек.
Костя поразился.
– Вы так думаете? Серьезно?
– Не знаю, может быть, вы не заметили тогда или не поняли, или он другим был. Уж очень он любил во всем порядок, даже стулья должны были стоять на строго определенных местах, если увидит сдвинутый, обязательно вернет на место. Для него вещи в доме представляли единую систему, что-то вроде планетной системы. Ведь если какая-то планета сойдет со своей орбиты, случится катастрофа, система разрушится, начнется хаос.
– Он так и так начнется, в этом можно не сомневаться, закон энтропии.
– Саша этот закон всё время пытался обойти. Я тоже входила в его планетную систему, и у меня была своя орбита, которой я должна была держаться. Это было непросто, не всегда просто, но я старалась, иначе он терялся, становился даже беспомощным.
– Вы любили его?
– Наверно.
– А он вас? Как вы считаете?
– Думаю, я в его системе координат занимала важное место. Основополагающее, пожалуй. Для него вообще семья очень много значила. Своих родителей он практически не помнил, его тетушки воспитывали.
На прощание, уже в прихожей, она сказала:
– Спасибо, что вы меня о Саше расспросили. Я давно уже ни с кем не говорила о нем. На днях даже испугалась, что не помню, какого цвета у него были глаза. Бросилась фотографии смотреть.
«Да на тебя же сейчас и смотрят его глаза!»
– Всего доброго.
– Вы позволите зайти к вам еще раз, перед отъездом? Очень хочу вашего сына увидеть.
– Да, конечно. Созвонимся.
– Вы работаете?
– На следующий год пойду. Я физику преподаю.
Он знал, что она смотрит на него из окна, но не обернулся.
За пятнадцать минут до часа, то есть до обеденного перерыва, он уже был в «Му-Му». Взял чай с салатом и ждал, когда же придут. Они опаздывали, он нервничал.
В начале второго явились наконец Лара с Надей и заняли очередь. Он напряженно прислушивался к их болтовне. Они говорили пустяки, но эти пустяки казались ему важными, значащими.
Лара рассказывала о мальчике, с которым встречается его дочь.
– На вид ему лет двадцать, на самом деле пятнадцать, а внутренне он совсем еще ребенок. Манька вертит им. Я ей говорю, смотри, Манька…
Костя отлично помнил эту самую Маньку, ее приводили к ним на Новый год лет пять назад, она объелась сладкого и уснула прямо за столом. И Саша относил ее в маленькую комнату на кровать. Его руки помнили тяжесть ребенка.
Подошли остальные: Миша, Кирилл, Олег, Инна. И незнакомый какой-то паренек с ними.
Они сели за стол у подвального окна, за которым только ноги прохожих были видны. Костя ковырялся в салате. Он не слышал, о чем говорят бывшие его коллеги, он только наблюдал за их лицами, улыбками, жестами. Новенький паренек стеснялся и больше молчал и ел. Кирилл с Мишей что-то обсуждали, наклоняя друг к другу головы, наверняка футбольный матч. Надя закурила и засмотрелась в окно.
Костя не стал дожидаться, когда они доедят, вытер губы салфеткой и встал, сдвинув тяжелый стул. Они в «Му-Му» очень тяжелые.
Он прошел по узкому тротуару мимо окна, за которым они сидели, ели, говорили о самых обыкновенных вещах, и всё это было от него далеко, как на другом конце Вселенной, всё это было ему еще интересно, но уже недоступно. А новенький паренек наверняка взят был на его место, и сидел за его компьютером, и чай пил из его кружки, почему бы и нет. Кружку подарили на прошлый день рождения, и на ней нарисована была пагода.
До вечера Костя прошел по своим прежним местам, по улицам, которые любил, с которыми связывали воспоминания. Улицы все оставались на месте, а прошлой жизни уже не существовало, так странно. Впрочем, и улицы оставались не совсем на месте, не совсем на прежнем месте, а как будто чуть-чуть сдвинулись, и Костя бродил в искаженном мире.
Стемнело. Костя вошел во двор. Перед ним стоял дом, в котором он снял комнату.
В окне кухни горел свет. И Костя представил хозяйку, как она подбирает со сковородки яичницу с колбасой, и губы ее испачканы в желтке, а лицо лоснится. Старый холодильник дрожит от напряжения. Тараканы затаились в щелях.
«Зачем мне туда?» – подумал Костя. И отправился со двора в метро. Машину он оставил в Медведкове, на платной стоянке.
Ночь едва настала, когда он выехал за МКАД.
Он убедился в самой банальной вещи на свете: прошлого не вернешь, прошлое не догонишь, память о тебе исчезнет, и даже жена не вспомнит цвет твоих глаз, разве что глаза сына ей напомнят.
Он осел в Новосибирске, где проходил когда-то практику в НИИ. Самого НИИ уже не существовало. Костя купил диплом и устроился программистом, снял нормальную квартиру, обзавелся знакомствами. Со временем думал жениться. Он и сам стал забывать о первой половине своей жизни. И придуманная Василь Андреичем биография казалась более реальной.
Джон
小
Утро. Джон собирается на работу. На ходу хватает с тарелки печеньку. Жена Эн перевязывает ему галстук. Дочурка Ани тащит ему ботинки. Пока он переобувается, девочка забирается на диван и что-то пальчиком рисует на обтянутой рубашкой спине отца, а он угадывает что. Солнышко, машина, слово ПАПА.
Кофе сварился, ему наливают большую кружку. И садятся с ним рядом за стол, пока он пьет. С печеньками.
Семейная идиллия.
В прихожей обнимаются, целуются, уговариваются встретиться после работы в торговом центре. Посмотреть там фильм, посидеть в кафе. Подарки он обещает купить своим девочкам. Собачонка тут же вертится, он ее треплет за ухом.
Выходит, дверь за ним закрывается. И тут же он спохватывается, что-то ищет в карманах, не находит и звонит в дверь, своим. Но никто не спешит открывать. Он вновь нажимает кнопку звонка.
Смотрит растерянно на круглый глазок. Тихо. Джон стучит. Сильнее, громче. Распахивается соседская дверь. Худой, высокий, заспанный мужчина выглядывает из нее, спрашивает сердито, отрывисто:
– Что? Кто?
– Ничего, – отвечает Джон, – мои не открывают, я бумажник забыл, что-то стряслось, вызывайте полицию, у вас есть телефон?
Сосед скрывается в своей квартире и дверь за собой захлопывает. Джон чуть не плачет. И тут же соседская дверь вновь распахивается, сосед выходит. Он приближается к двери Джона и – заталкивает в замочную скважину ключ. Джон ошалело бормочет о том, что замок заперт изнутри и снаружи не открыть. Но дверь уже открыта соседским ключом.
– Прошу, – говорит сосед, – можете заходить. Что вы там позабыли?
Джон в полной растерянности смотрит в дверной проем. Темно, как в пещере. Сосед ждет. Джон переступает порог. Темно. Темно. Тихо.
– Эн! – зовет Джон. – Ани!
Он торопливо идет в темную комнату, нащупывает выключатель на стене. Свет вспыхивает. И Джон видит пыльную заброшенную комнату. Окна плотно зашторены. Мебели нет. Тихо.
Джон оборачивается.
Сосед прислонился к притолоке.
– Всё? – спрашивает насмешливо Джона.
– А, это, ммм, – бормочет Джон. – Прошу прощения. Ключ. Можно? Я посмотрю.
– Можно.
Сосед передает Джону ключ.
– Это не мой ключ, – бормочет Джон.
– Разумеется.
– Я ничего не понимаю.
– Я тоже.
– Вы здесь давно живете? Я вас не помню.
– Живу давно, вас вижу впервые. Ключик верните. Сделайте одолжение.
И сосед забирает из слабой руки Джона ключ.
– Ничего не понимаю, – шепчет Джон.
– Ступайте домой.
– Здесь мой дом.
– Как скажете. Можете оставаться. Дверь захлопните, когда будете уходить.
И долговязый сосед уходит.
Джон бродит по давно нежилой квартире. Смотрит из окна. И видит далеко внизу девочку в яркой куртке. Ребенок стоит на краю тротуара и готовится перебежать дорогу. Джон вскрикивает:
– Ани!
И несется в прихожую, к двери. Но дверь заперта, Джон не может открыть, не может выбраться, замок не поддается. Джон кричит, бежит в комнату к окну, смотрит вниз. Девочки уже не видно.
Идут машины. Сумрачное утро.
Джон возвращается в прихожую, лбом упирается в холодную дверь. Слышит голоса. Слышит, как поворачивается замок. Дверь отворяется. Джон едва не падает.
На пороге стоит полицейский. За его спиной маячит долговязый сосед.
– Извините, – бормочет Джон, – я не нарочно. Я немного устал. У меня вчера был тяжелый день.
– У вас есть при себе документы? – вежливо интересуется полицейский.
Джон поспешно лезет в карман куртки. Вынимает карточку, протягивает полицейскому.
– Мои права.
Полицейский разглядывает фотографию на карточке, смотрит на Джона.
– Это я, – говорит Джон.
– Возможно, – отвечает полицейский.
Возвращает карточку.
– Ваша машина далеко?
– Внизу. На парковке. Я могу идти?
– Я вас провожу.
Джон проходит мимо соседа и смотрит на него.
– Что? – спрашивает сосед.
– Простите. – Джон вдруг останавливается. – Это ваша квартира?
– Пока моя. Она выставлена на продажу. Надумаете, милости просим. Семьсот тысяч – и эти ключи ваши.
Джон опускает голову и направляется к лифту. Полицейский уже нажал кнопку вызова.
Полицейский спокоен, вежлив. Порой кажется, что он смотрит на Джона сочувственно. В лифте они молчат. Полицейский разглядывает обувь Джона, его начищенные ботинки на тонкой подошве. Вдруг спрашивает:
– Дорогие?
– Что? – Джон смотрит на свои ботинки. – Да.
Они выходят в подземном паркинге. Джон уверенно направляется вперед и направо от лифта.
Стоят безмолвные машины, горит электрический свет. Тревожно. Джон останавливается, растерянно приближается к синему кабриолету. Оглядывается на полицейского.
– Ваша машина? – спрашивает полицейский вежливо.
– Нет.
– Где же ваша?
– Не знаю.
– Вы ее здесь оставили?
– Нет. Не знаю.
– Возможно, ее угнали?
– Нет. Не думаю. Не знаю.
– Как же вы сюда добрались? На улице дождь. Обувь сухая.
– На такси?
– Вы забыли?
– Нет. Наверно.
– Вы помните, где живете?
Джон отвечает после паузы, упавшим голосом:
– Да.
– Отлично. Я вас подвезу.
Они садятся в полицейскую машину. Полицейский смотрит на Джона. Машина стоит.
– Что? – испуганно спрашивает Джон.
– Адрес, – миролюбиво напоминает полицейский.
– Ах, да, – Джон называет улицу.
Машина едет по большому городу, Джон внимательно смотрит в окно. На людей, на дома, на рекламные шиты. Рассеянно произносит:
– Всё тот же город.
Полицейский глядит на Джона с любопытством. Джон говорит:
– По правде сказать, мы едем ко мне на работу. Я дал адрес моей конторы. Я уже час как должен быть на рабочем месте.
Полицейский спокойно ведет машину.
– Я инженер, – зачем-то добавляет Джон.
Полицейский не отвечает.
Он останавливается у громадного стеклянного здания. И вежливо спрашивает Джона:
– Здесь?
– Да. Большое спасибо.
Джон благодарит с облегчением, он узнал здание. Торопливо отворяет дверцу.
– Погодите, – останавливает его полицейский. – Я вас провожу.
– Нет. Ну зачем? Не надо. Что обо мне подумают?
– Хорошо, – неожиданно легко соглашается полицейский.
– Спасибо. Вы очень. Вы очень любезны.
– Не за что.
Джон выбирается из полицейской машины, захлопывает дверцу и бежит к зданию. Он входит в громадное фойе и становится в очередь к одному из лифтов. Всё обыкновенно – лица, приветствия, шутки. Джон вдруг замечает мужчину в очереди к соседнему лифту. Мужчина на ходу читает небольшую затрепанную книжицу. Джон окликает его:
– Майкл.
Мужчина отрывается от чтения и смотрит на Джона рассеянно.
– Привет, Майки! Как дела?
– Отлично, – безразлично отвечает мужчина.
– Как Чарли?
Мужчина недоуменно молчит. Его очередь продвигается быстро. Дверцы лифта за ним смыкаются.
Джон выходит на своем этаже, шагает долгим закругляющимся коридором. Останавливается у двери с медной табличкой. На табличке выгравирована голова птицы с хищным загнутым клювом. Джон распахивает дверь и вступает в комнату. За длинным прямоугольным столом сидят мужчины, все они оглядываются, все смотрят на Джона.
– В чем дело? – спрашивает сидящий во главе стола. – Что вам угодно?
Полицейский в своей машине жует арахис. Служебное радио что-то бормочет. Полицейский жует арахис и наблюдает за громадным конторским зданием. Идут прохожие, едут машины, крапает дождь. Всё обыденно. Вдруг полицейский перестает жевать. Из стеклянных дверей выходит Джон. Выходит и останавливается. Полицейский смотрит на его потерянную фигурку, заталкивает в карман пакет с орешками.
Джон оглядывается, замечает полицейскую машину и направляется к ней.
Полицейский сидит, откинувшись на спинку сиденья, и следит за приближением Джона. Джон подходит, и полицейский опускает боковое стекло. Они смотрят друг на друга. Наконец Джон произносит:
– Отвезите меня в больницу.
Джона вводят в глубокий гипноз. Спокойный негромкий голос просит рассказать о жене и ребенке.
– Как их зовут?
– Эн и Ани.
Голос Джона записывается на кассету. Голос Джона рассказывает.
…Эн старательно красит стену. Джон забирает у нее кисть и рисует на стене рожицу. Ани пальцем размазывает краску, у рожицы отрастают усы. Эн отбирает у Джона кисть и замазывает рожицу…
Голос Джона:
– Она никуда не делась, эта усатая физиономия. Она там, за слоем краски, она хранит наш дом.
…Вечер. Джон, Ани, пес по имени Гектор гуляют в парке. Эн осталась дома, у нее ангина. Малышка Ани берет Джона за руку. Смотрит снизу вверх и смеется. Джон натягивает ей шапочку на лоб. Он покупает ей сахарную вату…
Негромкий голос:
– Где вы живете? Назовите адрес.
Голос Джона:
– Здесь недалеко. Видите дом?
…Утки ныряют в черную воду…
Джон моргает. Он в тихом больничном кабинете. В покойном кресле. Электрический свет отражается в стеклянных створках шкафа.
– Всё хорошо, Джон, – произносит спокойный ровный голос. Врач поясняет: – У вас, очевидно, ложные воспоминания. Или частично ложные. Я положу вас на обследование. Всё будет хорошо.
Джон в больничной палате. Он сидит в кровати, поудобнее поправляет подушку за спиной.
Включен телевизор. Джон угрюмо смотрит бейсбольный матч. Люди на трибунах неистово вопят, Джон выключает звук. Онемевшие зрители разевают рты. Джон слышит в тишине шорох, поворачивает голову. За окном дождь; шорох дождя. Джон смотрит на бегущие по стеклу струи, решительно откидывает одеяло и встает босыми ногами на пол. Он снимает больничную пижаму, открывает шкафчик, достает джинсы, натягивает.
Опустив голову, быстрым шагом Джон идет по больничному коридору. У лифта разговаривает с кем-то врач Джона.
Джон быстро поворачивает от лифта, скрывается за служебной дверью.
Джон бежит вниз по служебной лестнице.
Оказывается в подвале.
Мечется по подземелью, дергает двери. Заперты.
Джон опускается на пол у стены. Над головой лампа то наливается светом, то гаснет. И Джон вместе со светом то появляется, то исчезает.
Мокрая дорожка от слез на неподвижном лице.
Джон прислушивается. Какой-то тихий звук. Зуммм. Джон поднимается. Осторожно идет на звук. Уже понятно, что этот звук – голос улицы. Наверно, машина проезжает, гудит.
Джон поворачивает за колонну и видит парня, он щелкает маленькими ножницами; падает обрезок ногтя. Парень хмурится, чертыхается. Голос улицы доносится с телеэкрана. Парень сидит в его туманном отсвете. Джон завороженно смотрит на дождливую телевизионную улицу. Блики света на мокром асфальте; гудки.
Парень разворачивается на крутящемся стуле и смотрит на Джона исподлобья.
– Как ты сюда попал?
– Спустился.
– Зачем?
– Я думал.
– Что? Уходи.
– Я с радостью. Я заблудился.
Парень смотрит на Джона и вдруг протягивает ему руку с растопыренными пальцами.
– Помоги. Не могу левой, того и гляди с мясом отхвачу.
Джон приближается, берет у парня ножницы и обрезает ему ноготь.
Они идут вдвоем по подвалу, слышны их шаги на каменном чистом полу.
– Ты сбежал? – вдруг спрашивает парень.
Джон не отвечает.
– Я никогда не сбегу, – говорит парень. – Я под открытым небом теряюсь. Мне здесь самое оно. Жилье и работа, всё здесь. Я спец по электрическим жилам. Могу перерезать, могу зашить.
Вдоль стен проложены провода в яркой обмотке. Джон и парень идут внутри громадного каменного тела.
Парень отпирает дверь в стене, отступает, чтобы не видеть открывшийся проем. Джон выходит.
Черный мокрый асфальт. Тихий, ровный дождь. Джон оглядывается. Железная дверь уже замкнулась за ним. Над дверью глазок видеокамеры. Наверняка парень видит Джона на телеэкране. Джон поднимает приветственно ладонь.
Джон бежит за автобусом.
Стеклянное конторское здание. Всё тот же дождь. Электронные часы над входом показывают время. Из здания выходят люди. Направляются к машинам. К автобусной остановке. К спуску в метро.
Поток людей густеет. Джон стоит на другой стороне и наблюдает. Он приподнимается на цыпочки, щурится, его глаза перебегают с одного лица на другое, он не успевает всех разглядеть, слишком много народа, валом валят в конце рабочего дня. Джон в отчаянии зажмуривается и вновь открывает глаза.
Толпа уже не так велика. Редеет. Иссякает. Ветер гонит бумажный мусор по тротуару. Джон смотрит на стеклянные двери, опускает голову, разворачивается. И видит Майкла. Он стоит, засунув руки в карманы.
– Хотел спросить, – говорит Майкл. – кого ты здесь высматриваешь?
– Я? Никого.
– А чего торчишь здесь?
– Ничего.
– Ты следишь за мной?
– Да. Нет.
– Да или нет?
– Нет. Я… – Джон смолкает.
– Что ты хотел от меня утром?
– Ничего. От вас. Я обознался. Я принял вас за другого. Но я надеялся. Я действительно высматривал вас. Точнее, его. Такая толпа. Невозможно. Мой знакомый очень похож на вас. Его тоже зовут Майкл. У него жена Салли, она учит детей в младшей школе. У них двое сыновей: Тим и Боб. Мы дружим семьями. Субботними вечерами мы играем с Майклом в покер. Приходят его соседи.
– У меня нет жены, – хмуро прерывает Джона Майкл. – И детей нет.
– Извините.
– Иди домой. К жене.
– У меня нет дома. И нет жены. Ничего и никого. Было и нет. Всё рухнуло. Больше я вас не потревожу.
Джон удаляется от Майкла по черному безлюдному тротуару. Майкл смотрит в его ссутулившуюся спину. И вдруг окликает:
– Эй!
Джон оборачивается. Смотрит устало.
– Ты действительно играешь в покер?
В полупустом поезде метро.
Едут вместе и молчат. Друг на друга не смотрят. Джон разглядывает редких пассажиров. Майкл читает свою затрепанную книжицу.
Они играют в покер в крохотной холостяцкой квартирке Майкла. Джон, Майкл и еще несколько мужчин. Джон втягивается в игру, забывается и мимолетно улыбается, когда выигрывает.
– Ого! – восклицает один из мужчин, взглянув на часы.
Допивает пиво и поднимается.
За ним встают и другие. Прощаются, пожимают хозяину руку. И Джон встает. Тащится к двери. Лицо у него потерянное.
– Джон, – окликает его Майкл. – Тащи-ка мусорку.
Майкл сгребает в мусорку банки из-под пива, ореховую шелуху.
– Ты не лунатик часом? – спрашивает Джона.
– Нет. Думаю, нет.
Ночь. Джон лежит на полу, на застеленном простыней матрасе. Под уютным клетчатым пледом. Его туфли сушатся у батареи. Джон переворачивается, поправляет подушку. Приоткрывает глаза и видит сидящего в кровати Майкла. Майкл читает свою книжицу под маленькой настенной лампой. Осторожно переворачивает страницу. Джон закрывает глаза. Он слышит, как проезжает машина, слышит дальнюю сирену (то ли скорая, то ли полиция). Вновь открывает глаза.
Майкл спит, свесив голову.
Джон поднимается и тихо приближается к Майклу. Заглядывает в раскрытую книжицу. Шрифт мелкий, бумага тонкая, полупрозрачная. Книжица выскальзывает из ослабевшей руки Майкла, Джон успевает ее подхватить. Закрывает и кладет на тумбочку. Это Библия. Потрепанная, помятая. Дешевое издание в бумажной обложке. Джон гасит лампу.
Джон просыпается. В комнате светло. Постель Майкла заправлена. Джон лежит, прислушивается к тишине. Медленно встает. На столе несколько денежных купюр и записка: «РАЗВЛЕКАЙСЯ».
Джон идет в ванную. Смотрит в зеркало на свое заросшее щетиной лицо.
На полочке новенькая, в целлофановой упаковке бритва. Джон распаковывает бритву. Ранит лезвием палец. Смывает кровь под струей воды.
Гладковыбритый Джон входит в кофейню, садится за столик. Посетителей никого, бурчит телевизор. Из-за стойки выходит женщина. Она приближается к Джону и спрашивает:
– Что будете?
– Не знаю. Что-нибудь.
– Оладьи?
– Да, почему нет.
– Очень вкусные. Мой рецепт.
– Да, да, пусть будут оладьи.
– У вас кровь.
Джон смотрит на палец. Кровь из пореза сочится.
– Бритва, – поясняет Джон.
– Я принесу пластырь.
Он поднимает голову и смотрит на женщину. Милое, доброе лицо.
– Вы замужем?
Она отвечает спокойно:
– Нет.
– Во сколько вы заканчиваете работу, – Джон читает табличку на блузке женщины, – Лайза?
Заснеженный парк. Джон бежит за Лайзой, нагоняет, Лайза пытается вывернуться из его рук, оба падают в снег, хохочут, смеются.
– Я шапку потеряла, – шепчет Лайза.
Джон стягивает свою шапку, отбрасывает в сторону. Целует Лайзу.
Взявшись за руки, они идут по узкой аллее.
Им навстречу – Джон, Эн и Ани. Как ни в чем не бывало.
Они идут. Сближаются.
Лайза и Джон.
Джон, Эн и Ани.
Лайза и Джон проходят мимо Джона, Эн и Ани.
Джон, Эн и Ани проходят мимо Лайзы и Джона.
Не замечают. Не видят друг друга.
Безлюдная аллея. Тихий снег.
Степь
На полке этой спала она пять ночей. На тощем матрасе, под стук колес. Сколько ей еще предстоит таких ночей в жизни, она и помыслить не могла.
Лейтенант приподнял ее чемодан из багажного отсека и воскликнул:
– Да у вас там золото!
– Конечно, – отвечала она.
– Монеты или слитки?
– Монеты.
– Какой чеканки?
– Не знаю. Старинные.
– Ого! Целый чемодан старинных монет.
– На пропитание хватит.
– Какое там! Девушка, милая, вы сделали большую ошибку, они там не в ходу, эти монеты, вы бы лучше шубейку захватили, ведь последние денечки август доживает, август благословенный, как моя матушка говаривала. Всё это солнце и тепло – мнимость одна, кажимость, обман. А на самом-то деле, мороз в сорок громадных градусов, и несет его ветер по степи, а скорость у ветра побольше, чем у нашего с вами поезда. А небо по ночам черное над степью, как дыра. Напрасно вы смеетесь, девушка.
Она не смеялась, она улыбалась. За окном над степью светило солнце, в синем небе нежилось облако, и свежий воздух влетал в вагон на скором ходу через опущенное стекло. Август благословенный – не раз она вспомнит и повторит потом, после.
– Не смейтесь, – повторил лейтенант.
– Почему?
– Потому что я говорю серьезно.
– Вы на платформу мне вынесете чемодан?
Он молчал строго. Смотрел на нее, думал, решал.
– Не хотите – не надо, я другого кого-нибудь попрошу.
– Ладно уж, помогу.
И бабка ехидно воскликнула с боковой полки:
– Ну слава богу.
Лейтенант помрачнел. Повторил с мрачной серьезностью:
– Помогу.
– Одолжение сделал, – сказала бабка и подмигнула Лизе.
Тяжеленный громадный чемодан, перетянутый шпагатом, он подхватил легко и направился с ним к выходу. Поезд сбрасывал скорость.
Лиза всем в вагоне пожелала счастливого пути, и ей все пожелали счастья, удачи, здоровья и любви. И так она рассталась со своими попутчиками, получив их благословение на дальнейшую жизнь. Лейтенант с двумя маленькими звездочками на каждом погоне стоял уже в тамбуре. Поезд останавливался.
Проводница отворила железную дверь и протерла тряпицей желтый поручень. Лейтенант подхватил чемодан и спрыгнул с нижней ступеньки на растрескавшийся асфальт. Лиза на ступеньке задержалась. Солнце слепило. Лиза прыгнула. Лейтенант подхватил ее. Поставил на асфальт, но не отпустил. Он держал Лизу в крепких объятиях, она и шелохнуться не смела. И мысли застыли. Сердце лейтенанта стучало ей в лоб, она дышала лейтенантом, она как будто была в нем, защищена ото всего света его большим крепким телом, таким, оказывается, огромным, всю ее окружившим, поглотившим.
Она почувствовала, что поезд тронулся, но лейтенант обнял ее еще крепче, прижал плотнее. Он стал тихо раскачиваться вместе с ней. Поезд разгонялся, она уже слышала его ход, слышала, как кричат лейтенанту. Он вдруг отпустил ее, отступил.
Поезд уходил. Они были так близко.
Лейтенант пристально смотрел на нее блестящими глазами. И вдруг развернулся и бросился бежать. Лиза смотрела вслед, видела, как он ухватился на ходу за поручень в хвостовом вагоне и запрыгнул. Она думала, что он выглянет из вагона, но он не выглянул.
Поезд отгремел, его уже едва видно было вдали. Блестели на солнце рельсы. Лиза вдруг заплакала. Сквозь слезы она видела маленький кирпичный вокзал, подводу. Мужик стоял у подводы и, кажется, смотрел на Лизу. Он отбросил окурок и пошел через рельсы.
Рельс было много, огромная, сверкающая сеть. Лизина платформа казалась островком, асфальтовым прямоугольником.
Мужик, перешагивая через рельсы, достиг ее островка. И взобрался на него.
Он встал перед Лизой. Она шмыгнула носом.
– Ничего, – сказал он, – не на войну же едет.
– Ничего, – согласилась Лиза.
– Елизавета Сергеевна?
– Да, – отвечала она быстро, испуганно.
– Пётр Андреевич, директор, – он протянул ей большую ладонь.
Лиза растерянно ее пожала. Вот ведь, сам директор ее встречает. Несет ее чемодан. Подсаживает ее на подводу. Сам лошадью управляет.
Лошадь шла тихо. Лиза смотрела вдаль широко раскрытыми глазами. Думала о лейтенанте. Какой странный все-таки человек. Всю дорогу, сутки за сутками, внимания на нее не обращал. Ходил в ресторан, возвращался с корявым мужиком, пил с ним водку всю ночь, и она слышала сквозь сон их шу-шу и прерывистый его смех, а мужик как будто ахал в ответ, а не смеялся. Утром лейтенант спал долго на своей верхней полке, к полудню просыпался, потягивался, спускал босые ноги. Спрыгивал, надевал туфли со стоптанными задниками, гражданские туфли, старые, потертые. Шлепал в туалет. И ни разу не заговорил с ней за весь долгий путь. Один раз угостил весь их вагонный закуток омулем – купил на станции. И она тоже ела, вкусная рыба, но дорогая. Когда поезд остановился вдруг у Байкала, он не испугался опоздать и побежал купаться. Говорил потом, что вода – чистый лед. Почему он вот так обнял ее на прощание, Лиза не могла придумать. Может быть, она ему всё же понравилась, но он стеснялся показать, а перед самым расставанием решился. Лизе было жалко, что они не поговорили ни разу, что навряд ли уже и увидятся, что ничего уже у них не случится.
Лейтенант был несбывшееся. Лиза не горевала об этом. Вся жизнь впереди.
Подвода катилась по твердой земле, облака росли в глубину неба. Тень от подводы, лошади, директора и Лизы, их единая тень, удлинялась на закатном уже солнце. Эта тень накроет всю степь, когда солнце отправит земле последний прощальный луч и провалится за горизонт.
Домов еще не было видно, но уже запахло дымом, жильем. И лошадь побежала веселее. Как в романе XIX века. Героиней прошлого века почувствовала себя Лиза. Как будто кто-то уже описал ее жизнь. Как будто она жила по написанному и прочитанному.
– Умеете ли вы топить печь? – спросил директор.
– Да, умею.
Так ответила Лиза.
– У нас дома печь. Русская.
Что правда, то правда, – русская печь обогревала их дом. Вот только топить ее Лиза не топила. Полешки в огонь подбрасывала, золу выгребала железным совком. Дрова приносила из сарая. Пироги ела из печи и картошку. Маленькой забиралась на печь и пряталась за занавеской в сухом тепле. Но топила мать. И почему Лиза не призналась? Чего застыдилась?
– Мы вам уголь привезем, – сказал директор, – тут сараюшка есть во дворе. Весной огород устроите на навозе, парники. Так-то у нас вечная мерзлота, летом жара до сорока градусов, но земля не отходит в глубине.
Он посмотрел в растерянные Лизины глаза:
– Зато картошка у нас вкусней вашей.
Помолчал и добавил:
– И солнца много.
Чемодан он ее оставил у порога. Прошел по широким половицам к окну. Наклонился к стеклу. Посмотрел. Произнес удовлетворенно:
– Хорошо.
На прощание он пожал Лизе руку и сказал, что завтра ей надо быть в школе.
Лиза вышла на крыльцо, посмотрела, как уезжает подвода.
Дом выделили на отшибе, зато на пригорке, так что весь поселок Лиза видела. Степь не была в здешних местах ровной и гладкой, как Лизе воображалось. Лиза посмотрела на поселок, который лежал уже в тени. Загорались там в домах огоньки.
Большой поселок. Почти что город. И дома есть большие, в несколько этажей. Директор сказал, что кинотеатра два. И клуб. Она бы пошла туда сейчас, но страшно потом возвращаться в темноте через пустынное место.
Лиза озябла стоять и ушла в дом. Дверь закрыла на засов.
Села на стул у окна и стала смотреть на заходящее солнце. Красный шар коснулся края земли и стал за него уходить. Подсвеченные красным облака гасли, как гаснет, остывая, раскаленный уголь.
Уже в темноте Лиза включила свет и взялась разбирать чемодан. Распутала шпагат, сняла фанерную крышку и вынула пальто. Темно-синее, в талию, пошитое в мастерской к окончанию института, подарок родителей. Воротничок серый, цигейковый, стоечкой.
Лиза примерила пальто. Зеркала в комнате не оказалось, и Лиза подошла к окну посмотреть на свое отражение в черном стекле, повернулась боком, растопырила руки, вообразила, что кто-то смотрит с той стороны, из ночи, на нее, и поспешно от окна отошла. И порешила добыть на другой же день занавески. Пальто она повесила на крючок у двери, под пальто поставила войлочные черные полусапожки на резиновом ходу. Со дна фанерного сундука достала белую простынь, села с этой простыней в обнимку на край узкой железной койки и вдохнула простынный запах.
Простынь впитала полынный воздух их маленького городка. И даже грибами немножко пахла, которые Лиза чистила в саду, принеся их из леса тихим недавним утром. Лиза обрезала острым ножиком грибные ножки, а простынь сохла рядом на провисшей веревке. Стекала с простыни вода, капала на листья смородины, и казалось, что дождик. Светило мирное солнце, совсем не такое, как здешнее, всё норовящее ослепить, а не осветить.
Лиза постелила простынь на плоский матрац. Сундук свой затолкала под кровать, разделась подальше от окна, у стеночки, забралась в огромную, до пят, ночную рубашку, она тоже пахла домом, чистым воздухом родины. Улеглась в постель, укрылась купленным в Москве китайским шерстяным одеялом. Подушка у нее была своя, пуховая, бабка отдала на хозяйство. Одеяло кололось.
«Куплю с получки пододеяльник, – подумала Лиза. – И лампу настольную. Хорошо бы приемник, чтоб голос человеческий был. А занавески прямо завтра. Это в первую голову».
Свет она не погасила, чтобы не остаться одной в темноте на самом краю обитаемой земли.
Сон ей приснился, как будто за окном ходит лейтенант и смотрит строго – охраняет Лизин сон. За окном зима, он в белом полушубке, снег скрипит под лейтенантскими валенками. Лиза подумала: «На новом месте приснись жених невесте». И очнулась ото сна.
За окошком едва угадывался свет. Видимо, было еще очень рано, и здесь, на западной стороне, лежала тень. Лиза подняла руку и посмотрела на часы, она их не сняла с запястья, когда ложилась. Часы стояли. Лиза вдохнула остывший за ночь воздух, решительно отбросила одеяло, опустила босые ноги на пол и ойкнула от ледяного прикосновения. Поскорей нашарила ногами тапочки, новенькие, купленные в Москве.
Хотелось горячего чаю. Чайник стоял на шестке, полный воды, дрова лежали в плетеной корзине, и Лиза решилась истопить печь. Она заложила в печь дрова, нашла в чемодане старую газету, разорвала и затолкала обрывки между поленьями. Всё в точности, как делала мать. И щепу наломала от полена большим кухонным ножом, и подтолкнула в дрова, и сверху дров положила щепу. Подожгла ее и газетные обрывки. Не забыла выдвинуть заслонку для тяги.
Пламя занялось. Лиза смотрела на него, сидя на корточках у открытой дверцы печи, пока ноги не затекли. Прикрыла дверцу и подвинула тяжелый чайник на середину шестка, над самым большом огнем.
Прибрала кровать. В запотевшем стекле протерла ладонью дорожку, показалось в дорожке синее небо. Чайник загудел, закипел, расплескал кипяток, зашипевший на раскаленном чугуне.
Лиза нашла в шкафчике возле печки пачку прессованного чая, сахар-рафинад в коробке. И сказала тому, кто позаботился о припасах:
– Спасибо.
Наверно, это был директор.
Чай Лиза заварила в привезенной из дома большой фарфоровой чашке. Пила долго, основательно, как после бани они пили чай дома. Крепкий, сладкий. После чая чистила зубы в холодном коридоре под рукомойником. Вода лилась из раковины в помойное ведро.
Лиза надела летнее платье василькового цвета. Оно измялось в чемодане, но утюга в доме не нашлось. Зеркала очень недоставало.
«А дом – как таежная избушка, – подумала Лиза, – с припасами для прохожих, остров спасения».
Лиза вышла на крыльцо навстречу солнцу. Она остановилась и посмотрела на поселок внизу. Разглядела белое, в четыре этажа, здание школы. Дым из красной заводской трубы растворялся в синем небе бесследно. Лиза вдохнула поглубже новый воздух и спустилась по двум ступеням на тропинку. Тропинка повела ее вниз, повернула направо, и поселок исчез из поля зрения, и Лиза уже не была уверена, что тропинка приведет ее к нему. Она шла в лощине под ярким солнцем и готова была ко всему, к тому, что тропинка заморочит и вернет к дому, что поселок – мираж, что Лиза сейчас на другой планете в тысяче световых лет от родной земли. Как в фантастической книжке.
Лиза прибавила шаг. Ей казалось, что она шагает уже очень давно, онемевшие часы не могли подсказать время. Тропинка вдруг уперлась в серый забор. Лиза посмотрела на забор недоуменно. Забор был высокий, ничего не видно, что за ним. И доски пригнаны плотно. Серые, сухие, отливают на солнце серебром. Тропинка разбегалась на две. Можно было пойти вдоль забора налево, а можно направо. Лиза повернула налево, под горку.
Шла вдоль забора, шла и вдруг увидела, что одна доска перекошена, взялась за край. Доска держалась на одном только верхнем гвозде, так что Лиза ее сдвинула и заглянула в проем. Она увидела асфальтовую дорогу, потрескавшуюся и сверкающую на солнце. Пустынную, как будто заброшенную. Лиза еще сдвинула доску и пролезла в проем. Вышла на дорогу и увидела поселок, он начинался прямо за дорогой.
Лиза услышала шум мотора, по дороге катил грузовик.
Приблизившись, он сбросил скорость, и шофер крикнул из кабины:
– Подкинуть?
Лиза замотала головой, шофер рассмеялся, грузовик взревел и умчался по блестящей дороге. Лиза посмотрела ему вслед, расправила подол платья и перешла на другую сторону.
«Большой поселок, – думала Лиза, – тротуары широкие, тополя растут, у деревянных домов железные крыши. Наверное, где-то рядом леса, оттуда деревья на растопку и на строительство, улица какая длинная, прохожих нет».
Во дворе за низким штакетником мужчина и женщина пилили бревно двуручной пилой, пила застряла, выгнулась, они приподняли ее и осторожно повели: вжик-вжик. Сталь отливала на солнце.
«Школа вот она, кирпичная, оштукатуренная, белая, окна большие, классы, наверное, светлые».
Лиза приостановилась у школьного крыльца, подняла голову и увидела, что из открытого окна на четвертом этаже смотрит на нее седая, морщинистая женщина.
В фойе оказалось прохладно и темно после улицы. Лиза направилась к лестнице. Каменные широкие перила были выкрашены коричневой краской. Лиза поднялась на третий этаж, прошла по паркетному коридору до высокой двери с табличкой «УЧИТЕЛЬСКАЯ». И постучала.
Директора на месте не оказалось, но Лизу ждали. Встретили ласково. Одна молоденькая учительница принесла торт, у нее сегодня был день рождения. На электрической плитке вскипятили чайник. Торт темно-коричневый с белым кремом. Лизу просили угадать, из чего торт. Он был очень вкусный, похож на шоколадный. Лиза так и сказала:
– Шоколадный.
Не угадала. Торт оказался черемуховый, в здешних местах сушили черемуху и мололи на муку.
После торта мыли окна в классах. Лиза всматривалась в учительниц, думала узнать глядевшую на нее из четвертого этажа, но не узнавала. После окон начался педсовет, Лизе сказали, что ей назначено вести физику в шестом классе, что класс сложный, но ей помогут. После педсовета стали расходиться, Лиза медлила, ушла последней. Спросила у прохожего мужчины, где булочная, он показал. Лиза взяла половину черного хлеба. В продуктовом взяла банку китайской тушенки. Несла по улице в руках. Хлеб пах вкусно.
Лизу окликнули. Учительница, угощавшая тортом, перекапывала огород. Лиза сказала:
– А есть у вас еще лопата?
Учительницу звали Валюшей, она дала Лизе старый спортивный костюм, в котором еще ходила в школу на физкультуру.
Вскопали землю. Умылись в огороде, поливая друг дружке на руки из ковшика. Отварили картошки, открыли Лизину тушенку.
– А дома я рождение не отмечаю, – говорила Валюша.
– Да как же?
– Не знаю. Не привыкла. Ну так если, выпьем вечером за ужином за здоровье, у нас самогон, хочешь?
Лиза сказала решительно:
– Хочу.
Солнце склонялось к западу, Валюша сказала, что скоро придет с работы муж, Лизе страшно было думать об обратной дороге, от страха она и выпила самогон.
– Ты ешь, ешь, а то опьянеешь, – говорила Валюша, – я картошки много наварила, всем хватит.
Наевшись, Лиза сказала, что ей пора, и Валюша проводила ее до калитки. И осталась там у калитки ждать мужа.
От самогона Лиза и вправду позабыла страх. Шла под сереющим пепельным небом, ступала твердо. Шла на запад, куда ушло уже солнце. Воздух становился прохладным, но Лизе всё было тепло, и она казалась сама себе очень красивой в васильковом платье, и жалела, что директор не увидел ее в этом платье.
Он-то еще увидит, а вот лейтенант – никогда.
Лиза пересекла дорогу, нашла дырку в заборе, пролезла через нее на тропу. И отправилась по тропе решительно и спокойно. Небо еще светилось бледным отсветом. До полной, окончательной темноты Лиза добралась до дома, посмотрела с крыльца на поселковые огни, они мерцали внизу, отворила дверь.
Лиза вошла в темную комнату и увидела ночное окно. Не включая света, подошла к окну, нащупала спинку стула. Села. Посидела в тишине. Почувствовала себя оторванной ото всех на свете, на краю земли. Поплакала. Потрогала молчащие на запястье часы. Завела вслепую. Поднесла к уху. Часы стрекотали.
Терапия
1. 1986
Бумага лежала у меня на столе. Я смотрел в нее и молчал.
Заявление на отпуск, три строчки, я полагаю, он не мог взять в толк, отчего я так долго их читаю. Не представляю, о чем он мог думать, стоя перед моим столом в ожидании. У меня никогда не хватало воображения представить, что думает другой человек. Даже обо мне. У меня просто желания никогда не возникало узнать.
– Что-то не так? – он спросил, решился наконец.
– Что у вас было в восемьдесят шестом году?
Он, конечно, растерялся от такого нелепого вопроса. Задумался. Я бы, кстати, тоже задумался. Не так просто вспомнить, что было в восемьдесят шестом, четверть века прошло. Если только с этим годом не связано что-то особенное. У меня – ничего.
– Может быть, вы квартиру получили в восемьдесят шестом? – я спросил. – Или развелись? Нет? Ну, не знаю. В отпуск куда-нибудь ездили? В Болгарию. Я помню, вы что-то про Болгарию рассказывали.
– Болгария в семьдесят четвертом была.
– Отлично. Тогда что в восемьдесят шестом? Что-то очень приятное? Любовницы у вас не было?
– Никогда.
В отделе у меня четверо. Леониду, который ждал моей подписи, скоро шестьдесят, но отчество не прижилось, звали по имени. Маша сидела дома с ребенком. Лариса и Геннадий о чем-то перешептывались, шур-шур, как мыши, они редко в голос меж собой разговаривали, всё тайно. Мне никогда не хотелось узнать, о чем они, но и шур-шур раздражало. Они и жили вместе. И не уставали друг от друга, что удивительно. Когда я спросил Леонида про любовницу, они шуршать перестали, притихли. Смотрели во все глаза, ничего не понимали, конечно.
– Тогда, наверно, что-то очень плохое было, – сказал я Леониду, – Восемьдесят шестой. Вспоминайте.
– Перестройка началась, – тихо пискнул со своего места Гена.
– Наплевать на перестройку, – я сказал. – Или не наплевать?
Я посмотрел пристально на Леонида.
– Не знаю, – сказал он растеряно.
– Сын погиб? В каком году он погиб?
Вопрос, конечно, был страшный, я это понимал прекрасно. Мыши молчали – тоже ответ ждали. Боялись ответа.
– Саша погиб в восемьдесят восьмом, – ответил Леонид ровным, скучным голосом. – Попал под машину.
– Да, я в курсе. Кажется, он сам был виноват, помчался на красный.
– Он спешил.
– Очень хорошо. В восемьдесят шестом он был еще жив. Не надо делать такое трагическое лицо, я вас про восемьдесят шестой год спрашиваю, ваш сын жив. Он в этом году школу закончил?
– Что вы хотите от меня, Сергей Николаевич?
– Ничего. Просто любопытно, с чего вы вдруг подписали заявление 1986 годом.
Я подтолкнул бумагу к краю стола. Он растеряно взял лист. Сощурился.
– Восемьдесят шестой, восемьдесят шестой, не сомневайтесь. Очки на столе у вас лежат, идите и посмотрите. И перепишите заявление, я уйду через пять минут, у директора совещание.
Мыши затаились. В батареях что-то зажурчало и смолкло. Его ручка зашуршала по бумаге.
На совещании я смотрел в окно. Подъехала к крыльцу скорая, побежали из нее врачи. Вызвали Леониду, как выяснилось. Когда я вернулся в отдел, его уже увезли с сердечным приступом. Мыши на меня не смотрели, стучали по клавишам. Всегда бы так работали.
До вечера так молча и просидели, ни словом не перемолвились.
Топ-топ, ушли, до свидания. Я дописал программу и выключил компьютер. У Николая компьютер так и работал, я сел за него, поерзал мышкой, и экран осветился.
Я рассмотрел его фотографии, в почтовый ящик залез. Абсолютно чужд был мне этот человек, неинтересен, я смотрел равнодушно на его лицо, на снимках он выглядел старше, особенно на солнечных, где-нибудь в отпуске, на улочке средиземноморской или у моря. В нормальном состоянии я бы слова ему лишнего не сказал. Попросил бы переписать заявление, и всё, разговор окончен. Я всегда держал дистанцию, скучно и хлопотно лезть в чужую жизнь.
2. Ужин
Дома за ужином всё было обыкновенно, я слушал радио, ел и молчал. Жена у меня домохозяйка, сын в восьмом классе, учится неплохо, занимается борьбой, что-то японское, сейчас модно. Он Вале рассказывал смешное и сам не мог удержаться от смеха, но смеяться ему было больно, зуб вырвали, он и ел с необыкновенной осторожностью, обычно пожирал всё мгновенно. Валя даже огорчалась, что он не чувствует вкуса, не успевает, и говорила любовно, что он – ее домашнее животное. Готовит она и в самом деле превосходно. Для меня одно из удовольствий ужин дома. Уют и вкусная еда – одно из условий моего существования, как ни банально это звучит.
Но в этот вечер я не чувствовал вкуса. И радио меня раздражало, я поднялся и его выключил, и это было так необычно, что мои за столом смолкли, сын уставился на меня во все глаза, а Валя улыбнулась растерянно. Дело было не в раздражении. Это и нельзя назвать раздражением. Я написал, что не чувствовал вкуса еды, но я ничего не чувствовал, знаете, было такое состояние, как будто спишь. Хотелось укусить себя за руку. Мне казалось, что люди, сидящие со мной за одним маленьким, тесным столом, не существуют. Хотя я их слышал и видел. Или существуют где-то очень от меня далеко. И как будто всё дальше и дальше от меня уходят. Вселенная расширяется, несомненно. Я не знал, что мне с этим делать. И, разумеется, не в этот вечер всё началось, но в этот обострилось. Или историю обострения следует начинать с Леонида? Как будто они все удалились от меня на слишком уже большое расстояние, пугающее.
Я нацепил на вилку кусок мяса и спросил сына буднично:
– Можешь мне помочь в одном деле?
Он жевал осторожно и смотрел выжидающе.
– Надо одного человека убить.
Сын прекратил жевать. Валя посмотрела на меня испуганно.
Я продолжал невозмутимо:
– Он живет на верхнем этаже, выше только чердак, до лифта надо спускаться два пролета. Его просто надо столкнуть с лестницы, когда он выйдет гулять со своим псом. Ближе к полуночи. Очень удобно, народ в основном спит. Человек он старый, под восемьдесят, жить ему уже надоело, я полагаю. И псу его жить надоело. Сделаешь доброе дело и денег подзаработаешь.
Могу поклясться, что сын мой слушал меня с интересом, он, может, и сам не желал в себе этого интереса, и не хотел, но интерес был, проявился.
– Милая, ты не подашь мне хлеба? – спросил я жену.
– Серёжа, зачем ты? – с упреком, недоуменно сказала Валя и подала хлеб.
– Спасибо, дорогая.
И сын, и она следили за мной: как я откусываю хлеб, как жую, как запиваю уже прохладным чаем.
– За сколько столкнешь старика? – спросил я.
– Серьезно?
– Абсолютно.
– Десять тысяч евро.
– Губа не дура. На что потратишь?
– Мотоцикл куплю.
– Кто тебе продаст, малолетке?
– Ты купишь.
Мы смотрели друг на друга, глаза в глаза, как будто играли в гляделки. Сын отвел глаза первым. Я отставил чай, поднялся. Уходя, я слышал, как Валя что-то прошептала сыну, но он, по-моему, не ответил. Я вернулся и положил на стол перед ним пять бумажек по сто евро. Он посмотрел на деньги, на меня.
– Аванс, – пояснил я.
И сел за стол.
– Чаю не нальешь еще? – спросил Валю.
Она молчала, не двигалась. Сын медленно собрал бумажки одну к одной. Жена смотрела завороженно, как он это делает. Как складывает бумажки пополам и прячет в задний карман джинсов. Затем берется за хлеб.
– Миша, – тихо позвала его Валя.
Он не взглянул на мать. Провел хлебом по тарелке, собирая соус. Отправил хлеб в рот.
– У тебя руки грязные, – сказала Валя, – после денег. – Но сын не отвечал.
Дожевал и спросил меня:
– Он толстый?
– Старик? Да. Зато неуклюжий. Толкнешь – не поднимется. Ты оденься как-нибудь понезаметнее, у тебя куртка яркая, надо черную, всё надо черное, шапочку, штаны, чтоб как униформа, таких ребят тысячи, никто не опознает.
– Нет у меня черной куртки.
– Купи на рынке. Деньги у тебя есть. Вложи маленько в предприятие.
Валя молчала и растерянно следила за нашим разговором.
– И отвернись от камеры наблюдения, она перед подъездом обозревает. И не беги обратно. Иди спокойно. Можно даже хромать.
– Зачем?
– И туда хромать, и обратно. Это с толку собьет. Будут искать хромоногого.
– Меня собака смущает.
– Она старая. Зубов нет, чтоб кусаться.
– Всё равно.
– Ну хочешь, и собаку убей.
– Серёжа, что ты несешь? – Валя пыталась уловить мой взгляд. – Миша, не слушай его бога ради.
– Далеко он живет? – деловито спросил сын.
– Я тебе завтра адрес дам.
И я поднялся из-за стола.
– Что за игры? – остановила меня Валя.
– Игры? – удивился я.
Не знаю, о чем они говорили, я ушел к себе, в так называемый кабинет. Там у меня книги, компьютер, я закрываю дверь, и никто не входит. И здесь балкон. Я выхожу курить ночью, смотрю на город, он практически скрыт, только огни обозначают что-то: окно, за которым живут, кто и как – мне нет дела; фары автомобилей, куда они, с кем – неважно; уличные фонари. Иногда я не выхожу, меня почему-то не тянет туда, к огням в темноте, я сажусь в кресле у открытой балконной двери. Даже зимой. Когда снег идет, мне кажется, я слышу, как он шуршит. И как сигаретный дым тянется, или я не знаю, какой тут подобрать глагол. Но дым я тоже слышу. Я практически не курю, привычки нет, но в кабинете за книгой, поздним вечером, тянет не к сигарете, к красному ее огоньку, к уходящему дыму. У меня вообще нет вредных привычек, здоровье отличное. Я проживу лет до ста, если машина не собьет. Под машиной я разумею того театрального бога, который разрешает все неразрешимые вопросы, развязывает сюжетные узлы и бесит критиков топорной работой. Да, топором по башке тоже могут дать.
Мне не хотелось видеть город, я зашторил окна. Устроился в кресле. Шторы у меня плотные, и я почти ослеп в темноте. Говорила за стеной жена. Может быть, с сыном, а может, по телефону, ответов я не слышал. У соседей как будто кто-то мебель передвигал. Затем они включили телевизор, наверно, какой-то фильм про любовь, с долгими лирическими музыкальными паузами. Но всё это меня не касалось, все эти звуки не имели никакого отношения к моей жизни. В конце концов они стихли. Но не все звуки умерли. Вода урчала в трубах, за окном по шоссе шли машины. Вдруг скрипнуло что-то в моем кабинете, и этот близкий, внезапный скрип меня напугал. Как будто кроме меня еще кто-то здесь оказался. Я включил лампу. Золоченые буквы поблескивали на корешках. Оказывается, на корешках моих книг много золоченых букв.
3. Миллиардер
Жена читала в постели. Она взглянула на меня и вновь опустила глаза в журнал. Путешествия. Какая-то экзотическая страна. Я рассматривал ее читающее лицо. Она перевернула страницу.
Я улегся на своей половине, забрался под одеяло. От жены исходило тепло. Она вообще-то редко мерзла, в морозы ходила в легких сапогах, а у меня ноги вечно ледяные.
– Можно вопрос? – жена повернулась ко мне.
Я тут же закрыл глаза.
– Зачем ты устроил этот цирк?
Я молчал и глаз не открывал.
– Миша тебя уважает. Я слышала как-то раз нечаянно, он тобой хвалился перед приятелем, перед этим Федей, но ты Федю, конечно, не помнишь. Ты вообще не знаешь, чем твой сын живет. Ты когда-нибудь интересовался у него, как дела? Я не помню. Про беседы задушевные и говорить нечего. «Здравствуй». «Спокойной ночи». «Подай хлеб, пожалуйста». Все твои к нему обращения. При этом он тебя любит, что удивительно. И хочет тебе понравиться. Ты в курсе, что он тебе понравиться хочет? Скажи мне, с чего ты вдруг завел этот бред с убийством? Что ты от него хочешь?
Я молчал, глаз не открывал, дышал ровно.
– Кто этот старик?
Я слышал, как она журнал бросила на столик. Щелкнула кнопкой, погасила лампу.
Я открыл глаза. За окном мерцало ночное небо.
– Ты помнишь, за тобой в институте Меламуд таскался? – спросил я. – Он, кажется, чуть не травился из-за тебя. Или под поезд бросался, я не помню. Или подрался и в милицию попал. Он сейчас в Швейцарии. Миллиардер. Не женат. Благотворительностью занимается. Они все сейчас благотворительностью занимаются.
Она молчала.
Я повернулся к жене. Приподнялся на локте. Она лежала с открытыми глазами.
– Неужели ты не думаешь об этом? – спросил я.
– О чем?
– «Как жаль, что я его тогда упустила, жила бы теперь как королева, в Швейцарии, и у сына будущее было бы не в пример более ясное и прекрасное». Так? Или у дочки. Или ты бы ему шестерых родила.
– Да, – сказала она, – подумала. Я бы действительно могла быть сейчас в Швейцарии.
Я лег затылком в подушку, руки заложил за голову.
– Не могла бы.
Я улыбнулся в темноту.
– Я понятия не имею, где сейчас Меламуд. Может, где-нибудь в Самаре. Или в Ашдоде. Может, в Нью-Йорке концы с концами сводит. Я выдумал про Швейцарию.
Она не отвечала.
– Хотя, конечно, может, и в Швейцарии, может, и миллиардер, чем черт не шутит?
Я отвернулся, поджал заледеневшие ноги и закрыл глаза.
4. Утро
За окном светлело небо. Ноги согрелись, и я наслаждался их теплом. Я слышал шум воды, голоса из кухни, звяканье посуды.
Собирались они очень долго, ходили по коридору, включали и гасили свет, переговаривались. Меня никто не тревожил. Затворили дверь, повернули в замке ключ. Ушли. Завтракать я уже не успевал. Торопливо принял душ, оделся. Вошел в кухню проверить, завернут ли газ. В мойке стояла кружка с остатками чая. Что-то в ней было чрезвычайно одинокое, заброшенное, покинутое. Как в остывшей планете. Нет тепла – нет жизни.
Я нащупал ключ в кармане куртки.
До работы добрался очень уж быстро, везде передо мной вспыхивал зеленый свет и мгновенно рассасывались пробки. Так что я не опоздал. Подкатил почти к самому крыльцу, еще нашлось место. Из машины не выходил. Сидел и смотрел, как люди идут на работу. На улице было холодно, почти предзимняя погода. Пронизывал людей ветер, они отворачивались, опускали головы, спешили. И, несмотря на такой холод, был жив комар. Он сидел на лобовом стекле со стороны улицы. Я ждал почему-то, что он улетит. Но он не двигался. Он как будто ждал, что стекло растает, растворится и он мгновенно окажется в тепле, возле живого человеческого тела. Мне стало не по себе, будто стекло и в самом деле могло раствориться. Я включил «дворники», и они смахнули комара.
Рабочий день уже начался. Крыльцо пустело.
Подкатил троллейбус, вышли из него мои мыши. Одеты они были тепло, уютно и не спешили, не боялись опаздывать, я к опозданиям относился спокойно, я вообще был не требовательным начальником, хотя мыши меня все-таки побаивались, да и все меня побаивались на работе.
На холодном ветру их лица раскраснелись. Они были близко уже к моей машине, я лег на сиденье, чтоб они меня не увидели. Радио у меня бубнило, я всегда включаю радио, я даже в детстве уроки не мог делать без радио, мне как-то спокойнее с ним. Сказали погоду на завтра, еще холоднее, возможен снег, и я поднялся. Мыши прошли, на крыльцо вышел охранник и закурил. Я завел двигатель и поехал – от работы. Просто от работы, никакой другой цели у моего движения не было.
Я попал в пробку, как в ловушку.
Долгое стояние меня раздражило, и я при первой возможности свернул в арку большого дома и въехал в унылый двор. Вышел из машины.
Их было пятеро. В черных куртках, джинсах, кроссовках, в черных трикотажных шапочках. В точности как я предлагал сыну одеться для убийства. Они стояли на детской площадке. Пока я подходил, один из них уселся на качели и стал не спеша и несильно раскачиваться. Я расслышал их разговор.
Говорил парень с сигаретой. Примерно так:
– Америка воспринимала творчество Скотта и Байрона не просто как уникальные литературные достижения, но как часть общего потока английского романтического движения.
Он дал прикурить от своей сигареты парню на качелях.
Самый из них низкорослый и юный, лет двенадцати, не больше, заявил:
– Своего Байрона в Америке не нашлось. Ближе всего, по спецификациям, подходил Эдгар Алан По.
Стоящий с сигаретой затянулся и выдохнул с дымом:
– Самым «байроническим» из американских штатов была, очевидно, Виргиния.
Я подошел вплотную, вошел в их круг, и они смолкли.
Всё было, как я описываю: качели, сигареты, низкорослый мальчишка среди ребят постарше, но разговор другой, я соврал про Байрона, списал из предисловия к книге стихов По. Разумеется, они не могли говорить ничего подобного. Или могли?
Разговор вели про то, как маленький проник в ночной клуб, куда его старшие приятели не попали, не прошли фейс-контроль. Через окно в туалет. До окна добрался по пожарной лестнице. Постучал в стекло. И ему, о чудо, открыли. Туалет был дамский. Приятели маленькому не верили, говорил, что в клубных туалетах нет окон.
Они смолкли, когда я вступил в их круг. Я понял, почувствовал, что главный тот, кто покачивается на доске. Поскрипывали тросы, на которых доска крепилась.
– Вы бумажник не находили? – спросил я главного. – Черный, лаковый, с монограммой серебряной. Не серебряной, конечно, просто белый металл. Я здесь уронил, ровно на этом месте.
Все зашарили по земле глазами.
– Не видели?
– К сожалению, нет, – сказал главный.
Насчет «к сожалению» я не вру. Так и сказал.
– Денег много было? – спросил маленький.
– Почти сорок тысяч.
– И давно уронил?
– Минут двадцать назад. Не больше.
– Уверен, что именно здесь? – спросил главный.
– Уверен.
– Отчего же не подобрал?
– Забыл.
Маленький засмеялся.
– Да, забыл. Ничего смешного. Вспомнил и вернулся.
– Мы здесь больше часа сидим. Это я к тому, что ты не мог здесь двадцать минут назад ничего уронить. Тебя здесь не было двадцать минут назад, понимаешь?
– Понимаю, – сказал я. – Отлично понимаю. Бумажник у вас, да? Верните, ребята. Нехорошо чужое брать, грех это.
– Никто твой бумажник не брал, – сказал маленький.
– К сожалению, – добавил главный.
– К сожалению, – подхватил маленький.
– Покажи карманы, – сказал я главному.
– Что? – улыбнулся он.
– Встань, – жестко сказал я, – покажи карманы.
Он встал и придержал качели за трос.
Ребята напряженно молчали. Следили за каждым его движением.
– Карманы, – приказал я.
– Ага, – сказал он. И врезал мне в лицо. Я бы упал, но сзади меня подхватили. Он въехал мне ногой в живот. Сзади меня отпустили, я рухнул. Старался закрыть голову от ударов.
Женский пронзительный крик их спугнул.
Кричавшая подошла ко мне. Я скорчившись сидел на земле. Она заглянула мне в лицо.
– Скорую вызвать?
– Нет, – сказал я.
– Милицию-то бесполезно вызывать, у Гришки у самого отец в милиции работает.
– У какого Гришки?
– Мальчишка, сосед мой, за этими обалдуями таскается. Возьмите, – она протянула мне бумажный платок.
– Ничего, – сказал я.
– У вас кровь из носа.
– Ничего, всё в порядке. Идите. Идите, правда. Всё нормально.
Она ушла, я лег на землю. Лежал, смотрел в небо, шел редкий, едва заметный снег, от ветра поскрипывали качели. Кровь остановилась. Я замерз.
5. Костоправ
Я увидел собственный скелет, как герой «Волшебной горы», при жизни. Кости были целы. Хирург сказал, что мне повезло, и убрал снимки. «Хирург» – так на двери кабинета было написано, а представился он мне костоправом.
– Кто вас разукрасил? – поинтересовался.
– Ребята, подростки.
– Знакомые?
– Нет.
Мы были одни в кабинете, сестра отпросилась, кажется, у нее приехали родственники из-за границы. В коридоре ждала очередь, но он не спешил. Долго искал бланк на столе, шуршал бумагами, уронил ручку, посмотрел, как она катится, и пошел следом. Я сидел на затянутой белым кушетке. В сумерках это белое казалось чистым, а когда он зажег свет, я разглядел на белой простыне выцветшие пятна. Кровь?
Он поднял ручку и пробурчал:
– Ненавижу подростков.
– Они ни при чем. Я их спровоцировал.
Он посмотрел с недоуменным любопытством.
– Зачем?
В темном ночном окне отражалась-светилась лампа.
– У вас не было никогда чувства, что вас как будто уже и нет на этом свете? Вы живы, здоровы, всё отлично, но на самом деле вас давным-давно нет.
Ничего не ответил костоправ. Вернулся к столу, уселся на вертящийся стул. Чиркнул ручкой по бланку. Спросил, не взглянув:
– И что? Легче стало?
– Да.
– То есть сейчас ты – живой? – он отложил ручку и уставился на меня. Любопытно, почему он решил вдруг перейти на «ты»?
Я посмотрел на свои пальцы, пошевелил, как бы пытаясь увериться, что да, живой.
– Тебе к психиатру надо. К психотерапевту, так скажем.
– А я ходил.
– Серьезно?
– Кучу денег отдал.
Он смял бланк, скомкал, бросил в урну и не попал. Посмотрел на бумажный комок долгим взглядом. Комок вдруг зашуршал, разворачиваясь, можно подумать, и он – живой. Костоправ взял новый бланк. Склонился над бумажкой, начал писать.
– Я тебе сейчас телефон пишу. Анатолия Ивановича. К нему не попасть, но он мне должен.
– И с чего ты мне вдруг такое одолжение делаешь? – спросил я.
Он отложил ручку, откатился на кресле от стола к моей кушетке и протянул бланк. Кроме телефона, там ничего написано не было.
– Мой отец погиб в сорок шесть лет при невыясненных обстоятельствах, – сказал костоправ, близко глядя мне в лицо. – Его нашли на рельсах под пешеходным мостом. То ли сам прыгнул, то ли сбросили, никто не видел. Незадолго до гибели, буквально за пару дней, я застал его перед зеркалом. Я увидел, как он смотрит на себя в зеркале. Я этот взгляд на всю жизнь запомнил. У тебя был точно такой же, когда ты глядел в зеркало на свою разбитую рожу.
Он оттолкнулся ногой и покатил в кресле к столу.
– И какой был взгляд? – спросил я.
– Никакой. Не видел ты себя. Не наблюдал, – отвечал он. И добавил: – Я ж не писатель, чтобы описывать.
6. Вечер
Никто не открывал, и пришлось искать ключ. Входить в темную и холодную, как будто нарочно выстуженную, квартиру. Хотя батареи были жаркие, а запертые окна не пропускали уличный промозглый воздух. Но пропускали ночную тьму, едва разбавленную фонарным светом.
Я уселся на диван в большой комнате, она же спальня, уставился в телевизор, точнее, в его пустой серый экран.
Записка лежала в кухне на столе: «Суп в холодильнике, там же плов. Белье перестирала и перегладила. Купила хлеб и молоко. За квартиру заплатила. Мы у мамы».
Это было большое облегчение сидеть одному в доме перед слепым экраном ти-ви.
Захотелось есть, и я разогрел плов. Радио за ужином не включал, не от кого было прятаться за звуками. Пришло в голову, что звуки – кокон, я в нем защищен, как в состоянии до-рождения. Жена с сыном были, в общем-то, рядом, на соседней улице. Наверное, уже спали.
7. Обеденный перерыв
Утром я проснулся раньше будильника, но вставать не стал, смирно долежал до звонка. Отправился в ванную. Лицо в зеркале страшное после вчерашнего. Зубы чистить больно и бриться, но я стерпел и выбрился тщательнейшим образом, до младенческой гладкости. Выпил болеутоляющее, поел, оделся как на прием: белая рубашка, черный дорогой костюм, темно-вишневый галстук. Жаль, фрака нет в заводе, я бы в него вырядился.
На работе меня встретили мыши. Тревожными яркими глазами. Я поздоровался, они не ответили, глаза мгновенно отвели. Погрузились в работу.
От них исходила ненависть и растерянность. Кажется, у всех этих вещей есть запах, и у ненависти, и у растерянности. И у любви, и у страха, и у боли. Не в прямом смысле, наверно, – запах, но что-то вроде этого. То, что сразу улавливаешь.
Они, видимо, после вчерашнего решили объявить мне бойкот. Я проверил. Спросил, как там Леонид в больнице. Ответа не последовало. И всё же их мощный заговор был поколеблен. Отсюда растерянность. Моя разбитая физиономия их смутила. Сочетание разбитой, разбойной физиономии с парадным костюмом. Интересно, что до самого обеда они не перемолвились словом не только со мной, но и друг с другом.
Обед у нас начинается в час. Я ухожу в столовую. Они приносят еду с собой. Их столы стоят рядом, впритык торцами, так что получается как бы один длинный стол на двоих. Посредине они стелют салфетку, выкладывают судки, режут хлеб, включают чайник. Мне кажется, после обеда Геннадий курит, видимо, отворяет окно и запирает дверь, и получает массу удовольствия. Я не застал ни разу, но запах не весь выветривается, да и следы пепла остаются на подоконнике. Леонид тоже обычно ходит в столовку, и даже занимает мне очередь, и пропускает в этой очереди вперед. Я столовскую еду ненавижу, но таскать еду из дому не смог бы. И есть на рабочем месте отвратительно. Столовка – хоть какое-то отвлечение, иногда и развлечение.
Мой компьютер показал ровно 13:00. Мыши выглянули из-за своих мониторов.
Минута прошла, другая. Я не поднимался и не уходил. Сидел за компьютером, стучал клавишами. Время шло. Первой поднялась Лариса. Поставила чайник. Геннадий сдвинул бумаги и расстелил салфетку. Выложил судки и свертки. Чайник вскипел. Судки Лариса вынула из микроволновки. Он тем временем резал хлеб.
Я встал, когда они принялись за еду. Вынул из шкафчика кружку, бросил пакетик, налил кипятку.
С дымящейся кружкой я направился к ним. Геннадий взглянул на меня почти испуганно.
– Хлеб мне передай, – сказала ему хладнокровно Лариса. И он торопливо отвлекся на хлеб.
Я поставил кружку на край стола, возле их скатерти-самобранки. Придвинул стул и уселся напротив. Они старались не обращать на меня внимания. Ели. Лариса сказала ему негромко, домашним голосом:
– Развалились голубцы все-таки.
Я сидел напротив них со своей кружкой. Улыбался. Хотя улыбаться было больно.
– Вкусно? – спросил я вдруг. – Можно попробовать?
Геннадий замер. Я вынул из его окоченевшей руки вилку. Подцепил в его судке кусок голубца, отправил в рот. Оба они смотрели, как я жую, и молчали. Голубец мягкий, и жевать было терпимо.
– Замечательно, – сказал я. – Очень вкусно. Прекрасно. Ваша жена прекрасно готовит, я так не умею.
– Это я готовлю, – глухо сказал он.
– Потрясающе! – я подцепил еще кусок. – Великолепно. Я бы на вас женился.
Он смотрел на меня со страхом, она – с ненавистью.
Я подобрал последний кусок, проглотил. И нацелился вилкой в ее судок.
– Можно?
– Нет, – жестко сказал она и дернула судок к себе.
– Вы мне прямо глаза прожгли, – сказал я. – Зеркало моей души прожгли и оказались внутри, а не снаружи. Это, знаете, почище секса. Такая близость.
Я обратился к нему:
– Она вам изменила сейчас. Со мной.
Геннадий сидел жалкий, потерянный.
Я внезапно спросил Ларису:
– У вас была кличка в детстве? А у меня была. Ванька Мокрый. Чтоб вы чего не подумали, это цветок. Я написал в сочинении, что у нас дома на подоконнике растет Ванька Мокрый. Вот какие сокровенные подробности вы теперь обо мне знаете! Как честный человек вы обязаны ко мне переехать.
Я глотнул чаю. Поставил кружку на стол. Поднялся. Вышел из кабинета. Я был как будто пьян.
8. Вечерний театр
Темнело. В доме напротив зажигались огни.
Мне принесли кофе. Но я его не пил. Я очень устал. После обеденного перерыва из меня будто душу вынули. Я стал равнодушен к своей судьбе – так примерно.
Хотя и нет ни души, ни судьбы, это только в литературе они появляются, самый главный вымысел. Литература – сказка о реальности, придание реальности смысла и значения, прекрасного или ужасного, возвышенного, уродливого, хотя бы какого-нибудь; не смысл, тоска по смыслу. Любое слово, написанное на бумаге, произнесенное или скрытое, – оправдание реальности.
Мне и самому темна эта мысль, я не хочу ее додумывать. Я сижу в кафе у окна. В доме напротив горит уже много огней. Электрических, а может быть, и газовых тоже, если у них газовые плиты, в этом доме. Мне безразлично, какие там плиты. Какие там живут люди. Я слишком представляю всех этих людей. Они толпятся передо мной, мне тесно с ними, я их прогоняю, они меня не слушают и стоят упрямо перед глазами. Вчера я звонил по номеру, который мне дал костоправ. «Анатолий Иванович», – представился мне сухой голос. Он не захотел со мной встретиться, ограничился телефонным разговором. Расспросил, выслушал и дал рекомендации. И я готовился их исполнить.
Я сидел опустошенный перед черным кофе, он поблескивал, подрагивал, внизу проходила линия метро, и всё здание подрагивало, вся улица, и черный кофе, который уже давно перестал пахнуть, остыл. Коснуться губами холодного кофе – всё равно что коснуться покойника. Жизни нет.
Около восьми я подозвал официанта и попросил счет.
Я перешел улицу и приблизился к зданию, которое наблюдал из окна кафе. За первым подъездом была черная полуподвальная дверь. Я позвонил в нее, и замок щелкнул, отворяясь. Слева от двери сидел охранник за низким школьным столом. Лампа освещала большие руки. Они лежали без дела. Кажется, он вообще не заметил, что я вошел. На всякий случай я остановился и сказал, что мне назначено.
– Арт-терапия, – зачем-то я уточнил.
– По коридору направо, – сказал он. И записал у себя в журнале: «арт-терпапия». Ручка казалась спичечкой в его лапе. Но удивительно изящно он выписывал буквы. Легкие они у него выходили, стройные, но чуть-чуть непристойные, как подвыпившие балерины, если можно представить таких.
– Гардероб у вас есть? – спросил я.
– Нету.
И я направился узким, бедным коридором.
В небольшом, десять рядов, зале освещена была только сцена. Я различил на ней дощатый пол и узкий длинный стол. За ним сидели двое, мужчина и женщина. Не знаю, видели ли они меня из круга света, ведь я стоял внизу, в темноте.
Они сидели молча за столом, не переговаривались, не двигались. Я даже подумал, не манекены ли это. Но женщина повернула вдруг голову и посмотрела, сощурившись, в темный провал зала.
Я направился к сцене тесным проходом. По правую руку, в зале, разглядел темную фигуру и приостановился. Женщина произнесла со сцены:
– Нельзя побыстрее? Ждем вас десять минут.
– Часы отстают, – отвечал я миролюбиво.
– Так поставьте их правильно. У нас почасовая оплата, между прочим.
Я почему-то ожидал, что доски сцены будут скрипеть под моими ногами, но они молчали, не выдавали. Я приблизился к столу, лампа висела над ним низко, сосредоточенно.
– Садитесь, – приказала женщина.
– Где?
– Мест много.
– Анатолий Иванович будет?
Она указала глазами в темный зал.
– Занятия по арт-терапии веду я. Анна Игнатьевна, к вашим услугам.
Она сидела с торца, а я устроился за длинную, свободную часть стола, лицом в зал. Плешивый, средних лет мужчина был от меня по левую руку, но через стол, лицом к мне, спиной к черному провалу. Мне увиделось в этом его положении какое-то особенное спокойствие, устойчивость. Мне было бы неуютно иметь за спиной черный провал, из которого смотрит на меня так никогда и не увиденный мной Анатолий Иванович.
– Вам успокоительное назначено? – спросила меня Анна Игнатьевна.
– Нет. Я его раньше принимал. В разных видах. Бесполезно. Тупею. Не могу работать. Даже детективы не могу смотреть. Путаюсь в сюжете, как в лабиринте. Переход улицы становится невыполнимой задачей.
– Очень хорошо, – сказала она. И обратилась к плешивому:
– Виктор.
Он сидел, погруженный в себя, в свое состояние, но на голос женщины тут же отреагировал, вынул из кармана блистер с таблетками, выдавил одну на ладонь, рассмотрел с брезгливым любопытством, как я бы рассмотрел жука, и торопливо закинул таблетку в рот. Перед каждым из нас стояла бутылка с водой. Он отхлебнул из своей. Вытер ладонью мокрый рот.
Анна Игнатьевна тоже приняла таблетку. При этом лицо у нее было строгое и сосредоточенное. Затем она вынула из сумки очки в толстой черной оправе и насадила на узкий нос. Достала из сумки листочки, разгладила, распределила на три худосочные стопки. Одну подтолкнула через стол мне, другую – мужчине.
– Я читаю за Сафонову, – сказала мне. – Вы – за Алексея. Виктор, вы читаете ремарки и за человека с вальяжным голосом.
– Сцена номер один, – прочитал Виктор унылым, замороженным голосом.
Подъезд. Дверь отворяется. Входит Алексей. Отряхивается от снега. Стучит ботинками в пол. Идет к лифту. Уборщица Сафонова возит шваброй, во влажном кафельном полу криво отражаются электрические лампы. Завидев Алексея, она оставляет работу. Стоит и наблюдает за ним, опершись на швабру. Он подходит к лифту и нажимает кнопку вызова.
Сафонова. Что-то не видно жены вашей с сыночком.
Алексей. Они в отъезде.
Сафонова. В отпуске?
Алексей. У жены отпуск, у сына каникулы.
Сафонова. Хорошие они у вас. Сынок вежливый, всегда поздоровается. Отличник.
Алексей. Хорошист.
Сафонова. И супруга вежливая. Но строгая. Я ее Кристиной зову, про себя. Я всем жильцам прозвища придумала. И вам.
Алексей (несколько раздраженно). Замечательно.
Алексей с тоской смотрит на лифт. Кнопка никак не зажигается. Такое ощущение, что лифт сломался и застрял. В то же время слышны с верхних этажей гулкие голоса, смех, кашель. Алексей кажется человеком сдержанным. Но только потому так кажется, что он, как правило, отстранен от происходящего. Но если нет возможности отстраниться, уйти в себя, быть незаметным, не на виду, он раздражается почти мгновенно. Он продолжает быть вежливым, но очень краснеет, ему как будто жарко становится.
– Мне что, краснеть в этом месте? – спросил я.
– Как хотите, – ответила Анна Игнатьевна и перешла тут же к своей реплике.
Сафонова. Я вас зову Джеймс про себя.
Алексей. Почему? По аналогии с кем? С чем?
Сафонова. Вы как будто иностранец. Англичанин. Не похожи на наших. Можно, я и вслух буду вас звать Джеймс?
Алексей. Джеймс Бонд, если угодно.
Лифт наконец-то начинает гудеть, едет, и Алексей веселеет.
Сафонова. Джеймс Бонд вам не подходит. (Подумав.) Тогда я буду звать вас Николай.
Алексей. Чем вас Алексей не устраивает?
Сафонова. (задумчиво): Николай вам больше подходит.
Лифт отворяет двери. И из него с шумом вываливает толпа: несколько взрослых и детей. Собака. Алексей хочет войти в освободившийся лифт.
Сафонова. Погодите, я в лифте протру. Быстро, мгновение. Натоптали по-черному.
Она суется в лифт со шваброй. Нажимает кнопку задержки, двери застопориваются.
Сафонова. А у меня сын пропал.
Алексей с тоской смотрит, как долго она трет крохотный лифт; Сафонова явно тянет время, хочет задержать его возле себя, выговориться.
Алексей (с нарастающим едва сдерживаемым раздражением). В каком-то смысле я даже рад. Нет, мне жаль, и я думаю, он найдется скоро, ваш сын, но, прямо скажем, за стеной стало гораздо тише. Я всё никак не мог понять почему, теперь ясно. Ничего не имею против вашего сына, но музыку он слушает убойную, у меня сердце болит от этого грохота. И рюмки в горке звенят и дрожат. Землетрясение, а не музыка.
Сафонова (обиженно). Еще неизвестно, кто туда въедет, за стенку вашу. Еще такую музыку заведет, что о прежней как о райском пении вспоминать будете.
Алексей. Кто заведет? С какой стати?
Сафонова. Так продала я квартиру. Сына спасала. Он не в том смысле пропал, он денег про-играл много, его убивать начали, и сейчас еще не всё заплатил, еще в долгу, но не убивают, он отрабатывает, хоть жизнь простили. Так что я теперь без квартиры, Николай, у соседки пока живу, пока разрешает, полы ей мою, еду варю, белье стираю, она инвалид, одна, ей скучно, надоем – выгонит, так и сказала, что выгонит, когда надоем.
Сафонова высказала наконец, что было на сердце. Дотерла полы в лифте и оставила кабину. Алексей вошел в лифт. Прежде чем двери закрылись, успел спросить и получить ответ.
Алексей. А как вы сына своего зовете?
Сафонова. Ванечка.
– Следующая сцена, – сказал Виктор. И замолчал. Задумался над листком.
– Устали? – обеспокоилась Анна Игнатьевна.
– Да нет. Нормально.
– Я вижу, что устали. Давайте прервемся.
– Нет-нет, ни в коем случае! Я вас прошу, я только что интонацию нащупал.
Я раздраженно вмешался:
– Какая интонация? Вы же комментарии читаете. От автора.
– Думаете, у автора нет интонации? – обиделся Виктор.
– Для меня все эти комментарии – только инструкция. Пойди налево, затем прямо. То же, что инструкция для сборки дивана. Возьмите гвоздь номер восемь, молоток номер шесть, бейте ровно.
– Вы говорите полную чушь, – холодно заметила Анна Игнатьевна, – и прекрасно это понимаете, просто хотите разозлить.
– Какая разница, с каким настроением вы будете гвозди заколачивать? – нервно вступил Виктор. – А в сцене настроение – важнейший фактор. Комментарий подсказывает не только направление движения, но и состояние. Смысл сцены раскрывает!
– Гвозди лучше с хорошим настроением заколачивать, чтоб не перекосило, – улыбнулся я.
– Чтоб не перекосило, надо опыт иметь! И только! – волновался Виктор.
– Разумеется, гвозди лучше с хорошим настроением заколачивать, – миролюбиво согласилась со мной Анна Игнатьевна.
– Особенно в гроб! – крикнул Виктор.
– Во что угодно, – мягко сказала ему Анна Игнатьевна. И обратилась ко мне. – Но в сцене иногда необходимо, чтобы гвоздь пошел криво, чтобы человек расплакался, может быть.
– Конечно, – согласился я. – И тогда будет написано: «Пошел налево с плохим настроением. Споткнулся по дороге и расплакался». Это важно и нужно, я согласен. Но почему эту рекомендацию насчет настроения нужно читать с какой-то особенной интонацией? Можете объяснить?
– Чтобы до тебя дошло лучше, – глухо сказал Виктор.
– Успокойтесь, – попросила его Анна Игнатьевна. – Вы ему ничего не докажете. Он вас провоцирует. Выпейте еще таблетку и продолжайте чтение.
Виктор молчал. Смотрел остановившимся взглядом в листочек. Взял бутылку, отхлебнул воды. Таблетку пить не стал. Анна Игнатьевна ждала терпеливо. Он поставил локти на стол, взялся ладонями за виски, точно отгородился от нас ладонями, и начал чтение глухим, невыразительным голосом:
Алексей входит в подъезд, отряхивается от снега. Направляется к лифту и приостанавливается. Возле лифта появился домик. Почти как настоящий. С большим стеклянными окошком, за которым уютно горит свет. Фанерные стены покрашены снаружи, и окраска имитирует кирпичную кладку. Так что домик в первую секунду кажется совершенно настоящим, основательным.
Алексей заглядывает в окошко. Кресло. Тумбочка с телевизором. Роза в глиняном горшке. Половичок на полу. Но людей в домике нет, хотя горит свет, и чайник электрический закипает.
Сафонова (за спиной Алексея). Здравствуйте, Николай.
Алексей от неожиданности вздрагивает и отшатывается от окошка.
Сафонова. Любуетесь? Я и сама любуюсь. То внутри посижу, то наружу выйду поглядеть. Так мне нравится, прямо так бы и жила здесь.
Алексей. Так это для вас домик соорудили? Значит, вы теперь у нас консьержка? С повышением. А полы теперь кто моет?
Сафонова. Полы мою по-прежнему. Деньги нельзя терять в моем положении.
Алексей. Рад за вас.
Алексей направляется к лифту, но Сафонова его останавливает.
Сафонова. У меня разговор к вам, Николай.
Алексей нажимает кнопку вызова лифта.
Алексей. Я спешу, извините.
Сафонова. Я вас надолго не задержу.
Она стоит и смотрит на Алексея. Меж тем лифт подходит и открывает двери.
Сафонова. Про жизнь и смерть разговор.
Алексей. В абстрактном смысле или в конкретном?
Лифт закрывает двери, но Алексей вновь нажимает на кнопку, и двери разъезжаются.
Сафонова. В очень конкретном смысле.
Алексей смотрит на нее вопросительно.
Сафонова. Секретный разговор.
Лифт закрывает двери.
Виктор отнял ладони от висков, перевернул прочитанный листок. Отпил воды из бутылки.
– Всё нормально? – спросила Анна Игнатьевна.
Он на ее вопрос не отвечал. Смотрел упорно в следующий листок. Очевидно, читал про себя, нащупывал интонацию. И голос у него изменился, когда он начал. Стал приглушенным.
Входя в домик, Алексей едва не смахивает чайник, но успевает подхватить, удержать.
Сафонова. Осторожно, горячий.
Видно, что Сафонова очень обеспокоена сохранностью своего хрупкого мирка.
Сафонова. В кресло садитесь, Николай.
Алексей. Не развалится оно подо мной?
Сафонова. Крепкое кресло, почти новое. Даша отдала из пятьдесят четвертой. Наши дети в одном классе учились, только ее дочка сейчас в Англии процветает, а мой совсем пропал. Ваши давно вам звонили?
Алексей. Мы светские разговоры будем вести? Вы же про жизнь и смерть хотели?
Сафонова. Я про них и говорю: про жизнь и смерть.
Алексей смотрит на Сафонову с тревогой. Слышно, как открывается дверь подъезда, кто-то входит. Сафонова задергивает занавеску на окне и включает телевизор. Чтоб посторонние уши слышали телевизор, а не разговор.
Сафонова. Когда они вам звонили?
Алексей. В обед. Всё в порядке. Сказали, что всё отлично. С какой-то очень высокой горы катались.
Сафонова. Ну слава богу! Рада за них, пусть здоровья набираются, пока мы тут с вами дела решаем.
Алексей. Вы простите, конечно, но какие у нас с вами дела могут быть?
Сафонова. Вы правы, вы правы, где вы и где я, думаете, я не понимаю? Места не знаю своего? Это всё Ванечка, он всё путает, ни сна, ни покоя от него, но не могу я в беде бросить кровиночку свою, поймите и вы, Николай.
Алексей молчит, смотрит на Сафонову настороженно. Телевизор бубнит.
Сафонова. Ванечка просил передать, что всё будет хорошо с вашими, можете не волноваться.
Алексей (волнуясь). Я и не волнуюсь.
Сафонова. Всего-то десять тысяч, они у вас есть, и не сказать, что последние.
Алексей удивленно приподнимает брови.
Сафонова. Не выдержал Ванечка, опять играть начал, это как наркотик, он говорит, избавиться невозможно, хотя знал, что нельзя выиграть, не дадут, знал, но не удержался, теперь должен десять тысяч евро, не отдаст – руки отрубят по локоть, сроку дали один день. Выручайте, Николай. До полуночи Ванечка ответ ждать будет.
В стекло с той стороны стучат, сдержанно, но требовательно. Сафонова успокоительно кивает Алексею, подходит к окошку, отгибает угол занавески, приподнимает раму со стеклом.
Вальяжный голос. Голубушка, Алевтина здесь живет?
Сафонова. Как фамилия?
Вальяжный голос. Фамилия мне неизвестна. К этому подъезду вчера подвозил.
Сафонова. Алевтины не знаю.
Вальяжный голос. Думаешь, обманула старика?
Сафонова. Не знаю.
Вальяжный голос. Сказала, что здесь живет, а сама, может, в Бибирево.
Сафонова. Не знаю.
Вальяжный голос. Или, может, ее Ксюшей зовут? Живет у вас Ксюша?
Сафонова. Не знаю.
Вальяжный голос. Что ж ты, голубушка, сидишь и ничего не знаешь?
Сафонова. Не знаю.
Сафонова опускает раму и расправляет занавеску. Делает телевизор громче. Поворачивается к Алексею.
Сафонова. Он сказал, что если до полуночи вы согласия не дадите, он ваших живыми не отпустит.
Алексей. Я с ними в обед разговаривал. Они с горы катались.
Сафонова молчит.
Алексей. Где ваш Ванечка находится?
Сафонова. Не знаю, милый.
Алексей. Он по телефону с вами разговаривал?
Сафонова. Нет, мой хороший, письмо он мне прислал, утром нашла в почтовом ящике.
Алексей. Покажите.
Сафонова. Не могу. Сожгла. Как велено было.
Алексей. На бумаге письмо было?
Сафонова. А на чем же?
Алексей достает мобильник и набирает номер. Номер не отвечает. Алексей отключает телефон. Смотрит внимательно на Сафонову. Включает телефон.
Алексей (набирая номер). Звоню в милицию.
Сафонова. Тогда вы их не увидите. Ванечка просил передать, что ни живыми не увидите, ни мертвыми. Ему терять нечего, так он просил передать.
Алексей отключает телефон и смотрит устало на Сафонову.
Алексей. Больше ничего он не просил передать?
Сафонова. Больше ничего.
Алексей. А как он узнает, согласился я или нет?
Сафонова. Если я до полуночи на подоконник герань поставлю, значит, вы согласны.
Алексей. На подоконник?
Сафонова. В кухне.
Алексей. А если я не соглашусь?
Сафонова. Значит, я герань не поставлю.
Алексей. С чего Ванечка ваш решил, что у меня есть такие деньги в наличии?
Сафонова. Моя вина, Николай. Не казните, я ему проговорилась, что у вас лежат десять тысяч теще на операцию, так как в любой момент понадобиться могут.
Алексей. Откуда бы вам знать такие подробности? Я, кажется, с вами не делился.
Сафонова. Со мной не делились, с кем-нибудь другим делились. Я, Николай, много чего про людей знаю. Хотя это и лишнее, спокойнее не знать.
Раздается стук в стекло, настойчивый, но сдержанный. Сафонова оказывается у окна, отгибает угол занавески, приподнимает раму.
Вальяжный голос. Голубушка, я вот что подумал. Я тебе ее опишу. Высокая, с меня практически ростом. Но это, конечно, на каблуках. Рыжая, веселая и глаза голубые. В какой она квартире живет?
Сафонова. Не знаю.
Вальяжный голос. Зачем здесь сидишь тогда?
Сафонова (задумчиво). Погоди, погоди! Рыжая? С голубыми глазами?
Вальяжный голос (с надеждой). Веселая.
Сафонова. Есть у нее такая привычка: кончик носа трогать, когда задумывается?
Вальяжный голос. Знаешь все-таки! Ты моя красавица…
Сафонова. Она на Фрунзенской набережной живет.
Вальяжный голос. Точно?
Сафонова. У меня там подруга, в сотом доме, я в лифте ехала с рыжей вашей.
Вальяжный голос. Уверены?
Сафонова. У нее мобильник красного цвета.
Вальяжный голос. Ты моя красавица!
Сафонова опускает раму, расправляет занавеску. Поворачивается к Алексею.
Алексей. Рыжая здесь живет. В семьдесят третьей.
Сафонова. Она просила не говорить. Какое ваше решение, Николай?
Алексей молчит. Смотрит в телевизор.
Алексей. А как же вы ему деньги доставите?
Сафонова. В листочке была инструкция.
Алексей. Сложная инструкция?
Сафонова. Не простая.
Алексей. Ничего не перепутаете?
Сафонова. У меня память в порядке.
Алексей молчит. Вертит в руках мобильник.
Сафонова. Бегу ставить герань?
Алексей разглядывает Сафонову долгим взглядом.
Алексей. Я подумаю.
Сафонова. Конечно.
Алексей поднимается. Сафонова придерживает за спинку покачнувшееся кресло.
Сафонова. Осторожнее.
Квартира Алексея.
– Секунду, – остановил я Виктора, – одну секунду. Давайте прервемся.
– Только я интонацию нащупал, – пробормотал недовольно Виктор, не подымая головы от листков.
– У меня ноги затекли, – пожаловался я.
Я поднялся из-за стола. Вышел на авансцену. Различил в седьмом ряду темную фигуру.
– Интересно, – сказал я, – кто написал эту дурацкую пьесу?
За спиной молчали. И человек в зале молчал.
– Сергей, вернитесь, пожалуйста, за стол, – попросила Анна Игнатьевна.
– Я лучше домой вернусь.
– Осталось совсем немного. Дочитаем, и пойдете домой.
– А что вы дома делать будете? – поинтересовался Виктор.
– Спать.
Я обернулся. Он сидел за столом вполоборота ко мне. Сообщил:
– А я буду есть. У меня пельмени в холодильнике.
– Домашние? – спросила Анна Игнатьевна.
– Покупные.
– А я хочу, чтобы мне деньги вернули за этот дебильный сеанс арт-терапии, – сказал я человеку в зале. Но он не отреагировал.
– Я вам верну деньги, – сказала Анна Игнатьевна. – Если скажете после читки, что не помогло, верну.
– Даете слово?
– Честное слово. Говорю при свидетелях.
– Вашим свидетелям доверия нету, – заметил я. Но от авансцены отошел и вернулся к столу.
Усевшись и поглядев в темный зал, я сказал:
– Я понял, что мне напоминает наша посиделка. Тайную вечерю. Из-за длинного стола, наверно.
– Без Христа Тайной вечери быть не может, – не согласилась Анна Игнатьевна.
– Он здесь, – сказал Виктор дрогнувшим голосом. – Он всегда здесь.
– Читайте лучше текст, – взмолился я.
– Да, Виктор, пожалуйста.
– С какой тут интонацией надо?
– Читайте размеренно. Холодно. Как можно отстраненнее от происходящего.
Квартира Алексея. Гостиная. Алексей сидит на диване и смотрит в телевизор. Глаза устремлены в телевизор, но происходящего там не видят. Алексей погружен в свои мысли. На журнальном столике перед ним – две телефонные трубки. Мобильный телефон и стационарный. Мобильный вдруг звонит, и Алексей его хватает. Видит в окошечке имя звонящего, и возбуждение в его лице гаснет. Он разочарованно нажимает кнопку и подносит трубку к уху.
Алексей (с паузами, в которых выслушивает собеседника). Что? За какой месяц отчет? Разумеется, есть. Да. Посмотри внимательно. Очень хорошо. Я рад. На здоровье.
Алексей отключает телефон. Вновь включает. Набирает номер. Долго прислушивается к гудкам в трубке. Отключает. Смотрит на часы. Одиннадцать тридцать. По телевизору идут новости. Экономические, криминальные, погода. Алексей хватает пульт с дивана и отключает телевизор. Смотрит на часы. Берет трубку стационарного телефона, набирает номер. В это время звонит мобильный, Алексей видит в светящемся окошке имя абонента, хватает трубку.
Алексей (возбужденно, с паузами). Алё! Маша! Господи! Где вы? Как? Как? Как там Лёнечка? Господи, как хорошо! Да нет, я просто волновался ужасно, звоню, никто не отвечает. А что за экскурсия? Я рад, очень. Очень. Лёнечка пусть скажет пару слов. Здравствуй, парень. Как лыжи, освоил? Я и не сомневался. Маму слушайся, ладно? Трубочку ей передай. Конечно, соскучился, милая. Нет, я не голодный. Картошку варил. Обедаю на работе. Желудок в порядке. Не забываю. Спокойной ночи! Спокойной ночи. Лёнечку поцелуй.
Алексей отключает трубку и с облегчением откидывается на спинку дивана. И тут он вспоминает о трубке стационарного телефона. Точнее, она сама ему о себе напоминает. Из нее доносится унылый голос.
Сафонова (голос из трубки). Я вас слушаю, говорите. Говорите, я вас слушаю.
Алексей подносит трубку к уху, хочет в нее что-то сказать, но передумывает и отключает телефон. Ложится навзничь на диван, руки закладывает за голову. Закрывает глаза. Большая стрелка догоняет маленькую, часы показывают полночь. Большая стрелка идет дальше. Первый час.
Виктор отложил прочитанный листок. Свинтил с бутылки крышку. Отпил воду. Посмотрел хмуро на меня. Он будто ждал от меня какой-то реакции, вопроса, что ли. Смотрел и ждал.
– Интонацию не забудешь? – спросил я.
Он поставил локти на стол, пальцами сжал виски и продолжил:
Алексей гасит в прихожей свет и отворяет дверь квартиры. Падает с лестничной площадки полоса света. Алексей хочет переступить порог и замечает на полу под дверью белый плотный конверт. Он наклоняется за конвертом. Конверт не запечатан, и Алексей вытряхивает из него фотографию. На ней сняты трупы его жены и сына.
Виктор перевернул листок. За этим, последним, листком оказалась фотография, которую он подтолкнул ко мне. Она подлетела мгновенно по скользкой столешнице.
На снимке были тела мальчика и женщины, моего сына и моей жены, Миши и Вали. Они смотрели на меня остекленевшими, мертвыми глазами. Валя лежала оскалившись, будто смеялась чему-то перед смертью. У Миши лицо спокойное, умиротворенное.
Я взял фотографию и внимательно рассмотрел.
– Фотошоп, – сказал.
Они молчали. Я поднялся из-за стола. Я чувствовал их взгляды, когда спускался по трапу в зал и шел к выходу. Взгляды со сцены и взгляд из зала.
Охранник не обратил на меня ни малейшего внимания.
В машине я достал мобильный. Руки дрожали.
Трубку взяла теща.
– Ольга Николаевна, как там мои? Могу я с Валей поговорить? Привет, Валь, как вы? А Мишка? Да нет, ничего, не голоден. Суп еще не съел. Ни за чем. Просто.
Верка
И ей казалось, что вместе с ней дышит, вот так, со стоном, с предсмертным как будто всхлипом, вся комната. Приподымается и опадает. Замирает. И Верка лежит обломком крушения, выброшена на плоский берег, и Вовкина голова на ее животе. Затылок мокрый, в ложбинке между лопатками – вода.
У нее есть живот, о, и ноги, и руки, и та часть тела – Вовка придумал ей имя, кличку, почти как щенку. Умолчим, для посторонних это всё глупости.
Спят, и Верка, и Вовка. Часы – шур-шур, как мышь. И вдруг звук – тонкий, жалобный.
Верка приподнялась, села.
Часы круглые, не мигают, не врут. Шуршат: четы-ре, шур, че-ты-ре. Утро. Должно быть светло, июнь месяц, но сумрак за голым окном, наверное, тучи, наверное, будет дождь, как бы хорошо.
Верка встала, Вовку не потревожила, переступила с матраса на пол. На голом полу их матрас, на полу и часы. Одежды ворох. С улицы тянется звук, тонкий, жалобный, протяжный. Дверь на балкон распахнута.
Верка напялила Вовкину рубашку, пуговица болтается на тонкой нитке. Вышла на воздух, но воздуха нет, съеден.
Этаж небольшой, этаж третий, внизу старуха, идет с тележкой, тележка и стонет, и голосит. Мгла.
В это лето горят торфяники. В Москве ад. Здесь, за городом, еще вчера был воздух. Вчера был, сегодня истлел. Дым в легких. И света не видно.
Верка держится за перила узкой ладонью. Три шага, и старухи нет. Сизая мгла и стон.
Верка вернулась, опустилась на колени перед спящим, приблизила лицо к плечу, кончиком языка коснулась: соль и горечь.
Собирались торопливо. Квартира была чужая, ничего не знали, искали кофе и не нашли, выпили простой воды, почистили зубы одной щеткой. В шкафу полка, на полке шкатулка, в шкатулке игла. Кощеева смерть. Пуговицу Верка пришила прочно, палец уколола, Вовка слизнул алую бисерину. Жалко, времени не оставалось, только бежать. Запереть дверь, ключ в бумажку, в почтовый ящик – хозяин найдет, когда приедет; улизнул от пожаров в страну за занавесом – за дымной завесой.
Машина стояла у пруда, Веркин дом под железной крышей весь поместился бы в эту машину, как во чрево кита, и труба бы вошла, и терраска, и пара яблонь с яблоками, и черная птица на черной ветке, и лавка, и мамка, и сестренка Сонька, и кошка Милка.
– Ничего мне не надо помогать, – сказала Верка.
И сама взобралась в кабину, на место водителя. Узкие ладони положила на руль.
– Мотор! – крикнул Вовка.
– Есть мотор.
Завела, завела, и с места сдвинула, и повела махину.
– Только до поворота, – строго предупредил Вовка.
– Я поверну, сумею.
– Нет. До.
– До шоссе.
– До поворота.
– Выкину из кабины.
– Тихо! Йо!
И все-таки повернула. Как он учил. Тонкими своими руками. Вовка губу закусил, не мешал. Взмок.
– Дым. Включи фары. Всё, вали, Верка, уже не шучу.
Поменялись местами. Он вывел фуру на Ярославку, встал на обочине. Поцеловались.
– Ты тихо веди.
– Спокойно.
– Звони.
– Так точно, товарищ командир.
Это Верка у Вовки товарищ командир. Конечно.
Пуговица подшита. Вихры ему пригладила. Хорош.
– Время.
Спрыгнула с подножки. Маленькая, стояла внизу, рукой не махала, смотрела, как он уходит, во мглу. Но дальше все-таки от пожаров, скоро вынырнет на свет, на воздух.
Она стоит на обочине. Дымная мгла поглощает машины, свет фар. Лето, июнь месяц.
Катит большой автобус на Сергиев Посад, за освещенными стеклами (каждое – волшебный фонарь) сидят люди. И кто-то из них поворачивает лицо. И всё это так быстро, молнией.
Верка вдруг крикнула:
– Эй!
И рванула за автобусом вслед.
Она бы и до Сергиева Посада добежала, тридцать-то километров, ох, легко, запросто. Ей весело, и дымный воздух ничуть не стеснял дыхания, сильная, молодая, живая. Свернула в поселок, еще спящий, что там – пятый час, воскресное утро, утро воскресения.
Шаги невесомые, серый воздух скрывает углы, кусты. Вовка едет, она бежит.
На спортивной площадке у школы остановилась. Брусья. Погладила гладкое сухое дерево. Ухватилась, оторвалась от земли. Кувырок. Прыжок.
Верка приземлилась и увидела маленькую фигурку, низенькую, хлипкую. Вихрастый Колька стоял у брусьев. Руки заняты: в одной короб и в другой короб. Две белых громадины перевязаны лентами. Верка спрыгнула и поклонилась, Колька растерялся и поклонился в ответ. Маленький, худенький, конопатый. Верка рассмеялась. Зубы у нее белые, ровные, глаза щурятся, когда смеется. И Колька заулыбался в ответ большим ртом.
– Давно наблюдаешь?
– Нет, это я шел.
– Далеко?
– Домой.
– О, Колька, ты дома не ночевал? Поздравляю.
– Нет. Спасибо. Нет. Я ночевал. Но ты меня поздравь, у меня день рождения, я к тетке за тортами ходил.
И приподнял белые короба.
– Она печет, и надо пораньше, в Москву везет, рано, на заказ, в Москву большой заказ, они дорогущие, ты таких не ела, ты приходи, я сегодня в семь. Я всех позвал, там все наши будут, человек двадцать точно, все придут.
– На двадцать не хватит.
– Они громады. Плюс от «Палыча».
– От «Палыча» неинтересно, от «Палыча» – минус.
– Приходи, Верочка.
– Зовешь ты меня, Колька, как-то странно, случайно, добрые люди загодя приглашают, а ты – вдруг, на ходу. Мне обидно.
Говорит Верка, что обидно, а сама глаза щурит, смеется, а в глазах зеленый кошачий огонь.
– Да я о тебе всё время думал, только о тебе и думал! Я даже ходил к дому твоему, постоял и ушел. Страшно.
– Так ты меня боишься?
– Ты надо мной смеешься.
– Ну, Колька, тогда тем более, не надо меня звать. Чего ж я тебя пугать буду? Ты там веселись. Танцуй.
Колька молчит, не умеет ответить. Верка уходит. Сейчас скроется в серой мгле.
– Вера, – зовет Колька, – там Димон будет.
Верка оглядывается.
– Вчера из Питера приехал.
Уходит Верка. Кричит из мглы:
– С днем рождения, Колька!
Хороший будет день. Жаркий, сухой. Дымный.
Адом пахнет – так Веркина мать говорит. Она смеяться не умеет, она от жизни устала. Лет ей немного за сорок, а кажется, что шестой десяток разменяла. И волосы никак не седые, темно-русые, гладкие, и лицо гладкое, а всё же ясно, уже давно человек на свете. Живет и тускнеет, убывает.
В доме их горел свет, и Верка удивилась, что так рано. Постояла у штакетника, наблюдая за окном. Сорвала со смородины листик, прожевала.
Ладно, чего стоять. В дом.
Они уж позавтракали, со стола не прибрали. И Верке вдруг понравилось, что на столе крошки, а на доске ломоть хлеба и нож, и пахнет кашей и кофе с молоком.
Мать только и буркнула:
– Явилась.
Много она не говорила, устала уже говорить бесполезные слова, всё только по делу.
Она вплетала бант Сонечке в косу.
Верка уселась за стол, намазала ломоть подтаявшим маслом. Мать на нее поглядела сердито. Сонечка стояла тихо, терпеливо, в голубом воздушном платье, косилась на свое отражение в приоткрытой зеркальной дверце шкафа. В зазеркалье было сумрачно, пахло оттуда лавандой, еще не наставшей осенью, а в комнате пахло га рью.
– Полей помидоры, полей огурцы, яблони. Картошку. Каша в кастрюле. Прибери посуду. Телефон не отключай.
– Ладно, ладно, конечно. Далеко вы?
– Только себя помнишь.
– Мы в театр идем, – сказала Сонечка.
– Да, точно.
– А после зайдем к Галине, – сказала мать, – у нее заночуем.
– Да я вспомнила, да.
– Не кури, гляди, спалишь дом, побираться пойдем.
Мать оставила Сонечку, выудила из зазеркалья жемчужно-серое, длинное.
Она одевалась, пудрилась бледной пудрой, надевала прозрачные, как ее глаза, серьги. Преображалась. Не моложе становилась, но другой, непривычной. Чужестранной. Прыснула из граненого флакона.
– И мне! – Сонька.
– Глаза зажмурь.
Зажмурила.
– Да всё уж, – сказала Верка, – открывай. Подойди, я тебе пояс поправлю. Вот так. Пахнешь вкусно, как бы там Серый Волк вместо Красной Шапочки на тебя не позарился.
– Зачем ты ее пугаешь?
– А я не боюсь!
– Сонька – новое поколение, ничего не боится.
– Разве что платье помять.
– О, Сонька, правда, что ли? А как же ты в автобусе поедешь?
– Я стоять буду.
– А в электричке? Целый же час!
– Буду.
– И в метро?
– Буду.
– А в театре? Там стоять не разрешат. Там спектакль не начнут, пока ты не сядешь. Зрители на тебя кричать станут.
Сонечка молчала. Покраснела, готовилась уже плакать.
– Она аккуратно сядет. Я помогу, ничего не помнется. И никто на тебя кричать не станет, не слушай ее, детка, пойдем, а то к автобусу не успеем. Воду еще надо взять на станции.
С порога Сонечка обернулась и показала Верке язык, а Верка ей показала кулак, маленький и крепкий.
Как же хорошо, как прекрасно, что они ушли, что сегодня воскресенье, и у нее нет дежурства, и целый день впереди, большой и круглый, как спелое яблоко.
Верка рухнула на диван и смотрела на затканный серой паутиной угол. Эта комната была у них и кухней-столовой (газовая плита, мойка, буфет), и материнской спальней (диван, шкаф), и чем-то вроде гостиной (две пары скрипучих старичков-стульев). У Верки и Сонечки имелась своя комнатушка (две койки, шкафчик, стол, пара книжных полок, короб с игрушками). В хорошие вечера они шептались, резались в дурака или в шашки, Сонечка переживала, когда проигрывала, и Верка охотно ей поддавалась. Впрочем, не всегда.
Верка лежала, ленилась, ей не хотелось двигаться, не хотелось разговаривать, даже с Вовкой, если бы он вдруг сейчас позвонил. Она уснула, проснулась, потянулась и осталась лежать. Она услышала, как кто-то стучит в дверь и входит (точно, дверь не заперта, входи, лихой человек). И всё равно лежала, не двигалась.
Шаги в терраске. По коридору. Стук в дверь. Верка молчала.
Дверь приотворилась, просунулась голова.
– Привет.
Верка не отвечала.
– Ты чего? Ты одна? Болеешь?
– Не знаю. А ты чего?
Не отвечая пока на вопрос, бывшая Веркина одноклассница Ирина прошла в комнату, села к столу боком, покатала крошку. Смотрела она на Верку сумрачно. Спросила:
– Ты идешь?
– Я лежу.
– Вечером. К Кольке.
– Не знаю. Нет.
– Хорошо, спасибо.
– Я думала, ты меня уговаривать будешь.
– Нет. Я отговаривать. Просить пришла, чтоб не ходила.
– Почему же?
– Ты знаешь?
– Нет.
– Знаешь.
– Ну а вдруг я не то знаю, ты скажи.
– Верка, ты змея.
– Ну этим ты меня не отговоришь.
Ирина вдруг опустилась со стула на колени и поползла к дивану.
– Верочка, Христом Богом прошу, не ходи, Дима же, он приехал, он будет, ты знаешь, как я, а тебе он зачем, у тебя и так парень, ты знаешь, как я, а ты придешь, он меня не увидит, всё, без вариантов.
– Да не приду я.
– Точно?
– Сто пудов. С колен встань. Я ж не икона.
– Спасибо.
Поднялась. Только что в пол не поклонилась.
– Эй, – Верка остановила ее уже у двери. Сказала в худую спину: – Погоди.
Отворила шкаф, обе створки. Здесь и материнские хранились вещи, и Веркины, и Сонькины. Мать говорила: коммунальный шкаф.
Когда-то в самом раннем детстве Верка играла здесь в купе, и в купе этом всегда стояла глухая ночь. Одна узкая полоса света сочилась из-за неплотно прикрытой дверцы. Отец объяснил, что надо оставлять щель для воздуха, и было как-то раз дело, когда Верка щель не оставила, затянула дверь намертво, так ей хотелось тогда умереть, но ничего не вышло, воздух все-таки проходил, и слава богу, поплакала и вышла.
– Смотри, – сказала Верка, – платье. Ни разу не надевано. Такое платье – огонь.
– Синее же.
– Синий огонь. К твоим глазам – атас. Германское, отец прислал, я его носить не хочу и не буду, только место занимает.
– Да нет, ты чего, Верка, зачем это.
– Примерь.
– Я потная.
– Щас все потные. Ну.
– Отвернись.
Верка ушла к окну. Смотрела на яблоню с серебряными листьями, иные уже облетали. Жалко стало яблоню и всё живое.
– Ну.
Верка обернулась.
– Очень.
Ирка молчала, глаз от себя в зеркале не отрывала.
– Не пожалеешь?
– Этого я не умею, о вещах жалеть.
– Я скажу там, что ты приболела.
– Ничего не говори. И про платье не говори, что от меня, зачем?
– Ты прям ни разу не надевала?
– Даже не примеряла. Матери пообещала, что не выкину, лишь бы не плакала.
– Не простишь отца?
– Не твоя тема.
Ирка ушла с платьем в хрустящем пакете, а Верка послонялась по комнате. Окно закрыто наглухо, но воздух все-таки горчил и был мутным. Верка вышла в сад, на воле поначалу казалось полегче, и она принялась поливать из шланга измученные растения, и ей казалось, что они ее благодарят. И растения, и мелкие твари, и сама земля.
Верка выволокла из чулана старую раскладушку, легла в тень, под яблоню.
Полотнище провисало, лежать было неудобно, но Верке ни вставать не хотелось, ни шевелиться. Она посмотрела на неподвижные листья, опустила руку и потрогала влажную после полива траву, закрыла глаза. Прислушивалась к звукам.
Дальний гул Ярославки.
– Костя! Костя!
Да откликнись уже, Костя.
Шшшш.
Что за шшшш? Шиш? Кому шиш?
Соседи поливают, вот что. Надо сильнее, чтобы дождь, тогда дышать.
Верка очнулась в сумерках. Футболка прилипла к потному телу.
Пить.
Верка повернула голову. На крыльце сидела кошка и смотрела.
Пить.
Это она просила.
Верка повернулась на бок и опрокинулась вместе с крякнувшей раскладушкой в давно уже просохшую траву.
Пили, Милка из плошки, Верка из кружки. Остатки Верка плеснула себе на лоб.
– Который час? – спросила Милку. И погладила маленькую голову.
«Шесть тридцать», – пришел ответ из-за соседского забора.
Радио. Или телевизор. Неважно. Рано для сумерек. Это всё дым. Съедает пространство и время.
– Милка, айда в дом.
В доме показалось легче. Не напрасно мать окна задраила. Верка вынула из холодильника колбасы. Себе ломоть, кошке ломоть. Включила ноут. Посмотрела пару серий про живых мертвецов. В начале третьей, когда он вдруг поворачивается – провалы на месте глаз, рот сгнил, – Верка услышала глухой мерный стук. Не то чтобы напугалась, но к окну подобралась крадучись. На крыльце стоял в ослепительной рубашке собственной персоной Димон. Димыч. Дмитрий Олегович.
В дом не пошел. Сказал, что подождет на крыльце. Сказал, что обещал всем там привести ее.
– Именинник на коленях просил, умолял.
Верка, конечно же, отнекивалась, но, по правде сказать, без напора, для порядка (отец говорил: для блезира).
– Уломал. Злыдень.
– Я жду.
– Жди.
Стоял на крыльце. Ничто не шевелилось в маленьком саду.
– Зачем ты куришь? – кто-то говорил. – Дыши воздухом, разницы – ноль.
Верка решила одеться попроще, не сверкать. Футболку только сменила, духами материнскими прыснула. Подумала, отворила буфет, выбрала кружку с Гагариным на боку.
Шли они с Димоном долго, ничуть не спеша. Мимо пятиэтажек, за пруд, через спортплощадку. Димон рассказывал, как он там в Питер врастает. Верка слушала, улыбалась. За эту ее улыбку, точнее, полуулыбку, Димон когда-то прозвал ее Джокондой. Но называл так редко. И не на людях.
– Джоконда, а ты чего?
– Ничего. На бюджет не прошла. Еще попробую.
– Пройдешь. Ты умная.
– Я рассеянная.
– Соберись.
– Ну да.
Обошли старенькую, проржавевшую «Ладу», поглядели в ее пыльное зеркало.
– Говорят, ты в больнице сейчас? Это правильно. Это пройдешь. На заочный – точняк. Мертвых видела?
– Видела.
Они дошли до Пожарки. Там на конечной стоял автобус, пустой, с распахнутыми дверцами. Водитель в кабине с опущенным стеклом читал книгу.
– Небось, детектив.
– «Война и мир».
– Спросим?
– Нет.
– Не хочешь знать?
– Нет.
– Верка, а приезжай тоже в Питер.
– У меня парень здесь.
– Слыхал.
Молча добрели до Колькиного дома, который тоже был одноэтажный, как у Верки, но побольше, поновее, и участок при доме был побольше. Грохотала музыка из распахнутых окон.
– Я домой вернусь.
– Нет, Верка, нет. Я Кольке обещал.
– А ты не обещай в другой раз. На. Подари ему кружку от меня. Скажи, чтоб достиг высот. Как Гагарин.
Она шла улицей одноэтажных домов, и музыка грохотала уже в отдалении. В круглосуточном магазинчике Верка взяла ледяного пива. Устроилась недалеко, на автобусной остановке, забралась на лавку под козырек. Как в пещеру. Сидела, потягивала пиво. Время было – сколько-то было. Телефон Верка позабыла дома, не посмотришь, спрашивать не у кого, да и нет охоты.
Темно. Ночь. Машина притулилась на той стороне у тротуара. Музыка бухает и ахает. Мать бы сказала: бедные соседи.
Выпила Верка пиво. Пожалела, что взяла только одну бутылку. Можно бы и сходить, да нет, нет. Жарко. И запах гари ото всего, от собственных волос. Прокатили две машины, одна за другой, такси. Света в салонах нет, окна опущены, смех, говор. И третье такси. Смех, говор.
Сидит Верка.
Музыки вроде бы уже и не слышно. Ничего. Ни ползвука. Глухо. Шаги.
Ба, Колька. Прямо по дороге рассекает, по обочине, и руками размахивает.
Верка его не окликнула, не шелохнулась. Прошел, и слава богу. Воздух тяжелый, хотя место открытое. Гаражи на той стороне, а за ними уже поле.
Верка легла на лавку навзничь, руки за голову заложила, ноги согнула в коленях. Собака подошла, обнюхала.
– Иди, – повелела Верка.
Ушла. Животные Верку всегда слушались. Признавали.
Шаги. Колька. Возвращается. Не пустой. Пакет в руке, вдруг с пивом.
Верка свистнула. Негромко. Но Колька услышал, остановился, насторожился. Приблизился, заглянул под навес.
– Пиво?
Раскрыл пакет. Хлеб.
– Вер, а чего ты? Пойдем ко мне.
– В толпу не хочу.
– А нет толпы, свалили все. У Димона самолет или поезд, не помню, провожать, короче.
– Поезд, наверно. «Сапсан».
– Наверно.
– А кому ты хлеб тащишь?
– Отцу. Приедет после смены, поест, он без хлеба ничего не ест, даже кашу.
– И мороженое с хлебом?
– Мороженое не любит. Пошли, Вер, там больше никого.
– Еда есть еще?
– Полно. Мать, знаешь, сколько всего: салаты, пироги, мясо.
– А волшебный тортик?
– Это пожрали.
– Ну, даже не знаю, я думала тортиком соблазниться.
– Верочка, а ты пирогом соблазнись, там, знаешь, какой пирог! Лимонный!
– А чего ж его не прикончили?
– А я придержал. На утро. В спокойной обстановке.
Верка посидела на лавке, покачала ногой. Колька стоял, как проситель, ждал.
– А кофе?
– Есть! Настоящий. У меня кофемашина. Я тебе такой сварю, ни в одном кафе!
Верка усмехнулась, встала и пошла маленькой улицей. Колька, как раб, как пес, – поспевал по обочине.
– Отца боишься?
– Чего? Нет.
– Хлеб ему побежал покупать.
– Что мне, трудно? Я отца понимаю. Ему достается. И матери. Я их жалею.
– Ты, Колька, хороший человек.
– Я? Нет. Но я стараюсь.
– А я не стараюсь.
– У тебя и так выходит, без стараний.
– Не знаю. Я не заморачиваюсь.
Дом Колькин стоял в глубине участка, за вишневыми деревьями.
В распахнутых окнах – глухая тьма. И вдруг вспыхнул свет. Верка и Колька замерли у калитки.
– Кто там? – прошептал Колька.
– Может, родители? – прошептала Верка.
– Да нет. Как? Зачем?
– А чего ты окна не затворил? Как-то это на тебя не похоже. Такой основательный человек, вдумчивый, за хлебом пошел для папы, и вдруг окна.
– Да я думал проветрить, надымили.
– Сейчас такой воздух, что не проветришь.
– Сейчас как раз ничего воздух.
Хрупкий стеклянный звяк донесся из открытого окна.
– Интересно, – сказала Верка.
Отворила калитку и направилась неслышными шагами по траве к окну. И в это самое время в раме освещенного окна показался парень. Рот его лоснился и жевал, глаза на широкоскулом лице щурились. Стоял он спокойно, развернув могучие плечи.
– Кабан, – сказал Колька.
– А, – сказал парень. – Вот ты где.
И узкими острыми глазами резанул Верку.
Еды и вправду была пропасть. Мать Колькина расстаралась. Смололи много, и столько же осталось, если не больше.
Колька выложил хлеб, Кабан вынул складной нож с широким бесшумным лезвием, настрогал враз буханку и принялся уминать с хлебом и подтаявший холодец, и оливье, и селедку под шубой, и соленья, и картошку, отваренную целиком. Водку Колька принес ледяную из холодильника, и Кабан опрокинул одну стопку, и другую, ей вслед. Подливал и Верке, она не отказывалась. Колька пил безжизненный яблочный сок из кружки с Гагариным.
Знакомство было короткое. Колька представил:
– Вера, одноклассница. Кабан, то есть Серёжа, вместе работаем.
– И как тебя лучше называть, Кабан или Серёжа?
Вел он себя свободно.
– Почему я опоздал, – сказал Кабан, с хрустом пожирая острую корейскую морковь. – Подарок искал. Бутылку не купишь – трезвенник; а чего ты любишь, не знаю. Ну, думаю, может, рубашку тебе купить, всяко пригодится. Потом думаю, да что я, девчонка, рубашки дарить, подарю тебе тысячу рублей и купи себе сам, что хочешь. Что и делаю. Держи. Владей.
– Спасибо.
И Колька подобрал выложенную Кабаном тысячную бумажку, свернул и упрятал в карман летних светлых брюк.
– Долго же ты думал, – заметила Верка.
– Нет. Думал я быстро. Но много. Потому что возник вопрос номер два – в чем идти. Девушки будут. Хотелось понравиться. Так что я побрился и почистил зубы, принял душ. Но что надеть – не придумал. На улице не продохнешь, дома не продохнешь, в машине та же хрень. В то же время напялить шорты и майку – косяк. Рубашка с коротким рукавом. Это мысль. Но у меня нет рубашки с коротким рукавом. Тащиться в магазин? Ладно. Брюки. Какие-нибудь летние. У меня нет. Шорты и джинсы. Есть еще костюм в полоску, но это уже на похороны, причем на мои. Время шло, я злился, магазин закрылся. Решил, так и надо, не пойду никуда. Народу полно, все чужие, все незнакомые, кроме, понятно, именинника. Твое здоровье, друг. Включил телевизор, залег на диван, смотрю какую-то муть, засыпаю и просыпаюсь практически вечером. Думаю, как странно прошел день. И зачем я здесь лежу? Хочу к людям, и какая разница, в шортах я или при галстуке. Которого, к слову, у меня нет. И я, как вы понимаете, еду. Подхожу к дому и слышу великую тишь. Что странно. Окна все открыты, за окнами тьма. Туда ли я притащился? Стучу в дверь. Тихо. А пахнет из открытых окон сытно. А я голодный. Дай, думаю, хоть взгляну, что там.
– Здоров ты языком молоть, – сказала Верка.
– Исключительно под действием алкоголя.
И Кабан налили себе еще стопочку, и Верке налил стопочку. Колька смотрел на Кабана с восторгом, а на Верку со страхом и обожанием.
– Твое здоровье, друг. – Тост оставался неизменен.
Кабан насытился и вынул сигареты. Предложил прежде даме.
Закурили. Колька, разумеется, отказался.
– Знаешь, в чем твоя проблема, – сказал Кабан. – Ты не умеешь расслабиться. Ты всегда начеку, всегда под контролем. Это не полезно. От этого люди бросаются под поезд.
– Я не собираюсь.
– Контроль – это такое дело, чем его больше, тем хуже. Это как гайку затягивать. Раз и два хорошо, а три – резьбу сорвешь. Надо уметь отключаться.
– Меня научи, – вызвалась вдруг Верка.
Кабан посмотрел на нее из-под прищуренных век.
– А разве ты не умеешь?
– Не так, как хотелось бы.
– Как всё запущено у вас, ребята. А ты, Колька, не хочешь поучиться? Вдруг пригодится.
– Хочет. Давай, учи нас.
Верка потянулась к стопке, в ней оставался глоток водки. Но Кабан перехватил стопку и отодвинул.
– Чтобы расслабиться, надо иметь ясную голову.
– Алкоголь вполне расслабляет.
– Не совсем, дорогая. Как пишут в аптеках, масса побочных эффектов. Ты хочешь, к примеру, встать и не можешь. Пол уходит из-под ног и тому подобные чудеса. Нет, мои маленькие друзья, это не наш путь. Для начала мы выпьем бодрящего кофе и протрезвеем.
– Я трезвый, – возразил Колька.
– Ты парами надышался, – усмехнулась Верка.
– Кофе выпьют все, – отрезал Кабан.
– Да я не против, сейчас сварю.
– Нет, друг, я сам сварю. Сидите, отдыхайте.
– У меня кофемашина.
– Угомонись. Я справлюсь.
Ушел. Дзынькнуло что-то на кухне, зашуршало. Зашумела кофемашина, запахло сладко кофе.
– Арабика, – похвалился Колька. – Из Кении. Сорт премиум.
Верка не отвечала и улыбалась джокондовской полуулыбкой. Колька смутился и замолчал. Но глаз от Верки не отводил, как будто и вправду наглотался алкогольных паров, расхрабрился.
На разделочной доске вместо подноса Кабан внес три чашки.
– У тебя не машина – локомотив.
Поставил чашку перед Веркой. Поставил чашку перед Колькой.
Уселся. Ухватился за тонкую округлую ручку.
– Ну, будем. – И выпил в два глотка.
Верка тянула свой кофе медленно. Голова и в самом деле прояснялась. Колька всё чего-то ждал, смотрел на них.
– Эспрессо надо пить горячим, – сказал Кабан. – Холодный эспрессо – мертвый эспрессо.
Колька послушно взял чашку и выпил.
– Не горчил?
– Нет.
– Ну слава богу, а то я боялся, что будет горчить с таблеткой. Я вам по таблетке растворил в кофе, скоро подействует.
– В смысле? – растерялась Верка.
– Контроль ослабнет, и вы станете настоящими.
– Ты очумел?
– Вы же согласились.
– Не таблетку же.
– А что ты хотела, гипноз? Это я не умею. А таблетка дело верное, испытанное. И не наркотик, не боись. Никаких побочных эффектов, сто пудов.
Сидели и смотрели друг на друга.
– Ну и что? – спросила Верка. – Что дальше?
– Не знаю. Увидим.
– А себе ты таблетку не забыл растворить?
– Себе забыл. Охоты не было.
– Козел.
– Я Кабан, Верка. Запомни.
Верка на это уже ничего не ответила, намазала хлеб маслом и принялась жевать.
– Где трудишься? – спросил ее Кабан.
– Где придется. Сегодня – у мамки на огороде.
– Она в городе, в больнице работает, – вдруг встрял Колька.
– Медсестрой?
– Санитаркой.
Спрашивал Кабан Верку, а отвечал Колька.
– Своеобразно на него таблетка твоя действует, – заметила Верка.
– Лечь, что ли, к вам на обследование? – спросил Кабан.
– Хочешь, чтобы я за тобой судно выносила? Велкам.
– Судно – это перебор.
– А что ты хочешь?
Кабан не отвечал. Смотрел внимательным и, наверное, оттого тяжелым взглядом.
– Она в мед не поступила, – подал свою реплику Колька.
– Я тебя в секретари возьму, Колька, на общественных началах.
– На какой факультет поступала?
Верка посмотрела на Кольку, и он мгновенно откликнулся:
– На педиатра.
– Отличный выбор. Поступишь.
– Не знаю. Не уверена.
– А я поступлю на следующий год, я уверен, – сказал Колька громко и четко. – Ты думаешь, Кабан, я навечно там у вас на побегушках: подай, вымой, закрой, открой, шланг, масло, полировка? Выкуси, я поступлю, я готовлюсь, я человеком буду, вы тут сдохнете в этом поселке, я приеду на вас посмотреть лет через десять, вы мне руки будете целовать от счастья, что меня видите. И ты, Верка, тоже. Чего ты гордишься? Что ходишь за вонючими больными? Они тебе сто рублей сунут, и ты рада.
– О, – сказала Верка, – ну и ну. И рассмеялась.
– А кем же ты станешь? – доброжелательно поинтересовался Кабан.
– Я политикой буду заниматься.
– В президенты метишь?
– В императоры, – сказала Верка.
– А чего ждать? Я прям щас.
Кабан поднялся, обошел стол и поклонился Кольке в ноги, руку его схватил и поцеловал.
Колька смотрел презрительно.
– Сколько твоя таблетка действует?
– Час примерно. Или побольше. Около того.
– О, еще долго.
– Тебе скучно, что ли?
– А тебе, что ли, весело?
– По крайней мере не скучно.
– А на меня почему не действует?
Колька вдруг обратился к ней:
– А ты? Будешь мне руки целовать?
– С мылом вымой.
– Такие целуй. Как есть. Я тогда тебя потом пожалею.
– Ладно, я пойду, развлекайтесь. – Верка привстала.
– Погоди.
– Чего годить?
– Бутер доешь.
– А куда он делся? Эй, Колька!
– За короной пошел.
– Какие у него, однако, желания.
– Да ничего особенного.
Колька между тем вернулся, молча, с достоинством. С мокрых рук стекала вода. Приблизился к Верке.
– Вымыл. Целуй.
– А чего не вытер?
– Полотенце замызгали.
Стоит, ждет. Смотрит холодно.
Верка усмехается, шагает к нему. Наклоняется. Целует одну руку, целует другую. Кабан ржет. Наслаждается. Верка расстегивает пуговицы на Колькиной рубашке. И стягивает с него рубашку. Колька стоит, растопырив руки, как маленький. Потерянный, жалкий. Верка расстегивает ему брюки, брюки падают. Верка стаскивает с Кольки трусы, вниз, на пол. И говорит негромко, так говорит, точно голубь воркует:
– Тощий ты, как рыбешка.
Ладонью его худое синее тело оглаживает. Становится на колени. Кабан ржет.
– Ой-ё, мне прям смотреть неловко.
Но смотрит.
Колька не видит ничего, слезы застилают глаза.
Он вдруг обмякает и обрушивается на пол. Опрокидывается задетый им стул. Верка стоит на коленях, смотрит на лежащего. Поднимается. Спокойно говорит Кабану:
– Помоги.
Перетаскивают голого на диван, накрывают его же рубашкой. Смотрят друг на друга.
Кабан поднимает большую руку и бережно гладит Верку по голове. Смотрит ей в лицо. Обхватывает ладонями ее голову. Целует в губы. Верка пристраивается на край стола. Они торопятся, стол ходит ходуном, опрокидывается посуда, под рюмкой расплывается пятно. Белая скатерть и без того уже в пятнах. Мать Колькина ее стелила белую, девственную.
Мать и посуду расставила, и мясо запекла в духовке. Салатов настрогала. Ночь трудилась до утра. Денег оставила – если вдруг чего докупить. Расцеловала и уехала к сестре в Королев. Отец Колькин в эти сутки работал. Наутро он должен был вернуться часам к десяти. Мать предупредила, что будет рано, к восьми, чтобы успеть всё прибрать, чтобы встретить отца тишиной и покоем, и сытным духом. Она так и приехала, как обещала, и застала в доме идеальный порядок. Посуда перемыта и убрана, пол влажно сияет. Скатерть, льняная, тяжелая, лежит в грязном белье, это понятно. В мусорку заправлен чистый пакет.
Кольки в доме не было, и мать решила, что он как раз потащил на помойку мусор.
Чистота Колькину мать не особенно порадовала, что-то в ней было тревожное, неестественное. Мать походила по дому, нашла на подоконнике окурок, и ей стало полегче.
Пол просыхал. Мать вышла на крыльцо. За оградой протащился тяжелый переполненный автобус. Мать прошла по дорожке и услышала глухой стук. И бросилась к сараю. Она не осознавала, что делает, почему. Толкнула дверь и увидела сидящего на земляном полу Кольку. На шее его была петля. Обрывок веревки свисал с балки. Мать бросилась к сыну. Причитала, приговаривала.
– Что ты, что ты, мы сейчас, всё хорошо, хорошо, что ты.
Она его привела в дом, умыла, переодела, дала успокоительное, уложила на строго заправленную койку в своей тихой спальне, задвинула шторы, села рядом. Гладила его руку, пока засыпал.
Еще несколько часов назад постель в родительской спальне была разорена. Верка и Кабан спали в обнимку. Проснулись они одновременно и одновременно друг от друга отодвинулись. Верка поднялась, как была, голышом. Молча. И Кабан молчал. Не шевелился, смотрел. Верка ушла в большую комнату. Колька по-прежнему лежал на диване, только повернулся спиной, уткнулся лицом в спинку, ноги поджал, то ли дышал, то ли не дышал. Верка оделась и ушла. Колька смотрел в диванную спинку, на ткань в елочку, которую знал наизусть, с младенческих лет. Слышал, как приперся Кабан и тоже оделся. Но только не молча, матерясь негромко, глухо. Ушел и он. Колька услышал очень-очень дальний ход поезда. Километров пять они были от железной дороги, далеко. Встал Колька. Казался спокойным. Оделся и принялся за уборку. Всё больше и больше заводясь, распаляясь. И ему казалось, что он решительно ни о чем не думает в это время.
Когда отец вернулся, Колька еще спал. Об удавке на шее сына мать отцу не обмолвилась. Колька же сказал матери наедине, что плохо помнит, что делал.
– Мне нельзя пить, я понял. Ни капли.
И никогда более в своей жизни Колька не брал в рот спиртного.
* * *
Пятый час. Почти в точности вчерашнее утро.
Верка ни о чем не думала. Шла безлюдными улицами и дворами. Машины стояли повсюду, земля была убита машинами, ничего живого на ней уже не могло прорасти. На детской площадке асфальт раскрошился, растрескался, там еще траве давалась воля, и Верка брела по вялой траве. Птицы пели или, скорее, говорили, но как будто мимо ее слуха, на другой волне. Воздух светлел, и редкие, одиночные огни зажигались в окнах.
Не помнила себя, как добралась до станции, как смотрела на поезд.
Приближается и промахивает их крохотную станцию, пылинку в пространстве мира. Ветер.
Ничего этого Верка не осознавала тогда, потом вдруг вспоминала, всплывал этот поезд, ветер, золотой круг света…
По улице, там, где вновь уже стояли одноэтажные дома, – они и слева от пятиэтажек стояли, и справа – бежала собака. Увязалась было за Веркой, но скоро отстала, что-то ее свое отвлекло. Верка остановилась у старого их забора, отец когда-то всё грозился его поменять, да так и не поменял, а мать и не думала, она не любила нового. Старый серебряный забор, штакетник, у которого разрослась малина и вишня, и жгучая крапива. Верка стояла за кустами и смотрела на темное окно. Вспыхнул свет за белыми, бабушкой еще расшитыми занавесками, но тут же погас, и занавески раздвинулись. Сад стоял в тени.
Верка видела, как выходила мать на крыльцо. Она была в домашнем халате, из-под которого выглядывала длинная ночная сорочка. Поставила плошку с едой для кошки, посмотрела внимательно вокруг. На небо.
Вот нет над землей толстых железных стен, замков, только воздух нас защищает от жестких космических лучей, от солнечного жара, от черного дыхания бездны, такая беззащитная защита, почти ничто, однако хранит нас. До времени.
Ничего этого Верка не думала, стояла с пустой головой. Как будто бы ничего не помнила, что с ней было, ни вчера, ни позавчера, ничего не знала о себе, так легче. Мать вернулась в дом. Дальше Верка не видела, но знала. Мать будит Сонечку, гонит умываться. Завтракают овсяной кашей, из окна виден сад, кусты, за которыми стоит Верка. Бабушка сказала бы: стоит, как идол. Позавтракали. Мать убирает посуду. Заплетает Соньке длинную косу. Сонька мурчит песенку, слов не разберешь.
Дверь отворилась, и они вышли.
Мать запирала замки, Сонечка села на корточки и гладила кошку.
Они спускаются с крыльца, идут по дорожке. Верка спохватывается и отступает за угол. Она знает их маршрут, сюда они не повернут, мать ведет Сонечку в детский сад – через дорогу, к пятиэтажке, через двор.
Они скрылись из виду, и Вера направилась в дом. Стащила с себя всё и затолкала в пакет, даже туфли. Постояла под горячим, как смогла вытерпеть, душем. Надела старую футболку и джинсы, кеды на босу ногу и отправилась из дома, захватив с собой пакет. В зеркало не посмотрелась ни разу. По дороге к автобусу зашвырнула пакет в помойный контейнер.
Идет к остановке. Пиликает в кармане телефон, Верка вынимает его на ходу и отключает. Подкатывает автобус. Верка бежит, поспевает, втискивается. И оказывается лицом к лицу в очень плотной, не увернешься, толпе с Кабаном. Тяжелый автобус идет неспешно.
Они смотрят мимо друг друга. Но через минуту, может быть, пути Кабан начинает поглядывать на Верку, и даже рассматривать ее, дышать ее воздухом, втягивать ее запах. Он к ней очень близко.
С шоссе сворачивают на проселок. Кому видно, тот смотрит в окно на поле. Дымный туман, солнечный свет над краем. Мост, лесок, поворот. Видно, что шлагбаум там, впереди, уже опускается, перемигиваются красные огни.
Дальние пожары сжирали воздух. Больных прибавлялось, койки стояли уже в коридорах, гуляли сквозняки при распахнутых окнах и дверях, пахло гарью, лекарствами, хлоркой. Верка бегала за водой в ближайший магазинчик для лежачих одиноких больных, мыла полы и судна, разносила лекарства, подменяла медсестру в процедурном. «Легкая у тебя рука», – говорили Верке. Без дела она никак не могла в этот день, не хотела. И старшая медсестра, видя безотказность, нагружала, указывала переменить белье, помыть больного, покормить, поставить капельницу, и Верка меняла, мыла, кормила, ставила и никак не уставала. И старшая сестра следила за Веркой странными, всегда странными, как будто протухшими, глазами, и взгляд этот Верку отвращал, она его избегала. И ей думалось, что людей с таким взглядом не надо бы вовсе допускать до больных, немощных людей, им-то не отвернуться, когда она смотрит, когда произносит что-то накрашенным старым ртом.
– Старшая тебя едва терпит, – говорила Верке приятельница из больничной столовой.
– Она ведьма, она никого не терпит, берегись.
Маленькая женщина в сердечном отделении попросила поставить свечку за здоровье ее, рабы Божьей Ольги, и Верка побежала в недавно выстроенную у самых больничных ворот церквушку. Вошла она туда впервые, внутри пахло, как в погребе, и прохладно было так же, и темно, – вот где спасаться от жары. Верка поставила тонкую десятирублевую свечку перед Богородицей с Младенцем. Сказала мысленно, что за здоровье Ольги, и поклонилась образу, написанному местным художником, он лежал у них весной в терапии, подтверждал инвалидность.
Верка вернулась к корпусу и встала у кирпичной стены в тени. Впервые за этот день остановилась. Медленно выкурила сигарету. Сухая трава не шевелилась и как будто только ждала искры. Верка сбрасывала пепел аккуратно, на бетонную полосу, огибающую здание.
Погасила сигарету о серый кирпич стены. Вынула телефон, посмотрела список входящих и позвонила Вовке. Он отозвался мгновенно:
– Нормально, нормально. Отключила, потом забыла включить.
Она удивлялась безмятежной легкости своего голоса, его уверенности, устойчивости.
– Вечером поперлась к Кольке на днюху. Да так, своих повидать, Димон приезжал из Питера, еще подрос, говорит басом. Да нет, всё нормально, жратвы полно, торты какие-то особенные. Да я не любитель, я лучше макароны сварю. Для ради тебя куплю. Разок, чтоб не разбаловать. Как ты? Как Мишаня? – Мишаня был Вовкин напарник. – И ему привет. Большой. Приветище. Да ладно, вот прямо сейчас дождь? Завидую. И я тебя.
Она опустила руку с замолкшим телефоном и долго так стояла.
Подъехала скорая к приемному отделению. Выдвинули из задних дверей носилки. Два санитара, матерясь, перевалили тяжеленного больного на каталку. В такую жару больной был в шерстяных носках, аккуратно заштопанных на пятках.
Смена закончилась в восемь вечера. Верка задержалась еще на час, выпила с девчонками чаю.
Вернулась домой и рухнула на койку, даже не умывалась. Солнце еще не зашло, светило длинными лучами.
Проснулась Верка глухой ночью.
Окна открыты настежь. Дым висит неподвижно в электрическом свете уличного фонаря.
Верка разглядела праздничное Сонечкино платье на спинке стула. Маленькую руку на белой простыне. Хотелось оказаться в саду, но только не в нынешнем, а в мокром, осеннем, чтобы вороны каркали, и дул холодный ветер. Мать вздохнула там у себя. Она говорила, что давно разучилась спать, не бывает в глубине сна, только на поверхности. Давно она так говорила, Верка маленькой думала, что мать потому не уходит на глубину сна, что боится захлебнуться. Верка бояться не успевала.
Она подумала, что надо бы купить сандалии, что тушь надо купить хорошую, фирмы «Кларанс». Думала о пустяках и ничего не вспоминала ни о Кабане, ни о Вовке, ни о Кольке.
Вновь очнулась в темноте. Правда, чувствовался близкий рассвет, темнота потеряла плотность, густоту.
Мать наклонилась над Веркой, держала за руку. Мать шептала:
– Тсс. Я вызвала скорую. Тсс. Они едут. Если что, если заберут, отведи Сонечку в сад. Завтраком накорми. Свари овсянку. Кофе не давай ни за что, будет просить, держись. Ничего. Это жара. Жара спадет.
Пальцы у матери были ледяные.
Утром Верка прежде всего зашла к матери в палату. Надежа Семёновна, так уже ее здесь все звали, даже старшие по возрасту, помыла в палате окно (от санитарок не дождешься). Верка застала ее с ведром грязной воды, несла к выходу из палаты.
Верка перехватила ведро.
– С ума ты сошла, мама?
– А я тихонечко, я тихонечко.
– Тебе лежать надо.
– Да меня уже отпустят завтра, вот увидишь. Хорошо, мне как укол сделали, так и хорошо, я прямо летаю, нечего было и везти в больницу, стыдно даже.
Никуда ее отпускать не собирались, врач строго велел лежать, а если ходить, то осторожно. Сказал, что две недели она пробует точно. Уколы, таблетки, аппарат для слежения за работой сердца в течении дня. Врач был седой, солидный, мать слушала со вниманием.
Повезло, что в палате досталось место, а не в коридоре, хотя коридорные стояли (лежали – в данном случае) первыми на очередь, но мать положили в обход, по знакомству. И ей неловко было ходить по коридору, но и отказываться от милости, подымать шум, внимание на себя лишнее обращать тоже не хотелось. К тому же скоро, как это всегда и по всякому поводу бывает, ее внеочередность забылась. Через пару дней уже и коридорные звали ее Надеждой Семёновной, и она приносила им воду, если просили, и учила вязать пяточку, и диктовала рецепт варенья, чтобы прозрачное, как молодой мед.
Верка работала по двенадцать часов, два через два. Оставшись хозяйкой в доме, с маленькой сестренкой на руках, которую нужно было не только ведь накормить, умыть, уложить спать, отвести в детский сад и привести из детского же сада домой, но и потормошить, и насмешить, и утешить.
Верка после работы не задерживалась, мчалась скорей на автобус. Сонечка в опустевшем детском саду стояла у окна, смотрела на асфальтовую дорожку. Верка всегда ее так и заставала, у окна, и мысленно подгоняла автобус, и мучилась, если вдруг на шоссе застревали в пробке. Что там случилось, кто знает, может быть, авария. Это она говорила Сонечке по телефону, она купила ей дешевый аппарат, чтобы быть на связи.
– Едем потихоньку, едем. Огни у машин горят. Что делать. Авария, точно. Даже смотреть не хочу, что там. Объезжаем. Всё, нормально едем. Не переживай.
Дежурная воспитательница позевывала.
Верка прибегала, совала ей сотенную, а то и две, когда слишком уж задерживалась. Воспитательница эта, пожилая старая дева, жила от садика недалеко. Уходили они вместе и некоторое время вместе шли, и воспитательница говорила, что идет домой смотреть сны. Она любила спать и смотреть сны и говорила, что записывает их в особую тетрадку.
– И ты мне снилась, – говорила Верке.
Может быть, и хотела рассказать, что там делала в ее сне Верка, но Верка не поинтересовалась.
– Спокойной ночи.
– До завтра, – отвечала воспитательница.
– На что она наши деньги тратит? – спросила Сонечка однажды.
– На пиво, – решила Верка.
– А я бы на мороженое.
– Будет у меня выходной, будет у тебя мороженое.
– Шоколадное.
Надо было и книжку Сонечке почитать, и разговоры ее послушать. Кроме того, стирка, уборка, готовка, полив, прополка. И Верка уже так заматывалась, что только и думала, как лечь и закрыть глаза. Но в выходные было неплохо, посвободнее, и Верка даже вошла во вкус и ловила себя на том, что Сонечке иногда выговаривает прямо как мать, с теми же интонациями:
– Нельзя грязными руками хватать!
Осознав же, мгновенно меняла тон, смешила сестренку и себя.
Наряжались они и шли вдвоем гулять до самой станции. Сонечка махала поезду рукой. Брали мороженое и ели тут же, на платформе, на лавке, и далеко виден был дым.
Ездили навещать мать, она ждала. Всё ей казалось, что Сонечка похудела. А Верка видела, что мать здесь, на людях, изменилась, как будто тяжесть оставила дома. Да и с Веркой она иначе стала разговаривать, уже как со взрослой. Ближе они стали друг к другу.
На второй неделе материнского заключения в больнице, в среду, после смены автобус застрял в пробке. Верка позвонила Сонечке.
– А я дома, – радостно сказала Сонечка.
– Ты что? Ты как? Сама? Я же тебе говорила, ни в коем случае!
– Это я ее забрал.
– Хорошо, – только и сказала Верка. – Тут пробка.
Вовка. Приехал. Как же так. Да, точно, он и должен был сегодня приехать. Я же с ним вчера говорила. Сидит в их доме. Сонечка ему, может быть, кукол своих показывает.
Верка смотрела в окно. Ярославка стояла. И хорошо.
К дому подходила не спеша.
Горел свет в окне.
Кошка встретила на крыльце.
Верка хотела постучать, но дверь уже распахнулась, и Верка увидела Вовку, отощавшего, загоревшего, и вдруг заревела и бросилась ему на шею. Он обнимал, гладил по голове и шептал:
– Что ты, что ты.
И кошка кружила, и Сонька смотрела.
Пили крепкий чай с молоком, Вовка рассказывал о дороге, Верка не понимала, что он рассказывает, но улыбалась, смотрела сияющими мокрыми глазами.
– Как же я соскучилась.
– И я.
И тут Верка увидела синее платье на спинке дивана.
– А, – объяснил Вовка, – это Ирка принесла. Сказала, что оно несчастливое.
– Я так и знала, – отвечала Верка, совершенно и абсолютно счастливая.
День рождения
1.
Можно закрыть глаза и притвориться, что сегодня еще не наступило, длится вчерашний день и ей двадцать девять – на веки вечные.
Она открыла глаза. Часы показывали шесть часов и три минуты нового дня. Можно, конечно, опять закрыть глаза и притвориться. Но очень уж слышно, как движется день, мелкими шажками: тик-тик-так. Мелкими, точными и быстрыми. Тридцать лет натикало, сколько ни притворяйся.
Витя спал глубоким сном, лежа на спине. Рот чуть-чуть приоткрыт, выражение лица – детское. В такую рань Ира обычно не просыпалась. Выпростала руку из-под одеяла, пошевелила пальцами. Надо сделать маникюр. Надо сходить в парикмахерскую. Остричься, что ли, под ноль? Ей хотелось плакать. Осторожно выбралась из постели, Витю не потревожила. Захватила со стула одежду, оделась в кухне. Посуда вся была перемыта, значит, Витя вчера на ночь глядя перемыл, она даже не слышала, то ли уже спала, то ли читала, то ли по телефону трепалась, то ли в интернете сидела. Она и не помнила вчерашний день. По-настоящему – не помнила. Вышла из кухни, заглянула в комнату. Витя посапывал. Большая рука лежала на темно-синей простыне, поблескивало на безымянном пальце обручальное кольцо.
Она вышла из подъезда на улицу, закурила, оглянулась на их большой дом. Во многих окнах уже горели огни, день наступал будний, люди собирались на работу. Соседка вышла, посмотрела укоризненно на тлеющий в ее пальцах огонек, поздоровалась. Соседке было решительно всё равно, что Ире сегодня исполнилось тридцать, а вчера еще было двадцать девять, соседка и знать не знала, сколько ей лет, и она знать не знала, сколько лет соседке. Какая разница? Соседка направилась к остановке, побежала – как раз подходил автобус.
Ира вспомнила, что, когда смотрела на дом, что-то ее встревожило. Обернулась. Ну, конечно, позабыла выключить в кухне свет, Витька будет ворчать. Вечно он гасит за ней свет, заворачивает воду, тушит окурки, он говорит, что, если б не он, она бы давно спалила дом, что ж, наверно. Витька милый, он и белье выстирает, когда она не в силах себя заставить хоть что-либо делать, и сидит в прострации перед экраном, и не знает, с какого слова начать. Витька не упрекает, просто делает. Он ее любит. Ее, а не кого-то прекрасного, но выдуманного.
В кофейне на другой стороне улицы уже горел свет. Неужели они открываются так рано? За окошком видна была витрина, несколько столиков, человек в черном сидел с крохотной чашкой. Она докурила и направилась через дорогу.
Взяла кофе, устроилась в глубине. Человек в черном пальто посмотрел на нее старыми глазами.
Славная кофейня, музыка не грохочет, светло, уютно. Она расстегнула куртку, размотала шарф. Сигареты выложила на столик. Здесь можно было курить, стояла пепельница. Ира потрогала хрустальную грань – ледяная. Сигареты выложила, но не закурила, медлила. Отпила кофе. Превосходный. Не так уж плохо для нового дня в новом десятилетии жизни. Парень-официант за стойкой сказал девушке у кофемашины:
– Мне сегодня приснилась собака.
Человек в черном пальто с поднятым воротником встал из-за своего столика и направился через зал к ней. Нет, подумала она, только не это! Я не хочу ни с кем говорить!
Человек подошел и взялся за спинку свободного стула.
– Вы позволите?
– Извините, я бы хотела побыть одна.
Но он ее не услышал. Выдвинул стул и сел. Столик был крохотный, так что она увидела совсем близко его лицо. Глаза смотрели на нее со стариковским участием.
– Всё хорошо? – спросил он.
– Всё отлично, – ответила она.
Он молчал. Смотрел на ее чашку, на то, как поднимается над ней пар.
– Я бы хотела… – начала она фразу. Но он не дал закончить:
– Тогда почему вы такая грустная?
– Что?
– У вас грустные глаза.
– А у вас старые! – выпалила она сердито и тут же пожалела о сердитых словах. Но он не обиделся, может быть, даже не расслышал, у него был избирательный слух.
– Что случилось?
– День рождения.
– Ваш?
– Разумеется.
– День рождения – это замечательно.
– Стареть не хочется.
– Почему?
– Что за удивительный вопрос? Разве кому-нибудь хочется стареть? Люди души закладывали, чтобы только молодость задержать, кто-то старел вместо них, кто-то вместо них умирал. Вам не страшно наблюдать свое разрушение?
– Нет.
– Вы лжете.
– Я никогда не лгу.
– Такого не бывает.
– И сколько вам исполняется?
– Тридцать. Уже.
Он полез в карман, вытащил сломанную расческу, пластмассовую зажигалку, пуговицу, коробочку. Крохотную, плоскую, картонную, в слюдяной обертке. Расческу, пуговицу и зажигалку затолкал назад в карман. Коробочку положил на стол, придвинул поближе к ее чашке.
– С днем рождения, – сказал и поднялся из-за стола.
Она ничего не успела возразить, он уже был у двери, уже выходил из кофейни.
Ира потрогала чашку с кофе, еще не остыл. Отпила глоток.
Коробочка поблескивала на темно-коричной столешнице, гудел кофейный аппарат. Парень что-то сказал, и девушка рассмеялась. Ира осторожно вязала коробочку, сощурила близорукие глаза. Прочитала надпись мельчайшими буквами: «Принимать после еды, посоветоваться с врачом, возможны противопоказания во время беременности, не принимать с алкоголем, показания к применению: острое нежелание стареть».
Она содрала слюдяную обертку, оторвала картонную крышку и увидела в коробочке одну белую таблетку. Понюхала. Школьный запах мела.
Дверь отворилась, вошла женщина с бледным, строгим лицом, уткнулась в витрину, за которой лежали пирожные и круассаны, булочки и тосты.
– Вам помочь? – спросил парень.
Женщина не отзывалась, упорно разглядывая витрину.
– Булочки, – предложил парень. – Шикарные, с изюмом, еще горячие. Я сам три штуки съел.
– Спасибо, – сказала женщина, – я ничего этого не ем, не могу, могу только любоваться, вы тоже поосторожнее, три штуки зараз многовато.
– У меня обмен веществ шустрый.
– Это пока. А потом будете, как я, смотреть, вожделеть и не мочь.
Что за хрень! – разозлилась Ира. На себя разозлилась и на женщину, глазами пытающуюся наесться, и на парня, который ей казался слишком молодым и потому от нее далеким, на булки, которые с утра горячие и вкусные, а к вечеру черствые и на выброс, и, главное, на старика разозлилась, который оставил ей эту белую таблетку. Может, яд? Взяла таблетку, положила хладнокровно в рот, подержала во рту, ничего не чувствуя, никакого вкуса, и проглотила. Вкус так и не разобрала. Ничего, мобильный у парня есть, вызовет скорую, если что.
Допила кофе, взяла с собой булочек и вернулась домой. Витя уже ставил чайник. Ни слова не сказал про забытый свет, день рождения все-таки.
– На завтрак – омлет, – сообщил Витя. Сковородка уже калилась на огне.
– Я булочки взяла. Шикарные, с изюмом.
– А поздравить тебя можно? – спросил он осторожно. Осторожно, потому что еще вчера она ему заявила, что не желает просыпаться в день своего тридцатилетия, даже глаза не откроет, и не собирается этот день отмечать, получать подарки, она ненавидит заранее все подарки, сразу всё выкинет в мусорку.
– Как хочешь.
– А ты руки помой, – он принялся взбивать яйца.
– У меня чистые.
– Ты за ручку двери бралась в подъезде? Деньги в руках держала?
– Зануда.
Когда она вышла из ванной, омлет поспел, Витя снимал с огня раскаленную скороду.
– Пить будем? – спросила она, усаживаясь.
– Конечно.
– О. Неожиданно. Ты обычно злишься, когда я с утра выпить предлагаю.
– Шардоне. Сейчас принесу. Я его охладиться поставил. Да, кстати. – Он вынул из кармана конверт и протянул ей. – С днем рождения, солнышко.
– Как интересно. – Она смотрела на конверт, но в руки его не брала. – И что там? Чек на тыщу евриков? Проездной на три месяца? – Она смотрела на Витю, но Витя молчал. – Что тогда? Даже боюсь.
Он улыбнулся, положил конверт на стол возле ее тарелки и отправился к холодильнику. Она потрогала конверт, что-то там было плотное, твердое. Он вернулся с вином, Ира к конверту так и не прикоснулась.
Он разлили вино в бокалы.
– Тебе не интересно? – спросил про конверт.
– Интересно.
Выпили за ее рождение. Поели уже осевший омлет, осевший, но вкусный. Витя что ни готовил, всё у него вкусно получалось. Хотя всё делал на глазок. Ира спрашивала, ты и в своей лаборатории на глазок химичишь?
Конверт так и лежал. Ира на него капнула масло. Но Витя как будто бы и не заметил. Принялся убирать со стола. В конце концов только один конверт с масляным пятном и остался на столешнице.
Ире вдруг почудилось, что болит живот, и она вспомнила про таблетку. Яд! Медленнодействующий, но верный, после него стареть не будешь, потому что какая же старость после смерти. Она впала в ужас от этой мысли, от своего нелепого поступка, рванула в туалет, сунула два пальца в рот. Витя стучал в дверь, волновался. Она вышла с мокрым от пота лицом и попросила не стучать, потому что от стука болит голова, не стучать и не смотреть такими ужасными глазами, всё нормально, пора на работу, в день рождения работу никто не отменял. Она торопливо накрасилась, оделась, бросила в сумку мобильный, ключи, сигареты. И конверт захватила со стола и тоже бросила в сумку. Витя пошел за ней в прихожую с мокрой, только что вымытой тарелкой в руках. Поцеловал ее в губы. Она коснулась пальцами его щеки.
– Вот когда ты побриться успел? – спросила.
Конверт она вскрыла в троллейбусе. Подарком оказалась поездка к теплому, далекому морю, оно было изображено на рекламной картинке. Витя уже договорился с ее начальником насчет отпуска.
Через месяц после отпуска выяснилось, что она беременна. Хотела сделать аборт, даже пришла в больницу, но, пока ждала очереди к гинекологу на осмотр, передумала. Не захотелось ей остаться среди этих женщин, сидевших тоже в очереди на аборт, они говорили, что наркоз дают плохой, говорили, сколько надо дать анестезиологу, чтобы был хороший, одна по мобильному давала указания совей подчиненной, пугала, что завтра же проверит.
Ира родила в декабре. Мальчика. Никак не могла выбрать ему имя. Говорила ему: мое солнышко. Или мой мальчик. Чаще всего – мой мальчик. Витя терпеливо ждал, когда она выберет имя. Но мальчиком сына не называл, говорил: «Ну что, сын? Пойдем купаться». Ира забиралась в ванну вместе с сыном, вместе они смеялись, а Витя улыбался, сидел на бортике с махровым полотенцем наготове. Спал мальчик спокойно. И все-таки Ира просыпалась среди ночи, вставала и подходила к нему. Его кроватка была рядышком.
Так и прошел тридцатый год ее жизни.
Мальчику исполнилось два месяца, и, засыпая накануне своего тридцать первого дня рождения, Ира дала себе слово, что завтра непременно выберет ему имя. Пётр. Или Серёжа. Или Дима. Или Михаил. И надо будет дописать уже диссертацию и защититься, думала она, счастливо засыпая, уверенная, что и допишет, и защититься.
Витя уже спал, он всегда засыпал мгновенно и крепко и ничего не слышал во сне. Ире очень хотелось, чтобы мальчик как можно больше походил на отца, чтобы был такой же спокойный, надежный, добрый и снисходительный. Вот только места Витя занимал во сне ужасно много, раскидывался на всю кровать. Разбогатеем, думала Ира уже во сне, устраиваясь у Вити под боком, вдыхая его запах, купим новую квартиру с большой спальней, поставим огромную кровать, царскую.
2.
Ира проснулась в полумраке, утро едва начиналась. Вставать ей не хотелось. Хотелось закрыть глаза и притвориться, что новый год ее жизни еще не наступил, что ей всё еще двадцать девять, что она так и будет молодой и легкой, стремительной, умной, быстрой на язык, и мужчины будут посматривать на нее внимательными глазами, и теряться под ее насмешливым взглядом. Всегда, до самой смерти. Недавно Ира была у матери, рассматривала семейный альбом и увидела маму совсем молодую, двадцатилетнюю. И впервые осознала, что и мама когда-то была легкой и стремительной, и что только фотография помнит ее такой молодой, ни одного человека уже не осталось, который бы ее такой помнил. И за обедом Ира поглядывала на мать и видела в ней себя, какой она будет, когда состарится. Не хотелось. Так не хотелось!
Ира открыла глаза. Часы показывали начало седьмого. Она уже родилась. Витя тихо дышал во сне. Он всегда, если был здоров, дышал во сне тихо и ровно. Ира осторожно села на кровати и увидела, что лицо мужа как будто переменилось за эту ночь. Какая-то темная полоса легла над верхней губой. Испачкался? Тень? Она осторожно коснулась пальцем темного пятна. Усы! За ночь отросли? Это он специально, чтобы ее напугать-насмешить наклеил! Ира ухватила за волоски и хотела дернуть. И застыла. Простынь была другой. Не темно-синей, как вчера, когда она на нее ложилась, а серой с темными разводами. И еще кое-что изменилось. Возле их кровати появился какой-то короб. Что-то странное, на высоких ножках. Она смотрела на это что-то и никак не могла угадать что. Отпустила волоски. Соскользнула с кровати. Босыми ногами по холодному полу неслышно подошла к коробу. Заглянула.
В коробе спал ребенок. Чужой, незнакомый, неизвестно откуда взявшийся ребенок вдруг открыл глаза. Ира вскрикнула от неожиданности, от того, что он на нее посмотрел и причмокнул губами. Ребенок сморщился от ее вскрика и расплакался. Она не знала, что делать. Бросилась к Вите, растолкала.
К врачу Ира отказалась ехать, вообще никуда не хотела выходить из дому. К ребенку не подходила. Витя раздобыл через знакомых телефон очень хорошего психиатра, дозвонился и уговорил приехать для консультации. Психиатр, говоривший очень тихо, так что все невольно прислушивались и в ответ тоже начинали говорить очень тихо, выяснил, что целый год жизни выпал у Иры из памяти. Ире показывали фотографии: они с Витей на теплом море, Ира с выросшим животом, Ира с только что родившимся мальчиком.
– Как его зовут? – спросила, глядя на фотографию новорожденного, Ира.
Витя задумался на мгновение и сказал:
– Коля.
Ира покорно стала называть мальчика Колей.
Память восстановить не удалось. Но постепенно Ира смирилась с тем, что это ее ребенок, она даже почувствовала, что он ей дорог, тем более что сама его кормила, молоко было. У нее очень вырос аппетит, но она не толстела. Витя с удовольствием готовил ее любимый омлет, покупал сырокопченой колбаски, привозил от родителей из Воронежа соленые помидоры и грибки.
Коля стал плохо спать, когда начали резаться зубки. Обычно спавший непробудно, Витя от его ночного плача просыпался мгновенно, поднимался к нему, брал на руки, ходил от окна к кровати и обратно, что-то шептал, уговаривал, показывал на луну за окном. Коля успокаивался, и Витя укладывал его в кроватку и ложился к жене. Ира бормотала спросонья, что в следующий раз сама встанет. Но не получалось у нее вставать. Она стала спать очень уж крепко, таким мертвым сном, который ее не выпускал. И снов в этом своем сне она не видела.
К концу тридцать второго года ее жизни мальчик уже стал ходить и говорить отдельные слова, характер у него оказался терпеливый, упорный, один он не скучал, занимался сам с собой, стучал крышками от кастрюль, забирался в ящики стола. Витя терпеливо, спокойно всё за ним подбирал, прятал колющее и режущее. Ира пыталась дописать диссертацию, сидела перед экраном и не знала, с какого слова начать предложение.
Наутро тридцать третьего дня своего рождения она также не помнила прожитый год.
Ее память как будто ничего не могла вобрать сверх двадцати девяти лет. Проходил год, и всё сбрасывалось – до двадцати девяти. И Витя, уже зная, что так будет, просыпался раньше ее, ждал ее пробуждения, целовал, объяснял, что это за мальчик у них растет. Простынь они всегда накануне ее дня рождения стелили темно-синюю, чтобы она не пугалась сразу, когда проснется, незнакомой простыни.
Не только память ничего не хотела помнить сверх двадцати девяти лет. Весь организм ничего не хотел помнить. Шрам от пореза исчезал. Выдранный зуб оказывался на месте. Ира не старела. Проходил год, и она вновь просыпалась двадцатидевятилетней. Волосы не седели. Морщины не появлялись. Сын рос, Витя стал лысеть, отрастил брюшко, весь мир старел, но Ира не менялась. Весь мир уносило от нее течением времени. И когда-нибудь – она знала, что так будет, – умрет Витя, и даже сын умрет, и дети его умрут, и на планету вернутся динозавры, а она всё так же будет молода и ничего не вспомнит из прошедшей тысячи лет, потому что тысяча лет пройдет мимо нее.
Накануне сорокового года своей жизни Ира сказала Вите и Коле, что хочет прогуляться перед сном.
– Поздно уже, – обеспокоился Витя.
– Я только воздуха глотну.
– Ага, – пробурчал мальчик, когда она скрылась в прихожей. – Сигаретного дыма.
Они играли в шахматы. Был ход мальчика, но он думал не о шахматах. Когда дверь за матерью захлопнулась, сказал со взрослой горечью:
– Завтра она нас забудет.
– Думай над ходом, – попросил отец мягко. И добавил совсем тихо: – Завтра еще не наступило.
Ира вышла из подъезда и закурила. Она знала, что наутро всё забудет. Но почему так будет, она не знала. Не помнила. Может, и не было никакой причины. Она стояла под темным небом. Сигарета тлела в пальцах. Ей казалось, что не она забывает. Ей казалось, что Вселенная не хочет ее помнить. Ира стояла под темным небом, но как будто бы ее здесь и не было. Ни здесь, у подъезда, и нигде во всем мире. Человек несуществующий. В кафе на другой стороне улицы горел в окнах свет. Виднелись столики, витрина, кто-то пил кофе, поднимал к губам белую чашку. Ира отбросила сигарету и направилась через дорогу.
В кафе было тихо, музыка не грохотала, Ире это понравилось. Она взяла кофе и устроилась за дальний столик. Народу совсем мало. Парочка возле самой витрины и старик в черном пальто у окна. Это его она видела с той стороны улицы подносящим чашку к губам. Старик взглянул на нее, отставил чашку, поднялся и направился через зал прямо к ее столику. Нет, подумала она, только не это! Я не хочу ни с кем говорить!
Старик подошел и взялся за спинку свободного стула.
– Вы позволите?
– Извините, я бы хотела побыть одна.
Но он ее не услышал. Выдвинул стул и сел. Столик был крохотный, так что она увидела его лицо совсем близко. Глаза смотрели на нее со стариковским участием.
– Всё хорошо? – спросил он.
– Всё отлично, – ответила она.
Он молчал. Смотрел на ее чашку, на то, как поднимается над ней пар.
– Я бы хотела… – начала она фразу. Но он не дал закончить:
– Тогда почему вы такая грустная?
– Что?
– У вас грустные глаза.
Совершенно точно это всё уже было с ней. Это кафе, эта белая чашка, этот старик, этот разговор.
– Мне приснилась собака, – услышала Ира чей-то голос. И это тоже было. Эта фраза. Этот голос.
– Завтра я всё забуду, – сказала она старику. И заплакала.
Старик полез в карман, вытащил сломанную расческу, пластмассовую зажигалку, пуговицу, коробочку. Крохотную, плоскую, картонную, в слюдяной обертке. Расческу, пуговицу и зажигалку затолкал назад в карман. Коробочку положил на стол, придвинул поближе к ее чашке.
– Успокоительное, рекомендую, – сказал и поднялся из-за стола.
Она ничего не успела возразить, он уже был у двери, уже выходил из кофейни.
Она потрогала чашку с кофе: еще не остыл. Взяла коробочку, приблизила к близоруким глазам. Прочитала надпись мельчайшими буквами: «успокоительное средство растительного происхождения, противопоказаний нет, осторожно во время беременности». Сорвала с коробочки слюдяную обертку, содрала картонную крышечку. Увидела одну-единственную таблетку. Понюхала. Запах мела. Взяла в рот, разжевала, запила кофе. И на душе почти тут же стало тише, ровнее. Парень за стойкой зевнул.
Наутро лицо ее постарело сразу на десять лет. И сыну, и мужу, и матери, и всем знакомым пришлось заново к ней привыкать.
Память вернула Ире все прожитые годы. Помнила Ира, конечно, кое-как – все мы помним кое-как нашу жизнь.
Вася
Я заглядывала к ним в окно, большой короб горел, его везли по воздуху, наклоняли, лилась раскаленная лава, про которую я думала, что она из центра земли, кто-то мне из взрослых так сказал, но только не Вася. Он был в робе, в рукавицах, со щитком на глазах, чтобы не ослепнуть. Литейная мастерская находилась в старом кирпичном доме, там, где путевое хозяйство, где тепловозы ждут в депо, где рельсы, по которым ходят поезда, блестят, а забытые рельсы ржавеют, иногда на них стоит вагон, и в нем живут люди, как на баржах в Париже.
Вагонам сто лет, их возили когда-то черные паровозы с алыми звездами на лбу, каменный черный уголь горел в топке, паровоз шел и гудел. У меня был свисток: белый, тяжелый, с медными вставками. Он гудел в точности как паровоз; свисток подарил мне глухой машинист на пенсии. В Париже река и баржи, а у нас пути и вагоны.
Я подходила к вагону, в некоторых окнах горел свет. Я пробиралась под вагоном на ту сторону, хотя могла обойти, но я была партизаном и пробиралась под составом с вражеской техникой и живой силой, пережидала, когда пройдет враг. И если враг вдруг останавливался, я сидела тихо и смотрела на его ноги. Падал на землю окурок, появлялась кошка, смотрела на меня, не выдавала. На запястье тикали круглые часы, мне их купили, чтобы знала время. Время смотрело на меня круглым глазом. В два часа дня обед. В семь ужин. В девять спать.
Из приземистого кирпичного здания выходили мужчины, они умывались у колонки, садились на деревянные ящики, разворачивали свертки с хлебом, огурцами, луком, вареными яйцами и колбасой, ели, пили молоко из бутылок или простую воду из колонки, или дымящийся чай из железного термоса. Курили. Вася подзывал меня.
Он строго спрашивал: ты почему не дома?
Ему отвечали за меня: а чего ей одной дома, одной скучно.
Мне протягивали бутерброд.
Вечером мама выговаривала Васе: гони ее в шею, пусть дома обедает, суп, кому я его варю, нельзя ребенку всухомятку.
Мы жили в деревянном доме под железной крышей, смотрели по вечерам в черно-белый экран телевизора. Окошко задернуто белой занавеской, за окошком – яблоня, я слышу, как она шумит. Скоро Васю призовут в армию.
У него была девушка, она обещала его ждать, в августе они поссорились. Вася приходил с работы, ужинал и уходил в сад курить. Я приходила к нему и садилась рядом. Слышно было, как в доме звякает посуда, мама ее мыла в тазу. В начале сентября Вася принес с работы небольшую, с мамину ладонь, шкатулку, тяжелую и горячую. Вася сказал, что отлил ее из чугуна по старинной форме. Стенки у шкатулки были ажурные, а крышка и дно сплошные, дно совсем гладкое, а на крышке – выпуклости. Отчего-то она не остывала, оставалась горячей, как только что вынутый из печи пирог. Вася принес ее в газете, газета тоже вся нагрелась. Мы поставили шкатулку на шесток, она не остывала. Соседи приходили, смотрели и удивлялись, из школы приходил физик, смотрел. Мы угощали его яблоками, их тьма уродилась в этом году.
Васю должны были призвать весной, когда ему исполнится восемнадцать, так что эту зиму он еще жил с нами, привез уголь, поставил с мамой вторые рамы в окна. Помирился с девушкой, она тоже приходила смотреть шкатулку. Вася говорил, что делал шкатулку для нее, но девушка побоя-лась ее брать, так она у нас и стояла, уже не на шестке, когда стали топить, а в холодном чулане, и даже в мороз не остывала, физик говорил, что всегда постоянная температура. Он привел к нам человека из Москвы, физик учился с ним когда-то на одном курсе, москвич смотрел шкатулку, пил с нами чай, рассказывал физику о знакомых, называл меня на «вы». На другой день он ходил в литейку, смотрел, как Вася льет из короба лаву. Он забрал шкатулку в Москву изучать. Вася по ней скучал и спрашивал физика, как там она в Москве. Греет, отвечал физик. Но отчего греет, не отвечал, не знал.
Сразу после Нового года приехали из Москвы люди и долго разговаривали с Васей. Меня прогнали спать, но я не спала и всё слушала и смотрела на них в щелку из-за занавески, которая отделяла мою с мамой комнату от кухни. В кухне была печь, буфет, стол, венские стулья с подушечками для сиденья, Васин диван.
Они сидели за столом, мама наливала им чай, они спрашивали Васю, о чем он думал, когда отливал шкатулку, и не было ли еще чего-нибудь подобного в его жизни. Исследования, которые они проводили в институте, ничего не помогли им объяснить. Чугун и чугун, они говорили.
– Да ничего я не думал, – говорил Вася и, наверное, улыбался.
Они выходили курить в заснеженный сад, мать вынесла им помойное ведро для окурков. Шкатулку они не привезли, оставили для наблюдения.
Весной Вася ушел в армию, я бегала к физику, спрашивала, как там шкатулка в Москве, и писала Васе, что она греет и не разгадана. Я представляла, как он улыбается, когда читает. Вася вернулся и женился на своей девушке, у них родился Алёш-ка, шкатулка не остывала. Через несколько лет физик сказал, что ее разломали. В московский институт пришел новый начальник, дурак дураком, и приказал. Обломки уже не грели, их выкинули.
– Ну, – сказал Вася. И больше ничего не сказал.
Они покурили с физиком и разошлись.
С тех пор мать взяла моду сваливать на московского дурака все беды. Она говорила, что если бы он не разломал шкатулку, то и Союз бы не развалился, и дядя Лёша бы не спился, и терактов бы никаких не было, и Вася не покинул бы нас так рано.
Путешествие
Серёжа отправился в путешествие. Лет ему было двенадцать. Так говорят. Я ничего этого не видела, я только пересказываю. Двенадцать лет, стало быть, 1935-й. Лето.
Хлеба с собой захватил, соли, воды в солдатской фляжке и отправился.
Сошел на тропинку с крыльца ранним утром. К полудню добрался до тонкого рябинового деревца. Пять неспешных шагов Серёжиной бабки. Но у Серёжи шаги были еще более неспешные. Наверное, он продвигался со скоростью часовой стрелки или со скоростью растения, оно ведь тоже продвигается.
У него не было цели путешествовать медленно, он путешествовал подробно.
Он ложился на землю и разглядывал травинки, жуков, окурок, стеклышко. Всего так много.
– А ведь взрослый уже мальчик, – сердилась бабка.
До обеда она дотерпела, а затем велела воды натаскать в кадку.
Воды Серёжа натаскал, и бабка усадила его обедать. Он ее послушал, поел и вновь собрался в путь. Заново. Так как за несколько часов и травинки переменились, и жуки одни уползли, другие умерли, а третьи народились. И Серёжа всех их наблюдал от ступеньки до рябины до самого вечера. Он и в ночи что-то там подсвечивал фонариком, пока бабка не погнала его веником спать.
В сорок первом он ушел на войну, в сорок пятом вернулся.
Посидел на крыльце, посмотрел на рябину и отправился устраиваться в железнодорожные мастерские. Там он и проработал до самой пенсии и еще сверх того пять лет.
Я его помню седым стариком с папиросой. На крыльце, в сумерках.
Тропинка. Рябина. Красный огонек. Внук Николай катит на велике.






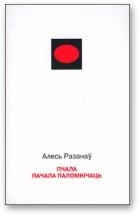




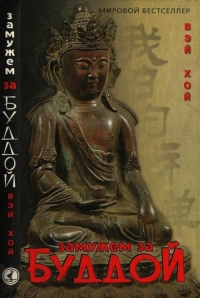

Комментарии к книге «Чужая жизнь», Елена Олеговна Долгопят
Всего 0 комментариев