Солнцев, Роман Харисович Восторженный беглец
Поди туда — не знаю куда.
Принеси то — не знаю что.
Из старинной русской сказки
1
И был вечер, и было сияние на западе. Направляясь домой через березник, я мельком отметил — царствует красный свет, как в лазере с кристаллом рубина, с длиной волны 740 ангстрем…
Я бы оставался на работе допоздна, но с некоторых пор у нас принялись наводить экономию, и лично сам товарищ Поперека, начальник АХЧ, высоченный дядька с откинувшейся назад головой, как бы от свистнувшей у лица ветки, пробегая по этажам с трагически напряженными глазами, выключил свет и выставил меня. Исключение делалось только для микробиологов в левом крыле здания — у них круглые сутки в таинственно светящихся сосудах бешено размножались всякие твари, и не то чтобы их страшно оставлять без человека — Попереке ничто не страшно, — но все же… Если у меня расплавится кристалл, вырастим новый. А вот если склянки треснут и невидимые микробы поползут в пространстве… Попереке лучше бы дело иметь с вулканами. Раньше он работал пожарным.
Короче, и был вечер, и была весна — второе апреля, — никто меня дома не ждал, помимо науки — никаких занятий, вот я и плелся под темнеющим небом, пытаясь поднять себе настроение как бы взглядом со стороны, повторяя: и был свет, и шел человек… все как-то значительнее выглядишь. Вокруг в сумерках дотлевал снег. Он сохранился в виде отдельных полос там, где были натоптаны зимой тропинки… вот белый, цельный след от женского сапожка… не Татьяны ли?., вот кусок лыжни… не нашей ли, совместной?.. Я провалился до колен и остановился.
И была дорога наугад, в сторону светящихся окон И вдруг я увидел в полумраке подъезда, на своей лестничной площадке, ядовито желтые женские сапожки. Кто это? Неужели ко мне? У Татьяны таких нет. Длина волны света, излучаемой этими сапожками, около 620 ангстрем… Я ожидал увидеть кого угодно, но только не Люсю Иванову.
— Витька! — закричала она зычным голосом и повела плечом, могучим, как у пахаря. — Где же ты?! Мне надо с тобой посоветоваться!
Когда женщина говорит «посоветоваться», это очень плохо. Ясно, что никакого ответа ей не нужно, а просто ты должен что-то срочно для нес сделать: куда-то позвонить, что-то достать. Но Люся. Людмила Васильевна Иванова, жена сбежавшего от нес на Север Кости Иванова, была никак не из тех женщин, которые кого-нибудь о чем-либо просят. Она все умела сама.
Проходя за Люсей, я вспомнил, что видел её сегодня днем в институте, причем на нашем этаже — этаже кристаллофизиков, и еще помню, удивился — разве она вернулась из отпуска? Кажется, уезжала пол- месяца назад по горящей путевке в Ялту… и сообразил, что миновал уже месяц… и еще подумал: как. бедная, она без Кости?., что он так делает, на Севере?.. хорошо хоть, говорят, деньги присылает. Бросил, понимаете ли. научный институт, начатую докторскую диссертацию… мотается где-то за 69-й параллелью — то ли рудник строит, то ли газовую магистраль сторожит…
— Кофе? — спросил я. зная, что Люся с ее сотрудниками на ВЦ варят его с утра до вечера на двух электроплитках.
— Уксусу! — сразу возопила жена Иванова, и, к своему удивлению, я увидел на гладком ее широком лице слезы. — Ты знаешь, что его там нет? И уже три месяца!!!
— Где? — пробормотал я, скидывая ботинки и топчась перед ней во влажных носках, не решаясь их стянуть и надеть сухие: ведь женщина, неловко. — Где? Где его уже нет? В сердце твоем?.. — я попытался пошутить.
— Дурак! — Она села на стул, — Нигде! Нигде его нет! — прокричала она неожиданно тоненьким голоском. И помолчав минуту, не меньше, видимо, приказав себе быть спокойной и обстоятельной, уже более низким голосом сообщила, при этом почему-то улыбнувшись мне: — Ты полетишь на восток.
— Куда?! — Я решил, наконец, показав глазами на мокрые следы своих ног, стянуть носки и надеть сухие. Раз уж меня о чем-то просят, могу я позволить себе некоторую бестактность. И еще я понял, почему она обратилась ко мне с улыбкой. Людмила Васильевна привыкла в своей общественной работе (она ведала Фондом мира) применять женское оружие— обаяние— и автоматически его включала, как только переходила к просьбе. — На восток?.. — пробормотал я, оттягивая время. — А что у нас на востоке?.. Понимаю, ты думаешь — он прячется на даче. Вернулся и живет. А что?! Уже тепло.
— Какая дача?! — Люся надолго вперила в меня укоризненный взгляд, словно поражаясь, как мы могли столько лет дружить семьями. «Неудивительно, — думала она, — что у тебя у самого семья еще раньше разладилась: Таня ушла от такого тюфяка!» Люся осмотрела меня всего с ног до головы, словно уже сожалея, что пришла именно ко мне. — Он же на Севере!
— Ты же. сама сказала — его там нет.
— Конечно, нет! Он на БАМе! — Люся шмыгнула носом, давая понять, что все-таки она слабая женщина, может и заплакать.
Я растерянно сел напротив на колченогую табуретку.
Люся поежилась и рассказала.
2
6 марта, только она приготовилась к празднику, погладила кремовую блузку из настоящего крепдешина и купила у Нелки Гофман итальянские туфли (той велики, а Нелка их выцыганила у Гали Серебряковой, а Гале муж оторвал в Москве австрийские, вишневые, с медным листиком сбоку…), а мужчины в отделе, кажется, на этот раз не отбоярились распечаткой на ЭВМ китайского гороскопа, а раскошелились, явно что-то достали к 8 Марта, может быть, даже французские духи, судя по маленьким коробочкам… так вот. 6 марта Люсю пригласили в профком и сказали: есть путевка в Ялту. Завтра можно лететь.
«Какая Ялта?! — подумала Люся про себя. — Муж пропал!.. — И вдруг махнула рукой, решила с тайным злорадством: — А ну его! И дочка уже взрослая. Второй курс. Чего я ее- сторожу?! Надо только поговорить на прощание — и а аэропорт. Нервы стали ни к черту. Наливала чай — отбила носик у чайника. Точила нож — порезала палец. Зашивала карман дочке — проколола руку. Надо ехать».
— Доченька, — вечером сказала Люся, уже собрав чемодан и около полуночи дождавшись, наконец, свою высоченную бледную девушку со старательно печальными глазами. — Доченька! — повторила мать, усаживая ее, как, бывало, в детстве, перед собой в огненно-красное кресло (производство ЧССР). — Светик, посмотри-ка на меня.
— Кто бы на меня посмотрел, — пробормотала скорее по привычке дерзить дочь. — Я тебя слушаю, Людмила Васильевна. Мама, — поправилась она, заметив с удивлением, что на полу лежит чемодан и маме сегодня явно не до шуток. — Да?
— Доча… — Мать задержала дыхание. — Мне дают путевку.
— Во Францию?! — загорелось от радости лицо дочки. Светлана вскочила и запрыгала, как теленок, по комнате, разъезжаясь копытами туфель на платформе, по причине устарелой моды служивших ей домашними туфлями, подворачивая то эту, то ту ногу. Она помнила, что еще два года назад, когда папа защитил кандидатскую диссертацию после долгих приступов лени и самокритики, на три года позже мамы, выяснилось, что они теперь как два молодых ученых могут поехать за границу на симпозиум. — Все-таки дали? Дали. дали, дали! — Дочь закатила глаза. — Ты мне привезешь… м-м… бархатное платье.!.
— В Ялту, — сухо оборвала ее мать. — В Ялту! — повторила она, вместе с тем страдая, что ведь и во Францию могли съездить, если бы этот дуролом не бросил институт, поддавшись, видите ли, жажде физической работы. Разве здесь ее нет, физической работы? Ну, строгай дальше стеллажи, вяжи корзинки…
весной снег вон отгребай, помогай дворнику, если не можешь без чудачеств… — В СССР, — ядовито добавила мать, переходя в наступление. — Надеюсь, ты свою родину любишь не меньше, чем какую-нибудь Замбию? Так вот, я еду. И я хочу, чтобы с тобой ничего тут не случилось.
— Спать ни с кем не буду, — быстро ответила дочь, по привычке дерзя. И чуть покраснев, продолжила — Ты же андестед, я говорю о подругах — я усекла, ты боишься за японский маг. Я и сама его не буду трогать. У парней есть наш, дубовый. Хоть бей его ногой — поет еще более томно.
— Дочка! — пристыдила мать Светлану, — Ну, посмотри на меня! Я действительно за тебя беспокоюсь. Пели настоящая любовь… это еще туда-сюда… то есть это сюда, плюс. Да ну тебя! — Она всплакнула, но, скорее всего, это был покуда педагогический прием. — Я хочу, чтобы, когда я вернусь, ты была на месте. И биологически такая же, андестед?!
— А социально? — осведомилась дерзкая девушка.
— Ну да. — Уже не слушала ее мать, глядя на стену, где из деревянной рамки в стиле «вампир» (с зубастыми крокодилами, свившимися в розы, — работа мужа) глядел исподлобья покорно, нарочито покорно, а значит, нахально, себе на уме, сам Костя Иванов. большелицый, узкоплечий, в очках. Каждый глаз огромен из-за увеличительных стекол. — Дурак!.. — любовно воскликнула Люся н заплакала, теперь уже всерьез и надолго.
И Светлана всерьез начала успокаивать мать.
Все наши совместные беды — и их и моей семьи — произошли из-за ремонта квартир. Да, да. если бы имелась графа в соответствующем документе: <Причина развода" — можно было бы написать: ремонт квартиры. До защиты своей диссертации Костя, Константин Авксентьевич, очень способный, как все говорили, но какой-то несобранный биофизик, — занимавшийся сразу несколькими направлениями, совершенно запустил квартиру. В полу чернели трещины такой ширины, что в них затонул однажды железный — мой — рубль (прохудился карман). Стены осыпались, как снег в горах. Люся время от времени сама, как умела, подмазывала цементом да белым гипсом трескающиеся углы, мазала двери и подоконники эмалью. По все это делалось бессистемно, на бегу, почему и вся квартира стала напрочь рябой, как птичник. Люсе ведь тоже некогда, она сама ученая, да еще общественная деятельница в институте, на рукаве красная повязка каждый праздник… Но вот, став, наконец, перед Новым годом кандидатом наук (правда, недовольным — не по той теме защитился!..), Костя уступил требованиям жены и буркнул: "Буду делать настоящий ремонт! Один!" Люся мгновенно сдвинула немногочисленную мебель, покрыла газетами. Но он, конечно, тянул всю зиму, вечерами читал "Робинзона Крузо", тер очки, смотрел на туманный закат. К середине лета вроде решился. Мы с женой еще не были в разводе, Таня забрала сына и переехала к теще в Покровку, в деревянный район города за базаром. Мы договорились: пока идет ремонт, Ивановы поживут у нас (перейдут из подъезда в подъезд), а как только Костя закончит и они вернутся к себе, мы вместе с Костей отремонтируем и мою квартиру. Я тоже мог взять отпуск и сразу начать помогать ему, но он внушительно отказался.
Как раз в эти дни, неподалеку через рощу, сдавали новый девятиэтажный дом, там уже курили маляры, отделочники, и можно было у них достать известки и краски, не говоря о дефицитном латексе. Костя надел старую тельняшку (наследие походов университетских времен) и направился на северо-северо- запад (через дорогу). Люся разрешила для представительства купить водки, и высокого сутулого очкарика с тихим голосом, кандидата наук, там приняли как родного. Он, чтобы получше вникнуть в премудрости новой профессии, покурил вместе с ними (хоти раньше не курил). неделю поработал в новом доме, затем, вернувшись к себе, в три слоя выбелил вес комнаты. Он увлекся настолько, что покрасил полы на два раза яично-желтой потрясающей краской, а плинтуса по краям — оранжевой, а двери и переплеты окон покрыл немецкими белилами, да так толсто и гладко, что они казались сделанными из фарфора. А когда квартира обсохла, Костя вдруг почувствовал такую жажду к плотницкой работе, что отстругал и сколотил грандиозные, как первобытный самолет, стеллажи на две стены, хохоча и высунув язык, покрасил их лаком медового цвета, потом смастерил какие-то ящички на балкон (мечта Люси — для хранения банок с брусникой зимой) и в прихожую (для обуви). Люся была даже несколько напугана неожиданными талантами мужа. Никогда он прежде этим не занимался. Он мог сутками сидеть с детской улыбкой возле турбидистата, управляя размножением светящихся бактерий. Исписывать формулами удобные бумажные ленты, которые Люся приносила из ВЦ. Он умел играть на фортепиано, большой, щекастый, осторожно кладя крупные пальцы на клавиши. А тут — смотрите-ка — обжег для красоты паяльной лампой доски и смастерил полки на кухне! Обил цветной жестью лицевые стороны всех новоявленных ящичков, правда, сорвав при этом у себя два ногтя и обмотав на всякий случай изолентой все остальные пальцы. Нарисовал, выколол, наколотил всяких птичек и оленей…
Но вот беда — мои уже вернулись, а я к своему ремонту еще не приступал. Костя пообещал недельки через две помочь мне, попросил без него не начинать. и сам покуда занялся, сидючи на полу, плетением корзинок из ивовых прутьев, щепок, тонких реек. Сопел, потел, плел, раздвинув босые ноги. Изделия сверкали, как стеклянные. Костя их назавтра бесплатно раздавал в институте, вызывая бешеную зависть всех жен в Академгородке. Моя Таня молчала, как умеет молчать врач, но я видел — она страдает от мысли, что вот мой товарищ, оказывается, все умеет, а я сижу как дурак возле электрических печей, в которых растут кристаллы, да еще, будто ребенок, фотографирую порой лужи и ветки… Но обо мне, если хотите, позже. А пока закончим об Ивановых. Охладев к корзинкам, Костя попросился у жены нa работу за город — в сорока километрах строился экскаваторный завод, там требовались монтажники и сварщики. Костя заявил, что всю жизнь мечтал дышать озоном, рожденным электроразрядами, и, как знать, не из-за молний ли четыре миллиарда лет назад возникли первые живые клетки на земле… ему надо подумать… что там он заработает больше, чем в НИН (нет, к тому времени Костя еще не бросил институт — у него оставалась неиспользованной часть прошлогоднего отпуска)…
И вот началась новая глава в жизни Ивановых. И был свет, и бежал человек. В конце августа Люся получила от Кости первый перевод — четыреста рублей. Это были большие деньги. Ведь Костя, будучи пока что младшим научным coтрудником, зарабатывал в институте сто двадцать, Люся — немного больше. но она помогала сестре Вере, которая училась в Новосибирском университете, и, кроме того, каждый месяц посылала в деревню больной матери чай, конфеты, хорошее мыло… А тут — четыреста. Люся купила дочери дубленку, совсем еще новую, у Нелки Гофман, водь школу кончает девочка. Потом пришла на институт телеграмма: "ПРОШУ ДАТЬ ЗА СВОЙ СЧЕТ ДВА.МЕСЯЦА СВЯЗИ ПЕЧАЛЬЮ НА СЕРДЦЕ". Директор (мой руководитель) и замдиректора (руководитель Иванова) посовещались и дали месяц. Пусть подышит. Кандидатскую сделал. То, что он давно мог защититься, все знают. Разбрасывается товарищ. Теперь впереди докторская. Пусть наберется сил… И грянул перевод в пятьсот рублей. И еще в четыреста пятьдесят. Люся купила магнитофон "Джи- ви-си", добавив триста из тех, что думала отдать за ремонт чужим людям. И записалась на румынскую мебель… А тут появился сам Костя — как раз перед ноябрьскими праздниками, с первым снегом — загорелый. весь какой-то полуголый, в голубых драных джинсах, в черном мятом кожаном пиджачке, надетом поверх тельняшки, на ногах красные бутсы, как у футболиста. Кудри висят до плеч, выпрямился, глаза сверкают, огромные и без очков, как лупы из магазина. в руке курительная трубка. Сразу пробежал к директору — просить для поправки здоровья год за свой счет. Тому не с кем было посоветоваться — его заместитель, доктор биологических наук Утешев, руководитель Иванова, отдыхал в Гаграх. Оказывается, Иванов к тому времени уже завербовался куда-то на Север, захотел испытать себя на кинжальных ветрах Таймыра.
Люся до сих пор не понимает, как она разрешила ему уехать. Краснеет и стонет. "Целовал, даже ухо порвал… а раньше был скучный. Может, еще больше полюбит". Да и про мебель сказала. "Что?!" Костя выложил аванс, как хвост павлина — веером трешки и червонцы, — поехали и с маху взяли (конечно, в кредит) двух с половиной тысячный гарнитур! "Мы еще машину купим! Хочешь?!" И ошалевшая от денег, каких никогда не видела, Люся только потупилась. как девочка, познакомившаяся с принцем… Уехал, уехал, надев старую кроличью шапку, свитер, пальто, зимние ботинки. Он прислал мне как-то открытку: "Старик, в голове светло, как в морозном кочане! Может, лежит еще одна-единственная мыслишка, как озябшая куколка некоей бабочки… но даже если потеплеет и она вылетит, развернет свои золотые крылышки… куда ей лететь? Нет для нее тут пары! Если бы хоть ты — было бы с кем спорить… Но ни к чему! Зачем мыслить, если перестали быть прежде всего людьми, нормальными мужчинами-женщинами! Я шахтер, мне приятно руками работать в подземелье, в довольно опасной обстановке добывать руду… а она дорогая… воздух жгуч, нехорош… но я сильный! Когда выхожу, наверх, чувствую — я мужчина, хозяин недр, а не только жены, микроскопа… и теплого сортира! Ха-ха! Дождись меня, и замахорим тебе ремонт, и ты поймешь жизнь!"
Короче говоря, Иванов проработал там до Нового года, и вот, как сказала мне Люся, выяснилось— его там. на Севере, уже и нет! Как это она узнала?
На следующий день после разговора с дочерью Люся вылетела в Ялту. Но она сразу решила про себя — эта поездка будет лишь предлогом, чтобы исчезнуть из НИИ, из Белояр. Пожив две недели на курорте и старательно загорев на балконе — хоть и март выдался холодный, даже сыпал снег, — Люся вернулась в Сибирь и после двух суток пересадок и ожиданий в аэропортах оказалась за 69-й параллелью в городке, где жил и работал ее муж.
В кромешной тьме полярной ночи при редких фонарях она разыскала барак, соответствовавший адресу. Ни деревца тут не было. Посвистывала метель. Вокруг барака чернели жестяные гаражи. Видимо, шахтёры в самом деле народ богатый. Хоть и некуда тут по тундре на "Жигулях", но многие приобрели — пускай постоят машинешки, пока не пришел час отпуска или год возвращения домой с пачками денег по карманам…
Люся открыла дверь с наросшим льдом, тяжелую, как дверца сейфа, и оказалась в захламленном коридоре. Она прошла мимо детских колясок и велосипедов, мешков с капустой и картошкой и затаив дыхание, постучалась в дверь комнаты номер семь. Номер был написан мелом. Открыл человек с бородой, с голой волосатой грудью, на которой поблескивал крест, в ватных штанах и унтах.
— Иванов? — переспросил он. — Не знаю такого! Может, и жил раньше… я тут второй месяц. Извини, ка-ра-савица!
Люся побледнела и от непонятного страха бросилась стучаться к соседям. Выяснили — да, жил Иванов, конечно, жил, до самого Нового года, а потом уехал. Это сообщил стальнозубый детина в тельняшке из комнаты напротив (уж не Костина ли тельняшка на нем?).
— Куда?! — обмерла Люся. Может, эти страшные бородачи его и убили.
Но кто-то же высылает ей каждый месяц деньги?.. Будучи общественной деятельницей, она сообразила зайти на почту. Ей показали заявление Иванова, составленное на имя начальника почты, — пересылать переводы в Белояры, на имя его жены, Людмилы Васильевны Ивановой. Все правильно.
— А откуда… они сюда приходят? — спросила Люся. Она похолодела. Ей чудилась ужасная разгадка — наверное. Костя нашел себе другую женщину и придумал все это мероприятие с пересылкой, чтобы Люся не знала.
Девушки порылись в бумагах, сказали, что обратного адреса нет. Что откуда-то с Дальнего Востока. Или с Алтая. Ну, в общем, с материка.
Люся зарыдала. Она не понимала ничего.
— Вы когда обычно деньги получали? — спросили у нее.
— В двадцатых числах, — Люся, мотая головой, утирала слезы платочком и рукавами. Ее тут никто не знал, и она могла не сдерживаться.
— Сейчас как раз двадцать третье, так подождите! — предложили умные девушки. — И мы точно все узнаем.
Люся пожила два дня в общежитии "Севергаз", пока не пришел телеграфный перевод от Иванова К. А. Запросили телеграфом по номеру обратный адрес. Получили. Он мог быть, конечно, липой, но в сообщении значилось: БАМ, поселок Молодежный-7, улица Космическая, дом двенадцать "б".
Дважды переписав это на разные бумажки и затвердив, Люся забрала свои веши и приготовилась лететь на БАМ… но началась пурга, и несчастная женщина просидела до 30 марта в аэропорту. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Совершенно случайно разговорившись с одной семьей, также улетавшей на материк (в Киев), Люся напала на человека, который знал Иванова.
— Костя? Да? Костя Иванов! — кричала Люся. — Шахтер?
— Ну! Он самый! — соглашался курносый парень с белыми усами, которые ему явно не шли. — Костя? Ну, он. Заика? Такой остроумный. Как входил, так все лежали!
— Заика?! — поразилась Люся. — Да вы что! Он никогда не был заикой!
— Ну, тогда… — парень пожал плечами. — Наверное, однофамилец?
Люся вдруг вспомнила — она взяла с собой из какого-то безотчетного чувства фотографию Кости, порылась в сумочке и достала. С нарастающим страхом протянула.
Парень глянул и заржал. Куртка распахнулась, на груди блеснул значок "Мастер спорта СССР".
— Ну! Говорю вам! Остряк такой. Заика.
"Не понимаю… — подумала Люся. — Неужели он, бедненький, заикаться стал?.Может, напугали? Или болезнью переболел?"
— Может быть, вы путаете, — осторожно возразила Люся. — Он никогда не был заикой. И вообще, тихий такой, вежливый… немного даже зануда. Часами сидит, зажав вот так ладони меж коленями…
— Костя?! Знаете вы его! — усмехнулся парень. — Может, мало времени знали. А я — два месяца! И скажу тебе так — парень вырви глаз! Верно, Ленуха?
Ленуха, баюкая ребенка, закутанного в одеяльца и шали, кивнула.
— Так вы… — обратилась Люся к ней, — тоже… знали?
— Ну, — коротко ответила Ленуха. И, поймав взгляд проснувшегося ребенка, засюсюкала: — Хо- лосый… муссина!.. Моего Саньку дазе одолел на ковле!..
— Один раз! — Нахмурился белоусый муж.
— Одолел! Плавда, олёт, мателсинник!.. — Женщина засмеялась.
— Он?!
— Ну да.
— Не понимаю, — забормотала Люся. — Как же так? — Мысли, одна тревожнее другой, копошились в мозгу. Может, Костю убили… кто-то завладел его документами… а чтобы Люся не начала розыски, деньги ей пересылают… может, они уголовники, банки грабят… что им четыреста рублей в месяц?!
Но Ленуха, глянув на фотографию, еще раз кивнула, и лицо се зарумянилось.
— Раз пришел в клуб — умора! На руки встал, танцует… финка из кармана выпала — так он ее зубами! Как грузин!
— А вот было! — перебил ее муж. — Говорит мне: че легче входит в одно ухо и выходит из другого? Ну, говорю, слова всякие… слухи… А он: лом! — Парень затрясся от смеха. — Но не из болтунов! Работать умеет! На что я… Двигали технику — порвал мышцу, от кости отклеилась… а он ничего! Только от злости зуб золотой сплющил!
— Зуб золотой?.. Да у него никогда не было…
Люся все больше и больше не понимала, что происходит с ее мужем. Или это совершенно чужой человек под именем мужа (возможно, подобрали похожего), или эго все-таки… но он же совсем не такой! Слабый, задумчивый!..
Но вот, наконец, забубнило оживленно аэропортовское радио, и белоусый человек с женой улетели на запад. А Люся — в Белояры. Отпуск у нее уже закончился, более того, она опоздала на два дня, но ей. конечно, простили… Всем же известно, как весной нерегулярно ходят самолеты.
3
— Теперь ты знаешь все, — говорила Люся, рыдая в сумерках моей холостяцкой квартиры и прикладывая к глазам платочек с розочкой, надушенный французскими духами "Сикким". — Это я виновата! Я! Всегда пилила его — растяпа, квартиру запустил, не мужчина… а он мучился, и рванул, и увлекся! Денег все не хватало, дура!.. Этим меня и взял!.. — Люся вцепилась в мою руку. — Я думала, здоровье поправит… и продолжит докторскую. А он, видишь, вообще плюнул на научную работу! Как людям сказать?! Что мне с ним теперь делать?! Развода не просить пока… Но вы же. мужчины, можете и так жить? Ты-то с Таней развелся официально?
— Ну! — смущенно буркнул я ей в ответ. И зажег свет, и, меняя тему разговора, сам пошел в наступление — Люся, ну так че, ты хочешь, чтобы я полетел — искал его? А моя работа? Эксперименты? Видишь, я даже дома — над книгами! Может, не надо суетиться? Давай сделаем так — пошлем телеграмму. Мол, Костя, кончай игру, не дети… мы тебя нашли… возвращайся. А я с директором поговорю…
Директор института ко — мне относился очень хорошо.
— …поговорю — чтоб он ему дал место старшего научного сотрудника. И чтоб Утешев его не зажимал. Пусть за хоздоговорные работы премий подкинет. — Все знали, что знаменитый аппарат для ускоренного роста дрожжей по заказу хлебозавода сделал не он. а Костя. — Будет получать соответственно — не меньше двухсот пятидесяти. И не надо на БАМе рельсы таскать…
— Ты думаешь — он рельсы таскает? — спросила Люся и снова заплакала. — С него, дурака, станется. — Может, решил еще себя испытать? Так и надорваться можно! Все мышцы отклеются!
— Вот давай так и сделаем, — сказал я наливая ей холодного кофе. — Слышишь?
— Слышу. — Люся поднялась и, не глядя на меня, пошла к двери. — А если он не ответит… съездишь?
— Ну, — я замялся. — Тогда посмотрим. Я думаю, он ответит. Куда денется?! А может, уже домой едет. Деньги тебе высылает через Север, чтобы не беспокоилась, а сам едет к тебе. А че! На Севере-то он был дольше. А сейчас — на БАМе. Все-таки ближе. — Я развернул географическую карту страны, забытую моим сыном Мишкой. На ней были нарисованы красным карандашом волчки и бублики — места, где, по слухам, люди встречали летающие тарелки. — Видишь?
Но. глянув на карту, мы увидели, что поселок Молодежный за Тындой в два раза дальше, чем Дудинка и весь Таймыр. А кто знает, где Молодежный-7? Люся еще безысходнее зарыдала и ушла, а я принялся готовить себе ужин.
Я ел яичницу с поджаренным хлебом и смотрел по телевизору какую-то старую комедию с участием Андрея Миронова. И все думал: что же делается с моим другом? Что за изменения в человеке? Никогда он не был остряком. Хохму, которую Люся услышала от усатого парня в аэропорту, два года назад именно я рассказал Косте на каком-то празднике. И заикой он не был. Это я заика. Иногда заикаюсь. Это у меня с детства. Напугали Костю? Может, действительно переболел какой-нибудь болезнью? Непонятная, загадочная история.
И спал я в эту ночь плохо. Мне снилась Таня. Она в тысячный раз укоряла меня:
— Видишь, какой умница Костя Иванов! Корзинки плетет! И какие деньги Люська имеет с них! А хату спою отремонтировал?! А у тебя руки не тем концом пришиты!
— Да? — пытался острить я и расстегивал рубашку. обнажая веснушчатое белое плечо, заглядывая под мышки — в самом ли деле руки не так пришиты.
— Прекрати! — Начинала бледнеть и заводиться Таня. Над губой вдруг от волнения проступали усики, как у поэта Лермонтова. — Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду! Ты не мужчина! Ты просто научный работник! С окладом в сто пятьдесят рэ. В наше время!.. Это еще женщине!.. — Она не договаривала от волнения, но я понимал — она хочет сказать, что в наше время это не деньги, что это еще женщине было бы простительно — получать сто пятьдесят. — Пора бы уж!.. — Она имела в виду, что мне пора и кандидатскую защитить.
— Я сразу докторскую, — полушутя-полусерьезно пытался оправдаться я перед женой, но она морщилась, будто видела перед собой комара, размахивающего топором.
— Господи! — Она укоризненно разглядывала меня, как Люся. Она вообще многое от нее переняла в последнее время — и в том числе это ироническое разглядывание с ног до головы. И даже далее развила этот прием — принималась смотреть на какое- нибудь место в одежде: на пиджаке или брюках, и я цепенел, соображая, что у меня что-то не в порядке: перемазано кашей или незастегнуто. — Ну, хорошо. Почему ты не можешь иметь хобби?
— У меня есть хобби, я фотографирую.
— Если бы мы жили сто лет назад! Или хотя бы двадцать! — вскидывала она руку, как оратор, и я понимал — вот тогда бы я еще мог зарабатывать фотографией. — Ну почему ты не хочешь как латышские поэты?!
О, эти латышские, поэты! Она меня допекла с этими латышскими поэтами! У нее в больнице была подруга, медсестра Велта из Риги, так у этой Велты имелась дальняя родственница, тоже Велта. писала стихи, и муж у нес был тоже поэт, Янис, так вот эти люди сидели дома и мастерили из серебра и янтаря перстни, шлифовали камень, гнули металл, точили, паяли… и сдавали в Худфонд, где им платили устойчивую зарплату, как народным умельцам, по триста рублей в месяц. А стихи они писали только такие, какие им хотелось, и ровно столько, сколько им хотелось.
— Я не умею! — злился я. — И вообще… — Я хотел сказать, что мне неловко за деньги что-то делать. Зарплата — это зарплата, а специально ради денег."
— И уметь не надо! Вы же нам алюминий-два о-три, если он не так спекся, разбиваете! А это рубин! Ты же сам говорил — не хуже магазинных. А сделать — пара пустяков, взял порошки — и в печь! Ты же сам хвастался — ничего не стоит вырастить драгоценный камень с палец величиной!
— Ну, — тускнел я, опуская голову.
— Что ну? Вот и давай! Из этого "пальца" можно потом десять перстней! Зачем же свой труд крошить под прессом?! Ты столько получил этих кристаллов — красных. вишневых, синих, прозрачных, как моя слеза! Давай! Каждый купят за тысячу! Ну, за сотню — разве не купят?.. — Таня вдруг всхлипывала и начинала реветь, как дитя, перекосив рот. — Какая я несчастная! Думаешь — жадина? А ты видишь— Мишке надо джинсы? А они двести стоят. А тебе пальто. Ты видишь — у тебя нет пальто? Ты видишь? Разве сто двадцать плюс сто пятьдесят — это деньги в наше время для семьн в три человека '* А еще надо маме твоей помогать! И моей не мешало бы! Ты мою-то любишь?.. А о себе я не говорю — я и так прохожу в жизни, в белом халате!
Она у меня врач и редко снимала белый халат. Даже дома ходила в белом халате — правда, в домашнем, от которого не пахло лекарствами. Если Таня замечала на полу таракана или на столе каплю варенья, она доставала нз ящика комок ваты, убирала грязь, затем тщательно это место протирала спиртом. Ее мучили запахи. Если носки мои были двухдневной давности, она принималась укоризненно смотреть на мои ноги. И я брел в ванную стирать их, хотя, честное слово, они были еще чистые, хранили залах хвойного мыла. Я уж не говорю про носовые платки. И про кашне. У Нее все время в доме что-то кипело, погруженное в бак с персолью, что-то сохло на балконе…
— Это было бы преступлением, — начинал я поднимать голос, — перед наукой. Если все ученые так будут…
— Все так не будут! — обрывала она. — Потому что все так уже делают! У кого доски — торгует досками. У кого грибы — тот грибами. Я же говорю — продавай свой труд. Я же не говорю — воруй. Я же не торгую лекарствами — они не мои. И не беру взятки за лечение — это моя работа. А у тебя твои кристаллы после экспериментов валяются по подоконникам… Кстати, в "Литгазете" читал: это сейчас поощряется! Ну?!
При чем тут "Литгазета"?! Что-то стали в последнее время все читать "Литгазету"! Почему не "Строительную", не "Социалистическую индустрию"? Не "Гудок"? Не физические журналы; наконец? Как будто все писателями стали. В интеллигенцию подались. Я слушал Таню и отрицательно качал головой, пламенея лицом от стыда и тоски перед богом, которого все же, кажется, нет, несмотря на последние соображения заграничных биофизиков, лауреатов Нобелевской премии… Я прибегал к последнему средству — я как бы выключал уши, не переставая смотреть на Таню. Но Таня, чуткая женщина — все-таки врач! — уловив это, тут же переставала мне что-либо говорить. Хлопала дверью и уходила к Люсе, в соседний подъезд. В ту пору мы ещe жили в одном доме. Это позже… когда Костя уехал на Север… и Таня поняла, что ремонта не будет и толку от меня не будет, подала на развод. Насколько я понимаю сейчас — она думала припугнуть меня. А я взял да согласился. У меня настроение было ужасное. Ведь на всю эту игру удивленно смотрит eще один человек — наш сын Мишка. Когда мы пришли в суд, то на вопрос: "Какие причины заставляют вас разводиться?.." — я ответил: "У нас разные взгляды на то как нужно строить светлое будущее в нашей стране".
Люся как общественный и профсоюзный деятель даже вздрогнула. А моя Таня, будучи медиком, видимо. решила, что я окончательно рехнулся. И развод утвердили. А между прочим, это ведь правда — то, что я сказал.
И был свет небесный, и проходила жизнь. Кстати. Люся с Таней особенно подружились за последние два года. Когда Костя после ремонта убежал за город строить свой экскаваторный, именно моя Таня дала Люсе медицинскую справку, что Иванов К. А. срочно нуждается в физиотерапии. А потом сочинила еще одну, когда директор оформлял Косте отпуск за свой счет на целый год. Он бы и так оформил, но Люся и Таня уважали законы…
Но я, кажется, забыл сказать вам. что перед самым Новым годом Иванов прислал на имя директора НИИ заявление: "От младшего научного сотрудника Иванова К. А. Прошу уволить меня по собственному желанию. Иванов К. А.".
Секретарша директора Алла выкрала это письмо и принесла на минуту Люсе, которая тут же сняла с него по привычке ксерокопию, вернула письмо и просидела, лия слезы, целый день над копией, не зная, уговорить ли секретаршу совсем выкрасть и уничтожить заявление или уж пускай. Директор прочел и зашел посоветоваться к своему заму, биологу Утешеву, научному руководителю Иванова. Тот, по слухам, страшно осердился, закричал, что в СССР переизбыток гениев, а работать некому. И Костя был уволен.
Но Люся, верная жена, узнав об этой новости, прибежала в кабинет директора и так страшно зарыдала. что директор, низенький лысый человек со сплошь золотыми зубами во рту, перепугался, поил ее валерьянкой и пообещал, что если Иванов вернется (а он, конечно, вернется! Он испытывает, насколько его в институте любят!), он, директор, возьмет его на прежнее место. Если же Утешев не захочет принять назад, директор заберет Иванова на любое свободное место в любой лаборатории, тем более что Иванов интересовался решительно всем, что могло пролить свет на происхождение жизни на Земле, на происхождение так называемого биогеохимического круговорота… Разве что только магнитными полями он не занимался, ядерным резонансом, и то, кто знает, до поры…
Люся послала на Таймыр отчаянную телеграмму: "ВСТРЕЧАЙ…", хотела немедленно лететь туда, поговорить, но пришло письмо — наверное. Костя предвидел подобные страсти. На листочке в клеточку он писал игривым почерком, почти не похожим на прежний — с завитушками, как у Пушкина:
Люся, Люся, я боюся,
Что мене ты не поймешь.
Я сегодня не стригуся,
У мене в кармане нож.
Я сегодня колупаю
Даргоценную руду.
И деньжонки загребаю,
И во сне к тебе гребу…
Дальше шло и вовсе что-то непотребное — видно, сочинял под хмелем, дуболом, поэт доморощенный’ Люся даже не плакала, а сидела, закаменев лицом, у себя в вычислительном центре, среди стрекочущих ЭВМ и думала, что надо бы лететь на Север — и сию минуту… но по низу письма шла приписка карандашом. более узнаваемым почерком:
"Не вздумай приезжать. Люська, не надо! Тут жутко холодно для женщин. Веду себя хорошо. А вернусь — может, вступлю в ряды. Целую. Коста- Рика".
Последняя мысль как-то успокоила Люсю. Она не поехала к мужу. Но, как теперь нам уже известно, буквально через несколько дней, а может, в тот день, когда он писал это письмо, Костя вылетел на Дальний Восток. Почему? Что его погнало туда? Может, и заявление директору он написал, поняв, что не вернется в институт? Может, правда, он попал в компанию каких-нибудь нехороших людей? И вынужден для них делать что-то неправедное? Например, он прекрасно рисует — его могли заставить рисовать деньги. Он отличный технарь — могли заставить соорудить станок для производства дефицитных частей к "Жигулям"…
Люся ушла домой, а я все не мог уснуть. Стоило забыться — снились ужасные фантастические сны. Я поднялся ни свет ни заря, постоял под ледяным душем и понесся в институт говорить с директором. Хоть было еще без пяти девять, возле двери начальства высилась Люся, намазанная, как Арлекин, н укоризненно смотрела на меня. Я смущенно кивнул ей и проскользнул к шефу.
4
— A-а!.. Печальный товарищ веселого товарища?.. — встретил меня Иван Игнатьевич Кресстов.
Это был, как я уже сказал, низенький человек с круглой лысой головой, со сплошь золотыми зубами, как у знатного узбека. Он любил смешить, любил смеяться и все, что относилось к Иванову, был склонен в последнее время воспринимать как затянувшийся, но забавный розыгрыш. Он был убежден, что Костя дурачит всех, что он где-то рядом, возможно, в Новосибирске или Иркутске, работает в таком же научном институте — просто ему там предложили место старшего научного сотрудника.
— Я и говорю! — обрадовался я понятливости директора. Давайте дадим ему место старшего, и он вернется. В самом деле, сто двадцать — мало.
— Тебе? Или ему? — засмеялся шеф.
— Мне много, — сказал я, — я живу один.
— А алименты?
— Все равно много. У меня сын, — махнул я рукой. — А у него дочь. Дочь требует дорогой одежды. Парню еще можно панковать — ходить в чаплинских лохмотьях.
— Да?..~ Директор вдруг загрустил. За толстыми губами спрятались золотые зубы. У него было три дочери, сын так и не родился, хотя. жена его, бухгалтер в горисполкоме, обошла всех врачей и даже тайком посетила знахарку Розу Рафаиловну, возле вокзала. — Давайте сочинять… письмо туристскому султану! — Он всю жизнь острил, даже когда ему было печально.
Директор нажал кнопку, и вошла та самая секретарша, Аллочка, худая высоченная девушка в рыжем свитере и короткой замшевой юбочке.
— Я вас слушаю, Иван Игнатьевич, — нежно, как семиклассница, пропела она. Ресницы, намазанные черной тушью, тяжело нависли над глазами, едва ли открывая зрачки. Но она уже приготовилась работать— достала из-за спины руку с блокнотом.
— Итак, мы готовы, — высокопарно начал директор. Пишем! В то время как вся страна, напрягая силы… Это. конечно, не надо! — он засмеялся. Но Алла, уже зная, какие фразы он говорит в шутку, а какие всерьез, и не думала записывать. Директор деланно нахмурился и начал: — Уважаемый беглец Константин Авксентьевич! Нам кажется, что вам пора бы уж и вернуться. Говоря по секрету, ваше место пока что не занято. Более того, совершенно случайно освободилось место старшего научного сотрудника. Гм… — Он задумался и повернулся ко мне. — Чем объяснить? Он же не дурак. Если кто-то умер — из суеверия не поедет. А если я выхлопотал новое место — скажет, под давлением Людмилы Васильевны. Аллочка, что скажете?
— Давайте так. — Алла открыла блестящие, зеркального отсвета глаза. — Произошло перемещение. Например, ваш зам — не Утешев, конечно!.. — перелетел в Новосибирск, кто-то на его место, а кто-то… вот и освободилось место.
— Да! — Закивал круглой головой шеф, — Да! Именно, Наденька! То есть Аллочка! Это раньше у меня была Наденька. — Он снова залился смехом, довольный всякой шутке. — Именно! Так и пишите!
Пока Алла писала, директор, подмигивая мне, показывал ка ее длинные стройные ноги, туфельки на тонких высоких каблуках. За дверью кто-то дышал — наверное, Люся.
— Внизу: ждем! Моя подпись. Спасибо. — Ом закрыл за секретаршей дверь и ухмыльнулся: — Хорошая девушка! Жениться по новой не думаешь?
Я трагически покачал головой и уже хотел уйти, но шеф преградил дорогу. Что-то на него смешинчик напал.
— Слушайте, Виктор Михайлович! Насколько мне известно, вы не ведете ночного паразитирующего образа жизни… поэтому я подозреваю, что вы храните верность вашей Тане. Постойте, постойте! Я знаю наверняка, вы и раньше не изменяла ей. Есть у меня, есть агентурные данные! — Он зажурчал смехом, как водопровод, обнял меня и потерся гладенько выбритой горячей щекой о мое ухо. — Ну так что? Из-за чего разошлись-то. а?!
— Из-за ремонта, — мрачно выложил я истинную правду.
— Как! — он обомлел.
— Так.
— Позвольте! Позвольте! Но, насколько мне известно, вы ремонт провели до того! А уж потом разъехались, разменялись! Я же знаю, в вашей квартире Семенов живет, я был у него — все покрашено! Ваша работа?
— Моя, — согласился я с тайной гордостью. — Но это я уже сделал, когда она решила уходить от меня. Говорят, нельзя размениваться, пока не произведен ремонт. Я и сделал.
…Когда я начал ремонт, Таня снова уехала с сыном к теще в Покровку. Как-то явилась вечером посмотреть и удивленно сказала:
— Видно, ты вправду рад разойтись… так стараешься…
А я не старался. Просто на меня нашло оцепенение, я вяло и методично белил, красил — и получалось хорошо. А она уже плакала в прихожей, стоя на расстеленной газете:
— Ты вот так ни разу… за все восемнадцать лет нашей жизни не работал. Ты вот так никогда!..
— Ну, что же мне теперь — поломать тут все?! — выходил я из себя, швыряя кисти на пол.
— Нет уж… чего уж теперь… — вздыхала Таня и уходила. Я слышал, как цокают ее каблуки по бетонной лестнице подъезда. Я все надеялся — это какая-то дурь, игра, и все образуется. Но Таня оказалась упрямой. Может быть, поначалу решила только помучить меня, а за это время другой в ее жизни появился… мало ли как бывает… шла вечером по этой бандитской Покровке, за заплотами собаки рычат… фонари поколоты… подошел, дескать, не хотите — я вас провожу… из мстительности согласилась, а потом видит: и парень порасторопней, и носки каждый день стирает… Не знаю, до сих пор не понимаю, как это получилось, что мы развелись.
Директор покивал, похмыкал и предложил:
— Хочешь, и тебе верну ее? Их главный врач — мой кореш… вместе в преферанс играем…
— Как? В приказном порядке? Ха, ха.
— А тебе дам место… старшего научного сотрудника!
— А где вы возьмете?
— Найду.
— Нет, уж вы сделайте Косте. А я — ладно.
Директор мог бы поступить иначе — поторопить меня с диссертацией, и я бы, став кандидатом, автоматически в нашей лаборатории стал старшим научным сотрудником. Но так уж у нас повелось— ему, некогда заниматься мелочовкой вроде моей кандидатской, а работа у нас действительно срочная, мы второй год не могли получить кристалл чернита — так назвал наш будущий перл директор. У нас была всего одна малоудачная попытка — мы вырастили чернит размером с пол ногтя, и то странным образом разрушившийся образец, лишь с одной гранью. Мы выбрали сложный состав — фтор, марганец, свинец… цветом он был необычайной красоты, черный, прозрачный, как глаза моей Тани или даже цыганки. Мы меняли добавки, режим температуры, но кристалл почему-то не желал расти. Если бы мы получили чернит хотя бы в палец, мы бы… Москва бы- ахнула. Он нужен был для одного очень важного прибора. По этой причине я и не отвлекался на свою кандидатскую диссертацию вот уже столько лет.
— Ладно, Иван Игнатьевич, — отмахнулся я. — Терпел десять лет, еще потерплю.
— Таня может не дождаться. Сын уже нынче в институт поступит? Может замуж выйти. Украинки — они горячие.
— Ну и пускай! — обиделся я. Все-таки верил, что она меня любит. Назвал же я свой первый кристалл типа сапфира, синевы необычайной, в честь ее имени — танитом. Увезла с собой. Хранит, наверно. Если не продала ювелирам за огромные деньги. — Черт с ней!..
Я вышел, оставив директора в совершенно меланхоличном настроении. Вдруг на меня, будто вихрь: шелестя шелковой юбкой и синтетической курткой, Люся обняла меня.
— Я все слышала! Ты не предал Костю! Не польстился на его место! Я тебе клянусь, я!., я тебе верну Таньку! Только верни мне Костю..
5
Прошло две недели, письмо давно улетело на БАМ, Люся следом послала слезную телеграмму — Костя не отвечал. И вдруг я получил письмо, почему-то со штампом томского почтамта. Он в Томске?! Скорее всего, кто-то из новых знакомых летел в эти края, и Костя попросил бросить конверт в ящик — все быстрее, чем из поселка Молодежный… Я вскрыл и прочел: "Витя! Не надо меня дергать! Скажи ты им, в институте! Деньги для меня — тьфу! Вы живете как во сне со своими никому не нужными открытиями! А я просыпаюсь каждый час, прищемив себе руку железякой, или когда глаза трещат от света! И все больше, и все больше просыпаюсь! Ноу андестед?! Да здравствует огонь, топор, лом. деньги, бабы, сила, свобода, рыба в воде, соль… Прощай! И не пишите сюда — я отсюда уезжаю!.." На обратной стороне листочка карандашом было бегло набросано— я разобрал не с первого раза: "Говорят, в Тибете живут однокрылые птицы — летают попарно. У нас, слава богу, в стране все птицы двухкрылые, к прекрасно можно существовать одному. Паскаль: "Животные не восхищаются друг другом". (Интересно. почему он записал эту цитату? Ему так тяжело?..) Белинский: "Много людей живет не живя, а только собираясь жить". (О ком? Обо мне?..) Бальзак: "Никто не станет разыскивать скрытые добродетели. (А это к чему?!)
Трагедия, трагедия разыгралась в его душе, а я ничего не могу понять. Предлагали же ему кефир, штаммы которого он вывел с Утешевым, назвать "Ивановский" — отказался. Значит, дело не в неутоленном честолюбии? В чем? Я набрал номер домашнего телефона Люси — ответила дочь Света:
— Мама на ВЦ. Ламца-дрица-цэ-цэ…
Ах, да, да, гонимая совестью, мол, много времени убила лично на себя, Люся теперь считала даже вечерами на ЭВМ.
Хоть я и молчал, Света угадала:
— Это вы. дядь Вить?
— Да. Как твоя жизнь, Светлана?
— Моя? Разве у меня есть жизнь? Ах, конечно, если как способ существования белковых тел… — Навострилась девочка говорить, да на душе, видно, тревога. — Все реакции идут. Глаза сияют. Но это от слез, дядь Вить. А сколько света излучает одна человеческая слеза? Дядь Вить, вы все знаете.
— Я думаю… одну сотую люмена, — ответил я серьезно. С детьми надо говорить серьезно. И добавил. перед тем как положить трубку: — Надо быть оптимистом…
Встретив Люсю наутро в институте, я показал письмо.
— А мне не пишет! — воскликнула она. — Ну ясно! У него завелась…
— Изжога? — попытался я сострить, как всегда в таких случаях, чтобы обратить ее гнев на себя. — Мне п-показалось, б-буквы прыгают…
Она укоризненно воззрилась на меня.
— Когда так пишут, — тихо сказал я, — в ряд: сапоги, баба… грош им цена. Он просто набирает силы. Я о другом. Я думаю, куда бы он мог теперь рвануть?
Мы задумались. И Люся высказала неожиданную мысль, все-таки она умная женщина:
— А я думаю, Вить, темнит он! Если на Севере текучка кадров страшная, то на ударной-то комсомольской стройке… я думаю, на месте он. Сауны там… дискотека… Во всяком случае, еще можно застать! — И она побежала давать ему очередную телеграмму, рублей на пять, полную отчаяния и слез.
Прошло несколько дней — Костя не отвечал. Только вне очереди с Севера прилетел еще один перевод — на двести рублен.
Вечером Люся пришла ко мне. мокрая из-под дождя, который сонно и тепло сеял на лес, на Академгородок, — пришла, смяв в кулаке извещение о переводе.
— Зачем?! — Плакала она и шумела плащом. — Он что, издевается?! Я никогда не требовала от него денег!
В эту секунду я ненавидел женщин. Сидел в сумерках и ненавидел.
— Ну уж, — довольно недобро напомнил я. — А когда он свои корзинки раздавал — ты сказала: пусть платят?!
— Я сказала — хотя бы условную цену! Ведь он прожигал свои вечера! Люди предлагали — а он не брал. Чистюля!.. — Она опустила голову — видимо, чувствовала свою вину. — Потом стал брать. На коньяк. — Она тревожно посмотрела на меня. — Он никогда не пил водку! А сейчас, наверное, пьет?.. — Она хотела включить свет, но не нашла, где выключатель.
— А ты?! Сидишь тут, а в ванной небось женщины? — Люся побежала, включила свет в ванной и туалете. но никого, вестимо, не нашла. — Ты что в темноте делаешь, а?!
— Слайды проявлял, — ответил я, — Снимки кристаллов.
— Кристаллов? — Не верила ничему Люся и, протянув руку, нажала на кнопку аппарата. И на стене возникла белокурая, с ослепительными белыми зубами незнакомая ей и мне женщина. Она была в розовом плаще, с коротким японским зонтиком, босая — туфли держала в другой руке, — Твоя новая зазноба? Как зовут?
— Не знаю, — ответил я вполне искренне.
— Даже?! — хмыкнула Люся. И переключила кадр. На стене возникла чернявая девушка, похожая на Таню, только моложе, с милой, слегка сонной улыбкой, — И эту не знаешь?
— И эту не знаю, — ответил я и. выключив проектор, зажег верхний свет. — Это хобби, — пояснил я. — Таня мечтала, чтобы у меня было хобби. Что ты от меня хочешь?
— Что я от тебя хочу?! Неужели не понимаешь?! Надо лететь!
— Куда?.. — забормотал я, пытаясь оттянуть время. Этого я никак не ожидал. — Ты же знаешь, там его может не быть…
Но она вдруг закричала на весь дом:
— Витя! Ты друг ему или нет?! "Быть"… "не быть"… Найдешь! Гебе не кажется, с ним происходит беда?!
Наверное, я пребывал в каком-то постыдном помрачении духа. Я стал говорить вдруг невероятные, позорные слова:
— А почему бы тебе самой туда не поехать?.. Тебе шеф даст неделю, ты же жена, а я кто?.. — Я. конечно, понимал, что поеду, да и она, наверное, понимала, что поеду, да просто так, на всякий случай, цепляюсь за соломинку. — Нет, и мне шеф даст пару дней… но почему тебе самой не съездить к нему?
— Я боюсь, — неожиданно ответила Люся. — Эго совсем другая область… там все другое…
— И климат, и парторганизация?..
— А что? — Очень серьезно, отшатнувшись, как начальник АХЧ Поперека. она посмотрела на меня. — В самом деле, я никого там не знаю. Все-таки женщина… позволь мне бояться ехать без всякой командировки. без путевки…
"Черт!.. — затосковал я опять, — Странные люди эти бабы! Не понимаю! На Север не побоялась, а на комсомольскую стройку…"
— Ну, приеду я, — бормотал я. опустив глаза. — Ну, увижу… ну, жив-здоров… все передам… а он откажется? Что тогда? Что делать? Я же не ты. А ты глянешь на него — и он поедет.
Как ни странно, эта мысль произвела впечатление на Люсю. Она задумалась. Я уже возликовал, что она решила добираться к мужу сама.
— Хорошо, — согласилась она. — Я с тобой.
— Вместе?! — удивился я. Вот уж нет ничего более нелепого, чем ехать куда-нибудь с чужой женщиной. Черт знает где придется ночевать. И вообще.
— Вот деньги, — протянула она мне сотенную бумажку. — Берн, бери! На себя и на меня. Дорогу, конечно, оплачу я.
— Ну уж. — покраснел я. — Что я, не могу навестить друга?!
6
По Сибири шла весна. С юга летели гуси. В лесах сверкали озера воды. Поезд колотил колесами по чугунной земле и несся на восток, огибая горы, а иногда проскакивая сквозь них. Люся взяла с собой изучать какой-то красный томик, посвященный, кажется. Латинской Америке, а я, приготовив фотоаппарат, смотрел в окно. Когда появлялся красивый вид. я опускал стекло и чихая от пыли, щелкал. Соседи по купе, подполковник с женой, сумрачно ждали, пока я снова закрою окно. Но постепенно мы разговорились и подобрели друг к другу.
— Не подумайте, что я болею шпиономанией, — сказал подполковник, — но так уж мы воспитаны с детства… человек с фотоаппаратом даже сейчас в самолете, в поезде — это… Но я смотрю — не мосты снимаете, ни заводы, а птиц и деревья… наш человек! — И то ли смеясь, то ли серьезно он протянул мне руку. И, пожав, продолжал: — Как человек, не лишенный знания жизни, я сразу понял — вы не муж и жена.
— А мы и не выдавали себя… мы товарищи…
— Товарищи? Значит, едете по телеграмме, где-то беда?
— Почему? — пожал я плечами. — Мы едем в гости к… — я замялся, — к ее мужу. — Я еще больше все запутал.
Люся мгновенно выдала такую версию.
— Муж в командировке, мы решили его навестить.
— А он что, в колонии? Почему он не навестит вас, двоих, а вы к нему?! Или он в армии? На "точке"?
— Вы попали в точку! — сострил я, и, как ни странно, подполковник отстал. Армия есть армия, у нее всякие секреты.
— Скажите только одно — какое у него звание? — спросил он, — И род войск. Я тут всех знаю.
Люся, не понимая, с кем имеет дело, похвасталась:
— Кандидат наук.
— Да-а?! — удивился и еще больше поверил нам подполковник. — Значит, он командир дивизиона или как минимум… — Военный человек задумался.
На ближней станции, к сожалению, подполковник с женою сошли. И я. глядя в окно на него, широкоплечего пузача, и на его миниатюрную грудастую жену, подумал: "Добрые, хорошие люди. Кажется, век их знал, да ведь забуду через месяц-два. А между тем жена его напоминает мою Таню".
Люся думала о своем.
— Ты че загрустил? Это дорога. Попутчики? Да их еще будет тьма, на всех сердца не хватит. Л то еще как бывает — ты душу откроешь, а они тебе туда какую-нибудь гадость подкинут. Или мошенники попадутся. Я была у мамы Костиной. Кира Николаевна рассказывала — одних грабили… из-за двери детям прокрутили на магнитофоне голос мамы… дети открыли — как в сказке о козлятах и волке… и всю квартиру… Нет уж, нет уж, мне лично хватает моих собственных забот, забот моих друзей, — Она кивнула мне. — Твоих, например. Дать холосас? Ты что-то желтый…
Но я не стал пить лекарство. Со мной творилось странное — пока мы ехали, я все с большей жаждой всматривался в людей, которые садились в наше купе или ехали в соседних. Конечно, я к ним не приставал — только смотрел. В Иркутске появилась парочка — Явно влюбленные, парнишка с длинными волосами, в латаных новых джинсах, и девушка, тоже в джинсах и в свитере, мохнатом, как собака из-под дождя. Они полезли на верхние полки. Ночью парень нависая над нами с Люсей, что-то шептал своей подруге, кажется, читал стихи. А она молчала, будто спала. Вагон подбрасывало, мотало из стороны в сторону, мимо, под ясным месяцем, в просторах весенней ночи, летел, сверкая, Байкал, как сон о производстве стали. А паренек изнемогал от невозможности обнять, быть с любимой, а может, она еще и не решила, будет ли с ним. Но ехали они. судя по всему, не случайно вместе, и тоже куда-то на трассу, и всю ночь я только и слышал над собой:
— …готов войти в цветок огня… прощайте, гордая моя… не называй меня противным… уйду в пике на реактивном… и так далее.
И я подумал: черт возьми!., пока мы учились в университете, мы еще как-то находили время выбраться в тайгу, напялив тельняшки, вдыхали там сладкий дым нарубленной хвои, орали тысячеголосым хором песни о ледниках Домбая или про чемоданчик, который лежал на полочке… А потом начались годы корпения над кристаллами или микробами, если говорить о Косте, ну, изредка, в роще, неподалеку от дома, разжигали костерок, грели над ним руки, в лучшем случае — колбасу на прутике… Состарились? А ведь мне нет еще сорока! Почему я никуда не еду? Почему не хриплю среди бешеной ночи стихи? И Таня не плачет от счастья, слушая мои признания? Почему эта серая будничная жизнь? Предопределенность? Да. да, да… Но я люблю спои кристаллы! Я брежу ими. Я мечтаю соединить несоединимые элементы! Как-нибудь в обычный серый день подойти к печи Бриджмена достать заветную кварцевую капсулу, осторожно отколотить кончик и выкатить в чистую стерильную белую чашу такой кристалл, какого мир не видел! Цветом в синие гвоздики сирени или оранжевые: лон таежного мела, если уж я лишен возможности каждый день видеть сирень и мед. Ведь это не баловство, а долгая, нудная работа — растить кристаллы. Иван Игнатьевич правильно шутит: кристаллофизики, мы, как женщины, всегда беременны и лишь про ясные глазки своих будущих детей думаем! Значит, только при печах, только между эксикатором. где пол стеклянным колпаком хранятся полученные драгоценности, и ПИТом, прецезионным интегральным терморегулятором, — практически только сиднем, как та же беременная женщина. Значит, приходится чем-то поступиться. Движением, чистым воздухом. У нас ведь и порошки не безвредные, мы получаем в основном голоидные перокситы, но все эти элементы вроде хлора, фтора, свинца — отнюдь не сахар… нам даже выдают молоко, наш воздух считается самым вредным и институте, но зато как потом все хлопают в ладоши: ах. чудо вы вырастили! Но не в один же час. Вот и толстеешь… пухнешь…
Мне вдруг остро, как никогда, захотелось увидеть Костю. Счастливый человек! Сорвался — и сам черт ему не брат. И об институте забыл, и о начальстве… Семье помогает, совесть спокойна. И живет по своим, мне неведомым законам.
По купе пролетели веером тени от станционных огней. И снова наступил мрак. И снопа наплывала тоска по уходящей жизни, которой мы все как-то не так распорядились… Я ведь мог бы, например, когда часами дежурю и лаборатории, выучить пять иностранных языков… Герцен говорил: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. А я — лай бог один раз. Я начинал ненавидеть своего бывшего друга, к которому ехал, — Костю Иванова.
Почему эти два взрослых человека, бросив свои дела, должны ехать за тысячи километров, чтобы только уговорить сумасброда не выламываться и вернуться домой? Почему я должен оставлять свои кристаллы, а вдруг там скачок тока или, не приведи господи, лаборант Вова проворонит режим? И три месяца псу под хвост— кристалл чернит, например, неотвратимо растрескается… Почему жена Кости, Люся, должна, оставив свои общественные дела, под сочувственные усмешки академгородских баб (а вель новость каким-то образом стала сразу известной в нашей академдеревне!) ехать на край света, не зная, что ее ждет — даже не откликнется, бандит! А вдруг он женился? И мы попадем в нелепое положение? А вдруг он просто дурачит нас и на самом деле сейчас уже дома, в Белоярах?.. Но за такие розыгрыши морду бьют. И не просто, а ботинком…
Люся, судя по всему, не спала. Стерегла меня.
7
Долго мы ползли в рабочем поезде до поселка Молодежный-7. И вот, наконец, среди ослепительной зимы — здесь еще висел снег на елях, как в берендеевом царстве — соскочили на свежую, пахнущую мазутом насыпь и увидели среди длинных деревянных строений домик с красным флагом. Люся, хорошо зная структуру нашего общества, сразу потащила меня туда. Это оказался поссовет.
За столом хмуро сидел, накинув на плечи полушубок. молодой парень в роскошном велюровом костюме, в голубой рубашке, синем галстуке. Он стучал по рычажкам телефона.
— Але?.. — Телефон не откликался. — Але?.. Вам что? Для семейных квартир нет.
— Мы не семенные, — сказала Люся.
— Женских мест нет. Его устроим. Але? Але?.. Порывы на линии? "Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы. — Он бросил трубку и мутно глянул на нас. — Всё? Люди СПМ через три дома.
— Вы нас не поняли, стала объяснять очень мягко Люся, включив улыбку. — Мы… но общественному делу. Нам нужно найти одного человека… он где-то здесь работает… Константин Иванов, не знаете?
— Что?! — Аж приподнялся на стуле председатель поссовета. — А вы его знаете?!
— Это… мой муж. — тихо ответила Люся, чувствуя неладное. — С ним что-то случилось?..
— С ним-то ничего! — сквозь зубы сказал председатель и встал. — Гляньте! — Он кивнул в окно. — Туда!
Мы подошли. Дома как дома, желтые, новенькие. Над крышами пар от солнца. Синицы и воробьи трезвонит на проводах. Правда, левее, к лесу, нечто вроде пустыря — то ли там гора чернеет, то ли какие-то обгорелые бревна валяются…
— Был барак — и нет барака! Ваш муж поджег. Судить будем.
Люся побледнела и пошатнулась. Я подхватил ее под руку и усадил.
— В-вы что?.. — зло прошептал я председателю, заикаясь, как у меня всегда бывает в минуты волнения, — Не можете поосторожней?
Он и сам перепугался.
— Что, что с ней? Правда жена?..
— Ничего. — сказала медленно Люся, проводя рукой по столу, — Где он? В следственном изоляторе?
— Да если бы! Катается как сыр в масле! — Видно, накипело на сердце у парня, никак он не мог подбирать слова. — Извините.
— Может, это — однофамилец? — предположил я.
Я стал объяснять, гримасничая, из-за спины Люси,
что наш-то Иванов — научный работник, Константин Авксентьевич Иванов, кандидат наук, он тут, должно быть, недавно, приехал с Севера…
— А я о чем говорю?! — угрюмо отвечал председатель. — Он.
Я показал ему удостоверение Академии наук — корочку с золотыми буквами, — он яростно закивал головой, мол, и у того видел такое же. Люся решилась и. протянула ему фотокарточку Кости.
Председатель еще больше помрачнел; стало ясно, что мы говорим об одном и том же человеке. Выяснилось. что да. он здесь работает четвертый месяц, да, высокий, бородатый, мастер спорта по борьбе, дисквалифицированный за драку. Во всяком случае, он так говорит. Трудится на укладке шпал в Косом логу. Его но собственной просьбе включили в бригаду таких же отпетых, как он сам. "химиков", условно освобожденных. Поскольку их "бугор", по кличке Фефел (Алексей Фефелов), на зиму попал в больницу, Иванов перехватил лидерство и даже немного перевоспитал их — работали весь первый квартал неплохо. Но стало известно, что Фефел выходит из больницы. Видимо, чтобы как-то крепче привязать эту шпану к себе ярким поступком. Костя поджег барак, в котором они все жили.
— Почему?! — Я не понимал, зачем нужно поджигать барак, а не лес или самого себя.
— Да видите ли… — Председатель слегка смутился. бросил в угол полушубок и сел за стол. — Старый он, клоповник этот… правда. Давно бы их надо переселить. да все мест нет. Новые бойцы приехали, ожидаются студенческие отряды — уж лучше их в новые дома, чем этих… все равно изгадят, изрежут… Мы их временно — в клуб, в репетиционный зал… у нас скоро будет балетный кружок для детей… Если хоть одно зеркало разобьют, посажу!
— А суд когда? — еле слышно спросила Люся.
— Да хоть бы сегодня! — И снова парень попытался сдержаться. — Понимаете, ожидается приезд начальства из "Москвы, очень большого, вы понимаете?.. Нам этот шум сейчас ни к чему. Пусть бог\ молятся! Вот ждем. Так что пускай товарищеский суд… сами строители судят… — Он снова заколотил по рычажкам телефона — Боюсь, оправдают! Ну. что ждете? У него все хорошо! Идите! Они у себя! Отказываются выходить на работу! Письмо пишут на им приезжающего начальства… и ведь прорвутся! — Он сплюнул. И видно, пожалел Люсю, которая смотрела на него потрясенно. — Нет, сам он неплохой мужик… на митинге. Маяковского читал, нормально. Но с кем связался?! Эти бичи — горе наше…
Мы стояли возле дверей, собираясь уйти, но все не могли решиться. Сейчас мы увидим… а вдруг все же это самозванец? Похожий человек с документами Кости?
— Вы… давно его видели? — спросила Люся.
— Да вчера! Шли всей компанией… у нас сухой закон… одеколона "Кармен" накупили, песню пели.
— Песню? — удивилась Люся. — Какую?
— Ну, блатную! "Мурку"!
Люся помертвела от страха, и я вывел ее на воздух. Мы шли по улице, пахнущей горячим тесом и смолой. Клуб тоже был из дерева, высокий, как церковь. Мы увидели на парадных дверях замок.и. обогнув строение сзади, вошли в темный коридор. За одной дверью играли на баянах три старика, за другой, сидя, рисовали крохотные дети.
Наконец, мы попали в зал с тремя зеркальными стенами — тут стояли раскладушки, пахло горелым тряпьем, засохшим хлебом. В углу лежал некий бородач с босыми ногами. Он поднял голову и сказал, что он, Ситников, болен. На вопрос: "Где Иванов? — объяснил, что появился Фефел и всех корешей увел на работу.
— Выслужиться хочет, — сказал Ситников, испуганно глядя на Люсю. Он сказал, что рабочий поезд будет вечером, что идти до Косого лога недалеко — полчаса, ну, час.
И мы не удержались — пошли пешком. Мы тащились по шпалам, инстинктивно оборачиваясь — вдруг поезд. Никак не могли привыкнуть к мысли, что нет тут поездов, что, если они и бывают, про них знают загодя, за много часов. Навстречу нам дул неостановимый ледяной ветер, зима не хотела сдаваться. Когда мы входили в затишье между сопок, начинало пахнуть сохнущим дерном, теплым железом.
Наконец вдали показалось кое-как сколоченное из теса строение, вроде сарая. На рельсах стояла дрезина. Далее замер рельсоукладчик. Здесь тянули вторую ветку, параллельно главной, — видимо, будет разъезд. Почему же они не работают? Я глянул на часы — по местному час дня. Обед.
Люся взяла меня под руку и. приволакивая ноги от волнения, шепнула в самое ухо:
— Вместе зайдем, ладно?..
Я замотал головой. А вдруг опасность? Опять же Люся женщина, черт знает, может, у них дефицит? Еще выдадут замуж!
Но. успокаивая нас. на полуоткрытой двери клетушки качался комсомольский вымпел, этакий алый, золотящийся на солнце (длина волны света около 700 ангстрем) треугольный шелковый Флажок, обшитый по краям редкой желтой ниткой. V видев, что тут, как и везде. Советская власть, закон, Люся решительно шагнула вперед. Но я знал по работе с кристаллами. что не всегда внешняя форма соответствует содержанию, и попридержал ее.
Мы остановились за дверью. И услышали голоса. Вначале говорил голос какой-то неестественный, скрипучий. будто из мультфильма. Будто у этого человека зубы ломит.
— Слышал я. слышал, чирикаете вы тут, как воробьи на тарелке… да не верил! Че думаете, линзы промоют, читать будут?
— Будут, — ответил жесткий, сильный, страшно знакомый голос. — Будут, Фефел!
— X… будут!
— Не. молоток, молоток, Косяк. — возразили рабочие, — Взял да подпалил! Ты напиши: если не переселят. мы еще!
— Мои гроши сгорели, — пискнул кто-то, видимо, подросток.
— Сколько? — спросил знакомый голос.
— Два погона.
— Я тебе отдам. Зато переведут в новый дом, который стоит запертый возле почты.
— Повязать новым домом хочешь? — проскрипел Фефел. — А мы на этот дом жердь положили! Пора когти рвать! Потеплело!
— Езжай! А парни хотят по-настоящему пожить! Тут скоро бабы появятся! Красивые! Тебе хорошо — без баб обходишься!.. — под общий смех добавил знакомый голос. — Была одна врачиха, и ту напугал, уехала! Зачем ты. Фефел, ее напугал? Давно с женщинами стал воевать? Она ж тебе справку сделала, провалялся всю зиму на белой постели, как князь! Мы тут вкалываем, а он… прямо Александр Матросов. почетный член бригады! — Парни хохотали. — Закрывал грудью амбразуру в столовой?!
— Ты пиши! — взвизгнул Фефел. — Грамотный! А вы варежки разинули! Да он знал, что московские бугры приедут! Вот и осмелел!
— Клянусь Воркутой, не знал! — обиделся знакомый голос. — Вот глянь на свои бочата — чтоб мене завтра об это время в живых не было!
Несомненно, этот голос принадлежал Косте Иванову. Но не то было странно, что голос изменился, а то, что Костя говорил на жаргоне зэков.
— Нет-нет… — прошептала Люся и. оттолкнув меня, заглянула за приоткрытую дверь. Я отступил и сделал шаг влево, чтобы тоже мог наконец увидеть Иванова.
Посреди сарая, вокруг грубо сколоченного стола, сидели на яшиках, шпалах и чурбаках человек двенадцать парней в брезентовых куртках, ватниках, кирзовых сапогах и кедах, усатые, лысые, очкастые, красномордые, страшные. Они вяло жевали хлеб, принесенный с собой, и смотрели на Костю Иванова, который разложил на столе листочки. Если бы я его встретил на улице, я бы, наверное, не узнал. V него отросла черная, кольцами, как у цыгана, борода, щеки запали, волосы накрывали сзади ворогник драной меховой куртки, он постарел лет на пять — десять. Только глаза сверкали бесовски, как сверкали они у него, когда Костя химичил с миллиардами бактерий, кормя их кислородом н светом. А за спиной Иванова ходил Фефел. Это был невысокий сутулый человек неопределенного возраста, весьма смуглый, почти черный, крючконосый, но не кавказец, со светлыми, очень светлыми русскими глазами, он кривил тонкие губы, на щеках у него торчали бакенбарды, я сказал бы. что он смешон, если бы он не был страшен. Его будто бы снедала злоба, яркая, как кислота. Он маячил за спиной сидящего Кости, угрожающе подергивая то головой, то одним плечом, то другим, будто вот-вот прыгнет на Костю. Но тот, прекрасно зная, что Фефел сзади, ни разу лаже не покосился на него — писал письмо. И видимо, не мог Фефел, у которого иссякли аргументы, из-за спины взять да навалиться на Костю — свои бы не поняли. В углу сарая гудела железная печурка, на красной раскаленной спине ее жарилась и немилосердно чадила в сковородке то ли яичница, то ли горсть гаек. Фефел погрелся там, чернея от бешенства, и проскрежетал:
— Ну, хватит вякать, пошли башли заколачивать!
Костя даже не привстал.
— Я перепишу потом, — сказал он рабочим, усмехнувшись краем рта и блеснув золотым зубом. — Что. Теленок?
Бледный, обросший белым волосом и щетиной парнишка сказал:
— Есенина выдай, а?
— Можно. — Костя спрятал бумаги и вдруг судорожно вскинув руку, завопил с каким-то жутким акцентом:
Я-я нарочи-ио… иду-у… неочн-осаным…
с-с голово-вой… как керосиновая лампа на па-ле- чах…
ваших душ-ш… безлиственную осс-сень мине ны-равнтся в потемках освещать!..
— Ну, хватит, говорю! Артист!.. — Фефел нахлобучил на голову пышную лисью — рублей, я думаю, на пятьсот — шапку и пошел.
— Хорэ, — коротко кивнул Костя, видя, что парни недовольны Фефелом, и отступая в выигрышной позиции, тоже встал из-за стола.
И все побежали к путеукладчику. Мокрый от пота, тяжело дышащий, Костя вышел после всех. Он и ходил теперь как-то иначе — весь как на шарнирах, руки висели по краям туловища кистями назад, словно v льва. Высокий, огненноглазый…
— Костя… — тихо, даже робко, позвала Люся.
И все оглянулись. Только сейчас увидели незнакомых людей.
И Костя, увидев ее, ссутулился, как от удара. И стало видно, как быстро бледнеют его скулы. Он, конечно, знал, что мы нашли его новый адрес, но никак и предположить не мог, что за ним приедет за тысячи километров жена, да еще со мной.
Всего минуту назад ловкий, сильный человек стал иным. Явились свидетели его прежней жизни. И он стал тем привычным для нас, прежним Костей. Растерянным, взгляд исподлобья. Автоматически достал очки и надел. Только борода и осталась из новых времен, да и та теперь казалась наклеенной.
— Ты отпусти своих, — шепнула Люся.
Он смотрел на жену и, видимо, не решался оглянуться. Помешали мы ему, все погубили.
— Вы… идите. — Неуверенно махнул он рукой бригаде, и парни, оглядываясь, заковыляли по шпалам. А Фефел усмехнулся, уловив перемену, учуял звериным своим нутром, поиграл пальцами в карманах новой, сатиновой синей фуфайки и подмигнул Теленку.
— Здравствуй, — пробормотал я, — Поговорим?
Как во сие или в каком-то нереальном мире, мы отошли за сарай и встали на теплом солнечном ветру. Люся пребывала едва ли не в обмороке. Костя молчал. И пришлось говорить мне.
— Костя, — сказал я — Мы беспокоились… Поедем домой, а?
Люся закивала, схватила за руки мужа и заплакала, приникла головой к его груди. На глазах у Кости тоже показались слезы. Кажется, заплакал и я’.
Мы медленно побрели по железной дороге к поселку, и чем ближе к нему, тем все ускоряя шаг. Ни о чем не расспрашивали Иванова, еще успеем, и только Люся начала вдруг рассказывать о доме:
— А Светка хорошо учится… зимнюю сессию сдала на пятерки… Все говорит мне: купи собаку… тоже будет биофизиком. Ты, пожалуйста, поговори с ней, ладно? Ну. что за глупость — собака в доме. Собака должна жить на улице, верно? Корми бродячих, верно? Корми птичек. Ты похудел… тут плохо кормят?
Но Костя если и похудел, но не стал слабее. Исчезла нездоровая полнота, которая отличает многих научных работников, сидящих сутками в лаборатории. Люся со страхом погладила его бороду, Костя щелкнул зубами, в шутку сделав вид, что хочет укусить ее за палец, и бедная женщина снова заплакала.
Мы пришли в клуб, в зеркальную комнату, но Косте, конечно, было неловко оставлять здесь жену. В сумерках, в углу, среди тряпья, спал Ситников, но позже-то вернется вся бригада…
— Может, на сцене, между кулисами? — предложил Костя.
— Нет. — Вцепилась в его локоть Люся. — Мы посидим в коридоре. А что? Как в аэропорту.
В это время нас и нашел председатель поссовета Акимов, тот самый, с которым мы разговаривали утром. Видимо, он поразмыслил и сообразил, что, скорее всего. Костя уедет. Да и ему, Акимову, лучше — с глаз долой. Кроме того, наверняка председателю было неловко за раздраженные слова — Люся-то в чем виновата?
— У меня в домике три комнаты, — предложил Акимов. — Мать в Иркутске гостит, мы с дочкой и женой потеснимся.
Костя, который стоял отвернувшись от Акимова, неожиданно легко согласился. Но сказал, что ему нужно проститься с рабочими, поучить их уму-разуму. что он в последний раз переночует в клубе. Дойдя с Люсей до красивого, игрушечного, в цветных лампах коттеджа Акимова (прямо как на обложке капиталистического журнала!), отдав ее нз попечение высокой, белотелой, презрительно щурящейся жены председателя в дубленке, мы вернулись в зеркальный зал. Я видел, что Костя еще не отбушевал внутри, к молчал. Но молчал и он. Мы покурили, глядя друг на друга, каждый — в противоположном зеркале, и вдруг Костя тихо проговорил, вставая:
— Так. Я приду утром. Люське не говорить, ладно?
— Ты сбежишь?
Костя криво улыбнулся.
— Нет. Во всяком случае, здесь мне уже бежать некуда. — И лихорадочно блестя глазами, как-то даже униженно заглядывая мне в лицо, добавил: — Клянусь чем хочешь…
Я пожал плечами, и он ушел в ночь. Куда он направился. Может, надо было проститься с неизвестной мне женщиной? А может, просто не мог ночевать здесь, с этими полуурками, после того как за ним приехали? А с Люсей не мог быть рядом, чтобы не расплакаться, не расклеиться, потому что отвык?.. Я лег на его раскладушку, возле самой зеркальной стены, обрызганной кефиром, и только закрыл глаза, как ввалилась вся компания.
Они зажгли весь верхний свет, они были пьяны, они хохотали, прыгали, боролись, валились на раскладушки. ломая их с треском и прогибая до полу. Они цеплялись за крашеные жерди станков, изображая балерин, разглядывая себя голых в зеркале.
Они падали и засыпали. Со всех сторон разило одеколоном. Почему-то молчал Фефел. Может, его забрали в милицию? Я осторожно разлепил веки — нет он стоял рядом, в двух шагах от меня, голый по пояс, с кучей родинок на спине. Он сегодня выиграл. Смертельно пьяный, он почти не покачивался — ждал. пока ему приготовят постель. Какая-то женщина в платке, видно уборщица, стелила на кровати, которую я днем не заметил, — кровать блестела шарами в самом углу, под портретом. Улановой. Нахохлившийся, крючконосый, как сытый филин, Фефел пнул спящего Ситникова — тот вскочил и принялся стягивать сапоги с его ног. Фефел завалился спать, так и не проскрипев ни слова, но тише стало не надолго.
Всю ночь о помещение входили и выходили какие- то совсем мне не ведомые люди в брезентухах и ватниках, с ружьями и фонариками. Кто-то подошел и стал шарить в карманах моего пиджака — я повесил его на стуле, — вынул спички и унес. Кто-то в шапке наклонился надо мной и дышал. Я тихо спросил:
— Что?
— Соль есть?
— На столе в банке видел…
— Смеешься! Нам надо два иуда! Где Костя? Рыбы налетело в сеть — два барабана!
У них была своя, мерзкая, развеселая жизнь. Они, конечно, не работали на этой великой дороге — они кормились при ней. Шакалы, думал я. Сейчас самый нерест. Эго преступники. Но что я могу поделать?..
Я только уснул — и проснулся от оглушительного звона и криков в темноте, видно, дрались, на полу сверкали осколки зеркала.
— Что вы делаете, гады?.. — не выдержал я.
— Это кто вякает?! — Ко мне метнулись двое, и я увидел тяжело дышащих беломордого Теленка и Ситникова. — Что надо, лягавый?!
— Это же не ваше, — пробормотал я, поджимаясь. — Зеркала народные…
Ситников схватил за нижний конец раскладушки и затряс:
— Оплатим! Ты… Че лезешь?!
— Бери свои слова обратно! — заорал совершенно невменяемый мальчишка с белыми глазами, с белой бороденкой. — Берешь?!
— Беру… — прошептал я, и они хрустя каблуками по стеклу, выбежали вон — кого-то догонять…
Я больше глаз не сомкнул и был счастлив, когда на рассвете тенью возник Костя Иванов. Он забрал свой чемодан, и мы выскользнули на улицу.
Мы постучали к председателю в ворота — в одном окне горел свет, Люся ждала. Жена Акимова, в дуб ленке, молча кивнула нам на прощание, и мы заторопились на станцию…
8
Часов через шесть мы уже ехали в купе нормального пассажирского поезда. Вагон был чистый, новый (производство ГДР). На столике, покрытом белой крахмальной салфеткой, звякали ложечка- ми стаканы. За окном шел дождь.
— Пойду покурю, — буркнул Костя. Люся, испуганно положив свою руку на мою, стрельнула ему вслед глазами. Она все боялась, что он исчезнет. Трудно сказать, как бедная женщина провела ночь без мужа и надеялась ли увидеть его утром. Я кашлянул, как плохой актер, и потащился и тамбур за Костей.
Мы стояли на пляшущих железных листах между вагонами, в "гармошке", и смотрели в разные стороны. Разговор не клеился. Я сказал как бы шутя:
— Хорошо, что уезжаем. Еще не дай бог посадили бы тебя.
Костя молчал. Вряд ли посадили бы. возразил я сам себе. Он бы на суде прошел как герой. А мы все испортили. Но хватит, его ждет институт.
— Ну и грохочет, — кивнул я. — Ты думаешь, сколько децибел?
Он, не отвечая, яростно сосал сигарету. В дверях тамбура появилась истосковавшаяся его жена, но тут же отпрянула и ушла в купе. Костя, может быть, обдумывал, как объяснить Люсе свои метания по стране. Может быть, хотел сначала обговорить со мной вариант рассказа.
— Зачем ты поехал за мной? — наконец прохрипел он, тяжело взглядывая на меня — Орден дадут?
— Ты… не хочешь домой? — как бы удивился я.
— Я же посылал деньги!.. И нарочно не отвечал, нарочно! Неужели не понятно, что мне тут лучше?!
— Иванов! — вдруг закричал я. — Не сходи с ума! Ты — талантливый ученый! А сделался бичом! Что же будет, если все побегут?! Надоело, видите ли, преподавать — побежал! Надоело лечить людей — побежал! Изображаешь тут хиппаря, да еще борца со значком мастера спорта! Или все это от самомнения?! Вот, мол, обо мне сейчас дома судачат! А я еще один розыгрыш замахорю! Будто я погиб, а на мое имя идет пенсия! За особый подвиг! Погиб, например, разведчиком в какой-нибудь капстране!
— Кстати, идея. — Недобро сверкнул глазами Костя. Нет, все-таки он изменился. Он с хрустом затянул ремень. И ремень-то какой — на пряжке орел, в клюве бутылку держит…
— Старик. — я стал говорить мягче. — Костя! Тебя все любят. Даже моя жена — вот, говорит, мужчина! Как хату отремонтировал! Кстати, ушла от меня. Если хочешь знать — из-за тебя. Не выдержал я сравнения с тобой, Иванов!
— Танька ушла?!
— Да. Год назад развелись, — мстительно пояснил я. — Ну. сразу же. как ты… Ничего?!
— Н-да, — кажется, смутился Иванов. Не потерял еще совесть, подумал я с просыпающейся радостью. В тамбур снова выглянула Люся, но я махнул ей рукой, чтобы исчезла, н продолжал один на один под бешеный скок колес.
— Дело не во мне! Ты начал докторскую… тебе что, тема не нравится? Ну. возьмись за другую.
— Нет, — тихо сказал Костя.
— Что — нет?
— Мне вообще не нравится эта работа.
— Как не нравится?! — поразился я. — Ты кандидат наук! Через два-три года станешь доктором. О тебе рассказывали на научной конференции в Новосибирске. Тебя, может быть, на симпозиум пошлют, во Францию. Если возьмешься за ум…
Костя молчал. Он сунул руки в карманы и поигрывал пальцами, как давеча Фефел. Я усилил наступление.
— Опять же подумай — дочка растет одна. А вдруг свяжется с кем-нибудь?
— Ну и что? — пробормотал Костя.
— Как — ну и что?! Свяжется… родит… мало ли!
— Конечно. Тебе легче. Твой сын, даже если свяжется, не родит! — Да, Костя изменился. Стал злым. И сам научился острить. А раньше стеснительно молчал и грыз ногти, — Если с ней что-то случится, значит, такой я ее воспитал. Незачем сторожить. Она саморегулирующаяся система.
— Что?! — Так дико было услышать это от бородатого черного человека в ободранной, пахнущей мазутом куртке (оказалось, у него нет пальто — проиграл в карты! Подумать — проиграл в карты! Это он мне признался. А в чемодане— только сорочки и книги). — Ты не смейся — Что о ней будут говорить люди! А о твоей жене! Бросил! Дело же не в деньгах! Нужен человек!
— А она меня хвалила… как раз за злотые.
— Ну, было — теперь уже раскаивается.
— Ого?!
Люся снова замаячила в тамбуре, кашляя в синем табачном дыме, насильно улыбнулась милому и ушла. Она все, кажется, не верила, что муж, драгоценный, любимый, нашелся. Что он здесь, рядом, тут.
— Здорово! — как бы удивился Костя.
— А вот моя с ума сошла… говорит, почему не делаешь из рубина перстней, как. вин. в Латвии зарабатывают все интеллигентные люди! А чтобы ты уверенней чувствовал себя… директор тебе дает повышение. Там произошла…
— Я читал. Ложь. Вы специально, — отчеканил Костя, и с такой убежденностью он это сказал, что я не решился переубеждать. — Понимаю, нам обидно — Иванов где-то мотается, живет интересной жизнью… а вы прозябаете…
— Неправда! — Я, наверно, покраснел. Он ударил по самому больному. — Если я еще завидовал тебе издали, то вот посмотрел сейчас на эту гнусную компанию. на то. как ты перед ними вроде клоуна на ковре… Нет уж. плевал я на такую свободу! Государство затратило на наше обучение деньги, мы должны делать то. что должны делать.
Костя молчал. Говорил я. конечно, плохо, как нарочно, чужими словами. Иванов тоскливо глядел мимо меня туда, где в вечереющем сумраке проносились, подпрыгивая, леса. Не зная, что еще сказать, я судорожно кивнул, как милиционер, в сторону нашего купе — мол, пошли. И мы пошли.
Люся ожидала нас, сжимая почему-то пустой стакан. Минут двадцать мы молчали, Люся, включив улыбку, смотрела то на меня, то на мужа. На разъезде поезд остановился. Когда он снова тронулся, в купе вошел новый пассажир. Ему досталась верхняя полка, но он не спешил ее занимать. Был он седой, коротко стриженный, плотный, с шишечкой на щеке, в кителе и синих брюках, с плоским портфельчиком — явно бывший военный на пенсии. Он указал кривым пальцем на нижнюю полку:
— Вы, разумеется, уступите старшему по званию?., от него попахивало водкой, и Люся поспешно согласилась:
Пожалуйста! — и обращаясь к мужу, добавила — Мы ляжем наверху?
— Вы ее гоните?! вдруг нехорошо, нараспев, спросил Костя, медленно вставая и как-то странно свесив руки, кистями назад.
— Но понял? — вскинул брови седой человек.
— И никогда не поймете! Вы что, хотите, чтобы мы все трое сидели там, наверху? — Он словно с цепи сорвался, речь его исказилась, слова стали угрожающе-рваными. — Как кукушецки в гнеза-дыша-ке?!
— A-а, старый знакомый! — Осклабился человек, уловив блатные интонации, пятясь к двери, — Может, документики покажем?!
— Тебе?! Внимательно смотри! — Костя мгновенно слепил из пальцев обеих рук дули — и не две, а четыре. — Видел?!
— Хорошо, — буркнул нарочито покорно человек и вышел.
Люся схватила мужа за руки, умоляюще зашептала:
— Ты что делаешь? Милый! Что с тобой?!
— Сволочь! — не унимался Костя. Губы у него дрожали, левое веко над черным глазом задергалось. — Шмакодявка! Привык!.. — Но вдруг он стал вялым, безучастным, полез, большой, длинный, на верхнюю полку и послушно затих.
Люся, глядя на меня, вздохнула. Теперь мы ждали мужчину в синих брюках — с проводницей вернется или с милиционером. Милиции в этих поездах всегда много.
Дверь с лязгом отъехала в сторону, и вошли румяный молодой сержант, проводница и наш новый сосед. Я читал газету "Правда", оставленную кем-то на столике. Люся листала, хмуря лоб, книжку в красной обложке, посвященную революционному процессу в Латинской Америке.
— Ну и где этот супчик нам на ужин? — привычно сострил милиционер, удивленно глядя на красный томик, навевающий высокие мысли.
— А вон!.. — Показал мужчина двумя пальцами, изобразив пистолет. — Притворяется спящим! Он пьян!
— Кто? Вы или он? — спросила холодно Люся, — Ну-ка, дыхните! Между прочим, у моего мужа больная печень, ему нельзя. — И открыв сумочку, достала справку, которую бог знает зачем ока взяла, видимо, у моей же Тани. На всякий случай. О. женская предусмотрительность! Нарочно не сообразишь— Он кандидат наук. — Люся показала и диплом кандидата с осыпавшимися золотыми буквами. — Он отдыхает.
— А вот этот товарищ нашумел туг… напугал… злоупотребляя служебным положением, — добавил я, веселея при виде человека в синих брюках, постепенно тупеющего от непонимания того, что происходит. — Нехорошо! Вы револьвер сдали, как положено? Вы бы проверили, товарищ милиционер. А то, знаете, нетрезвый… вдруг применит… А я — тоже научный работник. — Я показал документы, хотя меня и не просили. — А Людмила Васильевна — член партбюро нашего института. А вы? Показали бы документик, товарищ?
Милиционер задумчиво повернулся к нашумевшему человеку.
— Пожалуйста, — растерялся тот окончательно и побагровел, как окорок. И вынул стертые и согнутые. как гребенка, корочки. — Вот, так сказать… я на пенсии… старший лейтенант…
— А ведете себя как генерал-лейтенант… — пробурчала Люся, перелистывая глянцевую страницу.
Проводница молча смеялась. Милиционер тоже улыбнулся, и они ушли. Человек в синих брюках постоял у входа, не садясь, схватил свой портфельчик и выскочил вон. Больше мы его не видели.
Что-то нам стало смешно, и Костя сверху спросил:
— Ну, а что нового у нас? Как шарик?
Шариком мы называли моего шефа, директора.
А то, что Костя сказал "у нас", особенно обрадовало меня и Люсю. Слава богу.
— Все та же секретарша? Или еще выше?
Шеф, как я уже говорил, уважал высоких женщин. У него и жена была как гренадер — на голову выше.
— Аллочка! Она сама растет! Уже под два метpa, — хохоча, сообщил я, заглядывая на верхнюю полку.
— А Вовка, лаборант у Вити, вместо спирту бензину тяпнул, — крикнула, вскакивая, Люся. — Вот была хохма!
— Правда?! — Костя свесился с полки, ор хохотал. как прежде, высовывая язык, он чуть не сверзился сверху. — А Серега?
Серега Попов был у нас всю жизнь отличник, в белом воротничке, всегдашняя мечта наших девчонок. Но на пятом курсе Попов неожиданно женился на продавщице из молочного магазина. Мы острили — знал, что делал! Зато сейчас сметану ест. Потому раньше всех и докторскую защитил.
' — У него синица и форточку залетела и… бомбардировала установку… произошло замыкание! На три тыщи рублей сгорело барахла! — вспомнил я действительную историю. Только не на три тыщи, а на двести рублей. — Отныне ненавидит всех птичек! Он же зануда, он сразу все обобщает!
Костя катался наверху от хохота, мне показалось— он вдруг начал испытывать нетерпение, ему захотелось скорее домой, может быть, он понял, что истосковался по работе, по своим, по интеллигентному миру… Я сбегал "а какой-то станции в магазин, опередил всех, успел взять пива и застал Костю и Люсю целующимися.
Мы до самой ночи смешили нашего дорогого человека, рассказывая байки, анекдоты, ои хохотал и просил еще.
Потом все уснули.
А когда я пол утро проснулся — Кости на полке не было. Не было его чемодана. Не было и дрянной меховой куртки, подвешенной на крючке в изголовье. "Да ну. ерунда, — пробормотал я про себя. — В туалет пошел!" Но и уже точно знал — он сбежал.
Я не стал будить Люсю — провалялся, закрыв глаза, пока не рассвело. Мы уже подъезжали к Тайшету.
Люся проснулась, посмотрела на меня, наверх — на пустую полку (он специально попросился вчера на верхнюю — во избежание искушений, как объяснил он с ухмылкой) и, перевернувшись лицом в подушку, тихо заплакала.
9
Я сидел в лаборатории, уныло глядя на замершие стрелочки приборов. Внутри печей, в фарфоровых трубках, в запаянных кварцевых ампулах, как жемчуга в раковинах, медленно вызревали наши искусственные драгоценности, которым грош цена, когда не хочется жить. Ну как я мог этому быдлу, беловолосому мальчишке; сказать: беру свои слова обратно?.. Ну кто он такой? Ну, ударил бы. Изрезали бы зеркалами. Одна надежда, что эти люди забудут мое малодушие. Они и имени моего не знают. Одна надежда.
Я привычно записывал цифры и думал, как же мне объяснить директору, с чем мы вернулись.
Люся всю дорогу до дому плакалась:
— Сбежал!., как от немилой! От чужой!., будто я скандальная баба, будто за ухо его домой тащу!.. Да провались ты в любую дыру, дурак бородатый! Метла с глазами! Мочалка собачья!.. Перед дочкой стыдно! Перед общественностью!..
— А мы не скажем, — пытался я успокоить ее, во она почти не слушала, резким голосом, похожим на голос репродуктора милицейской машины (со срезанными низкими частотами), кричала:
— Все равно узнают! На этом свете нет тайн! Сам же говоришь — все сверху сфотографировано насквозь! И у нас, и у них!
— Ну. американцам, допустим, наши личные дела до фени!..
— Среди ночи сбежал, как вор!.. А еще расспрашивал о новостях, смеялся… а сам уже знал, что сбежит… Нет, Витька, он очень плохой человек! Он стал лживым! Он… О, почему я не отобрала паспорт! Почему не сунула всю его куртку под подушку!
— По-моему, он и без документов…
— Нет-нет! В нашей стране человек без документов ноль!
"Может быть, здесь все-таки замешана женщина, — думал я, глядя из вагона на пустынные весенние поля со сверкающими узкими и очень длинными зеркалами воды. — Он не стал вдаваться в подробности, чтобы Люсе не было мучительно больно… тьфу!.. — ругался я, — "мучительно больно"… штампы школьных сочинений так и лезут… Взял и сиганул! А ей наверняка напишет, если он не скот. Даже скорее всего — на столе уже лежит телеграмма. И перевод.
— Плевать мне на его деньги, — продолжала Люся уже в автобусе, когда мы ехали с вокзала вверх, на гору, по деревне Покровке в Академгородок — мимо страшных ям и подъемных кранов с флажочками, напоминающими тот красный флажочек на двери сарая, где Костя сидел с "химиками", — я сама заработаю! Я как лошадь, все вытяну! Дочку одену и накормлю! И замуж выдам! Что, мне больше других надо? Я. может, тоже мечтала на вулканы Камчатки… всякую пемзу пособирать, стоя на трясущейся земле! Я. может, тоже смелая и романтику люблю!.. — Она заученно улыбалась каким-то людям в автобусе — на всякий случай, это могли быть знакомые, ее как общественную деятельницу знали. И шептала мне, уже таща под руку от остановки к нашим домам, под порхающим снегом — а здесь снова шел снег и снова исчезал в черных водах, как месяц назад… — Может, я тоже, тоже!.. Гад!.. Да! — вдруг заговорила она о другом, энергично тряся головой. — Вы, мужчины, эгоисты! И ты эгоист! Захотелось вам глухари послушать или смолу сосновую пальцем потрогать, вы готовы все продать, купить билет и поехать, пустив по миру детей и родителей… Это еще аукнется нашему обществу — это ваше бичевство! — впервые стала пророчествовать Люся. Она, правда, пророчествовала и раньше, но оптимистически. А сейчас в ее речи звучал явный пессимизм. — .Мы еще задумаемся, откуда корни! И еще вспомним те годы, когда дети уважали старших, а разводиться было грех…
Я. уничтоженный ее презрительными выпадами против мужчин, и тем более разведенных, хотел уже сказать, что такая семья, как у нее, не лучше, но она, покраснев, опередила меня:
— А я вот сама возьму да подам на развод!
"Ну, ну, — подумав, обеспокоился я. — В таком случае тебе придется заниматься только научной работой".
— Не те времена! — совершенно нелогично вдруг стала она защищать новые времена, — Сейчас можно и общественному работнику, и даже партработнику быть разведенным! Зато честно! Я говорю — женщина имеет право, как слабый пол! А если он подал, самец, — то считается — он бросил жену! Вот у вас… ты или она была инициатор?
— Вообще-то Таня… — пробормотал я.
— Тогда ничего, — сказала она. И жалостливо попросила: — Витя, ты уж помоги мне как-то информировать наших. Может; скажем — не нашли? Может, его в суровый край сослали… послали… скажем, с геологами?
Но беда была в том, что в институте нас уже поджидала телеграмма на имя директора: "ПРОШУ ОСТАВИТЬ ПОКОЕ ПОСТИГАЮ НАШУ ПРЕКРАСНУЮ РОДИНУ ТРУЖУСЬ СНАБЖАЮ СЕМЬЮ МЕСТО МОЖЕТЕ ОТДАТЬ НЕСТЕРОВУ ИВАНОВ".
Нестеров, повторяю, это я.
А дома у Люси действительно лежал телеграфный перевод на сто рублей — видно, больше не нашлось у человека, тем более что буквально за неделю Люся получила от него двести. И ждала ее следующая телеграмма: "НЕ СЕРДИСЬ Я ВСЕ- ТАКИ НЕ МОГУ ЗАНИМАТЬСЯ НЕЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ Я СЧАСТЛИВ ВЕРНУСЬ КОГДА ТЫ МНЕ РАЗРЕШИШЬ РАБОТАТЬ ГДЕ УГОДНО ЦЕЛУЮ ТЕБЯ СВЕТКУ КОСТЯ".
"Да уж… разрешу тебе дворником… — бормотала Люся, всхлипывая и сминая хрустящий листок. — Позор! Стал бич бичом!.."
А меня ждала телеграмма подлиннее (не поскупился Костя, решил, видно, в отчаянии объясниться до конца): "ПОЙМИ ПОДДЕРЖИ МОИХ ПРОСТИ ЕСЛИ ВИНОВАТ ТВОИХ БЕДАХ НУ НРАВИТСЯ МНЕ БЫТЬ УВОЛЕННЫМ ЖИТЬ ВРЕМЕННО НЕ ИМЕТЬ НИ КОЛА НИ ДВОРА СВОБОДЕН МОГУ ДЕЛАТЬ ЧТО ХОЧУ ПИЛИТЬ ПЕТЬ РУБИТЬ УГОЛЬ ВАЛИТЬ ЛЕС ОКАЗЫВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ ОГРОМНА НА НЕЙ СТОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО И НЕ ВЗДУМАЙТЕ ИСКАТЬ НА ЭТОТ РАЗ НЕ НАЙДЕТЕ ДЕНЬГИ БУДУ ПЕРЕВОДИТЬ ПО ЦЕПОЧКЕ ЗНАКОМЫХ РТА НЕ РАСКРОЮТ ПОНЯЛ ОБНИМАЮ ТВОЙ ИВАНОВ-СИБИРСКИЙ".
Я все понял. Я был зол и завидовал.
Я рассеянно следил за показанием стрелок ПИТа, за движением облаков в окне. В углу лаборант Вова, толстолобый увалень в ботинках сорок пятого размера, сопя, читал томик английского поэта Китса.
Вошел шеф — вкатился этакий гладкий шарик с золотой трещинкой зубов, — вскинул руку — мол, тихо, я сам, посмотрел записи, глянул в окно, — тоже полюбопытствовал насчет облаков, подсел рядом и шепотом осведомился:
— Ну, как?..
— Да вы же видите… не хочет он возвращаться…
— Да с ним все ясно! — поморщился шеф. Его Иванов уже не интересовал. — У нас освободилась третья печь? Давайте попробуем, как алхимики, такой абсурд! — Он принялся быстро писать на бумаге. — Фтор мы любим… ртуть мы любим… так, так. Давление… Есть вариант найти потрясающее "мю". "Мю-ю!.." — мычали коровы, ломая кристаллические решетки… О’кей?
Я кивнул и принялся готовить эксперимент.
Наступили будни. Снова сыпался снег на леса, на. Академгородок, хотя уже вывешивали лозунги к Первому моя. Правда, снег сразу же таял. Возле мастерских на повороте пролетающие автомашины так сильно брызгали гравием н водой, что Доска почета с моей фотографией (внизу, третья слева) отшатнулась.
Иногда небо мгновенно вдруг очищалось, начинало полыхать синим чистым пламенем, и вокруг все сохло, исходя паром. Женщины надевали красочные платья под черные халаты. Наверное, и моя Таня надевала что-нибудь кремовое или нежно-зеленое под белый халат. И кто-то, чтобы задержать ее возле своей больничной койки, нарочито вызывал в себе учащенное сердцебиение, как делал это когда-то в шутку я. Таня, как близорукая, пристально глядя в мое лицо, накладывала два пальчика на мою кисть и пугалась:
— У тебя… фибрилляция!..
Сын мне не звонил.
Никому я не был нужен, кроме как моим кристаллам, особенно черниту — наверное, он вырос уже с кулак ребенка, кристалл чистейшей воды, цветом в смерть, который даст нам возможность писать на Луне хорошие и нехорошие слова, если из него сделать лазер. Кристаллу еще предстояло расти — нужно только было не мешать ему, сидеть и ждать.
Ночами он снился мне — величиной с девятиэтажный дом, и, собирая свет с небес и солнца, он образовывал на земле возле себя крест мощного розово- фиолетового света — на этом месте бичи жарили яйца и грели посинелые руки. Среди них 8 лохмотьях сидел, показывая стальные зубы, и Костя Иванов.
К черту! Ему на нас наплевать. Наплевать и мне. На него. И на всех. Вот стану известным ученым — еще посмотрим, не раскаешься ли ты, Константин Авксентьевич! И вы, Татьяна Николаевна!
Я, подремывая, взглядывал на показания стрелок, а лаборант Вова, шмыгая носом, читал сегодня уже Лукулла. Ну что ему Лукулл?! Что он в нем понимает?! Читал бы уж детективы — это еще туда-сюда. Ну, Паустовского, про красоты природы… ну. книгу Чичестера про кругосветное плавание на яхте, про ревущие сороковые… напомнить себе о героях… о недостижимых идеалах… А что ему Лукулл?! Все играют во что-то. Не может Лукулл нравиться нормальному современному человеку. Может нравиться лишь серьезная перспективная работа.
10
Мы предполагаем, а жизнь располагает.
Вдруг пришла телеграмма: "СРОЧНО ДВЕСТИ ВЕРНУ ПРОСТИ УСТЬ-ИЛИМ ЗАРИ ПЯТЬ АДРЕС УНИЧТОЖЬ КОСТЯ". Это случилось тридцатого, уже в самый канун Первого мая. Наверное, назанимал мужик, чтобы подкинуть жене, а теперь сидит на бобах. Деньги я ему, конечно, тут же послал телеграфом, и хоть просил Костя, чтобы я уничтожил адрес, я все же переписал его, на всякий случай. Ишь куда человека занесло! Видно, неловко возвращаться на БАМ… Сорвала игру Люся!
Но зачем он в Усть-Илиме? Что там, на Ангаре? Глухомань! Я несколько дней читал подряд все газеты и наконец нашел — строительство Усть-Илимского целлюлозного комбината! Стройка стран СЭВ! Немцы и венгры, болгары и русские! Описывалась свадьба — венгр женился на русской девушке. Цветы летели под ноги "молодоженам… Мне даже показалось, что Костя чем-то похож на венгра, но это было слишком.
В праздники я хмуро валялся дома, и поскольку отдал Тане при разводе нее, кроме книг и о физике, слушал, как за стеной у соседей говорит телевизор. Судя по программе в "Белоярском рабочем", передавали фильм о войне. Там стреляли, били стекла, кричали "Ура!..". Потом наступила тишина. И я мог только догадываться — сейчас целуются… или ползут разведчики… или кто-то умирает… а может, просто выключили телевизор.
Таня, конечно, не звонила. Сын тоже.
Я сам набрал, номер шефа, поздравил с Перво- маем. Потом мне позвонил Серега-отличник. Поздравив с Международным праздником солидарности трудящихся. он спросил, нет ли у меня книги воспоминании об академике Тамме. Он знал, что я достал ее, но у меня еще месяц назад взял почитать директор и не отдавал. Жаловаться было бы смешно — Серега мог распустить слух, что я нарочно не требую книгу обратно, как бы намекая шефу, что он может зажилить ее взамен на некие благодеяния. Разве мог понять Серега. что эту потрясающую книгу я не отдам никому, ни за что. Там есть одно грандиозное место я всем читал его по телефону в первые дни, как только сам заполучил книгу. (К слову сказать, узнав, что я развелся, ко мне подобрели все девчонки в Академгородке — в столовой и даже в книжном магазине, где с учеными ниже доктора наук вообще не разговаривают! Там работает уже упоминавшаяся Неля Гофман, та самая, перекупщица, тонкая, гибкая, в черных кожаных брюках, язвительная, с ярко блестящими черными, намеренно узкими глазами- она была бы похожа на кореянку, если бы не была такой белой, с рыжими волосами веером, как у Анджелы Дэвис…) Так вот, в книге имеется великолепный эпизод в воспоминаниях Е. Л. Фейнберга: "Как ни покажется невероятным… даже в 30-х годах у нас встречались титулованные ученые, считавшие электромагнитное ноле проявлением механических движений эфира. Особая трудность ситуации заключалась в том, что они утверждали, будто всего этого требует диалектический материализм, и… нм верили люди, не знавшие физики… Игорь Евгеньевич сказал: "Существуют вопросы. для которых кет осмысленного ответа, например, вопрос, какого цвета меридиан, проходящий через Пулково, — красного или зеленого?" И вот академик В. Ф. Миткезич громко произнес: "Профессор Тамм не знает, какого цвета меридиан, на котором он стоит, а я знаю — я стою на красном меридиане".
— Слушай, — не унимался Серега Попов. — Кому же ты отдал книгу? Наверное, женщине? Когда же я получу?!
Будучи занудой, он не понимал, неопределенных фраз — например, я скажу ему: через несколько дней… ему надо было отвечать конкретно. Я и брякнул:
— Через столько дней… сколько… сколько дырок в ремне у Татьяны, которым она подпоясывает свою замшевую куртку.
Я курил, валялся еще минут десять, как Серега позвонил.
— Что, уже сбегал — сосчитал? — язвительно предположил я.
Оказалось — да. Он, правда, случайно встретил мою бывшую жену возле продуктового магазина и под каким-то предлогом попросил ремень — очевидно, сказал, что хочет своей жене купить такой же. но почему-то стал при этом считать дырки и, запомнив— восемь, — вернул. Таня, удивленно, как и могу себе представить, посмотрела ему вслед.
— Кстати, привезли молоко, — добавил Сергей, и я решил сходить за молоком. Сунул в карман авоську и побежал. Может, еще успею купить. А возможно, мне захотелось увидеть, хотя бы в толпе, Таню.
Но в магазине ее уже не было — вместо себя она в очередь поставила сына, высоченного нзшего мальчика. Мишка, увидев меня, смутился, стал сутулым, как верблюд, кивнул, оглянулся — матери нет — и протянул мне вялую руку.
Я пожал руку мальчику. Да и не мальчик он уже был — взрослый юноша, лермонтовские усики придавали ему вид бесшабашного прожигателя жизни. Но Мишка, по сути, был очень скромный и робкий человек и к тому же комплексовал — все его дружки вымахали ростом еще выше, и главное — была не ниже его Светлана Иванова. А Светлана ему всегда нравилась.
— Ну, как? — спросил я. — Будешь госы сдавать?
— Ну, — буркнул он.
С нами все здоровались:
— Здравствуй. Витя!.. Привет, Мишенька!.. Ой. как они похожи! Заходите в гости, ребятки!.. — Люди улыбались, кто-то радуясь чужому горю, а кто-то все-таки жалея пае.
— Как мамон? — спросил я небрежно. — Много там рыцарей со шпагами?
— Валера все ходит. Ничего чувак, может.
— Что может? И кто такой чузак?! — разозлился я вдруг и выдернул сына из очереди, оттащил за железную ограду в березник. — Почему ты ботаешь на таком жлобском жаргоне? И что он может?
— Все может, — тихо ответил очень серьезный сын. Глаза у него покраснели.
Я вздохнул и опустил голову. И мы, забыв про молоко, побрели по сохнущим желтым прошлогодним листьям.
— Куда думаешь поступать? — спросил я — На био или на физмат?
— Не знаю, — пожал плечами Мишка. И простодушно признался. — Я рисовать хочу. И еще на тигров охотиться.
— Что?! — поразился я, переводя все в шутку, — Это, может, и я хочу — бегать босиком и ловить тигров!
— А чего же не ловишь? — мрачно спросил сын.
"Совершенно запустил он свои мозги с матерью", — подумал я, озабоченно втолковывая сыну, что труд ученого — самый благородный и нужный стране, тем более что во дворе — век НТР, мы та- шнм на своих плечах прогресс. Вот взять последние постановления… Я говорил ему, он слушал, и слушал внимательно, но создавалось впечатление, что слушает только одним кусочком мозга, а все существо его живет шумом далекого уссурийского леса, тишиной и опасностью, где по земле бесшумно крадется рыжий золотой усатый зверь.
— Понял? — спросил я, и он кивнул, но я видел — сын уже не мой, и если только в нем не сработает инерция-все-таки дети ученых идут в институты, — если не остановит страх перед неведомым, убежит мой Мишка ловить тигров пли рисовать на вокзалах цыганок за три рубля лист.
Ты че? — заботливо тронул меня мой сын за руку. Все же, видимо, почувствовал, что мне плохо. — ну, пошли? А то молоко прозеваем.
Я забыл про молоко, а он помнил. Я повеселел. Все-таки, видимо, пойдет учиться, никуда не денется. Мы как раз успели — я купил три литра, а он шесть — для творога, и мы разошлись.
Когда мы были уже в метрах пяти друг от друга, нас окликнула Светлана:
— Эй! Привет!..
Мой сын вспыхнул, как дитя, застигнутый за воровством конфеты.
— Подожди! — Красавица в белом платье приближалась.
Естественно, остановился мой сын, а я потащился к дому, но оказалось, Светлана махала мне (или, будучи уже взрослой коварной девицей, на ходу переиграла, чтобы сильнее уязвить Мишку, войти в его сны):
— Подожди, Виктор Михайлыч!..
Очень тонко она вышла из положения: вроде и запанибрата, и все-таки по и мен и-отчеству. Я проводил взглядом уничтоженного сына — даже не поздоровалась с ним, зараза! — и, сделав озабоченное, взрослое лицо, повернулся к Светлане.
— Витя, — нежно протянула она. — Дядь Вить… Прямо не знаю, как обратиться…
Да, она уже была взрослая девушка, ну, что вы хотите — второй курс. Может быть, взрослее, чем мы думаем, черт их знает. Уверенная улыбка, грация в каждом движении. Туфельки тоже белые. Одета изысканно, как кинозвезда. Папаня старается на стройках социализма и мама тоже.
— Зови Витя, — согласился я, видя, как она изменилась. Я-то явно регрессировал — вернулся в связи с разводом в юнцы. — Ну? Что?
— Слушай — Она приблизила свое лицо и шепотом спросила: — Это правда, от папы была телега? — От нес пахло конфетами, духами "Мисс Диор" (продавали на днях — сорок рублей флакончик), черным кофе, сигаретами. Она заговорщицки замигала. — Ага?
— Д-да ты что?! — сделал я вид идиота — выпучил глаза и открыл рот. Обычно в детстве я вот так и отвечал, когда не желал отвечать, и на меня махали рукой.
— Не надо, Витя… — шепнула мне Светлана. И, поцеловав щеку возле уха (даже прохожих не стеснялась, чертовка! А я. кажется, покраснел), продолжала: — Мне Нинка сказала… с почты…
"Да уж, фиг в нашем Академгородке сохранишь тайну!.." — подумал я.
Я пришел домой, попил молока с хлебом, не поднимая трубку с телефона — он звонил непрерывно, когда я вошел. Наконец, усевшись возле окна и глядя на вечернее небо над сопкой, как на сдержанный пожар (длина волны света 720 ангстрем), снял трубку. Звонила Таня:
— Виктор? Я тебя прошу впредь!.. Он ревет как маленький. Что ты ему сказал?
— Ничего, — растерялся я. — Мы только…
— Для ваших встреч есть понедельники, — отрезала Таня, — И все. И не надо.
— Таня! — вскричал я. — Скажи! Тебе не нужен психиатр?
— Мне?! — Она секунду помолчала. — Почему ты?..
— А мне? — спросил я.
— Тебе? — Она могла, как почти любая женщина, тут же с мстительной радостью использовать этот вопрос — ответить, мол, конечно, вот тебе он и нужен. Но Таня была все-таки хорошая женщина, хоть и меркантильная. — Ты что… болен?
— Я не знаю, зачем мне жить.
— Делай диссертацию! — отрезала она. — Работай как все! Петь же какие-то общепринятые!.. (Ценности — она имела в виду.) Старайся! О, надо было мне раньше оторвать от тебя… (Мальчика — имела она в виду.) Он стал получать четверки! Это перед выпускными!..
— Да, надо было оторвать, — согласился я.
"Прощай навеки! — подумал я в который раз о
Тане. И с усилившимся раздражением вдруг вспомнил о Светлане, — Эгоистичная пустая девчонка! Прыгает, как кузнечик, сама не знает, чего надо! И мальчика моего мучает! Мишу! — Жуткая жалость и любовь к этому нелепому существу потрясла меня, — Чем мне помочь тебе? Деньгами?.." Он не возьмет. Наверняка дал матери слово. Ходит в голубой рвани, трижды штопанной, вроде Кости Иванова. Надо бы ему купить вельветовый костюм! Сейчас вельвет в моде. Кто этими делами занимается? Конечно. моя милая книжница… Среди ночи я позвонил Нелке.
— Ау! — сказал я.
— Уа! — ответила она. Это означало, что она плачет без меня.
— Нужен срочно вельветовый костюм коему сыну! — нарочито грубо и прямо заявил и Неля не обиделась. Ей нравился такой жесткий разговор. Мужчина звонит.
— Двести пятьдесят. — сказала она без промедления. — Через два дня будет.
— Двести пятьдесят? — ахнул я но, чтобы не терять марки, небрежно бросил: — Я думал — четыреста. — И пробормотав из пижонства: — Я тебе позвоню на рассвете, — положил трубку.
11
Наступило лето. Кристаллы наши медленно росли. Шеф уехал отдыхать в Югославию. Вова, прихватив в библиотеке Цицерона и повесив на грудь оловянный крестик собственного изготовления, ушел на месяц пешком в Саяны. Я один остался, без лаборанта и без руководителя, сам себе лаборант и сам себе руководитель. Мне бал обещан золотой месяц — сентябрь. Но еще столько ждать…
На улице висели белые облака пыли, в них что- то время от времени поблескивало — то ли ветровое стекло, то ли включенная фара, смотреть больно. Зной нарастал, как международная напряженность. Израильтяне охамели — вбивали колышки вокруг себя к вешали спои флаги на чужой земле. В магазинах появилось больше молока, и было оно на вкус уже почти натуральным.
Я сидел в майке и джинсах, опустив жалюзи и шторы на всех трех окнах, и полумраке, и читал "Приключения Робинзона Крузо", время от времени поглядывая на показания приборов на всех семи включенных печах. Особо ревниво я следил, конечно, за режимом внутри печи номер один. Растет чернит, сказал бы мой сын, растет чернит — американцев очернит!
Днем напряжение в сети плясало, но ПИТ выручал. Ночью оно было более ровным, и поэтому я мог спать спокойно, дома, но я почти не спал — все думал о своей жизни и перечитывал, как заколдованный. одно и то же место н великой книге — про то, как Робинзон увидел на песке след человеческой ноги. Я разглядывал, наверное, в сотый раз рисунок, изображающий этот момент, и ужас охватил меня, как в детстве. У меня же в комнате не было ни одного чужого следа, тем более женского. Только на видное место я положил шпильку для волос — нашел случайно в книге, куда, видимо, вместо закладки сунула ее Таня. Как-то зайдя ко мне одинокому и таинственному в смысле личной жизни, зануда Серега Попов спросил:
— Запчасти любовницы?..
— Да, — Я подумал, что, возможно, бывает и такое остроумие, и, предугадывая его вопрос насчет книги о Тамме добавил:- Кстати, этой даме я и отдал о Тамме. Кстати, тараторит эта дама со скоростью ноль целых девять десятых тамма. — Все физики знали, что один тамм — это единица скорости разговорчивости…
Но Серега на этот раз не был расположен шутить. Мутными от раздумий глазами он смотрел на полки с книгами, бормоча:
— Так… программирование, фортран… статфизика… кристаллы, фазовые переходы… — И неожиданно спросил: — Витя, ты доволен жизнью?
Если бы он спросил, не знаю ли я. какой длины усы у тигра, я бы удивился меньше. Он вообще все знал, собирал, обобщал.
— Какой жизнью? — растерянно переспросил я.
— Вот этой! — Серега повел тоскливым взглядом по комнате и по окну, но вечерним облакам и разбухшему зеленому лесу, в котором невнятно что-то кричали или пели. — Вот!
— Почему ты вдруг?! — Я позволил, наконец, удивлению отразиться и на моем лице. — Ты-то о чем?!
— А почему он не возвращается?! Костя. Как так можно! Мы шли одним фронтом… мы даже общий эксперимент придумали. Я бы посчитал, что было там через десять в плюс двадцатой степени секунд! А ему — до лампочки! Ну, Утешев ворчал… да пошел он нах хауз! — Я не узнавал Серегу. — Это все равно что ребенка бросить на вокзале… оставить слепую мать! Бабушку!.. Ну. довели бы опыт до конца — и красиво у шел! Я знаю, многие выдающиеся физики любят альпинизм… у меня сердце больное, я бы тоже…
Я хотел ответить, что Костя занимается не альпинизмом. видимо, Серега что-то путает, но не стал ничего говорить.
— А вообще, на фиг вся эта наука? — сказал я.
— Да? — Серега задумался.
Послышался рокот — со стороны юга над рекой ползла фантастической синевы и мощи туча. Она вся дрожала от множества мелких молний’ она была начинена ими, как карась косточками. Она разрасталась на глазах. И молнии на глазах становились толще и белее. И вот по окнам ударил первый гром, верхний шпингалет щелкнул — был повернут не до конца и с лязгом опустился, как затвор у винтовки. Я вздрогнул, а Серега забормотал под нос:
— Километры… мили… лье… Да. белье! — Он вспомнил, что жена просила снять белье во дворе, и заторопился. (Сама она побежала к Нелке Гофман что-то менять или покупать. О, вельвет моего счастья!..) — Насчет "на фиг". Я подумаю. Может быть, и можно достаточно строго сформулировать и решить задачу, на какой стадии развивающейся системе нужен отвлеченный аналитический аппарат, наука. Да! Интересно…
Зашумел, как лошадь мордой в сене, ливень. Хрустнула молния — аж вздрогнул наш каменный девятиэтажный дом. Мигнул свет, оставленный и прихожей. Я встал, выключил его, снова лег.
В шуме и сопении дождя, в звонах отдельных струй мерещилась сладкая протяжная музыка. Наверное, мой сын сейчас не спит. И вряд ли спит Светлана. И Люся. Между прочим, эта грубоголосая, плечистая, самоуверенная женщина куда добрее душой, как теперь я нижу, чем моя нежная, интеллигентная Таня. Так печально жить на свете. Люся хоть плакала при мне. Таня — ни разу. Всегда свежа, спокойна, чиста, стерильна, как хирургический инструмент. Кем вырастет Мишка? "Беру свои слова обратно". Тьфу! Пусть дети будут лучше…
Среди ночи я. наверное, забылся… Но вдруг ощутил смутное беспокойство — что-то было не так вокруг меня. Дождь продолжался, мешаясь с ветром, гул ветра порой даже заглушал рокот уходящей грозы. На улице стоял мрак. Я вскочил, как ужаленный, щелкнул выключателем — света не было. Вон оно что — мой холодильник на кухне не щелкал. Нет электричества! Мои кристаллы!..
Я, матерясь, одевался — запутался в штанинах, упал, больно ушиб локоть. В темноте не нашел плаща. уронил со столика в прихожей круглое зеркало. О. черт!.. Я побежал через лес напрямую в лабораторию.
Кристаллы могут безболезненно пережить отсутствие подогрева всего несколько минут… да и то только те. которые уже дозревают… часовой механизм опустил ампулу с драгоценностью почти до низу печи, где температура сходит на коль. Но если кристалл еще только в фазе затвердения, висит в середине фарфоровой трубы, где пик жары… неважно. сколько он уже провисел — неделю или месяц — псу под хвост вся наша работа! Надо заново брать порошки, запаивать в ампулу, вешать на нихромовой проволочке в печь… Я даже боялся представить себе, что сделалось с нашим трехмесячным чудом — чернитом… ему еще зреть да зреть! А он такой непредсказуемый… Сволочи эти электромонтеры! Неужели нельзя дежурить в грозу?! Сколько не било света? Пяль минут? Больше? Наш институт стоял в ночи, как черная коробка из черно-белых фильмов о войне. Только в одном окне желтел огонек — наверное, вахтер затеплил свечу.
Я стал колотить в дверь — наконец показался со свечой в руке наш старик в зеленой гимнастерке, Петр Васильевич. Он был напуган, долго смотрел в окно, потом долго возился, отпирая…
— Вы что?! — заорал я, врываясь в институт, — Это я, Виктор! — И пробежал по коридору налево, к себе. Надо было взять фонарик. Ничего, кажется, есть спички.
Я влетел в лабораторию — и в эту секунду засветились приборы. Я почему-то вымыл руки под краном. В дверях стоял вахтер.
— Сколько времени не было? — шепотом спросил я. — Точно!
— С-семь… — тоже шепотом ответил старик. Руки у него дрожали. Он, как бабочку, сдавил пламя свечки, погасил.
Я сел на стул перед своими печами, серыми трубами о проводах, которые стояли на манер органа до потолка, н принялся лихорадочно соображать: вынуть чернит или уж рискнуть — вдруг да сойдет… А если скачок температуры отразится на его свойствах — например, треснет? Или изменится плотность, появится затемнение? Ему еще висеть месяц. Приедет шеф, вынет его — а там слои, кзк на бутерброде.
— Что делать. Петр Васильевич?! — спросил я у старика.
— И ведь не позвонили! Из-за грозы, видать! — отвечал краснолицый старик. — Незапланированное отключение! Запланированное будет осенью.
О, зги идиотские запланированные отключения! Зимой в реке не хватало воды. ГЭС не справлялась, без энергии задыхались заводы, поэтому раза два отключали ночью весь город. Экономили. Я не знаю, какую экономию с этого имело руководство города, может быть, рублей сто, но только по нашему институту убыток выходит многотысячный. Гибли бактерии у биофизиков. Замерзали дорогие кристаллы… Даже Попсрска, начальник АХЧ, соглашался, что почин глупый.
Я закурил, смял сигарет)-. Вынул из пятой печи кварцевую ампулу с нежно-голубым камнем (рубидий кобальт хлор-три) — он все равно уже был готов, покатал горяченькую с ладони на ладонь, но решил не вскрывать — завтра. Зарядил печь очередной смесью и вопросительно посмотрел на вахтера. Никак не мог решиться — трогать остальные кристаллы или уж пусть висят.
— В картишки сыграем? — предложил старик. Он, видимо, подумал — все хорошо, никто в окно не лазил. пользуясь отключением сигнализации, не украл чаши искусственные бриллианты.
— В буру? — печально спросил я, вспомнив, что была в детстве такая игра, название запомнилось — слишком уж смешное.
Старик вдруг зауважал меня, сел рядом, дал закурить "Беломор".
— Да, сынок… бура — это игра веселая… да я уж не смогу… рассеянность одолевает!
Да я, наверно, сейчас и сам бы не вспомнил. "А вот Костя уж точно знает, что такое бура!" — вдруг зло подумал я о своем далеком друге.
— Иди, лед, мне некогда! — сказал я вахтеру и, когда тот ушел, налил себе в стакан спирту.
Медленно светало. Гроза откатывалась, уволакивая посеревшую от усталости тучу.
Идти домой? Начнет звонить Нелка Гофман, а откуда у меня деньги?.. А не поехать ли в деревню, к маме? Сегодня суббота… как раз успею обернуться. Я налил полное ведро воды и поставил на пол, глядя, как па дне играет рябь света. Вот точно так снял когда-то свет на волнистом песчаном дне речушки Лосихи, впадающей в нашу великую Реку, где мы жили у самого устья…
Село мое на дне морском, бормотал я, пои там. Сидел и курил над ведром с водой, как делал всегда в минуты жесточайшей тоски. Если за этим делом прежде заставала Таня, я объяснял, что вода впитывает дым, я пекусь о здоровье Тани… Мой отец всю жизнь провел на воде, в длинной — на три волны — лодке. Красноносый, очки облеплены рыбьей чешуей, брезентовые штаны сзади как зеркало, пальцы в черных трещинах — прорезаны сетями. Как переехали в новый поселок, загоревал старик. "И это якобы жизнь?!" Он и раньше, бывало, срывался, пил, а тут будто помрачение нашло — буянил, на крыше спать ложился, не хотел работать."Да и какая тут якобы рыба, орал. Щука? Не рыба, а гвозди в женском чулке! Где хариус нынче, где ленок, где таймень? Где счастье, где вера, где порядок? Помер он, и по настоянию друга отца, Никиты Путятина, похоронили его на новом кладбище, на самой макушке холма — чтобы каш, противоположный, затопленный берег видать. Старик Никита оказался провидцем — новоявленное море стало в непогоду ежиться, гнать огромные волны, рушить берега, подъедать и подкрадываться все ближе ~ пришлось целую улицу заново перетаскивать от воды подальше, а потом и край кладбища. Так и двигалось теперь мое село, пятясь от водохранилища к городу, да и город, расширяясь, шагал в тайгу, к моему селу. Между ними высилась плотина, питавшая светом окрестности. К слову, мы как-то подсчитали на ЭВМ — если не дай бог стукнет по плотине метеорит из космоса или еще что, родится вал воды высотой в сто сорок метров и весь наш город снесет. А ведь кто-то утверждал проект? Мой шеф однажды обмолвился — лично он предлагал строить ГЭС ниже города, в двухстах километрах— обошлось бы ка пятьдесят миллионов дороже, но зато Река бы в городе зимой замерзала, не парила, люди бы не болели, да и опасности вот этой не было… Интересно узнать, где сейчас эти люди — авторы проекта? Мой отец, помню, долгие годы записывал в тетрадку фамилии всех-всех браконьеров, вплоть до высоких начальников, кто, по его мнению, шел против народа, против совести. "Вот отправлю в ЦК!" — грозился он, потрясая тетрадкой в коричневом коленкоре, сверкающем от чешуи. Вряд ли послал… Но ведь прав был отец — если мы прославляем хороших людей, почему не позорить плохих? Нарисовать портреты проектировщиков на здании этой ГЭС…
Я слил воду из ведра, выключил свет, запер лабораторию и побрел домой, обходя на асфальте белые, словно молочные, лужи. Почтальон Валентина с тяжелой сумкой на животе несла почту.
— Вам. — протянула она телеграмму.
"Господи!.. — Все обмерло во мне. — Не от мамы ли?." После смерти отца я стал бояться, телеграмм.
Нет, телеграмма была от Кости: "ДЕНЬГИ ПОЛУЧИ ГЛАВПОЧТАМТЕ ТАМ ДАЛЬШЕ И ПИСЬМО НАШИМ НИ СЛОВА ОБНИМАЮ КОШТА ГОМЕШ".
Я пожарил яичницу, разглядывая телеграмму. Она была из Тувы. Из Тувинской автономной республики. Ничего себе, носит человека — с востока на юг страны! Бич. Бездельник. Я поел, порвал телеграмму и, глянув на часы, поехал в город.
Он перевел мне двести шестьдесят рублей. Поразмыслив, я понял: шестьдесят — это проезд на БАМ. "Точным стал!.." — еще больше озлобился я после беспокойной ночи.
— Должно быть еще письмо, — сказал я девушке, которая сидела за буквой "Н". — Посмотрите — Нестерову.
— Пишут, — отвечала девушка.
"Вот! Я еще должен теперь сюда ездить, ждать письмо!.." — все больше распалялся я. В переполненном автобусе вернулся в Академгородок, и только пошел домой — ко мне постучалась Люся, и бело" юбке, белом пиджаке и рубашке, с коротким синим галстуком. Лицо у нес было мятое, мучнистое, видно, тоже плохо спала.
— От Кости нет ничего? — буркнула она.
"Узнала от почтальона, — понял я. — А чего мне врать?"
— Прислал деньги. В телеграмме было — Tyвa, проездом.
— Правильно, Тува, — Люся, не моргая, смотрела на меня. — Я все больше вижу — ты очень порядочный, Витя. Я тебе верну Таньку, вот собакой буду!
— Не надо, — тихо сказал я. — Не надо мне Таньку.
— Как хочешь, — тут же согласилась она, занятая, конечно, своими заботами. — А он честный. Молодец. Возвратил долг.
— За проезд, — уточнил я, проверяя, сказала ей Светка про первую телеграмму насчет денег или нет.
— Вот! Я не догадалась, а он…
— Я бы у тебя не взял! — Было ясно, что Светка молчала как рыба. — Да и у него… Но раз уж прислал… Могу тебе отдать!
— Да ты что. смеешься?! — вдруг заплакала Люся. — Издеваешься?! Вы че, правда меня все курку- лихой считаете?! Будто я толкнула на пагубный путь! Я получаю двести — разве нам с дочкой не хватает? Да она сорок рэ стипендии! А я училась — двести старыми получала! И все! И ничего — выросла! Где директор? Где парторг? Все в отпуску! Я больше не могу! — Она достала из сумочки сложенный лист бумаги.
— Ты что, заявление принесла?! — испугался я. Еще не хватало ей сейчас развода. Или отречения от мужа.
— Возьмите!.. — Люся протянула бумагу. Я развернул. На ней было написано следующее: "Ввиду того, что я не смогла оказать должное положительное влияние на своего мужа, Иванова К. А., который сейчас работает на различных стройках страны не по специальности в связи с необходимостью улучшения своего физического состояния, прошу вывести меня из состава профкома института и снять с меня все общественные нагрузки, как-то: Фонд мира, общество трезвости, общество "Знание", из-за отсутствия моральных прав с моей стороны…" и т. д. Я читал это безумное, тоскливое послание, которое, разумеется, не стали бы всерьез принимать в расчет ни директор, ни парторг, а Люся села на стул и разревелась, совсем как простая деревенская баба.
"Господи, — думал я. — Женщины наши милые! Зачем наукой-то занимаетесь?! Зачем лезете в руководство?! Рожали бы, воспитывали детей. Вы' не нам — себе, себе делаете хуже! Вы и докторскую можете защитить, и академиками стать… только надо ли?! Кому что доказываем?!"
— Я передам, потом, — сказал я, понимая, что ей нужно отдать эту бумажку хоть кому-нибудь, сбагрить с рук и успокоиться. — А сейчас иди и работай.
— Я правильно поступила? — спросила Люся, вставая и утирая тяжелой кистью в веснушках мокрое от слез лицо. — Да?
— Ты поступила как настоящий хороший работник, — произнес я идиотскую фразу, наверняка слышанную в каком-нибудь кино. — Иди, Люсенька. А если что будет от него, я тебе передам.
Она обняла меня, поцеловала. Не хватало еще, чтобы в эту минуту ко мне заглянул кто-нибудь из соседей.
— Эх, Татьяна! Это я, я виновата… — прошептала Люся и выскользнула, прикрыв бережно дверь за собой в знак уважения ко мне…
12
Наконец пришло письмо от Кости Иванова. Я читал его поздно вечером, вернувшись из города, — мы с Нелей Гофман ходили на американский фильм "Три дня Кондора" (о честном работнике ЦРУ. Ха-ха!..). перед сеансом я забежал на главпочтамт. но при Неле не стал вскрывать конверт. Кстати, Неля смотрела на зкран отнюдь не узкими глазами, они у нее были восторженно-круглые. Но когда мы вышли на улицу, она снова их сузила — наверное, ей казалось, что так она больше нравится мужчинам, так в ней больше ума и значительности, не говоря о темпераменте. Кто знает, может, она и права. Насчет вельвета я сказал ей, что подумаю, что мне обещали японский велюр…
Костя писал: "Ну. здравствуй, Витек! Не хотел я тебе писать, все равно не поймешь, но сегодня такое расположение облаков на синем небе — напоминает детство, вдруг и тебя проймет… Старина! В сутках 24 часа. 8 мы спим. Часа два едим и прочее. Остается 14. На работе — минимум—10. Остается—4?! Это на книги. Кино. Плакаты. Названия магазинов. А что это значит? Мы — смотрим — на мир — чужими глазами (книги, кино, телевизор). Мы слышим — мир — чужими ушами (радио, телевизор). Мы — живем — чужой жизнью! Истинную жизнь — землю, на которой нам посчастливилось родиться — ты видишь только по дороге в НИИ. Это две-три березы, на которых рассеянно остановился твой взгляд. Синица или ворона. Белка на сосне, занятая своим делом. В лучшем случае, обломок стекла, стрельнувший зеленым лучиком тебе в душу. Кошка, перебежавшая дорогу. Старик Петр Васильевич, кушающий яйцо с солью. И неизменно шутящий. что соль — бертолетовая! Вода из-под крана в лаборатории, которой мы запивали спирт. Голубая, чистая. Пьешь, даже не думая, что наша река — может быть, последняя в Сибри, вода которой без очистки идет в трубы водопровода. Другие реки уже опасны. В них щелочь (Ангара) или кислота (Томь). Можно даже соединять реки и устраивать взрывы, что и будет в будущем… Короче! Живем свою жизнь — и не свою. По чужой колодке. Почему я пошел в университет, да еще на биофизику? Престижно. Помнишь, девять человек на место?.. Родись я на пять лет позже — пошел бы уже в экономический или даже торговый. Нет? Да и в школу повели учиться в престижную, номер 1, куда брали особо развитых или детей не совсем рядовых родителей. И повели-то с 6 лет — уже умел читать, считать… И конечно, тут все предопределено: золотая медаль, ленинский стипендиат, аспирантура при БГУ и — в НИИ… хотя тут и начинается буксовка… кончившаяся. как сам видишь, побегом. Аукаются мои многолетние терпения (можно так сказать?), суровая четкость нашей семьи, тихий непререкаемый голос бабушки… считающая, что только тек можно жить, правильная до квадратности ногтя на мизинце ноги бедная моя мама… ей бы не в судьи, не в кровь и гной… а варежки вязать, цветы сажать… А если ты, Нестеров, побежишь — аукнутся беспаспортные годы твоих предков-крестьян… но ты не побежишь! И не вылезай! Чем скромней, тем прекрасней! А я вот шишковать собрался… на выручку (6–7 тысяч) машину куплю. Не себе — Люсе. Она когда-то мечтала, а потом подавила желание. Значит, еще больше мечтает (хотя бы во сне). А скажет "нет", Светке отдам А ей не надо — сдам в Фонд мира, и Люську изберут в еще более высокий орган Совета Зашиты Мира (так называется?). Там, глядишь, моя баба будет заседать в ООН! А кто помог?.. Скромный муж-рабочий! Ах, не в злотых дело, ясновельможный пан! Скажи, ты давно брал в два пальца прозрачный натек смолы у лиственницы на порезе и нюхал, и жевал? А давно пилил бензопилой "Дружба" хоть прутик, торчащий из земли? (Кстати! Из одной колонии два парня улетели — состряпали вертолет из двух бензопил "Дружба", пропеллеры из досок сообразили. прицепились и — над колючкой… и — ушли! Одного ты видел — Ситников с бородой… Разве не гениален наш русский народ?! Королевы, Гагарины без всякого высшего образования!) А давно ты купался в проруби? Спал на леднике? А можешь ты поднять центнер? Умрешь? А вдруг нет? Как же так, мы пришли на этот свет и уходим через десять в восьмой степени секунд — не только что этот свет, но и себя не узнавши?! Я не о том, чтобы по углям ходить, но все же… Ну, вырастишь ты еще мильон кристаллов, защитишь, как я, кандидатскую, и ляжет еще одна никому не нужная, старательно склеенная тетрадочка в библиотеке! И что? Мир перевернулся? Великие вопросы бытия решены? Если не получается, лучше хоть что-то другое попробовать! Но чтобы — на пределе! Почти грандиозное! Я бы мог вкалывать и в городе, но Люське будет неловко, да и девчонка взрослая… Пока я далеко, они еще могут как-то пристойно это объяснить. Да и мне лучше вдали — можно с людьми разговаривать. Вот попробуй на улице останови незнакомого дядьку (не говорю уже о женщине), спроси: кто он. откуда. Что думает о смысле жизни… Хорошо, если по морде не даст. Да и сам не решишься подойти. А вот в чужой стороне… особенно в дороге… Люди истосковались по искренности — поэтому бегут, желая непременно говорить с чужими — те скажут, что думают… Одно плохо — приходится пить… без вина с людьми иной раз не разоткровенничаешься… какая-то стена… Только умоляю — не вздумайте меня искать! Не найдете! Я тут шишкую, потом рвану на Камчатку. Хочу на вулканы! Говорят, там нужны геофизики. А почему бы нет?! Диплом я тогда у Люси слямзил, сунул а карман… на всякий пожарный. Хочу попробовать себя со всех сторон, как космический аппарат, влетающий а плотные слон атмосферы. Выберу самое интересное— остановлюсь. Прощай! Обнимаю! До встречи в старости! Ты — красивый пенсионер, загорелый на курортах АН СССР, прославленный, а я к тому времени — изношенный, в лохмотьях, беззубый, но счастливый. Как там мои? Черкни, так и бить: Тува, Кызыл, главпочтамт, до востребования. Качуеву Андрею Ивановичу. Твой Константин Паузовскнй-Иванов".
Я читал и злился. Какую-то конспирацию затеял! Какого-то Качуева нашел! Черт, не надо было мне тогда спать — я бы пе упустил его из вагона. Раздражение усиливалось еще оттого, что не все было понятно из письма, а в разговоре не успел спросить. Например, почему он заикался на Севере? И что это за жаргон? Чтобы подстроиться? Или уже отсидел в какой-нибудь камере? Я все больше распалялся, читая эти мятые листочки, понимая, что не хочу думать о самом себе. О своем собственном кризисе… Конечно, Иванов был во многом прав. Но наши судьбы, несмотря на свою схожесть, имели совершенно разные корни. Я тоже попал в школу с шести лет, но не потому, что умел считать и писать, а по рассеянному самодурству отца-рыбака. Он забыл, сколько мне, и, несмотря на слабое возражение матери, постановил отдать. А в университет я пошел, чтобы скрыться в совершенно другом мире. От стыда за своего отца. Он не только записывал в тетрадочку фамилии "врагов" — в последние годы слал письма в прокуратуру, в милицию, в райком партии. Сотнями! Его приглашали, уговаривали забрать заявления, пугали. Распустили слух как о склочнике. "Подумаешь, милиционер поймал трех осетров… может, он сам забрал у браконьеров?! Подумаешь, инструктор плыл с сетью — он же говорит, что взял ее вместо гамака для жены…" Отец стучался все выше по кабинетам. "Когда-нибудь!.." — грозил он пальцем, снимая очки и вытирая слезящиеся глаза. Я убежал от него, не стал ему помощником. Да и не любил он эту крикливую работу со множеством людей, матом-перематом. неводом, длинными жестяными лодками, тяжелыми веслами, ржавым звеном тракторной гусеницы вместо якоря. Мать моя стоит кладовщицей у складовских весов, резиновые сапоги в чешуе, как в старом сугробе, руки в чешуе, гирьки в чешуе, рыжая чешуя блестит даже на полосах, выбившихся из-под темного платка. Все пропахло рыбой. Даже мед. А я любил тишину, не реку, а озеро, и если рыбалку, то с одной удочкой. Со всех сторон замерла тайга. Вода гладкая, черпая, как агат. Светимость ее равна нулю люменов. Глубина невообразимая. Даже страшно. Мой зеленый камышиный поплавок торчит над этим черным зеркалом. Вдруг — медленно двинулся в сторону. И я ушел в кристаллы, в красоту. Если честно, я сбежал. И заикание мое от крика отца. От его бунтов и матерных рифм: "Сколько мы будем Европу целовать в… пятку?!" Трудный был человек. Сейчас я тоскую по нему. Вот бы сейчас к нему… хоть на день! Послушать его речь: "Это якобы мой сьн?! И якобы ко мне он приехал?!" Ведь если забыть весь шум. он столько сделал для нашего села (даже для нового). Ею все-таки воры боялись. И рыба в магазине была. Теперь по его стопам пошел мой брат Мишка. Только что ловят-то? Щуку!.. "Гвозди и женском чулке". Мать устала от слизи и вони, перешла из коопторговского в государственный магазин, где музыка играет, цветастые платья на плечиках, конфеты в мешках. Всем хочется красоты. И тишины. Почему же Костя бежит от всего этого?..
На отдельном листочке фломастером он написал: "Письмо провалялось в патронташе, вот решил еще… Хочется многое забыть. А чтобы забыть, надо подарить. Дарю тебе идеи, которые создало человечество о зарождении жизни на Земле. Ты ведь вроде камбалы — узкий специалист, хоть чем-то расширю твой кругозор. Аксиома: первичная атмосфера состояла из аммиака, метана, водорода и воды. Миллер и Фокс говорят: молнии могли бы создать огромное разнообразие мономеров и полимеров. (Я попробовал электроразряды — да. это так.) Добавим сюда и радиацию с неба (тогда не было озонного щита). И выбросы вулканов. Но каким образом из этого варева возникли высокоупорядоченные живые системы? Как говорит Мурбаф (Англия), далее — таинственный маленький пробел в семьсот миллионов лет! Как организовался первый белок — что белок?! — как возник весь механизм РНК-ДНК… способность к однозначному самовоспроизведению! Нейман доказал теорему о невозможности возникновения самовоспроизводящей системы в результате слепого случая. Так каким образом?! Бог? Это несерьезно. Или слишком серьезно. Кроме — мы НИЧЕГО не знаем. Вариант поиска: Уайт (США) работает с глиной. В ее порах возникают удивительные реакции. Глины на берегах древних океанов было много. (Или: края жерл вулканов плюс дожди.) Смена жары и холода — ритмическая. Света и тьмы — ритмическая. Но вопрос: можем ли повторить? Знаем ли хотя бы продолжительность дня 4 миллиарда лет назад’ Планета крутилась быстрее. Ашер говорит: продолжительность была от 5 до 10 часов. Значит, ритм перемен быстрее… Попробовать? Пробовал. Чтобы проанализировать все химические реакции, которые возникли, я считал полгода. И запутался. А зачем считал?! Пусть заграница считает! Делать им не хрен! И вообще, все это неинтересно! Жизнь есть — и слава богу! Змея сама себя не съест. Познать, как возникла жизнь, невозможно (вот прекрасная тема для теоретика Сереги Попова — только ведь не станет разрабатывать, потому что тема бесперспективная, ибо — пессимистическая! Все пессимистическое — как дурную траву с поля вон!). Понять нельзя, но создать можно! Я — бог, создал Светлану. Ты — бог, создал Мишку. Надо теперь жить да радоваться! Что я и делаю! А ты завидуй до клекота в горле! Прощай!.."
Я сидел с полчаса или час, перечитывая письмо. Он разочаровался в своих силах. Если бы бил в точку, из него бы вышел ученый. Все же он разбросанный. А я, пожалуй, нет. И все-таки меня глодала неясная тоска, будто я стоял спиной к крутому глубокому оврагу…
Я включил телефон — он тут же задребезжал. Я хотел позвонить Нелке, сказать, что сейчас закачусь в гости, забудусь, глядя в ее ложнокорейские глаза. Мы до сих пор еще, впрочем, не перешли последнюю черту, хотя давно уже перебрасывались шутливыми намеками на сей счет. Я думаю, сегодня, после совместного посещения кинотеатра, она приготовила коньячку и лимончику и ждет… но это я должен был ей позвонить, а не она. Это ужасно, если женщина просит. "Снегопад, снегопад…" Более пошлой и более унизительной песни я не знаю! Впрочем, это мое личное мнение. Если звонит Неля, я к ней не пойду; а если не она, кладу трубку и бегу именно к ней, к Неле. Я снял трубку. Звонила Неля.
— Ну, что? — интимным ночным шепотом спросила она, — Как дела? А я слушаю Альбинони. Хочу перебить этот кровавый фильм. Сейчас буду баиньки.
Она не напрашивалась, а если напрашивалась, то очень тонко. Но это еще хуже! Ну почему она несчастна? Почему у нее, такой гибкой, узкоглазой, страстной, никого нет? А откуда ты знаешь? Может, есть А сегодня — ты. Вельвет.
Я молчал.
— Ну? Баиньки? Завтра позвонишь? Все-таки мне принесут вельветовый костюм — может, посмотришь?
— Спасибо, — пробормотал я. — Спокойной ночи… — И, подождав, когда она положит трубку, положил и свою. Черт ее знает, может, мне все это мерещится, и ей нужно только по хорошей цене сбагрить заказанный вельветовый костюм?.. Тане позвонить? Сказать: ты!., завистливая, сухая!.. Сергею Попову? Попросить этого зануду подсчитать какой-нибудь трудный интеграл к утру, поклявшись, что мне это необходимо, но у меня не выходит?..
Ну, Костя, ну, Костя!.. Черт знает что. Я порвал письмо и лег спать..
13
Наступил конец августа, мне пора ехать в отпуск. Я уже решил так: навещу мать в деревне, потом закачусь на три недели в дом отдыха "Голубой камень" — на берегу изумительного озера под таким странным названием. Говорят, во времена Екатерины сюда приезжали поправлять здоровье всякие графья, вода обладала целительным свойством — после купания мужчины молодели и становились любвеобильными. Уточняю — я не потому собрался ехать туда, что мне нужно было поправить здоровье, а просто досталась дешевая путевка; да и рыба там клюет отлично — сорожка и окунь, ну и мать рядом — через сопку и через Черный бор…
Я сдал дела шефу и лаборанту Вове. Кристалл чернита был собственноручно извлечен Иваном Игнатьевичем из кварцевой ампулы и рассмотрен в лупу, пока еще предварительно — красоты необычайной получился камень… но более скрытые, глубинные качества проявятся позже, при шлифовке и проверке на приборах.
Только я собрал чемоданчик, в дверь позвонили — пришла Люся.
Она все лето провела на работе, в мрачном нашем НИИ, но каждое утро тайком загорала на балконе и стала вся нежно-золотистого цвета. Костя, дурак, где ты бегаешь?! Светка же на днях вернулась из турпохода (уж не с Вовой ли холила по Саянам? Не Цицерона ли читала?) — обветренная, смуглая, как индианка, и ужасно раздраженная. Мы встретились на улице — небрежно кивнула и прошествовала мимо, будто не она всего два месяца назад плакала передо мной в лесу, опустив голову. Бедная Люся, каково ей со взрослой дочерью!
— Ой, хорошо, что я тебя застала, Нестеров! — заговорила Люся, выбрасывая из чемоданчика рубашки. майки и прочее белье и аккуратно заново все складывая. — Витек! У тебя месяц свободного времени?
Я кивнул и стал с наслаждением объяснять, что я сначала заеду к матери, а потом… У меня мелькнула мысль, что она попросит привезти ей из тайги мумиё или даже приворотный корень, чтобы растолочь его и переслать проклятому мужу, насыпав, например, на конфеты. Но Люся вдруг упала на колени передо мной, складывая руки, как это делают на сцене актеры в трагических спектаклях, и закричала:
— Витенька! Ты поедешь к Косте!!!
Никогда еще не стояли передо мной женщины на коленях, даже коллекционеры редких камней, не говоря о том, что я сам никогда не стоял, стеснялся этого ужасно. Я подхватил под мышки тяжелую женщину и усадил на тахту.
— Ты че? — обиделся я. — Я маму не видел три года!
— Ты к маме потом поедешь… и не один! Пока ты ездишь за Коськой, я тебе Таню верну!
— Да я сказал тебе — не надо мне ее, курву стеклянную! Я и один проживу! Лучше найди мне подругу!
— Найду! — клялась Люська, не отнимая сложенных ладоней от груди. — Только привези Костю! Начнется новый учебный год… директор обещал… в университете его студенты ждут… Он так замечательно читал им биофизику. Витя! Ты сегодня же поедешь к нему! Я всю жизнь буду тебе обязана, Витя!
Я потер лоб. Ну, как же действительно быть?! Хорошо, я путевку отдам Сергею…
— Ты что думаешь — он так и сидит в Туве?! Он. может, уже на Камчатке?!
— Последний раз ты весточку получил из Тувы?
— Из Тувы — Под взглядом Люсиных глаз я не мог врать.
— Значит, там его следы. Я тебе оплачу дорогу. Умоляю! Пожалейте меня, товарищи!
Я закурил.
— А если его там нет? И где я его искать-то буду? Тува большая, целая республика. С горами. Как Швейцария.
— Найдешь! — Страстно смотрела в окно, как бы на далекую Туву, на город Кызыл, Люся. — Ты же мужчина.
"Аргументы у вас у всех одинаковые", — подумал я. вспоминая фамилию, через кого я мог сообщить Косте о своем приезде. Качуев Андрей Иванович.
— Но он хотел заняться шишкованием! — вспомнил я, — Тебе на машину денег накопить…
— Не хочу я машину! — закричала Люся. — Я ее в реке утоплю! Я его самого хочу… бедненького моего…
— Ну, хорошо. — Положил я руку ей на плечо, чтобы она не плакала, — Я поеду. Но как я найду его? Ты же не думаешь, что он стоит сейчас в Кызыле на главпочтамте и ждет меня? А возьмусь там караулить— откуда я знаю, кто из приходящих Качуев. Буду подслушивать — еще арестуют, как шпиёна! Что ли жениться на работнице почты? Ну, ты вот умная — разве не глупость искать его? А напишу "встречай" — тем более исчезнет в тайге! Нет. Люська, пустой это помер.
Люся поджала губы, моргнула мокрыми светлыми глазами. Наверное, в ее мозгу сейчас бешено крутились варианты не меньше чем у Анатолия Карпова или Гарри Каспарова на мировом первенстве по шахматам. И вдруг она неуверенно прошептала:
— Ты… дашь ему телеграмму…
— О чем?! Что вы со Светой болеете? Me поверит. Может быть, у него тут есть человек, который его информирует.
— Ты… — она торжественно затянула паузу, — ты попросишь у него… денег в долг! — Люся все-таки нашла гениальный ход. — А чтобы он поверил, побольше! Ты ведь тоже честный и стеснительный. Он тебе пришлет. А обратный адрес размотаем! Он ведь обязательно напишет где-то свой обратный адрес. А поскольку сумма большая — напишет подробно!
Я с удивлением смотрел на нее. Что-то подобное зрело в моей башке, но она сообразила быстрее. Неужели женщины умнее нас? Или это только тогда, когда дело касается их собственного существования?
— Ну как? Пойдет?
Мы, будто дети, играющие в таинственную игру, вместе прибежали на почту. Люся мне подсказывала шепотом, я писал: "ТУВА КЫЗЫЛ ГЛАВПОЧТАМТ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ КАЧУЕВУ АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ КОСТЯ ВЫРУЧАЙ СРОЧНО ТРИСТА ВИТЯ".
— Срочную? — спросила работница почты.
— Да, да! — Замотала головой Люся, протягивая ей сотенную бумажку. А когда мы вышли на улицу, робко спросила: — Может, в ресторан сходим? Такой бледный. Тебе надо подкрепиться.
"Вот еще, будет она меня угощать взамен за мою помощь!" — возмутился я. Люся поняла без слов.
— Я к тому, Витя, что такая тоска на душе… Давай у меня дома, а? Есть коньяка полбутылки… музыку включим…
Мы поднялись к ней в квартиру. Светлана сидела в вечернем сумраке перед телевизором, мрачная и одинокая, в черном длинном платье, как старая леди.
— Дочка, дядя Витя едет к папе.
— Угу, — отозвалась дочка.
Люся притащила на кухню японский магнитофон. Ом замурлыкал, посвечивая дорогими кнопками. Мы сели друг против друга, Люся подкладывала мне в тарелку всякую закуску и шепотом говорила:
— Ты главное скажи ему — здесь все как-то привыкли… ну, чудак, ну, захотел посмотреть мир. Но ведь сколько можно, верно? И мне неловко, верно? А приедете — мы можем вместе поехать к твоей маме.
— И на озеро Голубой камень? — с нахальным вызовом спросила из соседней комнаты дочка. Она сидела, не включая света, и все слышала. Я не понимаю, что, у детей слух лучше?
— А что. — не понимая намека, согласилась мать. — Там брусника по увалам. Дочка, а не хочешь лимонада за здоровье папы?
— А он у нас есть? — раздалось из темноты. Мне это не понравилось. Я встал, вышел к Светлане. Она валялась на тахте, как я валяюсь, когда у меня плохое настроение, и курила. Не хватало только рядом ведра с водой.
Как можно более строго хмурясь, я показал на сигарету — Светлана с улыбкой покачала головой.
— Она курит?! — догадалась Люся и выбежала из кухни, — А ну прекрати, негодница! Тебя этот поход испортил! Провоняла вся бензином, табаком! Ночью зубами скрипишь, как грузчик! — Она вырвала у дочки окурок, курнула сама и смяла в пепельнице. — Чтоб я больше не видела!
— Дядя Витя, — слабо позвала, зевая, Светлана, — возьмите меня с собой! Я хочу на папеньку посмотреть.
— Он его… они вместе вернутся, — сказала Люся.
— Нет, — покачала дочка ножкой в гладком чулке. — Светит незнакомая звезда. Этого не будет никогда! Передайте ему — если он не вернется, я выхожу замуж! Вот!
Мать вдруг обмякла и села рядом с дочкой. Было видно, что между ними что-то происходит. Я стал извиняться и откланиваться. Но они обе вцепились в меня, не отпускали:
— Нет. нет!.. Сиди!..
Видимо, они устали быть вдвоем — им нужен был кто-то третий.
— Дядь Витя, я утрирую… но это подействует!
— Видишь? — прошептала Люся, кивая в сторону дочери, — Привези, милый! Привези его! Сделай всё возможное и невозможное!..
Через два дня на главпочтамт пришел телеграфный перевод из Владивостока, от Иванесова Константина Авксентьевича. Наверное, ошиблись телеграфистки, подумал я, получая деньги. Мы с Люсей запросили обратный адрес Иванова (Иванесова), и через, день я уже знал его. Владивосток, улица Лазо, 5.
На следующий день, проклиная все на свете, но заинтригованный, как при чтении детективного романа, я вылетел во Владивосток.
14
И было мрачное утро, и было сияние на востоке — там выгнулось зеркало океана.
Мы приземлились — и я пошел искать эту улицу и этот дом. Я-то уж думал, мне придется, как разведчику, выспрашивать у людей, не видели ли вот такого человека, и прихватил с собой фотографию Иванова. Настояла Люся, хотя, конечно, это было смешно: он теперь в бороде, а если уже и сбрил ее, все равно не похож — фотография сделана лет пять назад, когда у него, у Кости, было совершенно другое выражение лица. Это очень важно, другое выражение лица. Раньше у Кости оно было постное, как у схимника или у пора на суде. А сейчас, если вспомнить нашу весеннюю встречу, вон какой мордоворот. И голос как у зэка. И глаза как у горца.
Я стоял перед деревянным двухэтажным домом, у входа в которым висела стеклянная доска: АКТЕРСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ. Я удивился, но не больше, чем если бы здесь было написано, что здесь школа космонавтов. Ну, актерское так актерское. Видно, подружился и тут живет. Из коридора пахло селедкой и духами. Я прошел по первому этажу до круглой железной печки — все двери заперты, тишина Поднялся на второй этаж — здесь тоже никого, и лишь из-за одной двери доносился сладенький, очень гибкий женский голосок:
— Сердце мое… ля-ля-ля… ля-ля-ля… ля-ля- ля-я!.. — пели известное танго прошлых лет. Я постучался в приоткрытую дверь, из-за которой дохнул старыми окурками. Выглянула худенькая, черная, как ворона, девушка в накрученных бигуди.
— Ой! Вы новенький?!
Я кивнул и полез во внутренний карман пиджака за фотографией. Девушка взвизгнула, но я понял —
это она так радовалась. (Она была татарка или башкирка.)
— Вы пистолет достаете?! Мы тут ставили американскую комедию… так вот у них этот жест одному парню стоил жизни! Я — Зульфия. А вы — герой или жанровый?
Я, на всякий случай, сказал, что не герой. Девушка еще более просияла и начала быстро освобождать волосы от черных шпилек.
— Терпеть не могу героев! Задаваки!
— А где… Костя? — осторожно перевел я разговор в нужное русло. — Иванов… Иванесов… Иваньке- вич… — я вроде бы шутил, искажая фамилию Кости. Но должна же была она знать хотя бы одну из этих фамилий, если он тут живет.
— А, Иванесов! — Она вся затрепетала от обожания. обливая лицо черными волнистыми волосами, — Костюнчик! Так он твой друг?! — Откуда-то из этого колокола появилась маленькая цепкая рука и рывком протащила меня через порог, — Ну, входи же! Стоит как Командор! Это он тебя вытащил? Он говорит, скоро всех своих созовет, из разных городов… гениальные ребята! Надо же. такой театр расформировали! Кретины!
— Кто? Где? — спросил я, улыбаясь, как бы зная, о чем речь, но желая услышать из ее уст.
— Как где?! В его родном городе! В Фергане! Был великолепный русский театр! Продержался год!
Я только вытаращил глаза.
— Расформировали! Денег, видите ли, нет! Половина в Питер подалась… а он — по Сибири. Говорит, даже в цирке успел поработать… кормился мясом тигра… то есть тигр делился с ним… то есть укротительница тигров делилась с ним… он такой симпатяга! — Зульфия погрозила мне пальцем и, зайдя за перегородку, полупрозрачную, чуть выше плеч, стала переодеваться. "Ну и нравы", — подумал я, заметив мужские джинсы, валяющиеся на одной из коек, окурки на полу и игрушечный пистолет с шариком на подоконнике — здесь явно живет и ребенок. — А вы в комедиях играли? У вас нос картошкой… и глаза маленькие, свинячьи… чур, я с вами, если что! У нас получится! Я и вы, заметано? Как вас зовут?
— Витя… А где же… Костя? — все-таки решился я напомнить о цели своего прибытия.
— Как где? На репетиции! — удивленно воскликнула девушка, натягивая синие жесткие мужские джинсы и локтем чуть не уронив загородку. — Мы сейчас туда и пойдем! Он репетирует — и знаете что? Вы его, конечно, видели в звездной роли? — И Зульфия, выхватив из-за шкафа шпагу, слегка заунывно начала читать, наступая на меня:
Он молится. Какой удобный миг!
Удар мечом — и он взовьется к небу,
И вот возмездье. Так ли? Разберем.
Меня отца лишает проходимец,
А я за что его убийцу шлю В небесный рай.
Но это ведь награда, а не мщенье…
Скажи, ты счастлив за своего товарища?! Через неделю газеты напишут — Костя в роли Гамлета!
— Гамлета? — Я закивал, как лошадь, холодея при этой невероятной новости. Я ничего не понимал. Может, все-таки в данном конкретном случае это другой человек? — Иванов?!
— Ну, Иванесов! Он говорит, с Кавказа вообще- то. Такая чудная смесь кровей! Армянских и цыганских… русских, конечно. А голос! Взгляд! Нет, он гений, это я точно знаю! Давай мы ему отсюда позвоним! Вот обрадуется!
Я подумал: "Может, не стоит? Вдруг сбежит?.." Но мы уже спустились бегом на первый этаж. Возле выхода на тумбочке пылился черный старомодный телефон, весь обмотанный разноцветной изолентой. Зульфия схватила трубку. В кедах на босу ногу и в прозрачной блузке, надетой на почти голое тело, она обняла меня одной рукой за плечи, как брата, и принялась набирать номер:
— Алё-о-о? Занято. Ты с ним играл? Конечно, немного под Володю Высоцкого… — Она изобразила хриплый голос. — Обритый…
— Обритый?!
— Ну, он обрился! А тогда нет? Видно, ищет. В черном трико, под лучом прожектора — прямо как зэк! Алё?.. Занято.
— И без бороды?!
— Конечно! Синяя башка! Черное лицо! — Она тихо засмеялась, радуясь, что я от нее первой узнаю что-то новое про своего друга. — Алё?.. Занято… — И вдруг завопила, оттолкнув меня:
Вот два изобр-раженья: вот и вот.
На этих двух портретах лица бр-ратьев.
Смотрите, сколько пр-релести в одном!
Л-лоб как у 3-зевса! Кудр-р-ри Аполлона!
Взгляд. Мара, гор-рдый, наводящий страх…
Тем временем тонкие розовые пальчики се продолжали крутить диск и нажимать на рычажки, поскольку абонент был занят. — Но скромный. Он тут же сначала грузчиком в порту… у них Дом моряка, самодеятельность… Вышел — и все обалдели! Весь город! Наш главный жлоб — говорит: не верю я в эти таланты снизу. А Славка Жерехов пошел, говорит: неплохо. Он наш прима. Мы уговорим его, мы ему вечер в "Золотом роге" закатим — пусть только на один вечер изобрази больного. И вместо него Костя выбежит. Вот увидишь, какой будет шум, газеты напишут… и главный ничего не сможет сделать— возьмет! Алё?.. Занято.
— Так он у вас… еще не работает?
— Да говорю, все бумаги там остались! А в Минкульт писать не стоит — враги… Но он согласен: "Могу числиться в рабочих, только бы роль не хотел бросать…" Будет со Славкой на пару… Алё?! — Она схватила обеими руками трубку, закричала — Агнечка Васильевна, это Зуля! Еще не начали?! — Закрыв трубку, прошептала мне: — Свет ставят. — И снова и трубку. — Агнечка Васильевна! А Костя далеко? Курит? А нельзя его на минуточку… тут к нему друг приехал из Ферганы! — Она прошептала мне: — Чи- час…—и. гримасничая от счастья, обвила в ожидании ногой ногу и рукой самой себе шею. А услышав голос Кости, побледнела и рывком подала мне трубку.
— Костя, — сказал я, — Не бросай трубку мира. Это я, Витя.
В трубке молчали.
Ты слышишь меня? Это я, Нестеров. Собирался в Южно-Сахалинск… так, по пути. Узнал, что ты тут. Ты меня слышишь?
В трубке молчали.
— Я один, без Гертруды. Долг привез… духовный… ты слышишь?
— У Ильфа есть такая запись, — вдруг тихо сказал Костя. — Иванов решил нанести визит королю
Генриху Четвертому. Узнав об этом, король отрекся от престола.
Я смогу тебя увидеть? Костя?
— Да, — ответил Костя. И после паузи добавил: — Конечно.
— Я с Зульфией. Мы сейчас подъедем?
— Нет, — так же спокойно ответил Костя. — Мне нужно пятнадцать минут. Потом позвоните.
— И ты… присоединишься к нам? — спросил я.
— Да.
А как же репетиция?
— Все будет, — ответил Костя и положил трубку.
Слава богу.
Я вздохнул и мрачно подмигнул девушке. Соврал:
— Ждет через пятнадцать минут. И мы куда- нибудь пойдем.
— Меня возьмете? — запрыгала Зульфия. — Я в этих репетициях не занята, а вечером" не мои спектакль!
— Конечно, — великодушно разрешил я. И мы вышли на улицу.
Нас тут же окатила поливальная машина, вся в радугах, как цыганка в расческах, и снова мы забежали в общежитие, пятясь и смеясь: девушка от счастья, я от волнения.
— Ой!.. — вдруг крикнула Зульфия, будто в нее попала пуля, и принялась копаться в сумочке. — Вот балда старая! Надо другую помаду! Я чичас! — Она сверкнула зеркальцем, доставая красный губной карандаш, — Вот! Теперь ничего.
И мы поскакали по крутой булыжной улице вниз, к морю-океану. Только теперь я ощутил его близость— было влажно, душно, рубашка липла к спине…
В театре Кости уже не оказалось. Седенькая маленькая женщина в служебном вестибюле сердито буркнула Зульфне:
— Убежал как оглашенный…
— Это он переодеваться!
— Я и говорю, наденьте вы вместо этого позорного трикэ лыжный костюм с красными лампасами… и современно, и как бы о крови напоминает… — Старушка была явно думающий человек.
Зульфия, ничего не отвечая, схватила меня за руку, как экскурсовод, и потащила обратно, вверх по сизой горбатой улице, с таинственной полуулыбкой.
— Он разве у вас живет? — догадался я.
— Тс-с! Мы его нелегально устроили…
Мы вбежали, запыхавшиеся, в общежитие. Комната, где жил Костя, была заперта. Зульфия тихо стукнула согнутым пальчиком и, почти коснувшись губами двери, прошептала:
— Иванесов, это мы.
Костя не отвечал!
Зульфия подмигнула мне и своим ключом отперла комнату — там никого не было. "Странно. Все- таки сбежал? — думал я. — Но чего ему сбегать от меня? Я ему деньги привез".
Зульфия недоуменно заглянула в соседние комнаты, а затем и в свою, которая так и оставалась незапертой, и торжествующе закричала. Я вошел следом. Она разглядывала заклеенный почтовый конверт и хмурилась.
— Видимо, хочет лично с тобой пообщаться. Держи!
Я взял конверт: "НЕСТЕРОВУ, ЛИЧНО". Пожав плечами, отошел к окну и вскрыл письмо. Синим прыгающим карандашом было написано:
"Оставите вы меня в покое??? Перестанете доставать из прошлого?? Ну, не душите!!! Я же помогаю семье! А на нашу науку плевал! И видеть никого не хочу! А найдете еще раз — зарежусь на твоих глазах, болван!!! Прощай! Записку порви. Хотя играть у них я уже не буду, не смогу! К".
— Что он пишет? — спросила девушка. Я чиркнул спичкой и медленно спалил бумажку с конвертом в пепельнице.
— Даже так? — удивилась Зульфия, становясь все более грустной. — Ты ему привез привет от женщины?
Я не знал, что и ответить. Я сел на стул и опустил голову. Опять я помешал Косте Иванову. В такой красивой игре. Попробуй начать жить новой жизнью, если тебя нашел человек, знавший тебя совсем другим.
Зульфия легла на койку, будто меня тут и не было, и уставилась в потолок.
— Ну, иди к нему, — сказала она — Я понимаю.
— Бежим на вокзал! — Вдруг я решил действовать.
— Зачем?!
Мы выскочили на улицу, я — первый, она — за мной, схватили такси. Я уговорю его воспользоваться случаем, сыграть Гамлета. А я сегодня же уеду… На вокзале я обежал и перрон, и зал ожидания, заглянул в ресторан нигде Кости не было. Зульфия едва поспевала за мной.
— Ты не помнишь, вещи его на месте?
— Вещи?.. — она, кажется, только сейчас начала что-то понимать. — Кейса не было!.. Но он его все время с собой носит! Вы привезли плохую весть? За ним гонятся? Я видела у него наколку на руке! У него ужасно интересная жизнь!..
— Мне надо в аэропорт, — буркнул я. — Может быть, я срочно улечу.
У стоянки такси скопилось много народу. Зульфия от отчаяния закричала, метнулась к "левакам" уговорила какого-то лихача на "Жигулях" — и через несколько минут мы были на месте. Мы вбежали в аэровокзал, нырнули по лестницам вниз и впорхни в одном зале, ни в одной очереди Кости не оказалось. Исчез.
— Погоди! — Замерла импульсивная Зульфия, будто в нее попала пуля. — Я Славе позвоню! Вдруг oн что знает!
И в самом деле, мне это в голову не пришло. Должен же был Костя хоть кого-то поставить в известность, коль рушатся его планы. Зульфии скрылась в темном стакане телефон-автоматной будки и жестикулируя, быстро уже что-то говорила в трубку. Открыла дверку, подозвала.
— Жерех говорит, он позвонил, сказал: все отменяется! Он улетает в один северный город… приглашают на три центральные роли… на будущий год гастроли в Москве…
— В какой северный?.. — пробормотал я, догадываясь, что это уже прощальная, дымовая завеса Кости.
— Наверное, в Северодвинск, — выйдя из будки, сказала печально Зульфия. — Или в Норильск… мне хвалили этот театр. А что ему тут унижаться? Еще возьмут — не возьмут. — Она глянула мне в лицо напряженно-блестящими, чуть бегающими глазами.
— Нет-нет, вы что-то знаете да не хотите говорить. Хорошо. Я ни о чем не буду спрашивать. Я поехал спать и плакать, — почему то в мужском роде закончила Зульфия. — Я поехал.
— Да погодите! — остановил я Зульфию. — Ну, постойте! Я сейчас возьму билет, рейс у меня, кажется, ночью. И мы с вами поговорим. Ей-богу, я ему не хочу зла.
— Вам в Южно-Сахалинск?
— Нет, в Белояры.
— Ну, все равно. Давайте я вам возьму, у нас любят театр, — Она как бы делала мне одолжение. Забрав паспорт с деньгами, сунула голову в оконце, где висела картонка с надписью: ОБЕД, и тут же я услышал веселые восклицания, смех девушек внутри служебной комнаты и горестный, гортанный, высокомерный голос Зульфии. — Наш актер… да. приходите… я проведу.
И вот я уже держал в руках билет домой. Я глянул на часы впереди целый вечер и часть ночи.
— Пойдемте в ресторан?
— Нет, по ресторанам я не хожу.
— А где же посидеть, Зуля? В углу на полу, как хиппи?
Девушка оскорбленно дернула уголками рта, изобразив улыбку — мол, мне все равно. Исчез ее кумир Но я все же был из окружения ее кумира. И поэтому она предложила:
— Можно ко мне. Сегодня "Сирано", все заняты, кроме меня. До двенадцати общага пустая. — "Как моя душа", — могла бы добавить девушка. Она упивалась своим горем, — Чаю попьем.
И вдруг я заколебался. Стоит ли ехать к девушке в город? Как я потом, среди ночи, попаду в аэропорт- Если бы Кости в эту секунду подслушал мои мысля, он бы гневно расхохотался. Я всегда знал— вы, люди серой, размеренной жизни, малодушны! Буквально пересилив себя, кажется, даже покраснев, я кивнул. И кроме того Зульфия мне нравилась. Своей чистотой, бескорыстным характером. Нет, мне надо пролить ей свет на жизнь. Может, даже отбить у Кости. А что? Я холост, я могу и жениться ради истины. Не будет у этих лживых звезд хоть одной поклонницы…
Через несколько минут мы ехали в рейсовом автобусе. И еще закат не бросил жгуче-красный луч на мачты в Амурском заливе, как сидели в общежитии. На электроплитку был водружен старый, кра шениый зеленой эмалью, совершенно мне родной напоминавший студенческие годы чайник. Зульфия демонстративно безучастная, высыпала на стол карамельки и печенье. Все время она замирала и прислушивалась — но нет, нигде не слышалось никаких шагов. Комнату Кости мы, конечно, еще раз осмотрели — не было ни кейса, ни плаща (недавно, сказала Зульфия, он купил серый. как самолет, плащ) Остались книги: "Моя жизнь в искусстве" Станиславского, стихи Лермонтова. "Дрессировка собак" "Драгоценные камни" Смита…
— Пейте, — вздохнула Зульфия, глядя в открытое окно. И я все с большей уверенностью подумал: вот была бы верная жене, если бы меня полюбила. Она не может двоиться. Наверное, она и актриса плохая. Слишком искренняя.
— Зульфия, — тихо позвал я ее, — Слушай — Она повернула ко мне голову, — Выходите за меня замуж.
Она, не понимая, смотрела на меня.
— Я серьезно говорю, я одинок как этот ч-чайник. Ты что, Костю любишь? Но ведь… — И я запнулся, мне стало гадко за себя и страшно, и жалко. Неужели я сейчас был готов к тому, что стал бы объяснять ей, что Костя женат, что у него дети, что он вообще не Иванесов? Какая же я дешевка! Я судорожно глотнул чаю и добавил: — Да, он хороший.
Она помедлила и снова отвернулась к окну. Мы сидели минуту, глядя на далекие темно-красные мачты, на зеркальный шар океана, который угадывался в теплой лиловой дымке… Потом Зульфия тихо спросила:
— Только честно. Вы хотели сказать, что он женат? Да?
"Ты умнее, чем я думал". — грустно отметил я.
— Oн показывал паспорт — там чисто.
"Да сейчас, моя милая, можно что угодно смыть перекисью водорода, — мог бы объяснить к Зуль- фие, — Командировочные подчищают авиабилеты". Но я тем более ничего не стал ей говорить. Только спросил:
— А почему вы решили, что я скажу, что он женат? Даже если бы был женат, я бы не сказал. А он холост, как и я.
— Я актриса, — медленно ответила Зульфия, снова разглядывая мое лицо напряженно-блестящими глазами, — Я выбираю сразу, чтобы потом не было тяжело, самый трудный вариант. Хуже, если он —
женат, и вы — благородный человек. Так обычно и бывает. Странно, что сейчас все прекрасно.
Я опустил глаза. "Если он показывал паспорт, значит, там и вправду не Иванов, а Иванесов. Исправил черной тушью. Какой ерундой занимается взрослый человек! Или уж погоня за новым и водка смещают что-то в мозгу? И вот такая жизнь ему кажется ослепительной, смелой? У меня с этой девушкой ничего не получилось. Надо была заканчивать. Да и не покидала мысль, что Костя где-то рядом, что он временно "лег на дно". Ведь не было же его в аэропорту, не было на вокзале. Сухопутный болван, я забыл про морской порт! Он мог и на каком-нибудь суденышке уйти. Ну и пускай…
— Я хотел вас вот о чем попросить… — Я достал двести рублей. — Вы, наверное, увидитесь. Отдайте, ладно? И я записку сейчас напишу…
Зульфия включила настольную лампу, всю увешанную разноцветными нитками, стеклянными побрякушками, и опять отвернулась к окну. Из темноты рванула туча белых бабочек. Вдали слышался лязг и дробный рокот спускаемых с якорями цепей.
"Слушай! — писал я. — Ну, прекрати валять дурака! Нигде тебя не хватит надолго — любая работа требует души. Кедровых шишек нынче мало — побежал в Гамлеты! Ну, играй! Теперь я понимаю, почему ты заикался на Севере. Бездарному актеру что приходит в первую очередь, чтобы как-то непохоже на самого себя сыграть роль? Заикание… Оно помогает обдумать ответ. Быть остроумным. Ты завидовал мне. Но у меня заикание от природы…"
Но чем дальше я писал в этом духе, тем все тягостней было у меня на сердце. Уже второй раз помешал. Какой-то рок. Костя, наверное, возненавидел меня. Но если в первый раз он мог действительно обрести непререкаемый авторитет перед заблудшими людьми и вывести их на свет истины, то сейчас-то всего лишь прихоть, игра, да еще с обманом государства! Ну и что? Кому он вредит? Я, конечно, искать его более не буду. Сам затоскует по твердой земле, сам вернется. Я порвал листок и начал снова:
"Ну, хорошо! Гамлет. По что это за слава, если будешь бояться всех фотокорреспондентов, как Остап Бендер? Надеюсь, ты понимаешь, что в газеты тебе попадать нельзя? Значит, сразу нацеливаешься всего лишь на маленькую, кухонную сенсацию? Удивить двух-трех знатоков, какую-нибудь простодушную девчонку и — исчезнуть? И нацепив другую маску — дальше?..
Я снова разодрал листочек. Я показался вдруг себе стариком, унылым болтуном с тяжелой челюстью.
— Я все-таки завидую Косте, — сказал я искренне. — Я не такой. Я как мох — ползу. Но я зато надежней. Почему за меня замуж не хотите?
— Замуж? — удивилась девушка. И выключила свет. — У вас глаза не любят. Это сразу видно. Вы о другой думаете. Если бы сказал: хочу остаться у тебя… я бы еще подумала. А замуж… — Она покачала головой. — Это серьезно. Я хочу стать настоящей актрисой. Значит, не смогу быть все время с вами. Этот огонь сжигает. Вы ведь будете ревновать?-
— А Костя — нет?
— Костя?.. А Костю я и не люблю — я его обожаю. Я никого не люблю.
"Она не любит его!" — зазвенело у меня в голове Я стал хвалить себя:
— Вот защищу кандидатскую, создам прибор… можно будет на Луне написать: Зуля…
— Не надо, — отозвалась девушка, — Тогда и другие полезут писать. Это будет ужасно, как забор.
— Ты кристалл моей души, — сказал я и поднялся. Надо улетать, улетать, улетать.
Она сидела в углу, на полу, обняв себя руками за плечи.
— Вас проводить?
— Нет. — Я стоя вывел в потемках на столе, кажется на пачке печенья, свой адрес и телефон… — Если будет тяжело… черкни или позвони. Ага?
— Нет, — тихо ответила Зульфия.
И я поехал в аэропорт. Не понимаю я этих людей. у них свои легенды, свои сладкие обманы, своя вера. Они будто заражены некоей формой гриппа — им радостно от болезненного озноба кожи, от разо- дранностн души… Ну что ж, если Костя понял, что пуст, если ему стала безразлична наука — пусть живет как живет. А я ученый.
— Ты мой кристалл, — прошептал я в самолете, откидываясь на спинку кресла и увидев на краю черного неба перекосившееся зеркало океана…
Когда я сходил по трапу с самолета в своем родном городе, мне на рукав капнул веселый воробей белой жидкостью.
— Вот мой кристалл, — пробормотал я. закрывая глаза. Куда идти? Никто меня не ждет. Как жить?
15
Я наврал Люсе, что Костя работает моряком, обещает прислать красной рыбы и денег… При слове "денег" Люся заплакала, будто ее ударили, но что я еще мог ей сказать?! Не про ТЮЗ же рассказывать?..
Дослушав мои фантазии до конца, Люся надолго замолчала, поджав губы. Словно ледяной воды выпила.
— Ну, хорошо, — процедила она— Все. Спасибо тебе, Витек. Ты хороший товарищ. Езжай к своей маме. Вот это ей — от меня! — И всучила мне белую, лакированную, словно из мутного хрусталя, корзиночку, сплетенную Костей век назад. На дне лежал сверточек. — Это ей, не тебе! Иначе обижусь! И все, все, езжай!..
Дома я посмотрел— там лежали золотые сережки для мамы. Выругавшись, я побрел в институт. Скучное это дело — отпуск. Сию секунду ехать к матери я не мог — сразу поймет по лицу, что со мной что-то неладно. А начну врать — начну заикаться, она еще больше расстроится… Я заглянул на ВЦ, чтобы отчитать Люсю, и увидел, что она в белом халате стоит с Серегой Поповым, разглядывают длинный лист бумаги с ноликами и единичками. Я сунулся к своим, в кристаллофизику. "Интересно, проверил ли директор кристалл чернита? И отразилось ли то, что семь минут не било света, на свойствах драгоценного камушка?" Но шефу было не до меня. Бронзовый после Югославии, как Фантомас, он. резко жестикулируя и расхаживая по лаборатории, диктовал статью секретарше Аллочке, которая сидела перед ним на стуле. В таком положении они получались абсолютно одного роста. Шеф махнул мне приветственной рукой и отвернулся — я для него не существовал, я был в отпуске. Вместо меня бродила некая тень с картонкой на груди: СОЧИ. Или: ЯЛТА. Лаборант Вова, надув губы, читал тайком у окна книжку стихов Роберта Рождественского. Эк его — после Китса и Цицерона! Что случилось-то?!
На улице я встретил Светку. Она шла, как взрослая. глядя под ноги и о чем-то думая. Увидев меня, кивнула и проплыла дальше, высоко поднимая, как цапля, ноги. — ветер намел на асфальт первые листья, и девушка берегла от пыли белое, уже знакомое мне платье…
Я забрел в телефон-автомат, кинул в гнездо монетку и набрал случайный телефон. Монетка провалилась. раздались короткие гудки. И здесь не везет! Я повернул к дому — пора все-таки собираться ехать к маме.
В почтовом ящике что-то белело. Может, повестка из военкомата? Вот бы весело! Но это было письмо от какого-то Конькова из Абакана. Странно, у меня в Абакане — никого.
Разворачивая на ходу письмо, я поднялся к себе. И только сейчас понял, что оно — от Кости. И скорее всего, написано еще до его владивостокских дел. Точно, вот штемпель — шло дней 20. Пролежало где-то…
"Вдогонку тем моим соображениям… Можно ввести начало координат — ноль живого мира: 0жм. Получается даже — начало мужчин и женщин. Так вот, каким сроком оно датируется — это Сереге считать. А вот ПОЧЕМУ возникло? Вопрос вопросов. (Между прочим, чем не имя и хвамилия? Вопрос Вопросович Вопросов.) Что мы знаем из загадок природы:
Существуют странные, качающиеся, как маятник, химреакции. Ты физик, химию знаешь плохо, могу сказать: это периодические химреакции. Капля раствора, предоставленная сама себе, становится то красной, то синей. Без конца! Как живее существо. А ведь по второму закону термодинамики все стре мится к дезорганизации, к некоему концу. Почему же здесь не так? Возьми бромат калия, сульфат церия, лимонную кислоту и разбавленную серную кислоту. В красно-оранжевом растворе будут ходить голубые полны и исчезать. И снова появляться. Будет работать вечно эта игрушка.
Взять амебы. Если эти одноклеточные поместить в культиватор и дать им бактерии для питания. амебы будут жить нормально — делиться, веселиться. Но если бактерий МАЛО — одна из амеб берет на себя роль лидера, испускает некий призыв-химреагент АМФ. И все остальные амебы сгруппировываются вокруг нее. Так легче выжить. Примитивная организация живых организмов. Колхоз нулей.
Илья Пригожин (не Рогожин из Достоевского, и вовсе не из СССР, а из Бельгии), кстати, лаур. Ноб. премии, вывел систему уравнений "Брюсселатор". О тех самых качающихся химреакциях. Вдали от равновесия флюктуации могут возрастать, придав системе некую организацию. Непонятно? Свет солнца порождает маятниковые химреакции на Земле, а они, в свою очередь, за миллиарды лет… много таинственных группирующихся образований. Из одной из них и могла… но КАК?!
Опять пришли к нулю. Я думаю, эту загадку нам не решить Не может один человек самою себя лично познать! Не взрежет же он живот, не раздробит себе мозг, сидя перед зеркалом! Так и все живое не может постичь свое зарождение в далеком прошлом Придется просчитать столько реакций НАЗАД, что за это время человечество уже состарится и вымрет… Поэтому кончай базар и демагогию! Живите весело! "Пейте, пойте в юности! Бейте в жизнь без па-ро- маха!.." Зайдешь в мою лабораторию, увидишь колбы на столе — трахни первой попавшейся палкой! Толстой правильно говорил: "В мире насчитали одних мух сорок тысяч видов! Когда же тут о духовной жизни думать?!" Мне любой светлячок на ночной травинке, Нестеров, дороже любого твоего кристалла, будь он хоть со стол величиной! И тебя мне не жалко — ловил бы лучше рыбу, как твой отец…"
Не твое дело, думал я, разрывая письмо в клочья. Да, понимаю, хочет выжечь из себя остатки мыслей о науке. Видимо, чем дальше, тем больше ее ненавидит. Так, говорят, некоторые в старости начинают поносить женщин, любовь. Мстить за свою немощь. Ругай себя! Но других не надо трогать. Если у тебя не получилось, не надо обобщать. Я не замахивался на нечто необъятное. Я как пчела — ношу свою толику меда. И тем самым приношу пользу. Мало того, сломал себе жизнь — начинает воздействовать на меня. Но теперь, после Владивостока, я думаю, и писать не будет. И слава богу…
Я снял с вешалки в прихожей свой лучший костюм, из чемодана достал чистую белую рубашку, поглаженную еще полтора года назад Таней. Поеду без предупреждения, не то еще спать не будет мама, настряпает всего, нажарит, полдома займет… Я уже вставил запонки в рукава, когда зазвонил телефон.
Я замер. Если это Таня, она подождет звонков пять и больше не позвонит. Если Неля, через два звонка положит трубку и тут же наберет снова — такая маленькая интимная хитрость, она ко всем так звонит. Но этот звонок был длинный, настойчивый и через паузу снова длинный. Меня еще никто так не домогался. Может, из милиции — что-то с Костей случилось?
— Алло! — Услышал я жесткий голос. — Это Утешев. Я вам уже звонил. Вы не можете подойти?
— Я уезжаю, я в отпуске, Владимир Иванович.
— Я знаю. Но нам же не безразличны дела института?
Умеет начальство разговаривать.
— Конечно, нет… — пробормотал я и. нацепив галстук, что я делаю нехотя, в редчайших случаях, направился к нему.
Кабинет Утешева выходил дверью в ту же приемную. что и кабинет Крестова, директора института, моего шефа, но, конечно, у Владимира Ивановича я никогда не был и не собирался быть. Здесь оказался точно такой же стол с красными и белыми телефонами, но была и огромная разница: по стенам сверкали немыслимо красочные плакаты, выпущенные ООН, посвященные жизни (дети в пробирке, лети со свечами на дороге и пр.), а главное, на стеллажах покоились роскошные раковины и морские звезды, пойманные в океанах лично товарищем Утешевым. Он был участником, а то и руководителем не одной океанической экспедиции, где исследовал водоросли и всякие светящиеся микроорганизмы. Если можно было Крестова сравнить с генералом сухопутных войск, остроумным и загорелым, то Утешев тянул на адмирала, сурового старого морского волка. Это был высокий, сутулый человек с замкнутым лицом. Он редко улыбался — лишь когда упорно улыбались ему, особенно женщины, — так загорается в ночи дорожный знак, когда на него светит проезжая фара, но едва фара улетела — знак мертв.
Но надо ему отдать должное — общение с иностранными коллегами многому его научило, во всяком случае, правила Карнеги он читал, и поэтому, как только я вошел, он поднялся и, глядя мне в глаза тусклыми глазами, пожал руку, сказав при этом слова, невозможные в устах моего шефа:
— Выглядите замечательно. Одеты строго. Вот истинный образец молодого ученого. — Кивнув на стул, он, стоя, закурил трубку.
Я, польщенный, сел. Что его заставило вспомнить обо мне, человеке из чужого крыла, не успевшего стать даже кандидатом наук? Конечно, только дружба с Костей…
— Я прямо. — Пыхнул Утешев дымом "Золотого руна". — По слухам, вы поддерживаете связь с Ивановым? Говорят, в лохмотьях ходит, позоря Сибирское отделение Академии наук? Кстати, зачем вы ездили к нему?
— А мне директор разрешил. — Я постарался казаться чуть глупее, чем есть (какое ему дело до моих с Костей отношений?!).
— Ага, ага, — схватил Утешев тут же быка за рога. Он, видимо, мысленно сразу же согласился с тем, что я недалекий человек, и размышлял сейчас только о коварстве директора. — Я так и думал, вы и директор хорошие люди, а я плохой.
— Почему так?.. — попытался я возразить, но он даже не слушал меня — я был слишком мелкой фигурой.
— Вы любите людей, а я не люблю… А то, что Иванов разбрасывался… ему одному нужен целый институт, чтобы просчитать все варианты! А мы о чем должны думать? — Он показал трубкой на детей, бредущих со свечками по дороге. — О народном хозяйстве! Он смеется, а дрожжи — это хлеб. Кефир — здоровье. А что такое происхождение жизни?
Вон петух с курицей во дворе — фотографируй, вот тебе происхождение жизни! Я утрирую, но от нас требуют! Сейчас особенное время, нам нужно ускоренно развиваться… нам бы на два-три года рвануть вперед, а он думает, что было три или четыре миллиарда лег назад! А получается, я виноват. Не ценю кадры…
Он произнес эту фразу, и я подумал, что она подозрительно смахивает на формулировку. Наверное, Утешев услышал где-то ее и она запала ему в голову. Понятно, думал я, впереди раздел института, и он беспокоится. Такая формулировка, если она высказана моим шефом, имеющим пока что решающее слово в обкоме, может дорого обойтись Утешеву. Ярлычок прилипнет, и, во всяком случае, даже если его директором института биофизики утвердят, в члены-корреспонденты ему потом путь заказан… Экой молодец, с оторопью и страхом подумал я о своем весельчаке директоре.
— Дайте-ка мне адрес, я ему письмо напишу.
— У него нет адреса.
Он мрачно смотрел на меня. Он, конечно, не верил. Я подумал, вот ведь как судьба маленького человека (что для начальства Иванов?!) может стать средством в борьбе!
— Правда же, я его и не видел в последний раз, только по телефону говорил, — сказал я, чуть не оправдываясь.
— Жаль. Но ведь он же будет вам звонить?! Передайте! — И Утешев раздраженно подвинул стопу бумаги с грязновато отпечатанным текстом, где сверху стояла фамилия Кости. — Гранки статьи! Мы вместе делали опыт, а подписал я одним его именем! — От него не ускользнуло то, что я обрадовался за друга. Он улыбнулся уголком рта, снял и подарил со стеллажа тяжеловатый розовый коралл, похожий одновременно на оленьи рога и на пламя, — Держи! Тебе! Пусть возвращается!
Забрав и статью, я остановился у двери.
— А он талантливый ученый? — спросил я. Мне это было важно сейчас знать. Вряд ли Утешев при мне будет ругать Костю, но и хвалить чрезмерно не станет — не тот человек.
— Он демагог! — вдруг резко выпалил Утешев, краснея. — "Пока я молод, пока у меня яркие, неприглаженные мысли, дайте проверить!" А если ошибаешься?! Кто поручится?! Каждому в молодости кажется!.. Я ему говорю: не пейте, приберегите свои мысли до зрелых лет. Вон, академик Энгельгардт или Зельдович… до преклонных лет сохранили ясность мозга — куда иным юношам! Станете доктором наук, я вам дам лабораторию — проверите. Но пока… А он опять: "Эйнштейн в двадцать лет выдал! А потом всю жизнь только подбирал гарнир к своему открытию!" "Гарнир"! Откуда такое нахальство?! Он же был вежливый, тихий парень… я же помню. Предложишь кишечные палочки — исследует кишечные. Предложишь железные бактерии — растит железные. И вдруг — как с цепи сорвался! Нет у нас по разнарядке мест для гения! — закричал вдруг Утешев. — Да, он талантлив! Но ничего из него не выйдет, если будет распыляться! Вы кристаллофизик, знаете лазеры… если луч расфокусировать, даже мощнейший, он не то что дерева не прожжет… яйца не подогреет! — Утешев схватил меня длинными жесткими пальцами за плечо, заглядывая в лицо. — Скажите, это точно — он не в Новосибе?!
Если его переманили — при чем тут "не бережет кадры"?!
— Нет, нет, — сказал я. — Он в тайге…
— В тайге! Вот вы работаете с Иваном Игнатьевичем, я его уважаю, большой ученый… вы же на месте сидите, бывает, что сутками… в вас чувство долга… так подействуйте на Иванова! Разве можно было к защите готовить одновременно три — повторяю, три! — кандидатские! Говорит: "Я вообще-то хотел семь… разные аспекты одного вопроса, oт биохимии до социологии популяций… да уж ладно". А по закону мы можем только одну! Он так небрежно: выбирайте, которая больше нравится. Я ему: а вам? А он: мне они как ручейки, что текут через неведомый лес к одной неведомой реке жизни! Чушь! Реклама! — Утешев, видимо, уже не мог не выговориться. — Мысль может быть одна! И лучше, если она работает на дело! Происхождение жизни! Дарвин двадцать первого века!..
И чем больше он ругал Костю Иванова, тем глубже я убеждался, что Костя Иванов действительно талантливый человек, попытавшийся замахнуться на нечто грандиозное, и что если бы он сейчас где-то спился, сгинул, Утешев был бы рад, во всяком случае, более рад, нежели бы узнал, что в эти дни Костя Иванов преспокойно сидит и работает в Новосибирске, где решаются вопросы о высоких научных степенях и где могут запомнить и принять к сведению эту страшную фразу "Не бережет кадры".
И еще я понял, что я — ноль. Маленькое старательное ничтожество. Потому что мне и в голову не приходило поднять глаза выше очевидностей.
Я вышел на яркий свет безумного золотого осеннего дня и, грохнув об асфальт, вдребезги разбил коралловую ветку. Мы крестьяне. Нам это ни к чему.
16
И был день, и была дорога к дому…
Когда я приезжал сюда в последний раз? Года три назад. С Таней и Мишкой. Помню, брат Михаил увидел моего подросшего сына. "Тезка! — заорал он, вскидывая красными ручищами семиклассника вверх, как ребенка. — Мослы-то! Мослы! Прямо велосипед!" А Таня испытующе посмотрела на меня — ты бы вот так смог?! Я тоже поднял, в ту же минуту, своего сына. Тяжелый, конечно. Да и зачем поднимать. Не маленький же!
Мы с братом пилили и кололи дрова — тут возле каждого дома высились горы темных неошкуренных бревен, выловленных из моря. Государство не то что не было против — наоборот, поощряло деньгами тот промысел, потому что ниже по течению — нежная, хрупкая плотина с перепадом воды сто десять метров…
Намахавшись колуном по очереди, мы потом пили замечательное пиво из райцентра, не хуже чешского (говорят, оборудование привезли из ЧССР). Заедали вяленой сорожкой, которой у Михаила было больше, чем щепы во дворе. Как и во времена отца, на заборах. на воротах клетей сохли ядовито-зеленые импортные и черные наши сети. Когда они просыхали, их скидывал ветер, и в них попадались куры. Михаил курил, по привычке, перенятой от отца, взяв папиросу и кулак, словно бы для того, чтобы согреться, и расспрашивал меня про успехи в науке. А какие у меня успехи…
А мама с Таней ходила на море полоскать белье. Море цвело. На колонке же вода была желтоватой. Председатель колхоза Поленов обещал, что скоро всю ржавчину из труб вынесет и вода станет прозрачной. "Не жалейте воды, бабы, — говорил он, — не экономьте!" Все было как всегда…
Мать болела, у нее от перца и соли, которые так обожал отец, до сих пор ныла печень, да еще от вечного стояния на ногах в магазине развился жестокий ревматизм. Она все время глотала какие-то желтые шарики. Таня, будучи человеком серьезным и беспокойным, решила проверить мамину аптечку, полезла в буфет и наткнулась на бесчисленное количество треснувших от времени таблеточек в целлофане, просыпавшихся порошков… "Господи! — поразилась Таня. — Это надо немедленно!.. Это яд!.. Их ни в коем случае!.." Мать с сожалением смотрела, как Таня закапывает лекарства на огороде. "Да че им сделается?! — не понимала мать. — Лежат и лежат". Таня, подняв палец, объяснила, что, если срок хранения истек, можно отравиться. "И вообще, — Таня перешла на шепот, — лекарства вредны! Вот мы, врачи, сами стараемся их не принимать…" И с той поры мать мне и письмах писала: "Печень болела вчера, попила воды сырой с медом — и как рукой сняло! Права твоя Таня, мы уж забыли народную медицину с этими переездами, хорошо хоть ученые люди помнят…"
Как она там?.. Не болеет?.. Вот и мост. Миновав поселок гидростроителей, — автобус выехал ка длинное, узкое, железное сооружение, перемахнувшее через Реку. Под нами бурлила вода. Слеза же, над головой, угрюмо высилась плотина, затмевая свет небес. Где-то там, под облаками, летят сейчас моторные лодки; может, и мой брат что-то ловит, матерясь, как отец, в рифму… Автобус миновал Реку, зарычал, затрясся, выбираясь из распадка вверх- туда, к новым поселкам, к высокой поверхности воды, оставляя за собой, внизу, старые устойчивые берега, старый задымленный город…
Тут, за плотиной, вся тайга была, конечно, порезана и переломана, чувствовались следы великого строительства. То можно было увидеть некое ржавое зубчатое колесо, размером с двухэтажный дом, вросшее в землю… то глаз угадывал среди бурелома отпавшие челюсти экскаватора. Там и сим торчали высоковольтные мачты, гудели огромные трансформаторные станции, размером с футбольное поле, отгороженные крашеными решетками. Дорога сразу стала уже, асфальт сняли, пошла щебенка, зачернели выбоины. По краям дороги замерли в нелепых позах трактора — то ли брошенные здесь в те громкие годы, а то ли изнемогшие нынче без бензина — наверняка у них тоже есть месячники экономии…
Наконец, наше новое село. Вот они, эти крашенные в желтую и зеленую краску стандартные дома из бруса. Наличники грубые, квадратные (резать по дереву уже не умеем), но прихотливо разрисованные. как на детских картинках.
И все-таки это деревня. В переулках среди крапивы пламенеет нежно-розовый иван-чай. жужжат пчелы. Переходят дорогу белые гуси, вожак шипит грозно, как автоген. Изгибаясь в воздухе, летит паутина, словно в истоме потягивается невидимая красавица. А может, все эти паутинки — всего лишь очертания каких-то огромных невидимых существ на земле? Дует теплый, почти горячий к вечеру ветер. Он пахнет зеленым, зацветшим морем и полынью.
А вот и мой отчий дом — новый, подаренный государством, взамен того, затопленного, — с волнистой шиферной крышей, с палисадником, полним белых астр. За воротами, во дворе, вижу кирпичное строение — три гола назад Мишка только начинал возводить, теперь дом почти готов. Красный и белый камень вперемешку, как шахматная доска. Правда, вместо крыши пока что одни ребра вокруг печной трубы. Но это дело недолгое, я помогу. Хотя ничего не умею…
Сейчас выскочат навстречу: почему один? Что хоть сына не привез?.. Но никто не вышел на крыльцо. Наверное, взрослые на работе, а племянница Олька в детском саду.
Увидев на двери замах, я по привычке зашарил под половиком. Но ключа не было. Да, новые времена, ходят всякие бродяги, а многие из них тоже в деревне выросли, знают, что где искать. Вот и забрали хозяева ключи с собой.
Сев на нагретые доски, я подставил солнцу лицо. Еще ни разу я так не приезжал. Меня разбудили голоса — это была вся семья: мать, Ксения, жена Миши, и сам Миша с дочкой на руках:
— Господи, прям бич!., как чужой!., че не за- шел-то?!
— А ключи?! — сказал я, продирая глаза.
— Да в окно б залез! Все же знают — сын!..
Мама моя — невысокая женщина с плаксивым выражением на лице, будто всю жизнь стоит на ветру или на дожде. Она обняла меня. Потом, по шутливой привычке, что ж, кол, не приезжал, невесело ткнула меня ладонью в плечо Ксения. Не в радостный час я попал сюда — заболела Олечка, они сейчас были с ней у врача. Скарлатина.
— Будь прокляты эти детсады! — ругалась шепотом Ксения, помогая Михаилу уложить дочку в спальне на высоких перинах, на вышитых подушках. — То отравят, то простудят…
— Оса, — говорила еле слышно девочка, глядя невидящими от страданий, синими, как лед, глазами на окно.
— Нету осы, нету!.. — шептала моя мать, водя перед ее личиком морщинистой рукой. — Прогнала! Улетела!
— Оса, — не соглашалась девочка.
Три взрослых человека беспомощно топтались над крохотным человечком, которого даже не видно было из-за их широких спин. А я вез им в подарок один из первых моих кристаллов, черно-вишневый рубин "роза". Теперь даже было стыдно представить, как точно так же они толпились бы возле драгоценного камушка на белой подушке, а ведь именно об этом я мечтал, кладя в карман свое давнее творение… "Выкину, к черту".
Мы с Михаилом курили но дворе. Возле забора громоздились поленницы дров. Квохтали куры, предусмотрительно обходя свисающие повсюду сети. Бело-розовая свинья с черным пятком на боку, будто на нее утюг ставили, все подкапывалась под старый дом. На каменный она и не смотрела — там бульдозером не возьмешь. Неожиданно заявилась с улицы, сама открыв ворота, пестрая кривогубая корова, подошла к крыльцу, замычала — требовала воды. Тут же выбежала, как молоденькая, мать — вынесла кормилице ведро. Где же моя сестра Наташка?
По вот и прозвенел велосипед за калиткой — приехала сестра а белом халате. Она у нас доярка, что- то сегодня припозднилась. Чмокнув меня в щеку холодными губами, ушла в дом. Тоже, видимо, волнуется за Олечку. Вернулась, достала гребешок, зачесала мне волосы круто и больно назад, чего я никогда не любил, а ей нравилось.
— А я сейчас, Вить, в Сосновке работаю. Там хорошие девки. — И опять ушла в дом, пожевать хлеба. Она такая же неугомонная, как отец. А я, видимо, в мать.
Михаил спросил:
— Ну. как твои дела?.. — И тут же стал рассказывать про Наташку: — Взялась обслуживать полетала. дура… в газете про нее, пятьсот получает, а подруги обозлились… то одну пакость, то другую… сами-то так не умеют. Вот и ушла в соседнюю бригаду.
Я все ждал, что он спросит про моего сына, и приготовился рассказать, как Мишка нынче поступал но физмат, будет учиться у моего шефа, а возможно даже — у меня (если зимой защиту кандидатскую. со следующей осеки буду читать студентам физику твердого тела). Таня брала отпуск и весь август просидела с сыном, от экзамена к экзамену. Некий Валера помогал. Скажу так: приехал только повидать, на два-три дня, потому что дома обещал ремонт. Ремонт — это уважительная причина. И сердиться не будут. Но никто у меня ничего не спрашивал ни про Мишу, ни про Таню — то ли не до них было, то ли что-то сами узнали и не хотели смущать меня. Лишь Ксения, выйдя на крыльцо, пробормотала:
— Жаль, Таньки нет — врач… а наша сидит, ведьма, людей обойти не может — собак, видите ли, боится, у нас и собаки нет… И вдруг закричала на Михаила: Ты набойки прибил? Разве эти я просила? Это ж целые подковы! Что я, лошадь?
— А ничего еще, — ухмыльнулся Михаил, — ездить можно. Ксения, приходи в воскресенье!
— Да ну тебя, — отмахнулась бойкая его жена, ткнула руки в боки. От нее, как и от моей мамы, пахло сладким печеньем и нафталином — тоже работает в магазине, и уж, во всяком случае, разговаривать с мужиками научилась. — Сколько раз говорила — что у папани вашего получалось, у вас ни в жисть!
Михаил слегка обиделся и, подумав, задал невозможный мат в рифму, где поминались небеса, бог, бабы с коромыслом и немыслимые пропасти земли…
— Фу, фу… — замахала руками Ксения, — Комар против коровы!
Вышла незамужняя сестра.
— Че?
— Красну ленту через плечо, вот че. — сказала Ксения. — Вить, давай ее замуж выдадим, скоро мы в новый дом, а она…
— Если уж выйду, небось в свой дом жених уведет! Еще не хватало тащить, как бича, на свою площадь…
Женщины ушли в дом. и мы снова замолчали.
— Так, — сказал Михаил. — Лупой жгу пятки. Тебе мать-то не говорила? Старый дом мы на теГ>я отпишем — будет у вас вроде как дача… сейчас все так делают. Ну и наш присмотр…
Я. опустив голову, тяжело покраснел. И не знал, что ему сказать. Они думали про нас с Таней, а мы даже открытки перестали посылать им к праздникам из-за нашего разлада…
Из дому доносился треск и запах жарящегося лука с картошкой — готовили ужин. Спросит Михаил. о моих успехах или нет? То ли я стал для него совсем чужим, то ли он был угнетен своими делами… Ведь задавал же он, подшучивая надо мной, во все прошлые приезды самые дикие вопросы: "Сколько километров до центра Земли?", "А вот сколько весит пятак?", "А какого цвета сердце у щуки?". И чтобы отвечал сразу, не раздумывая. Раз я ученый, должен знать.
И сейчас я. как бы готовясь, как бы репетируя наиболее впечатляющие ответы, но так и не дождавшись вопросов, вдруг разом, куда трезвее, чем раньше, увидел мысленным взором все свои мизерные удачи, свою скудную работу, свою судьбу. В самом деле, страна лезет, как трактор из вулкана, к свету, у всех на сердце тягчайшие заботы, а я делаю кристаллы.
Нет, говорил я сам себе, кристалл кристаллу рознь. В том-то и дело, отвечал я сам себе: мечтал- то ты о других кристаллах. Собирался посвятить себя алмазу. Делать из графита. Он гораздо дороже любого рубина на международном валютном рынке и полезней для того же народного хозяйства. Шлифовка, бурение…
Но Крестов Иван Игнатьевич, который уже тогда был в университете моим шефом — заведующим кафедрой, сказал: "Сейчас важнее всего не это. Лазеры. Оборона. И я пошел за ним, как кутенок идет за любыми большими ботинками — эффект мамы. Ну. хорошо. А скажи тогда Крестов, у которого еще не все зубы были золотке, что сейчас самое главное гвозди друг в дружку заколачивать? Стал бы? Наверное. Старший товарищ говорит, он знает.
А у Кости шефом уже тогда был молчаливый Утешев. Первые два выпуска университета с его преподавателями — мы все вместе — к создали современный НИИ. И если Костя в студенчестве потрясал своими разнообразными талантами — и на рояле играет, и цветомузыку изобретает (со мной, как со специалистом по цветным фильтрам), и с учеными семи-восьми специальностей переписывается, — то в НИИ он стал обычным, как мы все. В ряду. Но он взбунтовался, а я доволен.
Из дому позвали, и мы с Михаилом все так же молча вошли. Поужинали, негромко разговаривая из- за больной девочки. На ушах Ксении сверкали золотые сережки, которые мать застеснялась носить. Пусть носит Ксения.
— Не замерзнешь в лабазе-то? — спросила мать.
По моей настоятельной просьбе, как всегда, мне постелили на сеновале. Бросили под низ два тулупа и еще поверх одеяла дали тулуп. Уже осень, под утро возможен иней.
— А то смотри, дом большой, — вздохнула мать, глядя на меня при свете лампочки, освещающей лабаз. Под потолком чернели сети отца, прошлогодние гроздья рябины, нынешний розовый репчатый лук, заплетенный как девичьи косы. Мать присела на колченогую табуретку, которую я помню по детству (в нее вколочено по забаве или случайно множество гвоздков, попробуй поднять — тяжелее гири!).
— Сыночек! Как ты? Не болеешь?
— Да что ты! Как бык!
— Это хорошо, что на Таньке женат, за одного тебя моя душа спокойна. А вот Наташка… Двадцать три года — мыслимое ли дело!
— Да ну, мам. Сейчас в сорок выходят.
— Скажешь тоже! В сорок! Один сватался — чуть не убила.
— Да ты что?!
— Швейной машинкой! Подняла… тот аж кубарем! А ведь гуляли… че-то случилось, видать. — Мать покачала головой. — И с Мишкой тоже. Дом-то уж когда построил! А вот крышу… все лето тянет. Приколотит доску — на море смотрит. Электрики столби меняли — сошел, схватил в одиночку и попер. Вдруг хребет себе сдвинет? Ты старшой, поговори…
Я молча смотрел на нее. Что я мог сказать?
— За границу-то еще не скоро? Сейчас ученые много ездят, ты осторожней — крадут наших, изгаляются… — Мать перекрестила меня (хоть никогда прежде не была верующей) и ушла.
А я, не выключая света, вдруг посмотрел на свои руки, выше локтей. Мне показалось, они стали тонкими, как у ребенка. Да, раньше они были крепче. А сейчас стали тоньше. Я читал — после сорока лет мышцы начинают усыхать. А мне еще нет сорока! И я уже покатился вниз?! Остановись, время! Я еще не жил! Я еще не испытал себя, как летательный аппарат в плотных слоях атмосферы! Даже кандидатом не стал! Что же ты со мной делаешь, время? Ногти ломаются, не режутся под ножницами — это от наступающей старости! К вечеру устаю, еле ноги таскаю. Утром кровь идет из носу… Проклятие кристаллы, дай бог, если вы действительно пригодитесь в большом деле…
На следующей день Олечке стало полегче, температура спала, и мать велела Михаилу к вечеру истопить баню. Узнав о том, что я ночую последнюю ночь, она с Наташкой ушла за Красные Столбы в тайгу, поискать брусники. Вместо нее сегодня работала Ксения, прибегая каждый час посмотреть на дочку…
Все светлое время мы простояли с Михаилом на крыше нового дома, я держал доски, подавал гвозди и все, как заведенный, думал о своих делах. В сравнении с Костей я был, конечно, никто. Как говорит Костя: му-му. Но ведь случались и у меня умные мысли! Даже про те же лазеры. Я мечтал рассчитать гигантский лазер… в космосе поместить огромные зеркала… луч будет способен пробить множество галактик… но Крестов только рукой махнул и дал мне очередную четкую, деловую задачу. А буквально недавно я прочел в одном из обзоров — за границей уже существует проект подобного плазменного лазера… Значит, и во мне мерцала мысль? Даже большая? Но я привык к себе, маленькому, как та девочка Алиса, что уменьшилась и чуть не утонула в собственных слезах…
Вечером, когда мы уже парились, облепленные пахучими зелеными листьями березы, Михаил спросил:
— У тя че… с Танькой отвал?
— Почему так спрашиваешь?
— Да какой-то пришибленный. Ксения говорит — то ли изжога, то ли измена Родине…
— Да ну, измена! — Я рассмеялся, — Скажет твоя баба.
— Да, баба у меня конь! — согласился, темнея лицом, Мишка. — Даже неинтересно жить. Уж в рыбалку суется…
Приоткрылась дверь в предбанник, и мы услышали сорванный старческий голос:
— Зимой и летом одним цветом — кто?! — И заглянул Никита Путятин, друг отца. — Не угадали?! Нос алкаша! — Он показал на свой сизый, как картошка, нос. — Я уже не буду, ребята, я тут подожду…
Потом мы пили в избе чай из электросамовара с медом. Бабы принесли из лесу два полных пестеря сухой, темно-красной брусники и пробежали в баню. Ксения с укутанной и одеяло дочкой сидела на горячем вечернем крыльце. Мы были одни. Старик Никита внимательно, почти вплотную приблизясь к моему лицу, искал черты своего покойного друга.
— Боялись его. Справедливый был! Тетрадку-то потеряли?
— Ну! — зло откликнулся брат. — То ли в уборную повесили, то ли так спалили, не нашел. Да и кому сейчас эти фамилии нужны… все сменилось…
— Не, — туманно сказал старик, снова вплотную разглядывая меня. — Еще нет. Вить, я вот слышу по радиво… снова поворачиваем… да ведь сколько раз поворачивали., я уж сказал своей старухе — верю в последний раз! А ты?
— Я?.. — Я растерянно смотрел на брата. — Я, наверное, слабовольный, дед Никита. Я еще, поди, буду…
— Не слабовольный. Молодой! — Он вдруг рассмеялся, полазав черный беззубый рот. — У моей милашки… длинные рубашки… как полезу… Не, у него веселей получалось!
— А я вам сколько говорила?! — В дом вошла уверенная, розовая Ксения с дитем. — Лучше бы спели! Ни на что не годитесь!
— Погоди, — оборвал ее Миша, — Дай поговорить.
— Говорите.
Ксения стояла возле зеркала, поглядывая на свое отражение. Мы молчали.
Из бани вернулись распаренные мать с Наташкой. сели рядом пить чай. Отдав Михаилу дочку, Ксения тоже ушла мыться.
— А помнишь, Аня, — вспомнил старик, обращаясь к матери. — как он этого из района уделал._ фамилия тому была Горобец… восемь раз — и все по- разному! "Подлец… хитрец… нутрец…" — Он сипло задышал, смеясь. — Нынче таких постов нет!
Мать согласно кивала, опустив глаза в стол. Наташа, крупная, в тельняшке — память об отце, — сидела, глядя куда-то мимо всех нас в окно, на темнеющие облака. У каждого свое.
Ну, обними, ну, спроси — что с вами?! Ну, поплачь вместе с ними над бедой и неудачей!.. Нет, я сидел и даже, кажется, улыбался, поддакивая старику.
Когда вернулась Ксения, Миша, как-то подобравшись, даже слегка побледнев, сразу начал:
Глухой неведомой тайгою…
сибирской дальней стороной..
бежал бродяга с Сахалина
звериной узкою тропой…
И успокоенная, счастливая Ксения (муж по- прежнему любит ее, слушается) села рядом с ним, обняла за шею и тихо, как бы умеряя свою страсть, не сильнее мужа, подхватила:
Шумит, бушует непогода…
далек, далек бродяги путь.
укрой, тайга его глухая…
бродяга хочет отдохнуть…
Пела мать, пела и Наташка, правда, почти совсем не слышно. Шептал и старик. И только я не пел — вдруг поймал себя на ужасной мысли, что стесняюсь петь. Нет, я помнил слова, прекрасная
песня, ее любил отец, но мне показалось — неловко это: всем враз открывать рот и петь всерьез. Уже и песен стал стыдиться, не то что общих слез…
Рано на заре простился с родными — всем было пора на работу. Меня проводить к автобусу пошел Михаил, он нес рюкзак брусники — женщины насыпали и для моей семьи. "Будешь есть витамин, — пошутила Наташка, — будешь жить как Хо Ши Мин…"
И мы снова молчали с братом. Над разноцветными, по-детски раскрашенными крышами летели гуси на юг. И домашние гуси, подражая им. бегали по улицам, хлопая крыльями. И уже когда прикатил в туче пыли автобус из города, Михаил как-то смущенно пробормотал:
— Я все спросить хотел… тебя не посещают странные мысли? Ну, вот иной раз ночью думаю — сколько уж лет не был там, на месте нашей деревни… вдруг какие марсиане живут? А че, остались цельные дома… понимаю, глупость — а сплавать, проверить боюсь. Или иной раз… вдруг загляну на этот наш чердак, а там золотое перо… какие-то птицы не наши ночевали… да ведь лень по гнилой лестнице… а вдруг ночевали?.. А еще, слышал, парень какой-то без еды в пещерах заблудился, двадцать дней плутал… я все думаю — а я бы выдержал? И все мне эти пещеры снятся, света ни грамма, только вода тихонько каплет…
— Да ну, какие глупости! — отрезал я, скорее по привычке все упрощать. И Михаил кивнул мне, как бы тут же согласившись, что глупости. Но не так-то все просто было — это зараза сильнее кислоты. Если даже он, деревенский человек, более надежный, чем я, мучается теми же вопросами, что и Костя. Что же это с нами делается?!
Шофер глянул на часы и направился к сельмагу. Я кивнул Михаилу, чтобы подождал, зашел на поч- ту. И послал телеграмму: "ТУВА КЫЗЫЛ ВОСТРЕБОВАНИЯ КАЧУЕВУ ДЛЯ ИВАНОВА СРОЧНО ВЕРНИСЬ ТЫ ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ УТЕШЕВ ЖДЕТ НЕСТЕРОВ". Точно такую же телеграмму адресовал во Владивосток.
Вернувшись в город, весь день провалялся, глядя в никуда. Было чувство пустоты. И обреченности.
Вечером увидел — в соседнем доме, где живут Таня с Мишей, загорелись все три окна во втором подъезде, на третьем этаже. Я подхватил рюкзак с брусникой и пошел. Надо им, надо есть царскую ягоду — впереди зима.
Я поднялся к их двери, постояв минут пять в раздраженном волнении, пытаясь угадать, кто откроет — Мишка или Таня, позвонил. Открыл дверь какой-то рыжий мужчина. Видимо, это и был Валера.
— Примите… от родных… — пробормотал я едва ли не униженно, всовывая в его жилистые руки тяжелую ношу. И буквально скатился по лестнице вниз — прочь скорее отсюда!
Я быстро шел. почти бежал мимо зданий с синими мерцающими окнами — там смотрели телевизор. А за желтыми и белыми, я знал, пируют, танцуют, веселятся. Со всех сторон, разрубленная перегородками, приглушенная стенами, рвалась музыка пел, кривляясь. Челентано и хрипел мрачный Высоцкий… кричала Пугачева и мурлыкала Сенчина… Может, взять да закатиться без звонка к Нелке? Это ее окна. Два окна, в одном темно, в другом — слабый желтый свет. Я поднялся на этаж и позвонил. Из-за двери мужской голос тихо спросил:
— Кто там?..
Я не отвечая и стараясь не стучать ботинками, тихонько спустился и выскочил из подъезда. Замечательно! Я вам всем желаю счастья! Вот я оказался возле своего дома. Отпер свою дверь — вошел — звонил телефон!
"Коли это Неля, пошлю на хрен!" — мстительно решил и. Но это была Таня.
— Это ты принес?! — тихо, но яростно спросила бывшая жена.
— Ну и что? Это не я — мама…
— Почему ты предварительно?.. — Она хотела сказать, что надо было предварительно позвонить.
— А что, ты бы его в шкаф спрятала? Или выпроводила? Весь Академгородок знает, что к тебе ходит… Вы еще не поженились?
— Не твое дело! Ты его смутил.
— Ах, вот оно что! Уж не подумал ли он, что ты еще и со мной встречаешься по старой памяти? Так мне письмо написать, что я приходил по своей сугубо личной инициативе?
— Надо будет — и напишешь! Впредь я тебя прошу…
— Да я больше не зайду! Никогда! — закричал я в трубку. — Сын учится — и слава богу! И ты отныне для меня отсутствуешь, как все три миллиарда мертвецов, которые лежат в планете Земли! Робот! Ты робот! — завопил я, давая себе, наконец, волю. — Робот со смазливым лицом! Как ты можешь лечить людей, если ты такай?! Тебе в Освенциме работать! Лярва!..
В трубке воцарилась тишина. Видимо, она думала.
— Нестеров! Ты на меня не кричи! — тихо ответила Таня. — А если ты так… значит, ты ко мне еще неравнодушен!
— Конечно! Я тебя ненавижу!
— А поэтому… если у тебя есть неясные вопросы, приходи к нам — поговорим. Только нужно предварительно звонить…
— Какие еще вопросы?! Нет у меня никаких вопросов! И все! Я исчезаю! Из вашей жизни! И вообще! Прощайте!.. — Я бросил трубку, и телефон гут же зазвонил. "Ага, Таня! Значит, все-таки заело!.." Я сорвал трубку. — Да?!
— Ты приехал? — Я услышал нежный голос Нели.
— Да!
— Ты что сердитый? А у меня гости.
— Ну и что?
— Хорошие ребята. И только мне грустно. Не зайдешь?
"Ведь лжет, — изливался я ненавистью. — Когда гости, их слышно. И если кто из них подойдет на звонок к двери, то спросит громко: кто там, а не так вот опасливо, поскольку сам в чужой квартире. Значит, уже позвала к себе и других… чтобы алиби… Но если это так, она всерьез интересуется мной, хочет женить".
— Нет, — сказал я и положил трубку.
Телефон тут же снова зазвонил.
— Ну что. что?! — заорал я.
— Два пятьдесят девять сорок один? — спросил унылый голос телефонистки, — Вы почему не отвечаете?! Не можем прозвониться к вам полдня… Южно-Сахалинск.
"Костя?!" Я вдруг страшно обрадовался. Словно горячей водой переполоснуло мне все внутри. Я вцепился в трубку. В трубке стоял гул. Где-то далеко визгливым голосом певица пела арию Кармен. Что- то время от времени щелкало. Вдруг раздалась слабые копоткие гулки.
— Алло! — закричал я в трубку, — Костя? Алло?!
Гудки прекратились, и очень близко — я слышал даже дыхание — усталый голос телефонистки сказал:
— Клиент ушел. Извините. — И снова раздались короткие гудки, но они были рождены уже в нашем городе.
— Это Костя звонил?! Алло!.. — Я колотил по рычажкам аппарата, но мне никто не ответил. Ноль семь было занято. "Что-нибудь случилось?" Я сидел, глядя на телефон, но он молчал. "Милый мои, славный Кости, что с тобой?.." Я разделся и посидел возле аппарата. Он молчал. Я лег. положив его рядом на пол, чтобы — если позвонят — схватить трубку. Я спал и не спал. Но телефон больше не позвонил.
17
И не было мне ответных телеграмм, и не было писем.
Я вышел на работу, правда, неофициально, чтобы не ругалась бухгалтерия ("Вечно вы все нам запутываете!.."), сидел дома, читая взятые из научной библиотеки новейшие публикации по кристаллам. В США вовсю испытывали лазеры, сжигающие спутники. Интересно, ответят наши чем-нибудь? И какие лазеры сейчас самые перспективные? Полупроводниковые? У них максимальный коэффициент усиления… Инжекционные? У этих стопроцентный к.п.д. — электроэнергия превращается в когерентное излучение в непрерывном режиме! А если еще в США используют для накачки лазерных пушек атомные взрывы, как доходит до нас по слухам? А если начнут врать компьютеры? Это какая же может разразиться в космосе перекрестная страшная война? Лучше бы вправду остановить это!
Меня интересовала более скромная тема: добавки. Лаже студенты знают, как резко они меняют характеристики кристаллов. Тот же хром. Или кобальт. Теоретически трудно предсказать, какое именно воздействие окажет та или иная надбавка, разве что задним числом можно объяснить, почему меняется полоса накачки (полоса света, которую поглощает кристалл — например, рубин поглощает синий и зеленый свет, а выдает, как вы уже знаете, красный — 740 ангстрем). Я был уверен, что рубин еще не сказал своего последнего слова. А если и дойду до тупика. то хоть другие потом сюда нс пойдут. Эго тоже задача!
Шеф хмыкнул, увидев меня, недогулявшего отпуск:
— Я был такой же!.. — Услышав от меня, чем я думаю заняться, он закивал, но тут же нагрузил десятком своих, крестовских задач, так что для успеха мне нужно было сидеть теперь в лаборатории сутками. А ведь еще предстояло оформить диссертацию… Я попросил, как царской милости, разрешения бывать в лаборатории сколько хочу. Наша тема, напомнил я шефу, вон на каких уровнях обсуждается, неужели товарищ Поперека не слышал про Рейгана.
— Что Попереке Рейган, — вздохнул шеф. — Я поговорю.
И как-то, зайдя ко мне с откинутой назад головой. будто перед ним только что свистнула ветка, Поперека сказал:
— Ты, Нестеров, приравнен к биохвизикам… — В голосе его звучала печаль.
Я вспомнил о бывшем биофизике, бедовом своем друге, и в который раз поехал в город. Наконец-то меня на главпочтамте ждал толстый пакет. Я вскрыл его — внутри оказался конверт. Если внешний, серо- желтый, был надписан женской рукой, то внутренний подготовила рука мужчины. Он весь блестел, видимо, для надежности швы его промазали не раз и не два конторским клеем, который вытек и засох на углах, как янтарь. Наконец добрался я и до письма — оно было от Кости. Я держал в руках пять листочков, исписанных крупным неряшливым почерком и разными чернилами. Я прочитал их прямо на улице, возле почты, где из высокой каменной урны валил черный дым. Прежде всего, было ясно — моих телеграмм он еще не получал. Во-вторых, не упрекает меня ни за приезд на БАМ, ни за Владивосток — единственным местом, где шутливо поминалось об этом, были стихи:
Да, Гамлета я все же не сыграл.
Тебя, Витек, увидев, я сломался.
А ты небось до колик отсмеялся?
Теперь берешь спокойно интеграл?
Или шлифуешь голубой кристалл,
который девять месяцев рождался?..
Да. я, тебя увидев, стушевался.
И Гамлета я все же не сыграл.
0 жизнь! Глуши ударом топора!
И вознеси же крыльями иными!
Судьбу придумать новую пора —
походку, голос, родственников, имя..
Я не хочу все то же дергать вымя!
Стать новым жажду с нового утра!
И поморгав ресницами седыми,
у объявлений всех кричу "Ура!..".
Далее шла приписка: "В нашей стране, слава богу, нет безработицы! И не везде, сл. б., внимательно документы… (Он, видимо, хотел сказать — проверяют документы. Вообще, начиная с этого письма слог Иванова становится крайне неровным, много сокращений, пропущены знаки препинания, чего пунктуальный Костя никогда не допускал раньше… я кое-где восстановил, но многие огрехи оставил для наглядности, тем более что дальше будет повод поговорить об этом более серьезно. — В. Н.) Но я же не враг! Не лазутчик! Мне бы только что- то попробовать! Это такое счастье — придумать себя неожиданнаго, смелаго, умнаго (окончания слов здесь именно так, как в старинной литературе.—В. Н.). И соответственно, у тебя возникают такие же друзья! Гм. Давно мечтал в Москву, потрогать "золотое дно". Спекулянты проклятые! Как войти в их шкуру? Научиться перепродавать? Купил пару джинсов, стыдно стало — продал за полцены… торопился убежать. Выпил крепко, чтобы сов. усн. (совесть уснула — В. Н.), решил иначе. Попробую игр. втемную. Чем я не "фарца"? Жаль, ты не видел моих новых "лепеней": костюм-велюр, костюм-сафари… перстень, подарок одной… ну, ладно. В джинсарях, замше вечером возле "Националя". Ко мне стали клеиться — тоже в джинсарях, в замше. Назыв. одно имя — молчу. Другое — молчу. Я понял — боятся конкуренции. выясняют, чей человек. Я говорю: у меня такое, что я вам не конкурент. А у вас что? А у меня Одесса. Они, оказывается, уважают Од-у, где я, кстати, не был. "По морю?" — спрашивает один. "Да", — "Но ведь перекрыли?" — "Подводная лодка", — говорю. Парень (а может, и дев. — крашеный весь) обратился в пепел. Стали мне башли совать, пачками, 7000 нанесли — просят видеомагнитофоны. Это нов. мода. Семь кусков — задаток. Можешь, говорят, даже не отдавать, только чтобы японские. Или золото. Достану, говорю. Но все мы, мужики… как возьмем ручку белую женскую в свои черные, так начинаем треп, и хваст. Виктор Гюго! Даже если нет рядом бабы, а только ее фотка на столе — зашей губы! Выследили мой путь к одной… Поймали ее угостили ликерными конф., задурили мозги фр. духами "Калима" — раскололась: он-де честный парень, Иванов-Иванесов… исследует дно… Подстерегли в подворотне, измолотили ногами, обутыми в румын. бот. с белыми рельеф. подошвами — до сих пор на щеке рис. лабиринта, где жил Минотавр… Спросишь, а где же мой талант "мастера по борьбе", пусть даже ускор. курсы? Их семеро! Вывернули карманы. Пошел как шакал. Хор., что чемоданчик и док. (документы?) были в авт. камере в Домодедово. Отлежался в Измайловском парке, рядом с бичами… (Кстати, спроси у отлич. Попова, что такое бич, — вряд ли знает. Передай: БЫВШ. ИНТЕЛ. ЧЕЛОВЕК, БЕЗУМНЫЙ ИГРИВЫЙ ЧУВАК. БАЛОВЕНЬ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, БЛЕДНЫЙ ИМПОТЕНТНЫЙ ЧАРОВНИК, БЫДЛО ИЗ ЧАШИ… Да. да, и здесь свои классы!) Так вот как лечили. У них ли-те-ра-тура… Скажи Сереге — вместо того чтобы считать никому не нуж. муру, пусть распечатает на ЭВМ у Люськи: Булгакова, Дюма или йогу — озолотится! Люську ведь можно на доверии взять, не поймет, разрешит… Да. читает наш народ! У старика тувинца в тайге — Шекспир. Откуда?! Зачем?! Говорит: польно король Лир жалко… (Кстати, насчет шишек — да, нынче не шишковый год.) А у этих — черная магия! Конечно, шарлатанство, но какие-то внушения… восстал из праха. Межд, пр., боялся, что стал дебилом — семеро смелых били по голове. У бичей же нашел сборник по квантовой механике — решил неск. задач, успокоился — варит котелок… хотя зачем??? Грузили яшики. купил замечат. рубашку, постригся. Куда дальше? Сижу как-то в Дом. (Дом писателей? Или Дом композиторов?.. — В.Н.). слышу — объявляют "Отряд комсомольцев-строителей, улетающих на Богучанскую ГЭС, просят собраться у справ, бюро! (Значит, все-таки Домодедово. — В.Н.) Ах, мне слеза обожгла щеку! (Кстати, Нестеров. сколькопроцентной уксусной эссенции соответствует по жгучести слеза? Ха-ха!) В мою Сибирь летят, а я тут прожигаю Δt (дельта-тэ — обозначение промежутка времени. В. Н.). Почему я не с передовой сов. мол.?! Я и пристроился. Тем более на мне — рваные вельв. джинсы (сем. смелых меня, конечно, раздели, как девушку!), чужой свитер, олов. крестик поверху, кеды на ногах. Все остальное пропито, пардоньте!.. Жаль, скоро бел. мухи полетят, а плащ в Горьком, что ли. остался… или в поезде… Можно, конечно, Эмилии Золя черкнуть (Зульфие?.. — В. Н.) — купит, пришлет, но ведь восторж. душа — еще полетит следом. Старина, рука бойцов писать устала. Я все к чему. Ты кинь мне ватн. телогрейку авиапосылкой: Богучаны. почта, до востр. Тюрину Юрию Петровичу. Тюрин — это я. Ну, временно, конечно. Мы побратались и паспортами обменялись, он бывш. раб. постройкома, был даже членом… Так вот, похожи мы с ним, как братья во Христе! Кстати, вы слыш., тов. Нестеров, как назыв. друг друга бичи? Уважительно, по им. — отч. Только у нас отчество от своего же имени! Напр., я — Юрь Юрьич. А ты Виктор Внкторыч. Почему бичи очень уважают Маяковского? Особенно любят его поэму: "Уважаемые тов. потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме…". Мы договор, на Нов. год. встретиться в Нор… (Далее не хватало места на странице — тут стояло то ли Нор… то ли Нод… то ли Ноф… — В.Н.). Старина! Никаких моих координат — никому! Деньги я посылаю? Что еще нм надо? А я еще не плавал на льдине возле Сев. полюса! Хотя вряд ли возьмут… похудел на 7 кг… Но в альпинисты примут! Путем проб и ошибок вычислю самое интересное дело на планете — и остановлюсь! Как там моя общественница? Как моя перипетуя? Еще не замужем? Ежели какой рядом крутится — гони прочь! Пусть университет закончит. От моего имени действуй! Ну, все! (Тут парень летит в Усть-Илим, места родные, думаю — отправит письмишко с каким-нибудь вертолетом.) Обнимаю до хруста костей! С выражением нижайшего к вам почтения Константин-Юрий-Йозеф Иванесов-Тюрин-Иванов".
Но это было не все. На отдельном листке стояло:
"ВОПЛИ ИЗ ТЬМЫ. ИЛИ КРИКИ ИЗ БОЛОТА!!! Пол таким назв. я буду посылать тебе время от вр. некоторые свои мысли о происх. жизни, от которых еше не освободился!
…Нуклеиновые кислоты, с помощью которых записан генетич. код, белки и пр. имеют большой Электр, заряд. Вообще, в биосфере дефицит "+". Почему?! Была вода. Не было озонного щита. Ионизирующая радиация Солнца рождает гидратированный электрон (электрон в оболочке воды). Это тигр! Он активен, пожирает полимеры, неспособные к выживанию! А вот возникшие затем с помощью Э. полисахариды уже имеют свое " — " поле. Оно защищает все. что внутри этого "облака". А защита совершенна, Скотт прав (Манчестер), если хим. акт. уязвимое сердце замотано в экран, сетку, например, в двойную спираль ДНК… А как?! Как замоталось? Почему???
…Я убежден, нам мешает го. что мы расшифровали молекулярную структуру РНК-ДНК. Мы захвастались… как бы запутались в разных оттенках губной помэлы для женщин, пытаясь понять, как женщины любят. А это совсем другое. Где же начало? Это — как обилие ЭВМ упростило счет и увело от поэзии цифры… Нет поэзии — не родится Мысль! И наплевать! Ты жив? И я жив! Привет…"
Я дочитал — первая мысль была: он может пропасть! Зима на носу, а Костя хорохорится, без документов, без одежды. Надо все-таки сказать Люсе. А если заставит лететь к нему? Или даже полетит сама — Костя не простит мне. что я сказал адрес. А может, обойдется, простит? Может, решил вернуться — неспроста же намекает, что похудел, что рад — голова еще варит… Наверное, очень устал. Ему, конечно, надо помочь с одеждой, но пусть Люся едет. Она его привезет.
Я заново мельком просмотрел письмо, кое-что запоминая, порвал на клочья (я еще не раз потом раскаюсь в этом!) и высыпал в каменную урну…
И побежал в ЦУМ. Здесь, мне сказали, ватников не было с 50-х годов, что сейчас это модный товар, надо спросить у цыганок. Правда, ожидаются финские. 120 рублей, но вы же спрашиваете простые?..
По совету какой-то доброй старушонки я все же поехал на трамвае на правый берег и в маленьком магазинчике у Злобинского рынка купил телогрейку. Тут же неподалеку была почта. Бдительная девушка спросила, во сколько оцениваю. Но поскольку телогрейка стоила не больше двадцатки, мне ее завернули в бумагу и отправили авиабандеролью в Богучаны…
18
Люсю я искал на ВЦ, в парткоме, и библиотеке, дома, а она сидела в коридоре нашей поликлиники, прикрыв нос ладонью, ждала очереди к врачу. Вокруг чихали, кашляли.
— Что с тобой? — спросил я.
— На капусту ездила! — Люся отвернулась. — Собаки мужики! Баб посылают, а сами сидят — мыслят! — Молодые здоровые парни, стоявшие рядом с бумажечками-"бегунками", сделали от нас три шага. — А как надо за границу — здоровы! Шел дождь со снегом! А ты еще не был?
— Я из отпуска!
— Ну-ну. — И только тут я увидел, что у бедной женщины возле носа на щеке выскочил красный чиришек. — Чего тебе? Считать что-нибудь? Бунтует машина… жарко, вентиляция отказала… отопление третий день как на вулкане! Так бы они зимой топили!
— Людмила. — Я значительно показал глазами на выход.
— Письмо? — как-то даже брезгливо спросила Люся.
Я кивнул.
— Ну и хорошо! Иди! Мне некогда!
Я растерянно подумал: Люся, наверное, играет на публику — наш разговор, конечно же, подслушивался коллегами в очереди, хотя они демонстративно закрылись книгами и газетами. Судьба К. Иванова стала давно ходячей легендой в НИИ — как можно упустить новости?.. Но я увидел, что Люся заслонила ладонью глаза, а не нос.
— Людмила Васильевна?..
— Я сейчас, — буркнула она, тяжело поднимаясь, соседке с замотанным ухом и вышла за мной. Над крыльцом поликлиники бешено шумел лес, соря желтыми листьями.
— Ну что, что?! — почти крикнула женщина. — Где он?!
— Тут, в Богучанах. Я узнавал, по четным ходит ЯК-40..
— Ну и что? А если врет? Мы туда — а он уехал? Нет. хватит, Витя! Это уже смешно! Я всем сказала — развожусь! Он не любит нас! Я его деньги в корзину складываю… если как-нибудь появится — с балкона на голову! Я ему устрою, как Деду Морозу, снег! Бич! Антиобщественный элемент! Светка замуж выходит, а ему плевать! Ну и мне плевать!
— Как — замуж? — Я похолодел. — Светка?
— Да. Я устала, Витя. Пускай. Все будут при ком-то. Я при общественности. Этот — при своих поездках.
— А за кого она?
— Как за кого? За твоего лаборанта. Запудрил ей мозги Махатмой Ганди… Цицероном…
— Как, за Вову! Да он же… дурак! — Я был потрясен. — Он плюсы-минусы путает!
— Я думаю, с ней не спутает. Учебник возьмет. Свадьба в субботу. О чем говорить?! Поздно.
— Как — поздно?! А Костя меня просил гнать всех женихов, чтобы дочь закончила университет. А ему я отослал ватник…
— Витя, — тихо сказала Люся, — Мне все равно. Во мне что-то умерло. Вот будет он там подыхать — не поеду. Кривляка! Шут гороховый! Все люди как люди! А он — десять жизней захотел прожить? В десяти домах с десятью женами?.. Что я, не понимаю? Что он там, ангелом летает?! А я как дура! — В глазах ее была серая тоска. — Все, Витя. Делай как знаешь. Мне все равно. — И Люся ушла обратно в поликлинику, в тошнотворный запах эфира и мази Вишневского, располневшая от сидячей работы, за последнюю неделю как-то действительно враз погасшая…
Я поскреб в затылке к потащился к себе в лабораторию, соображая, как мне отговорить Вову Ко- сенкова. Такому дураку — такую девочку?! А если уже все?., и они со Светкой?.. Надо срочно сообщить Косте. Посоветоваться. И вдруг я с ужасом сообразил, что ватник послал на его настоящее имя, а не на имя Тюрина. Я забежал на почту и после грех или четырех вариантов составил следующую телеграмму (если бы все это происходило в США, наверняка ФБР или ЦРУ гут же перехватили бы ее и принялись расшифровывать, ища особый тайный смысл): "БОГУЧАНЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ТЮРИНУ ЮРИЮ ПЕТРОВИЧУ ТЕБЕ НА ИМЯ ИВАНОВА ВЫСЛАЛ ВАТНИК ПОСЫЛАЮ ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ ТВОЕГО ИМЕНИ НА ИМЯ ТЮРИНА ПОЛУЧЕНИИ СООБЩИ СУББОТУ СВЕТА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ ЧТО ДЕЛАТЬ ОБНИМАЮ ВИТЯ. После чего я понесся в институт, к своему шефу, и, пользуясь его рассеянностью — когда дует ветер, у него болит голова и он грустен, — подмахнул доверенность. Аллочка, так же рассеянно глядя на гнущийся, как трава, золотой лес, приложила печать. И письмо в авиаконверте полетело на Ангару.
Что дальше? Да, Вова! Я. зайдя в лабораторию, зловеще озирался. Где он? Вовы не было. Только лежал на осциллографе сборник стихов С. Щипачева с закладкой из засушенной ромашки. Я открыл на закладке:
Любовью дорожить умейте…
С годами дорожить вдвойне…
Любовь не вздохи ка скамейке
И не прогулки при луне…
Да. тут что-то серьезное.
— Лаборанта ищешь? — спросил шеф. Он стоял за моей спиной, морщась и приклеивая к вискам пятаки. — В город поехал, договариваться в кафе. Как думаешь, что нм подарить на свадьбу? У меня есть лишний фарфоровый сервиз. А может, свою бессмертную монографию? Он просил…
Шеф продолжал что-то говорить, показывая золотые зубы, как спекулянт-узбек на рынке. А я подумал: "Ездишь ты на мне, дядя! Оседлал как лаборанта. Даже Воза относится без всякого почтения. Да и какая между нами разница? А монографию ты обещал мне. Я ее просил. Говоришь: диссертация — мелочь… потом! А сам при мне стал член-кором. Будешь академиком. И все больше тебе будет неохота снизойти до моих дел…"
— Скажите, — спросил я, нагло глядя на Крестова, — на какое число вы назначили мою защиту?
— Что? — не понял шеф. Одна монета упала и закатилась в угол. Он полез ее доставать, выставив круглый зад.
— На какое число вы назначаете защиту диссертации Нестерова, или мне уйти в другой институт? — так же спокойно спросил я. Я вдруг перестал бояться его. Вон Костя — наплевал на все, убежал. А я что пресмыкаюсь?! Это мои кристаллы он показывал в Париже и в Токио.
Шеф выпрямился и, зажав пятак в руке, смотрел на меня. Он был поражен. Наверное, так бывает потрясен муж-араб, когда покорная его жена в чадре вдруг заявляет, что у нее свои планы переустройства мира.
— Но я полагал — вам интереснее то, что мы ищем?..
— А зачем же тогда сами столько сил прилагаете, чтобы напечататься? Чтобы пройти в академики? Разве вам не важнее сам процесс поиска?
Шеф, ничего не ответив, вышел из лаборатории. "Ну, теперь мне хана!.. — подумал я, с какой-то бурной радостью ощущая новизну своего неопределенного положения. Ну и уеду. Руки у меня слава богу. Уеду в Новосиб. Скажу — не бережет кадры. Впереди разделение института, ему еще в академики баллотироваться. А врагов много. Он еще поуговаривает меня. Вообще-то, когда я вижу недобросовестность людей, молчу. В первый раз взорвался. Ну и ну.
Стукнула дверь — вернулся пунцовый от счастья Вова. Он был в новом мешковатом костюме, при галстуке.
— Слушай, — кивнул я на книжку Щипачева. — Это я еще понимаю… На кой хрен ты читал тут Цицерона? Картинку гнал? Чтобы при случае козырнуть?
— Мне интересно, — едва ли не извиняясь. ответил лаборант. И, сопя, достал из стола тяжелый зеленый том. — Вот тут…
— Интересно?! — Я пожал плечами и разломил книгу наугад. Перед моими глазами возник текст: "…первый закон дружбы: будем просить друзей о нравственно-прекрасном, будем совершать ради друзей нравственно-прекрасные поступки…" — Вот как?! Красиво! А ты подумал, договариваясь о свадьбе со Светой, что надо бы разрешение спросить у ее отца? Что вот это и было бы нравственно-прекрасно?
Пухлый двухметровый увалень опустил голову.
— Так его же нет…
— А у него есть друг! Все права он передал мне! Ты спрашивал у меня?
— Н-нет…
— Так спроси…
Вова поднял глаза, в которых была сплошная глупость.
— Виктор Михайлович… можно мне жениться на Светлане?
— Нет, — проскрипел я. как Фефел, — Она должна закончить университет. И ты, полуграмотный человек, окончи тоже. А где жить собираетесь? У мамы на шее? Ловко! Папа сделал ремонт, а тебе, значит, скучно стало в общаге?.. — Я, наверно, говорил не те слова, но я выполнял наставление Кости.
Лаборант вдруг сел на стул и медленно заморгал, по его румяным щекам поползли слезы. Он скрючился и затрясся.
— Что такое? — пробормотал я. Он ревел, как дитя, — Да что такое?!
Он стал бледным и заскреб пальцами грудь. Я испугался.
— Да что с вами, Вова?! — Я бросился к аптечке. накапал ему валерьянки. Он, стуча зубами о стакан, выпил. И еще более громко, в голос, зарыдал.
Вбежал Крестов.
— Что случилось?!
— Кажется, полетел пятый кристалл, — ответил я. И потрепал лаборанта по лохматой голове. — Ну, ладно, ладно!..
Шеф был потрясен — из-за какого-то кристалла переживают молодые люди. Он заинтересовался, сел напротив.
— Мы тоже были такие… — вздохнул он. — Так же любили науку. — Он жадно смотрел ка слезы лаборанта.
— Ну, прекрати, — сказал я Вове. — Шеф не будет ругаться.
— Да что вы, в конце концов?.. — запечалился шеф. — Что же я, крокодил какой? Я подумаю, Нестеров. — Он повернулся ко мне. — Вы где-то правы, — И кивнув своим мыслям, ушел.
— Boвa!.. — сжал я голову лаборанта и вскинул. — Ты что?! Так любишь ее?!
— Ага, — прошептал парнишка, сглатывая слезы. Все лицо у него было мокрое, — С пятого класса…
"А может, притворяется?! А потом со Светкой будут хохотать? Они все могут!" Я внимательно, как в кристалл, посмотрел в каждый глаз Вовы. Мне кажется, он был искренен.
— Если так, — сдался я, — женись. Только давай сочиним приглашение отцу. Может, прилетит?
Вова, кивая, оторвал кусок от рулона миллиметровки, схватил авторучку и словно бы приготовился к диктанту.
Зазвонил телефон. Я поднял трубку.
— Нестеров? — Голос был женский.
— Он самый. Здрасьте.
— Вам телеграмма Богучан, Тюрин на Сахалине.
— Что?!
Голос повторил:
— Тю-рин на Са-ха-лине. Поняли?..
Как же это я забыл?! Мне ведь звонили из Южно- Сахалинска! Мысли путались. Да как же он успел?! А если он на Сахалине, что он там делает? И где? И под какой фамилией? А может, Костя здесь, а Тюрин там?..
— Пиши! — закричал я Вове, указуя пальцем на бумагу с перфорацией. — СРОЧНО ЖДЕМ СУББОТУ СВАДЬБА ДОЧЕРИ. Шлем в города… — Я вынул из кармана деньги. — Должно хватить. Так. Южно-Сахалинск, Богучаны, Владивосток, Хабаровск… да, Магадан!.. Улан-Удэ… Петропавловск-на-Камчатке… главпочтамт, до востребования, Тюрину Юрию Петровичу… На всякий случай — в те же города, на имя Иванова Константина Авксентьевича… Перепишешь на бланки… нет, давай я сам, ты напутаешь! — Я побежал на почту.
Получилось на шестнадцать рублей. Начальница спросила:
— У них что, у Тюрина и у Иванова, одна дочь на двоих?
— Ну да, — ответил я. — Они посаженные отцы. — При слове "посаженные" девушки за спиной начальницы прыснули от смеха, — Сегодня телеграммы уйдут?
В четверг и пятницу не поступило никакого ответа.
Я понял, что Костя опять запропал — и, видимо, надолго. Может, заболел, лежит где-нибудь в больнице. А может, и убили..
В субботу молодые расписались, вечером в кафе "Юность" состоялась молодежно-комсомольская свадьба. За неимением отца невесты я взял на себя трудную обязанность виночерпия — наливал в основном Люсе и приехавшим из деревин маленьким очкастым родителям Вовы, оказавшимся учителями. Студенты веселились и без вина. Это сейчас такое движение. Они, конечно, выпили где-то раньше, но здесь в основном хлестали минеральную и плясали. Два паренька весьма похоже изобразили нас с Костей, изобретающих цветомузыку пятнадцать лет назад. Толстый очкарик (Костя) нажимал на клавишу:
— До. Какой цвет?
— Я думаю, семьсот сорок ангстрем, — отвечал худенький тип (я).
— Не понял?! — Начинал считать на пальцах "Костя".
— Ну, красный, красный — отвечал "я".
Черт возьми, все-таки молодежь что-то знала про нас. Я даже растрогался. В свое время наша установка получила малую золотую медаль на ВДНХ. Забрали в музей. Лучше бы отдали студентам. Пообещав сделать новый "Спектрон" к Новому году, я подошел к Люсе. Она, прикрывая ладонью напудренный нос, ревела, она взяла слово с дочери, что та приведет Вову из общежития домой только после того, как откликнется папа.
— Ты нашего папу любишь? — спрашивала Люся.
— Да… — содрогалась от рыданий Света, приникая к маме и утирая глаза белой фатой, похожей на мелкую рыбацкую сеть.
— Сделаешь, как я просила?
— Да… да…
Вова сидел рядом в розовом галстуке и печально глядел на сверкающий, грохочущий в углу оркестр университета. Он понимал — судьба. Я шепнул Вове на ухо, что все великие философы древности утверждали: нужно стоически принимать удары судьбы. Вова, подумав минуту, согласился. И мы с ним пошли танцевать, я — как заместитель папы, он— жених, чтобы обсудить его дальнейшие планы.
— Тебе нужно срочно делать курсовую, — сказал я. Я помогу, я тебе отдам половину своих экспериментов! Ты у меня вместо диплома кандидатскую защитишь! Весь мир ахнет! А потом уйдем в другую лабораторию! Мы накажем шефа!
Мне Вова все больше и больше нравился. Надо же — плакал от любви. Надо же — читает Цицерона! Я обнял его как сына.
Маленький лысый Крестов сидел со своей высоченной женой и ел ложкой торт. Слово он сдержал — сервиз принес. Довольно неплохой сервиз, из ГДР. Голубенький, с белыми цветочками. А мне Аллочка- секретарша накануне передала толстую монографию шефа с автографом — все-таки вспомнил, мозги еще есть, но со мной не разговаривал..
19
И было утро, и было сияние в дырочках почтового ящика — письмо от Кости. Но зря я радовался. Трудно сказать, когда он его написал, но такой неприязни, такой злобы я прежде не мог предположить в Косте. Я только понял, что, наконец, долетела телеграмма, где я сообщал ему, что все мы ждем его…
"Утешев ждет! Ха-ха! В рот ему дышло!.. В этом челов. не кровь, а плацента лягушки! Если ему выстрелить из револьв. в ногу — только через неделю повер. к ней голову! И он мечтает, чтобы все такие! О, люди, мерзостно-ревнивые к вылезанию из ряда! Стоит человеку придумать "вечную* лампочку (помнишь, в "ЛГ"?) —20 лет не может се внедрить, потому что целые НИИ не сумели, а теперь они, конечно, находят в ней массу неполадок. Администратор должен быть или умный чел., никакой не ученый, или — великий ученый, пусть даже дурной чел.! Наша беда — слабые уч., но понравившиеся наверху! "Кефир! Интересы народ, хоз-ва!" А это обман глубинных инт. гос-ва! Как издевались над кибернетикой — так издеваются Утешевы над происх. жизни, хотя — что может быть важнее??? Мне нужно было в семь слоев просечь тему… Он помог защитить лишь то. что слабее и проще, тэ сэзэть, ближе к профилю НИИ! Сволочь! Вообще, зависть в человеке похуже ядов ЦРУ! Бездарность страшнее вселенских катаклизмов! Чел. по сути своей дерьмо! Ты же знаешь, в нем 80 % воды, из этого 79 % дерьмо, которое даже пес лакать не будет! А мы поднимаем под музыку, носим наших баб по сцене (называется балет!) — дерьмо! И вся наша дружба — дерьмо! Оставьте меня в покое! Я растворился… исчез… если ты будешь… еще больше ненавижу… (Слог временами становился совершенно невнятным. — В. Н.) Кто-то сказал: если даже алмаз бросить в часы — часы встанут. Наука, не лезь в живой организм! Нам с тобой никогда не созд. мелодию из 6 симф. Чайковского — протяж., как вдох на цветоч. лугах России, которых больше не будет, а будут поля, засеян, скучными травами! Не написать ни тебе, ни мне:
Среди миров, из тысячи светил,
одной звезды я называю имя…
и та-та-та… когда мне тяжело
я у нее одной прошу ответа.
Не потому, что с нею мне светло,
а потому, что с ней не надо света…
И. Анненский.
Ни тебе, ни мне не нарисовать странных девиц Боттичелли, акселераток древней Италии… Так зачем жить?! Мы посредственность. А ты самый бездар. из нас! Друга спасаешь, чтобы ахнули: какой благородный?! Не суетись! И я — барахло! Попробовал— отступился! Спи спокойно, дорог, тов.! Никому не желаю ничего хор. Потому что его все равно не будет. Будет самообман! Самообман химреакций. Пей лучше C2H5OH."
Я читал и перечитывал это злое письмо, и руки у меня дрожали. Я поднялся к себе домой, долго не мог найти спичек к сжег, наконец, это словоизвержение. мятые листочки в пятнах то ли жира, то ли от стеарина свечек…
В лаборатории сидел мой шеф. Я, не поздоровавшись, прошел к своему столу. Шеф прикрыл за мной дверь и многозначительно показал глазами на часы — было двадцать минут десятого.
— Вы что?!
— Ну, опоздал, опоздал! — сказал я, кипя.
— Что, тоже решили?
— Что?
— Сорваться?
— Почему? — Я недоуменно посмотрел на Крестова.
— Все говорят.
— А мне не говорили, — ответил я.
Шеф лаже не улыбнулся, хотя прежде понимал юмор. Я подумал, что, видимо, он проанализировал отношения с младшим научным сотрудником Нестеровым и понял, что теряет его. Не говоря о том, что я ему удобен — все умею, но мало что требую, — он. очевидно, в преддверии раздела института опасается шума, пусть хотя бы и малого, который лишит его морального права упрекать Утешева, что тот не бережет кадры…
— Вы способный ученый, — говорил Крестов, расхаживая передо мной и заложив руки за спину, как будто диктуя, — Специалист редкого профили. В то время как вся страна поворачивается к ИТР, мы, люди НТР, будем признавать свое банкротство и бежать? Понимаю, трудно… А если побегут врачи? Продавцы? Руководители? — Нет, шеф был непрост, он уже острил, что, впрочем, не умаляло его тревогу за меня, вернее, за его человека. — Нет, Нестеров, надо! Мы еще увидим небо в искусственных рубинах! Но лишь бы не война! Сейчас мы поворачиваем к тому, чтобы наладить еще больший контакт с другими науками, идти единым фронтом. И в этом смысле хорошо бы вернуть нашего беглого Джима (он весело проводил параллель с негром из книги Марка Твена). Тем более нам недавно указали — нельзя обходить и общие… фундаментальные темы…
Вот оно что.
— Никогда не известно, что может оказаться важным через энное число лет…
— Это вы о ком? О Косте Иванове? — Наконец до меня дошел смысл его речей. — Пошел он на хрен!
Шеф удивленно уставился и нацепил очки. А я подумал: неужели спелись с Утешевым, заключили как бы союз? И сейчас им обоим нужно, чтобы их любили, чтобы все сидели на месте — во всяком случае, до раздела НИИ, иначе кого делить, если все разбегутся…
— Вы же друзья! Ю ар фройндс! — добавил шеф по-английски. — Почему?! — Глаза его заинтересованно блестели.
— Малодушный тип!
— Гм. — Крестов медленно улыбнулся. И я подумал — он беспокоится только за меня, на Костю ему плевать, не так уж он желает добра Утешеву, чтобы просить своего сотрудника век бегать-искать Иванова. Шеф снял очки, обнял меня, как отец блудного сына, и вышел.
И я подумал: "Черт с тобой. Костя! Пропади! Сгинь! А я стану, стану известным ученым! Кто-то сказал, главная составляющая часть таланта — надежда. Тебя кормили с детства конфетами, все у тебя было — белый рояль, костюмы… еще неизвестно, золотую медаль в школе заработал… Все твои бунты от жиру!"
Но только я углубился в расчеты — пришла Люся.
— Ну, что еще?! — вырвалось у меня. И чтобы как-то смягчить снос хамство, я сделал вид, что интересуюсь работой ЭВМ. — Опять стоят?
Люся отрицательно покачала головой. Она села. Она преданно заглянула мне в глаза. Она сегодня не спала.
— Нет-нет, я тебя больше не дергаю. Зять поедет!
— Какой еще зять?! — Я совсем забыл про Вову.
— А что? — И она позвала: — Владимир!.. Его очередь!
И вошел Вова — в шерстяной шапке, вроде буденновки (наверняка Люся и вязала!), в штормовке, надетой поверх двух свитеров, в брезентовых штанах и в огромных альпинистских ботинках. Я глянул в окно — сыпал белый мягкий снег.
— Ну и где вы думаете его найти?
Люся, махнув рукой, выслала Вову из лаборатории и, смущаясь, зашептала мне, что думала все утро… А что, если на ЭВМ прикинуть, где сейчас может быть Иванов? С какой-то долей вероятности. Допустим, по одной шкале взять смену его профессий: шахтер, путеукладчик, охотник, моряк… а по другой — географические точки его пребывания: Норильск, БАМ, Тува, Владивосток… Богучаны… куда он дальше метнется? И кем будет? Люся обратилась было к Сереге Попову, но тот сказал, что задача сформулирована неконкретно, что компьютеры взбунтуются, в данном случае действует закон Броуна (как у мечущейся осенней мухи), что Костя с таким же успехом может быть одновременно где угодно, даже сейчас у нее дома! Люся сбегала домой на всякий случай и вот пришла ко мне: не смогу ли рассчитать? Люся попробовала бы сама, но засмеют женщины — сотрудницы, а если я сделаю заказ — предварительно зашифровав его, конечно, — они все мигом исполнят.
С жалостью я смотрел на Люсю. Скоро она с ума сойдет с этим Костей. "Да не стоит он твоих мук! Плевал он на нас!"
— Что скажешь? — с надеждой прошептала Люся. — Глупость?.. — И она заплакала. — Господи!.. За что на меня такая напасть?! — Она рыдала, тряся рыжей, много раз в жизни крашенной — чтобы только нравилось Косте — головой. Вдруг, тяжело дыша, схватила меня за руку. — Слушай, а как там было в письме? Куда он собирался на Новый год? В Норильск?
Если бы я точно знал. Какой-то Нор… или Ноф… Жаль, я порвал письмо. Мы бы под лупой изучили оборванное слово.
— Может, Ногинск? — гадала Люся. — Это бы хорошо— он под Москвой… А не Нар?.. Есть Нары. Или Мары?!
— Кажется, Нор…
— Тогда точно Норильск!
— Нет. там была закорючка… чуть ли даже не "ф". Может, он хотел сказать — на фиг?!
— Да-да! — заволновалась Люся. — Он любил это слово! Он никогда не матерился, не то что ты! Где же он собрался Новый год встречать, если на фиг?.Может, на Чукотке? А?!
Мы в этот день послали телеграммы в города: Норильск, Ногинск, Нодинск. Наро-Фоминск, на мне Дежнева, причем и на имя Иванова, и на имя Тюрина. Но ответа не было…
Люся одела Вову в шубу с прорезиненным верхом (производства Латвии), достала летчицкие унты.
— Давай подождем — сказал я ей, мысленно желая Косте слечь от болезни и подумать, сколько обид он причинил своим друзьям, которые желали ему добра. — Вот грянут посильнее морозы — сам вернется.
— Он уже сейчас мерзнет! — страдала Люся. Она повесила дома огромную карту СССР и цепляла к ней какие-то красные флажки. — Вот ты в демисезонном, а он небось в пиджаке!
Чтобы ей было как-то легче, чтобы не смотрела на меня неодобрительно, я до самых буранов пробегал в плаще и в кепке. Ударили морозы, сорвало остатки красной листвы с деревьев. От Кости по- прежнему не было никаких вестей. Может быть, нам следовало уже давно обратиться к помощи милиции, но суеверная Люся не хотела…
Наступили сумеречные декабрьские дня. В институте все время горел электрический свет, замдиректора товарищ Поперека совершенно спал с лица — экономия летела к черту.
Я пытался хоть как-то расшевелить своего лаборанта, чтобы парень работал, но Вова целыми днями сидел и уныло смотрел на дверь. Он ждал Свету, ни о чем больше не мог думать. К вечеру она заглядывала, и молодые убегали целоваться в подвал института. где хранились баллоны с жидким кислородом. Вахтер Петр Васильевич им разрешал, даже поставил там два железных, невозгорающих стула, он взял слово, что Вова не будет курить. Вова не курил— курила, подражая матери. Светлана. Я пригрозил, что губы оторву, если еще раз учую запах мерзкого табака из ее прекрасных уст… Плохо, когда дите растет без отца.
Сын мой, как я уже говорил, учился на физмате. Как-то я встретил его возле магазина — он отрешенно волок в авоське три литровые бутылки молока и бутылок пять минеральной. Увидев меня, кивнул, как чужой, но, подумав, остановился.
— Ты чего хмурый, как Пиночет? — Подошел я к нему. У мальчика уже чернели усики, как у поэта Лермонтова.
— Папа. — напрягся сын. — А нынче дуэли разрешены?
— В театре!
— Я его вытащу в театр, на какой-нибудь спектакль… и заколю! — с угрозой сказал Мишка и двинулся дальше.
— Эй! Ты че?! — остановил я его, — Не валяй дурака! Все! Поезд ушел. Она замужем. А у тебя еще будет сто красивых девушек!
— Неправда! Ты говоришь неправду! Такой не будет! — Мишка смотрел на меня исподлобья, как я когда-то смотрел на Таню, желая, чтобы лицо мое оставалось в тени, как у сыщика.
— Будет! — возразил я с поспешной улыбкой, хотя жалел в эту минуту сына до слез.
— Нет!
— Поверь мне! Я тебе папа или нет?
— А сам помогал Вовке жениться! Ты не мог помочь мне?! Все говорят! — крикнул мой сын и пошел прочь, звякая белыми и зелеными бутылками. Минеральная. наверно, для Валеры. Таня никогда ее не любила.
"Господи, как сложна жизнь! А ведь мальчик прав. Я плохой отец. Я не подумал о своем сыне, а устраивал дела Вовы… Но Светлана-то кого любит? Что делать, мой мальчик… не все нам подвластно в этом мире".
Шеф несколько раз спросил у меня, когда будет готова диссертация. Я небрежно ответил, что решаю новую задачу… по… магическому кристаллу (вспомнил слова Пушкина: "…даль свободного романа и сквозь магический кристалл еще неясно различал").
— Неплохое название, — одобрил шеф, — Магический кристалл. Сокращенно МК. Ну, давай. Доложишь..
Люся, наконец, разрешила — и Вова переехал из общежития к Светлане домой. Над парнем перестали смеяться. И в глазах его появилось осмысленное выражение.
Теперь можно было заняться и его делами. Я предложил Вове попробовать сдать экзамены экстерном за последние два курса, чтобы он мог взяться за дипломную работу. Прекрасно зная вкусы и слабости преподавателей (среди них назову хотя бы Серегу Попова), я подробно объяснил Володе новейшие открытия в физике, о которых не было еще ни слова ни в одном учебнике, но которые, несомненно, должны были получить отражение в вопросах на экзамене. А рассказывая о кристаллах, и вдруг почувствовал доселе незнакомое мне наслаждение — наслаждение объяснить то, что я люблю, знаю досконально.
Наверное, мне следовало пойти в школу учителем, с опозданием подумал я. Нет у меня тщеславия, деревенский парень. Одно то. что попал сотрудником в академический институт, уже одно это казалось мне достаточным, чтобы быть счастливым. Я растил кристаллы. рылся в их тайнах, радовался их прозрачности и красоте — что нужно еще? Повышенная зарплата за эту радость? Слава?., публикации?., звания?.. Вот чего не понимала Таня. И понимал шеф.
И он попросил свою секретаршу Аллу — редчайший случай! — сесть со мной в лаборатории и помочь оформить диссертацию. Надо же перепечатать, сшить… Я отдал ей черновики, слайды, а сам занимался с Володей.
Люся перестала заглядывать к нам в лабораторию. Лишь иногда в столовой я ловил на себе взгляд ее изнуренных глаз.
Кажется, все забыли про Костю Иванова. Даже Утешев, случайно встретив в библиотеке, поманил меня пальцем за стенд с книгами, сказал скрипучим, как у Фефела, голосом
— Ну, нет его? Жаль. Думает, где-то ему будет лучше? я ему все давал, спросите у Попова. Он был закормлен приборами Эго уже. батюшка, поза. Скрывающая. что ничего не вышло. Если уж в гении метишь. терпи! Вон Микеланджело — лежа расписывал… ко лбу свечку привязывал! — Утешев пососал пустую трубку. — Эгоизм должен быть, но — повернутый к работе. Он же читает в газетах, какие перемены?.. Если уж раньше ему тут было хорошо, сей- час-то вообще будет лафа! Йет. ждет, что ему прямо академика предложат!
— Черт с ним, — сказал я устало.
Нет, не хочу я его больше искать. Вот к чему приводит утеря нравственных основ. Есть в Байкале рыба голомянка, она без костей, прозрачная, но даже она знает, где верх, где низ, где тьма… А человек то ли из гордыни, то ли из дури все теряет… И все же глодала меня эта загадка. Я думал о Косте и наяву, и во сне.
И в эти же дни пришло письмо от Мишки, моего брата. Он писал, что дом готов, что все ждут меня на Новый год. Что он решил, как батя, записывать отныне фамилии всех браконьеров, даже начальников — когда, где, сколько сетей, сколько голов рыбы… Судя по всему, вроде бы конец беспорядку приходит. "Мне Соня Шерстнева, из сберкассы, шепнула по секрету — в поселке двенадцать миллионеров, имеют по 50 тысяч! Но кто — не говорит, служебная тайна. Я ей: ну, не хочешь — запиши и хоть в землю зарой возле кассы, может, в будущем прочтут, знать будут, кто у нас был спекулянт. Мыслимое ли дело — такие деньги! Наворовали, конечно. А насчет моря подумал — надо другую рыбу разводить. Раз уж живем — надо чтоб хорошо. Щука — не рыба. Стерлядь, таймень погибли. Может, в это болото карп пойдет? Все ж таки миллион икринок за раз! Не успеет сожрать щука? Не посчитаешь на своей ЭВМ?.."
Я подумал, это мог бы сделать Костя — прикинуть перекрестные популяции щуки и карпа, выживет толстолобый или нет. А взять да использовать этот формальный повод для очередного письма? Но хватит — он, можно сказать, вытер об меня ноги…
И все же я поехал к нему.
Нет, не письмо брата заставило принять решение и не печальные глаза Люси. В местной молодежной газете напечатали стихи М. Нестерова, студента — это был, конечно, мой сын. Одно стихотворение заканчивалось так:
Покривился плакат.
Солнце в смоге синеет.
Петь певцы не умеют.
Всем на все наплевать.
Друг забыт за горой.
Глухари все убиты.
Псы, как девы, завиты.
Где ты нынче, герой?..
"Он не верит в идеалы!.. — ужаснулся я, — И я, во всяком случае, никакой не пример для подражания. Какой же и отец?! Бросил друга в беде…"
Первую ночь за последние месяцы я спал без угрызений совести. "Нор… наверняка Норильск!" — как неоновая витрина, горела разгадка надо мной. А что, миновал год, потянуло к первым друзьям на суровой земле. А если даже его там нет, наверняка отыщутся следы…
Утром шефу я заявил:
— У меня осталась неделя отпуска. Хочу порыться в отвалах рудника, камушки поискать… может, придут мысли…
Крестов, конечно, все понял. Он сказал, что сражен моим великодушием и многотерпением, вызвал Аллу и продиктовал текст приказа о командировке мне Нестерова В. М..
— Это нужно прежде всего институту! Езжайте! Будет нужно продлить или деньги — лично мне!..
Люся, потрясенно сравнив меня то ли со Спартаком, то ли со Штирлицем, уложила в рюкзак шубу с прорезиненным верхом и унты для мужа. Володя и Светлана проводили — и я полетел за Полярный круг. Эго случилось двадцать седьмого декабря…
20
И был полдень, и была тьма. Когда самолет приземлился, со всех сторон горели электрические лампочки, мела метель.
Я доехал до центра, спросил, где милиция, и побежал, подгоняемый огненным (со знаком минус) дыханием тундры. Меня принял старший лейтенант Татышев, занимающийся бичами, могучий парень, с красным от постоянного гнева лицом. Я достал несколько фотографий Кости.
— Кажется, знаю я этого гаврика! Мелькал тут месячишко назад. Фамилия?
— Иванов, — ответил я. — А может, Тюрин.
— Повторить! — усмехнулся милиционер. — Только не пива!..
Я рассказал, как Костя в знак дружбы обменялся паспортом с неким человеком. И кажется, писал, чти они очень похожи.
— Черти волосатые!.. — пробурчал Татышев, еще раз пропуская фотографии, как колоду карт, через свои руки. — Вы говорите — кандидат наук… а так сжигает свою жизненку! — Он помолчал. — Одно точно— не такая у него фамилия.
— Как? Не Тюрин? И не Изанов?!
— Не могу вспомнить, — Он вздохнул. — Что-то похожее. А может, его уже и нету в живых? Лежит где-нибудь в старой шахте… с ножичком в спине…
— Да вы что?!
— А что?! — Татышев внимательно посмотрел на меня. — У вас, простите… несколько глуповатое выражение лица… вот так и идите. Я понимаю, это перелет, обстановка… На той стороне улицы — люк… спуститесь в тоннель, в систему отопления… они там зимуют, вместе с воробьями и собаками.
— А что вы их не выгоните?!
— А куда! Вы что, с луны свалились?! В случае ЧП с отопительной системой тут же ставят в известность. И мы их нс трогаем. Сидят там, варят чай, анекдоты травят. Весной уедут.
— А разве не лучше зимовать на юге?!
— Черт их знает! Патриоты!.Многие здесь начинали! Ну, в общем, вот мой телефон… — Он записал на клочке газеты. — Звоните. Пока!
И вот посреди полярной ночи, при свете фонарей на столбах, но. так сказать, средь бела дня — по часам — я подошел, отчаянно труся, к парящей меж высокими сугробами яме. Туда вела тропка. Чугунный люк был отодвинут на одну треть, и чернела щель, как негатив молодого месяца. Внутри, в темноте подземелья, курили и хохотали какие-то люди. Я наклонился и посмотрел вниз.
— Вам кого? — вежливо прохрипел один, в меховом пальто, кажется, женском, с лисой на шее.
— Товарищи, тут нет Иванова… или Тюрина? — спросил я.
— Кого ему? Тюрина?.. Иванова?.. Не-ет, — раздался нестройный ответ. Я передал вниз фотографии, и пока они там разглядывали их при свете горящих зажигалок и одного едва теплящегося фонарика, сел на снег, свесив ноги и неловко уцепившись за тяжелый качающийся люк, сполз вниз. Я оказался верхом ка широкой горячей трубе, на каких-то рваных одеялах и фуфайках.
И тут меня ждала неожиданность.
— Так это — Костя Ливанов! — воскликнул одни из оборванных джентельменов. — Клянусь честью — поет!
— Поэт?! — поразился я, отнимая фотографию. Может быть, я что-то не то им передал. Я был готов к чему угодно, но только не к такому варианту. — Ливанов? Почему Ливанов?! — И тут же сам сообразил: Костя все-навсего добавил букву в начале. Попробуй догадайся!
— Он из семьи бывших репрессированных… злой мужик!
— Репрессированных?!
— Знаешь, какие стишки писал?! Его даже в "Заполярной правде" напечатали! Мужики, номерок не выбросили?
— Как же?! Наш человек! — пробурчал кто-то, а мне сунули под нос половину газеты. На ней темнела нечеткая фотография — разумеется, это был он, Костя Иванов, уже с отросшей щетиной волос на голове и в усах, похожий на турка. Под фотографией шел текст: "У нас в гостях харьковский поэт Константин Ливанов. Он в Заполярье впервые. К. Ливанов сказал: "Мне нравится воздух Севера. Может быть, я здесь останусь, поживу, поработаю". Мы печатаем новые стихи нашего гостя, а может быть, теперь и земляка!"
А ниже следовали напечатанные слепеньким шрифтом два стихотворения: "Ночь" и "Матери". Я жадно прочитал их — раз, еще раз — и не поверил глазам. Стихи оказались неожиданно слабенькими, неровными, жалкими… Даже мой сын пишет лучше! Где ум, где ирония? Хотя бы собственный взгляд на вещи? Одно сравнение залетело явно из Есенина: "Скирды лунного света". А любимую мать сопоставляет со всеми другими женщинами земли так:
…не потому, что с нею сладко мне,
а потому, что стыдно мне с другими…
Сам же в письме приводил Анненского. Я уж про рифмы не говорю — халтурные… Нет, что-то здесь не то. Может, мистификация? Для смеху? Непохоже.
— Можно, я возьму? — попросил я. — Я верну.
Люди вокруг загадочно молчали.
— Я вам куплю… — пробормотал я униженно, не зная, что и предложить — водку, чай. Может быть, про чай — легенды? Какой чай в лютую стужу?! — Я, тэ сэзэть…
— Молодой человек?! — воскликнул интеллигент в женском пальто и галстуке. — Вы нас обидели! — Он утер слезу. Она у него действительно блеснула. — Разве ж мы просили что-нибудь за поэзию?! Ваш друг? Берите! Вернете! Я лично — верю!
— А зажилите — еще найдем в библиотеках, — пояснил маленький человек с гладким, как печеное яблоко, лицом.
Я растерянно сунул газету в карман пальто.
— Он работал в пожарке, — вспомнил человек с галстуком. — Потом к нам пришел. А лотом исчез… Как юность!
— Да что там исчез?! Его Осел убил!
В темноте раздался шум, кто-то полз по трубе.
— Я не убивал его! — дохнул теплом человек, которого обозвали Ослом. Я увидел вполне нормальное лицо, никак не лицо убийцы, правда, со следами пороков, обрюзгшее, с белыми бакенбардами, слегка напоминающее лицо известного замечательного актера Басова. — Никогда! Моя фамилия Мартынов. Он заводил меня! Говорил, что он Лермонтов, а я Мартынов! Вот, говорит, убьешь меня или нет? Он же издевался надо мной, товарищи!
— Костя?! — не поверил я.
— Костя, — подтвердил Осел,
— Находило на него, — подтвердил маленький человек. — А иногда добрый. Даже "Кагор" пили. А вы не угостите?
— Но если только по душе! — уточнил строго интеллигент в женском пальто с лисой. — По велению! С такой поправкой.
Я вылез на ледяной ветер, оставив у них рюкзак. Когда я вернулся с тремя бутылками "Кагора по карманам, в трубе никого не было. И моего рюкзака тоже. Они сбежали по одному из бесчисленных подземных коридоров. Очевидно, решили, что рюкзак с вещами дороже, чем "Кагор". Я с этими бутылками и притащился в милицию.
Старший лейтенант встал из-за стола, потер красное лицо:
— Что-то новое! Обычно они не воруют. А вы взрослый человек! Оставили, ушли! У них же нет понятий о чести. — Он пристально посмотрел на меня. — У вас на носу сажа! Идите в гостиницу. — Он накатал записку и протянул. — Вот, Мария Николаевна, администратор, сделает. На когда вам заказать билет? На завтра?
— Что вы?! Я все-таки попытаюсь найти!..
— Я уверен, его здесь нет. Если среди этих нет… Что за стихи они вам дали, ну-ка?
Я сунул руку в карман пальто — газеты не было.
— Н-да! — Татышев рассмеялся. — Дети! Вот что. Вам надо выспаться. Когда мы идем к ним в гости, всегда свежие. Народишко они в принципе нестрашный, но темнота приучает ко всяким шуточкам. Каждый раз за пистолетишко боюсь.
Я побрел, булькая бутылками, сквозь поземку к гостинице, над которой плясали зеленые и желтые неоновые сломанные буквы. Получив комнату, провалялся минут пять на заправленной кровати, но мне не терпелось. Снова оделся и прибежал в милицию.
Старший лейтенант сидел, листая подшивку "Заполярной правды". Он отрицательно покачал головой.
— Кяк?! — вырвалось у меня.
— За три месяца просмотрел! Нет тут никакого Ливанова! Есть Нонин, есть Бариев.
— Я своими глазами видел!
— Товарищ Нестеров! — поморщился милиционер. — В наше время такой пустяк — договориться с работником типографии! За бутылку водки что угодно вам тиснут— в одном экземпляре… Как ни беседуй с товарищами по линии ответственности, есть еще, есть…
— Они сказали — если не вернете, мы найдем в библиотеках! Он наша гордость, сказали!
Татышев, еще более побагровев, снял трубку.
— Алло, редакция? Старший лейтенант Татышев из УВД. Мы ищем подборку стихов некоего Ливанова… не посмотрите? Да нет, никакой опечатки… Нам нужен сам автор, факт публикации… Да. И перезвоните мне. — Он положил трубку. — А то подумайте — вот-вот завернет пурга. Застрянете. У вас сердце-то ничего? А вот у моей супруги… Тут ведь то магнитная буря, на экране чехарда… то кислороду не хватает… а уезжать не хочется — народишко хороший.
Зазвонил телефон.
— Да? — Татышев вскинул рыжие брови и медленно положил трубку. — Есть такое дело, вы правы Двадцать девятого ноября. Видно, у нас вырвали. Любители!
Мы сели в машину и покатили по ночным (точнее, еще дневным) улицам города. Прежде всего наведались в редакцию — Татышев посмотрел на фотографию в газете. Вырезать страницу нам не позволили. И мы поехали дальше. Коменданты рабочих общежитий листали толстые тетради. Мы сами заходили в некоторые комнаты, где живут шахтеры, недавно появившиеся за Полярным кругом. Но нет. не было нигде Кости Иванова-Ливанова ни сейчас, ни раньше. В пожарной части, глянув на фотографию, нам сообщили — мелькал похожий человек, но фамилия, кажись, Ливаров. да, Ливаров… Он проработал всего две недели, повздорили из-за того, что во время учебной тревоги его окатили водой, и он решил, что это специально.
— Шибко гордый! — объяснил нам пузатый бородач, командир местных боандмейстеров. — А нам гордость ни к чему — нам людей спасать! Да и мелочный… не хватило у Клавки-кассирши рубля — ждал полчаса, пока займет у знакомой продавщицы в магазине… Не наш человек!
Неужели Костя стал таким?!
Эту ночь я спал плохо. Мне виделся Иванов, меняющий лицо. И еще снилась заброшенная шахта, и собаки грызут пуговицы и часы, все, что осталось от К. Иванова. Я время от времени включал свет и смотрел на часы: полпятого, шесть, полвосьмого… Но за окном по-прежнему чернильный мрак. Видимо, это все же утро — если восемь? Я оделся и пошел к знакомому люку.
Заглянув в яму, я увидел все ту же вчерашнюю компанию. Я думал, заметив меня, они сразу же разбегутся, но люди внимательно и даже печально смотрели на меня снизу вверх. Я растерянно кивнул им:
— Здрасьте. — И спустился. На трубе лежал мой коричневый рюкзак, правда, как бы исхудавший. — Нашелся? — спросил я. А что я еще мог сказать?
— Не обижайся, товарищ! — Человек в галстуке поднял его и подал мне. — Мы боялись — тут магнитофон. Понимаете, социологи ходят, а потом по радио про нас… А нам не надо жалости, жалость унижает, не правда ли? И цветов не надо. Бросают, знаете ли. а мы не на сцене. Мы так живем.
— Да, — кивнул маленький человек с печеным личиком, — Надо будет — сами вернемся. А пока и тут лафа. Шуба для Кости?
— Да, — кивнул я.
— Пропала, как звезда в ясный день. — Интеллигент вздохнул и утер слезу. — Уж вы простите. О, эти коридоры власти!
— Ну что ж, — пожал я плечами.
— А унты на месте, — уточнил маленький.
Я развязал рюкзак — действительно, лежали на месте. Видно, не подошли по размеру — очень уж большие, 47-й размер.
— Товарищи, — обратился к загадочным людям подземелья, для большей убедительности жалостливо моргая. — Как же мне узнать, где может быть сейчас Костя? Кто посоветует?
Вперед выступил Осел с бакенбардами.
— Недавно он жил на Талнахе. Это пригород, — пояснил он. — У одной женщины. Купишь "Кагору" — скажу адрес.
Я, как волшебник, вынул все бутылки, которые тонко поплескивали у меня по карманам, завернутые в газету.
— У-у!.. — только и выдохнула компании.
Как я насчитал, тут их было пять человек. Интеллигент в женском пальто и при галстуке (Зулусов, как он представился), человечек с печеным личиком (бывший бухгалтер Морковкин) и Осел, которого звали на самом деле Афанасии Афанасьевич Мартынов, бывший фельдшер. Кроме них сидел в стороне, подальше от света, угрюмый волосатый детина, который все время что-то жевал. И был еще очкарик, настороженный, болезненный, как сказали о нем — бывший студент. Он кутался в одеяло. Он-то и решил вчера, что я наверняка с магнитофоном. Шуба, кажется, была на нем — я заметил, когда он перехлестывал вокруг шеи концы одеяла. Правда, мне показалось, что у нее исчез воротник. Видимо, пышный предмет оторвали на продажу или еще для какой цели. Может быть, чтобы нельзя было опознать шубу…
Студент отказался пить. Не пил, разумеется, и я — до того ли мне? Вытирая платочком бакенбарды. Осел сказал:
— Адрес такой — Талнах, улица Московская, дом семь, квартира сорок один. Только ты меня не видел!..
— Это его сестра родная, — пояснил Зулусов.
Я сел в автобус и через час был на месте. Среди сосен, так неожиданных на пустынном Севере, стояли огромные дома на сваях. Под дома текла метель, словно подземное пламя лизало эти стены. Я бежал по улице, представляя себе, что вот нахожу квартиру, звоню — и открывается дверь, на пороге смеющийся, гладко выбритый, в голубой рубашке Костя. "Ну, что? — говорит. — Разыграли тебя? Я знал, что ты придешь… предупредил этих джентельменов".
За дверью стрекотала швейная машина. Я позвонил — машина стихла, открыла невысокая белокурая женщина в меховой домашней безрукавке и эвенкийских бокарях. Она испуганно смотрела на меня, на мой рюкзак.
— Вам что?!
— Мне… Костю! Кости нет?
— Какого Костю? — Она еще больше испугалась. Она не умела врать. Ей было под сорок, щеки ее уже увядали, в голубеньких, как у Люси, глазах стыла боль.
— Иванова! Ливанова! Ну, вы же знаете! Ливарова!..
Она с неприязненной подозрительностью осмотрела меня. Она, кажется, даже нюхнула воздух, чтобы узнать, не пьющий ли я.
— Это мой д-друг!.. — заторопился я, боясь, что сейчас она захлопнет дверь. — Мы в институте физики работали…
— Да? — Все еще не отводя взгляда, женщина сделала шаг назад. — Ну, заходите…
Я увидел маленькую квартирку, на стене два портрета — Че Гевары и Кости. Костя был снят недавно, лицо черное, злое, как на охоте.
В углу стояло пианино "Енисей", на стуле висела девичья школьная форма. Я понял, что у хозяйки взрослая дочь. На столе, среди яркого шелка, посверкивала швейная машина. Видно, мастерица эта женщина.
— Кто вам дал адрес? — спросила она, уже успокаиваясь. Лицо v нее стало розовым, почти молодым. — Братик? Хоть жив он, здоров? Эх, дурачок… Да садитесь!
Поставив рюкзак возле ног, я, наконец, сел. а она отвернулась к окну. Чтобы как-то заполнить паузу, я принялся рассказывать, что ищу Костю не только как его друг, но еще по просьбе коллектива, потому что он талантливый ученый, дерзнул соединить разные науки, но так повернулась его жизнь…
— Я знаю, — тихо остановила меня женщина. — Только где он сейчас, представления не имею. У меня его свитер остался… — Она достала из кладовки черный драный свитер, который я никогда не видел. — Книги… — Подвинула томик Лермонтова (не тот, что во Владивостоке, другой!) и "Воспоминания о Ландау" (мы оба мечтали достать, да все не удавалось). — В ноябре мне говорит: собираюсь в Харьков… но вот недавно передали, кто-то видел его в Дудинке.
— Когда недавно?!
— Недели две назад. Что он там делает, понятия не имею. Если бы лето — ясно… собирается на кораблях по Северному Ледовитому… или на юг, домой, в ваши Белояры. А сейчас?.. Кофе хотите? У вас обморожение, пятно на щеке…
Но я уже не мог сидеть, я вскочил и тер щеку, лихорадочно соображая, как мне сейчас быть? Попросить Татышева дозвониться до милиции в Дудинке или самому срочно ехать? Наверное, лучше самому, совесть будет спокойней, хотя трудно сказать, где я его там искать буду?
— До свидания. — Я схватил рюкзак. — Вы не дадите мне Ландау, пока я в электричке почитаю. А потом отдам — Косте! — Кто знает, не из суеверия ли я попросил эту книжку?..
— Да возьмите все! — Женщина заплакала. И я понял, что ей будет легче, если я заберу все Костины вещи. Она и фотографию сняла со стены — свернув трубочкой, протянула.
Виновато помявшись в дверях, я побежал сквозь метель.
И вдруг у меня мелькнула мысль, совершенно не относящаяся к Косте, а к моей и его работе. Не попробовать ли поискать границу между кристаллом и живой клеткой, с ее тоже совершенной, но асимметрической структурой? Где та грань, когда оживает — в буквальном смысле — красота? Я вам не могу сейчас точно сформулировать свою мысль, или мысленку, как сказал бы Татищев. Мы бы с Костей били два туннеля друг другу навстречу…
В Дудинку я добрался только вечером. Метель переходила в пургу. Я прибежал в милицию. Оказывается, Татышев сюда уже звонил. Иванова в последние десять дней здесь не видел никто — ни в порту, где крутятся бичи, ни в гастрономах среди грузчиков, ни в вытрезвителе. И все же. переночевав в гостинице, я с раннего утра до полдня (здесь тоже сплошное электричество и мрак на небе!) бродил по деревянному городу на холмах, с толстыми трубами отоплении, поднятыми над улицей, над головами, — заглядывал в кафе, в магазины. Остановив каких-то потрепанных парней, показал им фотографию Кости. Нет, они его не знали.
Ночью милиция Дудинки доставила меня на "газике" в Норильск — торопил Татышев. Мне сказали, что по аэропортам Севера было предупреждение: вот-вот пурга.
— Все-таки сам!.. — встретил меня старший лейтенант с улыбкой. — Утренним самолетишком надо убираться!..
— Нет, — возразил я. — Мы не были на Каеркане…
Татышев покраснел.,
— А я что тут как суслик сижу?! Да его фотки аж дружинникам вручены, сотню штук нашлепали!
— Нет, давайте жене позвоним, — упирался я.
Связь была. Нас соединили с Люсиной квартирой через полчаса. Но слышно было ужасно плохо. Здесь не кабельная линия — радиотелефон. Я кричал сквозь магнитные помехи, сквозь шорох звезд и музыку северного сияния, сквозь гул надвигающейся пурги, когда снег, перемещаясь кубическими километрами, электризуется и перекрывает своим скрежетом все сигналы… Я кричал Люсе, что здесь его нет, но что он был месяц назад, напечатал стихи в газете, что у меня его свитер и две книги, но где он сейчас — никто не знает. Будто бы он собирался лететь в Харьков. В ответ на слова Люси, чтобы я срочно летел в Харьков, я ответил, что мы с Татышевым туда же дали в милицию телеграмму, выслали фотографию. Пусть Люся не беспокоится, он жив, его видели! Его портрет красуется в "Заполярной правде" на четвертой странице! Долго я не мог понять, что мне кричит Люся. Наконец, разобрал: как. как он выглядит?! На портрете-то? Да замечательно! Снова отрастил волосы. Что?! Ах, черт, я совсем упустил из виду, что Люся-то не знает, что Костя ходил обритый… Но я думаю, что все, что она не поняла, она отнесет за счет плохой слышимости…
— Мы его найдем! — пообещал я, сжимая влажную. липкую, как горсть карамели, трубку.
Люся плакала на противоположном краю Сибири…
Но с отлетом я все же медлил. Утром для очистки совести еще раз спустился к бичам, передал Афанасию Афанасьевичу привет с Талнаха. Осел познакомил меня с собаками, которые тут живут — Ромео и Джульетта. Погладив крохотную, кудрявую Джульетту, он трагически произнес:
Поделимся хвостиком хека.
Воду я тоже люблю.
Собака — друг человека,
разделит судьбу мою.
Это его стишки. Кости Ливанова.
— Иванова, — хмуро поправил я бича, глядя в блестящие глаза псов и людей во мгле туннеля.
— Какая разница! — сказал Осел скрипучим голосом, как Фефел. — Вот ты Нестеров, а какой ты Нестер?.. Где твоя летопись? Только заявления в ЖЭК?.. Разучились писать! А я с Евтушенкой знаком! Вот как встанет— и сразу поэму!..
— Братцы. — взмолился я, вспомнив о Люсе, — Верните газету! Хоть жене его покажу! Нельзя так!
Бичи с недоумением воззрились на меня.
— Да вы что?! Мы ж вам подарили!.. Нет, мы не брали!..
Я понурил голову — мне было стыдно за их ложь — и, махнув рукой на прощание, выбрался на поверхность.
Весь день я бродил по городу, подняв воротник пальто, как сыщик, но не для того, чтобы выглядеть таинственно, а потому что северный хиус, как пила, режет шею, хоть и уши моей вытертой кроличьей шапки опущены. Ниже тридцати мороз не падал, но движение воздуха нарастало… Я грелся в тамбурах гастрономов, где хлещет горячий ветер из решетки в полу, штанины мотаются на ногах как колокола. И снова бежал по улицам, вглядываясь в лица. В моих глазах рябило от сотен скул и носов, от тысяч глаз. Но нет, не было здесь нигде Кости Иванова. Я без сил приплелся в милицию и сказал, что сдаюсь, что утром лечу.
— Не беспокойся, — перейдя на "ты", сказал мне могучий, прокаленный Севером старший лейтенант, — Мужичонка ты моторный, но одному не справиться. Буду курировать лично сам. Малейший слушок — выйду на тебя.
Вечером по моей просьбе по местному телевидению было зачитано следующее объявление:
— Белоярский институт физики просит вернуться из командировки старшего научного сотрудника, кандидата наук Константина Авксентьевича Иванова. Авиабилет заказан, лежит в гостинице "Центральная" в номере двести два у сотруднике НИИ Нестерова. Телефон гостиницы…
Но не откликнулся Иванов, не позвонил. Я всю ночь не спал. Над Норильском выла начинающаяся пурга, рокотала, как война. Говорят, этот ветер уносит в тундру зазевавшегося человека. А вдруг унес и Костю? Неужто погиб?..
Утром я улетел в Белояры.
…На дворе уже весна. От Кости никаких вестей. Ни звонков, ни писем. Деньги для семьи перестали поступать с февраля. Да и те сто рублей, что поступили в январе, как и в декабре, — не были ли они посланы кем-нибудь из его многочисленных друзей? В декабре деньги пришли из Риги, а в феврале — из Соврудника. А сейчас уже апрель. Прошел ровно год, как мы с Люсей выяснили, что Кости на Севере нет, что он живет странной жизнью — не по тому адресу, который ставит в извещениях, и даже не под той фамилией, к которой мы привыкли.
Конечно, после моего возвращения из Норильска мы сразу обратились в областную милицию с официальной просьбой объявить розыск Иванова Константина Авксентьевича (Ливанова, Иванесова, Ливарова, возможно — Тюрина). Пока никаких результатов.
Да, прекрасной кажется жизнь в чужом обличье… будто обманул судьбу… обманул время… живешь десятками жизней… Но все равно сгораешь. И может быть, сгораешь быстрее. Всего лишь гол миновал! Никогда бы не поверил, что Костя может стать злым, недоверчивым, скрягой… Но Осел не может врать? Не может врать фото, которое я боюсь показывать Люсе? И не могут врать письма? Я мысленно перечитываю их. Перед моими глазами произошло разрушение если не ума, то души человека. Воля дешево не дается.
Он дерзнул стать гением. Но ему мешали не больше чем любому другому, кто "тянет одеяло на себя". Надо иметь характер! А может, он понял, что не выходит, вот и встал в позу, будто бы ему не дают работать? Просто орех не по зубам, и погналась душа за более легкой сменой впечатлений? А может, как ни стыдно даже мне себе признаться, виноваты легкие деньги? Государство платит рабочему в три раза больше, чем ученому. А говорим, что ученый — лидер прогресса? А может, правда, всего лишь тело истосковалось по движению, по тяжкой, сладостной на первых порах работе? Не знаю…
Где он сейчас? Не погиб ли? Через что еще захочет пройти для полноты ощущений? Может, махнул в горы, лежит где-нибудь сейчас в ущелье со сломанной ногой? Или валяется в больнице маленького поселка, где и фамилии не проверят, с опасной болезнью печени — ведь он много пил…
Может быть, он сам давно уже понял, что эксперимент не удался? А признать нет сил? Вернуться же, как побитому псу… все-таки он всегда был гордым.
Не знаю. Мне больно и страшно за него.
Если случайно где-нибудь встретите Костю, срочно напишите, пожалуйста: Белояры, главпочтамт, до востребования, Нестерову Виктору Михайловичу. Мы ждем его любого — отчаявшегося, обезумевшего, старого, больного…
Товарищи, это все не шутка — то, что вы прочитали. Мы действительно ждем. Я и Люся. Очень вас просим. Очень.

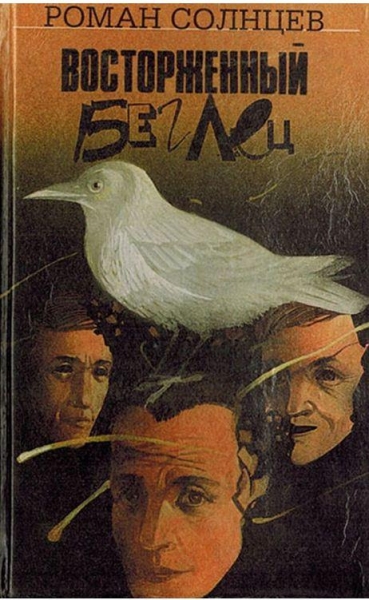
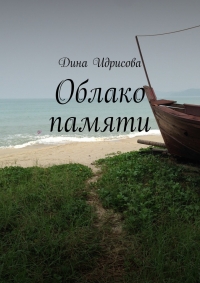








Комментарии к книге «Восторженный беглец», Роман Харисович Солнцев
Всего 0 комментариев