Доменико Старноне Шутка
Domenico Starnone
SСHERZETTO
Copyright © 2016 Guilio Einaudi editore s.p.a., Torino
Published in the Russian language by arrangement with Guilio Einaudi editore s.p.a.
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2019
* * *
Глава первая
1
Как-то вечером Бетта позвонила мне и более нервным тоном, чем обычно, стала выяснять, соглашусь ли я побыть с внуком, пока они с мужем съездят на конгресс математиков в Кальяри. В то время я уже два десятка лет прожил в Милане, и перспектива поездки в Неаполь, в старую квартиру, которую я унаследовал от родителей и в которой до замужества жила моя дочь, не вызывала у меня энтузиазма. Мне было за семьдесят, я потерял жену много лет назад, и за эти годы отвык жить с кем-то под одной крышей, мне было удобно одному спать в спальне и пользоваться ванной. К тому же за несколько недель до этого разговора мне пришлось сделать несложную операцию, от которой, как я заподозрил уже в клинике, было больше вреда, чем пользы. Доктора заглядывали ко мне в палату и утром и вечером, чтобы заверить меня, что все прошло нормально, но гемоглобин так и не поднялся и ферритин оставлял желать лучшего; а однажды я увидел, как из стены напротив высунулись две маленькие, белые от штукатурки головки и уставились на меня. После этого мне срочно сделали переливание крови, гемоглобин немного повысился, и в итоге меня отправили домой. Но выздоравливал я медленно и трудно. По утрам был настолько вялым, что приходилось собирать все силы, чтобы встать с постели, щипать себя за ляжки, вытягивать и наклонять верхнюю часть туловища, словно крышку чемодана, напрягать мышцы верхних и нижних конечностей так, что перехватывало дыхание; и только когда боль в спине немного утихала, мне удавалось стать на ноги, но очень осторожно, сначала один за другим разжав пальцы, сжимавшие ляжки, а затем уронив руки вдоль тела с хриплым стоном, который не стихал, пока я не принимал вертикальное положение. Вот почему, услышав просьбу Бетты, я ответил не раздумывая:
– Для тебя так важно присутствовать на этом конгрессе?
– Это не просто присутствие, папа: я должна произнести вступительное слово, а Саверио – во второй день после обеда прочитать доклад.
– Сколько времени вас не будет дома?
– С двадцатого по двадцать третье ноября.
– То есть мне придется бессменно сидеть с ребенком четыре дня?
– Утром будет приходить Салли, убирать и готовить вам еду. А вообще-то Марио вполне самостоятельный.
– В три года ни один ребенок не бывает самостоятельным.
– Марио уже четыре.
– И в четыре тоже. Но дело не в этом: у меня срочная работа, которую пора заканчивать, а я еще и не начинал.
– Что за работа?
– Полосные иллюстрации к рассказу Генри Джеймса.
– О чем этот рассказ?
– Один человек возвращается в свой старый дом в Нью-Йорке и обнаруживает там призрак – то есть самого себя, каким он стал бы, если бы когда-то выбрал карьеру бизнесмена.
– Неужели тебе нужно много времени, чтобы нарисовать картинки к такому сюжету? До двадцатого еще почти месяц, ты успеешь. А не успеешь – возьмешь работу с собой в Неаполь. Марио не будет мешать, он к этому приучен.
– В последний раз он все время хотел на ручки.
– Последний раз был два года назад.
Она стала укорять меня, говорила, что я нерадивый отец и нерадивый дед. А я отвечал ей ласковым, умиротворяющим тоном и уверял, что буду сидеть с ребенком столько времени, сколько потребуется. Она спросила, когда я думаю поехать в Неаполь, и я ответил ей, недостаточно трезво оценив свои возможности. Поскольку я почувствовал, что моя дочь более несчастна, чем обычно; поскольку за все время, пока я был в больнице, она звонила мне максимум три или четыре раза, поскольку, как мне показалось, этим своим равнодушием она хотела наказать меня за мое собственное равнодушие, я обещал приехать в Неаполь за неделю до конгресса, так, чтобы малыш успел привыкнуть к моему обществу. И с наигранным энтузиазмом добавил, что мне ужасно хочется немного побыть дедушкой, что она может с легким сердцем ехать на конгресс и что нам с Марио будет очень весело.
Но, как всегда, я не смог сдержать обещание. Молодой издатель, на которого я работал, все время теребил меня, хотел выяснить, насколько я продвинулся в работе. А я из-за моего затянувшегося выздоровления мало что успел сделать, и сейчас попытался в спешке доделать две или три иллюстрации. Но вскоре после этого у меня утром опять случилось кровотечение. Я бегом бросился к врачу, который сказал, что все в порядке, но тем не менее велел через неделю прийти к нему опять. Так я занимался то тем, то этим и в итоге отправился в Неаполь только 18 ноября, предварительно послав издателю две иллюстрации, которые еще не успел окончательно доработать. Поехал на вокзал, ощущая на душе недовольство и скуку, с наспех собранным чемоданом, где не было даже подарка для Марио, если не считать двух сборников сказок с моими иллюстрациями, нарисованными много лет назад.
Поездка была неприятной – ее портили слабость, от которой я весь покрывался потом, и желание вернуться назад, в Милан. Небо нахмурилось, на душе было неспокойно. Поезд мчался сквозь порывы ветра, по окну хлестали струи дождя, от которых стекло в окне становилось мутным. Время от времени на меня нападал страх, что из-за бури вагоны сойдут с рельсов, и я подумал: чем больше стареешь, тем сильнее цепляешься за жизнь. Но сойдя с поезда в Неаполе, я, несмотря на холод и дождь, почувствовал себя лучше. Вышел из здания вокзала и через несколько минут оказался перед хорошо знакомым домом на углу.
2
Бетта встретила меня с теплотой и сердечностью, каких – в ее сорок лет, с ее повседневной нагрузкой – я от нее не ожидал. А еще меня поразило, насколько она была озабочена моим состоянием, ужасалась, какой я бледный, как я исхудал, попросила прощения за то, что ни разу не навестила меня в больнице. Затем с некоторой тревогой спросила, что говорят врачи и что показывают анализы, и я подумал: она проверяет, не опасно ли оставлять на меня ребенка. Я успокоил ее и, чтобы сменить тему, стал осыпать комплиментами, притом непомерно преувеличенными – к этой тактике я прибегал с тех пор, когда она была еще девочкой.
– Какая ты красивая.
– Да ничего подобного.
– Ты красивее любой кинозвезды.
– Я толстая, старая психопатка.
– Шутишь? Я в жизни не видел более привлекательной женщины. Ведь характер – он только снаружи, как кора у дерева: если с тебя снять эту кору, откроется тонкое, одухотворенное существо – твоя мать была такой же.
Саверио пошел за малышом в детский сад, через минуту-другую они должны были вернуться. Я надеялся, что Бетта предложит мне пойти в мою комнату и немного полежать. В тех редких случаях, когда мне приходилось приезжать в Неаполь, я ночевал в большой комнате рядом с ванной; там был маленький балкон, напоминавший по форме трамплин. Я вырос в этой комнате вместе с братьями, и она была единственным местом в квартире, которое не вызывало у меня ненависти. Я с удовольствием растянулся бы здесь на кровати хотя бы на несколько минут. Но Бетта завела меня в кухню, не дав поставить вещи – чемодан и матерчатую сумку, – и сразу начала жаловаться на все подряд: на работу в университете, на Марио, на Саверио, который сваливал на нее все домашние хлопоты и заботу о ребенке, и на другие невыносимые трудности.
– Папа, – сказала она в какой-то момент, повысив голос почти до крика, – мне правда все опротивело.
Она стояла у мойки и мыла овощи, но, произнося эту фразу, повернулась ко мне каким-то резким, неестественным движением. На несколько секунд мне показалось – раньше такого никогда не бывало, – что вместо нее я вижу комок боли, который мы с ее матерью по преступному легкомыслию произвели на свет четыре десятилетия назад. Хотя нет: Ада, моя жена, давно умерла и не могла нести ответственность за то, что происходило сейчас. Бетта была моей, только моей отделившейся клеткой, вполне самостоятельной и уже изрядно потрепанной жизнью. Или, во всяком случае, показалась мне такой на один краткий миг. Тут мы услышали, как открывается входная дверь. Моя дочь быстро взяла себя в руки, голосом, в котором радость смешивалась с отвращением, произнесла: «Вот и они», и на пороге появился Саверио – церемонный, широколицый коротышка Саверио, такой непохожий на высокую, изящную Бетту, – вместе с Марио, маленьким, темноволосым, как отец, с большими глазами на худеньком личике, в красной шапочке и синем пальтишке с голубыми пуговицами.
Мальчик на несколько секунд замер от волнения. Ничего общего с Беттой, думал я, весь в отца. И в то же время с некоторой тревогой осознал, что стою перед малышом как реальное воплощение сказочного персонажа по имени «дедушка» – как незнакомец, от которого он ждет неиссякаемого потока чудес, – и несколько театральным жестом распахнул объятия. Марио, иди ко мне, милый, иди ко мне, как ты вырос. Тут он бросился ко мне, и пришлось взять его на руки, говорить какие-то слова радости, хотя голос у меня охрип от непомерного усилия. Марио крепко обхватил меня за шею и впился поцелуем в щеку так, словно хотел ее продырявить.
– Не так сильно, ты его задушишь, – вмешался Саверио. Тут же подключилась и Бетта, приказав малышу оставить меня в покое:
– Дедушка никуда не убежит, в ближайшие дни вы будете все время вместе, он будет спать в твоей комнате.
Для меня это стало неприятной неожиданностью: я думал, мальчик спит в одной комнате с родителями. Забыл, как сам когда-то настаивал, чтобы кроватка Бетты стояла в соседней комнате, хотя Ада глаз не могла сомкнуть от мысли, что не услышит плач малышки или не покормит ее вовремя. Я вспомнил об этом только сейчас, опуская Марио на пол, и едва не поморщился от досады, но сдержался – не хотелось, чтобы Марио видел меня таким. Затем я подошел к матерчатой дорожной сумке, стоявшей рядом с чемоданом, и достал из нее две тоненькие книжечки, которые собирался ему подарить.
– Смотри, что я тебе привез, – сказал я. Но стоило мне дотронуться до этих книг, как я пожалел, что не купил ему чего-нибудь более заманчивого, и испугался, что он будет разочарован. Однако Марио взял их в руки с явным интересом и, пробормотав очень прочувствованное «спасибо» – это было первое слово, которое я от него услышал, – принялся разглядывать обложки.
Саверио, который, должно быть, подумал, как и я, что подарок выбран неудачно, и наверняка собирался потом сказать Бетте: твой отец, как всегда, не угадал, – Саверио поспешил воскликнуть:
– Дедушка знаменитый художник, посмотри, какие красивые картинки, это он нарисовал.
– Вы их рассмотрите вместе, но только потом, а сейчас давай снимем пальто и сделаем пипи.
Марио неохотно позволил снять с себя пальто, но при этом упорно не выпускал из рук книжки. Он не отдал их даже тогда, когда Бетта силой потащила его в ванную. А я снова сел, ощущая некоторую неловкость: я не знал, о чем говорить с зятем. Сказал что-то про университет, про студентов, про трудности преподавательской работы (насколько я помнил, для него это была единственная важная тема, не считая футбола, – но тут уж я был совсем профаном). Однако Саверио не клюнул на эту наживку: к моему удивлению (ведь между нами не было доверительных отношений), он пусть и не очень гладко, но с искренней болью стал жаловаться на свои жизненные тяготы.
– Ни покоя, ни счастья, – бормотал он.
– Капелька счастья все же есть всегда.
– Нет, у меня только один сплошной негатив.
Но как только в комнату вошла Бетта, он прекратил эти излияния и завел разговор про университет. Похоже, муж и жена приходили в раздражение от одного вида друг друга. Моя дочь начала упрекать Саверио в том, что он оставил нечто (я так и не понял, что именно) в полном беспорядке, затем, указывая на Марио, который тем временем вернулся в комнату, крепко сжимая в руках мой подарок, сказала, обращаясь ко мне: «А в итоге вот этот, когда вырастет, станет хуже, чем его отец». Затем резким движением подхватила и унесла мой чемодан и сумку, но перед этим добавила с саркастическим смешком: «Готова поспорить: там нет ни рубашек, ни трусов, ни носков, зато есть все необходимое для работы».
Казалось, мальчик вздохнул свободнее, когда она скрылась в коридоре. Он положил одну книжку на стол, другую мне на колени, словно это был письменный стол, и стал медленно переворачивать страницу за страницей. Я погладил его по голове, а он, возможно осмелев от этой моей ласки, очень серьезно спросил:
– Правда, что это ты нарисовал тут все картинки, дедушка?
– Да, конечно, они тебе понравились?
Он задумался.
– Они немножко темные.
– Темные?
– Да. В следующий раз сделай их посветлее.
Саверио тут же вмешался:
– Какие же они темные, они именно такие, как надо.
– Они темные, – упрямо повторил Марио.
Я осторожно взял книжку у него из рук и внимательно рассмотрел несколько картинок. Никто еще не говорил мне, что они слишком темные. Я сказал Марио: «Нет, они не темные», и с ноткой обиды в голосе добавил: «Впрочем, если тебе они кажутся темными, значит, с ними что-то не так». Перелистал книгу, придирчиво вглядываясь в иллюстрации, обнаружил кое-какие огрехи, которых не замечал раньше, произнес вполголоса: «Наверно, это типография виновата». И огорчился – мне всегда было трудно примириться с тем, что чья-то небрежность испортила мою работу. Я несколько раз повторил, обращаясь к Саверио: «Да, Марио прав, они слишком темные». Затем, перемежая изъявления недовольства техническими терминами, начал ругать издателей, которые на многое претендуют, мало тратят и в итоге все портят.
Марио вначале слушал, потом ему стало скучно, и он спросил, не хочу ли я посмотреть его игрушки. Но мои мысли были далеко, и я резко ответил «нет». Через секунду я понял, что не надо было отказывать вот так сразу: оба они, и отец, и сын, взглянули на меня с недоумением. И тогда я добавил: «Завтра, мой сладкий, сегодня дедушка устал».
3
В тот вечер мне окончательно стало ясно, что для Бетты и Саверио конгресс в Кальяри был прежде всего поводом для того, чтобы скрыться от глаз и ушей Марио и выяснять отношения без свидетелей. Если в течение дня мои дочь и зять лишь иногда обменивались фразами, похожими на условные сигналы, то за ужином они воздержались и от этого; разговор шел в основном обо мне и о Марио: ведь мальчик должен был узнать обо всех подвигах деда, а я – о его успехах. Оба говорили сюсюкающим тоном и почти каждую фразу начинали со слов «А знаешь, твой дедушка…» или «Покажи дедушке, как ты умеешь…». В итоге Марио довелось узнать, что я получил множество премий, что я более знаменитый художник, чем Пикассо, что важные люди выставляли у себя дома мои работы; а мне довелось узнать, что Марио умеет вежливо отвечать на телефонные звонки, писать свое имя, пользоваться пультом для телевизора, самостоятельно резать мясо настоящим ножом и без капризов съедать то, что положили ему на тарелку.
Казалось, этот вечер никогда не кончится. Мальчик неотрывно смотрел на меня, словно хотел выучить наизусть на случай, если я вдруг исчезну. Когда я сыграл с ним одну из тех старых шуток, которыми когда-то развлекал маленькую Бетту, – сжал вместе большой, указательный и средний пальцы и сделал вид, будто держу в них только что оторванный у него нос, – он слабо улыбнулся, то ли весело, то ли снисходительно, и стал молотить по воздуху ладошкой, словно желая наказать меня за эту глупую выдумку. Настало время ложиться спать, и он вдруг заявил: пойду спать, когда дедушка пойдет. Но родители в один голос сказали «нет», и у обоих это неожиданно прозвучало без всякой нежности. Бетта воскликнула: «Пойдешь спать, когда мама скажет!» – а Саверио сказал: «Пора ложиться» – и показал на стенные часы, как будто малыш мог определить по ним, который час. Марио попытался было протестовать, но смог добиться только одного: чтобы я смотрел, как он сам раздевается, как сам надевает пижаму, сам аккуратно выдавливает на щетку из тюбика зубную пасту и чистит зубы сколько положено, то есть очень долго.
А я восхищенно следил за этим представлением. Снова и снова повторял: «Какой ты молодец», а Бет-та снова и снова просила меня: «Не надо, ты мне его избалуешь».
– Хотя, – сказала она вдруг совершенно серьезным тоном, – для своих лет он и правда много чего умеет. Сам увидишь.
В этот момент мама и сын объявили, что удаляются на чтение вечерней сказки. Я машинально последовал за ними в комнату, которая уже не была моей. Марио пока еще не умеет читать, но, подчеркнула Бетта, уже учится и делает успехи. Они захотели мне это продемонстрировать; и действительно, мальчик, хоть и не без маминой помощи, сумел прочитать несколько слов. А я тем временем с жадностью смотрел на приготовленную для меня раскладушку и думал, что и сам бы послушал вечернюю сказку, если бы мог лечь прямо сейчас. Однако, хоть Марио и просил меня остаться, Бетта не согласилась: «Мы тут немножко почитаем, папа, а потом все ляжем спать». В этих словах звучал явный приказ, адресованный как мальчику, так и мне.
Я нехотя вышел из комнаты и – где же тут выключатель – стал продвигаться по темному коридору. В последние годы, даже в моей миланской квартире, темнота действовала на меня гнетуще. Я зажигал свет повсюду, потому что после операции мне иногда стало казаться, что в темноте оживают неодушевленные предметы, и возникало ощущение, что на меня надвигаются стулья, шкафы, стены, – я объяснял это проблемами с кровообращением и тем, что мой мозг недостаточно снабжается кислородом. В общем, я продвигался по коридору с осторожностью, костяшками пальцев дотрагиваясь до стен, но все же передо мной, словно молния, вдруг высветилась фигура отца, как всегда, сердитого, отбрасывающего обеими руками назад длинные пряди волос; мамы, которая из неряшливой золушки, мучимой приступами страха и меланхолии, иногда превращалась в изысканную даму в шляпке с вуалеткой; и бабушки, которая после инсульта всегда сидела молча, скукожившись, как говорят на диалекте о позе сгорбленного, скрюченного человека.
Единственным местом в квартире, где горел свет, была кухня. Я обнаружил там своего зятя, который был в отвратительном настроении, однако обрадовался, увидев меня, и указал мне на стул рядом с ним; но не успел я усесться, как он начал почти шепотом, едва слышно рассказывать мне, как у них с Беттой – после двух лет обручения, десяти лет совместной жизни и пяти лет в законном браке – вдруг все разладилось. Я, как мог, пытался сменить тему, дать понять, что не настроен его слушать. Но все без толку: он не реагировал на мои намеки, словно забыл, что перед ним не случайный собеседник, а отец его жены; было очевидно, что ему плохо, и он непременно должен кому-то излить душу. Он сказал мне, что недавно им назначили нового заведующего кафедрой математики, которого моя дочь знала еще со школьных времен, – и она сразу потеряла голову. Блестящий ученый, властная натура, он словно вдохнул в нее новые силы, и она каждый день старалась быть красивее и элегантнее, чем накануне. Короче говоря, университет для Бетты превратился в бассейн, наполненный густой жидкостью, на поверхности которой колыхалось ее хрупкое тело, с каждой минутой, как бы помимо собственной воли, все больше приближаясь к массивной фигуре шефа (по словам Саверио, плотного мужчины с толстыми ляжками и выпирающим животом), чтобы коснуться его, столкнуться с ним, а затем прижаться к нему, обвиться вокруг него и увлечь за собой на дно.
– И все это, – прошептал он, глядя на меня с набрякшими от горя глазами, – твоя дочь вытворяет прямо у меня перед носом.
Именно поэтому, как он объяснил мне (и повторил несколько раз), ситуация стала совершенно невыносимой. Бетта даже и не думала скрывать от мужа, как сильно ее влечет к новому начальнику, а между тем старалась словно бы невзначай встретиться с этим типом повсюду, в коридорах, в кабинетах, аудиториях, буфете, и ее не смущало, что Саверио в любой момент мог оказаться где-то поблизости и увидеть их вместе. Она не утаивала от Саверио охвативших ее романтических чувств; каждое утро, собравшись на работу, спрашивала у него, хорошо ли она одета, привлекательно ли выглядит. Как-то раз начальник появился в сопровождении жены, которая при всех томно прижималась к нему; и охваченная ревностью Бетта не смогла сдержаться и прошептала, вернее, прошипела на ухо Саверио какое-то язвительное замечание. Не говоря уже о якобы дружеских поцелуях в щеку в начале и в конце рабочего дня, которые неминуемо должны были привести к поцелую в губы. И о навязчивом, агрессивном стремлении отстоять свою будто бы ущемленную независимость. Однажды Саверио вышел из себя, увлек ее в какой-то темный закоулок в факультетских коридорах и накричал на нее, объяснил, как она унижает его своим поведением, а она завизжала: «Что ты прицепился, что на тебя нашло, ты не в своем уме, я сама решаю, как мне себя вести!» – бросила его в коридоре и убежала в буфет, к своему неотразимому шефу, в котором я, если бы увидел его, наверняка усмотрел сходство с гоминидами, стоявшими на самой ранней ступени эволюции (мой зять особенно упирал на это).
Я не отвечал, давал ему выговориться. Действительно, не мог же я обратить его внимание на то, что заведующий кафедрой (если верить описанию) был удивительно похож на него самого. Не мог же я сказать ему, что Бетту явно привлекает определенный тип мужчины – невысокий, плотного телосложения и, как и он сам, – отнюдь не красавец. Я только попробовал в какой-то момент заметить: «Это всего лишь мимолетное увлечение, Саверио, оно пройдет, а то, что вас связывает, – долгая привычка жить вместе, глубокое чувство, – никуда не денется. Марио такой чудесный мальчик, нельзя допустить, чтобы он страдал из-за ваших ссор. Послушай меня, смотри на это сквозь пальцы». Ответ был мгновенным, как бросок кобры, и очень напугал меня. «Да, – сказал он, – эта блажь у нее пройдет, она успокоится, а вот я – я все видел и испытал отвращение, и я ее больше не люблю».
Мне хотелось бы подольше остановиться на этом моменте, выяснить, какая связь между тем, что он «видел» своим замутненным взглядом, и концом его любви к Бетте, но он услышал шаги жены в коридоре – и замолк на полуслове, как будто испугавшись. Моя дочь появилась на пороге в одной ночной рубашке и, обращаясь к мужу, повелительным тоном и с отвращением на лице сказала:
– Я готова, пойдем спать, папа устал. Пока я буду запирать дверь и опускать жалюзи, почисти зубы.
Саверио минуту-другую смотрел в пол, затем решительно встал и вышел, на ходу бросив мне едва слышное «спокойной ночи». Бетта дождалась, когда скрипнет дверь ванной, а потом очень тихо и взволнованно спросила:
– Что он тебе сказал?
– Что у вас с ним какая-то проблема.
– Проблема – это он.
– А я понял так, что это ты.
– Неправильно ты понял. Саверио видит то, чего нет.
– То есть у тебя нет интрижки с типом, который у вас на факультете чем-то там заведует?
– У меня? У меня? Да перестань ты, папа. Саверио просто невыносим.
– Однако ты прожила с ним двадцать лет.
– Я жила с ним потому, что в принципе он человек уравновешенный.
– А сейчас вышел из равновесия?
– Да, и по его вине то же самое происходит со мной, с Марио, с нашим домом, со всей нашей жизнью.
– Хочешь сказать, он настолько неуравновешенный, что видит, как ты целуешься с чужим человеком, а в действительности ничего такого не происходит?
На лице Бетты появилась недовольная гримаса, от которой она заметно подурнела.
– Он не чужой, папа, он мне как брат.
В этот момент глаза у нее наполнились слезами; это обстоятельство, а еще то, что я не особенно симпатизировал ее мужу, заставило меня поверить в ее искренность. Ну-ну, успокойся, сказал я, ты умница, у тебя все хорошо с работой, Марио такой чудесный малыш, поезжайте на конгресс, объяснитесь, и, когда вернетесь, все будет в порядке. Но даже если сейчас она кривила душой, я знал: она всегда будет любить мужа, всегда будет его поддерживать. Когда она была девочкой, я не мог спокойно смотреть, как она плачет; не мог и сейчас, хотя она уже стала взрослой. Если тебе так уж надо поплакать, прошептал я, плачь в мое отсутствие, когда я буду в Милане. Бет-та улыбнулась, я поцеловал ее в лоб, и она, шмыгнув носом, тихо сказала: «Давай я покажу тебе, как закрывать газовый кран» – и заставила меня при ней несколько раз закрыть и открыть его, чтобы я хорошенько запомнил, как это делается. Затем последовал подробный инструктаж: «ток отключается вот здесь», «поосторожнее с балконной дверью, она новая и плохо закрывается», «ключ, которым перекрывают воду, – под мойкой», «сток в душевой кабине иногда засоряется» и так далее, и тому подобное. Наконец она заметила, что я слушаю невнимательно, и сказала недовольным тоном: «Завтра я тебе все это напишу». Похоже, она засомневалась, что я справлюсь с ситуацией, в которую сама же меня и втянула: вдруг посмотрела мне в глаза и спросила: «А ты правда сможешь присмотреть за малышом?» Я клятвенно заверил ее, что смогу, и она поцеловала меня в щеку (чего не делала никогда, даже в детстве) и прошептала «спасибо».
Я смотрел ей вслед, пока она не исчезла в дверях своей комнаты. Потом достал вещи из чемодана, стараясь не шуметь, и пошел в ванную. Там, готовясь ко сну (от усталости все мои движения были медленными и неловкими), я подвел итог первым часам, которые провел в Неаполе, и снова пожалел, что не остался в Милане. Ведь у меня не хватит сил присматривать за Марио, это совершенно ясно. Надо было честно и прямо сказать, что я еще не совсем выздоровел и не в состоянии взять на себя ответственность за ребенка, не в состоянии расхлебывать их супружеские неурядицы. Перебирая в памяти услышанное и увиденное за сегодняшний вечер, я никак не мог отделаться от ощущения – как бы это назвать? – непристойности происходящего. И мне стало казаться, что уклад жизни в этом доме страдает какой-то аномалией. Или что уклад правильный, но аномальна сама жизнь внутри него, словно под человеческой одеждой вместо человека скрывается ком затвердевшей смолы, или крокодил, или обезьянья парочка, или, хуже того, простое скопление микроорганизмов. Бетта, которая ластилась к своему коллеге, была непристойна; непристоен был ее муж, пытавшийся вклиниться между нею и другим мужчиной – любовником, братом, или любовником, который как брат; непристойны были эти стены, ветер, дувший с моря, весь этот город. Спустя какое-то время после смерти моей жены я заглянул в ее бумаги (я тоже вел себя непристойно) и почти сразу до меня дошло, что в те долгие, очень долгие годы, когда я был целиком поглощен постоянной, изматывающей борьбой за становление своей творческой индивидуальности, когда самым главным для меня было следовать своему призванию, а на остальное я обращал мало внимания, – в те годы она часто изменяла мне, и первая измена случилась всего через несколько лет после начала наших отношений. Почему? Она и сама этого не понимала, строила разные гипотезы. Возможно, чтобы вспомнить, что она живая. Чтобы поверить в собственную значительность – ей казалось, что главное место в нашей совместной жизни занимал я. Потому, что ее тело требовало к себе внимания. Или под влиянием бессознательного всплеска жизненной силы. За фасадом нашего благопристойного повседневного существования (подумав об этом, я сокрушенно вздохнул) прятался невоспитанный, проказливый чертенок, которого мы старались не замечать, неукротимая энергия, воспламеняющая плоть, регулярно побеждающая благонравие даже в самых благонравных созданиях. Я включил лампу на тумбочке, рядом с кроватью, затем выключил свет в ванной и в коридоре – там было три выключателя, первый я нажал наугад – и, как оказалось, попал в точку. И вот, наконец, с долгим приглушенным стоном улегся в постель, даже не взглянув на Марио, который спал в другом конце комнаты в своей кроватке, окруженной ворохом игрушек, у стены, сплошь увешанной его рисунками.
На улице по-прежнему завывал ветер, дождь хлестал по маленькому балкону, перила тряслись так, что шум разносился по всей комнате, несмотря на двойные рамы. Я лег – и в одно мгновение заснул, но спустя еще мгновение проснулся весь в поту, прерывисто дыша. У моей кровати стоял Марио в своей голубой пижамке. Он сказал: «Дедушка, ты забыл выключить свет, но я выключу его сам, не беспокойся». Он действительно выключил свет, и комната погрузилась во тьму и наполнилась шумом ветра. Меня охватил ужас, а Марио, не испытывая ни малейшего страха, прошмыгнул в свою кроватку.
4
Я проснулся с твердой уверенностью, что на часах – двадцать минут пятого, время, когда в Милане я просыпался окончательно. Дождь за окном все еще шел, вернее, налетал вместе с порывами ветра. Я включил лампу на тумбочке: часы показывали десять минут третьего. Встал, чтобы пойти в ванную, и, вылезая из-под теплого одеяла, почувствовал, как холодно в комнате, и вздрогнул. Вернувшись, я взглянул на Марио – он раскрылся во сне. Лежал на животе, раскинув ноги, одна рука вытянута вдоль тела, другая согнута в локте, и сжатый кулачок почти касается полуоткрытого рта. Я тронул его ступни: они были холодными как лед. А вдруг он заболеет, пока родители в отъезде? Я натянул ему одеяло выше подбородка и присел на край своей раскладушки.
Тело у меня одеревенело, глаза слипались, но я не смог бы заснуть, даже если бы лег; я ощущал под кожей сильный жар, а сама кожа, как ни странно, казалась мне холодной; икры и пальцы на ногах тоже были холодными и вдобавок почти потеряли чувствительность. Я достал из чемодана рассказ Генри Джеймса и карандаши, чтобы сделать несколько набросков, потом залез под одеяло и прислонился спиной к стене. Я бегло просмотрел всю работу за последние недели, и мне ничего не понравилось; я даже пожалел, что перед отъездом поспешил отправить издателю две иллюстрации, не успев их толком доработать. Я еще раз перечитал несколько мест из книги, попробовал перенести на бумагу два-три сюжета, которые пришли мне в голову, но никак не мог сосредоточиться. Как будто ровное дыхание спящего Марио, шум ветра и дождя и даже вид самой этой комнаты (да и всей квартиры, где Бетта и Саверио за прожитые годы многое переделали на свой лад) не давали развернуться моей фантазии. Я закрыл книгу, и меня охватила полудремота, во время которой воспоминание о прежнем облике квартиры стало таким ярким, что могло бы затмить и саму реальность, и любые картины, созданные воображением. Я опять сел в кровати и стал зарисовывать места, где прошло мое детство. Нарисовал прихожую с окном, выходившим на площадку над грузовым причалом. Нарисовал гостиную, которой так гордилась моя мать, с только что купленной мебелью, диваном, креслами, пуфиками, всеми теми вещами, какие, по ее представлению, подобало иметь даме из высшего общества. Затем набросал ее портрет и сразу после (мне показалось, что я смогу это сделать) – эту же гостиную, увиденную ее глазами – просторную, светлую залу, столешницу из полированного дерева с волнистой каймой по краям, коробку для столового серебра с куполообразной крышей и четырьмя миниатюрными шпилями, лоджию, откуда можно было разглядеть угол отеля «Терминус». Нарисовал коридор с телефоном на стене, родительскую спальню, маму и папу: она лежит в постели, а он в майке и трусах сидит на краю. А еще нарисовал чулан, набитый всяким старьем, огромную ванную, комнату, в которой сейчас находились я и Марио. В те годы она была вся уставлена кроватями, точно казарма; на одной спала бабушка, на других, валетом, спали мы, пятеро внуков. Позже в комнате стало просторнее, там остались только бабушка и трое младших внуков, тогда как старшие – я и мой брат – каждый вечер устраивались на ночь в гостиной, нанося удар по великосветским амбициям нашей матери.
Я работал как заведенный, давно уже мне не доводилось рисовать с такой скоростью и такой свободой. Нарисовал интерьеры, людей и вещи из моих воспоминаний, а на полях, вверху и внизу каждого наброска и еще на отдельных листах нарисовал отдельные детали, уйму деталей. В юные годы я мог похвастаться некоторыми способностями, со временем определившими мой жизненный путь; в средней школе учитель рисования с изумлением говорил: «Этот мальчик родился художником!» – но по мере того, как я взрослел и совершенствовал свои познания в искусстве, мой стихийный дар, зоркий глаз, обостренная восприимчивость – все это стало казаться мне слишком грубым и примитивным. Я решил изменить творческую манеру, потом повторял это снова и снова, – и каждый раз выбирал все более сложный, изысканный стиль, то есть все больше отдалялся от прежней легкости и простоты, которые теперь находил вульгарными. Когда мне было двенадцать лет, окружающие смотрели на меня как на чудо, ослепительное и пугающее, да и сам я тоже считал себя таким; но уже к двадцати научился презирать быстроту моего карандаша, потому что считал ее недостатком. А сейчас я вдруг увидел себя, сначала двенадцатилетнего, потом двадцатилетнего, и попробовал зарисовать два портрета, возникшие в моем воображении. Но моя рука опять стала двигаться медленно и с трудом. Напрасно я старался это преодолеть, пальцы снова стали тяжелыми и слушались меня неохотно, словно бездушные автоматы. Я нацарапал на бумаге еще какие-то штрихи, слова, наброски: каким я был, кем я был, что произошло со мной в те восемь лет, за которые я из ребенка превратился во взрослого молодого человека. Около четырех утра я перестал рисовать. Как это глупо – вот так терять время. А главное, ради чего? Сбитый с толку этим неожиданным всплеском творческой активности, я снова взглянул на листы, сплошь покрытые рисунками. И среди этой мешанины мне сразу бросились в глаза две совершенно четко, даже слишком четко, прорисованные фигуры – Бетты и Саверио. Бетта у меня вышла настоящей красавицей: на моем наброске она сидела в нашей кухне шестидесятилетней давности, в позе, в которой часто сидела моя мать, а иногда и я тоже. Она похожа на тебя и твою родню, говаривала Ада, как будто не сама родила мне дочь, как будто и тут я исключил ее из своей жизни. А вот своего зятя (он получился удивительно похожим) я поместил на теперешнюю кухню (правда, с минимумом узнаваемых признаков), и выглядел он не очень-то привлекательно. (Я изобразил его мрачным чужаком, в котором не замечалось ни малейших достоинств, причем сделал это совершенно непреднамеренно.) Наконец я выключил свет, натянул одеяло на голову и заснул в такое время, когда в Милане обычно уже вставал.
5
Но проспал я недолго, около шести уже проснулся. Ветер утих, похоже, и дождя больше не было. Выйдя в коридор, я нажал не тот выключатель, и свет включился в нашей спальне. Я тут же выключил его, надеясь, что не разбудил малыша, и пошел в ванную бриться и умываться.
Вот было бы хорошо, если бы от произведенного мной шума проснулись они оба, или хотя бы одна Бетта, подумал я; но, когда я вышел из ванной, в квартире была полная тишина. Я прошел на кухню, не без труда отыскал ковшик, в котором можно было вскипятить воду, но чая так и не обнаружил. Вот плита – и что дальше? Где тут спички или зажигалка? Я растерянно оглядывался кругом, и вдруг рядом со мной появился Марио, еще не вполне проснувшийся, судя по лицу.
– Привет, дедушка.
– Это я тебя разбудил?
– Да.
– Извини.
– Ничего страшного. Можно я тебя поцелую?
– Можно.
Я отметил, что у него хватило рассудительности надеть поверх пижамы оранжевую вязаную кофту, а на ноги – тапки того же цвета. Я похвалил его за это и наклонился, чтобы он мог поцеловать меня, а я – его.
– Можно я тебя щелкну? – спросил он.
– Давай.
Он сильно щелкнул меня по щеке, а затем спросил церемонным тоном Саверио, не нужно ли мне чего-нибудь.
– Знаешь, как газ зажигать? – спросил я.
Он кивнул. И первым делом напомнил мне, что тут есть ручка, которую надо повернуть, и, хотя было ясно, что я ее уже поворачивал, он все же захотел показать мне, как это делается: «Смотри, когда вот так – газ не идет, а если повернуть – пойдет». Затем подтащил ко мне стул, заранее предупредив, что шума при этом не будет: «Папа наклеил снизу на ножки всех стульев фетровые квадратики». Ловко взобравшись на стул, он начал объяснять мне смысл значков на ручках конфорок, как прибавлять и убавлять газ. Но больше всего меня удивило – и встревожило – то, что он умеет зажигать конфорки самостоятельно. Вот он нажал на ручку, потом повернул ее, выждал несколько секунд, и отпустил.
– Видел? – спросил он довольным тоном.
– Да, только воду поставлю греть я.
– Мы не будем готовить завтрак на всех?
– Но я ведь не знаю, что ты ешь на завтрак, что ест мама и что ест папа.
– А я знаю. Мама и папа пьют кофе с молоком, а я – только молоко.
– А еще?
– А еще надо поджарить хлеб для мамы – мы с папой едим сухарики – и выжать для всех апельсиновый сок. Хочешь соку?
– Нет.
– Он вкусный.
– Все равно не хочу.
Теперь он начал показывать мне, где лежат апельсины, где стоит соковыжималка, как сделать так, чтобы тосты не подгорели (тогда от них плохо пахнет, а папа не выносит этого запаха), в каком шкафчике пакетики с черным и зеленым чаем, за какой дверцей кофеварка и где чайник, потому что ковшик, который я нашел, не годится, и где найти подставки под тарелки. Как много он говорит сегодня утром, и какая у него правильная речь, думал я. В какой-то момент он озабоченно спросил:
– Ты проверил, молоко не просроченное?
– Нет, не проверил, но если оно стоит в холодильнике, то в любом случае не могло испортиться.
– Все равно ты должен проверить, а то мама часто отвлекается и забывает посмотреть.
– Проверь сам, – сказал я, решив подшутить над ним.
Он смущенно улыбнулся, взмахнул рукой в воздухе, как уже делал вчера, и неохотно признался:
– Я не умею.
– Значит, все-таки есть что-то, чего ты не умеешь.
– Но я знаю, что надо налить немного молока в ковшик, включить газ и посмотреть, коагулировало оно или нет.
– Коагулировало? Что значит «коагулировало»?
Он опустил глаза, покраснел, потом снова посмотрел на меня со смущенной улыбкой. Он занервничал, ему невыносима была мысль о том, что он не произвел должного впечатления. Я сказал ему: «Прыгай», взял за руку и заставил спрыгнуть со стула. Затем, желая убедить его, что он не упал в моих глазах, спросил: «А что еще мы с тобой должны сделать?» Я был в изумлении (не знаю, правда, радостном ли – возможно, и нет) от его богатейшего словарного запаса, от того, как он умеет управляться с вещами, которые его окружают. Сам я, насколько помню и судя по рассказам мамы и бабушки, был неразговорчивым и рассеянным ребенком. Воображение у меня было сильнее чувства реальности; даже став взрослым, я не приучился активно участвовать в повседневной жизни; как мне казалось, единственное, что я умел, – это рисовать, писать красками, комбинировать красящие вещества всех типов. За пределами этой области я был тупица, у меня была никудышная память, мне редко когда удавалось придать моим желаниям явственную, ощутимую форму, я небрежно относился к обязанностям гражданской жизни и всегда полагался в этом на других, чаще всего на Аду. А этот мальчик в свои четыре с небольшим года выказывал такое же напряженное внимание к окружающему миру, как индейцы, которые способны были изучить сложную технику ювелиров, прибывших в Америку с конкистадорами, при помощи одной лишь наблюдательности. Он продолжал давать мне указания. Повинуясь ему, я накрыл стол на кухне. Затем последовали инструкции насчет кофе: Бетта пила без кофеина, Саверио – обычный. Так мы вдвоем загрузили кофеварки, вдвоем пустили в ход соковыжималку, причем он несколько раз упрекал меня за то, что я выбрасываю половинки апельсинов, в которых еще осталась мякоть. «Вдвоем» означает, что, даже когда надо было выполнить какое-то действие, для которого ему недоставало силы или ловкости, он настаивал на том, чтобы положить свои руки поверх моих, а если я хотел обойтись без его участия, сразу мрачнел.
– Кто научил тебя всему этому? Мама?
– Папа. Он ничего не делает один, я всегда должен помогать ему.
– А мама?
– Мама нервничает, кричит и торопится.
– Папа сказал, что тебе нельзя зажигать газ?
– Почему?
– Потому что ты обожжешься.
– Если человек знает, что может обжечься, он будет осторожным и не обожжется.
– Даже если быть осторожным, все равно можно обжечься. Обещай, что, пока мы с тобой будем тут жить вместе, ты не будешь зажигать газ, когда меня нет рядом.
– А когда ты будешь рядом, я не обожгусь?
– Нет.
– А если ты обожжешься?
Он хотел успокоить меня, объяснить, что надо делать при ожоге. В ванной, сказал он, есть коробка с красным крестом на крышке. Там лежит крем, который он хорошо знает, потому что папа мазал его этим кремом, когда он обжигался, и ожог переставал болеть.
– Крем не липкий, – заверил он меня, и как раз в этот момент, когда мне уже стало невмоготу, – я согласен был развлекать его, но устал слушать эти бесконечные инструкции по применению, – пришла Бетта. Я облегченно вздохнул. «Боже мой!» – воскликнула она, изображая восторг при виде накрытого стола.
– Это мы с дедушкой все приготовили.
Она похвалила его, взяла на руки, несколько раз поцеловала в шею, и он засмеялся от щекотки.
– Хорошо с дедушкой, правда?
– Да.
Бетта повернулась ко мне:
– А тебе хорошо с Марио, папа?
– Очень хорошо.
– Как замечательно, что ты все же решился приехать.
Тем временем появился Саверио, и мальчик сразу же зажег газ (никто не обратил на это внимания) под обеими кофеварками, с обыкновенным кофе и с кофе без кофеина. А я бросил в чайник с кипятком два пакетика чая и, наконец, сел за завтрак, такой непохожий на мой привычный завтрак в Милане, одинокий и скудный. Во время еды не было ни секунды тишины: родители – хоть и казались еще более враждебно настроенными друг к другу, чем накануне, вели оживленную беседу с сыном, как будто нарочно заставляя его болтать без умолку. Но когда все поели, Бетта сразу объявила, что ей надо бежать – у нее сегодня уйма дел, и к тому же (это было сказано жалобным тоном) она еще не успела уложить вещи, решить, что она наденет в Кальяри, а завтра ей придется встать в четыре утра, потому что самолет в девять. Но, сказала она еще, я приготовила для тебя список того, что необходимо сделать в наше отсутствие, и, пожалуйста, папа, не забудь в него заглядывать. И вышла, таща за собой Марио, которому пора было умываться и одеваться, чтобы пойти в детский сад, а он все время повторял: «Не хочу идти в садик, хочу быть с дедушкой».
Я осторожно осведомился у Саверио:
– Мне придется в эти дни водить его в детский сад?
– Спроси у Бетты, она мне ничего не говорила.
– Может, тебе надо больше доверять ей, ты слишком подозрительный, это ее ожесточает.
– А как не быть подозрительным, если она так себя ведет? Знаешь, куда она собирается сегодня?
– Не знаю. Куда?
– Читать шефу свое сообщение на конгрессе.
– А что тут плохого?
– Ничего. Только объясни мне, почему он не позвал и меня тоже и не попросил почитать мой доклад?
– По-видимому, потому, что Бетта с ним дружит со школы, а ты – нет.
– Так это он по дружбе поставил сообщение Бет-ты на одно из первых мест в программе, а мой доклад отодвинул на второй день?
Я непонимающе взглянул на него:
– Ваш заведующий кафедрой имеет какое-то отношение к конгрессу в Кальяри?
– Еще бы! Он его организатор.
– И он едет туда с вами?
– А ты еще этого не понял?
Я не успел ответить. Из ванной послышался сердитый голос Бетты, она звала мужа.
– Сегодня твоя очередь вести Марио в садик! – раздраженно крикнула она и быстро, чуть ли не бегом промчалась по коридору, оставляя после себя запах духов. – Не делай вид, что забыл!
Саверио вскочил с места и посмотрел ей вслед, взгляд у него был безумный. Бетта говорила, что ее муж – видный математик, но сейчас мне не верилось, что человек в здравом уме, ученый, может вести себя так грубо. Даже если Бетта, предположим, и питает некоторую симпатию к этому заведующему кафедрой, подумал я, неужели Саверио настолько глуп, чтобы вообразить, будто он в силах помешать этой симпатии перерасти в нечто большее? Сексуальное наслаждение, окончательно отделившись от размножения, при котором изначально играло лишь роль стимула, теперь зажило самостоятельной жизнью и требует свое в любом месте на планете, в любое время года, и контролировать его невозможно; то, что должно произойти, неминуемо произойдет, неистовство плоти безжалостно уничтожит все и вся – жен, мужей, сыновей, нежные привязанности, с трудом скопленные деньги. На кухню снова зашла Бетта. В половине девятого утра она была одета и накрашена так, словно собиралась на дискотеку. Она подтолкнула ко мне Марио. Мальчик тоже был тщательно одет и причесан, явно для детского сада.
– Дедушка, – обратилась ко мне моя дочь, – скажи Марио, что сегодня он должен пойти в садик.
Я произнес строгим голосом:
– Марио, не капризничай, тебе надо в садик.
– Я хочу быть с тобой.
– Мало ли что ты хочешь, – выдохнула Бетта. – С этой минуты будешь делать то, что скажет дедушка.
Она поцеловала сына в голову, сказала мне «пока!» и исчезла. А мальчик, пристально глядя на меня, повторил:
– Не пойду в садик.
6
Марио все еще упорствовал, пытался уловить в моем взгляде сочувствие, но я не поддержал его. А Саверио не сказал ему ни да, ни нет, просто взял за руку и потянул в коридор, к двери, они уже сильно опаздывали. «Дедушка, – сказал расстроенный малыш, перед тем как зайти в лифт, – никуда не уходи, подожди меня». Я кивнул и закрыл входную дверь с чувством облегчения.
Нехотя прогулялся по пустой квартире, мысленно сравнивая зарисовки, сделанные ночью, по памяти, с теперешним видом тех же помещений. От большой гостиной давно уже осталась половина; во второй половине был устроен кабинет, стоял ультрасовременный письменный стол, а стены закрывали высокие, до потолка, книжные стеллажи. В прихожей тоже были кое-какие переделки. Когда я приехал, то не обратил на это внимания, а сейчас заметил, что там появилась перегородка с новенькой, недавно установленной дверью. Я открыл ее, вошел и оказался в тесной каморке, также заполненной книгами, но со старомодным письменным столом, и пропитанной неожиданными для такого места запахами чеснока, лука и стирального порошка. Я распахнул окно, выходившее на площадку, которая, как я обнаружил, тоже подверглась переделке. Теперь это была веранда, где моя дочь держала всякую дребедень, нужную ей на кухне, – запах чеснока, лука и стирального порошка исходил именно отсюда. Я не сомневался, что просторный кабинет занимала Бетта, а в этом крошечном закутке работал Саверио.
Я вернулся в коридор, сунул нос в спальню. Там был кавардак, на незастеленной кровати лежали похожие на увядшие очистки фруктов платья моей дочери; очевидно, она примеряла и забраковывала их, прежде чем выбрать то единственное, в котором, по ее мнению, выглядела лучше всего. В те годы, когда эта комната была спальней моих родителей, она казалась мне огромной, но сейчас, когда Бетта поставила здесь два больших платяных шкафа, прежде обитавшие на чердаке, и двуспальную кровать такого размера, что каждому из лежавших в ней должно было казаться, будто он спит один, – сейчас комната словно съежилась и стала заметно меньше.
Я огляделся вокруг, полистал книги, лежавшие на тумбочках, вышел на лоджию. И тут же ощутил хорошо мне знакомый шум города. Ветер стих, небо было черным и неподвижным, дождь перестал. Я узнал длинный ряд старых домов, тянувшийся от площади Гарибальди, несколько минут следил за потоком прохожих на тротуаре внизу, за вереницей машин, направлявшихся в сторону улицы Марина. А когда заметил, что, неосторожно опираясь локтями на мокрые перила, намочил рукава джемпера, вернулся в дом.
Этого беглого осмотра было достаточно, чтобы сделать вывод: если не считать гостиной, где висела моя картина с красно-синими овалами, большая часть крупных и малых работ, которые я годами дарил дочери, в квартире не выставлены – наверно, дочь и зять куда-то их запрятали. Саверио всегда притворялся, говоря, будто он высокого мнения о моем творчестве, а Бетта даже и не пыталась поверить в меня как в художника. Впрочем, вера – штука непостоянная, она приходит и уходит. В последнее время никто уже не ценил меня, как прежде, слишком многое изменилось. Ладно, сказал я себе, в конце концов, это не так уж важно, главное, что я продолжаю работать. Прогнав невеселые мысли, я решил выйти пройтись, пока есть возможность, ведь с завтрашнего дня я буду сидеть с малышом, и о прогулках придется забыть. И я вернулся в комнату Марио, где еще было темно. Надел пальто, шляпу, проверил, взял ли бумажник, а главное, ключи Бетты, которые она вручила мне, заставив поклясться, что я не забуду их дома. Тут мне захотелось взглянуть на балкон, который я пропустил, когда осматривал квартиру; и я отодвинул задвижку балконной двери.
Моя мать панически боялась балкона, всякий раз, когда надо было выглянуть оттуда, делала это с большой осторожностью и запрещала моим младшим братьям выходить на балкон без взрослых. Стеклянная дверь, которую я открыл сейчас, явно была установлена совсем недавно. Все балконы на этой стороне дома, в том числе и наш, были странной трапециевидной формы – к дальнему концу они сужались. Наш был на последнем, седьмом этаже, и, возможно, именно поэтому мама, которая вообще не страдала головокружением, плохо переносила это сужающееся к краю пространство, она говорила, что, когда смотрит на него снизу, ей становится плохо. Когда надо было что-то выставить на балкон или достать оттуда, она звала моего папу, а если папы не было дома или он был не в духе, звала старшего сына, то есть меня. Я брал у нее из рук то, что надо было вынести, но, чтобы подразнить ее, перемахивал на дальний край балкона и начинал там прыгать, так, что дрожали основание балкона и перила, и смотрел, как мама, стоящая в дверном проеме, смеется и ужасается одновременно.
Мне нравилась эта видимость риска. Когда я был совсем маленький, то нередко, особенно весной, выходил на балкон, садился на пол и читал, писал или рисовал. Помню, каким громадным казалось небо, окружавшее меня; а еще я видел оттуда строящееся здание вокзала. Там, над пустотой, я чувствовал себя кем-то вроде стража на башне или часового на верхушке столетнего дерева, который должен высмотреть что-то вдалеке. Но сегодня утром, выглянув на балкон, я не ощутил прежнего удовольствия, более того, мне показалось, что я понял опасения моей матери. Он выглядел как узкая длинная доска, нависшая над серой массой асфальта; у того, кто отважился бы выйти на него, возникло бы впечатление, что он ступил на уцелевший фрагмент обвалившейся конструкции, который вот-вот отделится от здания и, в свою очередь, рухнет вниз. Возможно, подумал я, это ощущение торчащего обломка вызвано трапециевидной формой балкона; идеальная прямая, вычерченная порогом балконной двери, кажется безмерно далекой от другой, параллельной ей прямой, рассекающей пустоту; или, что более вероятно, причина такой странной реакции – это мое теперешнее болезненное состояние, старость, сделавшая меня мнительным, неуверенным в себе. Понятное дело, я предусмотрительно остановился на пороге, в пальто, со шляпой в руке, и смотрел на небо, на перила, с которых падали редкие капли дождя, и на пластиковое ведерко, откуда торчала какая-то игрушка и к ручке которого была привязана веревочка.
– У тебя мобильник звонит, – женский голос, вдруг раздавшийся сзади, заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулся, ожидая увидеть призрак бабушки, мамы, Ады, но голос добавил: – Извини, я – Салли.
Это была уборщица. Она протягивала мне жужжащий мобильник, который я, по-видимому, забыл на кухне. Женщина лет шестидесяти с небольшим, полнолицая, веселая, большеглазая. Она рассыпалась в извинениях: у нее были свои ключи, и она вошла в квартиру, как обычно входила по утрам, не подумав, что может испугать меня.
– Я не испугался, просто удивился, – уточнил я.
– Испуг, удивление – это одно и то же.
– Нет, это не одно и то же.
Я взял у нее телефон, который все еще жужжал. Это был издатель. Как бы между прочим он сообщил:
– Я получил две иллюстрации.
Мне захотелось спровоцировать его на похвалу:
– Хорошо вышли, правда?
На несколько секунд наступило молчание. Я давно привык получать комплименты за все, что бы я ни делал. А состарившись, стал считать их простой формальностью, ведь казалось совершенно невозможным, чтобы кто-то прямо сказал мне: «Нет, эта ваша работа никуда не годится». Но в данном случае я не учел, что мой собеседник – тридцатилетний парень, лопающийся от денег и одержимый страстью к новаторству. Наконец он заговорил:
– Это не то, чего я ожидал.
– Ну, так рассмотрите повнимательнее, – попытался я отшутиться.
– Я рассмотрел внимательно, и нам с вами еще придется над ними поработать.
У меня все оледенело внутри. Я хотел было возразить, но мне показалось нелепым утверждать, будто мои иллюстрации – шедевр, я и сам так не считал. Поэтому я дал ему высказаться. И он говорил долго, говорил о блеске – по его мнению, это слово обозначало качество, необходимое для роскошного издания, как он его понимал. Я постарался вникнуть, что именно его не устраивает. Кажется, речь шла о цвете. Но когда я попросил его объяснить поточнее, оказалось, что моим иллюстрациям недостает блеска – это можно сравнить с нехваткой кислорода.
– Не обижайтесь, – сказал он, – но, когда недостает кислорода, невозможно генерировать ни энергию, ни знание.
Я решил выбрать покровительственно-иронический тон:
– Если вы хотите, чтобы я добавил им кислорода, я попробую это сделать.
Он обиделся:
– Вот именно, добавьте им кислорода. Может, вам это выражение кажется смешным, но я считаю его серьезным и уместным. Когда вы закончите работу над остальными иллюстрациями?
– Скоро, – солгал я.
Но это его не успокоило. Он заявил, что выпуск роскошного издания – дело, требующее огромных усилий, что он привлек к сотрудничеству многих выдающихся специалистов и ему надо как можно скорее получить иллюстрации. Он был молод и считал, что агрессивный тон сделает его слова более вескими и убедительными. Только в этот момент я заметил, что ладони у меня как огонь, а спина потная. Картинки не понравились издателю, это была большая неприятность. Но то, что издатель выразил свое мнение так откровенно, было еще неприятнее. Положив телефон в карман, я почувствовал, что у меня начинается приступ головной боли. Мне не понравилось, что Салли сняла туфлю, сидя на моей кровати, и она заметила это.
– Они новые, жмут, – объяснила она, мгновенно надела туфлю и встала с кровати.
– Пойду пройдусь, – сказал я.
– Хорошо. Ты доволен внуком?
– Да.
– Ты нечасто приезжаешь.
– Когда могу.
– Марио чудесный малыш, но иногда приходится его ругать. Посмотри, какой тут беспорядок, он даже игрушки не убрал, они валяются уже несколько дней.
Спросив у меня разрешения, Салли вышла на балкон. Она была маленькая, но грузная, и я чуть не сказал ей: не ходи туда. Но она явно не испытывала таких опасений, как я. Балкон трясся у нее под ногами, но она дошла до ведерка, достала игрушки, а оставшуюся на дне дождевую воду выплеснула через перила.
– Они заставляют его играть на балконе, даже когда холодно, – пожаловалась она мне.
– Это закаляет.
– А ты шутник, это хорошо. Дедам надо шутить, надо уметь смешить. Но иногда им надо и беспокоиться.
Я ответил, что беспокоюсь главным образом из-за того, что мне придется несколько дней провести вдвоем с Марио, а у меня много работы.
– В какое время вы здесь бываете? – спросил я.
– С девяти до двенадцати. Но послезавтра я не приду.
– Не придете?
– Мне надо кое с кем встретиться, это важно.
– А моя дочь в курсе?
– Конечно, в курсе. Что тебе приготовить?
– Придумайте сами.
Сначала невоспитанный работодатель испортил мне настроение, а теперь я еще и разозлился на Бетту. Она ведь сказала – во всяком случае, так я ее понял, – что Салли будет приходить каждый день. Оказалось, нет. Я закрыл балконную дверь, мне было холодно даже в пальто. Кто-то позвонил в домофон. Длинные, частые, требовательные звонки.
7
Это был Саверио. Салли, ничего мне не объясняя, побежала вниз и вскоре вернулась вместе с Марио. Ребенок сиял от радости.
– Папа привез меня домой, – сообщил он.
– Как так?
– Воспитательница заболела.
– А другой воспитательницы не нашлось?
– Я не хочу быть с другой воспитательницей, хочу быть с тобой.
– Как тебе удалось уговорить папу?
– Я заплакал.
Я спросил Салли, можно ли на часок оставить мальчика с ней, у меня проблема по работе, и мне надо подумать. Салли ответила, что времени у нее в обрез, а квартира большая, и она была бы очень довольна, если бы мы вдвоем с Марио, дед с внуком, пошли прогуляться до обеда. Мне на это было нечего возразить. И я сказал Марио: «Сними рюкзак и пойдем гулять». Малыш был в восторге, а Салли сказала:
– Сначала иди сделай пипи, Марио, перед тем как выйти на улицу, всегда надо делать пипи, правда, дедушка?
Мы вышли на улицу, дул ледяной ветер. Я поднял воротник, поглубже надвинул шляпу, плотнее замотал шарфом шею мальчика. И наконец, произнес четко и раздельно, чтобы он ощутил мою непреклонность:
– Марио, имей в виду, я не стану брать тебя на ручки.
– Ладно.
– И ты никогда, что бы ни случилось, не должен отпускать мою руку.
– Понял.
– Чем бы ты хотел заняться?
– Пойдем в новое метро.
И мы повернули к площади Гарибальди, но, когда прошли несколько шагов, идея Марио мне разонравилась. По площади сновало множество людей, расхаживали торговцы, предлагавшие всякую всячину, слонялись бездельники, ездили машины и автобусы. А в метро валила толпа, и я подумал, что не смогу ввинтиться туда, мне не хватит воздуха. И я решил повернуть назад.
– Дедушка, метро вон там.
– Давай я покажу тебе улицу, по которой ходил в школу.
– Ты же сказал, что мы поедем на метро.
– Это ты сказал, а не я.
Я хотел хорошенько пройтись, чтобы забыть голос издателя. Но забыть его оказалось нелегко. Восстанавливая в памяти весь разговор, я пытался найти в нем что-то позитивное. Теперь, говорил я себе, когда известно, что две первые картинки ему не понравились, можно будет сменить курс, причем без особых проблем, поскольку работа еще в самом начале. Но тут же возразил: «Сменить курс?» А на какой именно? Возможно, эти иллюстрации у меня и в самом деле не получились. Возможно, низкий гемоглобин, ферритин и незапланированная поездка не позволили мне в этот раз показать лучшее, на что я способен. Но почему такое неуважение? Эти две картинки – часть моей истории, часть того, что я собой представляю, того, чем я занимался десятилетиями, причем вполне успешно. Если этот наглый сопляк заказал мне работу, если он сказал «проиллюстрируй мне Генри Джеймса», то он сделал это ради моего имени, ради всего, что я создал и придумал за мою долгую жизнь. Так чего он теперь хочет? А с другой стороны, что я имел в виду, когда говорил «сменить курс»? Курс мог быть только один, тот, которым я следовал с двадцати до семидесяти пяти лет. Те две иллюстрации, конечно, можно было доработать, но ведь они были результатом следования этому курсу, и доработать их можно было только при продолжении этого курса, следуя которым я создал многие десятки работ, снискавших всеобщее одобрение.
Расстроенный, я сунул руки в карманы и, понурившись, зашагал к улице Марина. Но Марио схватил меня за рукав:
– Дедушка, ты выпустил мою руку.
– Верно, извини.
– Эта улица некрасивая, мы с папой никогда по ней не ходим.
– Вот и хорошо, сможешь увидеть новые места.
Это был район моего детства, переулки, узкие улочки, маленькие площади, ведущие к людным, бурлящим жизнью кварталам Форчелла, Дукеска, Лавинайо, Кармине, и дальше, к порту, к морю, а над всем этим обширным пространством, сливаясь в общий гомон, раздавались голоса – болтовня прохожих, крики из окон, обмен любезностями у дверей магазинов – голоса нежные и резкие, вежливые и грубые, и эти звуки были как мост, соединявший две эпохи, теперешнюю, когда я, старик, вел по улице внука, и прежнюю, когда я был мальчишкой. Саверио – я это знал, хотя он ни разу не заговаривал со мной об этом, – давно уже хотел переехать отсюда, уговаривал Бетту продать квартиру и купить другую в районе, который бы соответствовал их статусу университетских преподавателей. Я сказал дочери, что она может продать квартиру, как и когда сочтет нужным, ведь я уже много лет не принадлежал этим улицам, этому городу. Но она была очень привязана к Неаполю и, в отличие от меня, ей была очень дорога эта квартира, или, если точнее, память о матери.
– Здесь, – сказал я малышу, показывая на опущенную железную ставню, сплошь покрытую непристойными надписями и рисунками, – здесь, когда я был маленьким, – жила одна толстая, прямо-таки громадная женщина, которая пекла витушки. Знаешь, что такое витушки?
– Крендельки с сахаром.
– Правильно. Иногда я покупал себе витушку и съедал ее, усевшись на этих ступеньках.
– Ты был маленький, как я?
– Мне было двенадцать.
– Тогда ты был уже большой.
– Ну, не знаю.
– Так и есть, дедушка, ты был большой: это я маленький.
Мы шли уже довольно-таки долго. Направились к церкви Святой Анны, потом к Порта Нолана. В начале прогулки Марио пытался остановиться у каждой лавчонки с разной китайской дребеденью, у каждого припаркованного мотоцикла или мопеда, чтобы рассмотреть их и продемонстрировать мне свои познания. Но поскольку я не останавливался, а тянул его дальше, он в конце концов стал послушно шагать за мной и почти все время молчал. А вот я время от времени что-то говорил ему, но только для того, чтобы напомнить себе: он здесь, я держу его за руку. Мои мысли были заняты другим, я снова и снова перебирал в памяти слова издателя, и, поскольку с каждым разом находил в них все меньше позитивного, мое изначальное раздражение превратилось в бешенство. В школе учителя не одобряли это выражение. Не надо так говорить, объясняли они, бешенство бывает у собаки, а у человека бывает гнев. Но в Неаполе, в кварталах Васто, Пендино, Меркато, где я вырос, а до меня выросли мой отец, мои деды и прадеды, возможно, даже и все мои предки, никто не говорил «гнев» – это было книжное слово, оно ассоциировалось с Ахиллом и другими литературными героями, – все говорили «бешенство». Те, кто заполнял эти улицы, площади и портовые причалы, люди тяжкого труда и мастера темных делишек, никогда не гневались, они впадали в бешенство. Это случалось с ними дома, или на улице, особенно когда они бродили по городу в поисках денег и не находили их.
Порой они едва не лезли в драку с другими бешеными. И что надо было говорить им во время этих приступов бешенства? «Ты в гневе?» – «Вы в гневе?» – «Они в гневе?» Не смешите меня. Язык, которому хотели научить нас в школе, на наших улицах был никому не нужен. Это был собачий город, и слово «гнев» не имело ничего общего с моими налитыми кровью глазами, когда я шагал по ближним улицам, например по этой, ведущей к проспекту Гарибальди. Когда я выходил из школы и ноги не несли меня домой, потому что глумливые одноклассники и садисты-учителя довели меня до самого настоящего бешенства, оно разрывало мне грудь, от него чуть не лопалась голова, и, чтобы успокоиться, я делал большой круг, спускался до Порта Нолана, иногда сворачивал на улицу Сан-Космо, а если кровь не переставала стучать в висках, шагал по кварталу Лавинайо, кварталу Кармине – одинокий и нелюдимый, пересекал равнодушные пространства, выходил к порту. Но если только кому-то случалось по рассеянности толкнуть меня, я начинал проклинать всех святых и мадонн, и это был не гнев, это было бешенство, я смеялся, изрыгая кощунственную брань, плевался, раздавал тумаки, надеясь, что кто-то даст мне сдачи. Сегодня никто из знающих меня не смог бы даже представить себе такое, но это чистая правда. Вот было бы хорошо, сказал я себе, вернуться сейчас в Милан тем мальчишкой, каким я был шестьдесят лет назад, направиться прямиком на проспект Генуи, где находится издательство, подняться на четвертый этаж и без всяких предисловий плюнуть в лицо самовлюбленному недорослю, который раскритиковал мою работу, – нет, не только эти две иллюстрации, но труд всей моей жизни. Жаль, что эпоха бешенства прошла, за минувшие годы я задушил его в себе.
– Ты знаешь, что такое бешенство? – спросил я у Марио.
– Так нельзя говорить, дедушка.
– А кто так говорит? Папа?
– Нет, мама.
– Ну ладно, ты и в самом деле не должен так говорить.
– Можно тебе сказать одну вещь?
– Все, что хочешь.
– У меня в горле пересохло.
– Устал?
– Да, очень.
– А что надо сделать, если ты устал и горло пересохло?
– Скажи сам.
– Выпить сок?
Мы зашли в первый же бар, который попался нам на пути; там не было света, ни дневного, ни электрического. Маленькое помещение, где пахло не кофе или сладостями, а застарелой грязью и табачным дымом. Когда глаза привыкли к полутьме, я огляделся, ища хотя бы пару стульев, но увидел только маленький круглый металлический столик в нескольких сантиметрах от стойки, за которой стоял тощий бармен лет сорока с большими залысинами и убирал стаканы. Я сказал ему: «Дайте нам фруктовый сок и чашку кофе, но сначала нам надо сесть, мы устали», – и показал на столик без стульев. Бармен оживился: «Титти, принеси два стула для синьора!» Из задней комнаты появилась девочка-подросток с двумя стульями из пластика и металла. Я сразу опустился на один из них, Марио вскарабкался на другой. Девочка сказала: «А вы бледный», – и подала стакан воды. Я отпил глоток и поблагодарил ее.
– Какой сок ты хочешь? – спросил я у Марио.
Он серьезно задумался, а затем сказал:
– Яблочный.
– Какой милашечка! – воскликнула девочка.
Бармен и девочка говорили на неаполитанском диалекте. Этот язык был моей неотъемлемой частью – и в то же время представлял собой набор странных, чуждых звуков. Ко мне обращались благожелательным, почти слащавым тоном, но это не могло изменить исконного звучания слов – резкого, угрожающего. Только в этом городе, подумал я, люди могут помочь тебе с такой нерассуждающей готовностью и в то же время способны сию минуту перерезать тебе горло. А я сейчас уже разучился быть агрессивным и любезным на неаполитанский манер. Наверно, мои клетки исторгли частицы былой ярости, чтобы захоронить их, как токсичные отходы, в потайных местах, и в какой-то момент во мне возобладала другая любезность, холодная и церемонная, совсем не похожая на искреннее дружелюбие этого мужчины, который мгновенно приготовил мне кофе, и девочки, которая подала мне его на подносе вместе с соком для Марио, словно между столиком и стойкой было большое расстояние, и я не смог бы сам, протянув руку, взять чашку с блюдцем, а потом стакан.
– Дедушка.
– Да?
– Тут нет соломинки.
Девочка снова ушла в заднюю комнату (я представлял ее себе мрачным подвалом, вырытым под зданием) и тут же вернулась с соломинкой. Марио начал тянуть через нее сок, а я – пить кофе. Он оказался хорошим, и мне, впервые за долгие годы, захотелось курить. От этого внезапно вспыхнувшего желания я стал лучше видеть и разглядел над стойкой полку, уставленную пачками сигарет. Здесь продавался табак. Я попросил пачку «MS» и коробок спичек. Бармен дал их девочке, а она передала мне.
– Курите, – предложил мне бармен и широко взмахнул рукой снизу вверх.
– Спасибо, я покурю на улице.
– Нет ничего лучше, чем сигарета после кофе.
– Это правда.
– Ну так курите.
– Спасибо, но все-таки нет.
У меня возникло желание нарисовать этого человека, его добродушно-снисходительный жест, и я достал фломастер и блокнот. Мне хотелось отсюда, из темной глубины города, где я родился, крикнуть издателю: таков мой способ существования в этом мире, как ты посмел плохо отозваться о нем?! Я рисовал быстро, словно боясь, что бармен, девочка и бар вот-вот растают в воздухе или растаю я сам. Марио, шумно потягивая сок через соломинку, повернул шею, чтобы посмотреть, что я делаю; даже девочка, подойдя ко мне, крикнула неожиданно радостным голосом:
– Папа, иди сюда!
Бармен вышел из-за стойки, взглянул на рисунок и произнес на правильном итальянском языке (правда, не без труда и не без смущения):
– А здорово у вас получается.
Марио вмешался:
– Мой дедушка – знаменитый художник.
– Это видно, – сказал бармен и добавил: – Я тоже когда-то умел рисовать, а потом у меня это прошло.
Я недоуменно взглянул на него – меня поразило, что он говорит о своем увлечении как о болезни, – и закрыл блокнот. Что позволило мне оторваться от этого города, чувствовать себя все более и более далеким от него, и в хорошем, и в плохом, далеким от таких людей, как этот бармен, хотя, несмотря на разницу в возрасте, его детство и юность были похожи на мои собственные? А эта девочка – ровесница Мены, которую я любил много лет назад, до того, как эти улицы (она жила поблизости) забрали ее на всю оставшуюся жизнь. Несколько месяцев нам с ней было хорошо вместе. Но потом как-то вечером Мена надолго прильнула ко мне в крепком поцелуе – и больше не захотела со мной видеться. В то время я уже начал отвыкать жить так, как следовало, как учили жить нас всех. Я занимался рисованием, живописью и благодаря моим способностям вел беззаботное существование. Казалось бы, это должно было ей нравиться; однако именно из-за этого я стал ей противен, словно на лице у меня вырос огромный лиловый прыщ. Подумаешь, он умеет человечков рисовать! Вообразил, будто сможет стать знаменитостью! У тебя даже водительских прав нет, сказала она за несколько дней до разрыва, ты не можешь покатать меня на машине, и, хоть и живешь в красивом доме, мама не может купить тебе новые ботинки, а иногда вам даже есть нечего, потому что твой отец проигрывает зарплату в карты.
Она была права. Весь квартал знал, что мой отец игрок, способный поставить на карту последние деньги, причем не ради выигрыша – выигрывал он редко, – а только ради того, что он называл «дрожью»: возможности ощутить подрагивающие в руке карты, искоса бросать на них взгляд, медленно, одну за другой открывая их, чувствовать эту живую, изменчивую материю под пальцами, которые пытаются придать ей ожидаемую, желаемую форму, почти что придумать ее заново. Я ненавидел отца. Все мое детство и юность я постоянно ломал голову над тем, как не стать похожим на него, как не унаследовать его пороки. Хотелось найти в себе какую-то индивидуальную черту, которая не передалась мне с его кровью, а была бы моей, и только моей. И я нашел; это была способность воспроизводить все увиденное с помощью карандаша и бумаги. Но когда я продемонстрировал этот свой дар Мене, она сначала застыла с открытым ртом, а потом начала насмехаться надо мной. «По-твоему, если ты можешь превратить нас всех в героев кукольного театра, это значит, что ты особенный?» – говорила она. Вскоре она познакомилась с ребятами, у которых были водительские права и которые по субботам могли катать ее на машине. «Ты воображала!» – заявила она однажды – и бросила меня.
Я ждал, когда Марио допьет сок, но было ясно, что допивать ему не хочется. Вместо того чтобы тянуть сок через соломинку, он дул в нее, и жидкость в стакане бурлила, издавая противный хлюпающий звук, а время от времени он с улыбкой поглядывал на меня, чтобы понять, одобряю ли я эту его выдумку. Хватит, сказал я ему. Расплачиваясь, я оставил девочке чаевые.
– Это много! – запротестовала она, бросив вопросительный взгляд на отца.
– Кофе был хороший, – сказал я.
– И сок тоже, – вмешался Марио.
– Спасибо, – сказал бармен, имея в виду чаевые, и мне показалось, что он уже смотрит на меня с неприязнью, словно я, платя за кофе и оставляя чаевые, ухитрился при этом что-то незаметно стащить.
Мы вышли. На небе между белоснежными облаками проглядывала лазурь, но опять поднялся ветер. Я вытащил из пачки сигарету, а Марио посмотрел на меня удивленными глазами:
– Дедушка, курить нельзя.
– Дедушка старый, ему можно делать все, что он хочет.
Какой чудесный аромат. Когда Мена еще была со мной, я развлекал ее, зажигая спички на ветру. Помещал крохотный, еще не разгоревшийся огонек в укрытие между ладонью и коробком, и делал это так быстро, что ветер не успевал его задуть. Я попробовал повторить это сейчас. Чиркнул спичкой, огонек зажегся, но сразу же погас, и я не успел прикурить. Я попробовал во второй раз, в третий. Марио смотрел на меня. В итоге мне, чтобы прикурить, пришлось зайти в какую-то подворотню. Вот и еще один навык, который я утратил, – с ухудшением координации движений пропала их непринужденность. На мгновение я почувствовал себя ничтожной частицей бесконечного процесса распада, пылинкой, которой вскоре суждено присоединиться к массе органических и неорганических отложений, накапливающихся на земле и на дне морском с палеозойской эры.
– Пойдем домой! – попросил Марио.
– Ты устал?
– Да.
– В садике было лучше, чем с дедушкой?
– Нет.
Он взглянул на меня снизу вверх и сделал несчастное лицо:
– Возьмешь меня на ручки?
– Даже не думай.
– Но я устал, и ноги болят.
– Я тоже устал, и у меня болит колено.
– У тебя только колено, а у меня вся нога болит.
В нашем словесном поединке то и дело слышалось «я», «у меня», мы сражались ими, как мечами. В итоге я взял Марио на руки, сказав: «Ровно на пять минут, не больше». Книжки ему понравились, а картинки – нет. «Слишком темные, – сказал он. – В следующий раз сделай их светлее». И так он отозвался не о тех двух иллюстрациях, которые я наспех, кое-как сделал перед отъездом, чтобы послать издателю, а о работах, созданных много лет назад, дорогих моему сердцу и в свое время имевших большой успех. И я поверил ему, хотя всегда считал эти книжечки очень удачными. Вот так за несколько секунд разлетаются на мелкие осколки наши устоявшиеся мнения, наша твердая уверенность. Возможно, подумал я, мои иллюстрации уже ничего не могут сказать ребенку.
8
Когда мы вернулись, в квартире все блестело – Салли навела чистоту и порядок. На кухне стол был уже накрыт на двоих, и мы с Марио съели обед, который она нам приготовила. Мне хотелось немного соснуть, я чувствовал огромную усталость, после того как достаточно долго нес Марио на руках и не без труда убедил его, что не смогу донести до самого дома. Но стоило мне прилечь, как Марио разложил свои игрушки в ногах кровати и начал играть, явно рассчитывая, что рано или поздно я тоже приму в этом участие. Тогда я решил отказаться от отдыха и сказал ему: «Ты поиграй, а дедушка пока поработает». Он не ответил и, чтобы скрыть разочарование, сделал вид, что слишком увлечен игрой.
Я перенес в гостиную карандаши, фломастеры, альбомы, ноутбук – все, что привез с собой из Милана. Хотел собраться с мыслями и еще раз перечитать отрывки из рассказа Джеймса, который должен был проиллюстрировать. Но во время чтения мне почему-то вспомнился человек из бара, и я стал искать в блокноте зарисовки, сделанные там. Если бармен и в самом деле когда-то умел рисовать, а потом излечился от этого, словно от лихорадки, то он был живым воплощением нереализованной возможности. Вероятно, именно поэтому мне захотелось его нарисовать. Именно поэтому я на мгновение увидел (а затем нарисовал) рядом с ним какой-то белый силуэт, а его самого изобразил с асимметричным, изрытым морщинами лицом, грубыми, короткопалыми руками. Я попробовал скопировать этот эскиз на листе большего формата. Бармен – это была жизнь в ее законченной форме, в ее длительности, а неясный белый силуэт – да, это была воображаемая жизнь. Впрочем, я ошибся, нарисовав их рядом. Возможно, когда-то они были очень близки, но судьба методично загнала бармена в капкан, и тогда их расставание стало неизбежным. И я спросил себя: откуда появился я сам и с чем расстался? Этот вопрос уже начал порождать образы, когда я услышал голос Марио:
– Дедушка, что ты там делаешь? Иди сюда, папа вернулся!
Саверио, еще не сняв плащ, заглянул в гостиную; однако он сказал сыну: «Не мешай дедушке». Вид у него был мрачнее мрачного, он пробурчал, что Бетта в университете, причем «университет» произнес так, словно это было не место работы, а притон, где моя дочь пила, нюхала кокаин и, задрав юбку, распевала хриплым голосом. Я не стал это комментировать, а он сказал мне, что закроется у себя в кабинете, чтобы добавить последние штрихи (он употребил именно это слово) к своему докладу. Марио не пошел за отцом, он стоял в ожидании на пороге гостиной и молчал. Это называется «не мешай дедушке»! Вздохнув, я встал и сказал ему: «Ладно, пойдем посмотрим твои игрушки».
Он сразу повеселел, захотел показать их каждую по отдельности – а их было много. Он назвал по именам всех своих обожаемых кукол (на мой взгляд, они были отвратительны) и объяснил, что они умеют, а затем, не спросив, хочу ли я играть, ввел меня в мир своей фантазии, уже вполне организованный мир, внутри которого я должен был делать в точности то, что он скажет. Стоило хоть чуть-чуть ошибиться, и он добродушно выговаривал мне: «Нет, ты не понял, ты – лошадка, видишь, ты же лошадка?» Стоило мне отвлечься, и он обижался, спрашивал меня серьезным тоном: «Ты что, больше не хочешь играть?»
Ошибался я часто, а отвлекался еще чаще. Я словно отупел от скуки и незаметно для себя стал мысленно перечитывать рассказ Джеймса, вглядываться в портрет бармена. На несколько секунд передо мной появлялись прообразы будущих иллюстраций, они казались мне удачными, и я прямо сейчас попробовал бы закрепить их на бумаге. Но тут Марио говорил мне: «Осторожно, дедушка, за тобой гонится медведь (или какой-нибудь другой хищник, который, по его мнению, именно в этот момент собирался напасть на меня – ведь я был лошадкой)». Или меня попросту начинал одолевать сон, потому что сила детского воображения блокировала, подавляла мое собственное, и я чувствовал, как глаза у меня слипаются. Я приходил в себя только от строгого голоса Марио, который звал меня и сильно дергал за рукав.
Мальчик явно был недоволен тем, что я участвовал в игре так вяло и неохотно, и в какой-то момент произнес: «Пойду к папе, спрошу, хочет ли он поиграть с нами». Я понадеялся, что смогу немного отдохнуть, улегся на кровать и задремал. Но почти сразу же проснулся: пришел Марио и скучным голосом сообщил, что папа обещал прийти поиграть, как только закончит работу. А пока давай поиграем вдвоем, предложил он без энтузиазма. Приподнявшись на локтях, я спросил его:
– У тебя есть друзья?
– Один есть.
– Только один?
– Да, он живет на втором этаже.
– Здесь, в этом доме?
– Да.
– И ты не ходишь к нему в гости?
– Мама не разрешает.
– А он к тебе?
– Нет, ему не разрешают.
– Он что, совсем маленький?
– Ему шесть лет.
– Так он большой.
– Да, но его все равно к нам не пускают.
– Какая же это дружба, если вы с ним не общаетесь?
Марио объяснил мне, что дружить им помогает балкон. Он спускает на второй этаж ведерко и обменивается разными вещами с другом, которого зовут Аттилио.
– Какими вещами?
– Игрушками, карамельками, пакетиками с соком – в общем, всем.
– То есть ты кладешь в ведерко твои вещи и отдаешь ему, а он кладет туда свои для тебя?
– Нет, вещи кладу только я.
– И твой друг их забирает?
– Да.
– Получается, он крадет твои вещи?
– Не крадет, а берет в долг.
– То есть потом он возвращает тебе то, что взял?
– Нет, мама приходит и забирает.
– Мама при этом сердится?
– Очень сердится.
Я понял, что перемещения ведерка с этажа на этаж создали проблемы для Бетты и вызвали напряженность между двумя семьями. Единственным, кто считал мальчика со второго этажа другом Марио, был сам Марио.
– Хочешь посмотреть, как я спускаю ведерко? – заискивающим тоном спросил он.
Я взглянул в стеклянную дверь балкона: в сумерках еще можно было различить ограждение, ведерко и веревочку.
– Нет, на улице холодно. И потом, я боюсь выходить на балкон.
Малыш улыбнулся:
– Боишься? Но ты же большой.
– Моя мама, то есть твоя прабабушка, тоже боялась.
– Неправда!
– Очень даже правда. Она боялась пустоты.
– Что такое пустота?
Я понял, что у меня не хватит терпения, более того, не хватит сил объяснить ему, что это такое. Поэтому я небрежным тоном ответил:
– Это неинтересно.
Между тем Саверио так и не появлялся. Я предложил взять одну из подаренных мной книг и прочитать сказку. В итоге я прочитал четыре и совершенно выдохся, когда наконец вернулась Бетта, очень встревоженная.
Заглянув в комнату, она увидела, что я и Марио лежим на раскладушке – я начал читать пятую сказку, Марио был весь внимание.
– Хватит сидеть с дедушкой, – сказала она, – сейчас он нужен мне.
Мы пошли на кухню. Бетта спросила, прочитал ли я список всего того, что я должен был сделать или проконтролировать в ее отсутствие. Я честно признался, что нет. Тогда она провела меня по всей квартире, повторяя пункт за пунктом то, что уже изложила мне накануне вечером. За ужином она сделала это опять, а раздраженный Саверио два или три раза негромко произнес: «Бетта, твой отец не дурак, он уже все усвоил». Но после ужина, не закончив собирать вещи, она опять взялась за наставления, и на этот раз не зря. Как выяснилось, она забыла кое-что важное – дать мне телефон педиатра, телефон подруги, которая может помочь в трудной ситуации, телефон сантехника, на случай, если, скажем, сломается душ или забьется сток в ванной.
– Ты сказала мне, что я могу рассчитывать на Салли, но оказалось, что послезавтра она не сможет прийти, – нерешительно сказал я.
И получил жесткий ответ:
– А в чем проблема? Она вам все оставит в морозильнике. Не надо нервничать по всякому поводу, папа.
– Я нервничаю, потому что у меня плохо идет работа.
– Тогда не надо терять время с Марио. Зачем было читать ему сказки? Скажи ему, что тебе надо работать, и увидишь, он найдет чем себя занять. Только, пожалуйста, не оставляй его одного перед телевизором, спрячь от него пульт.
– Хорошо.
– И не давай ему подолгу торчать на балконе, особенно когда холодно. Саверио позволил ему играть там с ведерком, но я этого не одобряю. Мальчик со второго этажа ворует у него игрушки, а ходить туда и скандалить, чтобы получить их обратно, приходится мне.
– Кто будет водить его в садик? Я?
– Да, ведь садик от нас в двух шагах. Я написала тебе адрес на бумажке и предупредила воспитательниц.
– А можно я не буду его туда водить?
– Делай как хочешь. Спокойной ночи, папа.
– Спокойной ночи.
– Я буду звонить тебе каждый вечер перед ужином, узнавать, как дела. Пожалуйста, всегда подходи к телефону, а то я буду беспокоиться.
Уложить ребенка спать она поручила мне. Войдя в комнату, я увидел, что он сидит в пижаме на моей кровати и вертит в руках мой мобильник. Я отобрал у него телефон, возможно, немного слишком резким движением, и сказал:
– Это телефон дедушки, его нельзя трогать.
– Папа позволяет мне брать его телефон.
– А я не позволяю брать мой.
– Твой телефон плохой, в нем нет игр.
– Значит, тебе незачем его брать.
Я положил мобильник на верхнюю полку стеллажа, уставленную безделушками, чтобы Марио не мог до него добраться. Он погрустнел и серьезным голосом попросил меня прочитать ему еще одну сказку. Я ответил, что сегодня уже прочитал ему четыре и что он уже достаточно большой, чтобы засыпать без сказки, как дедушка. Затем я улегся на свою кровать, а он на свою. Я погасил свет. И до меня донесся крик Саверио: «Ты не можешь перенести, что я способнее тебя, и делаешь все, чтобы унизить меня перед этими ничтожествами, с которыми мне приходится работать!» Ответа Бетты я не расслышал. Всю ночь я проспал глубоким сном.
Глава вторая
1
Первый день, проведенный вдвоем с Марио, оказался полон маленьких происшествий, от которых мое беспокойство только усилилось. Я проснулся с трудом, и понадобилось какое-то время, чтобы я понял, где нахожусь. Когда я осознал, что уже почти восемь утра, я вскочил с кровати, не успев стряхнуть с себя сон, и взглянул на кровать Марио. Мальчика там не было. У меня заколотилось сердце: Бетты и Саверио, конечно, уже нет дома, они уехали очень рано, чтобы вовремя добраться до аэропорта, так где же Марио? Я обнаружил его на кухне, он перелистывал одну из книг, которые я ему подарил. Стол был аккуратно накрыт на двоих. Я подумал, что это сделала Бетта перед отъездом, но Марио, едва завидев меня, удовлетворенно улыбнулся и произнес:
– Дедушка, я поставил сахар с моей стороны, ты ведь пьешь чай без сахара.
Он рано проснулся, не стал меня будить, съел четыре сухарика и накрыл на стол.
– Но я не стал включать газ, дождался тебя.
– Молодец. Только запомни: завтра, когда проснешься, сразу буди меня.
– Я тебя позвал, но ты не ответил.
– Я слишком устал накануне, больше это не повторится.
– Ты устал потому, что нес меня на руках?
– Да.
Я приготовил ему горячее молоко, а себе чай. Он жадно выпил молоко и съел много печенья с шоколадом. А потом спросил:
– Я сегодня не пойду в садик?
– А хочешь?
– Нет.
– Тогда не пойдешь.
Он выразил бурную радость, потом взял себя в руки и осторожно спросил:
– Поиграем после завтрака?
– Мне надо работать.
– Все время?
– Все время.
В ванной он меня просто замучил. Чтобы почистить зубы и умыться, встал на скамеечку, но при этом у него намокла футболка, и он проинструктировал меня, где найти другую, на смену. Когда мне наконец удалось заставить его полностью одеться, он произнес загадочную фразу: «Мне надо идти». Вернулся в ванную, поставил скамеечку перед унитазом, сбегал за моей книжкой сказок, положил ее на скамеечку, спустил штаны и сел на унитаз.
– Закрой дверь, дедушка, – сказал он, не отрывая глаз от книги, которая лежала перед ним раскрытая, как на пюпитре.
Я закрыл дверь и вернулся в гостиную, где все было приготовлено для работы. Но через несколько минут он позвал меня:
– Дедушка, всё.
Пришлось опять раздевать его, опять мыть. Когда настало время одеваться, он, разумеется, захотел сделать это сам, но с невыносимой медлительностью и под моим наблюдением.
Пришла Салли, и я вздохнул с облегчением. Она явилась в облике светской дамы, которая, несмотря на лишний вес, умеет элегантно одеваться. Однако она сразу же закрылась в чулане в конце коридора, рядом с комнатой Марио, и вышла оттуда в линялой майке, бесформенных домашних брюках и тапках – тучная как никогда.
– Займитесь ребенком, мне надо работать, – сказал я.
На этот раз она была в хорошем настроении и решила быть покладистой.
– Ладно, иди, не беспокойся, Марио – хороший мальчик. Правда, Марио, ты хороший мальчик?
Марио спросил:
– Дедушка, можно я посмотрю, как ты рисуешь?
– Нет.
– Я сяду рядом, не буду мешать, буду рисовать сам.
– Дедушка не играет, – сказал я, – дедушка работает.
И я закрылся в гостиной. Но уже через несколько минут понял, что у меня нет ни малейшего желания продолжать работу над Генри Джеймсом. Я грузно опустился на стул. Я сегодня спал очень долго, гораздо дольше, чем привык, и все же чувствовал себя вконец измотанным, и мне совсем не хотелось заняться делом, которым я, однако, с удовольствием занимался всю жизнь. И более того, я вдруг понял, что представляю себе свое тело – свое теперешнее тело – без навыков и умений, когда-то делавших мое существование осмысленным. Пока я предавался этим раздумьям, во мне нарастала осознанная жажда самоуничижения. На мгновение я увидел перед собой обыкновенного, ничем не примечательного старика: он ослаб, нетвердо держится на ногах, плохо видит, его без причины вдруг бросает в пот или пробирает озноб, у него пропадает работоспособность, которую удается оживить лишь на время, вялым усилием воли, порывы энтузиазма у него наигранные, а приступы тоски – вполне искренние. Мне показалось, что я вижу автопортрет и что он верно изображает меня не только сегодня, в Неаполе, в доме моего детства, но – волна депрессии поднималась все выше – и в течение последних десяти или пятнадцати лет моей жизни в Милане, просто сейчас он стал четче и ярче. До сих пор я воображал, что полностью сохранил свои творческие способности. Моя жизнь в искусстве шла ровно и спокойно, без неожиданных взлетов и, как следствие, без внезапных падений. Когда пришел успех, это казалось мне естественным, я ничего не делал ни для того, чтобы его добиться, ни для того, чтобы его сохранить, просто мои произведения заслуживали успеха, вот и все. Возможно, именно поэтому у меня так долго сохранялось ощущение, что я – некая субстанция, не поддающаяся порче. И, как следствие, я не отдавал себе отчета в том, что работы у меня все меньше, что на важные события меня приглашают все реже, что на смену миру, где я пользовался определенным авторитетом, пришли другие миры, появление которых я не смог заметить вовремя, в которых действовали другие группы влияния, не имевшие понятия обо мне, молодые, напористые люди, никогда не видевшие моих работ и искавшие знакомства со мной, только чтобы понять, смогу ли я способствовать их продвижению. Вот почему, говорил я себе, я уже не могу игнорировать признаки упадка, они ошарашивают меня, как слишком громкие звуки, разбивающие стекло: оскорбительный звонок издателя, надолго иссякшее вдохновение; и моя дочь, моя единственная дочь, которая заперла меня здесь, навязав мне роль старенького дедушки.
Я тяжело вздохнул и заметил, что безотчетно повторяю жест Марио – взмах рукой снизу вверх. И я даже обрадовался, когда меня позвала Салли. «Дедушка, – кричала она приторным голосом. – Дедушка!» Очевидно, она не знала, как ко мне обращаться, и называла дедушкой, считая это лучшим вариантом. Или же, поскольку я был дедом Марио, для нее я был воплощением самого понятия «дедушка» – чей-то дедушка, может, даже ее собственный, хотя, черт возьми, она была далеко не молода. Постучав в дверь и тут же заглянув в комнату, она громко произнесла:
– Извини, дедушка, но Марио включил телик и не хочет выключать.
– В смысле?
– Ну, он включил телевизор. Синьора Бетта сказала тебе, что ему нельзя смотреть телевизор?
– Да.
– Ну, так сделай что-нибудь, дедушка.
– Не называйте меня так, я не ваш дедушка и не чувствую себя дедом даже с Марио.
С приглушенным стоном я встал и вслед за Салли вышел в коридор. Из телевизора доносилось гудение самолета, прерывавшееся очень громкими мужскими голосами.
– Где Марио?
– В кабинете синьора Саверио.
– Салли, если Марио делает что-то, чего ему делать нельзя, вы просто должны помешать ему это делать, и вам незачем звать меня.
– Но он меня не слушается. И я не могу дать ему пощечину, а ты можешь.
– Дать пощечину четырехлетнему ребенку?
– Тогда садани ему по рукам.
– Я не знаю, что такое «садануть».
На самом деле я знал, что значит это слово, но оно вызывало у меня отвращение, потому что принадлежало поколению, которое впервые стало разговаривать с детьми на языке взрослых.
– А синьора Бетта говорит «садануть».
– Так пускай мама саданет ему по рукам, когда вернется.
Я пошел за Салли в кабинет Саверио, пропахший чесноком и стиральным порошком. Марио сидел перед телевизором и, когда мы вошли, резко обернулся.
– Я говорила, что позову дедушку, – и позвала! – сказала Салли.
– Нехорошо ябедничать, – ответил Марио.
– Иногда приходится, – вмешался я, – если иначе нельзя. К тому же телевизор так орет, что я не могу работать. Выключи его.
– Я могу убавить звук, – сказал Марио и схватил пульт.
Я отобрал у него пульт и выключил телевизор. Потом начал терпеливо объяснять:
– Марио, лично я не возражаю, чтобы ты смотрел телевизор когда захочешь, хоть утром, хоть днем, хоть вечером. Но твоя мама против, а раз так, то мы с Салли тоже против. Вот почему, когда Салли говорит тебе «выключи телевизор», ты должен его выключить. А если я говорю тебе «выключи телевизор», не отвечай мне, что можешь убавить звук. Понятно?
Марио кивнул, глядя в пол. Затем поднял взгляд на пульт, который я держал в руке, и потянулся к нему.
– Можно я покажу тебе, как он открывается и видно батарейки внутри?
– Нет, я тебе его больше не дам.
– А что я тогда буду делать?
– Пойди поиграй.
– На балконе?
– Нет.
– Там солнышко.
– Я сказал – нет.
– Тогда можно я посмотрю, как ты рисуешь?
Он не сдавался, маленький упрямец. Я посмотрел на него долгим взглядом – думаю, чтобы дать ему понять: я категорически против. Но когда я заметил, что верхняя губа у меня взмокла от пота, то поспешил согласиться:
– Ладно, смотри, но только не мешай мне.
– Не буду мешать.
– Ты не должен говорить: дедушка, я хочу это, давай делать то.
– Не буду говорить.
– Ты должен сидеть на месте и молчать.
– Хорошо. Только сначала я сделаю пипи.
Он убежал, я услышал, как он закрывает дверь ванной. Салли, которая все это время молчала, воспользовалась его отсутствием, чтобы раскритиковать меня:
– Дедушка не ведет себя так.
– Что вы имеете в виду?
– Ты напугал бедного малыша.
– Вы же хотели, чтобы я надавал ему пощечин.
– Надавать пощечин – это ничего, а вот так вот нельзя.
– Как это «вот так вот»?
– Разговаривать сердитым тоном. Если ты занят и нервничаешь, я сама побуду с малышом.
Мне не показалось, что я разговаривал с Марио каким-то особенным тоном; а вот с ней мне, возможно, следовало быть менее сговорчивым. Марио вернулся бегом, глаза у него были красные, словно он долго тер их кулачком.
– Я готов.
Я спросил его, стараясь говорить как можно более радостным голосом:
– Чего тебе больше хочется: смотреть, как работаю я или как работает Салли?
Он задумчиво посмотрел на Салли, делая вид, будто колеблется, потом повернулся ко мне и закричал с несколько преувеличенной веселостью:
– Как работаешь ты!
И бодрой походкой направился в гостиную. Я сказал Салли: «Как видите, он предпочитает мое общество». Похоже, она не была убеждена в этом, но ответила только, что идет на кухню готовить. Я смотрел, как она выходит из кабинета Саверио, – она сутулилась и от этого казалась еще меньше ростом. И тут я вдруг вспомнил: завтра она не придет, мы с Марио целый день будем вдвоем. Я предложил ей: «Приходите завтра, я сам оплачу вам этот день, пробудете у нас с девяти утра до восьми вечера, вам не надо будет убирать, только приглядывать за Марио». Не оборачиваясь, она ответила: «Завтра у меня важный день, от него зависит мое будущее». Опять она про будущее! Да какое будущее могло быть у этой старой кошелки? Я вернулся в гостиную.
2
Марио переставлял стул так, чтобы он стоял как можно ближе к моему.
– Можно я возьму твой компьютер? – спросил он.
– И речи быть не может.
Я не сразу смог заставить себя сесть за работу. Вдруг возникло желание взять мобильник, позвонить издателю и крикнуть: «Плевать мне на «кислород» и на «блеск», объясни простыми словами, что тебя не устраивает, а иначе я откажусь от этого заказа и от жалких грошей, которые ты мне платишь, потому что не хочу тратить время зря». Но я этого не сделал, меня снова одолели тревожные мысли о старости, как уже было сегодня. Мне нужна была эта работа, и не из-за денег – у меня были сбережения и квартира в Милане, я был обеспеченным человеком, – а потому, что перспектива жизни без необходимости работать приводила меня в ужас. Больше пятидесяти лет я постоянно должен был думать о том, чтобы уложиться в срок, и всякий раз меня дергали и торопили; и боязнь не справиться с очередным заказом, а затем радость от того, что я сумел выполнить его на должном уровне, – без этого перепада эмоций (я только сейчас признался себе в этом) я не представлял себе свою жизнь. Нет, нет, лучше еще какое-то время говорить знакомым, дочери, зятю, а главное, самому себе: я должен работать над Генри Джеймсом, работа почти не движется, надо придумать что-нибудь, и как можно скорее. Так что я, чувствуя на себе внимательный взгляд Марио, начал еще раз просматривать мои эскизы, особенно наброски, сделанные двое суток назад.
Вначале я занимался этим только для самоуспокоения. Перелистывал альбом, принюхивался к аппетитным запахам, которые проникали в комнату, несмотря на закрытую дверь, а время от времени краем глаза поглядывал на малыша, который, соблюдая наш с ним уговор, сидел молча, не скрипел стулом, казалось, даже не дышал. Он смотрел на эскизы не отрываясь, вместе со мной, как если бы мы соревновались, кто раньше устанет. Но в какой-то момент я о нем забыл. Мне пришла идея использовать зарисовки квартиры, какой она была много лет назад, превратить ее в нью-йоркский дом, где происходит действие рассказа Генри Джеймса. Эта возможность вдохновила меня; вот прекрасная отправная точка – создать некий гибрид американского интерьера девятнадцатого века с неаполитанским интерьером середины двадцатого. Замечательно. Я тут же начал выделять карандашом из беспорядочной массы рисунков, покрывавших лист, детали, которые были мне нужны. И так увлекся, что, когда Марио негромко позвал меня (в этот момент все получалось, у меня в голове возникли необычайно ясные, четкие образы), я резко ответил: «Сиди тихо, ты же обещал». Но он жалобно повторил:
– Дедушка!
– Как мы с тобой договаривались?
– Я должен молчать и не шевелиться.
– Вот именно!
– Но мне надо сказать тебе одну вещь, только одну.
– Ладно, скажи одну вещь – и всё.
Он показал на несколько штрихов, сделанных черным фломастером в правом углу страницы, которую я рассматривал. И сказал:
– Это ты.
Я взглянул на рисунок, вернее, на каракули. Возможно, это было изображение юноши, сжимающего в руке нож, или маленького мальчика со свечой, но выглядело все как-то неопределенно, словно рука оказалась в углу листа неожиданно для себя самой. Когда я нарисовал его? Прошлой ночью, десять минут назад? Линии словно сворачивались клубком, так быстро, что исчезали, едва показавшись. Это мне понравилось. Я вспомнил один трюк, который удавался мне в детстве, и порадовался, что все же сумел сохранить хоть что-то от моего дара рисовальщика с той поры, когда жил в этой квартире с родителями и братьями. Хорошая находка, надо ее использовать, подумал я. И спросил мальчика:
– Тебе нравится?
– Не очень, я тебя немножко боюсь.
– Это не я, это каракули.
– Это ты, дедушка, сейчас сам увидишь.
И он с решительным видом слез со стула.
– Куда ты?
– За альбомом с фотографиями, идем со мной, и рисунок возьми.
Он подождал, когда я встану, и взял меня за руку, как будто кто-то из нас мог потеряться по дороге. Когда я открыл дверь в коридор, оттуда нахлынула волна холодного воздуха. Конечно же, Салли распахнула все окна, чтобы проветрить комнаты и высушить вымытые полы, и в итоге основательно выстудила квартиру. С улицы доносился оглушительный шум – ведь сейчас нас не защищали от него двойные стекла. Мы зашли в кабинет Бетты; там тоже были открыты окна, и грохот машин приглушал далекие крики, – казалось, кто-то хлопает по ковру выбивалкой. Марио подтащил стул к стеллажу с дверцами, я попытался остановить его.
– Скажи, где альбом, я сам его достану, – предложил я, но он не послушался, ему очень хотелось вскарабкаться наверх. Повернув ключ в замке, он отпер одну из дверец, достал старинный альбом в темно-зеленом переплете и протянул мне.
– Теперь надо закрыть, – напомнил я.
Он закрыл дверцу.
– На ключ.
Он ловко повернул ключ в замке.
– Ты гном, – сказал я.
– Нет.
– Да-да, ты гном.
– Неправда, я не гном, я мальчик, – рассердился Марио.
– Ну ладно, извини, ты мальчик, дедушка глупый и говорит глупости, не обращай внимания.
Я помог ему спрыгнуть со стула, однако на этот раз он попытался высвободить руку, хотел спрыгнуть самостоятельно, но я ему не позволил, – а когда с торжествующим криком приземлился, спросил меня:
– Ты хотел сказать, что я – Семьгном?
– Да, – согласился я. И объяснил ему, что он зря обиделся, что это был комплимент, означавший: для своих лет ты очень смышленый и многое умеешь. Затем я положил альбом на письменный стол и спросил, где фотография, которую он хотел мне показать. Я прекрасно знал этот альбом, в нем были семейные фото моей матери, потом к ним добавились фото моей жены, а после ее смерти – семейные фото Бетты.
Марио перелистал альбом с видом знатока и показал мне снимок, на котором я был запечатлен с матерью и братьями. Я совсем забыл о нем – наверно, я всегда смотрел на него холодно и отстраненно, так как считал, что все происходившее со мной в отрочестве было навязано мне против воли. Это фото, по-видимому, сделал мой отец: он смотрел на нас, сидя в машине, а мы смотрели на него. Мама и братья улыбались, а я – нет. Сколько мне было тогда – двенадцать, тринадцать? Собственное лицо показалось мне отвратительным – длинное, узкое, с расплывчатыми чертами, словно у незавершенной статуи. Время пощадило снимок, ни один миллиметр на нем не потускнел – кроме моего изображения. Впрочем, возможно, это был дефект экспозиции, от которого пострадал только мой силуэт. У меня не было ни носа, ни рта, глаза были спрятаны под надбровными дугами, волосы растворились в белизне облачного неба. Это мгновение, зафиксированное объективом, вызвало у меня только одну ассоциацию – с той ненавистью, которую я тогда испытывал к отцу. Я ненавидел его за то, что он был игрок, за то, что он не умел с достоинством переносить нищету, за его неизбывную злобу, которую он срывал на нашей матери и на нас, когда ему нечего было поставить на карту. Я вновь ощутил эту ненависть – и сейчас она была мне противна.
– Видишь теперь, что это ты? – спросил Марио.
– Ничего подобного.
Он положил рисунок рядом с фотографией.
– Не ври, дедушка, это ты.
– Я не был таким, просто фотография плохая.
– Но ты же себя таким нарисовал, вот, посмотри. Ты здесь очень некрасивый.
Я вздрогнул:
– Да, так и есть, но с твоей стороны было нехорошо говорить мне об этом.
– А папа говорит, что надо всегда говорить правду.
Я подумал, наверно, это Саверио сказал ему, что я некрасивый, и не только на этом снимке, но, возможно, и в жизни. Чтобы люди симпатизировали друг другу, их телесные оболочки, эти частицы природы, должны иметь в себе нечто схожее, а мы с зятем не чувствовали никакого сходства между нами. Опять я услышал крики, удары выбивалки по ковру стали громче. Я посмотрел на фасад дома напротив: там никто не скандалил, не выбивал ковер. Я сказал:
– Дедушка не только очень некрасивый, дедушка еще и немножко глухой. Ты слышишь, как кто-то кричит?
Марио ответил, закрывая альбом:
– Да, это Салли.
– А почему ты раньше не сказал?
– Чтобы не мешать тебе.
Я подергал себя за мочку правого уха, мне казалось, что от этого я лучше слышу. Крики доносились из комнаты, где спали я и Марио; я пошел посмотреть, что там происходит, а Марио последовал за мной с таким видом, словно ему уже все известно. Салли стояла на балконе за закрытой дверью. Она стучала ладонью по стеклу и кричала: «Марио! Дедушка!» – но дверь была двойная, и через два стекла ее крики невозможно было расслышать даже в этой комнате, не говоря уже о других. Я вспомнил предупреждение Бетты: дверь на балкон – одностворчатая, выкрашенная белой лаковой краской, – плохо закрывается и открывается. Я с досадой подумал: издатель, Марио, Салли, – ну как тут сосредоточиться на работе? Эта женщина должна была заботиться обо мне и ребенке, а вместо этого я должен терять время из-за ее непредусмотрительности. Она распахнула настежь все окна в квартире, а потом вышла на балкон, не сообразив, что балконная дверь захлопнется от сквозняка. И теперь стояла там и отчаянно звала на помощь.
– Не надо стучать по стеклу, – сказал я, – мы уже пришли.
– Я уже полчаса не могу вас дозваться!
– Не преувеличивайте.
– Вы что, плохо слышите?
– Да, я немного глуховат.
– Знаете, как открыть эту дверь?
– Нет.
– Синьор Саверио не объяснил вам?
– Нет.
Салли неприлично выругалась и в сотый раз хлопнула ладонью по стеклу. Я подумал, что сейчас и она, и я чувствуем примерно одно и то же – злимся оттого, что теряем время по вине другого человека, и это неожиданно сблизило меня с ней. А вот Марио меня раздражал – он готов был любую ситуацию превратить в игру.
– Я не знаю, дедушка, как она открывается.
Не отвечая ему, я спросил Салли:
– А вы не можете открыть ее снаружи?
– Если бы могла, не стала бы звать тебя. Снаружи на ней нет ручки.
– Но почему?
– Не могу тебе сказать почему, синьор Саверио купил ее такой. А изнутри надо просто сильно дернуть ручку вверх, потом потянуть вниз – и дверь откроется.
Марио вмешался:
– Ты понял, дедушка? Дергаешь сюда, потом поворачиваешь вот так.
И очень точно показал руками, что надо сделать, а я почти безотчетно повторил его движения.
– Да, вот так, – похвалил он меня. – Давай я возьму стул и помогу тебе!
– Сам справлюсь.
Я попробовал сделать, как он сказал, но дверь не открылась.
– Дергай сильнее, тут нужна папина сила.
– Папа молодой, а я старый.
Вторая попытка. Я нажал на ручку снизу вверх, затем очень решительно – сверху вниз. Безрезультатно.
– Я не могу торчать тут целый день, – запаниковала Салли. – Мне надо сегодня еще в другие места. Вызовите пожарных.
– Да зачем нам пожарные!
Марио дергал меня за пиджак, но я не обращал на него внимания. Тогда он стал бить меня кулачком по бедру.
– У меня идея.
– Держи ее при себе и не мешай мне думать.
Но он не переставал колотить меня по ноге.
– Говори, – устало выдохнул я.
– Салли спустит ведерко и будет набирать в него пустоту; а когда пустота кончится, перелезет через перила и спустится вниз!
Разъяренная Салли заорала:
– Если я не приду на работу, меня уволят. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Когда дверь не открывается, надо взять отвертку.
– Точно, – подтвердил Марио. – Папа иногда открывает ее отверткой. Давай я тебе помогу, схожу за отверткой?
– Если помолчишь, это будет самая лучшая помощь.
Я нервничал и не мог сосредоточиться. Сколько лет я уже не пользовался отверткой, плоскогубцами, гаечным ключом? Мне снова вспомнились мои каракули на краешке листа и уверенный голос Марио, который подчеркивал – более того, демонстрировал мне сходство между этими каракулями и подростком на фотографии. В этом возрасте я был трудным ребенком, плохо учился, никак не мог усвоить латинскую грамматику. Отец определил меня на работу в автомастерскую, находившуюся в двух шагах от нашего дома, – сейчас она уже не существует. Моим рукам и голове теперь предстояло выполнять совсем другие задачи; так продолжалось несколько месяцев, и, возможно, причудливая загогулина, которую я нацарапал на полях листа, была метафорой этого зигзага на моем жизненном пути. Надо сделать побольше набросков в этом роде, сказал я себе, и был готов взяться за карандаш; невозможно было думать о чем-то другом, я словно прирос к месту, и, вместо идей, как освободить Салли, в голове у меня мелькали бесчисленные рисунки, я видел, как они появлялись и исчезали. Я представил себе размашисто нарисованную фигурку маленького мальчика (то есть себя самого в детстве), который может справиться с дверной ручкой, умеет ловко орудовать отверткой. Мне показалось, что я могу нарисовать этого смышленого парнишку одной сплошной линией, не отрывая карандаша от бумаги, переходя от юных, но уже узловатых, перепачканных машинным маслом рук к крепким плечам, вытянутой шее и, наконец, лицу, искаженному злобной гримасой. Сколько их сохранилось в моей памяти, этих подростков, они толпой окружали меня в переходном возрасте, от двенадцати до двадцати, когда я наконец вырос и нашел в себе силы уйти из родительского дома. А сейчас я хотел попытаться сделать головокружительный прыжок в прошлое, за пятьдесят с лишним лет до начала взрослой работы, назад, назад, назад, в ту эпоху, когда я еще только пробовал свои силы в рисовании; как если бы было возможно зачеркнуть сегодняшний день с непрестанным, лихорадочным созиданием и переделыванием созданного и вернуться в абсолютный ноль, в ледяную пещеру, где сохраняется все. Я схватил ручку, с бешенством (именно бешенством, а не гневом) дернул ее сначала вверх, потом вниз. Услышал щелчок, потянул дверь – и она открылась.
– Ну наконец-то! – завопила Салли и ворвалась в комнату, почти крича: – Мне надо бежать, я опаздываю!
Она проинструктировала нас насчет обеда и ужина на сегодня и на завтра, но при этом обращалась только к Марио – я не вызывал у нее доверия. Затем она закрылась в чулане, откуда вышла в виде очень элегантной дамы средних лет, и удалилась восвояси.
Я сел на край своей кровати, а Марио моментально скинул тапки, влез туда же и с радостными криками принялся прыгать, сводя на нет всю работу Салли. «А ты будешь прыгать, дедушка?» – спросил он меня. Балконная дверь так и осталась распахнутой настежь, балкон устремлялся в яркую лазурь неба. В щель между кафельными плитками ветром занесло немного земли, и там росла чахлая травинка. Я сказал мальчику:
– Пустоту нельзя вычерпать ведерком, Марио. И не пытайся играть в эту игру – пустота останется, где была, а ты, если перелезешь через перила и спрыгнешь, разобьешься и умрешь. Папа не говорил тебе об этом? Или он говорил тебе только, что я некрасивый?
Я тоже снял домашние туфли, влез на кровать, и какое-то время мы с Марио прыгали вдвоем, держась за руки. Сердце у меня в груди было словно огромный мяч из мяса, который летал вверх-вниз, от желудка к горлу и обратно.
3
Наверно, Марио решил, что настало время бесшабашных игр. На самом деле я просто хотел доставить ему удовольствие, а потом вернуться к работе. Мы съели вкуснейший обед, приготовленный Салли, и прямо во время еды я попробовал закрепить на бумаге образы, которые пришли мне в голову. Одной рукой подносил еду ко рту, а другой быстро зарисовывал массу маленьких фигурок; впрочем, правду говоря, они получались не слишком удачными. Виноват в этом был Марио: он не унимался, все время предлагал после обеда поиграть в какие-то, по его мнению, очень увлекательные игры. В конце концов я сдался. Давай уберем со стола, сказал я, и поиграем, но только недолго, ты ведь знаешь, что дедушке надо работать.
Я убрал со стола под руководством Марио, который то и дело придирался ко мне. Каждая вещь должна находиться на своем месте, твердил он, и было бесполезно объяснять ему, что в любом случае порядок на кухне будет восстановлен, когда придет Салли. Сначала я думал, что причина такой педантичности – в истовом послушании родителям, но позже понял, что ошибался. Марио обожал, когда его хвалили, и поскольку папа с мамой наверняка изображали восторг, когда он аккуратно ставил на место ту или иную вещь, то теперь он ждал такого же восторга от меня. Когда я сказал ему: «Кому какое дело, где будет стоять солонка, оставь ее здесь, не будь занудой», он сжал губы и недоуменно посмотрел на меня. Я смог перебороть эту его одержимость, только объяснив ему, что чем больше времени мы потеряем на наведение порядка, тем меньше останется на игры. Тут он сразу согласился на ускоренный вариант уборки со стола и спросил меня: «Пойдем играть?»
Он заставил меня играть в лесенку, в потом в лошадку. Во время первой игры я то и дело зевал от скуки. Надо было вытащить из чулана стремянку, поставить ее, убедившись, что она надежно закреплена, и подняться по ней до самого верха. Сначала Марио переступал со ступеньки на ступеньку, я поднимался с ним и держал его сзади, чтобы он не упал, но это его раздражало – он считал, что вполне обойдется без моей помощи. После мягких, но очень настойчивых уговоров он добился того, что я разрешил ему подниматься одному и остался внизу, держа его за руку. В конце концов он взбунтовался:
– Я умею подниматься сам, не надо меня держать.
– А если упадешь?
– Не упаду.
– Смотри, упадешь, будешь лежать на полу и плакать, я не стану тебе помогать.
– Ладно.
– И давай договоримся: поднимешься три раза – и хватит.
– Нет, тридцать раз!
– А по-твоему, тридцать – это сколько?
– Много!
Глядя, как он без передышки поднимается и спускается по стремянке, я почувствовал невыразимую усталость. Подтащил стул к стремянке и сел, но зорко следил за каждым его движением, чтобы вовремя вскочить и подхватить его, если понадобится. Сколько силы в этом маленьком тельце! Что происходило под этой кожей, в мышцах, в костях, в крови? Все это дышало, питало себя. Кислород, вода, обменные процессы, белки, шлаки… Как он сжимает губы; как смотрит вверх; как напрягаются его ноги, слишком короткие для того, чтобы преодолеть расстояние между ступеньками; как крепко вцепились его руки в металлические стойки лестницы. А как он спускается, с какой осторожностью и в то же время отчаянной смелостью: одна нога касается нижней ступеньки, другая уже успела оторваться от верхней, оставшись без опоры. Такое крохотное, но полное решимости существо, во взгляде, устремленном то вверх, то вниз, – страх и радость от опасности, которая ему угрожает. Я смог уговорить его прекратить эту забаву, только пообещав немедленно перейти к следующей.
Теперь нам предстояло играть в лошадку. Пыхтя и постанывая, я должен был встать на четвереньки. Марио влез мне на спину, уселся верхом и, придерживая меня за джемпер, тоном знатока произносил: «Шагом! Рысью! Галопом!» Если я выполнял его команды недостаточно быстро, он колотил меня пятками по ребрам и кричал: «Я сказал: галопом, ты что, глухой?» Я действительно был глухой, а еще усталый и ослабевший до такой степени, что он и вообразить себе не мог. Несмотря на свой богатейший словарный запас, он мог быть и грубым, и сейчас начал обращаться со мной так, словно я и вправду был лошадью, и стал называть меня не дедушкой, а Молнией – эту кличку ему, разумеется, подсказал Саверио. Но молнией был он сам, весь его организм наполняла неконтролируемая энергия, жизненная сила в чистом виде, которая не передавалась моему изношенному телу; от каждого движения у меня болели запястья, колени, ребра. И все же я согласился сделать с ним круг по квартире, прополз на четвереньках по коридору, по кабинету Бетты, по гостиной, прихожей, каморке Саверио и, наконец, вернулся в нашу комнату, где осталась открытой дверь на балкон и царил холод. А я был как в огне: кровь от конечностей текла по венам к сердцу, словно раскаленная лава, я обливался потом сильнее, чем это бывало, когда я внезапно просыпался по ночам. Если в теле Марио физические и химические процессы происходили с торжествующей быстротой и точностью, то у меня они протекали уныло, медленно и с погрешностями, которых становилось все больше, как в работах ленивых студентов. Я схватил мальчика за плечо и стащил его с себя, а то вдруг он захочет покататься еще.
– Лошадка устала, – прохрипел я.
– Нет.
– Лошадка совсем устала.
Я сгрузил его на пол и улегся рядом на холодных как лед плитках.
– Сейчас нам надо передохнуть.
– А мне не надо, дедушка! Сделаем еще круг.
– И речи быть не может.
– Папа делает пять кругов.
– А я смог сделать один, и хватит с тебя.
– Ну пожалуйста.
– Мне надо работать.
– А я?
– А у тебя есть игрушки, сиди тут и играй.
– А можно я перенесу игрушки в комнату, где ты работаешь?
– Нет, ты будешь меня отвлекать.
– Ты плохой.
– Да, я очень плохой.
– Я скажу это маме.
– Твоя мама уже это знает.
– Тогда скажу папе.
– Говори кому хочешь.
– Мой папа тебя стукнет.
– Если я скажу твоему папе «бу-у», он обкакается.
– Скажи это еще раз.
– Бу-у!
– Нет, то, что было дальше.
– Он обкакается.
Марио засмеялся:
– Еще раз.
– Он обкакается.
Марио залился смехом, и смеялся долго, самозабвенно, с наслаждением. А я сначала сел на пол, затем, опираясь о край кровати, медленно встал. Пот на груди и на спине застыл, и теперь мне было холодно. Я пошел закрывать балконную дверь.
– Дедушка, еще раз, – попросил Марио, глядя на меня снизу вверх.
– Что?
– Скажи «он обкакается».
– Нельзя говорить такие слова.
– Но ты ведь сказал.
– Я сказал «обкакается»?
Он опять расхохотался, выкрикивая «Да, да, да!».
Это безудержное, стихийное ликование, широко раскрытый рот с крошечными зубками глубоко поразили, почти испугали меня. Я позавидовал этой неуправляемости лица и глотки. Смеялся ли я так когда-нибудь? Не знаю; во всяком случае, не помню. Какая мощь была заключена в этой способности смеяться над пустяком – и в то же время над чем-то очень важным. Он смеялся над грубыми словами, сказанными о его отце, и, как мне показалось, смеялся совершенно искренне, без ощущения неловкости. Он пробежался по комнате. Скользнул взглядом по своим рисункам, развешанным на стенах, – повсюду были изображены человечки на зеленых лужайках и непонятные завитушки.
– Они тебе нравятся? – спросил он.
– Слишком светлые, – ответил я. И начал сбрасывать на пол одну за другой все игрушки, которые Салли в идеальном порядке расставила на столах и шкафчиках. Затем взял коробку с играми и высыпал все ее содержимое на пол перед Марио, раскрывшим рот от изумления. Все эти мелкие вещицы падали вокруг него и отскакивали от пола, будто танцуя. Я помахал ему рукой и сказал:
– Развлекайся.
Марио испуганно уставился на меня, покраснел.
– Я один не развлекаюсь, – сердито произнес он.
– А я – да. И смотри не мешай мне, а то будут неприятности.
4
Но мне было не до развлечений. Игра с Марио не только вымотала меня физически, но еще и забрала силу у образов, которые, как мне казалось, нужно было срочно закрепить на бумаге. Мелькнув перед моим внутренним взглядом, они перестали быть неправдоподобными и от этого утратили свою прелесть. И сейчас, словно больные зверьки, пребывали в немом и тупом ожидании выздоровления либо смерти. А мысль о том, чтобы выследить их и попытаться вытащить из небытия мгновенно прочерченной линией, мысль, пришедшая мне в голову при виде рисунка, на который указал Марио, постепенно угасала. Я смог вывести на листе лишь несколько вымученных, скучных линий, надеясь, что вдохновение скоро вернется.
Казалось, моему воображению завязали глаза. Мое теперешнее старое тело уже было слишком далеко от тех подростков, которые на миг являлись передо мной, а потом рассыпались на части с грохотом, гулко отдававшимся у меня внутри. И все же, думал я, именно эти призраки могли бы оказаться мне полезными. Они были враждебными, несли в себе угрозу. Каракули, похожие на клубок, которые я машинально нацарапал в углу листа, – их авангард. Некто, схвативший нож, ощутивший его в руке и пожелавший всадить его в бок неучтивому прохожему, в горло моему отцу, между тугих грудей Мены, после того как она меня бросила, в живот красавчику, отнявшему ее у меня. От двенадцати до шестнадцати лет я постоянно искал подходящий случай, чтобы утолить жажду крови, от которой у меня мутилось в голове. Если бы я хоть раз пустил в ход этот нож или хоть раз припугнул им кого-то, я стал бы более приспособленным к жизни улиц в кварталах Лавинайо, Кармине, Дукеска. Это не были мечты, порожденные маетой переходного возраста. Мечтал я в те годы о другом: стать художником, хотя в нашем доме не знали, что такое искусство, – не знали мой отец и дед, да и вообще никто из моих предков. Зато вполне реальной была перспектива стать хулиганом, попасть за решетку, почувствовать в руках стремление убивать, вступить в каморру и уже не сворачивать с этого, однажды выбранного пути, вполне соответствующего улицам, по которым я слонялся до глубокой ночи, улицам контрабандистов и спекулянтов, проституток и сутенеров. Всякие там карандаши, цветные мелки, акварельные и масляные краски в подобных обстоятельствах были совершенно неуместны. У таких подростков, как я, руки предназначались для другого. Когда мой папаша отправил меня в мастерскую, он, бедняга, сделал это не со зла, просто он дал себе самому и мне урок здравомыслия. Все мои многочисленные родственники по традиции выбирали профессию автомеханика. Или электрика, как мой отец. Или токаря, как мой дед. Это были возможные и осуществимые варианты. Собирать, разбирать, свинчивать, завинчивать; ногти всегда черные, подушечки пальцев твердые, руки широкие, ладони загрубевшие. Или наняться грузчиком в порт, таскать на себе ящики с овощами и фруктами. Можно еще было стать подсобным рабочим в магазине, официантом, открыть свою собственную крошечную лавчонку или пойти в железнодорожники и тянуть эту лямку всю жизнь. Или жить чем придется, изворачиваться и врать, делать вид, будто думаешь только о женщинах, но не привязываться ни к одной, коллекционировать их, ублажать их, наживаться на них, в кровь разбивать им лицо, если они не хотят быть послушными, – ах, мне так хотелось этого, и кое-кто из моих друзей детства пошел по этой дорожке, опять-таки в полном соответствии с миром улиц, среди которых мы выросли. Или отказаться от непостижимых бездн женственности и предпочесть мужские тела, под предлогом, что хочешь унизить их обладателей, – либо потому, что проще иметь дело с тем, что тебе знакомо и понятно, либо потому, что потребности плоти зачастую необъяснимы; переходить от мужчин к женщинам, от женщин к мужчинам – здесь дырка, и там дырка, так зачем придумывать какие-то сложности? В те годы я приложил немало усилий, чтобы уклониться от участия в диких выходках моих приятелей, уже успевших вкусить запретные удовольствия, которые мне были известны только по их непристойным названиям на неаполитанском диалекте. В моем теле как будто скрывались, дожидаясь своего часа, разные типы человека; одни – необузданные и жестокие, другие – слабые и жалкие. Например, были такие, кто придерживался правила: я сам себе хозяин, а до других мне дела нет. Когда они брали верх, на лице у меня появлялось выражение беспечности и полупрезрительного равнодушия. Для такого случая у меня была заготовлена и особая манера поведения: держать язык за зубами, чтобы никого не задевать и не раздражать; открывать рот, только чтобы выразить согласие, симпатию, одобрение, чтобы дать понять присутствующим – я друг вам всем, то есть никому; и казаться безобидным, чтобы со мной не перестали общаться, но в душе накапливать ненависть к каждому и по возможности потихоньку ему гадить. Я был богатейшим сборником вариаций на тему самого себя. А потом совершенно случайно попробовал рисовать, сначала карандашом, потом красками, и стал получать от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. И с тех пор началась долгая война против остальных живших во мне существ, в ходе которой я подавил их и изгнал навсегда. Это было необходимо еще и потому, что они всегда находили повод высмеять мое новое увлечение и обозвать неудачником. Малейшая промашка, плохая оценка в школе, недоброжелательный отзыв о моих первых опытах в искусстве, ехидная статейка, способная больно уязвить в самое сердце, – и я бы не выдержал их атаки изнутри. Возникла бы трещина, куда вползли бы неуверенность в себе, чувство безнадежности, страдание, – и человек, которым я хотел стать, был бы уничтожен. Человек, говорящий возвышенные слова, с благородными побуждениями, с чувством ответственности, рассудительный и всегда встающий на сторону добра, со здоровой сексуальностью; человек, чья жизнь подчинена одной всепоглощающей страсти – непрерывно, снова и снова создавать рисунки, эскизы, картины, большие и маленькие. Такие трещины возникали, но мне удалось заделать их одну за другой, – это была долгая, тяжелая работа. И я стал плотью, а все остальные варианты стали призраками. Но сейчас они собрались здесь, в гостиной родительской квартиры, в которой подростком жил я, а теперь живут Бетта, Саверио и Марио. Они собрались здесь, с их диалектом, их развязными манерами и бесстыдными желаниями, с их злобой, готовой разгореться из-за любого, даже пустякового конфликта. Они не простили мне, что я выбрал самый неосуществимый из вариантов и сумел отстоять его, не уступив им ни миллиметра. Я изгнал их, но не насовсем. Только смерть истребит их, уничтожив мое тело, которым они жаждали завладеть и которое вольно или невольно продлевало им жизнь. Сил у них поубавилось, но все же они не перестали являться мне, особенно парень с ножом, но я закрывал глаза и отстранял его плавным движением руки, как подобает воспитанному человеку. Этот жест дался мне с трудом, пришлось долго и тщательно тренироваться. Я научился гасить в себе любое чувство, предельно замедлять и ослаблять реакцию, не ощущать ни любви, ни боли, выдавать отсутствие естественных человеческих эмоций за терпимость и понимание. К тому времени, когда я решил заглянуть в дневник своей жены, ее уже давно не было на свете. Она писала, что это я виноват в ее изменах, что она встала на этот путь, чтобы доказать самой себе, что существует помимо меня. Долгое время я грезил с открытыми глазами: мне представлялось, что Ада все еще жива и я убиваю ее. Но всякий раз я отгонял это видение привычным жестом воспитанного человека и в конце концов избавился от него навсегда. Мне показалось, что я понимаю, почему Ада так поступила, и видения прекратились, я стал любить ее тень, как прежде любил ее живую. Быть может, подумал я, все эти призраки помогут мне проиллюстрировать Джеймса. Но сейчас, черт возьми, пора посмотреть, что делает малыш.
Усилием воли я вернулся в реальность, в сегодняшнюю гостиную, откуда уже уходил дневной свет. Я собирался встать, когда громко зазвонил дверной звонок. У меня сильно затекла нога, я почти не почувствовал, как подошва коснулась пола. Опять звонок, еще настойчивее первого.
– Марио, ты можешь сам открыть дверь? Марио, милый, пожалуйста!
Вместо ответа – третий звонок, долгий и рассерженный. Прихрамывая, я прошел через гостиную и прихожую, открыл дверь – и увидел грузную женщину с иссиня-черными волосами и маленькими глазками на широком лице. Женщина была очень бледна и явно нервничала. Она не закрыла за собой лифт и, к моему изумлению, держала за руку Марио.
– Это вы отправили ко мне мальчонку с игрушками?
– Нет.
– А кто тогда?
– Он сам пошел.
– Сам? А вы, значит, не заметили, как он открыл дверь, спустился на пять этажей и постучался ко мне?
– Нет.
– Правда? Вы – как ваша дочь. Когда она занята своими научными делами, то говорит сыну: бери игрушки, иди к мальчику на второй этаж и играй с ним. А потом устраивает мне скандал, потому что ее драгоценного сыночка научили плохим словам!
– Синьора, уверяю вас, я никогда не отправил бы ребенка к вам, это вышло случайно, из-за моей невнимательности. Извините.
– Из-за невнимательности или чего там еще, но, если бы он упал с лестницы и расшиб себе голову, ваша дочь вполне могла бы обвинить в этом моего сына.
– Мне очень жаль, это больше не повторится.
– Кстати, ваша домработница выливает с балкона грязную воду и почти каждый день пачкает белье, которое я у себя развешиваю. Хорошо бы и это больше не повторялось.
– Я скажу Бетте, она примет меры.
– Спасибо. А заодно скажите ей, чтобы она не смела говорить, будто мой сын ворует игрушки. Если мой сын ворует игрушки, так пусть кое-кто держит своих детей с их игрушками дома. Да, синьора – преподаватель, но это не значит, что я нанималась к ней в бесплатные няньки. У меня четверо детей, на мне дом, и я не могу зря терять время. Знаете, что я вам скажу? Если мальчик и дальше будет спускать ведерко, я обрежу веревку и выброшу его!
– Хорошо. Но где игрушки, которые Марио принес вам сейчас?
– Хотите сказать, мой сын их украл?
– Да нет, я не говорю, что он украл, это же дети. Я просто хотел узнать.
– Просто хотели узнать? А давайте так: когда вернется мой муж, я пошлю его отнести вам эти игрушки, и вы скажете ему в лицо, что наш сын – вор. Иди, Марио, иди к дедушке. Вся ваша семья – дерьмо, от первого поколения до последнего, до свидания.
Она подтолкнула мальчика ко мне, вскочила в лифт и захлопнула за собой железную дверь. Кабина дернулась и поехала вниз.
Я завел Марио в прихожую. Он сердито сказал:
– Хочу мои игрушки, они мне нужны.
Я нагнулся, схватил его за руку:
– Как ты посмел выйти из квартиры? Если я сказал, что ты должен сидеть у себя в комнате, ты должен сидеть у себя в комнате. С этой минуты – с этой минуты, Марио, смотри на меня – либо ты делаешь, что я тебе говорю, либо я запру тебя в чулане.
Он не опустил глаза, высвободил руку и заявил:
– Берегись, а не то я сам запру тебя в чулане.
Эта угроза исчерпала его силы, через секунду он заплакал.
Мне стало неприятно, что я довел его до слез, и я спешно отыграл назад. Попытался утешить его, сказал, что хватит уже, а то я сейчас сам заплачу, пойду в чулан и запрусь там. Но все было бесполезно. Сначала он плакал всерьез, потом машинально, потому что не мог перестать сразу, а затем еще двадцать минут хлюпал носом и отталкивал меня, когда я пытался помочь ему высморкаться. И время от времени повторял сквозь слезы: «Вот приедет папа, я все ему расскажу».
5
Хотя я разрешил ему зажечь газ, чтобы разогреть ужин, приготовленный Салли, хотя я не стал отбирать у него очень острый нож, которым он самовольно завладел, когда накрывал на стол, наши отношения от этого не улучшились.
– Можешь держать нож, но мясо нарежу я.
– Нет, я сам умею.
– Я верю, что ты сам умеешь, но, когда дедушка рядом, мясо у тебя на тарелке разрезает дедушка.
– Ты мне не дедушка.
– Нет? А тогда кто же мой внук?
– Никто.
Если Марио не желал мириться со мной, то у меня тем более не было желания мириться с ним, ведь когда между нами царили любовь и согласие, он совсем не давал мне работать. Я беспокоился потому, что приближалось время, когда должна была позвонить Бетта, и я не хотел, чтобы она волновалась из-за мальчика, ей хватало проблем с мужем, который изводил ее своей ревностью. И когда мы вдвоем мыли посуду, оставшуюся после обеда и ужина, Марио, пусть и насупившись, вел себя как мой помощник – подавал жидкость для посуды, губку, полотенце, причем так поспешно, словно речь шла о жизни и смерти; я стал слегка брызгать на него водой, говоря при этом: «Шутка!» Сначала он вел себя по-прежнему, помогал мне с угрюмым, настороженным видом, опустив голову и энергичным жестом отмахиваясь от брызг.
– Шутка!
– Дедушка, не надо.
– Шутка!
– Не надо, я сказал.
– Шутка!
Потом он начал жаловаться, ныть, но при этом старался скрыть улыбку.
– Ты мне мылом набрызгал в глаз.
– Ну-ка покажи.
– Ой, как жжет!
– Да нет у тебя там ничего.
Наконец он стал краем глаза следить за мной, чтобы понять, действительно ли я хочу играть с ним, и, когда убедился в этом, попробовал сам обрызгать меня, сказав: «Шутка!» Так, обмениваясь со мной шутками, он расшалился до того, что потерял равновесие и чуть не свалился со стула, на который я его поставил, чтобы он доставал до кухонного стола, – к счастью, я вовремя успел его подхватить, и в результате напряженность между нами как будто пошла на убыль. Закончив с посудой, мы пошли в гостиную посмотреть телевизор.
– Что будем смотреть, дедушка?
– Разберемся.
– Можно мы посмотрим зверяшки?
– Мультяшки о животных, – поправил я.
Не без труда мне удалось убедить его, что не во всех мультяшках действуют животные. Он стал педантично перечислять самых распространенных героев мультфильмов: гуси, утки, кролики, мыши, землеройки и так далее – так почему нельзя называть их зверяшками? Я объяснил, что такие фильмы называются анимационными – от слова «анимировать», оживлять, потому что нарисованные персонажи в них оживают, а этими персонажами, помимо людей и животных, бывают различные неодушевленные предметы, на экране они двигаются, разговаривают, словно обрели душу. Тут он спросил, что такое душа. Я сказал: «Это дуновение, которое наполняет нас, – и потому мы двигаемся, бегаем, разговариваем, рисуем, шутим». Однако этот маленький упрямец стал утверждать, что и нарисованные герои мультяшек делают ровно то же самое. Но постепенно мне как будто удалось переубедить его. Он спросил:
– А у нарисованных героев есть душа?
– У них самих – нет, их наделяют душой те, кто их рисует.
– Твои рисунки не двигаются.
– Ясное дело, ведь это не анимация.
– А почему ты их не оживляешь?
– Понадобится – оживлю.
– Может, они не хотят, чтобы их оживляли такие старики, как ты, ведь мультяшки – это для маленьких.
– У меня они оживут.
– Оживут, потому что ты знаменитость?
– А что, по-твоему, это значит – «знаменитость»?
– Мама объяснила, это значит, что тебя знают даже те, кого ты не знаешь.
– Да, верно.
– Я сказал воспитательнице, что ты знаменитость.
– А она?
– Спросила, как тебя зовут.
– Ты знал?
– Я спросил у мамы, а потом сказал ей.
– Посмотрим, правильно ли ты произносишь мое имя и фамилию. Как зовут твоего дедушку?
– Даниэле Малларико.
– Молодец! Что сказала воспитательница?
– Что она никогда о тебе не слышала.
Я почувствовал, что это разочаровало его, и стал ему объяснять, что знаменитости бывают разные, кто-то побольше, кто-то поменьше, и я – не настолько большая знаменитость, чтобы обо мне могла слышать воспитательница детского сада. Говоря все это, я понял, что и сам немного разочарован, и, чтобы обоюдное разочарование не довело нас до ссоры, предложил включить телевизор. Но пришлось искать пульт – я спрятал его от Марио и теперь не мог вспомнить куда. Я нервно ходил из комнаты в комнату, а Марио шел за мной по пятам. Я зажигал свет в каждой комнате и, осматривая поверхность и ящики письменных столов, роясь на полках стеллажей, старался не отвлекаться – для меня это очень сложно, всякий раз, когда приходится искать что-нибудь, я начинаю думать о другом. После обследования комнаты Марио аккуратно гасил свет у меня за спиной. Мы обошли квартиру два или три раза, пока наконец не обнаружили пульт. Разумеется, нашел его Марио, а не я – в гостиной, под одним из моих альбомов. Нашел, страшно обрадовался, схватил и ни за что не хотел отдавать; как я ни старался, отобрать у него пульт мне не удалось. Это я его нашел, заявил он, и я включу телик. Хорошо, ответил я, но только включишь. Нет, почти что прокричал он в ответ, переключать каналы тоже буду я. И уже поджал губы, уже смотрел злыми глазами. Я собирался вырвать пульт у него из рук, сказать: ну хватит, либо ты будешь слушаться, либо пойдешь спать, – когда зазвонил телефон. Ладно, переключай, сдался я. И пошел на кухню, где стоял на базе телефон, а Марио, возившийся с пультом, последовал за мной.
Это была Бетта, судя по голосу, она куда-то торопилась. В трубке слышался гомон и что-то похожее на звяканье столовых приборов. Кто-то позвал ее, она наигранно веселым тоном откликнулась: «Иду, иду!» Потом продолжила разговор:
– Почему ты не отвечаешь по мобильному?
– Он у меня на бесшумном режиме.
– Все хорошо?
– Да, прекрасно.
– Марио съел что-нибудь?
– Он съел больше, чем я. А у тебя как дела?
– Хорошо.
– Как встретили твое выступление?
– Хорошо.
– Как ведет себя Саверио?
– Отравляет мне жизнь, вот только что устроил очередной скандал.
– Мразь вонючая.
– Папа, что за выражения?
– Извини.
– Марио сейчас тебя слышал?
– Нет, он занят, ломает пульт от телевизора.
– Позови его, я с ним поздороваюсь.
– Марио, хочешь поговорить с мамой?
Я надеялся, что он откажется; но он вывалил на пол батарейки от пульта и помчался к телефону. Я слышал, как он говорил что-то вроде: нет, да, возвращайся скорей, я тебя люблю. Но когда разговор вроде бы уже завершался, он произнес: «Я плакал». В ответ мама, очевидно, сказала какую-то длинную фразу, потому что он выслушал ее молча. Наконец он сказал почти шепотом: «Спокойной ночи, мама, – и раз десять поцеловал телефон, после каждого поцелуя повторяя: – Спокойной ночи, я тебя очень люблю, и папу тоже очень люблю».
И протянул мне трубку. Я тихо сказал:
– Не обязательно было говорить, что ты плакал.
– Но я же только это сказал.
– Только это? А что еще ты мог сказать?
– Кое-что.
– То есть?
– Ты сделал мне больно, когда схватил за руку.
– Брось, я только чуть-чуть ее сжал.
– Ты сильно сжал. Посмотрим телик?
– Мама не разрешает.
– А мы ей не скажем.
– Но ведь ты сказал ей, что плакал.
– Извини. Про телик я ей не скажу.
– Если ты не умеешь вставлять батарейки в пульт, на меня не рассчитывай, я тоже не умею.
Он быстро и ловко вставил батарейки, побежал в гостиную, включил телик и уселся в кресло, которое называл своим. На самом деле это было старое, очень удобное кресло моей матери. А я сел на очень неудобный диван. Вечер получился не слишком приятный, мы долго и со все возрастающей злостью ссорились – не из-за одного, а из-за трех пультов. Он умел без ошибок набирать номера каналов, по которым непрерывно показывали мультики, умел поставить dvd-диск, и делал все так ловко, что это начало меня раздражать. К тому же он не соблюдал никаких договоренностей. Сразу, как только он включил телевизор, я сказал ему: «Пять минут посмотрим мультики, а потом дедушка будет смотреть то, что интересно ему». Он согласился, но очень скоро я понял, что для него пять минут значит всегда, и, смирившись, уже собрался подремать под нескончаемые мультики. А потом вдруг вспомнил, что сегодня вечером покажут ток-шоу, где один мой друг должен представлять свою книгу; на обложку книги он захотел поместить репродукцию моей картины. Без лишних слов я отобрал у Марио все три пульта, сказав только: «Пять минут давно кончились, будешь возражать – выключу телик». Он ничего не сказал и с мрачным видом съежился в кресле. Я сделал вид, будто не замечаю его дурного настроения, и стал переключаться с одного канала на другой, ища тот, где должен был выступать мой друг. Наконец мне удалось поймать нужный канал; мой друг присутствовал на ток-шоу, я успел заметить его среди гостей, хотя он попал в кадр всего на несколько секунд. Марио сидел молча, уставившись на экран, и, как только мой друг опять появился в кадре, я сказал:
– Я хочу только послушать, что скажет этот синьор, а потом будешь опять смотреть свои мультяшки, ладно?
Молчание.
Я поудобнее устроился на диване, пульт положил рядом. Но вот ведущий ток-шоу заговорил о книге моего друга, и на экране появилась обложка.
– Видишь? – сказал я. – Это моя работа.
Он пробормотал:
– Книга?
– Картина, репродукция которой изображена на обложке. Скажи это завтра твоей воспитательнице.
Вдруг он повысил голос:
– Мне она не нравится.
– Тебе ничего не нравится, Марио.
– Только желтый цвет красивый.
Желтый? Я не припоминал, чтобы в этой картине уделил заметное место какому-либо из оттенков желтого, не помнил даже, чтобы вообще использовал в ней желтый. Но я не успел вглядеться – обложка исчезла с экрана, а ведущий дал слово моему другу.
– Тихо, – сказал я мальчику, который собирался добавить еще что-то. – Сейчас будем слушать.
Мой друг начал выступать, но Марио, как обычно, не послушался; он спрыгнул с кресла, влез на диван и стал что-то говорить. Кажется, я даже не ответил ему, я ждал, что мой друг упомянет обо мне. Он был моложе меня на тридцать лет, очень талантлив и, по-видимому, вполне доволен своими сочинениями – во всяком случае, говорил о них как о самой важной вещи на свете. А я никогда не умел себя подать. Всю жизнь я напряженно работал, но стеснялся оценивать по достоинству свои произведения, надеялся, что это сделают другие. А вот мой друг, рассуждая о своей книге, давал понять, что эта работа переломила давнюю тенденцию, сложившуюся в некоей области науки, и при этом не испытывал ни малейшей неловкости, говорил свободно и доходчиво, и ведущий соглашался с ним, а гости слушали его с интересом. Мне было бы приятно, если бы опять показали обложку, я надеялся, что в передаче прозвучит мое имя и Марио его услышит и закричит: «Даниэле Малларико? Но это же ты, они говорят о тебе!» Вместо этого на экране вдруг появились кадры какой-то аляповатой мультяшки про животных, которые занимались кунг-фу.
Я резко обернулся:
– Кто тебе разрешил взять пульт, кто тебе разрешил переключить на другой канал?
– Я спросил у тебя разрешения, дедушка, и ты сказал «да», – ответил испуганный Марио.
В бешенстве я протянул руку, и он тут же отдал мне пульт. Сердито бурча, я попытался вернуться на канал, где показывали ток-шоу, но никак не получалось.
– Надо ввести номер канала, – подсказал Марио.
– Тихо!
Я перескакивал с канала на канал и в итоге нашел нужный, но моего друга больше не показывали. Я бросил пульт на диван и с притворным спокойствием сказал:
– А сейчас ты немедленно пойдешь спать.
Но не сделал ничего, чтобы он выполнил мой приказ. Просто вышел из комнаты, прошелся по квартире, всюду зажег свет, поймал себя на том, что бормочу какие-то бессвязные фразы на диалекте. Сейчас я не просто был совсем без сил и едва не заговаривался от усталости, я был несчастен так, словно все несчастья моей жизни решили собраться в этом доме и в этот момент. Я пошел в комнату Марио, где оставил свои вещи, и споткнулся о его игрушки, разбросанные по полу, одна из них отлетела куда-то далеко. Я взял сигареты, но сообразил, что Бетта, вернувшись, устроит скандал, если почувствует в квартире запах дыма, и вышел курить на балкон.
Воздух был ледяным, снизу доносился шум уличного движения. Я осторожно шагнул раз-другой к перилам, вдохнул дым, закашлялся. Ночь, наступившая после ясного дня, была беззвездной, и рокот машин, гомон вокзала, рев громкоговорителей, гудки поездов, сливаясь воедино, превращались в ослепительное многоцветное пятно, в котором можно было различить сияние прожекторов, автомобильных фар, гигантских освещенных окон, – красно-бело-желто-черный шум. Несмотря на холод, я докурил сигарету почти до фильтра. Погасил окурок о перила, бросил его вниз и вернулся в комнату.
Из гостиной все еще доносились голоса ведущего и гостей ток-шоу – Марио не переключил телевизор на свои мультики. Войдя в гостиную, я обнаружил его спящим на диване. Спал он крепко, я дотронулся губами до его лба и почувствовал, что лоб потный.
6
Когда я нес спящего малыша по коридору, меня охватило недовольство, близкое к отчаянию. Я не стал зажигать свет и уложил Марио на кровать одетым, только снял с него тапки. Когда я отпускал его, мне показалось, что он сохранил тепло моего прикосновения.
Я торопливо прошел по темной квартире – мне надо было освоиться с обществом призраков, – ориентируясь на свет из гостиной, где все еще горела лампа и слышались голоса из телевизора. Сел в кресло, на котором раньше сидел Марио, и попытался сосредоточиться на телепередаче, но я устал и замерз, уже ничего не хотелось, и я выключил телик. Проверил, работают ли еще батареи в гостиной; они были такие горячие, что я чуть не обжегся, тронув их пальцем. Наверно, холод проникал сюда из других комнат, но я не стал проверять, потому что еще не запомнил, каким из выключателей надо пользоваться, чтобы зажечь там свет. Марио сразу же заметил эту мою неумелость, – подумав о нем, я почувствовал восхищение и в то же время неприязнь. Да, мальчик весь в отца, потомок ученейших эрудитов, умник, всезнайка. В нем не было ничего от моей дочери, ничего от меня, ни в физиологии, ни в поведении. Этот ребенок был создан из чужеродного материала, его хромосомы и молекулы содержали информацию, которая оставалась для меня загадкой, которая накапливалась в течение долгих тысячелетий и, возможно, несла в себе угрозу. С грустной иронией я подумал, что и призраки, обступающие меня в этой старой квартире, должны чувствовать дискомфорт от присутствия этого ребенка с непонятным для них генетическим кодом. Они были злы на меня, потому что, изгнав их из моей жизни еще в отрочестве, я стал слабее. «Тебе захотелось стать аристократом, – говорили они, – и вот во что ты превратился».
Я прогнал прочь эти образы, кряхтя, поднялся с кресла и заставил себя снова обойти квартиру, но на этот раз при полном освещении. Еще подростком, когда я ходил здесь в темноте или в полумраке, мне виделись родственники отца и матери, которых я когда-то знал лично или по фотографиям. Они умерли во время войны, в этом я был уверен, даже когда они выглядывали из углов, прятались за дверью, за шкафом. Когда я обнаруживал их, они прикладывали палец к губам, подмигивали и беззвучно смеялись. Потом этот период в моей жизни кончился, но сейчас я помнил больше покойников, чем когда был ребенком, – за прошедшие годы многие мои друзья и знакомые умерли от тяжелых болезней, и тревог у меня прибавилось, так что даже сейчас, у себя в Милане, я просыпался от ужаса, уверенный, что в квартиру влезли воры и убийцы; бродил по комнатам, не в состоянии заснуть, и вздрагивал, увидев на стене тень дерева, качавшегося от ветра во дворе. Надо побороть навязчивые страхи, сказал я себе, сейчас не до призраков, пора подумать о том, что большая часть жизни прожита и сейчас я сам неотвратимо приближаюсь к смерти, быть может, уже завтра-послезавтра Марио найдет мое тело на полу, у раскрытого шкафа или в одном из темных углов этого дома. Сколько видений способен породить мозг, растревоженный нахлынувшими эмоциями! Этот мальчик не боялся темноты; но, возможно, после нашей с ним совместной жизни будет бояться, что ему явится мой призрак.
Меня клонило в сон, и не было сил работать. Я удостоверился, что единственное привидение, бродящее по дому, – это я сам и что к нам не забрались воришки, уставшие голодать, или наемные убийцы, посланные каморрой. Закрыл газовый кран, закрыл на цепочку и запер на два оборота входную дверь. Надо оставить ее запертой на весь день, подумал я: правда, дверная ручка расположена высоко, но, если Марио влезет на стул, он с его умелыми ручонками вполне сможет ее открыть и отправиться к своему так называемому другу на второй этаж. Я обошел квартиру еще раз, в обратном направлении, и всюду гасил свет. Когда я ложился в постель, стараясь не споткнуться о разбросанные на полу игрушки, мне подумалось, что нет причин бояться привидений – все они остались в старой квартире моего детства. В полусне я представил ее себе в виде карниза, огибающего жилье, где сейчас находимся мы с Марио. Я видел этих призраков и смог бы их зарисовать, но только находясь в таком месте, где я был бы в безопасности; старая квартира и квартира сегодняшняя были двумя обособленными пространствами, которые не пересекались. Когда я зажигал свет в сегодняшней квартире, призраки исчезали вместе с темнотой; а когда я, как вот сейчас, выключал последний оставшийся источник света и натягивал на голову одеяло, передо мной вставали освещенные комнаты старой квартиры и все ее обитатели со всем тем, что я вытеснил из моей личности; они являлись передо мной, словно инертная материя, которая, согласно измышлениям древних ученых, должна была вскоре превратиться в живую, хищную грязь.
7
Второй день был самым тяжелым. В пять утра я уже был на ногах. Пошел взглянуть на Марио. Он спал в одежде, как я его и уложил, до груди прикрытый одеялом; он сильно вспотел. Батареи еще не включились, и я побоялся, что, если сниму одеяло, он простудится; поэтому открыл только ноги, которые были в носках, и спину, защищенную пуловером. Сегодня вечером, подумал я, надо будет обязательно заставить его надеть пижаму, перед тем как пустить к телевизору. Потом вернулся в гостиную и успешно поработал: сделал несколько эскизов двойной квартиры, прежней и сегодняшней (вторая находилась внутри первой). В общем, я счел полезным отвлечься от местного колорита, характерного для рассказа Генри Джеймса, и закрепить на бумаге другие образы, связанные с квартирой, где я рос, и призраками, которые меня там преследовали. Что я, в сущности, знаю о Нью-Йорке конца XIX века, подумал я. Лучше использовать в качестве фона Неаполь. Я проложу между прежней квартирой и квартирой теперешней прозрачную трубу, по которой будут перемещаться маленькие мальчики, неразрывно связанные друг с другом, словно сиамские близнецы, выросшие в нищете и унижении; эти мальчики не прячут лица в тени, не закрывают их руками, им это не нужно, ведь их тела ущербны, у них нет рта или глаз, они молотят по воздуху уродливыми, недоразвитыми руками и ногами, терзают себя, потому что им необходимо как можно скорее вытянуться, вырасти, принять законченную форму.
Я пошел по этому пути и в предварительных набросках использовал неожиданные цвета, резкие, шокирующие оттенки. Я подумал о Марио: в моих работах ему с самого начала ничего не понравилось. Он пренебрежительно выпятил губы, когда увидел мои иллюстрации к сказкам, а мою картину, появившуюся на телеэкране, прямо назвал некрасивой. Но ведь ему только четыре года, и я был уверен, что он просто повторяет слова, которые слышал от Саверио, а может быть, и от Бетты. Только один раз он выразил собственное мнение: когда похвалил желтый цвет на какой-то из моих картин. Он сделал это так импульсивно, что трудно было усомниться в его искренности. В какой-то момент я вдруг услышал, что он ходит по квартире, сначала в ванной, потом на кухне. Я поправил один-два штриха и пошел смотреть, что он там затевает.
Он был на кухне, стоял на стуле у плиты. Зажег газ, поставил на огонь воду для моего чая и свое молоко. Я не хотел начинать день с упреков, поэтому спросил:
– Ты хорошо спал?
– Да, а ты?
– И я тоже.
– Удобно спать одетым, просыпаешься – и ты уже в порядке.
– Да, но все-таки надо умыться и переодеться в чистое.
– Ты уже умылся?
– Нет.
– Ты сделал пипи?
– А ты?
– Да.
– Выключи газ.
Он выключил газ, потом деликатно спросил:
– Можно я сегодня не буду умываться?
Я налил молока в его чашку и положил в чайник пакетик с чаем.
– Ладно.
– Умоюсь, когда мама приедет.
– Ладно.
– И буду спать одетым.
– А вот это нет.
На секунду он погрустнел, потом справился с собой, и в целом завтрак прошел спокойно. Зато оказалось непросто убедить его, что я должен закрыться в ванной для гигиенических процедур.
– Что такое гигиенические процедуры?
– Душ.
– А что я буду делать, пока ты будешь в ванной?
– Что хочешь.
Он подумал и, похоже, сдался.
– А можно я тоже приму душ?
Я велел ему взять чистое белье, затем поставил его под душ, а он своим обычным назидательным тоном напомнил мне: «Если купаться после еды, от этого можно умереть». Заметив, однако, что я не собираюсь спасать ему жизнь, он начал подпрыгивать, приплясывать, набирать воду в рот и брызгаться, кричать: горячо, горячо! Я его вытер, одел и выставил из ванной, сказав, что теперь моя очередь. «Можно мне остаться?» – спросил он. Я сказал: нет – и несколько минут слышал, как он прыгает в коридоре и что-то напевает. Потом он вдруг начал изо всех сил крутить дверную ручку, бить ногами в дверь, кричать: «Дедушка, я тебя вижу через скважину» и «Впусти меня, мне надо пипи, мне надо кака». – «Не шуми и будь послушным!» – крикнул я, и он тут же затих. Я наспех вытерся, оделся и распахнул дверь.
– Я не шумел и был послушным.
– Ну наконец-то.
– Когда у меня вырастет такая же пиписька, как у тебя?
– Ты что, правда смотрел в скважину?
– Да.
– У тебя вырастет пиписька гораздо лучше, чем у меня.
– А когда?
– Скоро.
Вдруг раздался громкий, решительный звонок в дверь. Мы с Марио растерянно переглянулись. Еще не было и восьми, кто это мог быть?
– Возьми большой нож для мяса и положи его на столик в прихожей, – посоветовал Марио.
– Зачем? Разве папа берет нож всякий раз, когда звонят в дверь?
– Нет, так делает мама, когда папы нет дома.
– А мы, мужчины, сильные, нам не нужен нож.
– Я боюсь.
– Тут нечего бояться.
Я пошел открывать. Передо мной стоял мужчина лет пятидесяти, худой как щепка, среднего роста, с изрезанным морщинами лицом и редкими волосами. Он держал в руке игрушки – красный грузовик и пластиковый меч, и я догадался, что это отец мальчика со второго этажа. Изобразив на лице радушие и любезность, я сказал:
– Большое спасибо, но вам не стоило беспокоиться, это было не так уж срочно.
Он смутился и произнес извиняющимся тоном:
– Это жена меня заставила, покоя не давала.
– Жены, они такие.
– Но все равно синьора Кайюри не права.
– В смысле?
– Она не понимает, что моему сыну шесть лет, и, поскольку у него не так много игрушек, как у Марио, он иногда прячет некоторые из них, чтобы поиграть одному.
– Пусть играет, не беспокойтесь, Марио сам оставляет их ему на какое-то время. Правда, Марио?
Марио, который стоял, вцепившись в мою ногу, внятно произнес «да». Сосед сказал:
– Я знаю, что Марио сам их оставляет, но синьора Кайюри этого не понимает. Поэтому будьте добры передать ей, чтобы ваш мальчик больше не спускал ведерко с игрушками и не приходил к нам. У нас в семье воров и жуликов нет. Воруют те, кому хватает денег, чтобы купить целую кучу игрушек.
– А сейчас вы не правы. Моя дочь не ворует, она работает.
– Я тоже работаю. Но ваша дочь говорит, что мы воруем, а это неправда. До свидания, Марио, извини, ты тут ни при чем, тебя мы любим.
И он протянул Марио игрушки. Мальчик взял их, но грузовик выскользнул у него из рук и упал на пол.
– Зайдите, я угощу вас кофе, – сказал я.
– Считайте, что я согласился. Всего доброго.
И ушел пешком по лестнице, не воспользовавшись лифтом. По-видимому, он действительно выполнял поручение жены, и делал это неохотно. Мне он показался славным человеком, я с удовольствием поговорил бы с ним о том, каким был Неаполь во времена моего детства и моей юности, до того, как я его покинул, о том, как в те времена все, и добро и зло, казалось лишь отражением среды, в которой я родился, и как сегодня и добро и зло кажутся глубоко въевшимися в человеческую плоть. Хотя у меня было полно работы, хотя было только восемь утра, я чувствовал потребность поболтать со взрослым человеком, мне уже надоело общаться только с ребенком. А Марио, подобрав грузовик, крикнул вслед соседу:
– Я положу его в ведерко и спущу Аттилио.
– Ничего ты не спустишь, – сказал я. – Иди к себе в комнату и сиди там. Сегодня я не хочу, чтобы мне мешали.
8
Не знаю уж, сколько времени я потратил на то, чтобы объединить созданные в эти дни эскизы и наброски и скомпоновать из них десять иллюстраций приемлемого качества. Работал я на совесть, работал так, словно перед глазами у меня действительно была старая квартира в мельчайших деталях и ее обитатели – боязливые или агрессивные, клубок юных тел, расплющенных о прозрачную стену, которая отделяла меня сегодняшнего от всего того, чем я мог стать. Эти существа ползали, подпрыгивали, извивались, боролись друг с другом, мучили друг друга, и, чтобы придать им законченный облик, я исчерпал в десяти иллюстрациях весь опыт моей жизни. Но я не мог целиком отдаться работе, я боялся, что забуду о Марио, который играл где-то в дальнем конце коридора, и еще больше боялся забыть о самом себе. Поэтому удовольствие от работы ни на миг не превозмогло напряжения. Просто я использовал все профессиональное умение и всю тщательность, на какие только был способен, а закончив, понял, что вкалывал исключительно для того, чтобы иметь право сказать себе: видишь, иллюстрации вчерне готовы, и я сделал их так, как ты хотел. Но не стоит рассчитывать, что они понравятся издателю.
Усталый, я принялся разглядывать большую картину, висевшую напротив. Когда я написал ее? Больше двадцати лет назад. В тот период мое творчество воспринималось в целом одобрительно, и это одобрение словно вдохнуло в меня новые силы. Мне все легко удавалось, что, в свою очередь, снова вызывало одобрение. Картина, висевшая напротив, принадлежала этому счастливому времени. Два метра в ширину, метр в высоту, только два цвета – красный и синий, каждый – одного тона, чистейшие цветовые колодцы на фоне деревянной поверхности, куда я вмонтировал настоящий металлический колокольчик. Выйдя из-за рабочего стола, я пересел в угол. Я еще не поднял жалюзи – мне всегда больше нравилось работать при электричестве, а стол стоял как раз под люстрой; в электрическом свете край колокольчика ярко вспыхивал, и возникала сияющая дуга, которая рождалась из красного и заканчивалась в синем.
Какую-то минуту мне казалось, что картина задумана удачно. Но затем решил, что это чувство удовлетворенности от старой работы на самом деле вызвано моей теперешней меланхолией. Действительно ли передо мной выдающееся произведение живописи или картина дорога мне как свидетельство той поры, когда мое тело было сильным, когда энергия во мне била ключом? Я начал искать в ней недостатки – и нашел очень много. И постепенно убедил себя, что состарился не только я сам, но и эта моя вещь. В итоге картина стала казаться мне просто испачканным куском дерева. Для чего я напылил по краям золотую краску, создав нечто вроде квадратного нимба, зачем проделал в абстрактном красочном пространстве выемку для реального предмета из металла? Мода проходит, с горечью подумал я, оставляя позади трудноразличимые следы тех, кто за ней гонялся. Я поднял жалюзи, и в комнату проник тусклый свет пасмурного дня: сегодня небо опять заволокли тучи. Я снова взглянул на картину – при естественном освещении она выглядела гораздо хуже. Красный был похож на некротическую ткань, синий напоминал грязную лужу. Уродливо и безлико. Так можно было сказать не только об этой картине, но и обо всех моих вещах, даже тех, что мне нравились, даже тех, что имели успех. Возможно, в толпе нарисованных мной привидений надо было уделить место и призракам картин, которые когда-то казались мне удавшимися, а теперь, по прошествии времени, казались полным провалом. Во мне было запрятано зерно истинного таланта, оно стремилось прорасти и поразить мир невиданными образами. Но мне – точнее, моей личности, какой ее выковало время, то есть совокупности усвоенных мной прописных истин и языков, на которых я научился изъясняться, – было под силу создать лишь произведения вроде этой картины на дереве с вмонтированным в нее колокольчиком. Право же, детские рисунки Марио, которые его хвастливые родители обрамили и развесили по стенам вокруг моей картины, и те были интереснее. Я взглянул на них: горы, лужайки, громадные цветы, загадочные звери, люди с огромными ушами, и все это нарисовано небрежными штрихами, в одних и тех же зеленых и синих тонах. Обычная детская мазня, Бетта в этом возрасте рисовала точно так же, все дети так рисуют. Мне стало невыносимо горько; я сейчас отдал бы что угодно за возможность начать все с нуля, стать кем-то другим. Надо глотнуть свежего воздуха, сказал я себе, открыл окна и дверь на лоджию. Затем пошел проветривать остальные помещения.
Я распахнул окно в кухне, потом зашел в кабинет Бетты, в комнату Марио. От затхлого воздуха у меня всегда начиналась головная боль, и мне не хотелось прибавлять к одному недомоганию другое. Все это время Марио, как положено дисциплинированному ребенку, занимался своими игрушками. Я слышал, как он разговаривал с ними, издавал разные механические звуки, выкрикивал приказы, подражал приторным голосам телеведущих. Когда я вошел, он сидел на полу и водил в воздухе рукой, в которой был зажат рогатый монстр, а в другой руке держал его противника, кого-то из супергероев. Когда он заметил мое присутствие, то на секунду остановился и бросил на меня взгляд, желая удостовериться, что я не собираюсь что-то там запрещать ему или ругать его; затем продолжил игру, словно меня не было в комнате.
Я открыл балконную дверь и поставил возле нее стул, чтобы ее не захлопнуло сквозняком, а главное, чтобы Марио не выскочил на балкон и не оказался там в ловушке. Перестелил, как сумел, наши кровати, засунул грязное белье в пакет. Но, начав рассматривать рисунки Марио в гостиной, уже не мог удержаться и краем глаза взглянул на множество рисунков, которые были развешаны и в этой комнате. Этот мальчик, размышлял я, будет расти, воображая себя исключительной личностью, которую ждет необыкновенная судьба. А как же иначе, если его родители уже сейчас, когда ему четыре года, превозносят его до небес. Взгляни на эти листки – всюду одни и те же разноцветные человечки, и здесь, и в гостиной, и в коридоре. Бетта и Саверио ничего не выбрасывали, поскольку были твердо убеждены, что в любой чепухе, нарисованной их сыном, чувствуется рука будущего гения. Я все больше мрачнел, хоть и пытался преодолеть дурное настроение, говоря себе: это от твоего физического состояния, ничего не поделаешь, старость не радость. Впрочем, у меня и раньше бывали тяжелые моменты, когда я терял веру в себя. Но сейчас, глядя на эти детские рисунки, я испытывал нечто другое, более органичное, оно бередило мне душу и требовало, чтобы его выразили полностью, до конца. К счастью, Марио пришел мне на помощь. Он прервал игру и подошел ко мне с суперменом в одной руке и монстром в другой. Указывая рукой с монстром на стену, он сказал:
– Этот рисунок темный, он тебе нравится?
– Они все мне нравятся.
– Неправда. Ты сказал, что они слишком светлые.
– Я пошутил. Ты сказал, что у меня рисунки слишком темные, а я сказал, что у тебя они слишком светлые.
– А я не понял, что это была шутка.
– Бывает, что чего-то не понимаешь.
– Но я буду рисовать так же хорошо, как ты?
– Лучше не надо.
– Значит, мои рисунки тебе не нравятся?
– Очень нравятся. Это рисунки ребенка, а рисунки детей всегда красивые.
– Воспитательница говорит, что мои рисунки самые лучшие.
– Воспитательница мало знает или вообще ничего не знает, и о многом судит неправильно.
– Неправда, – сказал он и ударил меня ногой монстра, слегка, чтобы я почувствовал категоричность этого отрицания.
– Ай! – вскрикнул я, притворившись, что мне больно, и щелкнул его двумя пальцами по плечу.
Он улыбнулся и, кажется, был доволен. Воскликнул: «Шутка!» – и хлопнул меня по ноге, на этот раз сильнее. Затем начал смеяться, повторяя: «Шутка! Шутка! Шутка!» – и каждый раз ударяя меня своей зверюгой, все сильнее и сильнее, все чаще и чаще. Потом стал кричать: «Умри, умри», а я пытался отражать его удары, уже ставшие болезненными. Но он бил меня и по тыльной стороне ладони, которой я заслонялся от него; в какой-то момент я почувствовал, что рога монстра оцарапали меня, и, когда он собрался ударить меня опять, схватил его за руку:
– Хватит, ты мне делаешь больно.
Тихо, примирительным тоном он произнес:
– Шутка.
– Это уже не шутка, посмотри на мою руку.
И я показал ему длинную царапину на тыльной стороне ладони. Он взглянул на капельки крови и вместо оправдания пробормотал: «Ты никогда не хочешь играть». У него вдруг задрожал подбородок, и, стараясь унять эту дрожь, он добавил:
– Я поцелую тебя в ранку, и все пройдет.
Я побоялся, что он сейчас заплачет, и позволил ему поцеловать царапину, но затем ощутил еще боль в ноге и в ягодице.
– Прошло?
– Прошло, но ты никогда больше так не делай. Знаешь, где у вас тут антисептик?
Конечно же он знал. Я пошел за ним в ванную, и он показал мне, где стоит флакончик с антисептиком.
– Сможешь открыть флакон? – спросил он.
– Да, я знаю, как он открывается.
– А я нет.
– А ты попробуй разок, может, получится.
Я выставил его из ванной и закрыл дверь. Осмотрел ногу и ягодицу, там тоже были маленькие ранки, я их продезинфицировал. В старости я стал бояться даже ничтожных царапин, мне представлялось, что в них может попасть инфекция, что у меня начнется сепсис, что я попаду в реанимацию. Думаю, это не был страх смерти, а просто боязнь дискомфорта, нарушения привычного образа жизни. Или ужас при мысли о длительном умирании. Я предпочел бы уйти быстро, в один миг, просто перестать дышать.
– Ты в коридоре?
– Да.
– Не уходи.
– Да.
Он явно волновался, думал, будто совершил нечто непоправимое; поняв это, я пожалел, что был недостаточно терпелив. Когда я вышел из ванной, то сказал ему:
– Сейчас поедим, а потом поработаем вместе.
– Будем рисовать?
– Да.
– В одной и той же комнате?
– Конечно, в одной и той же, иначе как бы мы смогли работать вместе?
9
Во время обеда я старался держаться с ним как можно мягче. И он тоже не хотел ставить под угрозу наше будущее сотрудничество. Вместо того чтобы давать указания, как накрывать на стол, он позволил мне сделать это самостоятельно. А когда надо было разморозить еду, накануне приготовленную Салли, даже не стал читать лекцию о том, как пользоваться микроволновкой. Единственным, что он себе позволил, были осторожные расспросы о том, как и сколько мы с ним будем вместе работать – он тоже употребил это слово. Я ответил, что мы будем работать долго, очень долго, пока не стемнеет. И заверил его (он сам спросил об этом, делая стеснительные паузы между словами), что помимо его собственных красок он сможет – правда, совсем немножко – воспользоваться моими. Я понял, что эта игра в совместную работу очень привлекает его, что она ему гораздо интереснее, чем игра в лесенку или в лошадку, и начал опасаться, что сам загнал себя в западню. Но понадеялся, что рисование вдвоем надоест ему раньше, чем мне, до того, как я, при моих не очень крепких нервах, успею потерять терпение, забыв, что имею дело с четырехлетним ребенком.
Перед тем как устроиться работать в гостиной, мы зашли в его комнату за бумагой и красками. При этом Марио решил взять меня за руку, как если бы нам предстояло пройти не по коридору, а по темному лесу, полному опасностей, и он должен был проследить, чтобы я не потерялся. Я вспомнил, что оставил дверь на балкон открытой, и хотел закрыть ее, однако Марио позвал меня – я должен был помочь ему уложить его орудия труда в пакет. Когда мы наконец направились в гостиную, он опять взял меня за руку, и я понял истинный смысл этого жеста: удержать меня в атмосфере взаимного доверия, которая возникла между нами и казалась такой многообещающей.
В гостиной он сначала захотел проверить, нельзя ли придвинуть его стул еще ближе к моему, убедился, что нет, и мы оба уселись за стол. Но затем он словно бы вспомнил о каком-то очень срочном деле и сказал: «Схожу за подушками». Я спросил, зачем они ему, и он принялся пространно объяснять, что ему будет очень неудобно сидеть на стуле, если он не подложит на сиденье несколько подушек. После этого он ушел и куда-то запропастился, а мне стало тоскливо в одиночестве, от этого серого неба, тусклого света, от покалывания в ноге и ягодице и жгучей боли в оцарапанной руке. Когда я уже нехотя собрался идти смотреть, куда он мог деваться, он бегом вернулся, неся маленькую голубую подушечку, из тех, что его мама раскладывала на полу в его комнате, чтобы он не простудился. Я уложил ее на сиденье, он вскарабкался на стул и, удостоверившись, что ему удобно, спросил, можно ли ему рисовать на моей бумаге, потому что она кажется ему более подходящей, чем его собственная. Я разрешил. Только после этого я откинулся на спинку стула, вытянул ноги под столом и, пока Марио терпеливо ждал, когда я дам ему задание, просмотрел работу, сделанную за последние дни.
С каждым просмотренным листом мое разочарование становилось все глубже. Я уже заподозрил, что работал не в полную силу. Десять практически готовых иллюстраций оказались совсем не такими, какими я их задумывал. Я попытался успокоиться, не заниматься самоедством, и вдруг мне пришла идея обратиться за помощью к мальчику, который заглядывал мне через плечо. Ведь больше никого рядом не было, а я нуждался в совете. И я спросил, нравятся ли ему мои рисунки. Это не была игра, я спросил его всерьез, я был искренен как никогда и сам удивился этому.
Услышав мой вопрос, Марио залился румянцем. Вместо того чтобы взглянуть на иллюстрации, он взглянул на меня – думаю, хотел понять, началась ли уже игра. Я подтолкнул к нему стопку листов, сложенных в том порядке, в каком иллюстрации должны были располагаться в книге; он внимательно посмотрел на первый лист, прямо-таки впился в него взглядом (эта старая метафора всегда приводила меня в восторг: взгляд превращается в стрелу, которая вонзается в предметы и в людей, чтобы преодолеть непостижимость мира). Наконец он сказал:
– Эта у тебя получилась светлая. Смотри, сколько тут желтого.
Я недоуменно взглянул сначала на него, потом на картинку, и понял, что он прав. Безотчетно, вопреки моим устоявшимся стилистическим предпочтениям, я уделил в этой иллюстрации много места желтому, или, во всяком случае, тем тонам, которые Марио считал желтыми. Неужели я сделал это, желая заслужить его одобрение? Я едва не рассмеялся, мальчик заметил это и серьезно спросил:
– Я неправильно сказал?
– Нет, – успокоил я его, – нет. Посмотри еще и скажи, что ты об этом думаешь. Дедушке приятно тебя слушать.
Но в этот момент зазвонил телефон. Как некстати, подумал я, и Марио был согласен со мной, он закричал: «Не бери трубку, это телефонные жулики, папа всегда орет на них, чтобы отстали». Еще один звонок, второй, третий, четвертый; мы занервничали. «Пойду возьму трубку», – сказал я, а Марио меня проинструктировал: «Наори на них, они испугаются и больше не будут мешать».
Я пошел на кухню, но трубки на базе не было – я оставил ее на полочке в ванной, возле умывальника. Я ответил. Нет, это не был один из тех бедолаг, которые зарабатывают на жизнь, навязывая товары по телефону, это была Бетта.
– Ты же говорила, что позвонишь во время ужина, или я ошибаюсь? – спросил я, прохаживаясь с телефоном по коридору.
– Говорила, но сегодня вечером я не смогу позвонить. В семь Саверио читает свой доклад, а потом у нас еще масса дел.
– Как ваши отношения? Налаживаются?
– Да куда там, стали только хуже. Он так волнуется перед докладом, что несет всякую чушь. Сказал, что, пока он репетирует текст перед камерой, я встречаюсь со своим другом. Дошел до того, что несколько минут назад чуть не отхлестал меня по щекам, притом на людях. Просто паранойя какая-то.
– Чуть не отхлестал по щекам?
– Да.
– Скажи ему, что, если он посмеет тебя ударить, я убью его.
– Убьешь? – Секунду назад ее голос был жалобным, и вдруг она рассмеялась. – Папа, ты хорошо себя чувствуешь?
– Я прекрасно себя чувствую. Скажи ему об этом.
Тут она захохотала, громко и безудержно, как бывало с ней в детстве.
– Ладно, – пообещала она, с трудом переводя дух. – Я ему передам: мой отец сказал, что, если ты отхлестаешь меня по щекам, он тебя убьет.
Бетта никак не могла успокоиться, ей казалось невероятным, что мне хватило смелости выразить в словах намерение, которое я в этот момент готов был осуществить на деле. Я веско сказал ей:
– Уходи от него, Бетта, ты еще молодая, ты красивая, ты умница. Найди другого мужа, который больше тебе подходит, роди ему сына, а может, дочь.
И снова она рассмеялась, но на сей раз деланым смехом.
– Ты с ума сошел. Как у тебя с Марио?
– Он сказал, ты не должна мешать нам.
– Очень хорошо. Чем вы занимаетесь?
– Рисуем.
– Ты видел, как он замечательно рисует?
– Ну да.
– Передай ему привет, скажи, что я его люблю, до завтра!
Я вернулся к Марио. Мне действительно было важно знать его мнение, даже если со стороны это выглядело абсурдом. Оказалось, в мое отсутствие он просмотрел все листы и аккуратно сложил их на столе справа от себя. «Ну как?» – спросил я. Он не ответил, захотел сначала узнать, кто звонил, были ли это телефонные жулики, на которых орал его отец. Когда я сказал, что говорил с мамой, он расстроился, спросил, почему я его не позвал. Мне с трудом удалось убедить его, что маме было некогда, и с не меньшим трудом удалось уговорить вернуться к картинкам.
– Ты больше не хочешь играть? – спросил я.
– Хочу.
– Тогда скажи, как тебе мои рисунки?
– Красивые.
– Ты уверен?
– Красивые, но немножко страшные.
– Они должны быть страшными, это история о призраках.
Марио покачал головой, очевидно, у него оставались сомнения, и снова стал рассматривать листы, ища какой-то определенный, нашел его и показал мне:
– Вот этот, который сидит, он кто?
– Главный герой рассказа.
– Как его зовут?
– Спенсер Брайдон.
– Это он призрак?
– Нет, призраки – это те, что за стеклом.
– Они плачут?
– Кричат.
– У них рты как дырки, там даже нет зубов. Нарисуй им хотя бы зубы.
– Они такие, как надо. А что ты скажешь о желтом?
Он задумался, потом произнес:
– Здесь желтый некрасивый.
Что это значит? Там, куда он указывал, не было ничего похожего на желтый цвет. Неужели он воспринимает происходящее как игру и говорит не то, что думает? Мысль об этом была невыносимой. С другой стороны, чего я ждал от такой бредовой затеи? Предложить четырехлетнему ребенку оценить мою работу, потому что я экстренно нуждаюсь в ободрении и поддержке, – чушь, да и только. Я решил прекратить это и сказал: «Ну хорошо, а сейчас будем рисовать ты свое, а я свое». Это ему не понравилось, и мы немного поспорили. Он вообразил, что мы с ним будем рисовать вдвоем на одном листе, и мне с трудом удалось убедить его, что каждый из нас должен сосредоточиться на своей работе и не мешать другому.
– Что мне рисовать? – недовольным тоном спросил он.
– Что захочешь.
– Я буду рисовать то же, что и ты.
– Хорошо.
– Нарисую призрак.
– Хорошо.
– И получится, что мы работаем вместе.
– Хорошо.
Я готов был прикрикнуть на него, если он не даст мне сосредоточиться, но этого не понадобилось. Через несколько секунд я перестал о нем думать, а он не делал ничего, чтобы напомнить о своем существовании. Конечно, я чувствовал, что он сидит рядом, но в этом было свое преимущество: я мог не беспокоиться о нем, мог спокойно поработать всю вторую половину дня, исправляя или переделывая то, что меня не удовлетворяло, а может быть, даже полностью все закончить. Если издателю не придется по вкусу и этот вариант – что ж, я найду себе другое занятие, чтобы скоротать старость. Жизнь прожита, то, что я мог и умел делать, уже сделано. Какая теперь разница, много это было, или мало, или вообще нисколько? Все свое время я с радостью отдавал любимому делу, а теперь, вместе со временем, ушла и радость. Рука все сильнее ощущала усталость, но раньше я так наслаждался работой, что не замечал этого. А сейчас ледяная нечувствительность пальцев не давала о себе забыть, она подавляла воображение, даже брала верх над моей жесткой самодисциплиной. Заметив это, я не стал больше утруждать себя, отложил листы. Еще раз взглянул на красно-синюю картину с колокольчиком и обернулся к Марио. Он сидел низко склонившись над своим рисунком, почти касаясь его носом и полураскрытыми губами. «Закончил работу?» – спросил я. Он промолчал. Я повторил вопрос. Он посмотрел на меня загадочным взглядом, ответил «да» и добавил:
– А ты закончил работу, дедушка?
На сей раз промолчал я. Марио поднял голову, и я увидел его рисунок, его краски. Ничего похожего на домики и лужайки, которые висели в рамках здесь, в гостиной, на десятки уродцев, наваленных стопками в его комнате. В этом рисунке проявилась удивительная способность воспроизводить увиденное, умение создавать композиционное единство, самобытное чувство колорита. Он нарисовал меня, и я получился вполне узнаваемым, таким, как сейчас, таким, как сегодня. И в то же время от меня исходил ужас. Это был мой призрак.
– У тебя есть еще такие рисунки? – спросил я.
– Тебе не нравится?
– Он замечательный. У тебя есть еще такие рисунки?
– Нет.
– Скажи мне правду.
– Я сказал.
Я показал на мазню, развешанную по стенам гостиной:
– Эти рисунки гораздо хуже.
– Неправда, они очень нравятся воспитательнице, и папе, и маме.
– Тогда почему сейчас ты рисовал по-другому?
– Я посмотрел, как рисуешь ты, и сделал так же.
Я взял у него листок, всмотрелся. И словно ощутил удар неимоверной силы, способный отбросить меня из центра мира к его границам. И вспомнил о другом шоке, который был у меня в детстве, когда я еще не знал о своем даре, а узнав, испытал изумление и в то же время страх. Но если тогдашний шок породил во мне непомерное тщеславие и упрямую, постоянно растущую веру в собственную исключительность, то теперешний, вызванный рисунком Марио, едва не уничтожил меня. Чтобы защититься, я взял карандаш и что-то подправил в этом рисунке. Мальчик пришел в восторг:
– Как здорово, дедушка, теперь он стал лучше!
Услышав эти слова – теперь он стал лучше, – я отложил карандаш, словно его заточенное острие причиняло вред не рисунку, а самому Марио, и отвел взгляд. Линии и цвета были для меня хуже отравы.
– Да, мы с тобой сегодня отлично поработали, – тихо сказал я.
Его лицо стало серьезным. Затем, взглянув на лист, работу над которым я прервал несколько минут назад, он важно произнес:
– Да, отлично. Твой рисунок получился очень светлым.
– Надо поставить подписи.
Он смутился:
– Я не умею правильно подписываться. Ты мне поможешь?
– Нет, каждый подписывается, как умеет, это нормально.
– Но если я подпишусь неправильно, я тебе все испорчу.
– Ты хочешь подписать мой рисунок?
Он насторожился.
– Мы же работали вместе.
– Давай так: ты подпишешь мой рисунок, а я твой.
Он радостно выкрикнул «да», и я дал ему свой лист. Весь напрягшись, он взял красный фломастер и вывел с краю неровными печатными буквами: «Марио». Я собрался подписать его рисунок тем же фломастером, но он сказал: «Нет, не красным, а зеленым». Я написал зеленым фломастером «Дедушка». Он был прав: зеленый лучше сочетался с цветовой гаммой рисунка. Я чувствовал себя униженным, это чувство усиливалось, и, когда оно стало нестерпимым, я, чтобы избавиться от него, воскликнул: «А теперь, когда игра окончена, давай все порвем». Я указал ему на свой рисунок, который он только что подписал, но затем, поскольку он вопросительно посмотрел на меня и в глазах у него была веселость, смешанная с беспокойством, взял другой из той же стопки и порвал на мелкие кусочки.
– Шутка? – тихо спросил он.
– Шутка.
Он издал радостный вопль и принялся рвать все мои рисунки с тем безудержным ликованием, с каким дети разрушают то, что они долго и тщательно выстраивали с помощью взрослых. Он разрывал их и подбрасывал клочки в воздух, визжал, хохотал. Но когда он собрался уничтожить свой рисунок, я остановил его.
– Ай! – недовольно вскрикнул он.
Я отобрал у него лист и сказал:
– Этот не рви, подари его дедушке, дедушка его сохранит.
Но он явно увлекся этой чудесной игрой и с улыбкой, вызывающе глядя на меня, попытался отобрать рисунок. Я слегка оттолкнул его и рассмеялся. Я совсем не понимал этого ребенка, он казался мне воспитанным, но сейчас вел себя как невежа. Он повторил попытку, но я не поддался. Поняв, что рисунок отобрать не удастся, он начал разбрасывать по комнате карандаши, фломастеры, краски, мой альбом и при каждом броске весело кричал: «Шутка!» Я попробовал втолковать ему, что игра окончена, но он не слушал меня, и тогда я стащил его со стула и жестко сказал:
– А теперь убери все это, и поскорее, а то мы опять поссоримся.
Только что он был вне себя от радости, но при этих словах мгновенно надулся.
– Но ты все-таки помоги мне.
– Ты все раскидал, ты и убирай.
– Ты же сам велел мне рвать рисунки.
– Да, но я не велел тебе устраивать тут кавардак.
– Мы же играли.
– Давай не будем спорить.
– Ты злой.
– Да, я злой. И я запрещаю тебе выходить из этой комнаты, пока ты не подберешь и не разложишь на столе все мои вещи.
Не знаю, что на меня нашло. Я чуть не замахнулся на него, рука оказалась бы в сантиметре от его лица, еще немного – и я влепил бы ему пощечину. Но я вовремя удержался и вышел из комнаты, а чтобы отвести душу, хлопнул дверью, да так, что с потолка упал кусок штукатурки.
10
Я отправился на кухню за сигаретами – они лежали у мойки. Я чувствовал, там, в гостиной, произошло что-то очень важное, но, чтобы разобраться в себе, нужна была передышка. Я решил не курить, а выпить ромашкового чаю. Стал рыться на полках и в ящиках, но не нашел ромашки, я даже не знал, есть ли она в доме, и не хотел спрашивать у этого строптивого чертенка. Бог ты мой, что он сделал, что он сумел сделать в двух шагах от меня, сидя за тем же столом. Надо было найти место, где я смог бы спокойно поразмышлять об этом.
Я пошел в уборную, помочился не без труда, вышел. И почувствовал, что откуда-то веет холодом. Закрыл ли я балконную дверь в комнате Марио? Кажется, нет – мальчик отвлек меня. Проверил – дверь была открыта. Я убрал стул, который приставил к ней, чтобы она не захлопнулась от сквозняка, выглянул наружу. Небо над деловым центром было совсем темным, но на краю еще светилась лиловая полоска. Тут я увидел, что на балконе нет ведерка, а веревка перекинута через перила. И снова кровь бросилась мне в голову. Значит, когда Марио заходил сюда взять подушку, он не смог устоять перед искушением и, нарушив запрет, отправил своему другу ведерко с игрушками. Рано или поздно отец Аттилио опять придет выяснять отношения, или, что еще хуже, придет его жена. Я рассердился и, осторожно ступая, вышел на балкон. С улицы дул ветер; я потянул веревку к себе, ощутил легкое головокружение, и меня замутило. К счастью, в ведерке было полно игрушек. Вдруг я услышал за спиной веселый голос Марио:
– Дедушка, сейчас я сыграю с тобой шутку!
Я обернулся:
– Не выходи, там холодно.
Но он не собирался выходить. Он изо всех сил толкнул дверь и запер меня на балконе.
Глава третья
1
Я никак не отреагировал. Бесконечно долгие секунды стоял у ограды балкона с веревкой в руках, ведерко свешивалось над пустотой, и голова у меня кружилась от вида белой дверной коробки и двойного стекла в двери. Шум уличного движения стал невыносимым, он заглушал все остальные звуки. Я не мог услышать Марио, не мог даже увидеть его. От дневного света остались только слабые отблески, он уже не проникал в комнату. Внезапно я отпустил веревку, медленно отошел от края балкона и тут наконец увидел Марио – маленькую неподвижную фигурку у балконной двери: руки все еще прижаты к стеклу, выражение глаз различить невозможно. Я ничего не сказал, все мои чувства словно оцепенели. Только приложил руки к двери, в точности повторив позу Марио, и сильно нажал на стекло. Я думал, что это он не дает мне войти, удерживает дверь, и мне легко будет преодолеть его сопротивление. Но дверь не поддавалась, и я запаниковал. Налег на дверь всем телом, тяжело дыша, понапрасну давя на стекло. Потом пришлось сдаться. Я остался на балконе, а Марио – внутри.
Усилием воли я сдержал крик, хотя в этот момент чувствовал к Марио такую неприязнь, что мне даже было трудно смотреть на него. Но я перенес это чувство на отсутствовавшего Саверио. Этот идиот поставил в квартире балконную дверь, у которой не было ручки с внешней стороны. Он думал только о том, чтобы уличный шум не мешал спать его сыну и чтобы в квартиру не залезли воры. А когда обнаружилось, что дверь с дефектом, не стал возвращать ее в магазин или вызывать мастера, чтобы починить ее; ему было не до этого, ему надо было отравлять жизнь моей дочери. Как Бетта могла столько лет прожить с таким человеком, да еще родить от него сына? Я нагнулся, чтобы лучше видеть Марио. Но увидел только его очень бледные руки, прижатые к стеклу. Спустившаяся тьма пожрала все – небо, балкон, комнату, мальчика. Я тихо постучал по стеклу, заставил себя улыбнуться.
– Хорошая шутка, – очень громко сказал я. – А сейчас, пожалуйста, зажги свет.
– Один момент, дедушка!
– Не беги, а то упадешь и расшибешься.
Теперь исчезли из виду и его маленькие ладошки – но всего на мгновение. Электрический свет залил комнату, ворвался на балкон, и мне стало легче. Марио вернулся очень быстро, он был в радостном возбуждении.
– А теперь что мне делать?
Именно в этом и была проблема – что теперь делать?
– А теперь садись на пол.
– А ты – на балконный пол?
– Конечно, – ответил я и не без труда улегся перед дверью с внешней стороны.
– А теперь?
– Минутку.
Мне надо было подумать, а главное, надо было тщательно взвешивать каждое слово, чтобы Марио не понял, что он натворил, и не перепугался. Он спросил:
– Ты меня видишь, дедушка?
– Конечно, вижу.
– И я тебя вижу. Помашем друг другу?
Он помахал мне, чтобы удостовериться, что я в хорошем настроении, и я ответил тем же. Но ему этого было мало. Улыбаясь, он постучал по стеклу, я улыбнулся ему и тоже постучал. Я поймал его взгляд. В этих блестящих глазах я отражался в виде маленькой смешной фигурки, которую он непостижимым образом перенес на бумагу и создал рисунок, потрясший меня до глубины души. Такое маленькое существо – и какой огромный мир живет в нем, сколько слов уже хранится в его памяти. Он подчинил себе эти слова, и, когда произносил их, создавалось впечатление, что он прекрасно понимает их смысл, хотя на самом деле он не понимал ничего. И это проявлялось во всем, что он говорил и делал. Он не понимал даже, что нарисовал и раскрасил пятнадцать минут назад. Марио был лишь маленьким фрагментом огромной живой субстанции, чьи возможности – как бывает с каждым из нас – пребывали в сжатом виде, в ожидании времени, когда они смогут развернуться в полный рост. В ближайшие десять-двадцать лет, чтобы жить было удобнее, он сумеет приглушить в себе все лишнее, то есть значительную часть самого себя, – так обширное пространство постепенно освобождают от вредных отходов – и устремится в погоню за какой-нибудь химерой, которую впоследствии можно будет называть «моя судьба». Марио, позвал я, стуча костяшками пальцев по стеклу, и он сразу оживился, ему не терпелось получить от меня задание. «Ты знаешь, что я не могу вернуться в квартиру?» – спросил я. Конечно, он знал – «знаю, дедушка», – но не видел в этом ничего плохого. «Сейчас мы немножко поиграем, – сказал он, – а потом ты вернешься». Очевидно, он представлял себе долгую череду развлечений, основанных на том, что он будет находиться по одну сторону стекла, а я по другую, и, когда ему это надоест, игра будет окончена, и я вернусь домой.
– Марио, – сказал я, – если кто-нибудь не откроет эту дверь, я не смогу вернуться.
– Тебе откроет Салли.
– Салли придет только завтра утром.
– Тогда будем играть до завтра утром.
– До завтра утром – это слишком долго, мы не можем столько играть.
– Тебе надо работать?
– Да.
– Ты слишком много работаешь, дедушка. Давай сейчас поиграем, а потом папа тебе откроет.
– Папа приедет послезавтра, а до послезавтра – это гораздо дольше, чем до завтра утром.
– Тогда я сам тебе открою. А теперь скажи, что мы будем делать.
В этот момент я чуть не потерял контроль над собой, меня остановило только ощущение, что у меня в кармане брюк лежит мобильник; но там оказались только сигареты и спички. Я даже не представлял, где может быть мой мобильник, я не пользовался им уже несколько дней: последний принятый звонок был от издателя, а сколько было непринятых, я не знал, потому что поставил телефон на бесшумный режим. Марио с силой стукнул по стеклу – ему не понравилось, что я отвлекся. Возможно, я выбрал неправильную тактику. Надо было напугать его, объяснить, в какую скверную историю мы попали из-за него. Но я уже начал говорить с ним притворно ласковым тоном, придется продолжать в том же духе.
– Марио, ты знаешь, где стоит домашний телефон?
Он оживился.
– Радиотелефон?
– Да, радиотелефон.
– Конечно, знаю.
– Сумеешь взять его?
– Да.
– Не влезая на стул?
– Да.
Он уже собрался бежать за телефоном, постучал мне в стекло:
– Подожди.
Я сказал, что сначала он должен сделать другое: взять листок из блокнота, который лежит на кухонном столе рядом с плитой, и принести мне.
– Бегом?
– Нет, бежать не надо.
Оставшись один, я почувствовал холод. В самом деле, ведь я был в тапочках и тонком джемпере. Ничего, я ведь скоро вернусь в квартиру. На листке с инструкциями Бетта написала несколько номеров, по которым я мог позвонить в экстренном случае. Марио прекрасно умеет пользоваться телефонами и телевизионными пультами, так что ему не составит особого труда набрать один из этих номеров и попросить о помощи. Я посмотрел вниз, во двор. Там было темно, как в колодце, не светилось ни одно окно, ни один балкон. Зато по левую руку от меня все было залито светом. Там проходила оживленная проезжая улица, мимо сиявшего огнями вокзала медленно двигались навстречу друг другу две цепочки автомобильных фар, красная и белая. Гомон голосов, раздраженное рычание моторов сливались в оглушительный шум. Я чувствовал себя более немощным, чем обычно, и не от физической усталости, а из-за чудесного рисунка Марио. Даже тревога, вызванная неприятным инцидентом, не смогла полностью вытеснить это впечатление.
Мальчик бегом вернулся, чуть не налетев на дверь, обеими руками приложил к стеклу листок бумаги. Я присел на корточки, чтобы рассмотреть его, снял очки. «Переверни его на другую сторону», – сказал я. Когда он сделал это, я увидел среди номеров, оставленных Беттой, номер Салли, и у меня отлегло от сердца. Я попросил Марио положить листок на пол и принести трубку радиотелефона. Он с некоторым смущением ответил:
– Я уже за ним ходил.
– И что?
– Его там нет.
– Что ты такое говоришь?
– Это ты не поставил его на место.
Меня опять охватила тревога. Да, это моя вина, во время обеда я говорил с Беттой, а потом, наверно, забыл поставить телефон на базу. Голова у меня стала никудышная, делаю одно, думаю о другом, жизнь вытекает, как из дырявой бочки. Я попробовал сосредоточиться, но мальчик дрожал от нетерпения, то и дело колотил по стеклу и спрашивал: «Дедушка, а что сделать сейчас?» Сейчас, сказал я себе, надо восстановить в памяти все, что я делал. Первый раз я воспользовался телефоном вчера вечером. Говорил с Беттой, расхаживал по квартире. Потом мы попрощались, и я поставил телефон на базу и, во всяком случае, не выносил его из кухни. Ведь сегодня, когда она позвонила, – «дедушка, что сделать сейчас?» – телефон был именно там. Но весь разговор с ней происходил в коридоре, это я помнил отчетливо. А потом – «дедушка, ну что?» – сразу же пошел к Марио, в гостиную. Мальчик ударил по стеклу обеими руками, давая понять, что он заждался. Я не выдержал и крикнул: «Хватит!» Марио захлопал глазами от изумления, отнял руки от стекла – ладони были раскрыты, как у человека, который хочет сдаться, – и застыл с полуоткрытым ртом. Я тут же пожалел о своей резкости – не хватало еще, чтобы он опять заплакал или разозлился и перестал общаться со мной. Я улыбнулся и добавил: «Извини, дедушка задумался; но теперь я знаю, где телефон, я точно оставил его в гостиной, на столе, сходи за ним, но не беги». Он мгновенно успокоился, сделал несколько нарочито медленных шагов к двери и исчез в коридоре.
На краю неба что-то сверкнуло. Надо подвигаться, чтобы не замерзнуть, подумал я. Встал на ноги, но не двинулся с места, слишком ненадежным казался этот каменный выступ, повисший над пустотой и содрогавшийся от проносящихся внизу машин и поездов. Впрочем, в эту минуту все казалось мне ненадежным: не только камень, но и железо, и цемент, и вообще все здания в этом городе. Во мне снова ожило ощущение хрупкости всего окружающего, чувство, которое Неаполь привил мне еще в детстве и которое в двадцать лет заставило меня бежать отсюда. Эти тесно стоящие здания были насквозь пропитаны развратом, насилием и воровством. Каждая минута жизни в нашем доме, в нашем квартале была отмечена страстью отца к игре, его погоней за ни с чем не сравнимым ощущением, когда карты трепещут в руке, ощущением, ради которого он готов был поставить на кон даже наши шансы на выживание. Я боролся изо всех сил, чтобы не стать похожим на него, на всех наших предков, на этот прогнивший город, чтобы доказать: я – другой. А источником, откуда я черпал силы, было чувство собственной исключительности. И вот теперь этот мальчик, в чьих жилах текла кровь каких-то неведомых гоминидов, этот мальчик, который должен был вырасти и стать мужчиной с широкими ладонями и толстыми икрами, устраивать жалкие сцены ревности, как его отец, лишь притворяющийся воспитанным, – в общем, моя абсолютная противоположность, – этот мальчик на моих глазах создал чудесный рисунок, считая, что просто подражает мне. Извлек это чудо откуда-то из своего нутра, из таинственных глубин своей ДНК, из молекул фосфора и азота. И тем самым показал мне, что от природы обладает такой же мощью, какую я приписал себе еще в детстве как знак отличия. Речь шла не только о моем даровании. Раз оно было и у него, а может, и у кого-то другого, даже у вчерашнего бармена, – значит, оно не определяло мою сущность, как я думал раньше. Я понял, что случилось со мной в гостиной. Рисунок Марио изменил мое представление о самом себе. Я вздрогнул, съежился и приник к стеклу, как будто свет, лившийся из комнаты, мог согреть меня.
Топ-топ-топ. Марио вернулся. И застучал трубкой по стеклу – он ее нашел. «Молодец», – похвалил я его. Он был очень возбужден, щеки горели, глаза блестели.
– А что дальше, дедушка?
2
Мне показалось, что дела пошли на лад.
– А теперь возьми листок и приложи его к стеклу, исписанной стороной ко мне, – сказал я.
– Зачем?
– Я должен выучить наизусть номер Салли.
Он сделал, как я сказал. Стараясь сосредоточиться, я несколько раз беззвучно произнес номер, потом, боясь, что он вылетит у меня из памяти, громко и раздельно продиктовал его Марио и попросил повторить. А он, гордясь и радуясь, что я предложил ему это испытание, выкрикнул:
– Тритрипятьодиннольдваодиндевятьдвапять!
– Молодец, повтори еще раз.
– Тритрипятьодиннольдваодиндевятьдвапять!
– А теперь позвоним.
Марио сел на пол.
– Ты тоже садись, дедушка.
Я с трудом уселся на пол как можно ближе к двери. Он про себя повторил номер и склонился над кнопками. Через несколько секунд он завопил:
– Привет, Салли, как дела? У меня все хорошо.
Я облегченно вздохнул и в свою очередь закричал:
– Скажи ей, что я заперт на балконе, и она должна сейчас же прийти и принести ключи.
Но мальчик как будто не слышал меня.
– Мама и папа еще не приехали. Я тут с дедушкой, мне очень хорошо. Только он так сильно хлопнул дверью, что я испугался. Сейчас он на балконе, и мы играем в телефон. Пока, Салли. Пока-пока, пока-пока.
Он отнял трубку от уха и спросил:
– Позвоним еще?
– Салли! – заорал я не своим голосом. – Салли, пожалуйста, не разъединяйся. Я на балконе и не могу войти в квартиру. Мне нужна помощь, Салли!
Мальчик растерянно взглянул на меня – должно быть, у меня было пугающее выражение лица. Потом сказал:
– Салли не слышит.
– Салли не слышит, потому что ты разъединися.
– Я не разъединился, – пробормотал он.
У меня вырвался вздох:
– Набери еще раз. Ты ведь запомнил номер?
– Тритрипятьодиннольдваодиндевятьдвапять.
– Молодец. Набери еще раз.
Он нажал на несколько кнопок, меньше, чем нужно было, чтобы набрать все цифры номера. Причем сделал это быстро, с напускной уверенностью, и во мне шевельнулось подозрение, что он звонит не по-настоящему.
– Марио, пожалуйста, набери номер еще раз, и сделай это очень внимательно, – сказал я.
У него задрожала нижняя губа.
– По-настоящему или понарошку?
– По-настоящему. Давай: три, три, пять…
Он перебил меня:
– Я не умею звонить по-настоящему, дедушка.
Я ничего не понимал. Секунду помолчав, я спросил его:
– Ты не знаешь цифры?
– Только две: ноль и десять.
– Но ты же пользуешься пультом! Ты умеешь находить канал с мультиками, значит, умеешь и пользоваться телефоном!
– Я еще маленький, – произнес он, и мне показалось, что это обстоятельство причиняет ему боль. Но тут ничего нельзя было поделать, он и правда был маленький, его родители, сами будучи математиками, научили его множеству слов, а вот цифрам не научили. Когда надо было включить каналы, на которых показывали мультики, он делал это, полагаясь на зрительную память. Но с телефоном было иначе, он нажимал кнопки наугад. Он делал это и сейчас, чтобы успокоиться, потому что он волновался. Глядя на эти подпрыгивающие пальчики, я подумал, может, кто-нибудь случайно откликнется, и уже хотел крикнуть ему: перестань, прислушайся, вдруг тебе скажут «алло». Но только в этот момент я обратил внимание на то, что, когда он нажимает на кнопки, звука не слышно, что экран не светится. В общем, телефон был выключен.
– Марио, пожалуйста, поставь телефон на базу, – сказал я.
Возможно, из-за холода я нечетко произносил слова, возможно, мне в моей просьбе недоставало решимости, но только Марио не двинулся с места.
– Мы больше не играем? – спросил он, глядя на трубку.
– Нет.
– Потому что я не умею звонить по-настоящему?
– Нет, потому что телефон не работает.
– Когда телефон не работает, с ним все равно можно играть, мы с папой так делаем, просто ты не хочешь играть.
– Марио, не спорь, иди и поставь телефон на место.
Он встал, но оставил телефон на полу. И сказал:
– Это ты виноват, что он не работает, ты не поставил его на место. Мама говорит, ты думаешь только о себе.
– Ладно, только сделай, что я говорю.
– Нет, я пойду смотреть мультики.
И он вышел из гостиной, хотя я заорал ему вслед:
– Марио, вернись, ты должен помочь мне. Помогать мне – это тоже игра.
Прошла минута, две; я надеялся, что мальчик где-то спрятался и ждет, когда я опять его позову, что позволило бы ему со мной помириться. Я постучал по стеклу, позвал его, но на сей раз ласковым голосом: «Марио, иди сюда, я вспомнил одну чудесную игру!» Ответа не было. Я действительно придумал для него игру: найти и принести мне мобильник. С этим аппаратом все было бы проще. Я показал бы ему символ, обозначающий последний входящий звонок, и назвал имя его матери, он позвонил бы Бетте, а она позвонила бы Салли и отправила ее к нам. Но тут по квартире разнеслись неестественно писклявые и басистые голоса, он включил мультики на полную громкость. Я вопил во все горло: «Марио! Марио!» – но без толку; было ясно, что он не желает меня слушать. А с другой стороны, если бы даже он услышал, даже если бы он вернулся в гостиную, – где я оставил мобильник?
Мне пришлось напрячься, чтобы это вспомнить, а вспомнив, я не обрадовался. Мобильник был в нескольких метрах от меня, за двойной стеклянной дверью. Он был там, куда я его положил, – на самой верхней полке стеллажа, среди безделушек, которые принадлежали Бетте, когда она была маленькой. Я сделал так для того, чтобы Марио не смог до него добраться. Он и не сможет – даже если залезет на стул. Впрочем, какая разница, где лежит мобильник; я только что вспомнил, что последний раз заряжал его три дня назад, и сейчас он наверняка не работает, так же как и домашний телефон.
Что за глупая непредусмотрительность, я заботился только о второстепенном, а главное упустил из виду. Я все еще сидел на корточках, привалившись к двери, чтобы защититься от ветра, и не мог заставить себя сделать хоть шаг вперед. Я был как те люди, которые боятся летать и за все время полета не только не ходят в туалет, но даже не решаются положить ногу на ногу: им кажется, что, если они сдвинутся со своего места, самолет потеряет равновесие, перевернется и упадет. Однако мне следовало что-то предпринять: кричать, пытаться привлечь внимание соседей или прохожих. Но как это сделать? Я находился на седьмом этаже, в стороне от оживленной улицы, а шум транспорта заглушил бы мой крик. Если даже рев и писк мультяшных героев из включенного на полную громкость телевизора не привлек ничье внимание, так кто здесь расслышит мой осипший от холода голос? Хотя, подумал я со вздохом, на самом деле это только предлог, чтобы не звать на помощь. Мне было стыдно. Когда-то я мечтал возвыситься над средой, в которой вырос, выйти в большой мир и найти там себе место. И теперь, на склоне лет, когда пришло время подводить итоги, я не хотел выглядеть истеричным субъектом, зовущим на помощь с балкона дома, где провел детство и откуда сбежал, снедаемый амбициями. Мне было стыдно, что я оказался запертым на балконе, что я не сумел предотвратить это, мне было стыдно, что я утратил всегдашнее чувство самодостаточности, не позволявшее мне просить помощи у кого бы то ни было, мне было стыдно, что меня, старика, поймал в западню маленький мальчик.
Кстати, о мальчике. С чего я взял, что он действительно сидит в кресле перед телевизором? Быть может, он разгуливает по дому и перебирает в памяти все слова, которым неосторожно научили его родители. Он мог включить газ. Мог поджечь дом, мог поджечь самого себя. Мог открыть все краны и залить квартиру. Мог утонуть в ванне или порезаться папиными лезвиями. Мог полезть на шкаф, опрокинуть его на себя и переломать себе кости. Мое воображение порождало одну устрашающую картину за другой, но, как ни парадоксально, чем больше я беспокоился за Марио, тем явственнее я видел в нем врага, притом врага взрослого и могущественного. Я вспомнил его взгляд, когда он сказал мне: «Я пойду смотреть мультики». У меня никогда не было столько силы, чтобы сказать: сделай, как я хочу, не сделаешь – тем хуже для тебя. Помнится, я был замкнутым и ранимым ребенком. Конечно, я часто таил в душе недобрые чувства, но всегда находил обходные пути, чтобы излить их. А вот у Марио были гены, благодаря которым он мог сойтись с кем угодно в открытом противостоянии и победить. Впрочем, возможно, я преувеличиваю, это обычный ребенок, и ведет он себя по-детски. Проблема не в нем, а во мне, я впустую растратил всю свою жизненную силу и теперь раздражался, учуяв энергию, скрытую в маленьком детском тельце. Ему удалось принизить даже мой талант художника, подумал я. Он показал мне, что за короткое время может перенять все мои хитрости, все, что я умел. Показал, что уже сейчас, в четыре года, может рисовать лучше меня. И я представил себе, что он сможет сделать, когда вырастет, если выберет мою профессию, отказавшись ради нее от своих многообразных талантов маленького хищника. Он затмит меня, зачеркнет даже память о моих произведениях, превратит в своего малоодаренного родственника, в трудолюбивую посредственность.
Я решил встать на ноги – необходимо найти какой-то выход. Вцепившись в перила, осторожно глянул вниз. На одном из этажей горел свет. Я не мог определить, на каком именно, слабый проблеск едва пробивался сквозь тьму в глубине двора, но мне показалось, что на втором. Может быть, размышлял я, враждебность матери Аттилио окажется для нас полезной. Надо спустить ведерко с игрушками до второго этажа и раскачивать перед балконной дверью, дразня ее и мужа. Так я и сделал, хоть и чувствовал себя полным идиотом. Где это видано, чтобы семидесятилетний старик забавлялся, как маленький ребенок? Убедившись, что ведерко опустилось до уровня второго этажа, я взялся левой рукой за перила, а правой начал раскачивать веревку. Я надеялся, что сосед или соседка выглянет на балкон, поднимет голову и увидит меня. Но в освещенном пространстве никто не появился. Расстроенный, я отпустил веревку, сердце у меня стучало, отдаваясь в голове. Потом я опять схватил веревку, дернул за нее, а затем отпустил, повторил этот трюк несколько раз. Никакого результата. В бешенстве я потянул за веревку и вмиг поднял ведерко наверх, это оказалось нетрудно, оно было легким. Я хотел побросать игрушки вниз, может, какие-то из них угодили бы на соседский балкон. Но когда я втащил ведерко наверх, оно оказалось пустым.
3
Я несказанно обрадовался. Значит, за эти несколько минут игрушки кто-то взял. Кто это был? Аттилио? Его мама или папа? В любом случае за этим должна была последовать какая-то реакция. Если игрушки увидела мама мальчика, она наверняка почувствует себя оскорбленной, прибежит наверх и в бешенстве начнет звонить в дверь. Какое счастье, что на свете существует бешенство! Теперь дело за малым: надо заставить Марио выключить телевизор или хотя бы убавить звук, иначе он не услышит звонка.
Я вернулся к балконной двери, все еще держа в руке ведерко, и другой рукой начал стучать в стекло, крича: «Марио, Марио, вернись к дедушке, я должен сказать тебе одну замечательную вещь!» У меня кровь стучала в висках, болело горло, было очень холодно. В конце концов, почти безотчетно, я сменил тон: «Марио, что ты делаешь, приходи скорей, а то я рассержусь». И пока я вот так кричал, постепенно теряя контроль над собой, то ли от напряжения, то ли из-за гемоглобина и ферритина, я увидел сквозь двойное стекло омерзительное зрелище. Противоположная стена, у которой стояла моя кровать, превратилась в громадный кусок сала с тонкими красноватыми полосками мяса, а из сала высовывались гадкие рожи и злобно глядели на меня.
Я закрыл глаза, потом открыл снова. Кусок сала с маленькими живыми лицами внутри был все еще там, и я почувствовал сильную тошноту. В ужасе я попытался вытеснить галлюцинацию другими образами, но это удалось мне, только когда вместо нее я представил себе нечто еще более страшное. Я увидел входную дверь, к которой должен был подбежать Марио, если позвонит кто-то из соседей со второго этажа. Это было абсолютно реалистичное видение: коричневая двустворчатая дверь, темная железная окантовка, дверная ручка, задвижка. И до меня вдруг дошло: даже если сюда прибежит все семейство со второго этажа, папа, мама, Аттилио и его братья; даже если они будут изо всех сил трезвонить в звонок; даже если мне удастся привлечь внимание Марио и уговорить его открыть дверь, он все равно не сможет это сделать, потому что я сам, собственноручно, запер ее изнутри, чтобы он не побежал опять к своему другу. Марио смог бы дотянуться до задвижки, только если бы влез на стремянку. Но ему бы не хватило сил вытащить ее из чулана, расставить и закрепить. И наконец, его детские ручки не смогли бы сдвинуть массивную шарообразную ручку задвижки.
Прошла секунда, показавшаяся мне бесконечной. С меня хватит, подумал я, сейчас польет дождь, я не хочу умирать на этом балконе, который так ненавижу, возьму вот и все тут разнесу. И поскольку у меня не нашлось ни одного контраргумента, я взял ведерко в правую руку и начал колотить им по стеклу изо всех оставшихся сил. Я ждал, что стекло разлетится вдребезги, и отступил на шаг, чтобы осколки меня не поранили. Но ведерко отскочило, издав звук, какой издает резиновый мячик, натолкнувшийся на препятствие, а стекло осталось целым. Тогда я окончательно потерял выдержку и стал наносить равномерные удары по стеклу и кричать так, что казалось, у меня лопнет глотка. В итоге у меня заболело запястье, пришлось его растирать, а стекло так и не разбилось. Я уже собрался пинать его ногами, но вовремя вспомнил, что на ногах у меня тапки, и я переломаю себе кости, а дверь останется цела, – и отказался от этой идеи.
Каким же я стал уязвимым. Когда-то я считал, что каждый мой поступок должен дать результат, верил, что одним удачно задуманным штрихом смог бы рассечь надвое скалу, а теперь даже стекло стало для меня непреодолимым препятствием. Я увидел собственное отражение: человек с ведерком в руке стоит, расставив ноги, наклонившись вперед, глаза под надбровными дугами – как две пещеры, торчащие скулы, ввалившиеся щеки. Меня насквозь продувал ветер, сверху на меня давило тяжелое черное небо, в уши лез неутихающий уличный шум, все тело оцепенело, – и вдруг я осознал, что смешон. Мужчина семидесяти пяти лет, растрепанный, жалкий, в сползающих брюках, который взялся присматривать за ребенком, но не способен присмотреть даже за самим собой. Я вспомнил о предложении Марио вычерпать пустоту ведерком и едва не рассмеялся. Возможно, это и вправду был единственный выход из положения – опускать ведерко один, два, тысячу раз, вычерпать бездну, перешагнуть через перила и пойти за помощью. Выполнять эту работу надо было терпеливо и старательно, опускать и поднимать ведерко снова и снова, пока не исчезнет эта пустота, которая когда-то приводила в ужас мою мать, а теперь пугала меня. И тогда маленький балкон превратится в каменную площадку, зажатую между стеклянными стенами – двойной стеклянной дверью, громадными окнами вокзала, окнами автомобилей и домов напротив, – крепкая, устойчивая конструкция. У мальчика верный глаз. Что он такое, этот ребенок, и чем станет, когда вырастет? Сам я в детстве ощущал гордость, сознавая, в каких радужных красках мама представляет мое будущее, какие разнообразные блестящие перспективы у меня впереди. Мама сияла от счастья, когда учитель говорил ей: «Это необыкновенный мальчик, со временем он совершит великие дела». Она возвращалась домой окрыленная этими словами. Она верила им. До сих пор ни о ком в нашей семье еще не говорили, что он совершил великие дела. Такого не могли припомнить ни родственники, ни друзья, ни соседи. Людей, которые совершают великие дела, было мало, ей они не встречались, она не могла рассказать о них, не могла до них дотронуться. А вот я, как заверил ее учитель, – один из таких необыкновенных людей. Она рассказывала об этом отцу, рассказывала всем подряд, что доставляло мне большое удовольствие. Фраза учителя наполнила собой все мое существо, я был полон ею всю свою жизнь, хоть нередко у меня и возникали сомнения. А что это значит, в сущности, – «великие дела»? И чем великие дела отличаются от малых? И где тот арбитр, который решит, великие дела я совершил или малые? С годами конкуренция на поприще великих дел резко возросла. Пока нас, стремившихся к великим делам, было немного, вера в собственную исключительность была вопросом интимным. Почувствовать себя кем-то уникальным не составляло особого труда, а чтобы доказать эту свою уникальность, было достаточно небольшого успеха, некоторой наглости и кое-каких внешних признаков депрессии или безумия, поскольку эти свойства, по распространенному мнению, являются непременными спутниками таланта. Со временем, однако, претендентов на исключительность сделалось намного больше. Еще сорок лет назад они стали толпой ломиться в тесные врата святилищ, где создаются искусство и культура. А сейчас, как я часто бурчал себе под нос в тиши своей миланской квартиры, исключительность превратилась в массовое явление, в поток, прорывающийся сквозь бесчисленные бреши, которые пробили для него телевидение и интернет; сейчас исключительность встретишь на каждом шагу, ей мало платят, а бывает, она сидит без работы. Смутные мысли такого рода появлялись у меня уже несколько лет, и порой они угнетали меня. Кто я такой, в сущности? Всего лишь представитель авангарда былых времен, который открыл дорогу толпе современных халтурщиков? Один из тех людей скромного происхождения, которые больше чем полвека назад породили все более широко распространяющуюся иллюзию величия? К старости у меня окрепло убеждение, что рано или поздно должно произойти какое-то необыкновенное событие, которое с предельной ясностью покажет, что я собой представляю, и навсегда избавит меня от сомнений на этот счет. Таким долгожданным событием должен был стать бесспорный шедевр, созданный мной. Он потрясет мир и докажет всем, что моя самооценка не была завышена. И вот это знаменательное событие произошло, причем в моем родном городе. И этим событием стал не шедевр, созданный мной, а комичный инцидент: я оказался заперт на балконе в квартире, где прошло мое детство. Виновником этого инцидента стал неугомонный мальчишка, Марио, который захотел вместе с дедушкой поиграть в художника, и в ходе игры в одно мгновение вырвал из его нутра неколебимую веру в себя, порожденную давними похвалами учителей, и в продолжение игры запер его на балконе. Сейчас, на ледяном ветру, под нависающим дождем, передо мной наконец предстала истина, показавшаяся мне очевидной. Энергия в моем теле иссякла не только в последние месяцы, после перенесенной операции. Внутри меня всегда была пустота, с самой юности, с самого детства, с самого рождения. Я ждал от себя слишком многого, и только благодаря собственному упорству стал тем, кем не должен был стать. Конечно, я напряженно работал и завоевал признание. К похвалам, которыми осыпали меня в детстве, добавились неплохая профессиональная репутация и заметный успех. Но это не изменило главного – то, что я бездарен, я пуст. Зияющая бездна разверзлась не по ту сторону перил, она была во мне. И вынести это я не мог. Я готов был запустить ведерко внутрь себя, лишь бы вычерпать оттуда пустоту.
На лоб мне упали первые капли дождя. В бешенстве я швырнул ведерко через перила, бросился к двери и уперся в нее плечом. «Марио!» – выкрикнул я изо всех оставшихся сил, и, к моему удивлению, это прозвучало так оглушительно громко, что я замер и прислушался. Музыка и мультяшные голоса смолкли. Похоже, Марио наконец выключил телевизор.
4
Несколько минут прошли в тревожном ожидании. Затем появился Марио, вид у него был довольный, перед его глазами все еще резвился кто-то из нарисованных персонажей.
– Дедушка, он за ним погнался и врезался в дерево! – весело объявил Марио.
Я не стал спрашивать, кто был этот он, боясь, что Марио пустится в долгие объяснения.
– Он тебя насмешил?
– Да.
– Отлично. А сейчас ты можешь сделать кое-что для меня?
– Без проблем.
– Можешь попробовать повернуть эту ручку так, как ее поворачивает папа, когда дверь не открывается?
– Я должен взять стул.
– Не надо, ты и так сможешь.
– Нет, чтобы сделать это как надо, я должен быть таким же высоким, как папа.
Не спросив у меня разрешения, Марио взял стул и подтолкнул его к балконной двери.
– Осторожнее, Марио!
– Я справлюсь.
Он влез на стул, а я в ужасе подумал, что я буду делать, если он сейчас упадет и расшибется. Но он не упал. Встав на ноги, он взялся за ручку двери.
– Ты должен нажать очень сильно.
– Знаю.
Марио сжал губы, его взгляд стал внимательным; он дернул ручку вверх, потом вниз и радостно крикнул: «Получилось!» Я осторожно нажал на дверь. Ничего у него не получилось. Дверь была заперта.
– Молодец. Попробуешь еще раз?
– Я же открыл.
– Марио, это не игра, попробуй еще раз. Дверь должна открыться не понарошку, а по-настоящему.
Он избегал моего взгляда, смотрел в пол.
– Я хочу есть.
– Будь добр, попробуй еще раз, хорошо?
– Дедушка, я хочу есть.
Начался дождь, ледяные капли попали мне на уши, за воротник.
– Если ты хочешь есть, ты должен впустить меня в квартиру. Попробуй открыть дверь.
Он захныкал:
– У меня сегодня даже полдника не было, я маме скажу.
– Открой дверь, Марио.
– Нет, – разозлился он. – Я есть хочу. – Вдруг он спрыгнул со стула, и у меня сердце замерло в груди.
– Не ушибся? – спросил я.
Он встал на ноги.
– Я умею прыгать лучше всех в садике.
Интересно, что еще он, по его мнению, умеет делать лучше всех? И сколько времени должно пройти, прежде чем он осознает, что во многих областях его первенство – плод воображения, что реальных преимуществ у него кот наплакал, и, наконец, придет к выводу, что он не может похвастать особыми достижениями в чем бы то ни было?
– Марио, ты точно ничего себе не ушиб? Почему ты трешь щиколотку?
– Мне тут немножко больно. Пойду чего-нибудь съем, и все пройдет.
– Марио, – позвал я, видя, что он, притворно хромая, собирается опять улизнуть. – Марио, подожди, я тоже хочу есть.
– Я принесу тебе хлеба.
– Не смей отрезать хлеб ножом! – крикнул я, но он уже был в коридоре.
Но достаточно ли одного этого запрета? Что еще мне следовало ему запретить? Поджарить в тостере хлеб. Приготовить яичницу. Включить микроволновку, чтобы разморозить ужин, приготовленный Салли. И многое другое. Вся квартира была в его распоряжении, словно декорация, на фоне которой он мог с максимальным правдоподобием играть свою роль маленького всезнайки. Саверио научил его слишком многим вещам, которые превосходят возможности четырехлетнего ребенка, и он защищался от этой непосильной ответственности, превращая жизнь в игру. Так он мог легко убедить себя, что умеет все, потому что, играя, не замечал своих промахов и провалов. Как убедительно, с какой непринужденностью он делал вид, будто справляется с любым делом не хуже взрослого. Я еще помнил те далекие времена, когда с детьми говорили на детском языке. Эта традиция при всем ее идиотизме позволяла соблюдать дистанцию между большими и маленькими. Тогда детей еще не приучали произносить взрослые слова, чтобы потом хвастаться их умом и развитостью. Мы с женой принадлежали к тем людям своего поколения, которые не признавали словечек вроде «бобо». Бетта в три года говорила как по писаному, пожалуй, даже ее сыну было до нее далеко. И как же мы гордились ею, заставляли демонстрировать свои познания перед знакомыми, задавали ей вопросы, словно попугаю. А что в итоге? Из-за этих непомерных требований у нее развилось недовольство собой, страх, что она никогда не сможет оправдать надежды, которые мы на нее возлагали. Может быть, именно поэтому она говорила Марио: «Я сделаю тебе атата по попке».
По правде говоря, сейчас я тоже охотно сделал бы ему атата. Я собирался опять заорать во всю глотку, чтобы его дозваться, – одновременно я приглаживал рукой волосы, от холода я стал хуже слышать, болела голова, болели уши, – как вдруг мне показалось, что в прихожей раздался звонок. У меня перехватило дыхание. Неужели соседи со второго этажа нашли игрушки, и мама Аттилио предприняла карательную экспедицию? Я сосредоточился, пытаясь не обращать внимания на уличный шум. Да, это действительно звонок. Я застучал по стеклу: «Марио, Марио!» На этот раз он прибежал со всех ног.
– Дедушка, звонят в дверь, это мама!
– Нет, это не мама. Марио, ты можешь внимательно выслушать то, что я скажу? Прошу тебя!
– Это мама, пойду открою.
– Марио, ты не сможешь открыть. Марио, послушай. Сейчас ты подойдешь к двери и крикнешь так громко, как только сможешь: «Мой дедушка заперт на балконе, позовите кого-нибудь». Повтори.
Марио покачал головой.
– Я сам умею открывать, это мама.
Усилием воли я заставил себя говорить мягко и спокойно:
– Марио, я тебе точно говорю, это не мама, а ты не в состоянии открыть дверь, она заперта на задвижку. Подойди к двери и повтори то, что я тебе говорю: «Мой дедушка заперт на балконе, позовите кого-нибудь».
Опять звонок, долгий и раздраженный. Марио не выдержал, крикнул «Иду!» и убежал.
Мне оставалось только ждать; дождь пошел сильнее. Как я ни напрягал слух, шум улицы перекрывал все остальные звуки. Я представил себе, что мальчик все же попытается открыть дверь, подтащит стул и влезет на него, чтобы дотянуться до задвижки. Он был упрямец, и я сомневался, что он сразу же скажет то, что я просил сказать. Но надеялся, что в конце концов он, как ученый зверек, произнесет эту фразу только ради удовольствия произнести ее. Я внимательно прислушивался, и вот, несмотря на раскат грома, расслышал еще один звонок. Кто бы ни стоял на площадке лестницы, он наверняка заметил, что Марио подошел к двери, – вряд ли мальчик хранил молчание. Возможно, он не сказал в точности то, что я просил его сказать, но должен был крикнуть или пискнуть хоть что-нибудь. Я рассчитывал на это, но не мог унять тревогу. Звонков больше не было. Означало ли это, что соседи сдались и ушли, или же они вступили в переговоры с Марио?
Он вернулся в гостиную.
– Это была не мама, – сказал он.
– А кто?
– Я открыл, но там никого не было.
– Марио, скажи мне правду, ты действительно открыл дверь?
Он смотрел в пол, вид у него был недовольный.
– Я пойду есть.
– Подожди, ответь мне, ты открыл дверь по-настоящему или понарошку?
– Дедушка, у меня разболелся живот, я правда хочу есть.
– Ты помнишь, что должен был сказать: «Дедушка остался на балконе, он не может войти в квартиру?» Ты это сказал?
– Уфф, я больше не буду играть, я есть хочу.
5
И он ушел, расстроенный и грустный. В какую же скверную переделку я попал, мне все надоело, и главное, мне надоел этот ребенок. Из-за него я сейчас стоял под проливным дождем. Я повернулся спиной к комнате, я ненавидел эту квартиру; чтобы не вымокнуть до нитки, я постарался как можно плотнее прижаться к стеклу. Дождь налетал с порывами ветра, который угрожающе завывал, словно в готическом романе, и капли вырисовывали вокруг моей тени на полу живой движущийся узор. Нет, так я не смогу укрыться от этого ливня. Все на мне уже было мокрое – брюки, тапки, джемпер. С карниза обрушивался ревущий водопад, небо непрерывно озаряли молнии, за которыми следовали раскаты грома. Улица внизу мгновенно превратилась в море, и оттуда доносился бесполезный разноголосый вой противоугонных устройств. Но мне почему-то казалось, что больше всего воды скопилось во дворе. Из этой темной бездны поднимался ледяной вихрь, как если бы освещенный балкон был мостом, под которым струился бурливый поток.
Мне стало страшно, я обернулся и заглянул в комнату, чтобы проверить, вернулся ли Марио. Почему он в таком плохом настроении? Может, упал со стула, когда пытался открыть задвижку? Поглощенный мыслью о еде, ушел на кухню и напрочь забыл обо мне? А что он все это время делает там, на кухне? А если вдруг во всем квартале погаснет свет и дом погрузится во тьму, и мальчик будет вынужден как-то справляться с этим в одиночку? А я ведь тут тоже один и вдобавок под дождем! Не в силах совладать с собой, я стучал зубами; мне показалось, что я не могу дышать. Вода с промокших волос стекала на глаза, заливала шею, уши, сердце щемило от тоски. И меня начали преследовать образы, которые я сам создал в эти дни. Внутри новой квартиры оживала старая, наброски соскакивали с бумаги и превращались в хоровод моих былых возможностей и замыслов; призраки моих многочисленных «я», уничтоженных еще в зародыше или просуществовавших совсем недолго, вырвались на волю и носились по дому, ища меня. Какая нелепая развязка. Вскоре у меня заболела шея, потом затылок, я почувствовал головокружение, тошноту. А вместе с тошнотой опять возникло недавнее видение – громадный кусок сала с мясными прожилками, омерзительная первозданная материя. Но сейчас оттуда уже не выглядывали маленькие головки, пытавшиеся выбраться наружу. Теперь в этом куске сала сидел Марио, его маленькое тельце, блестящее от жира, собралось в прыжке, готовое выскочить на меня. Я закрывал глаза, потом открывал, но видение не исчезало. Вот что я должен был нарисовать, подумал я. Призрак, который мне надо было изобразить на иллюстрациях, – это Марио. И он с самого приезда был у меня перед глазами. Его живая материя содержит в себе все мыслимое, все возможное. То, что проявлялось в долгой череде спариваний и рождений, предшествовавших его появлению на свет; то, что разрушилось и исчезло со смертью; то, что миллион лет ждало своего часа, а теперь вертится, извивается, рвется вперед, требует себе билет в будущее, хочет, чтобы его рисовали, писали красками, фотографировали, снимали в кино, выкладывали в Сеть, показывали по телику, пересказывали, обсуждали. Каким потрясающим призраком был этот мальчонка, такой маленький, но такой даровитый. Я не выносил его, мне все сейчас было невыносимо. Я чувствовал, как по спине у меня хлещет дождь. Мне представлялось, что ледяное дыхание воды уже достигло балкона и он превратился в сверкающий поплавок на черном болоте размокшего города. Тут прогремел оглушительный раскат грома, от которого содрогнулся весь Неаполь. Марио вбежал в комнату, в каждой руке у него было по ломтю хлеба, он крикнул:
– Дедушка, я боюсь!
Надо удержать его здесь, приласкать, у меня больше никого не осталось, подумал я.
– Тут нечего бояться, – сказал я, стараясь не трястись от холода. – Гром – это просто звук, как клаксон у машины, ты ведь их часто слышишь, верно?
– Ты весь мокрый.
– На улице дождь.
– Я тоже хочу быть мокрым.
– Будешь, как только откроешь дверь.
– Открою, когда съем хлеб.
– Договорились.
Он вскарабкался на стул, упираясь в него грудью и локтями, встал на сиденье и жадно откусил от одного из ломтей хлеба, а другой протянул мне.
– Это тебе, – сказал он. – Ешь.
И приложил хлеб к стеклу, а я открыл рот и сделал вид, будто что-то кусаю. Затем прокряхтел:
– Вкусно, очень вкусно, спасибо.
– Почему ты так разговариваешь?
– Потому что мне холодно. Слышишь, какой тут ветер, видишь, какой сильный дождь?
Он очень внимательно посмотрел на меня:
– Тебе плохо?
– Да, немножко плохо, я ведь старый. От холода и дождя я могу заболеть.
– И умереть?
– Да.
– Скоро?
– Скоро.
– Папа говорит, не надо расстраиваться, когда умирают злые люди.
– Я не злой, я рассеянный.
– Хоть ты и рассеянный, я буду плакать, когда ты умрешь.
– Не надо, папа ведь сказал, что ты не должен расстраиваться.
– Все равно буду плакать.
Тем временем он лопал свой ломоть хлеба, не забывая предлагать мне мой. И только когда он доел, я решился поговорить с ним.
– Марио, – сказал я, – ты необыкновенный мальчик, поэтому постарайся понять то, что я скажу. До сих пор мы с тобой развлекались. Ты сыграл со мной шутку, запер меня на балконе, мы с тобой звонили по телефону, мы с тобой ели. Теперь игра кончилась. Дедушка очень, очень нехорошо себя чувствует. Мне так холодно, что если я сейчас же не согреюсь, то могу умереть, не понарошку, а взаправду. Посмотри, какой дождь, ты видел молнию, слышал гром? Воды налилось столько, что скоро она дойдет до балкона. Мне страшно. Я вижу и слышу ужасные вещи, я готов заплакать. Сейчас я уже не взрослый, я стал маленьким, мне меньше лет, чем тебе. Должен сказать тебе правду: сейчас взрослый здесь – это ты, и только ты. Ты самый сильный, самый смелый, и ты должен меня спасти. Постарайся вспомнить, как открывают эту дверь, когда она не хочет открываться, ты должен повторить все, что в таких случаях делает твой папа, каждое его движение. Ты можешь это сделать, ты сумеешь это сделать; ты, хоть тебе и мало лет, все можешь и все умеешь. Ты слушаешь меня, Марио? Ты понимаешь, какая беда со мной случилась из-за тебя? Понимаешь, что, если я умру здесь, это случится по твоей вине, представляешь, что будет, когда вернется мама? Давай скорее, это уже не игра. Соберись, сосредоточься и поверни эту чертову ручку так, чтобы дверь открылась!
Начал я правильно. Я считал, что предпринимаю последнюю попытку, хотел, чтобы в ребенке проснулось чувство реальности, чувство ответственности, чувство долга. Но сам при этом повел себя безответственно, голос у меня, помимо моей воли, из ласкового превратился в угрожающий. Под конец я не выдержал, поддался панике и впал в ярость. «Ты слушаешь меня, Марио? Ты понимаешь, какая беда со мной случилась из-за тебя? Понимаешь, что, если я умру здесь, это случится по твоей вине, представляешь, что будет, когда вернется мама? Давай скорее, это уже не игра. Соберись, сосредоточься и поверни эту чертову ручку так, чтобы дверь открылась!» В этот момент во мне что-то сломалось, выплеснулась наружу вся неприязнь, которую я почувствовал к нему со дня приезда, с минуты, когда он заявил, что мои иллюстрации темные. Я выкрикивал ругательства на диалекте, молотил по стеклу кулаками, забыв, что могу поранить себя и его и этим еще больше осложнить ситуацию.
Как я дошел до такого состояния? Не знаю. Разумеется, ударяя по стеклу, я хотел ударить его – нет, не этого малыша на стуле, конечно же нет, а фигурку, вылезавшую из куска сала, которая наводила на меня ужас, сгусток неосознанной мощи, который мне виделся в нем, всю отвратительную живую субстанцию, которая постоянно выпирает наружу, как гнойные прыщи на лице, обретает язык, формирует и переформировывает самое себя и все вокруг, без конца что-то копирует и воспроизводит, всегда гонится за химерой и всегда испытывает разочарование. Наверно, когда я последний раз ударял по стеклу, то был похож на самого жуткого из вампиров, прилетевшего напиться свежей крови. Марио, у которого глаза уже были полны слез, вздрогнул, сделал шаг назад и упал со стула.
6
Я испугался того, что могло случиться с мальчиком, и этот страх вмиг вытеснил все остальные эмоции. Отказавшись от намерения голыми руками выбить двойное стекло, я стоял неподвижно, по занесенной для удара правой руке хлестал дождь. Где был Марио, не ушибся ли он? Дождь заливал глаза, я ничего не видел, только слышал его крики. «Марио, – позвал я, – ты ушибся? Не плачь, откликнись!» Он лежал на полу рядом со стулом. Лежал на спине, размахивал руками, дрыгал ногами и плакал так, как плачут отчаявшиеся дети, без всякого удержу, издавая пронзительные вопли. Он был маленький, с ним могло произойти что угодно. Со времени моего приезда я еще ни разу не видел его таким уязвимым, без взрослых слов, без самоуверенных взглядов. Все его движения были абсолютно бесконтрольными, а слезы текли не для того, чтобы чего-то добиться или чего-то избежать, это были слезы, какими оплакивают утрату или провал, слезы, копившиеся уже давно и скрываемые под маской маленького всезнайки, с помощью которой он пытался расположить к себе неотзывчивого дедушку, то и дело дававшего ему почувствовать свою холодность.
– Марио, послушай, иди сюда.
– Нет! – завопил он еще громче, молотя ногами по воздуху, чтобы отогнать звук моего голоса. Он плакал и плакал, на это было страшно смотреть, дергался, словно у него были судороги. Потом движения стали медленнее, приступ отчаяния пошел на спад. Я сказал:
– Вставай, посмотрим, что с тобой случилось.
– Нет.
– Ты ушиб голову?
– Нет.
– Тебе больно?
– Да.
– Где тебе больно?
– Не знаю.
– Иди сюда, я поцелую больное место.
– Нет, это из-за тебя я упал.
– Я не нарочно.
– Я маме скажу.
– Ладно, скажешь, только сейчас иди сюда, я тебя поцелую, от поцелуев боль проходит.
– Поцелуи не помогают, надо мазать мазью.
– Спорим, что поцелуи помогают?
Он с трудом поднялся на ноги, весь красный, мокрый от слез и соплей, на губах поблескивала слюна, тело вздрагивало от рыданий, но уже не так сильно, как раньше. Когда он шел к балконной двери, мне показалось, что он тащит за собой обрывки гостиной, беловатые волокна грязной стены, протеины и ферменты. Я вдруг почувствовал, что в этой живой кукле, помимо прочего – помимо прочего – есть и нечто такое, что в последние семьдесят лет я считал исключительно своим и что, напротив, пришло откуда-то из дальнего далека. Оно странствовало во времени, переходя от одного сочетания мяса-костей-жил к другому, схожему с ним, разрушалось и восстанавливалось, исчезало и появлялось снова. Многие из этих сочетаний, удивляясь самим себе, чертили волшебные знаки на воде или в пыли, связывали воедино звездные лучи, врезали летящие линии в углубления и выступы скал, в морщинистую кору деревьев, а порой и сжимали карты, творя чуткими пальцами свою судьбу, злую или добрую, как получится. Призраки пробираются в будущее и обосновываются там. И вот сейчас Марио, маленький, но непобедимый призрак, трогал свое правое колено, настойчиво указывал на него, чтобы я осознал всю серьезность причиненного ущерба. Он прижал колено к стеклу, а я наклонился, чтобы поцеловать ушибленное место, но все равно не доставал до него; тогда я стал на колени в глубокую лужу, скрючился и поцеловал стекло, обмакнув губы в ледяную воду, ручьями струившуюся сверху.
– Как ты? – спросил я.
– Немножко лучше.
– Убедился, что поцелуи помогают?
– Да.
– Кто внук дедушки?
– Я.
– Пошевели ногой, покажи, где болит.
Он радостно выполнил эту просьбу.
– Больше не болит.
– Тогда сядь, я расскажу тебе сказку.
– Нет, ты весь дрожишь от холода. Давай теперь я тебя поцелую, чтобы тебе стало лучше.
Он поцеловал стекло.
– Тебе лучше?
– Гораздо лучше.
– Тогда я сейчас принесу отвертку и открою дверь.
Я испугался, что он опять надолго уйдет, и произнес непритворно умоляющим голосом:
– Побудь здесь. Составь мне компанию.
– Я скоро.
– Пожалуйста, не делай ничего такого, что может тебе навредить. Иди сюда, поиграем в твои игрушки, дедушка не хочет оставаться один.
Зря я старался, его нельзя было удержать. В одно мгновение он снова оказался в том мире, который нравился ему больше всего, в мире, где ему все удавалось. Я попытался собраться с силами, чтобы встать на ноги. Дождь лил уже не так сильно, наверно, он должен был скоро перестать. В каком же я был виде: весь промокший, от волос до тапок, насквозь продуваемый ветром, который никак не унимался. Катастрофа показалась мне настолько чрезмерной, что даже стала нравиться. В последние несколько минут случилось нечто такое, что я осознал только сейчас и что, к моему удивлению, помогло мне успокоиться. Должно быть, я, не отдавая себе к этом отчета, преодолел некий рубеж, и у меня уже не получалось беспокоиться о самом себе. Жизнь, вся моя жизнь, ускользнула от меня, предательски, без сожаления. Я не смогу проиллюстрировать Генри Джеймса, это свыше моих возможностей, и в любом случае мне уже не хватит сил на новую попытку. То, что я умел делать, умещалось в определенных границах, и не стоило даже пробовать достичь большего. Большее – это рисунок Марио. Неизвестно, впрочем, сможет ли он при своей одаренности что-нибудь создать. Ах, это пресловутое созидание, мечта, которая превращается в одержимость. С юных лет я придавал ей слишком большую важность, тогда как на самом деле – я понял это только сейчас – для ее осуществления надо было всего лишь прорисовывать контуры и наносить краски. В сущности, даже не работа, а приятное хобби. Я ведь мог заняться более полезным делом, вначале у меня была к этому склонность: переделывать, поправлять, убирать лишнее и учить других переделывать, поправлять, убирать лишнее. А я просто играл до самой старости, чтобы убить время. Я хотел отгородиться от того ужаса, который распространялся по нашему дому, по этим улицам, по всей земле, отравлял все, что вокруг меня казалось безмятежным, любящим, священным, а на самом деле корчилось в муках. Вот хорошо, Марио уже вернулся. Сначала я услышал доносившийся из коридора лязг металла, потом появился он сам, толкая перед собой металлический ящик. Он пересек с ним всю комнату и остановился у балконной двери. Он был весь красный от натуги и, конечно же, мог ушибиться или пораниться еще раз, когда сдвигал с места эту тяжеленную штуковину. Я сказал ему, что не надо было тащить сюда весь ящик с инструментами, что, если ему нужна была отвертка, достаточно было взять только ее. А папа всегда делает так, ответил он, уселся на пол, быстро и ловко открыл ящик и вытащил оттуда отвертку с желтой ручкой.
– Не влезай на стул, – взмолился я.
– Мне не надо влезать, я должен вставить отвертку в эту дырочку внизу.
– Ладно, играй, но только не оцарапай дверь, она новая.
– Я не играю, дедушка, я делаю взаправду.
– Рад за тебя. Делать взаправду – интересная игра.
Он не встал с пола, а стал передвигаться, ерзая на заду, пока не добрался до двери. А я, выпрямившись, глядел на него не отрываясь, но только для того, чтобы иметь перед глазами что-то ясное и надежное. Хотя на самом деле, отчасти от неудобной позы, отчасти из-за мокрых очков, отчасти из-за запотевшего стекла балконной двери, отчасти потому, что я чувствовал – силы у меня на исходе, я совсем ничего не видел, и надеялся только, впрочем без тревоги, что Марио не поранится отверткой.
– Ты сказал «абракадабра»?
– Папа так не говорит.
– Если сказать «абракадабра», получается лучше.
– Абракадабра.
– Ну что?
Он положил отвертку на пол, затем серьезным тоном произнес:
– Готово.
– Молодец, – пробормотал я и подумал, что мы всю жизнь живем так, словно мерки, с которыми мы подходим ко всему на свете, и в том числе к самим себе, являются непогрешимой истиной, и только в старости осознаем, что речь идет лишь об условностях, в любой момент легко заменяемых на другие условности, и главное – доверяться тем из них, что раз за разом кажутся нам все более достойными доверия. Мой внук поднялся на ноги, похоже, он был очень доволен собой. Он уложил отвертку обратно в ящик, следуя, как обычно, указаниям Саверио и строгим правилам соблюдения порядка, установленным матерью. Потом повернулся к двери. Взялся за ручку обеими руками, опустил ее – и дверь открылась.
7
Войдя в комнату, я сразу закрыл за собой дверь. Боялся, что балкон затащит меня обратно. Поприветствовал Марио, не прикасаясь к нему – я был слишком мокрый. «Ты все умеешь, – сказал я, – у тебя масса талантов, ты просто чудо». После этого я сразу же пошел в ванную, открыл душ, сбросил промокшую одежду и, оставшись в одних трусах и носках, влез под обжигающую струю. Марио это страшно понравилось, он захотел сделать то же самое, и я ему разрешил.
– Я тоже буду в трусах и носках!
– Хорошо.
По мере того как я согревался, во мне снова набирали силу душа, дух, жизненная энергия, электрохимические реакции или как там еще. Но что бы это ни было, оно было несопоставимо с тем, что сейчас проявлялось в пронзительных криках и взрывах смеха, сотрясавших тело мальчика все время, пока мы танцевали под горячей водой, пока мы влезали в халаты, пока я стоял, прижавшись к батарее, а он отчаянно пытался сорвать колпачок с фена.
– Ты меня обжег!
– Ничего подобного.
– Ты не умеешь им пользоваться, так не сушат волосы!
– Верно, твой дедушка старый осел, но все обошлось, и не будем больше об этом.
Мы разморозили последнюю порцию еды, которую оставила нам Салли, поели, переоделись в пижамы и смотрели мультики до тех пор, пока Марио не сморил сон. Я уложил его в постель и собирался лечь сам – я смертельно устал, глаза слипались, – но перед этим решил зарядить оба телефона, домашний и мобильный, а еще проверить, действительно ли в балконной двери есть волшебная дырочка, о которой говорил Марио. Никакого отверстия в двери я не нашел; впрочем, надо признаться, мое зрение оставляло желать лучшего. Стоило мне коснуться головой подушки, как я мгновенно заснул.
На следующий день нас разбудила Салли. Два сони, дедушка и внук, ворчала она себе под нос, поднимая жалюзи. Затем показала совсем еще сонному Марио двух кукол и машинку. Она хотела знать, почему он оставил их на лестничной площадке. Далее обратилась ко мне, причем очень громким голосом: «Никогда еще не видела в этом доме такого беспорядка, чем вы тут занимались, водой друг друга поливали?» В ответ я только вежливо попросил ее выйти. А вот мальчик закричал: «Хочу еще поспать, не трогай мои игрушки».
Салли приготовила нам завтрак; выяснилось, что она в прекрасном настроении – только что обручилась с одним официантом из Скафати. Она рассказала, что это робкий, стеснительный мужчина, на три года старше ее, вдовец. У него четверо взрослых сыновей. Она вчера взяла свободный день потому, что он не торопился с признанием в любви и надо было немножко подтолкнуть его.
– У тебя есть невеста, дедушка?
– Нет.
– У меня их много, – сказал Марио, обращаясь, однако, не к Салли, а ко мне.
– В этом я не сомневался, – ответил я. – А вот у дедушки с невестами всегда были проблемы.
– Если хочешь, отдам тебе одну из своих, – предложил Марио.
– Я хотела стать невестой Марио, – вмешалась Салли, – но он меня не любит, поэтому сказал «нет».
– Ты старая, – сказал мальчик.
– Твой дедушка тоже старый.
– Нет, мой дедушка не старый.
Марио захотел быть в ванной рядом со мной, пока я буду бриться. В какой-то момент он сказал:
– Может быть, папа с мамой разведутся.
Я был доволен, что он решился поделиться этим со мной.
– А ты знаешь, что такое развод?
– Да.
– Я так не думаю. Если знаешь, объясни.
– Они меня бросят.
– Так и есть, ты не знаешь, что такое развод. Они бросят друг друга, но не тебя.
Секунду он помолчал, потом смущенно спросил:
– Если они разведутся, я смогу приходить к тебе домой?
– Всегда, когда захочешь.
Мне показалось, это его утешило. Он спросил:
– Будешь работать сегодня?
– Нет, я больше не работаю.
– Правда?
– Правда.
– Папа говорит, кто не работает, тот не ест.
– Твой папа, как всегда, прав. Я не буду есть.
– Если ты не работаешь, давай поиграем?
– Нет, сегодня солнышко, мы прогуляемся.
– Я не хочу много ходить.
– Я тоже. Мы поедем на метро.
Он был в восторге, как я понял, метро для него было чем-то вроде Диснейленда. Больше всего ему там нравились эскалаторы на площади Гарибальди, но он этим не ограничился, захотел побывать на всех станциях. Спустимся вниз, посмотрим и поднимемся обратно, говорил он, они с папой иногда так делают. Я согласился. Дольше всего мы задержались на станции «Толедо». Катались вверх и вниз на эскалаторе, а еще он захотел показать мне игру красок и света на мозаичных картинах, украшающих стены станции. Вот это солнце, объяснял он мне, там – море, вот это – святой Януарий, а там – Везувий. Пролетело утро, пролетел день. Вечером позвонила Бетта. Она казалась довольной, в первый момент я не понял почему. Потом выяснилось, что у нее был повод гордиться Саверио. Его доклад имел большой успех, весь конгресс только и говорил об этом. «А в остальном?» – спросил я. «Прекрасно», – ответила она и захотела поговорить с сыном. Я передал трубку Марио, а сам остался стоять рядом, чтобы услышать, что он ей скажет. Марио подробно рассказал о нашем путешествии по метрополитену, сообщил о помолвке Салли, но ни единым словом не упомянул об истории с балконом. Впрочем, об этой истории за весь день не было речи и между нами. В какой-то момент, когда я чихнул и закашлялся – у меня начиналась сильная простуда, – он озабоченным тоном спросил: «Ты не сбросил ночью одеяло, дедушка?» И ничего больше. Возможно, на него это происшествие не произвело ровно никакого впечатления. Или, что более вероятно, в его хранилище взрослых слов, которыми можно было блеснуть при случае, не нашлось ничего подходящего и он решил обходить молчанием эту историю до неизвестно каких пор. «Потому что, если ночью сбросить одеяло, можно простудиться», – пояснил он свою мысль, и тема была закрыта.
8
На следующий день вернулись его родители, они приехали около трех часов дня. Я обратил внимание, что Марио, у которого был культ отца, тем не менее первым делом бросился в объятия матери. Она взяла его на руки, и они долго осыпали друг друга поцелуями.
– Ты рад, что я вернулась?
– Да.
– Как ты тут провел время с дедушкой?
– Очень хорошо.
– Ты не мешал ему работать?
– Он больше не работает.
Эта новость нисколько не встревожила мою дочь, которая сказала: «Он больше не работает, потому что ты невыносим, наверно, ты его совсем замучил». И рассмеялась, блеснув зубами; зубы у нее были удивительно красивые, в точности как у Ады. Этот блеск осветил ее лицо, всю ее фигуру, и мне стало ясно, что она изменилась. Казалось, она только что проснулась после долгой череды прекрасных сновидений, которые считала правдой. «Иди к маме», – сказал я малышу, и они не расставались до самого вечера.
А мне пришлось общаться с Саверио, хотя мне с ним всегда было скучно – но у меня не было выбора. «Я знаю, что твой доклад имел большой успех в Кальяри». Он кивнул с напускной скромностью, но не смог долго сдерживаться и, зная, что я ничего не смыслю в математике, тем не менее стал объяснять пункт за пунктом, в чем состоит новизна его доклада. А я чувствовал, что остававшийся у меня скудный запас энергии был на исходе, я часто чихал, то и дело кашлял. «Ты выдающийся специалист в своей области», – сказал я, только чтобы прервать этот поток слов. Он ответил своим обычным церемонным тоном: «Но ты в своей гораздо лучше». Я запротестовал и, не зная, о чем говорить дальше, спросил, как у него с Беттой.
Я совершил ошибку. Он густо покраснел, это было настолько заметно, что я отвел глаза, не желая смущать его. «Я наговорил и наделал немало глупостей», – с трудом произнес он; и продолжал говорить, поминутно переводя дух, то жестикулируя, то сплетая руки, как будто они ему мешали. Он рассказал мне о своих навязчивых подозрениях, о кошмарах, которые виделись ему наяву. И попросил у меня прощения за то, что говорил о моей дочери.
– Все это глупости, – произнес он полушепотом, и глаза у него были влажными. – Она любит меня, всегда любила, а я за это отравлял ей жизнь.
Его раскаяние было искренним, я порадовался, что у моего внука есть его гены, и сказал ему об этом с оттенком иронии. Однако он принял мои слова всерьез, поблагодарил меня и начал длинную речь о бесполезности психоанализа: его «анализировали» несколько лет, но он так и не избавился от своих мучительных фантазий.
– Скажи, что мне делать? – спросил он.
– Надо испробовать все, – ответил я. – Немного фармакологии, немного социологии, немного психологии, немного религии, немного бунтарства и революционности, немного искусства, возможно, даже вегетарианскую диету, курс английского языка, курс астрономии. Это зависит от периода.
– Какого периода?
– Периода жизни.
Он затряс головой, как будто хотел оторвать ее от шеи.
– Ты все шутишь, но я так устроен, ревность сидит у меня в генах и заставляет меня видеть то, чего на самом деле нет.
Невольно улыбнувшись, я признался ему, что у меня все по-другому:
– У меня этого гена нет, и мне, наоборот, случалось не видеть то, что было на самом деле. Но теперь, когда я стал зорче, я повсюду обнаруживаю огромные куски сала с прожилками мяса.
– Это новая картина, которую ты задумал?
– Нет, это реальность.
– Ты умеешь насмешить, а вот у меня не получается.
– У меня тоже, но сегодня я в хорошем настроении, поэтому мне кое-что удается.
– Ты закончил иллюстрации?
– Нет.
– Ясное дело, ты же перфекционист. Мне всегда казалось, что мы с тобой похожи, возможно, именно поэтому твоя дочь меня выбрала.
– Разве мы похожи?
– Конечно, похожи. Я решаю одно-единственное уравнение – и переношу людей туда, куда они никогда не смогли бы попасть, а ты делаешь то же самое одним-единственным мазком.
Я никогда в жизни никого никуда не переносил, но мне не хотелось его разочаровывать. Мы еще долго и на удивление непринужденно болтали, пока не появился Марио. Он обхватил ногу отца, а тот спросил его:
– Чем таким интересным вы занимались с дедушкой?
Марио скорчил гримасу, потянулся, посмотрел вверх, посмотрел вниз – он делал вид, что думает, – потом указал на меня и радостно произнес:
– Он вышел на балкон, и мы играли.
– В такой холод?
– Это дедушка был на балконе, а не я.
– А, ну тогда ладно. И вам было весело?
– Очень весело.
В комнату заглянула Бетта. Казалось, никто и ничто не может испортить ей настроение – ни я, ни муж, ни сын. В последние месяцы она, наверно, думала, что для нее все кончено, но сейчас она готова была защищать свое благополучие когтями, зубами, хитростями и ложью. В руке у нее был лист бумаги, тот самый рисунок Марио, который так сильно взволновал меня.
– Папа, – насмешливо спросила она, – что это такое – новый путь, вторая молодость? Мне нравится.
Она никогда не была щедра на похвалы, когда речь заходила о моих работах, более того – насколько я помню, в юности она относилась к ним критически, почти враждебно, и только двадцать лет спустя несколько смягчилась – стала вести себя как снисходительная дочь, смирившаяся с бездарностью отца.
– Это нарисовал мой внук, – гордо произнес я.
Но Марио почти одновременно крикнул:
– Я скопировал рисунок дедушки!
Приложение
Веселый игрок
Эскизы и наброски Даниэле Малларико (1940–2016), созданные им для романа «Шутка»
5 сентября. В какой-то момент мы въехали во тьму. Они пришли в палату и увезли меня в подвал. Стены были бледно-зеленые, пол беловато-серый, а углы – цвета жженой сиены. Мне было бы интересно нарисовать этот неподвижный воздух, искусственный свет операционной, – но не сейчас, не с натуры. Сейчас мое внимание занимали только врачи и медсестра родом из Индии; я хотел, чтобы они поскорее разрезали мне живот и, соответственно, поскорее отпустили домой. Сестра велела мне сесть на край стола и встала передо мной, держа меня за запястья. Кто-то возился у меня за спиной. Целую долгую минуту я чувствовал любовь к этой маленькой женщине, такую любовь, что я до сих пор не могу заставить себя забыть ее. Тем временем на меня накатила волна слабости, и я воспользовался этим, чтобы положить голову ей на грудь, между шеей и плечом. Там был сладостный сумрак, и она помогла мне улечься в этом сумраке. Я увидел черную решетчатую ограду, усаженную очень длинными и остро заточенными шипами, которые преграждали вход в угловой дом, где я живу.
27 сентября. Похоже, мое тело не имеет ни малейшего желания восстанавливать силы, и мне уже надоело проводить время в полудреме перед телевизором. На мое счастье, один молодой издатель – ему не больше тридцати, и он так полон жизни, что любое его движение и любая интонация кажутся агрессивными, – позавчера предложил мне сделать иллюстрации к роскошному (как он утверждает) изданию рассказа Генри Джеймса. Я вежливо отказался – о Генри Джеймсе я знаю мало, но вполне достаточно, чтобы понять, насколько трудно иллюстрировать его произведения. Издатель попытался уговорить меня, и главным аргументом при этом был солидный гонорар; раз-другой он даже воскликнул пошловато-самодовольным тоном: «Скажите мне «да» – и я осыплю вас золотом!» Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что золота будет самая малость; сумма гонорара была несопоставима с тем, что мне предлагали еще пять или шесть лет назад за работы такого же уровня сложности. Но какой смысл торговаться за лишнюю тысячу евро, ведь сейчас деньги для меня не главное, гораздо важнее снова заняться делом, вернуться к активной жизни. Поэтому мы с ним встретились за завтраком на проспекте Генуи, притворились, будто стали друзьями, и заключили контракт. С сегодняшнего дня можно будет занять мысли чем-то приятным. Рассказ, который я взялся иллюстрировать, называется «Веселый уголок».
29 сентября. Я читаю, но часто отвлекаюсь. Мне вспомнился вечер, когда мой отец в комнатке над баром в квартале Кармине проиграл в карты все деньги, которые утром получил за работу. Высокий и тощий, он медленно встал из-за стола, за которым просидел несколько часов, сунул в карман сигареты и спички, грустно сказал «пока» тому, кто его общипал, и вышел из комнаты. Чтобы выйти на улицу, надо было спуститься по деревянной лестнице. Отец одолел только две ступеньки, потом потерял сознание, скатился вниз, ударился лицом о брусчатку и потерял передние зубы.
4 октября. Какое отношение имеет мой отец к Генри Джеймсу? Я понял это, когда дочитал рассказ. Мне представились игральные карты. Спенсер Брайдон, герой рассказа, гонится за призраком – своим альтер эго, тем, кем он стал бы, если бы тридцать лет назад не уехал в Европу, а остался жить в Нью-Йорке. Вначале погоня даже доставляет ему удовольствие, словно он занялся каким-то новым видом спорта, или выехал на охоту, или начал партию в шахматы. Это похоже одновременно на игру в прятки и на то, как кот играет с мышью. Потом им овладевает несказанный ужас – и рассказ кончается. Вот и все. Но во время чтения я уловил в этой истории что-то знакомое, я подумал о неестественном возбуждении своего отца, когда он всем своим существом, даже дыханием, пытался приманить к себе карты, которые принесли бы ему выигрыш. Игра была его болезнью, и, если бы ему, как Брайдону, вздумалось погнаться за призраком, этот призрак не был бы таким мрачным типом, как он сам. Нет, это был бы жизнерадостный, удачливый господин, который благодаря игре стал миллионером. Возможно, именно этот образ стал причиной тому, что меня особенно заинтересовала одна из карт в колоде – джокер. Есть игры, в которых джокер может заменить любую карту. Я заглянул в интернет, чтобы побольше узнать об этом, и выяснил, что джокер, хоть у него и есть нечто общее с Шутом из карт Таро и фигурками китайских и японских демонов, все же является американским изобретением XIX века. Когда в 1906 году шестидесятитрехлетний Генри Джеймс написал «Веселый уголок», джокер, веселый игрок, был еще относительно молодой игральной картой.
10 октября. Может, я преувеличиваю? Не исключено – даже если учесть, что мое выздоровление продвигается медленно и трудно. Я живу так, словно какая-то часть меня – если не весь я, то, по крайней мере, наиболее утонченная, наиболее многогранная сторона моей личности должна как можно скорее выйти из дому по какому-то важному делу; а другая часть – мое тело, вернее, контур моего тела, очерченный тонкой линией, – следует за мной по пятам на расстоянии метра и, желая удержать меня, протягивает ко мне прозрачную руку, без сухожилий, без вен, даже без ногтей, и шепчет едва намеченными губами: эй, постой…
15 октября. Варианты названия для иллюстрации, на которой изображен фасад дома: «Безумный уголок», «Уголок джокера», «Уголок возможного». Я перечитываю рассказ. Вначале я сомневался, но сейчас мне кажется, что это удачная идея – смешать то, что знает Джеймс, то, что узнаю я, читая его текст, и то, что я более или менее произвольно вижу за отдельными фразами или словами. На мое несчастье, в ноябре мне придется поехать к Бет-те, но я надеюсь закончить работу до отъезда. Я уже успел сделать несколько эскизов джокера, и я был бы не прочь нарисовать игральную карту с портретом своего отца. Где-то в своих закоулках старый дом в Неаполе хранит призрак моего отца, моей матери, бабушки, а может быть – по крайней мере, в представлении моей дочери – еще и мой призрак. Надо провести расследование в этом сборище теней.
24 октября. Первым признаком начинающегося упадка стали телефонные звонки – они раздавались все реже и реже. Потом стал постепенно уменьшаться поток бумажной корреспонденции, а затем и электронных писем. Хорошо еще, что у меня нет аккаунта в Фейсбуке или Твиттере, иначе этих тревожных сигналов было бы еще больше. С другой стороны, то, что меня нет в социальных сетях, уже само по себе показывает, насколько я отстал от времени. Конечно, работу еще предлагают, но предложения поступают с большими перерывами, а не сыплются одно за другим, как раньше. Я говорю себе, что ко мне обращаются нечасто (или не обращаются вообще), потому что я слишком разборчив. Но это не так. Правда в том, что многие из тех, кто ценил мои работы, сейчас стали такими же стариками, как я, или умерли, или остались за бортом. Неудивительно поэтому, что жужжание мобильника раздается редко, а я целыми днями только и делаю, что сижу дома, читая и перечитывая Генри Джеймса. Вчитаться в текст, по-настоящему понять его, говорю я себе, – это первое условие для того, чтобы качественно выполнить работу. Но я все время отвлекаюсь, жизненные перипетии Брайдона и его приятельницы Алисы Ставертон не трогают меня. Я переворачиваю страницы, подчеркиваю отдельные слова или целые фразы, возвращаюсь назад, перечитываю снова, лишь бы оттянуть момент, когда придется сказать себе: ты вчитался в текст, а что теперь?
Я все чаще просыпаюсь – как бы это сказать – в испуге. Возможно, это из-за теленовостей – я всегда смотрю их перед тем, как лечь в постель. Но мне пришлось жить во времена, которые были ничуть не лучше, а то и хуже теперешних, и никогда прежде не случалось, чтобы я открыл глаза и ощутил беспричинный испуг. Возможно, я постепенно теряю уверенность в том, что сумею справиться с любой неприятной неожиданностью. Мое тело чувствует, что утратило быстроту реакции, и ужасается этому.
29 октября. Нервничаю из-за рассказа Джеймса. Когда я начинал, у меня была масса идей, а теперь все они кажутся мне неудачными. А время течет, как корабль с пробитым днищем. Доктор говорит, что все у меня в порядке и что я сам замедляю процесс выздоровления. Чушь! Когда-то мне нравились эти разговоры о психосоматике, а сейчас я их слышать не могу. Правда в том, что я плохо себя чувствую. Когда заболела моя жена, доктор вначале тоже говорил, что она физически здорова, что все ее недомогания – результат стресса, что нам с ней надо надолго уехать в отпуск, и она поправится. Мы сняли на лето домик в горах, но Бетта – тогда она была еще девочкой – все время ныла, что ей там не нравится, а моя жена казалась еще более подавленной, чем в городе. Однажды она сказала, что хочет прогуляться, и не взяла с собой дочь, которая, впрочем, неизменно отказывалась от любых развлечений, если в них участвовали мы. Я сел работать, и только когда начался проливной дождь, заметил, что Ады еще нет. Я пошел ее искать в рощу за домом, весь промок, вымазался в грязи и вернулся уже затемно. Увидел свет в гараже и решил заглянуть туда. Ада сидела там и читала, она не выходила на прогулку. Она по натуре была замкнутой, мне и раньше с трудом удавалось угадать ее мысли и понять чувства. А во время болезни она стала мрачной, и только тут до меня дошло, что она никогда не делилась со мной сокровенным. Притворялась, что у нее нет никакой внутренней жизни.
30 октября. Издатель хочет посмотреть несколько иллюстраций. Просто так, чтобы вникнуть, говорит он. Но я не знаю, может ли он во что-нибудь вникнуть. Так или иначе, мне надо сесть за работу. Меня интересует «замороженная юность» Спенсера Брайдона, похоже, она была безрадостной. Мне может пригодиться также и мысль о том, что у него в голове есть некий неисследованный закоулок, а в организме – некие свойства, ничем не примечательные, но долгое время не проявлявшиеся. Во мне самом когда-то многое притупилось, причем произошло это, как и у Брайдона, на исходе юности. Я был еще почти мальчик, но уже успел жениться на Аде, когда однажды, в приступе высокомерия, заявил одной знакомой, что мне достаточно карандаша, чтобы преодолеть любые ограничения, выйти за рамки своего неаполитанского окружения, нашей с ней дружбы, супружества, любви, даже своей половой принадлежности, всей Италии, всей планеты.
Звякнуло серебряное кольцо – и настало пробуждение.
3 ноября. За работой. Как нарисовать звуки? Джеймс прибегает к сравнениям. Звяканье, напоминающее далекий звон колокольчика. Дом похож на огромную чашу, на вогнутый кристалл, шепчущий благодарные слова влажному пальцу, которым проводят по его краю. И менее трудный случай: металлический наконечник трости Брайдона, цокающий по мраморному полу.
12 ноября. Вибрации, идущие из глубины, вибрации, не сопоставимые ни с чем привычным. Безмерное, обессмысливающее изумление. И трепет, и прилив крови, который превращается в багровый румянец. По-моему, вся история с призраком сводится к этим словам. Только благодаря аналогии с ее громадной мощью эти вибрации, изумление, трепет, прилив становятся неким подобием обитателя, неожиданно обнаруженного Брайдоном в его нью-йоркском доме. В общем, это словечко подобие – мост, ведущий к призраку. Стоит перейти его – и подавленные эмоции Спенсера породят уже не фигуру речи, а жуткую человекоподобную фигуру, которая бродит по огромному пустому дому. Возможно, я добился бы успеха в этой работе, если бы сумел изобразить то же самое, пользуясь мелком или угольным карандашом: претворить прилив, трепет, изумление, вибрацию в нечто, в некое зримое присутствие. Но пока у меня ничего не получается, опять случилось кровоизлияние, надо сделать анализ на гематохроматоз. Позвоню Бетте, скажу, что не смогу сидеть с ребенком, у меня нет сил. Ей, конечно, это не понравится, но она должна понять, что нельзя вот так звонить и говорить «приезжай», не принимая в расчет ни мою работу, ни состояние здоровья. Я никогда не просил помощи ни у кого, даже у нее. А если бы вдруг попросил, не думаю, что у нее нашлось бы время возиться со мной. Я хорошо помню, как она позвонила мне, когда узнала об операции:
– Почему ты не поставил меня в известность?
– Это было не настолько серьезно.
– Ты поехал в больницу один?
– Лучше поехать одному, чем в неподходящем сопровождении.
– Мама бы очень рассердилась.
– У мамы давно уже есть право ни на что не сердиться.
– Что за идиотская фраза.
– Да, верно.
– Долго ты был в больнице?
– Неделю.
– Все в порядке?
– Я потерял немножко крови.
– Папа, ты с ума сошел, ты должен был позвонить мне. Я приеду на машине и заберу тебя к нам.
Таким или приблизительно таким был наш разговор. Она, конечно же, не приехала и не забрала меня к себе. Правда, еще несколько раз звонила, но в семь утра, перед уходом на работу, и очень торопилась:
– Как ты, папа?
– Хорошо.
– Ты еще в постели?
– Да.
– Сегодня вставать не будешь?
– Скоро встану.
– Ты спал ночью?
– Мне снились кошмары.
– Что именно тебе снилось?
– Не помню.
– А почему говоришь, что это были кошмары?
Я перешел на шутливый тон. Стал объяснять, что сейчас для меня кошмарные сны – большая удача, это помогает в работе. И добавил, я в постели, но у меня в голове полно идей, я проснулся в четыре часа.
18 ноября. Смешно признаваться себе в этом, но в конце концов я всерьез попытался изобразить вибрации. На двух эскизах цвета ржавчины тело Брайдона дрожит, трепещет и из его уха вылезает крохотный чертенок, напоминающий джокера, которого я однажды видел на карте из старой американской колоды. Не думаю, что издателю это придется по вкусу, но у меня не было времени на доработку, я уехал в Неаполь. Путешествие было ужасным. В Болонье в поезд сел шикарно одетый чернокожий парень; всю дорогу он беспрерывно кричал по телефону на непонятном языке. Пассажир, дремавший напротив меня, проснулся и грубо сказал ему: «Эй ты, потише, нельзя так орать, я сегодня встал в пять утра». Парень тут же убрал телефон и начал кричать на него, на сей раз на неаполитанском диалекте, осыпая самыми грубыми ругательствами, которые он произносил четко и внятно. Остальные пассажиры сидели молча, опустив глаза. Должно быть, они ненавидят и боятся этого наглого парня, либо потому, что он черный, либо потому, что он неаполитанец, подумал я. И еще я не сомневался, что с минуты на минуту эти двое перейдут от слов к действиям, и начнется драка. Но этого не произошло. Дело ограничилось изнурительно долгой перепалкой, после чего белый опять задремал, а черный больше не болтал по телефону, ни на своем языке, ни на неаполитанском диалекте. Если бы возникла необходимость вмешаться, чтобы не дать им убить друг друга, где бы я взял на это силы? И во имя чего я бы вмешался? Во имя защиты чернокожих? Во имя плохо скрываемого расизма? Во имя борьбы с наглецами всех цветов кожи? И сам при этом ругался бы еще страшнее? Все время пути меня то бросало в пот, то знобило. Когда я приехал, настроение у меня было хуже некуда. В доме Бетты батареи всегда едва теплые. А пятьдесят лет назад их вообще не было. Окна закрывались неплотно, по дому гуляли сквозняки, зимой там можно было умереть от холода. И все же я не помню, чтобы когда-либо так мучительно мерз в этих стенах. Это был какой-то новый холод, отчасти вызванный усталостью, отчасти болезнью, отчасти плохим настроением, отчасти старостью. Мальчик показался мне таким же высокомерным, как его отец. Ему нравятся цвета, которые он называет светлыми. Но я не считаю, что мои старые иллюстрации к сказкам – темные. Может быть, плохо напечатанные, но никак не темные. Наверно, Саверио и Бетта, говоря друг с другом, критиковали меня как художника, а Марио случайно услышал их разговоры. Дети всегда жадно ловят слова, которые произносят взрослые.
У Марио лицо джокера.
Всю жизнь я пытался найти убедительные объяснения тому, что уделяю моему искусству слишком много времени. Вначале я хотел вырваться из Неаполя и покорить мир. Потом решил, что должен изобразить все ужасы этого мира, чтобы людям захотелось переделать его. И наконец, поставил перед собой задачу: разрушить существующие каноны и создать новые, экспериментировать, создавать теории, провозглашать нечто, направленное против чего-то. Меня завораживали великие цели, я боялся, что без них станет очевидна моя незначительность. Ада никогда не верила в мою миссию, или разве что в самом начале. Очень скоро она пришла к мысли, что на свете нет ничего, способного по-настоящему увлечь меня, что я прятался от жизни, боясь, что мой организм не выдержит ее и надорвется. «Твоя единственная великая цель, – сказала она однажды, – поворачивать голову не туда, куда нужно. Ты не рассеянный, ты изо всех сил стараешься быть рассеянным». Наверно, она всегда усматривала в моей рассеянности то, что Алиса Ставертон, друг Брайдона, называла «темным чужаком». Конечно, без всяких ассоциаций с «ниггером» или кем-то наподобие сегодняшнего чернокожего неаполитанца в поезде. Нет, ей виделся мой темный двойник, который пугал ее, некто сидящий во мраке из боязни выйти на свет, чужак, наглый по природе, не сознающий собственной агрессивности. Быть может, именно поэтому она потянулась к другим, казавшимся ей не такими темными и дававшими ей понять, что они не страдают рассеянностью и не будут обделять ее вниманием. А вот Алиса Ставертон ведет себя иначе. Она позволяет отчаявшемуся Брайдону положить голову ей на колени, она принимает его таким, как есть. Надо нарисовать ее (сейчас я как раз этим занимаюсь) в момент, когда она склоняется над Брайдоном, и «я», «вы», «он» сливаются в одном лице, прекрасном и ужасном, которое она пожирает взглядом, не вдаваясь в тонкости. Ко мне, насколько я помню, никто не проявлял подобного милосердия, возможно, такое случается только в мире снов. В реальности нельзя быть любимым.
Только сейчас, в старости, мне кажется приемлемой идея, которую я всегда яростно отвергал: сила красоты состоит в том, что у нее нет никакой мотивации – нет даже призрака мотивации, как пишет Генри Джеймс. Но сейчас слишком поздно, голова у меня уже не та, что прежде. Когда мы с зятем болтали о том о сем, я среди прочего сказал ему, что никогда не создавал картину, если не видел великой цели, ради которой стоило браться за кисть. А он мягко заметил: «Это правда, но если картины посредственные, то даже великая мотивация не сделает их великими». Такой он человек, его агрессивность всегда проявляется в вежливой форме. Однажды, когда он был в Милане, я зачем-то признался ему: «Думаю, я уже сделал все, что мог, возможно, пришло время остановиться». Саверио тут же согласился: «Да, верно, в определенном возрасте надо остановиться». Это задело меня, я сказал: «И все же то, что я сделал, получило высокую оценку, а в будущем, надеюсь, будет цениться еще выше». – «Да, конечно, – ответил он. – Ты не Бурри и не Фонтана, но тем не менее». Я хотел возразить: «Что ты сказал, ты понятия не имеешь, о чем говоришь, при чем тут Бурри, при чем тут Фонтана?» Но сдержался и невозмутимо продолжал разговор. На самом деле я мечтал добиться гораздо большего, чем Бурри и Фонтана, хотя никто бы об этом не догадался, а уж тем более Саверио. Непомерное честолюбие всегда таится, стесняется самого себя. Но иерархия, которую устанавливает мир, кажется ему необъяснимой, оно хочет столь многого, что не может подчинить себя какому-либо образцу, какой-либо общности вкусов и, даже любуясь шедевром, любуется лишь затем, чтобы превзойти его. Да, во всяком великом честолюбии заложен его будущий крах. И происходит этот крах из-за непомерности честолюбия, а не потому, что оно ставит перед собой слишком мелкие цели.
Дом – огромная высохшая скорлупа, комнаты в нем пусты. В этом рассказе речь идет об абсолютной пустоте. Когда нечто, за которым охотится Брайдон, из чисто умозрительного факта превращается в явление, физически воспринимаемый образ, помещенный в физически локализуемое пространство – дом на углу некой стрит и некой авеню, Спенсер испытывает ужас, подозревает, что призрак прячется за дверью, почему-то закрытой, хотя она должна быть открыта, и, чтобы избежать встречи с ним, открывает окно на пятом этаже и готовится спрыгнуть вниз. Все чаще и чаще единственный путь спасения от самого себя – это путь в бездну.
Я ненавидел нашу квартиру, ненавидел конструкцию дома, место, где он стоял, весь город. После смерти родителей я некоторое время занимал эту квартиру, потом уступил ее Бетте, когда она после долгого пребывания за границей вернулась в Неаполь. Я всегда любил свою дочь, но как-то рассеянно. Все мои привязанности сопровождались рассеянностью, и сейчас я страдаю от этого.
Карандаш изменил форму моей руки, стал ее продолжением. Штрих, которым я до сих пор пользовался для иллюстраций к Генри Джеймсу, получался у меня с трудом, он стал очень быстрым, настолько быстрым, что во время рисования рука, словно спохватившись, вдруг двигалась назад. В эти ночные часы у меня опять появилось ощущение, что мои пальцы двигаются сами по себе, – ощущение, впервые испытанное в детстве, когда я еще не знал об этой своей способности, а обнаружив ее у себя, почувствовал восторг и одновременно страх. Короче говоря, на минуту мне показалось, что рука вновь стала самостоятельной, как в двенадцать лет. Как если бы вся моя жизнь в искусстве – влияние времени, оставившего на мне свои отметины, выбранный мной способ вписаться в это время и найти свой путь – вдруг исчезла без следа. Я больше не умел рисовать так, как рисую сейчас. Или умел рисовать, но как раньше.
19 ноября. Внешность призрака – это плод гипотез Спенсера и сновидений Алисы. Две ярко выраженные индивидуальности вырабатывают в своем воображении некий виртуальный облик. Автор не рассказывает нам, каким образом второе «я» Брайдона появляется из indistinctness[1]. А вот мне придется это сделать. Я должен изобразить двойника именно в тот момент, когда он теряет сходство с Брайдоном и отделяется от него, становясь все более чуждым и непонятным. Нарисую двойников, которые выскакивают из тела Брайдона, все они выглядят по-разному, но ни один не похож на настоящего Брайдона.
В гостиной висит моя картина, которая выполнена в красном и синем цветах, в которую вмонтирован колокольчик – настоящий колокольчик, какой вешают на шею коровам. Мальчик несколько раз сильно ударил по язычку колокольчика, и я занервничал:
– Марио, так делать нельзя.
– А мама говорит, что можно.
– Пока я здесь, ты так делать не будешь.
– Хочешь позвонить?
– Нет.
– Папа говорит, если есть колокол, в него надо звонить.
– Но не в этот колокол, и в любом случае не сейчас.
Даже когда я осознаю собственную незначительность, мне кажется, что проявилась она не в моих работах, – которые были хороши, даже прекрасны или, по крайней мере, лучше, чем у многих других, а в легкости, с какой я приписал себе способность сделать то, чего никто никогда не делал.
Я перечитываю кульминационную сцену рассказа, переломный момент, когда герою наконец удается вытащить призрак из укрытия, и, разглядев его, он испытывает глубокое отвращение. Если простого неаполитанца вырвало, он говорит: я сблевал, а представитель мелкой буржуазии, желающий выражаться изящно, скажет: я все выдал обратно. С точки зрения искусства в этом словосочетании содержится дерзкий вызов и одновременно прописная истина, типа: ни один великий художник никогда не сможет во всех подробностях изобразить такое. Приступообразное извержение того, что у тебя в голове. Творческое усилие как рвотный спазм. Удачную попытку выдать обратно.
Нечто, за которым охотится Спенсер, – это иной вариант его живой плоти. Вначале она была свернута в рулон, затем ей поневоле пришлось развернуться, словно фотопленка, на которой уместилось невероятное количество кадров. Здесь, в Неаполе, еще в отрочестве во мне, словно бутоны, набухали многочисленные «я», они жаждали раскрыться, расцвести, используя для этого тысячи возможных вариантов города, потому что сама материя Неаполя изменчива, в нем может уместиться великое множество городов, лучше или даже хуже теперешнего. Но эти возможности были недолговечны, я отверг их. Или только думал, что отверг. Я точно знал, кем хочу стать – художником планетарного масштаба, и никем больше, одним из немногих, чьи имена не будут забыты, пока не погаснет солнце, а быть может, и дольше, на других обитаемых планетах, под другими благожелательными солнцами. Но мне это не удалось, и теперь давние варианты моего «я», ущербные клоны, созданные моим неудовлетворенным сознанием, проявляют неожиданную живучесть, словно черви под камнем, когда его поднимешь (по выражению Джеймса). Сегодня ночью, когда Марио, его склочные родители, мебель, весь дом спят, эти клоны на время успокоились, сплелись вместе и изогнулись дугой, образовав фигуру, напоминающую вопросительный знак. Этот образ мог бы пригодиться, но я должен искать еще и другие. Как изобразить множественность? Я хотел бы закрепиться в единственном варианте, а затем оттолкнуть свое «я», оставив только аксессуары, которые помогут мне стать другим.
Чем станет этот мальчик в этом городе? Не превратятся ли со временем все его «я знаю», «я умею», усвоенные уже к четырем годам, в склад абсурдных идей и ненужных знаний, в горечь и жажду реванша, в напыщенную хвастливую болтовню? А в каком возрасте я сам перестал говорить себе «браво!», считать каждое сделанное дело подвигом? Думаю, достаточно поздно. Или вообще не перестал, даже сейчас. Я слишком привязан к своему «я», и привязанность эта с годами не слабеет, а только крепнет – к тому «я», которое на беду сам когда-то выбрал из многих. Как же мы все любим нашего вечного компаньона, маленького болтливого чертенка! Проблемы начинаются, когда мы выводим его в большой мир, чтобы его там полюбили так же, как любим его мы. Но это оказывается невозможным. После бесплодных усилий нас ждет разочарование.
Ученик парикмахера, тринадцатилетний мальчишка, который сметает с пола остриженные волосы клиентов. Помощник механика в авторемонтной мастерской, токарь на заводе «Альфа-Ромео», рабочий на сталелитейном заводе в Баньоли, продавец на рыбном рынке у Порта Капуана. Наемный убийца из каморры, сутенер, боксер, контрабандист, продажный политикан, живущий двойной жизнью, ведущий дела с уголовниками из тюрьмы Поджореале. Выбрать погоню за звонкой монетой, стать миллионером, запугивая честных людей, подкупая, расхищая, опустошая все вокруг. Или стать служащим, который изо дня в день сидит в баре за чашкой кофе с булочкой и жалуется на жизнь, намекая, что мог бы добиться большего, да честность помешала. Или глядеть в окно, ожидая, когда из переулков, с окраин придут толпы отчаявшихся людей, готовых перевернуть мир, – «кто был ничем, тот станет всем», – и прольются реки крови за то, чтобы «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Эти и другие видения возникают сейчас в комнатах моего детства. Мне не нужно, как Брайдону, прибегать к метафоре, говорить о непрочитанном письме, которое, если бы его когда-то прочли, открыло бы нечто неведомое. Я прочел о своей жизни все, что только можно было прочесть, и знаю, что эти призраки похожи на меня. Было бы забавно, если бы они приняли меня самого за призрака и испугались, но этого не происходит. Много лет назад, когда мне было двадцать, я мечтал создать беспощадные, но полные надежды произведения искусства, которые помогли бы победить плохих людей в Неаполе и во всем мире, подняв хороших людей на борьбу с ними. Но этого не случилось. Плохим людям наплевать на искусство, им нужна только власть, все больше и больше власти, они швыряются деньгами и сеют страх, поэтому число непокорных сокращается день ото дня.
20 ноября. Терпеть не могу в разговоре с ребенком называть себя дедушкой. Я не дедушка, я – это я. Не хочу говорить о себе в третьем лице, я – первое лицо. Но так захотела моя дочь, и я подчинился, чтобы не раздражать ее. А может быть, не только поэтому. Мне кажется, что я не должен противопоставлять свое «я» хрупкому, маленькому «я» четырехлетнего ребенка. Лучше уж говорить приторным голосом: дедушка не хочет, дедушке не нравится, дедушка прочтет тебе сказку.
Выслеживая добычу, Брайдон ведет себя как веселый, беззаботный охотник. Вначале он спокоен, уверен, что поймает нечто, в том или ином смысле близкое ему, не сомневается, что обитатель дома похож на него, как близнец. Однако с каждым эпизодом механизм этого сходства все больше разлаживается. Брайдон-европеец и Брайдон-американец, утонченный бонвиван и суровый делец, торгующий недвижимостью, не имеют друг с другом ничего общего. Аномалия побеждает норму, лицо нью-йоркского призрака превращается в расплывчатое пятно, которому Спенсер уже не может придать реальный облик, основанный на сходстве с ним самим. Джеймс не объясняет, как это происходит, он делает иначе – наделяет нью-йоркского Брайдона особой приметой. На одной из рук, которыми призрак закрывает лицо, вместо двух пальцев – обрубки. Что касается Алисы, то ей, по-моему, приходится еще труднее, чем Брайдону. Эта чувствительная душа знает, что в доме встретились две совершенно несовместимые проекции одного человека и проблема в том, как соединить вместе легкомысленного европейца с моноклем и угрюмого американца с обрубленными пальцами. Первый – не такой, как второй, однако Алиса, которой следует решить, на чьей она стороне, хоть и любит Спенсера, но испытывает смутное влечение к призраку. В результате Брайдон начинает ревновать ее к этому ничто, выдававшему себя за него, но оказавшемуся не им, хотя, возможно, оно могло бы поступить иначе. Нет, мне не кажется, что у рассказа хороший конец. А ведь существует неистребимый предрассудок, который гласит: в финале каждой истории герои должны прыгать от радости.
Я думаю о Бетте и Саверио. Какое мне дело до Спенсера и Алисы, сейчас я рисую своего зятя и свою дочь. И еще эту женщину, Салли. Она рада поболтать со мной, чтобы отдохнуть от работы, а я хочу понравиться ей, ведь я должен быть уверен, что смогу рассчитывать на ее помощь. Из разговора я понял, что о неладах Бетты и Саверио она знает больше меня.
– Жалко малыша, – сказала она, когда Марио был достаточно далеко, чтобы не слышать нас. – Люди, у которых есть дети, не должны разводиться.
– Они не разводятся, это все нервы, и больше ничего.
– Ты так говоришь, потому что живешь далеко и не слышишь, как они ссорятся.
– Это у них пройдет.
– Будем надеяться.
Но я понял, что она не надеется. С одной стороны, она боится, что развод родителей тяжело подействует на мальчика, с другой – чувствуется, что она не симпатизирует ни Бетте, ни Саверио.
Начала она с общих фраз типа: это прекрасные люди, большие ученые, но они слишком много требуют от бедного малыша. Затем, возможно не желая плохо отзываться о дочери в присутствии отца, сосредоточилась на Саверио: такой умный, такой интеллигентный, и при этом… Я с ней соглашаюсь.
21 ноября. Я проснулся с желанием быть наказанным за все то, что оказался не способен сделать.
К старости, среди прочего, изнашивается и нервная система, в том числе слезные каналы.
Тело Ады было словно кладезь премудрости, который пополняли поколения обеспеченных, благовоспитанных предков. Человеку моего происхождения казалось, что он становится лучше, когда, разинув рот от изумления, просто смотрит, как она ходит, вслушивается в интонации ее голоса. Она была создана для других, я завладел ею не по праву, взял приступом. По крайней мере, так считала Бетта, с самого детства. Она даже не заметила, что я занимал в семье подчиненное положение, ее мать знала все на свете, а я – почти ничего. Я всегда боялся потерять Аду и, чтобы не допустить этого, давал понять, что мой так называемый талант нуждается в ее заботах. Если мне казалось, что она не проявляет ко мне должного внимания, я говорил:
– Ты меня не любишь.
– Очень люблю.
– То, что ты любишь, не есть я.
– Я прекрасно знаю, что есть ты.
– Значит, не любишь.
– Нет, это ты меня не выносишь, поскольку в твоих теперешних планах для меня уже не осталось места.
Эти разговоры продолжались у нас с ней и во время ее болезни, продолжались до последнего дня ее жизни. Я попытался вырвать ее из своего тела, из своей души. Даже после того, как я прочел ее дневник, я не перестал любить ее.
Марио считает, что для него нет невозможного. У нас с ним состоялся примерно такой диалог:
– А ты знаешь, что я могу делать пипи, не держа пипиську?
– Что за ерунда.
– Это правда, дедушка. И пипи все равно идет прямо, а не вниз. А ты так можешь?
– Это дело рискованное.
– Нет, если делать аккуратно. Попробуй.
– Не будем даже говорить об этом. И не вздумай пробовать, а то наделаешь лужу на полу.
Мальчик хорошо воспитан и в то же время неуправляем. У него удивительный взгляд. Есть выражение «бросить взгляд», которое почти физически передает ощущение резкости и быстроты. Словно глазное яблоко само выбирает себе мишень в окружающем мире и с силой ударяет по ней. Надоел мне образный язык. Надоели фигуры персонажей, большие и маленькие, все надоело. Надо быть поосторожнее с балконной дверью, приедет Саверио, устрою ему головомойку. Они думают только о себе, на меня им плевать. То, что случилось с Салли, может случиться и с Марио, и что мне тогда делать?
Не знаю, что за страх я испытываю сегодня утром: боюсь ли за мальчика или боюсь самого мальчика?
Сноски
1
Неясность (англ.). – Прим. пер.
Вернуться
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
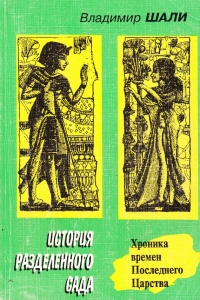



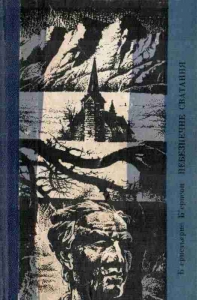
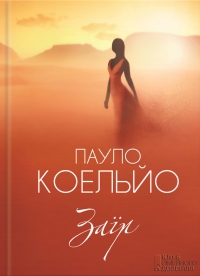



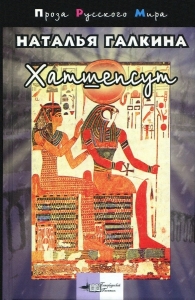
Комментарии к книге «Шутка», Доменико Старноне
Всего 0 комментариев