Мария Британ Чувствуй себя как дома Роман
Моей Ласточке, рядом с которой всегда тепло
Не навещай меня Или входи без стука. Не издавай ни звука И не блуждай одна. Скрипит, рыдает пол. Зажмурься. Видишь, Тора? Квикстеп танцуют шторы, И дверь забила гол. Под скрипку пляшет дом. «Тик-так», – чеканит сердце. Тик-так. Тик-так. Два герца. Позволь мне быть смычком. Кромсает пол трава. Фальшивят все пластинки: У них сейчас поминки. Как жаль, что ты мертва.1 Захар [До]
Начало 80-ых
Я слышу их. Они – моя стая. Друзья с тикающими сердцами марки Zahnrad[1].
У них есть глаза. И руки, и рот – все как у людей. Они радуются, грустят, ненавидят. О, ненавидят они по-особенному. И если ты гребаный турист, читающий мой дневник и блуждающий по обломкам свихнувшегося дома, знай: ты на две трети покойник, Вячеслав. Ты же не против, если я буду называть тебя Вячеславом? Мое любимое имя!
Надеюсь, тебе нравится.
Ты по-прежнему здесь? Дай угадаю: ты идиот. Нет? Тогда все хреново. Двери закрыты. Ключи похоронены. Окна заколочены. Поздравляю, ты попал в ловушку. Этот дом – могила. У него слишком прочные стены – ты не пробьешь их, и чересчур хрупкие потолки – пара булыжников проломят тебе череп.
Твоя кровь смочит страницы моего дневника. Чернила расплывутся. Моя история умрет в твоих эритроцитах. Чтоб тебя.
Не ожидал, что сдохнешь?
Если ты читаешь это, я тоже не ожидал.
Ищи его сердце, Вячеслав. Не медли. Вдруг оно тикает где-то поблизости, за холодильником, облепленным наклейками из упаковок жвачек? Ты успеешь.
Я всегда успевал.
Когда найдешь часы с выгравированной под циферблатом надписью Zahnrad, разбей их. Вытащи батарейки. Залей кровью. Сделай так, чтобы они навечно заткнулись.
У тебя будет ровно минута на спасение. Шестьдесят секунд. Не больше. Не меньше. Дом пунктуален.
Подумай, сколько шагов тебе понадобится, чтобы выбраться через дверь у окна?
А через ту, что около шкафа?
Или у тумбочки-развалюхи, где ты нашел чьи-то череп и туфли?
Найди кратчайший путь. Слыхал об алгоритме Дейкстры[2]? Вообрази, что до крыльца тебе идти миллиарды лет. Рассчитывай ходы в комнатах. Выбери минимум.
Задачка на пять баллов и жизнь в подарок. Ошибешься – сгоришь вместе с домом.
Это несложно.
Я ошибся всего раз.
Найди кратчайший путь или шипи на сковороде.
Представь: жена звонит тебе и щебечет, что ты выиграл в любимой лотерее. Но на кой тебе эти деньги, если ты скоро поджаришься?
Надеюсь, уяснил.
А сейчас – вперед.
Попытайся спасти мою историю.
* * *
Я скольжу пальцами по шершавой кирпичной стене. Мне пять. Я люблю игрушечную железную дорогу, подаренную батей на день рождения. Это же улет! И пусть паровоз по ней не ездит. Пусть он с браком. Я едва уломал матушку, чтобы она его не выкидывала и не меняла.
А еще я люблю предков. Пинать камни. Пугать всех вокруг и нырять в волны.
Я хорошо плаваю.
Матушка переживает, что со мной не дружат сверстники. Я объясняю ей – зря.
Дома́, хоть и не сверстники, но тоже ничего.
Не помню, когда это началось. Но раньше, чем я научился говорить.
Матушка водит меня к врачу. Тот показывает картинки, а я замечаю не то, что следует обычному мальчику. Да, чудовище. Да, с тремя желтыми глазами на каждой из голов. Если бы оно жило в нашем доме, его морды выглядывали бы из окон чердака. Вот смеху-то было бы! Я бы кормил его блинчиками.
Матушке не нравится мое воображение. Она его удалит, точно. Поэтому мне страшно к ней приближаться, когда она держит нож. По ночам матушка жалуется бате, что со мной что-то не так.
Если честно, я боюсь. Вдруг она выгонит нас с бракованным паровозом из дому? Интересно, есть ли пункты обмена детей?
Однажды за завтраком матушка цапает меня за запястье и просит, чтобы я никому не говорил о друзьях-домах. Наверное, боится, что я буду выглядеть странно.
Я обижаюсь на матушку, и дом обижается вместе со мной.
Со стола падает стакан. Матушка уверена, что пихнула его локтем.
Но я в курсе: это дом грустит. Дом хочет дружить с ней. А она – нет.
Его сердце в подобные моменты тикает чаще обычного. Предки удивляются, почему часы спешат, и возвращают стрелки обратно.
Дому больно. Он плачет – протекает крыша. Всегда – хоть чини, хоть не чини.
Ты до сих пор здесь, Вячеслав? Неужто не нашел часы?
Тогда читай вслух. Поднимись и постарайся не задохнуться. Хрусти лопатками, не опускай глаза. Вот так. И подбородок – выше.
Не бойся смерти, пока она не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»
* * *
Мне шесть. Матушка бросила попытки сделать меня нормальным. Не обращает внимания, как я жмусь к стене и что-то бормочу. Ну и ладно. Зато со мной дружат протекающая крыша и половицы.
Я спрашиваю у дома:
– Как жизнь?
А он отвечает:
– Отлично.
Спрашиваю:
– Почему я?
А он отвечает:
– Ты славный малый.
Спрашиваю:
– Я случайно не псих?
А он отвечает:
– У тебя просто протекает крыша.
Не бойся безумия, пока оно не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»
Мне семь.
Со мной по-прежнему не дружат сверстники. Я хожу в школу. Мертвую школу. По крайней мере, она молчит. Я пробовал с ней заговорить, а она ни в какую. Или упрямая, или и правда сдохла.
Может, она невзлюбила учеников. Может, виновато сердце-часы – здесь оно тикает тише, чем дома.
Может, школа больна.
Мне так и не удалили фантазию.
И почему матушка до сих пор не обменяла меня на кого-то получше? На что она надеется?
Впрочем, паровоз я тоже не обменял. И ни на что не надеюсь.
Мне восемь.
Я провожу все свободное время у себя в комнате. Прижимаюсь к обоям так, что краснеет ухо – иногда дом шепчет чересчур неразборчиво.
Одноклассники обзывают меня маменькиным сынком. А все потому, что я отправляюсь домой в шесть, ведь уже темнеет. Я боюсь. Ночью голоса домов особенно различимы.
Одноклассники обзывают меня кирпичом. А все потому, что я часто прислушиваюсь к стенам, сливаюсь с ними. «И лицо приплюснутое», – заявляет Пашка, главный придурок поселка, – долговязый, с белыми-белыми седыми волосами, хотя ему всего восемь, и с длинными, девчачьими ресницами. Странно, что над ним никто не подшучивает.
Одноклассники обзывают меня сумасшедшим. А все потому, что моя крыша протекает.
Мы с домом – близнецы. Только я не давлюсь штукатуркой.
В первый день осени банда во главе с Пашкой перелезает через забор и кидает камни в мое окно.
Маменькин сынок.
Кирпич.
Сумасшедший.
Осколки летят в разные стороны. Сердце дома тикает быстрее и быстрее и, должно быть, спешит на часов сорок. Больно, больно. Как же ему больно.
Мальчишки гогочут. Они попали в цель и проучили негодяя.
Я не успеваю увернуться – камень попадает мне в лоб – и растекаюсь лужицей по полу.
Мальчишки грозятся меня закопать, скормить крысам, законсервировать вместо огурцов. Но вскоре крики обрываются. Я с трудом доползаю до подоконника и пялюсь в окно: у Пашки из носа льется кровь – пачкает рубашку, капает на траву. Рядом – разбитый горшок с землей и пока не проросшими матушкиными цветами.
– Спасибо, – мямлю я, гладя стену.
Дом меня защищает.
Мы – друзья.
Этим же вечером к нам заявляются предки Пашки и визжат, что я сломал их сыну нос.
– А вы нам окно разбили, – парирует батя. – Смотрите, что у Захара на лбу!
К тому времени моя шишка приобретает размеры Земли.
– Ваш Паша перелез через забор, – подключается матушка, гладя меня по башке с таким усердием, что я боюсь, не останусь ли лысым.
Они грызутся, наверное, вечность – я успеваю сосчитать до ста и обратно – а после разбегаются как ни в чем не бывало, мысленно посылая друг друга к черту. Я молюсь, чтобы нас с домом никто не тронул.
За ужином предки косятся на меня с опаской, и матушка не выдерживает:
– Нельзя кидать горшки, Захар. Ты же это понимаешь? – Она отодвигает тарелку, выпрямляется, вытягивается и, кажется, худеет, как кусок теста. Длинная-длинная матушка стремится к потолку. – Они поступили ужасно. Но и ты не лучше.
Я засасываю спагетти и мотаю головой:
– Это не я.
– А кто?
– Не я.
– Не ври нам, Захар, – встревает батя.
– Я не вру.
Матушкина макушка достает до потолка, дом изгибается дугой.
А потом мне на целых четыре недели запрещают гулять после школы. Жаль, ведь я люблю знакомиться с новыми домами.
Постепенно матушка приобретает прежние размеры и отправляется мыть посуду.
Ночью, когда предки умолкают, я прислоняюсь ухом к стене и спрашиваю:
– Тебе больно?
А дом отвечает:
– Будет фингал.
* * *
В начале каждого месяца к нам забегает соседка, местный милиционер[3]. Я не в курсе, зачем мы ей понадобились, но она без устали болтает, какой ухоженный у нас огород, и дарит яблоки (или клубнику, смородину – по сезону), хвастаясь, что у нее много уродилось. Зимой приносит пироги. И так во все дома.
Люди говорят, она не в себе. Что ее бросил ухажер, и от страданий ее психика превратилась в сельдь под шубой, причем шубой очень-очень толстой.
Но я им не верю. Она поворачивается ко мне и, точно лучами, пронизывает взглядом. Не как предки, будто сопереживает, будто дошло до нее, что у меня воспаленная фантазия.
– Добрый день. А я вам фрукты принесла. Дай, думаю, порадую любимых соседей. – И топчется на пороге с корзиной яблок.
Ох, как же она мне не нравится.
Предки жалеют соседку, впускают, а я обычно прячусь в прихожей за шкафом, но она неизменно меня находит. Специально.
– Какой замечательный у вас мальчишка! Почему он в углу?
– Играет, – оправдывается матушка. – Это… детский невроз. Воображает, что дома живые.
– Вы водили его к врачу? – Она поправляет блондинистые косы и пялится на меня, не моргает – глаза вот-вот выпадут. Ух, ведьма.
– Да-да…
Еще чуть-чуть, и корзина затрещит – так сильно она ее стискивает.
– Думаю, это детская фантазия. Но я бы не распространялась на вашем месте…
Странный совет. Даже я, восьмилетний ребенок, это понимаю.
Соседка взлохмачивает мне волосы, задевает плечом стену, что-то ищет, но безрезультатно. После ее визитов дом долго молчит. Он боится, но никогда не признается, чего именно.
2 Анна [После]
Наше время
Я сижу в кухне за ноутбуком и кликаю на иконку почты. На столе стоят часы, и их цоканье усиливает мою головную боль. В каждом нейроне тикает. Я жду взрыва, но ничего не случается. Ложная тревога. Постоянно.
Спустя три месяца мне пришло письмо из издательства «Сокол». Три месяца с тех пор, как моя рукопись упорхнула на рассмотрение к десяти редакторам.
Вчера ответили «Полюсы»: не тот формат. Позавчера – «Ирисы»: чересчур тяжелый стиль. А неделю назад моя любимая «Сенсация» заявила, что книгу никто не купит, тема заезженная. И далее по списку. Знаю, правы. Знаю и от этого хочется выкинуть ноутбук в окно и выкинуться самой.
Я проиграла. Девять издательств отказали.
А сейчас я читаю письмо от десятого издательства.
Сокол, сокол, позволь мне расправить крылья. Ты же понимаешь, как это здорово – летать.
Но сокол – жестокая птица. Сообщение рубцами-буквами пилит мои крылья. Ой, задело нерв. Ой, второй. Ой, режет сухожилия. Ой, выводит на спине кровавое «нет».
Ой, я мертва.
Я писала книгу год – о птицах и сладости полета. Ха-ха. В следующий раз напишу о домах: у них нет крыльев.
В ушах почти не тикает – взрыв отменяется. Переносится на следующую неделю. Вторая я, злая Аня-подрывник заболела – еще в детстве, прячась под кроватью и вдыхая запах гари. Из соседней комнаты доносилась выученная наизусть песня, звучащая в моем «тик-так».
Подрывник выздоровеет. Подрывник обещает.
Кто-то звонит в дверь.
Я щелкаю замком – на пороге топчется Рита. Моя двоюродная сестра – взлохмаченная, мокрая, точно побывавшая в центрифуге. А вообще, я не удивлюсь, если она в ней живет, – в другом образе я ее не видела. В носу – сережка-череп, губы под цвет артериальной крови, брови густые – волосинки торчат в разные стороны. Шерсть облезшего кота, не иначе.
– Дождь, – объясняет она. – Пора отдавать мой зонтик, Аня. Я ненадолго, на работу опаздываю.
Рита фитнес-тренер. Практикует пилатес и йогу. Гнется, как лист бумаги. Однажды я сходила к ней на гамаки[4], а потом целый день боялась, что земля проломится подо мной, как картонка. Раз – и я провалюсь; два – и планета меня проглотит.
Раньше я жила с Ритой и Виталиной Семеновной, моей тетей, – и каждый день слушала музыку для медитации. Сомнительное удовольствие. Теперь – слава небесам! – я снимаю квартиру с видом на шедевры уличных художников. Стены соседнего дома украшает мурал[5] – девушка в синем платье, символизирующая воду. На другой многоэтажке – парень с корзиной овощей: плодородие. Косится на девушку в синем платье и будто просит ее о чем-то. Зря – она одержима водой, ей не до него.
– Как ты? – интересуется Рита, прорываясь в комнату.
Я улыбаюсь – у меня отпуск. Разве люди в отпуске грустят? Отдыхающий человек – человек, словно сошедший со снимка, сделанного на день рождения. Особенно, если он преподает на компьютерных курсах.
Я учу школьников пользоваться фотошопом. Они клацают колпачками, размышляют о чем-то другом, для них более важном, часто поглядывают в телефоны. Но есть и особенные ученики. Однажды я закончила занятие на три минуты раньше, и Борька Иглов ткнул меня носом в свои наручные часы: рано, мол, давайте дальше. Я так разозлилась, что оставила его еще на час, а потом вечером долго топталась под душем, пытаясь заглушить водой проклятое тиканье.
– Решила, куда поедешь? – допытывается Рита, ища в шкафу зонтик. – Отпуск как-никак.
– Да, – чеканю я.
И вновь тикаю.
Аня-подрывник не спит. Она рядом и обожает «Наутилусов».
Рита извлекает из шкафа зонтик.
– Куда же?
– К морю. В наш поселок.
Она резко выпрямляется – так, что едва не роняет зонтик. Громко-громко. Между нами с Ритой повисает напряжение, и кажется, будто квартира трещит по швам. В кухне свистит чайник, жужжит ноутбук, но сейчас это неважно. Важно лишь то, что я уезжаю в отпуск.
– Ты… серьезно?
Она вздыхает, смотрит сквозь, между – в прошлое. Туда, где я, маленькая девочка, сидела под кроватью и изучала чьи-то пыльные ботинки, дрожала, мечтала, чтобы пахло яблоками, а не гарью.
– Сегодня пришел десятый отказ…
– Ясно.
– Я не расстраиваюсь. – Фраза слишком скрипит на зубах, чтобы быть правдой. – Я найду себя. Вспомню. Напишу новую книгу. Ее издадут.
Рита стучит зонтиком по полу, словно старается проломить пол и сбежать от сумасшедшей сестры к ядру Земли. Скорее всего, там уютнее, чем у меня дома.
– Конечно, – внезапно соглашается Рита. – Езжай. Давно пора. Я в тебя верю.
А между вдохом и выдохом таится безнадежное «не». Рита боится ляпнуть лишнего, чтобы меня не накрыла паническая атака. Боится, что где-то в сознании я откопаю новый пазл из прошлого. А там, у моря, подальше от пыльных дорог, ей не придется пихать в мою глотку антидепрессанты. Ее просто не будет рядом.
Нам лучше быть порознь. Вообразить только, она перестанет трезвонить мне по утрам якобы из-за зонтика, перекрикивать меня банальным «не переживай», вздрагивать от каждого моего движения… Все отсрочится на время отпуска, а может, и навсегда. Я не проломлю Рите череп стулом, если вдруг мне почудится, что она – враг. Подрывник в пыльных ботинках, обожающий «Наутилусов».
Я забуду, что такое вина.
У меня не появится очередной пробел в памяти. Я не буду гоняться за случившимся, как сейчас – за родным домом. Зато смогу написать бестселлер, когда все вспомню.
К черту тайны.
Нам будет спокойнее друг без друга. И Виталине Семеновне – тоже. Десять лет назад Ритина мама стала и моей тоже. Это единственное, что нас объединяет. Отца я не видела. «Родители давным-давно разбежались», – объяснила Рита, когда я только-только к ним переехала.
– Занятия… – Сестра прикусывает губу. – Почему ты забросила йогу? Тебе полезно…
Когда пропала моя мама, Виталина Семеновна вызвала полицию. Те долго рыскали по лесу, возле которого меня нашли, а потом вернулись с неутешительной новостью. Тора Рэу упала со скалы. Ее обглодали местные волки.
А я… я выбралась на трассу. Добрый дальнобойщик притормозил, заметив малютку на дороге. Я молчала и дулась неизвестно на кого – на мужчину или на весь мир. Он взял меня с собой, каким-то чудом выпытал адрес родственников, и уже ночью надо мной хлопотала Виталина Семеновна.
Эту историю я миллион раз слышала от Риты. Сама же – как ластиком все стерла, залепила изолентой, заглушила любимой песней чужака в сапогах, спрятала под кроватью.
Моя мама оставила меня, чтобы спрыгнуть со скалы. Волки, должно быть, обрадовались.
– Я еду в поселок, – отрезала я, давая Рите понять, что разговор окончен.
Мне нужно испугаться, чтобы почувствовать. До крови на зубах. До осипшего голоса и легких-камней. Вскрыть себя и изучить изнутри.
Рита бросает взгляд на часы и в ужасе подпрыгивает.
– Ну что, сестренка, мне пора. Хорошего отдыха. – Она обнимает меня, как обнимают, прощаясь насовсем. – Ань, а что, если… книги этого не стоят?
Я отстраняюсь и качаю головой. Снова. Снова. Снова.
– Ладно. Звони, если что. Хотя бы ради мамы.
Тик-так. Часы в кухне спешат. Те – опаздывали. Возможно, из-за них опоздала и я.
Возможно, из-за них опоздала и мама.
* * *
Я в автобусе. Впереди плещется море. Поселок застрял между скалами, как между разрушающимися зубами.
Он был моим домом.
Он был моим.
Он был.
Да и я – вряд ли есть. Я тоже была.
От города до поселка – полчаса езды. Мало, да. Но для меня – вечность. Я собиралась сюда десять лет.
За окном плывут скалы; хижины, тонущие в земле, как в болоте; покореженные деревья – засохшие, стремящиеся вниз, а не к небу. Это похоже на воспроизведение старого фильма, незаслуженно забытого, который лежал в ящике, в пыли полвека, а сейчас его откопали. Он оживает заново. Еще чуть-чуть – и я нажму на play. Еще чуть-чуть – и я начнусь. Надоело жить на паузе.
Я видела эти скалы. Людей с загаром на шее и ниже плеч. Коров на пастбищах. Обветшалые дома, которые без конца латают, точно любимые платья. Ржавую арку, заглатывающую жителей поселка из года в год.
Здесь два пути – принимать туристов и лелеять молодые ростки огурцов, но моя мама нашла третий – потерянный, заросший, среди сосен и скал.
Здравствуй, поселок. Расскажи обо мне. Испугай. Тогда я сумею быть настоящей в книгах. Я мечтаю осветить темные углы. У тебя хорошие фонари. Ты… одолжишь их?
Я выпрыгиваю из автобуса и достаю чемодан. Я старалась не брать много вещей, поэтому поднимаю его почти без усилий. Колесики тонут в грязи.
Пыхнув на прощание, автобус исчезает в утреннем тумане. Грязно-белый, в желтую полоску, он ждал своего часа полвека вместе с фильмом-воспоминанием.
Я щурюсь. На часах без десяти семь. Малолюдно, лишь несколько человек копошатся на огородах. Здесь нет муралов. Хижины заросли плесенью и мхом, но эти стены ничем не уступают городским – плесень похожа на картины-муралы. На ближней, возле арки, – летучая мышь, не иначе. На той, что за ней, – черные цветы.
А вот и рисунок-монстр. Он пялится на меня желтенькими глазами-цветочками. Шею сжимает лоза винограда. Его кто-то решил повесить. Или он сам повесился?
Этот дом выше остальных – здесь четыре этажа. Левую сторону подлатали, утеплили и закрасили, а правая – разлагается.
Дом – наполовину труп.
К дощатому забору прибита табличка: «Есть свободные номера».
Значит, база отдыха. Через приоткрытую калитку я вижу заасфальтированную тропинку. Сквозь трещины пробивается трава, чуть поодаль притаилась беседка. Все ждут чего-то, даже декоративный гном на пне.
– Можно войти? – выкрикиваю я, но тут же прикусываю язык. Слишком рано.
Из-за прогнивших крыш выглядывает море. Оно дышит на поселок. Шумит. Кажется, мы с ним общались, изучали язык друг друга.
Я уже думаю брести на пляж, как вдруг со стороны настенного монстра раздается стук. В окнах – никого, занавески задернуты.
Где-то лает собака.
Тсс, я своя.
Своя.
По крайней мере была своей.
– Помоги, – шепчет кто-то.
В тишине утра голос звучит неестественно. Словно я попала в театр одного актера и за моей спиной сейчас взорвутся аплодисменты.
Но аплодирует только море.
– Кто здесь?
Из беседки выходит кто-то маленький, одетый в длинную белую рубаху. На голове – бумажный пакет с прорезями для глаз. Мальчик?..
– Помоги, – повторяет он.
Ему не больше десяти. Прямо как мне тогда. Жаль, что на моем пути не встретилась сумасшедшая писательница с частичными пробелами в памяти. Уж она бы меня спасла.
– Что-то случилось?
Мальчик демонстрирует руку, которую до этого держал за спиной. С ладошки стекает красная жидкость.
– Я убил. Убил.
Мир плывет.
Море гонит волны.
Море чистое и прозрачное, хоть и утопило миллионы людей.
А этот мальчик в крови. Он умоляет меня о чем-то. Меня. А впрочем, какой я герой. Скорее жертва.
– К… Кого ты убил?
– Всех, – всхлипывает он. – Я боюсь, что мама разозлится.
Тик-так. Сейчас самое время нажать на «пуск» и взорвать клочки рассудка. Ты готов, подрывник? Где твоя музыка?
Горло царапают колючки вопросов. Вызвать скорую? Полицию? Увезти этого ребенка или бежать самой?
Дети не бывают злыми.
Не бывают.
– Помоги, – упрямо повторяет он. – Здесь, на первом этаже. Нужно их похоронить.
Я призываю себя к здравому смыслу, но какой, к черту, здравый смысл, когда это мой шанс окунуться во тьму, испугать себя, почувствовать, как кровь стынет и протыкает меня ледяными иголками?
В экстренных ситуациях я возвращаюсь в прошлое. Касаясь губами смерти, я всегда нащупываю ту дверь.
Этот малыш – неплохой персонаж. Но… почему он родился не в книге? Почему здесь, в поселке?
Я открываю калитку настежь. Стук-стук-стук – стучат мои каблуки. Громко, будто вбивают гвозди в чей-то висок.
– Зачем ты это сделал? – хриплю я.
Вблизи настенный монстр и мальчик похожи. Наверное, без пакета на голове малыш бы выглядел точно так же – с желтыми цветочками вместо глаз.
– Было интересно, как они умирают.
Он идет за мной.
У меня немеют пальцы.
Шагов мальчика не слышно. Что, если он призрак? Что, если мне это чудится, и я дома? Что, если рядом сидит Рита и пытается вернуть меня в реальность, вытащить из мерзкого сна, дергая за волосы? Она торопится на работу, злится, топает ногами, говорит со мной откровенно. Так, как не говорит, когда я в сознании.
Я замираю на пороге.
– Как тебя зовут?
Дверь болтается на сквозняке – здесь не ждали гостей. И, скорее всего, никогда не будут ждать.
– Темыч.
Я оборачиваюсь и окидываю мальчика взглядом. Что с ним творится? Как бы я хотела заполучить его тайны! Безумие – вот что всегда будет манить.
Я тяну к нему ладонь.
– Ты… боялся?
– Нет.
– Плакал?
– Нет. Экспериментировал.
Я заберу этого ребенка в книгу. Он мне нужен больше, чем этому миру. Превращу его в буквы. Он будет счастлив, я буду счастлива. Мы потеряем рассудок вместе.
– Почему ты стоишь? – Мальчик толкает меня окровавленной рукой, вымазывает мое запястье. – Мы должны их похоронить.
Я переступаю порог. Передо мной – длинный коридор. По бокам – два прохода. Если бы здесь не было крыши, сверху бы планировка напоминала крест.
Дом – кладбище.
Дом – могильная яма.
Я свожу лопатки до боли.
– Куда?
Не убивай меня, ребенок. Я написала не все книги. Кто, если не я, поможет тебе обратиться в буквы?
– Прямо.
Дверь в конце коридора распахнута, я не заметила ее сразу. На сквозняке танцует занавеска. Пахнет сыростью. Мне уже не до мальчика. Я жалею, что согласилась на его просьбу. Мы приближаемся к основанию креста. А что дальше?
Правильно, земля.
Не хороните меня.
Умоляю.
3 Захар [До]
Мне девять.
Я ни на миг не расстаюсь со стареньким проигрывателем. Правда, я стесняюсь включать его, когда рядом кто-то есть, поэтому врубаю музыку только в гостях у тикающей заброшки, моего нового приятеля.
Я обожаю гулять перед школой. Люди спят – дома не спят никогда. Они не обзываются ни маменькиным сынком, ни Кирпичом, ни сумасшедшим. Они – друзья.
Иногда мы болтаем вслух, но чаще – мысленно. Это удобно и не вызывает подозрений.
Дома защищают меня от Пашки и его шайки, изо дня в день ошивающихся то у магазина, то возле моего приятеля с выбитыми окнами. А мой приятель плачет и хрустит половицами, как трехсотлетний старик костями. Вместо чая – дождевые лужи, вместо торта – дохлые крысы. Но я его люблю. Он знает почти обо всех зданиях в поселке. Вот тебе и стопроцентное зрение.
В твоем доме, Захар, говорит, жил пьяница. Родственники его забрали в город. Жилье продали. А Пашка, говорит, спит с плюшевым медведем и включенным светом. И храпит, храпит-то как!
Мой приятель следит за каждым. У домов общие глаза.
Я заливаюсь слезами от хохота – Пашка и медведь, надо же! – и снова тону в пыли и грязи тикающего друга. Мне плевать на новенькие кроссовки и упавший в лужу рюкзак. Я не брошу дом. Тем более он делится со мной такими тайнами.
Мой заклятый враг спит со светом. Умора ведь!
И все бы ничего, если бы Пашка за мной не следил. Но, к счастью, однажды встретив меня, он не успел даже шевельнуться: мой приятель напал на него. Оконная рама едва не превратила дурачка в паштет. Сквозняк. Пашка вылетел из дома с шишкой на лбу и ушибленной ногой.
Предки злятся, когда я защищаюсь. И как бы я ни клялся, что не виноват, мы вновь тащимся к врачу. Я выкладываю ему о дружбе с домами, а он слушает с ангельской невозмутимостью, но руки-то подрагивают – меня не проведешь.
Доктор назначает мне пилюли и заявляет, что «я тяжелый ребенок, и нервные срывы в моем возрасте – почти норма». Предки покупают гору кругленьких таблеточек, но я лишь притворяюсь, что глотаю, и скармливаю их унитазу. Потом – надеваю наушники: матушка и батя подарили на девятилетие. Теперь во время скандалов я включаю музыку.
Мы словно в клипе «Сны» моего любимого «Аквариума». Раз – матушка ерошит волосы. Два – батя подходит ко мне вплотную. Три – во рту горчит очередная порция «обеда для унитаза».
Когда все паршиво, я мысленно пою песни. Да и когда хорошо – тоже.
Включаю «Замок».
Матушка отчитывает меня за ушибленную ногу Пашки.
Удачи тем, кто ищет. Покоя тем, кто спит.[6]К нам вламываются предки Паши. Скорее всего, они мечтают, чтобы я сдох. Я смотрю немое кино в их исполнении – не хуже Чарли Чаплина!
Гаснущие листья Затоптаны в гранит.После немого кино ребята в школе косятся на меня, как на шевелящийся дом, а потом – на Пашку. Тот бесится, зыркает на них и постоянно лезет в драку.
Учителя тоже меня боятся. Перед уроками я подслушиваю их беседу в преподавательской. Они не понимают, откуда в щуплом мальчике, не достающем даже до выключателя в классе, столько сил. Сетуют на предков, мол, те не уследили, и мое место – в специальном учреждении. Но я сомневаюсь, что такое специальное учреждение существует.
Щеки обжигает, будто я окунулся в кипящий суп. Я краду из класса мел – хотя бы какая-то польза от школы, – закидываю на плечо рюкзак и несусь прочь.
Пусть радуются, я смылся!
Печальнее печали Назвать сестрой печаль…Заброшенный дом клонится над поселком длинной тенью, вгрызается в холм, расправив покореженные крылья-ворота. Однажды он проболтался, что мечтает взлететь. И поклялся, что взял бы меня с собой. Мы бы улетели туда, где люди не шарахаются от тикающих потолков. В специальное учреждение.
Рядом с ним растут две яблони – огромные и старые, вот-вот надломятся. Со стороны леса – запасной вход через подвал, но я иду через главный.
Секунду мнусь на пороге, а после – прошмыгиваю в скелет комнаты. Скелет – потому что у дома нет кожи и мышц. Он почти мертвец, но… тикает. Разбитые стекла под оконной рамой, обломки досок, прогнившие полочки-гробики – все тикает, тикает, тикает.
Я достаю мелки и прислоняюсь к кирпичной стене.
– Привет, Ворон! Давай я нарисую кота! Тогда тебе не будет так скучно. Мы с тобой ведь не всегда вместе.
Они часто называют себя птицами. Мой дом – Воробей. Маленький, но воинственный. Этот – Ворон. Старый больной Ворон.
Дом качает валяющимися досками. Соглашается.
Я надавливаю мелком на сырой кирпич. Кот получается здоровенный и пушистый. Ура! Теперь друг не загрустит – с таким-то питомцем!
– Спасибо, – скрипит лестница.
– Спасибо, – шуршат лохмотья на окнах.
– Спасибо, – стучат двери на сквозняке.
– Кто в тебе жил?
Затхлый воздух проникает в меня, и вот я уже сам – затхлый воздух.
– Старики с котом, – отвечает Ворон. – Хозяин был моряком, а хозяйка играла в шашки сама с собой и обожала французский шансон.
Я изучаю тумбочку у лестницы. Целехонькая, как ни странно. На ней разбросаны белые шашки и тикает мини-будильник. Zahnrad, – это название выгравировано под циферблатом. Ворон не любит, когда я до них дотрагиваюсь, плюется в меня штукатуркой.
Часы в пыли, но работают, чеканят резко. Они бессмертны. В них – непортящиеся батарейки. Я знаю это с рождения. Просто знаю и все.
Я надеваю наушники.
А в небе черной тушью — Чугун и всплеск ветвей…Следующим утром вместо школы я мчусь к Ворону. Здесь мой дом, мое учреждение. Если бы предки разрешили, я бы переселился сюда.
– Расскажи еще что-нибудь о хозяевах.
Я плюхаюсь на подоконник. Отсюда комната выглядит не как скелет – тумбочка с часами и шашками, лестница на второй этаж. Мой здоровенный кот.
– Хозяйка называла кота Облаком.
– Почему?
– Он был черным, а на спине – меченный белым пятном. Что-то вроде борьбы грозовых туч с облаками, ясно?
– Что же ты молчал? – я подскакиваю и устремляюсь к рисунку. – Сейчас добавим реалистичности!
Но добавлять ничего не нужно: кот уже меченый.
– Откуда? – я пячусь. Сердце колотится прямо в горле. – Сам постарался?
– Нет. Но тому, кто нарисовал, не помешала бы твоя помощь. Я… чувствую. Ей плохо.
– Ей?
– Через три улицы от нас, крайний дом. Ласточка.
Я заваливаю Ворона вопросами, но он будто воды в окна набрал и заклеил их изолентой. Как бы я ни старался вытрясти из него что-нибудь полезное – тщетно. Он умеет пугать.
Я надеваю рюкзак и выныриваю на свежий воздух.
Ей плохо.
Человеку, нарисовавшему облако, плохо.
Она заболела? Ее тоже бьет Пашка? Ей удалили фантазию?
Я бегу. Через каждый шаг спотыкаюсь о камни и ямы на обочине, чертыхаюсь, но продолжаю спешить к своему новому другу (или врагу?). Улицы как специально удлиняются, расширяются, давятся засохшими ветками и машинами.
Я все-таки падаю, но тут же поднимаю голову и подрываюсь.
Третья улица. Крайний дом. Он и правда как ласточка: чистый, светлый. Вот-вот взлетит воздушным шариком. В саду растут яблони и цветы. Здесь нет огорода.
Нет. Огорода.
Как эти люди живут?
Если не вспашешь землю – не вырастут овощи.
Если не вырастут овощи – ничего не продашь.
Если ничего не продашь – не получишь денег.
Если не получишь денег – не будет еды.
Если не будет еды – сдохнешь.
Эти правила знает каждый ребенок в поселке.
Ясно теперь, почему моему другу-врагу плохо – у нее нет еды.
Калитка качается на сквозняке, дверь распахнута настежь. Ненавижу орать на всю улицу, так что… придется пугать. Круче, когда внезапно.
Дом обволакивает меня тоненьким «помогипомогипомоги».
Я проскальзываю в сад и крадусь по траве. Что, если Ласточка – это портал в мир, где у людей растут только цветы и яблони?
Я прижимаюсь к стене, заглядываю в окно и убеждаю себя, что мое дыхание – просто шелест листьев, а я сам – дерево. Мамочки-пожалуйста-я-всего-лишь-дерево-не-трогайте-меня.
Девочка лет восьми забилась в угол и раскачивается из стороны в сторону. По щекам текут слезы, платьице в грязи, кудряшки растрепаны.
Она как взорвавшаяся хлопушка. Наверное, недавно расчесывалась, любовалась отражением в зеркале. А потом – бах! – и на полу валяется конфетти.
Из соседней комнаты доносятся возгласы: кто-то кого-то торопит. Кто-то кого-то ругает, причем так зло, точно убить собирается. А девочка все плачет и плачет. Я боюсь, что скоро она затопит Ласточку и наш поселок.
В висках – песня «Аквариума». Она постоянно со мной. Впору снимать немое кино.
Да будет шаг твой легок, Пока не кончен сон…Если бы у меня на ладони имелась кнопка повтора, я бы продырявил ее.
В кухню вваливается здоровенный мужик с маской клоуна. Хотя клоун из него так себе.
– Заткнись! – рявкает он.
Но девочка всхлипывает громче прежнего.
– Где родители хранят деньги? – Мужик трясет ее за острые плечики. – Да не реви ты!
Я обвожу взглядом сад и не нахожу ничего, что могло бы нас спасти. А нет. Нахожу. У хозблока валяется ржавая лопата – близко, метра четыре, не больше.
Вдох-выдох.
Вдох-выдох.
Я дерево, дерево, дерево…
Прыжок, второй. Лопата моя. Я пинаю ее носком кроссовка и подхватываю, с размаху бью по окну.
Осколки летят на «клоуна».
Дом трещит от боли.
– Что ж ты не защищалась, Ласточка? Терпи, – почти беззвучно лепечу я и прошмыгиваю в нишу за яблоней.
Самозванцы не заметят. Они пришли развлекать не меня.
Помоги, Ласточка, давай. Выпроводи гадов!
Я глажу ее по водосточной трубе. Губы прижимаются к ледяной побелке. Я еще не сталкивался с такими скромными домами. Обычно каменные существа борются и хлопают дверями, если от этого зависит их жизнь.
Умоляю, Ласточка, не медли. Сколько тебе? Дай угадаю: нет и года? Наплюй на возраст и помоги хозяйке. У тебя это в крови.
На веранде появляются трое громил в дурацких масках.
Вперед, Ласточка. Самое время хлопнуть дверями. В прямом смысле.
Клоун-блондин прилип к стеклу – изучает участок.
– Они вернулись.
Его товарищи держат руки в карманах, и мне даже представить страшно, что они там прячут.
– Валим.
Но «свалить» они не успевают. Раз – и захлопывается замок на пути к их спасению. Два – задвигается щеколда в кухню.
Молодец, Ласточка!
– Бей окна! – вопит светловолосый упырь.
Но он не в курсе, что окна тоже умеют бить. Самому высокому достается по лбу рамой. Рядом с блондином лопается стекло, осколок впивается ему в ногу. Тот, что общался с «хлопушкой», получает в грудь ожившим шкафом.
Ха-ха! Знай наших!
Я заглядываю в кухню. Девочка до сих пор качается и всхлипывает.
– Иди сюда, – зову ее я.
Но она не обращает на меня внимания. Хлопушка, блин. Взорвалась и оглушила сама себя. Расстроилась из-за испорченной прически.
Я перемахиваю через подоконник и приземляюсь у холодильника. Хватаю девчонку за локоть. Она с ужасом таращится куда-то между нами и роняет тихое «отпусти».
– Мы спрячемся. – Я расправляю плечи и включаю режим командира. – За мной.
Мы прошмыгиваем в разбитое окно и несемся прочь. За нашими спинами раздается ругань клоунов. Им больше некого развлекать. Не сомневаюсь, они заметили нас и решили, что это мы их покалечили. Обычные люди думают именно так.
Как хорошо быть домом. Тебя никто не наказывает. Твори, что в голову взбредет, круши столы, потолки, рыдай, трещи половицами – всем плевать. Ты ведь дом. Тебя не поставят в угол. В тебе самом полно углов.
Мимо нас проносятся стройные ряды баклажанов, картошки и помидоров. Соседи вскапывают огороды и с подозрением косятся на нас. Странно, что никто не слышал звона стекла. Или слышал, но не обратил внимания. Готов поклясться, так и есть. Еще одно правило: не обращай внимания.
Мы мчимся ко мне. Мой Воробей наверняка нас защитит.
– Я устала, – хнычет девчонка.
– Тогда возвращайся домой и пригласи их на чай!
Клоуны не преследуют нас, но темпа мы не сбавляем – на всякий пожарный. Я-то наученный. Расслабишься – проиграешь. Споткнешься – проиграешь. Разревешься – проиграешь.
– Еще чуть-чуть, – обещаю я.
Воробей выныривает из-за очередного поворота. Наконец-то! Мы влетаем ко мне и, даже не стянув обувь, поднимаемся в мою комнату. Для пущего эффекта я подпираю дверь столом. Предков нет – днем они частенько торгуют. Я ощущаю себя супергероем, спасающим планету, и звоню в милицию. С трудом вспоминаю адрес.
Растяпа!
Дяденька обещает, что к нам скоро приедут.
Девчонка топчется в углу и ковыряет мизинцем обои. У меня никогда не было гостей. Особенно – таких. Как поступают радушные хозяева? Угощают чаем? Приглашают присесть? Болтают о погоде?
– Чувствуй себя как дома, – выдавливаю я, звеня мелочью в кармане. – Как тебя зовут?
Гостья отшатывается от обоев и вздергивает подбородок.
– Тора.
– Тора?
– Люблю сокращать, – объясняет она. – Полное – Виктория.
– А я Захар. Сколько тебе лет?
– Девять.
– Когда день рождения?
– Был в августе. Пятого.
Супергерой во мне окончательно вытесняет маменькиного-сынка-сумасшедшего-Кирпича. Я старше этой девчонки на целых два месяца. Малявка. Ну ничего, я ведь взрослый. Я о ней позабочусь.
– А у меня в июне.
Но ей нет дела до моего возраста. Она хмурится и думает о чем-то так усердно, что ее голова едва не лопается.
– Как у тебя вышло…
– Что?
– Это.
Слезы на ее щеках высохли. Хмурая и дрожащая, в белом кружевном платьице, девчонка подходит Воробью больше, чем я сам. Сейчас бы сфотографировать ее…
Тора и люстра.
Тора и мой стол.
Тора и ковер.
Мне впервые настолько неуютно в собственном доме. Точно Воробей хочет выплюнуть меня вместе с цветочным горшком на Пашкину башку.
– Кто-то кричал. Я шел на звук.
– Врешь.
– Нет.
Я почти уверен, что Тора тоже общается с ними, но пока она не проболтается, буду молчать. Одно дело – изображать шизика при Пашке, другое – при красивой девчонке.
– Замки сами захлопнулись. Она так не умеет. Или… не умела.
– Кто?
– Она.
– Плохо просила, – огрызаюсь я, но тут же прикусываю язык.
– А ты – хорошо? – Тора опирается ладонями на стол. – Ой…
Она закатывает рукав: кожа на локте содрана.
– Сейчас.
Я выскальзываю в коридор – приходится отодвинуть стол – и приношу из кухни аптечку, а заодно – книгу с красным крестом и золотистой надписью на обложке: «Первая помощь».
Тора приземляется на диван. Состроив умное лицо, я листаю оглавление и натыкаюсь на графу «Поверхностные раны».
– Мне ведь не череп проломили, – хихикает Тора. – Обработай и все.
– Не мешай, – отмахиваюсь я.
– Если бы я умирала, ты бы ни за что не успел.
Я достаю перекись, вату, марлю и зеленку. Супергерой превращается в доктора, оперирующего тяжелого больного.
Струйки пота текут по лбу.
Я удаляю грязь и мажу края раны зеленкой, даю ей просохнуть, а после – заматываю бинтом. И представляю, как выбегаю в коридор к родственникам, как объявляю, что операция прошла успешно. Что пациент выжил. Меня осыпают благодарностями, заваливают цветами, не обзывают Кирпичом.
– Спасибо, – фыркает Тора. – Ты забавный.
Между передними верхними зубами у нее чернеет щелочка. Девочка-хлопушка. Девочка-сладкая-вата.
– Почему это забавный?
– Никогда не видела, чтобы оказывали первую помощь с учебником под мышкой.
– А я никогда не видел, как оказывают первую помощь. – Я прячу бинты в коробку. – Где твои пред… родители?
– Работают.
Кто-то стучится.
Мы спускаемся. Я крадусь к окну и приподнимаю занавески. На крыльце стоит дяденька в синей форме. Милиционер.
Мы выкладываем ему все в подробностях, утаив лишь, что нас защитила Ласточка. Тора клянется, что запирает замки, когда предки на работе, но клоуны прикинулись соседями. Мол, пришли по просьбе матушки и бати. Тора бы ни за что не повелась, но воры назвали имя ее любимой игрушки-кота. Она сшила его сама и окрестила Облаком.
Облаком. У меня по спине пробегает холодок.
– Скорее всего, они когда-то подслушали мой разговор с родителями. А я, дурочка, уши развесила.
Мы идем к Ласточке, и милиционер обыскивает ее, опрашивает соседей. Я описываю ему клоунов и клянусь, что, гуляя, просто проходил мимо.
Мы дозваниваемся предкам Торы, и уже через полчаса они заваливают нас вопросами: «Что случилось?», «Почему?», «Кто этот мальчик?», «Он твой друг?», «Как вы справились с ворами?», «Сильно поранилась?»
Я старательно притворяюсь, что меня не существует. Пялюсь в небо, слюни пускаю. Короче, играю в пристукнутого. После визита к доктору мне это почти удается. А по мнению матушки мне это удается отлично.
Тора мотает головой и тычет пальчиком в рану. Ишь какая, тоже умеет падать на дурочку. Ее предки с подозрением косятся на меня.
– Он гулял неподалеку от нашего дома, – все же решается Тора. – И слава богу, что гулял.
Меня награждают конфетами и жареными орехами. Я извиняюсь за выбитое окно. А мне отвечают: «Неважно».
Я впервые выдаю столько слов за день, впервые общаюсь так долго с людьми.
– Спасибо, – шепчет на прощание Тора.
Слабо тикает Ласточка.
Прости, подруга.
Наш поселок маленький, и когда я возвращаюсь домой, предки встречают меня с открытыми ртами. Я вновь повторяю легенду.
Чересчур много слов.
Я бы не отказался и правда превратиться в кирпич, в частичку дома – и слушателей не было бы. Красота!
– Молодец, сынок. – Матушка гладит меня по плечу осторожно, словно боится, что я рассыплюсь. – Но… постарайся больше не попадать в передряги, ладно?
4 Анна [После]
Я опускаю чемодан и разочарованно интересуюсь:
– Что это?
Лишь крохотная часть Анны Рэу ликует: ребенок-маньяк – маньяк только наполовину. Темыч не солгал. Он правда устроил резню. Для игрушек.
У мохнатого зайчика, едва ли не большего, чем хозяин, отрезаны уши. Макушка щедро смазана красным. Я вспоминаю об испачканных ладонях и облизываю алые пятна.
Смородина.
Ску-ко-та.
Ты не прошел экзамен, Темыч. Я передумала тебя красть. Ты плохой персонаж.
В дальнем углу валяются копыта жирафа и куски ватного мяса. У плюшевой лягушки отрезаны лапки. Кукла, умеющая моргать, лежит со вспоротым животом. Полое тельце набито красными тряпками.
На люстре висит хвост кота. Игрушечного, естественно.
Обои в цветочек покрыты алыми брызгами.
Мы и правда в могиле. Заживо похороненные с несчастными зверями.
– Зачем? – я поднимаю с пола бесхвостого кота и прячу пальцы в «окровавленную» шерсть.
– Играл в смерть.
Темыч не спешит ко мне. Он застыл на пороге и, клянусь, взглядом кромсает из меня снежинки.
Я погорячилась. Мальчик может пригодиться, если удивит.
Пройди испытание и получи приз.
Никто из моих персонажей не играл в смерть. Мальчишка будет эксклюзивом, болезнью книги, ее шизофренией. Но, как ни странно, истории за это и любят. Истории, но не людей. Людей – боятся.
Ему лучше со мной.
– Ты интересный ребенок, Темыч. – Я обнимаю покалеченного кота. – За что ты его?
– Понравился?
– Да.
– Дарю. Но хвост оставь. Я… не наигрался.
Мы молчим – скорбим об игрушках. Считаем капельки крови на обоях. Странно: пять минут назад я бы предпочла считать цветочки, но теперь – мальчишка заразил меня.
– Зачем приехала?
– За прошлым, – отзываюсь я.
– Здесь его нет. Сто пудов. По крайней мере, я не встречал. – Темыч чешет нос сквозь пакет. – Поспрашивай у них. Они в курсе. Они встречали.
– Кто – они?
– Игрушки.
Как только я отворачиваюсь, чтобы осмотреться, этот дьяволенок с пакетом на голове запирает меня. Скрипят половицы. Шлепают шаги.
– Темыч?
Черт.
Он… пошел за ножом?
Нет.
Он закопал нас с игрушками. И поставил крест.
Я стискиваю кота до дрожи в пальцах.
– Открой.
– Угадай, где живет прошлое, – раздается из коридора.
– Без понятия.
– Там, где и мои игрушки.
Нигде.
Очень смешно.
– Темыч, открой. – Я пинаю коленом дверь. – Открой немедленно! Позови родителей!
И барабаню что есть мочи.
Интересно, как бы отреагировала Рита? Расхохоталась бы мне в лицо? Выплюнула бы что-то вроде «Ну ты и дура, сестренка. Зачем пошла за ненормальным?» Или… «А вы подружитесь. Вы почти близнецы».
Комната обнимает меня, душит. Давит на уши. А стопы Темыча шлепают все дальше и дальше.
– Куда? Куда ты?
Я подаюсь к окну. Пора, Анна. Хватит на сегодня приключений.
Игрушки пялятся на меня, ждут чего-то, но я унесу лишь кота. Он мой. Я постираю его и пришью новый хвост. Назову Облаком: у него на спине огромное белое пятно.
Мы подружимся.
Я прислоняюсь к окну.
Если разобью пару стекол, получу свободу.
Вскоре сцены с искалеченными игрушками посереют в памяти. Я их отретуширую, уберу кровавые брызги, замажу несчастные мордочки, сниму с головы сумасшедшего мальчика пакет, нарисую ему улыбку.
Через неделю – скомкаю эту комнату, как дурацкую фотографию, и швырну в урну. Забуду о ней навечно. И не вспомню, что стряслось десять лет назад.
Потому что я убью страх.
Я обнимаю кота и жмурюсь. Нельзя прятаться. Нельзя отгораживаться от безумия. Темыч – мое лекарство. Таблетки от амнезии. Знать бы только, какая доза смертельна.
Я представляю, как мальчик идет в кухню. Как роется в ящике со столовыми приборами. Как мечтает, чтобы я пополнила его коллекцию мертвых игрушек. Чтобы он, кот и я были не разлей вода.
Я хотела превратить его в буквы. Он хочет превратить меня в фарш. Он хороший повар.
Что будет через неделю? Процентов сто – я все забуду. Мертвецы не злопамятны.
Рита примчится и наймет дешевого детектива. Виталина Семеновна будет глотать успокоительные вместо завтрака, обеда и ужина. К моим ученикам заявится новый преподаватель, который сойдет с ума от щелканья ручки. Вышвырнет ее в окно. Запретит детям во время занятия мечтать.
А я буду с котом и Темычем. Они расковыряют мое «было».
Подрывник близко. Он почти вылечился. Он включает мне фильм, мои единственные воспоминания из детства, где я…
Тик-так.
…сижу под кроватью и шарахаюсь от сапог. Пыльных, потрескавшихся. Они скоро распадутся на атомы, а хозяин до сих пор их не выкидывает. Любит.
Интересно, а что еще он любит? Рисовать? Петь? Уничтожать?
Я зажимаю уши ладонями – больно. Вчера мне их прокололи, но я терплю. Лишь бы не слышать песню. Ее включил чужак – на запредельной громкости. Нельзя так. Любой плеер предупреждает, что нельзя. Но чужаку из моего воспоминания плевать. Он не боится оглохнуть. Он боится чего-то другого, и это «что-то» прячется в нашем доме.
Тик-так.
Песня клубится дымом. Заполняет пространство расплавленным металлом. Я и есть расплавленный металл.
Через миг все застывает, температура падает на тысячу градусов. Плеер умолкает. Чужак включает новую песню. А я, кусок остывающего металла, не могу пошевелиться. Из меня можно выковать железные набойки для пыльных сапог.
Я бы хорошо стучала в ритм этой песне.
Нас, как видеопленку, кто-то перематывает. Кому-то скучно. Кто-то ищет сцену поинтереснее.
Я на макушке холма. Дом рядом, но уже не со мной. Ветер треплет мои волосы.
Я обнимаю плюшевого кота с белым пятном на спине. Облако?..
Лес дышит в затылок. Он не воткнет мне нож между лопаток. По крайней мере, без моего ведома. Он мой друг.
Дом полыхает. Дом – печка. Огонь пожирает мои шторы.
Визг пронизывает воздух. Точно строители проложили между кирпичами голос, а не цемент. Он таился много лет, ждал пламя и – дождался.
Я чувствую почти физически, как сгорают мои рисунки. Мама любила развешивать их по комнате, чтобы прятать пожелтевшие обои.
Я сжимаю кота до звездочек в глазах. Он – единственное доказательство того, что дом существовал. Мама держит меня за плечи и, если сейчас же не ослабит хватку, сломает их, как одноразовую вилку.
Тик-так.
Над нами пролетает ворон.
– Мам, это он! – кричу я и устремляюсь в лес.
* * *
Босые ноги шлепают по кафелю. Раздается стук. Кто-то ломится в комнату. Что, если этот «кто-то» поможет мне отыскать себя?
Я размазываюсь по обоям и сочусь через трещины пола. Скоро, скоро я впитаюсь в землю.
– Артем, что ты вытворяешь? Зачем тебе лопата?
Голос почти детский, сонный и спокойный. Он не представляет, кто перед ним. Или представляет слишком хорошо.
– Я собираюсь похоронить игрушки.
– Ты опять за старое?
Суета. Хныканье. Скрежет… лопаты?
Ступни затекли. Я чертыхаюсь: когда во мне оглушительно тикали часы, я сидела, забившись в угол и обняв Облако.
Облако.
Где же он тебя нашел?
Кот наблюдает за мной со смертельным безразличием. Он забыл, как мы дружили, да и я тоже.
Щелкает замок. Я поднимаюсь и одергиваю платье, новое, в горошек. Сейчас на нем серые полоски грязи и алые пятна псевдокрови.
– Вы кто? – На пороге появляется женщина лет сорока. Глаза наполнены теплотой, как огромные солнца. Кудри – белоснежные облака. Она и сама как облако. Бесхвостый кот подошел бы ей куда больше, чем мне.
Я переминаюсь с ноги на ногу.
– Извините. Ваш мальчик… Он позвал меня.
Из-за спины женщины выглядывает Темыч – без дурацкого пакета. Я наконец могу его рассмотреть: он – уменьшенная версия мамы. На щеке – родимое пятно, по форме напоминающее настенного монстра.
– Он говорил, что… – я закусываю губу и киваю на кота.
– Я Илона.
Мы жмем друг другу руки.
– Аня.
Она держит мою ладонь чересчур долго для обычной гостеприимной хозяйки, словно мы прощаемся, а не здороваемся.
– Очень приятно. – Илона гладит мальчика по почти лысой макушке. – Что нужно сказать, Артем?
– Простите, – морщится мальчик. – Я не специально вас напугал.
– Славно. А теперь беги к папе.
Темыч машет мне и, застыв в тени коридора, кидает, обернувшись:
– Нашла, что искала?
Этот мальчик чересчур серьезен для ребенка. Будто в маленькое тельце запихнули взрослого, и он не может разорвать кожу и выбраться.
– Нашла.
Илона стягивает с люстры хвост кота.
– Комнату ищете?
– Да. Приехала полчаса назад.
Она предлагает мне поселиться на втором этаже и – тараторит, тараторит, тараторит так быстро, что я половину пропускаю мимо ушей:
– …называемся «Свежесть». Как думаете почему? Конечно, из-за кондиционеров в каждой комнате. У нас очень уютно и красиво. Это слова гостей, не мои. Во дворе – камеры, ворам сюда не проникнуть. По утрам – горячие круассаны с шоколадом. Лидочка волшебница, а не повар!..
Бла-бла-бла.
Забрав чемодан, я поднимаюсь за Илоной по лестнице. Она обещает снизить для меня цену на пятнадцать процентов за стресс.
Мы ныряем в коридор, пустой, выложенный кафелем. Он стерилен, как скальпель перед операцией.
Такой чистоты не бывает в обычном доме – наверное, хозяевам есть что скрывать. К примеру, мальчиков с пакетами на головах или трупы игрушек.
Илона всучивает мне ключи и хвост Облака.
– Артем же вам подарил кота, да?
Мы пересекаем коридор и замираем у последней двери. Дернув за ручку, Илона пропускает меня вперед. Пахнет стиральным порошком. В углу гремит холодильник, а вместе с ним и граненые стаканы на его макушке. Люстра с абажуром и кисточками, кровать на пружинах, скрученный полосатый матрац – так выглядит мой временный дом.
– Обустраивайтесь, – сияет Илона. – Столовая в соседнем домике. Маленькое оранжевое здание. Лидочка волшебница, а не повар!
– Вы говорили.
– Правда? Простите… о чем это я? Ах да, завтрак через час!
– Спасибо. – Лучезарность Илоны не дает мне покоя. – Темыч… ваш сын?
На миг ее глаза-солнца затмевают тучи, но она быстро успокаивается.
– Артем. Дурацкое сокращение. – Она взлохмачивает волосы. – Да, сын.
– Он издевается над игрушками. С ним что-то…
…Не так.
– Мы пытаемся ему объяснить, но он же мальчишка. Любит хулиганить. Клянусь, – Илона хватает меня за локоть, – он нормальный. Ему нравится играть в смерть, вот и все. Он больше не будет вас пугать.
От напора Илоны рука плавно превращается в пластилин, и я с виноватой улыбкой высвобождаюсь из ее хватки.
– Ну, располагайтесь. И… приглашаю вас вечером на концерт. В рок-клуб на пляже. – Илона разворачивается к выходу. – Хм, Артем неплохо заманивает клиентов, правда?
Я глотаю нервный смешок и обнимаю Облако. Пальцы щекочет мокрая от «крови» шерсть.
– А можно вопрос? Где вы нашли кота?
– Ах, его. На холме возле леса. Он мне сразу же понравился. У бедняги оторвался хвост, и нам пришлось похлопотать над ним. Кстати, это его проклятие.
– Какое?
– Терять хвосты.
«А вместе с ними – и хозяев», – думаю я.
* * *
Я забираюсь в ванну и окунаюсь в прохладную воду. Этим летом я бы здесь ночевала. Шумит кран. Гогочет, визжит, словно пытается сообщить о чем-то важном.
Когда я ныряю и поднимаю под водой веки, вертикальные красные полосы на обоях запутываются в огромный узел. Сердце, не иначе. В реальности линии идеально прямые, будто здесь кого-то зарезали и струйки крови стекают по стенам.
В умывальнике лежит мокрый Облако. Я почти отстирала пятно на нем.
Легкие лопаются от воздуха, давят на грудную клетку. Если бы я писала об убийствах, то местом действия сделала бы именно эту ванную комнату.
Закончив с купанием, я раскладываю вещи и спешу в столовую. Тарелки выдает пожилая женщина. В морщинах на ее лице вполне бы спрятался континент. Где-то между зелеными тенями и ярко-фиолетовой помадой она потеряла красоту.
Я читаю имя на бейджике. Лидия.
Волшебница, а не повар.
– Приятного аппетита. – Она протягивает мне порцию пюре и расплывается в улыбке. – Только приехали? Илона предупреждала.
– Да. Спасибо.
– Вы к нам оздоравливаться или путешествовать?
– Уладить кое-что.
Улыбка сжимается гармошкой.
– Что же?
Пока я сочиняю правдоподобную историю, Лидия хватает меня за запястье:
– Как ваша фамилия, девочка? Мы нигде не встречались?
Она смотрит куда-то мимо моих глаз. Выше. На брови?..
Конечно.
На родинки. У меня на лбу – два пятнышка. Единственное, чем я выделяюсь. Все первым делом таращатся не на жирные русые волосы и не на чересчур худую талию. Все таращатся на родинки.
– Так как фамилия-то?
– Рэу. Анна Рэу.
– Как? Рэу?
– Да.
Лидия отстраняется и чуть не смахивает с подноса тарелки. Закусывает губу. Из дырявой гармошки сочится кровь.
– Зачем приехала? Радуйся, девка, что свалила из этой дыры.
Как странно: сказал фамилию – и ты свой. Сказал фамилию – и тебя выгоняют из дома.
– Что? Я вас не понимаю.
За мной собралась очередь из пяти человек, и на мой вопрос Лидия не отвечает.
– Круассаны на витрине. Приятного аппетита. Через пару часов после завтрака Илона проводит тренировки у моря. Йога. Составишь компанию?
Намек?..
Я соглашаюсь в надежде, что после занятия Лидия проговорится о чем-нибудь важном, и падаю за столик в углу. Крохотный зал не просторнее моей комнаты. Пахнет выпечкой и супом.
У Илоны мало отдыхающих – три семьи и я. Для каждой компании – свой столик.
Время от времени я ловлю на себе взгляд Лидии. Теперь ее губы не растягиваются гармошкой. Она серьезна. Нет, в ее морщинах спрятан не континент, а нечто иное, до боли похожее на очертания поселка. Я бы обколола Лидию коллагеном, чтобы разгадать ее тайны, но сомневаюсь, что после этого она выжила бы.
Люди, гремя вилками, завтракают. Они чужаки – их никто не выгонит. Им рады, потому что через неделю они соберут чемоданы и если и вернутся, то лишь через год.
Я ем быстро как никогда. Внимание Лидии ощутимо почти физически. Жжется, смешивается с кровью, сплетается с моим тиканьем.
Сбежав из столовой, я два часа слоняюсь по участку. Монстр с желтыми глазками следит за моими движениями, липнет даже на расстоянии. Вместе с ним из окна второго этажа за мной наблюдает черноволосая женщина. Солнце слепит, и я не вижу ее лица.
Интересно, в ванной незнакомки обои тоже в красную полоску?
Темыч бродит возле забора с палкой.
– Ты что-то ищешь?
– Хвост. Мама куда-то спрятала хвост.
Мимо нас пролетает Лидия в парео и шляпе с полями, на которых уместилось бы тарелки четыре.
– Жду тебя, Аня.
Я поднимаюсь к себе и переодеваюсь в купальник. Если верить ощущениям, за сегодня я поправилась килограммов на пять, и дело не в сытном завтраке. Внимание жителей поселка тоннами липнет к коже.
Лучше бы этот фильм под названием «Мое прошлое» лежал в закромах ящика. Он слишком реален.
А впрочем, у меня есть шанс поймать за хвост воспоминания. Главное, чтобы у воспоминаний он не отрывался так же хорошо, как у Облака.
Я спешу за Лидией. Дороги плавятся, трескаются, сохнут. Если солнце расщедрится еще на градус, поселок превратится в пепел. За холмом шумит море. Я ускоряюсь. Все улицы ведут к пляжу. С высоты, наверное, они похожи на тетрадь в линейку, исписанную ужасным почерком. Дома-слова, параллельные дороги, стремящиеся за красную черту, к морю… Рискнешь пересечь, не взяв спасательный жилет, – барахтайся сам.
И я рискую.
Тону вьетнамками в раскаленном песке. Ветер бьет в лицо. Спасибо, что не в спину.
Я окунаю ступни в воду.
Здравствуй, море. Мы дружили. Помнишь? Ты пенилось, гнало волны, пробовало меня на вкус, как сейчас.
Ты скучало?
Я выросла, представляешь? Теперь я тону в буквах, а не в тебе. Хочешь тоже стать буквами?
На пляже пусто, лишь человек десять выстроилось в круг у шезлонгов. Среди них – Илона. Заметив меня, она машет рукой.
Интересно, Рита с ней знакома? Они бы поладили.
Занятие начинается с разминки. Я стараюсь повторять за Илоной, но получается плохо. Зато у Лидии – лучше всех. И пусть с виду ей лет триста, она излучает силу. Не удивлюсь, если перед сном она снимает морщинистую кожу, линяет, как змея.
– Не запрокидывайте голову! – командует Илона. – Поднимите плечи и тянитесь подбородком вверх. – Она поправляет каждого, лепит из нас скульптуры. – Как, по-вашему, чем хороши асаны на равновесие? – Так и не дождавшись ответа, Илона продолжает: – У вас прорабатываются все мышцы, вы концентрируете внимание и избавляетесь от лишних мыслей. Зацепитесь взглядом за какую-нибудь крошечную деталь и замрите. Она вас удержит, не сомневайтесь.
Я чувствую себя побитой изнутри, но, как ни странно, чистой и сосредоточенной. Кошусь на Лидию и восхищаюсь ее выносливостью. Поза собаки, планка, поза орла – все ей дается с легкостью. Даже не подозревая, она втаптывает мою самооценку в раскаленный песок.
А я… я так и не нашла крошечную деталь.
– Молодец, Аня. Для первого раза неплохо, – хвалит меня Илона, когда занятие заканчивается.
К нам присоединяется Лидия.
– Довольно неплохо.
Здесь, под ярким солнцем, рядом с солеными водами, она стареет еще лет на семьсот. Они с морем ровесники. Разница в одном: у моря нет срока годности, ее – на исходе.
У Лидии сплошной купальник и седые волосы, завязанные в хвост. Должно быть, она приехала на том же автобусе, что и я – со станции «Прошлое».
Илона желает нам приятного дня и удаляется. Люди разбредаются по пляжу – все, кроме Лидии. Та чертит пяткой круг и ждет, когда я заговорю. Но я не решаюсь.
– Тебе здесь не место, – выдает она, поняв, что я могу молчать вечно.
Мы заходим в море.
– Почему? – вскидываю брови я.
Из-за ледяных волн по телу расползаются мурашки. Странно, что в жару море не прогрелось.
– Я верю в легенды. Все здесь верят.
– Что за легенды?
– Вообрази, герой: тебе на макушку падает люстра. Секунда – и тебя нет.
Лидия исчезает под водой.
Я считаю до десяти. Сердце замирает – что, если она утонула? Я уже собираюсь нырять следом, как вдруг Лидия всплывает в сантиметре от меня.
– О чем бы ты подумала, если бы я заявила, что у домов есть рты и зубы? – Ухмылка. Длинная дырявая гармошка. – О чем бы ты подумала, если бы стала их руками?
Я пячусь. В воде шаги получаются приторно-медленными. Море заодно с этой шизофреничкой.
Лидия фыркает.
– Сегодня на обед суп с фрикадельками. Объедение.
Так и не ответив ей, я выбегаю из воды. Прочь, прочь с пляжа. Спрятаться бы в чемодан, упаковать бы себя среди платьев и забыть бы о странных домах и их обитателях.
Я мчусь на базу – босиком. Плевать, что земля жарит ступни быстрее, чем сковорода яичницу.
Темыч до сих пор ищет хвост. Женщина на втором этаже вновь за мной следит. Если бы она не коснулась ладонью стекла, я бы приняла ее за реалистичную куклу.
Скорее всего, после моего приезда время застыло, запеклось раной.
Или… у часов сели батарейки.
5 Захар [До]
Моя жизнь меняется. Как дырявый свитер с затяжкой: шевельнешься – приблизишься на шаг к смерти. Я натыкаюсь на Тору в школе каждый день. И сразу меня вызывают к доске, ставят двойки, ругают за невыученные уроки. Черная кошка, чтоб ее! Она здоровается со мной и подмигивает – что за чертовщина?! – по-сто-ян-но.
Но зато – не обзывается Кирпичом.
Не дубасит учебниками по башке.
Она просто роняет: «Привет».
Иногда предлагает орехи.
Но я боюсь ее настроения-сладкой-ваты. Знает ли Тора, что я псих? Дошло ли до этой дурочки, кто разбил окно в Ласточке?
Я пообещал себе сохранить тайну. Пусть Хлопушка считает, что я нормальный. Что у нее завелось НЛО. Что мир сошел с ума.
Лишь бы я был обычным в ее глазах.
Как же я любил перед школой заходить к Ворону! Но Тора все испортила и тоже начала навещать дом по утрам. Я уступил. Теперь мое время – вечером.
Она обводит мелком наш рисунок Облака.
Я обвожу.
Не сговариваясь, мы создаем расписание. Ворон спрашивает меня о Торе. Невдомек ему, почему мы до сих пор не объяснились.
Но о тайнах лучше молчать. Иначе какие это тайны?
По крайней мере, я так считал. До тех прекраснейших пор, пока Тора не разрушила наш распорядок и не явилась к Ворону вечером.
Застала врасплох, чего уж отмазываться. И вот я уже чувствую себя комаром, превратившимся в кашу от удара ладошкой.
– Как ты меня нашел? – интересуется Тора. Хамка, даже не здоровается. – И что ты здесь забыл?
Она взлохмачивает кудряшки и морщится. Кармашек платья оттопыривается под весом содержимого. Я в курсе, что там, – пачка мелков. У нас одинаковые. Тора пришла обводить Облако, чтобы Ворон не скучал.
Мои щеки полыхают – температура поднимается, не иначе. Сколько там максимум? Сорок? Сорок два? А у меня внутри пятьдесят. Я плавлюсь. Надеюсь, Ворон не расстроится, если я растекусь по полу кровавой лужицей.
– Что. Ты. Здесь. Забыл?
– Гуляю. А ты?
Я обычный мальчик, не Кирпич и не шизик, люблю заброшки и играть в классики, честное-слово-поверь-пожалуйста-я-нормальный.
Ворон тихо хихикает. «Не смешно», – мысленно одергиваю его я.
– Это ты нарисовал кота, – подытоживает Тора. – Долго еще ждать?
– Чего жать?
– Правды!
– Мне было скучно, и я решил…
Она хватает меня за запястье. А коготки-то острые! Точно кошка.
– Я не буду обзываться, Захар. Неужели твой котелок до сих пор не переварил, что мы… два сапога пара?
На ее ресничках блестят слезы.
– Врешь.
Я высвобождаюсь и достаю мелок.
Тора дружит с кучей девчонок, которые не обзывают ее Кирпичом. Торины предки не твердят, что с дочуркой «что-то не так». Она не выращивает овощи. Ее не водят к врачу. Ей не пытаются удалить фантазию.
А я грызусь с Пашкой. Скармливаю унитазу кругленькие таблетки, как дохлых рыбок. Общаюсь с домами.
Вывод: Тора хочет забрать у меня Ворона.
– Я не вру, Захар, – всхлипывает она. – Я принесла тебе жареных орехов. Будешь?
Она протягивает мне целый кулек.
– Почему тебя не водят к врачам? Мы ведь психи, разве нет?
– Ласточка теперь меня слушается.
Моя кожа продолжает плавиться. Готов поклясться, на лбу огромными красными буквами проявилась надпись: «ШИЗИК».
– Поздравляю…
– Она сама выключила свет и заперлась, когда я легла спать. Я оживила ее пять месяцев назад. Она совсем кроха, мало что умеет.
Тора подается к часам Ворона и гладит их мизинцем.
– Что? – вспыхиваю я.
Штукатурка не сыплется, потолок не рушится. Дом подпускает ее к сердцу, словно это парк развлечений.
Предатель!
– Ворон, ты чего? Ты доверяешь ей больше, чем мне?
– Однажды она не побоялась штукатурки. А я побоялся швырнуть в нее булыжником, – хрипит Ворон. – Не обижайся…
– Да пошли вы!
Я бросаю кулак в стену и мчусь на улицу.
Небо заволокло тучами, сумерки размыли поселок. Я ускоряюсь, чтобы не исчезнуть во тьме, несусь мимо дремлющих домов и, когда внутри все не только кипит, но и болит, вырываюсь на пляж.
Да, предки ждут меня к ужину, но сегодня я опоздаю.
На берегу нет хижин – чем не идеальное место?
Море штормит. Шепчет, шуршит и плещется, но в школе нас не учат его языку. Сколько бы историй оно поведало?
Я снимаю ботинки. Волны облизывают ступни – холодно. Как раз, чтобы остыть.
Предатель, предатель, предатель.
Повелся на байки глупой девчонки, которая младше меня на целых два месяца! Нам с Вороном не нужны никакие Торы. Они все портят. Девчонки всегда все портят.
А теперь я буду учить язык моря – с Zahnrad покончено.
Я возвращаюсь домой поздно. Предки ругают меня, когда я захлопываю дверь в спальню перед их носом. Матушка вновь жалуется бате, что со мной «что-то не так», вновь предлагает мне съездить к доктору, но я отказываюсь.
Отказываюсь.
Отказываюсь.
Весь следующий месяц.
Я спорю с ними. Топлю таблетки в унитазе. Дружу лишь с Воробьем. Врубаю погромче музыку, чтобы мое «спорю-топлю-дружу» превратилось в клип. Воробей подпевает. Он всегда подпевает.
Последний дождь – уже почти не дождь; Смотри, как просто в нем найти покой.[7]Дышу.
Ем.
Дышу.
Сплю.
Дышу.
Гуляю по пляжу, слушаю «Аквариум» и «Наутилусов».
Дышу, дышу, дышу…
Моей фантазии пора в отпуск. Месяца три назад, когда я еще не знал эту наглую девчонку, Ворон спросил у меня:
– Когда люди устают, что они делают?
– Берут отпуск, – ответил я.
– Отпуск?
– Ну, некоторые едут в горы. Некоторые – на море, к нам.
– Придет время, и я устану, Захар. – Ворон закряхтел и хлопнул оконными рамами. – Если я когда-нибудь замолчу, не сомневайся: я на море.
– Дурачок! – захохотал я. – Ты и так на море!
Тогда я не понял Ворона, а сейчас сам хочу в отпуск.
Наушники разрываются на максимальной громкости.
Ах, только б не кончалась эта ночь; Мне кажется, мой дом уже не дом.Я не навещаю Ворона и не обвожу Облако. Избегаю в школе Тору. Ради такого дела я даже расписание ее вызубрил. Пашка почти меня не трогает. Фингал не в счет. Предки радуются, что после учебы я спешу домой и запираюсь в своей комнате, а не лазаю по заброшкам. Им плевать, чем я занимаюсь. Главное – никому не проломлю череп. Нет, они не говорят об этом мне – они говорят об этом друг другу.
Зато Воробей со мной по-прежнему общается. Его старенькие часы тикают в кухне. Я поинтересовался у предков, откуда они взялись, сколько лет нашему дому, а матушка сказала, что раньше их дарили направо и налево. Какая-то акция от нового предприятия – рекламировали себя.
Я бы и дальше жил в пределах своей комнаты (если забыть о прогулках в школу и обратно), но девочка-сладкая-вата опять все испортила.
Плетусь я, значит, с учебы. И тут – визг со стороны Ворона, да такой, что помидоры на огородах вянут.
Я бы не вмешивался, если бы не узнал эти вопли. Тора. Снова она.
– Помогите!
Покореженные ворота машут мне, но я не обращаю на них внимания – еще чего! – и проскальзываю в дом. Обстановочка не поменялась: пыльные тряпки, дощаной пол, наш рисунок, часы на тумбочке, шашки. Хотя нет, поменялась. Добавилась Тора, привязанная к дряхлой табуретке. На виске – ссадина. Руки – в синяках.
– Что случилось? Это… Ворон?
– Да освободи же ты меня! – рявкает Хлопушка.
Я развязываю веревки и озираюсь. Здесь только мы.
– Почему он тебя не спас?
– После того как ты бросил его, он не подает признаков жизни. Ворон почти устал. Ты понимаешь, о чем я?
Тора подрывается и разминает спину. Она ведет себя так, точно и не звала на помощь. Точно ела мороженое с подругой и внезапно решила нагрянуть в гости к приятелю.
Я касаюсь ладонью ее раны.
– Кто тебя побил?
– Пашка.
– Вы же учитесь в разных классах! – выпучиваю глаза я.
– Да уж, преграда!
Наверное, я спал месяцев сорок и лишь сейчас очнулся.
– Я его спровоцировала. Ляпнула, что он слабак и неудачник. Что до сих пор читает детские сказочки.
– Серьезно?
– Да. У нас же с тобой общие источники, не забывай, – подмигивает она. – Он гнался за мной, но я этого и добивалась.
– Зачем?
Нет, все же я проспал месяцев сто.
– Да чтоб ты, дурак, проведал друга. И меня заодно.
Я таращусь на нее, помятую, с синяками на коленках. Она сошла с ума. Маленьким девочкам нельзя так поступать.
– Это плохо, – хмурюсь я.
– Но ведь подействовало же. Пашка хотел, чтобы я провела в заброшенном доме целую ночь. «Ворон… Так вы его называете? Ты ведь любишь его, чего тебе это стоит?» – передразнивает его Тора. – Только он не в курсе, что мне это действительно ничего не стоит.
– Ты ненормальная.
– Ты тоже.
Я бы сам побил ее за такие выходки, но, боюсь, разобьется.
В уши – словно кто-то ваты напихал. Ворон дуется на меня, как девчонка, а я… я глотаю слезы. Соскучился-таки. Позор, позор! Я стискиваю зубы. Пусть хоть ломаются – не реветь же перед Хлопушкой.
– Мы рады, что ты нас простил. – Тора повисает на моей шее.
Я хлопаю ее по плечу – надеюсь, именно так поступают настоящие мужчины – и вытираю рукавом слезу, пока Тора не отлипла.
С этого дня мы начинаем дружить. Ворон постепенно оживает и рассказывает нам все больше и больше историй о своих хозяевах. Как под Новый год Облако смылся из дому и вернулся под бой курантов. Как жена развесила письма мужа в спальне вместо обоев. Как супруги обмакнули ладони в чернила и после очередной разлуки сделали отпечатки на стене, чтобы возвращаться домой и вспоминать друг о друге.
Мы с Торой тут же натыкаемся на тусклые пятна над часами.
О-фи-геть!
Спустя черт знает сколько лет отпечатки почти стерлись, но история Ворона будто подкрасила их.
Мы прислоняемся ладонями к серым обоям.
– Круто! – Хлопушка ведет пальчиком по контуру отпечатков. – Что с ними случилось, Ворон?
– Они умерли от старости. Детей у них не было. И я… я скучаю по ним.
– Не смей грустить! Теперь мы вместе.
– Вместе, – подтверждаю я.
* * *
Следующим вечером Тора приглашает меня в гости. Классно, конечно, но я чувствую себя паршивее некуда. С непривычки, наверное.
Это похоже на праздник: ты моешься, чистишь зубы без подзатыльника матушки, выбираешь, что надеть, и натягиваешь самые чистые носки. Главное – зашитые. Причесываешься аж второй раз за день!
Предки косятся на меня, как на идиота. Или наоборот – как на улучшенную версию сыночка, которого не стыдно повести на день рождения к соседке.
– Вы чего? – я стараюсь говорить как обычно, и это уже само по себе странно.
– Куда ты? – интересуется батя.
– К подруге в гости.
– У тебя появилась подруга? Как ее зовут?
– Тора.
– Тора? Прозвище? – Матушка поглядывает на телефон. Как пить дать позвонит моему врачу, когда я слиняю.
– Сокращенное от Виктории. Живет на соседней улице. Учится в четвертом «Б». Это ее я спас.
Матушка косится на тумбочку, где валяются мои таблетки, и кусает губу.
– Хорошо тебе погулять, сынок, – кивает она.
Я вылетаю на крыльцо и молюсь, чтобы предки не позвонили доктору.
Дверь захлопывается. Через открытую форточку слышно, как матушка затевает старую песню под названием «Что-то не так». Но ведь сегодня я… улучшенная версия. Почему что-то не так, мама? Я надел самые чистые носки. Без дырок. Причесался. Я не болтал в твоем присутствии с Воробьем и не швырялся цветочными горшками.
Что со мной не так сегодня?
Я оглядываюсь и машу рукой – скорее дому, чем предкам, а мне машет калитка.
Сегодня странный день: соседи слишком улыбчивые, здороваются громко и по-доброму (их хижины – тоже), никто не пытается меня прибить. Солнце чересчур печет – дефективный ноябрь.
И я весь такой чистый. Еще бы, праздник! Иду в гости.
Я застываю перед Ласточкой.
Привет, птичка. Ты не изменилась – лишь окна новые. Надеюсь, ты не плакала.
Во двор выбегает Хлопушка и тянет меня в дом. Хвастается, что впервые сама приготовила яблочный пирог с орехами.
Предки Торы суетятся в кухне и зовут нас к себе.
Совсем недавно здесь ругались клоуны, а сейчас Ласточка дышит уютом: гудит холодильник, закипает чайник, на столе – скатерть в цветочек, из печки – аромат корицы.
Матушка Торы тараторит без умолку, и единственное, что я успеваю переварить – имена: тетя Марина и дядя Антон. Они обнажают все тридцать два и подсовывают мне табуретку, словно не видят мой диагноз под названием «Что-то не так». Наливают чай, спрашивают, как дела. У меня давно никто не спрашивал, как дела.
Тетя Марина достает из духовки пирог, разрезает и накладывает каждому по кусочку. Я сразу же его пробую. Вкуснотища!
Тора щебечет о школе, о куклах и книгах, о том, как мы подружились. Без истории с домами, естественно.
– И все же, – щурится тетя Марина, – как ты забрел сюда, Захар? Насколько нам известно, ты живешь немного ближе к морю.
– Он искал кота, мам, – выдает Тора. – У него пропал кот, представляешь?
Пирог застревает в горле, и я поспешно запиваю его чаем. Половина течет мимо рта.
Что же ты несешь, дурочка?
– Бедняга. – Тетя Марина подливает мне чая. – Нашел?
– Нет, – хриплю я.
– Как его звали? – подает голос дядя Антон.
– Облако.
На этот раз краснеет Тора. Кулаки сжимает. Ха-ха, так тебе и надо! Нечего болтать!
Чайничек в руках тети Марины вздрагивает. Капелька падает на скатерть.
– Ох, извините…
Тетя Марина хватает тряпку и трет стол, уничтожает вместе с пятном и мой ответ. Дядя Антон пододвигается к нам, щурится, рассматривает меня. Жалеет небось, что лупу не прихватил.
– Необычное имя для кота.
– Согласен, – фыркаю я. – Вот это совпадение, да? А вообще, люблю облака. Когда-нибудь мы научимся на них летать.
Кивнув, он вцепляется в чашку, игнорируя то, что она обжигает ладони. Дядя Антон высокий и полный, и теперь я понимаю почему: из-за кожи толщиной в сорок сантиметров, которой нипочем ни кипяток, ни лава.
– Мы пойдем поиграем, хорошо? – нарушает тишину Тора.
– Конечно, солнышко, – отзывается тетя Марина. – Только без Облака – я его постирала.
Тик-так.
Я вздрагиваю. На шкафу с сервизом громоздятся часы Zahnrad.
Мы с Торой идем в ее комнату – маленькую, как домик куклы: мини-кроватка, мини-столик, мини-стульчик, мини-картина с Белоснежкой и гномами, мини-книги на полках. И – большой-большой шкаф. Между дверцами торчит кусок фиолетовой юбки.
– Ты чуть не выложила им все! – накидываюсь я на Тору.
– Но не выложила же. Хотя они не разрешают мне дружить с необычными.
И вот мое сердце уже на низком старте. Три, два…
– Твои предки знают?..
Один.
– Знают что?
– О нашей тайне!
– Захар. – Тора кладет ладошки мне на плечи. Я чувствую себя на приеме у врача. – Это никакая не тайна. По крайней мере, для нашей семьи. Родители верят, что я дружу с домами.
– Почему? Они разве не думают, что с тобой что-то не так?
– Они тоже с ними общаются.
Ноги подкашиваются. Я сползаю на пол. В висках стучит звонкое «я не один, я не один, я не один»…
– И все же ты им обо мне ничего не сказала.
Тора прилипает лбом к мини-окну.
– А зачем? Ты необычный. Нам нельзя дружить.
– Но зато о тайне семьи болтать направо и налево – это как два пальца об асфальт, да?
– И что? Детей никто не воспринимает всерьез. Тебе ли не знать…
– Что все считают меня психом и не воспринимают всерьез? – морщусь я.
– Прости.
– Ты темнишь.
Раскрой свою мини-тайну, Хлопушка.
– Необычным нужно темнить. На свету мы умираем.
– Вампиры, блин.
– Я сейчас.
Тора проскальзывает в кухню, но не запирает меня.
– Пока, мамочка! Пока, папочка!
Предки шепчутся, щелкает замок, и Хлопушка возвращается ко мне.
– Уехали на работу.
– Так поздно?
– У них не… ненор… нормированный график, – поясняет Тора. – Дурацкое слово! Давай лучше в прятки сыграем. С Ласточкой.
– Как это – с Ласточкой? – недоумеваю я.
– Ты же умеешь общаться с домами мысленно? Умеешь. Вот и попробуй ее перехитрить. Чтобы, когда ты искал, она не кряхтела половицами, а когда прятался, не выталкивала тебя тумбочкой прямиком ко мне!
– Ладно.
– Чур, я прячусь!
– Да пожалуйста.
Я ведь взрослый. Уступлю.
– Считай до ста, – командует Тора и толкает меня в угол.
Из кармана выпадает проигрыватель. Я с замирающим сердцем поднимаю его. Только не реветь, только не реветь, только не реветь… Посередине появилась трещина.
Тора гладит его по кнопкам.
– Ничего! С ним все в порядке!
Она выуживает из шкафа кассету и вручает ее мне.
– Давай попробуем.
Щелк. Начинает пиликать скрипка. Проигрыватель в норме.
– Это Джузеппе Тартини[8], – сообщает Тора. – Мой любимый композитор. «Дьявольская трель». Я играю на скрипке, так что… без Тартини – никуда. Ладно, считай!
Я жмурюсь. Ступни Хлопушки шлепают в ритм музыке. По-моему, она взбирается на второй этаж.
– Раз!
Я убавляю громкость, чтобы по звукам определить, где Тора.
– Два!
Точно, второй этаж. Ласточка, мы же команда?
– Три!
Мне надоедает на пятидесяти.
– Сто! – выкрикиваю я в надежде, что Тора не слышит ничего, кроме своего Тартини. – Кто не спрятался, я не виноват!
А потом я целый час слоняюсь по дому. И все из-за Ласточки: то шторами взмахнет, то шкафом затрещит. Предательница, за Тору играет. Стычка с ворами пошла ей на пользу.
Я ползаю под столом, под лестницей, под диваном. Натыкаюсь на поломанных кукол, топчу крошки. Что, если Тора мне померещилась? Что, если я залез в чужой дом? Что, если матушка права и я болен?
Я облокачиваюсь на стол. Огромное растение Ториной матушки щекочет мне щеки. У моих предков такое же, арека называется.
– Ласточка, я сошел с ума?
– Тогда мы сошли вместе.
Растение выплевывает крохотную ручку, и та дает мне подзатыльник. Из-за листьев выглядывает Тора.
– Я была ближе некуда, а ты не нашел. Опять считай!
– Подожди. – Я хватаю ее за локоть. – Если твои предки такие же, как мы… Почему они не принимают таблетки от нашей болезни?
Тора хлопает меня по лбу.
– Дурачок! Это не болезнь. Это дар. Мы с родителями почти не обсуждаем его. Он есть – и точка. Мама и папа не пытаются меня от него уберечь. Только просят говорить о любых странных случаях в поселке и шушукаются, шушукаются…
– Мои тоже.
– Ладно, считай! – командует Тора.
Я вновь отворачиваюсь.
– Р-р-раз.
Вечер пролетает за секунду. Я запоминаю все: Хлопушку, вкус яблочного пирога, шершавые стены Ласточки. А когда возвращаюсь домой, сразу падаю в кровать. Даже крошки от пирога с ног не смываю – утром будет подтверждение, что Тора настоящая. Что я не одинок. Что я дружу с Хлопушкой, и она – о боги! – не называет меня Кирпичом.
* * *
Нам десять.
Нам одиннадцать.
Осенью Тора исчезает на целых два месяца. Ее брат Димка, который живет в городе, болен. Я никогда его не видел и впервые услышал о нем, когда Хлопушка прощалась со мной у машины, теребила мою руку. Я ничего не спрашивал, боялся ее расстроить. А она думала, что мне хватит его имени и дурацкого «родился-учился-работает». Ладно уж, если начистоту, так и есть.
Тора пообещала, что вернется как можно скорее, но на ее глазах блестели слезы. И я понял – не дурак – что «как можно скорее» вряд ли наступит. На прощание Тора поцеловала меня в щеку, и я до ночи не мог избавиться от ощущения, что она по-прежнему прижимается ко мне губами. Кожа горела. Пашка бы меня засмеял.
И вот я краду у предков черный фломастер, чтобы зачеркивать дни на календаре. Матушка обнаруживает пропажу и ругается, что я беру вещи без спросу. Я извиняюсь, помогаю ей полить огород, а она покупает мне новый фломастер – целехонький, с колпачком и почти не израсходованный!
Каждый день в восемь утра я рисую крестик на календаре. Это мой ритуал.
Зачеркиваю. Ем омлет.
Зачеркиваю. Чищу зубы.
Зачеркиваю. Натягиваю дырявые носки.
Зачеркиваю, зачеркиваю, зачеркиваю…
Фломастер высыхает, а Торы нет.
Я прошу у предков новый. Они обещают, что купят, и я временно использую вместо него угольки из-под костра – батя часто жарит шашлыки.
Я навещаю Ворона. Мы скучаем по Торе вместе. Мы ждем ее, чтобы снова считать до ста и кричать «кто не спрятался». Я постоянно хожу мимо Ласточки и все чаще замечаю, как в саду опадают листья.
Искать меня – любимое занятие Пашки. Где бы я ни находился, отовсюду звучит его противный голос: «Кирпич!».
И если я успеваю добраться до Ворона или Воробья – отлично. Нет – Пашка вытряхивает на мой котелок гору мусора. Это его ритуал.
Я зачеркиваю последний, тридцатый день месяца и плетусь к Ласточке.
Пусто, черт бы ее побрал.
Теперь я не снимаю наушники, когда сплю. Круглосуточное немое кино.
Месяц превращается в два.
Я вешаю календарь над кроватью – так удобнее.
Зачеркиваю. Ем омлет. Иду к Ласточке.
Зачеркиваю. Чищу зубы. Иду к Ласточке.
Зачеркиваю. Натягиваю дырявые носки. Иду к Ласточке…
Стоп.
Листья убраны.
Убраны!
Я зову Тору, горланю на всю улицу и не краснею: прогресс!
Хлопушка выскальзывает из дома – бледная-бледная, синяки под глазами. Я заваливаю ее вопросами, но она отвечает коротко, словно разучилась со мной общаться.
«Мы же друзья?» – спросил бы я, но сердце нырнуло даже не в пятки – в кончики пальцев ног.
А потом Тора говорит, что ее брат был спасателем. И умер.
6 Анна [После]
Пообедав, я брожу по пляжу – пытаюсь откопать в памяти что-нибудь из здешних пейзажей. Люди стелются по песку сплошным ковром. В воде – каша из тел в пестрых купальниках.
Мне больно смотреть на море, изнывающее от туристов, и все же я присоединяюсь к ним – до одури жарко.
Я возвращаюсь на базу к ужину, кутаюсь в полотенце – наверное, перекупалась. На крыльце меня встречает Илона с бокалом вина.
– Ну как вы? Как море? – подмигивает она мне.
– Отлично.
Я проскальзываю в дом и нечаянно зацепляю ее плечом. Вино выплескивается на полотенце.
– Ничего-ничего! – восклицает Илона. – Я отстираю, клянусь!
– Спасибо, но…
Она выхватывает у меня из рук полотенце, и мне не остается ничего другого, кроме как отправиться к себе, чтобы поскорее переодеться в теплое. После ужина я звоню Рите и клянусь, что у меня все отлично. Мы обе понимаем, что это «отлично» и «я не знаю, кто я» – одинаковые по смыслу фразы.
Я наряжаюсь в черные джинсы и кожаную куртку, рисую стрелки. Вместо ровных линий получаются извилистые тропки. А карандаш ведь водостойкий! Рокер из меня никудышный.
Но – плевать.
Возможно, музыка подковырнет мою память, и тогда я напишу особенную книгу.
Я прихожу на концерт слишком рано для обычного человека, но для сумасшедшего писателя – в самый раз. Дурочка, надеялась, что будет тепло, но в помещении – минус сто. Даже не верится, что днем поселок плавился. И как же, черт возьми, жаль, что я не прихватила блокнот! Мне нужно законспектировать это место. Охранник забирает у меня билет и ставит на запястье синюю печать, как на документах.
Людей собралось мало. Я блуждаю по залу и изучаю интерьер. На стенах висят гитары и листики с автографами знаменитостей. Даже Boney M[9] приезжали. Над огромными бутафорными клавишами склонился восковой орел – следит за порядком.
К выступлению готовится какая-то женщина. Чересчур толстые стрелки, растрепанный хвостик, желтый пуховик, издалека смахивающий на одеяло, словно секунду назад она телепортировалась из Антарктиды… Но поет – чарующе, северным альтом и почти не поворачивается к залу, гипнотизирует сама себя.
Рядом с охранником топчутся Илона и Темыч, а вместе с ними и худощавый мужчина в клетчатой рубашке и очках. Они машут мне и о чем-то болтают.
Тем временем певица продолжает репетировать, носится по сцене, кричит звукооператору, чтобы тот настроил мониторы, прикладывался к бутылке. Вино?..
Я пританцовываю – чтобы не превратиться в лед. Холод все ближе и ближе, опережает музыку, опережает скорость света. Темыч подскакивает ко мне, размахивает кроликом – единственной выжившей игрушкой. Что-то тараторит, но слова тонут в грохоте ненастроенной гитары.
Люблю моменты, когда музыка оглушает. Можно общаться – каждый о своем и будто бы об одном и том же. У меня вибрирует в горле, я рассыпаюсь на атомы, а потом раз – и музыка разносит пространство вдребезги. Все вдребезги.
Певица снимает пуховик и бросает его за кулисы. На ней черное длинное платье, локоны по-прежнему собраны в хвост. Смотрится это странно: наэлектризованные волосинки тянутся к прожекторам. Она начинает танцевать. Танец плавный, без ритма и рамок, настолько несуразный, что я бы рискнула назвать его гениальным. Она ведьма.
Вместе с наэлектризованными волосинками вверх тянутся ноты. Сперва несмело, но затем увереннее и увереннее. Что-то надламывается. Музыка врезается в потолок, в бутафорные клавиши, в нас. Песня парализует меня – готическая, утонченная, дикая. Она ведет гостей в мир, где все носят желтые пуховики и нелепые хвостики.
Интересно, почему люди не слэмятся[10]?
– Танцуйте, – шипит певица в микрофон. – Завтра ведь может и не наступить, правда?
Из кучки людей вырывается мужчина – тот самый, с которым беседовала Илона, – и пляшет так дико, что, кажется, пора вызывать экзорциста. Вокалистка ему улыбается.
Да уж, едешь, к примеру, в маршрутке, пялишься на какого-нибудь интеллигента в очках и не подозреваешь, что он вытворяет в рок-клубах. Возможно, теперь я знаю, чем занимается мой начальник по вечерам.
Зрители по чуть-чуть подтягиваются к сцене. Девчонки-неформалки, длинноволосые металлисты, даже Илона (с виду – вылитая поклонница поп-музыки) – трясут головами. Я – тоже. Гипноз, не иначе.
Меня бросает в жар.
– Спасибо! – выдавливает вокалистка, точно кровь сплевывает. – А сейчас – кавер на песню «Рамки» группы Flёur!
Зал замирает.
Музыка подползает неспешно, цепляется за ноги, плавит пол и вдавливает гостей в фундамент – хищница, наслаждающаяся муками жертвы.
Темыч дергает маму за руку и что-то бубнит, мужчина в очках танцует, а меня волнами засасывает в трясину. Сначала ласковыми, дальше они становятся настойчивее и настойчивее. Я не могу двигаться, а мозг превращается в будильник, но почему-то на это никто не обращает внимания. А я звеню, звеню, звеню… В ушах – чайки. Трясина подобралась к горлу. Я иду на дно. Со мной это уже происходило, без сомнений: и чайки, и трясина.
Я умирала, до безумия боясь дна.
Чайки визжат все сильнее и скоро перепоют вокалистку.
Сделай одолжение: научись плавать.
Сделай одолжение.
Сде-лай.
Чайки просят меня об этом. Говорят, что я их пугаю.
А я говорю, что погибну в трясине, и – наблюдаю за концертом сквозь мутную пленку воды. Рот выедает соль. Нет, я тону не в болоте. Я тону в море.
Вокалистка пожирает людей взглядом, хрустит их костями и с каждой нотой увеличивается, растет.
У меня подкашиваются ноги. Она… съела стопы и голени.
Смотри – вокруг полно людей, не выпускай своих когтей!Все исчезает мгновенно. Остывает так же стремительно, как и нагрелось. И вот вокалистка благодарит гостей за теплый прием, спрыгивает со сцены, надевает желтый пуховик. Интеллигент в очках целует Илону в лоб. Темыч до сих пор что-то бурчит и пританцовывает.
Трясина резко выплевывает меня, и я чудом не падаю. Чайки улетают. Гомонят люди, оглушенные не столько концертом, сколько взглядом вокалистки.
– Познакомьтесь, – Илона тянет ко мне интеллигента, – это мой муж Павел.
– Очень приятно. – Улыбнуться не получается – губы окаменели. – Аня.
– Темыч вас сегодня напугал, да? – фыркает Павел. Его лицо перекошено, словно устало держаться, и сползает, сползает в никуда.
– Артем, – поправляет Илона.
Она так спокойна, что ее можно сфотографировать, а снимок повесить в Лувре вместо «Джоконды». Лишь сжатые кулаки выдают раздражение.
– Мне нравится его называть Темычем. Ему – тоже. Что такого?
Илона расслабляет руки и целует мужа в щеку. Я боюсь, что она не справится со злостью и укусит его.
– Как вам концерт? – меняет тему Павел. – Угадайте, кто эта женщина.
– Без понятия.
– Моя сестра. Всю неделю пряталась в номере и молчала, копила энергию для выступления.
Я глотаю нервный смешок. Где-то внутри чайки вновь начинают беспокоиться.
– Она… крута.
Остаток вечера мы проводим в баре – греемся вином. Выступают еще три группы. Голос Павла съедают гитарные соло, но я все же выхватываю отдельные фразы. Они с Илоной выращивают кишмиш, готовят вино, обожают море и поселок.
Кролик Темыча прыгает по моей спине.
Илона подносит бокал к губам, но замирает, когда я спрашиваю:
– А на досках вы катаетесь? Всегда мечтала попробовать.
– Нет, – качает головой Павел. – Разве что на троллее. Поедете с нами на эти выходные? Да, Илон? Возьмем ее?
– Обязательно, – обещает та и пододвигается ближе ко мне. – Поосторожнее у нас в поселке с мечтами, девочка.
Я притворяюсь, что не расслышала, а у самой внутри визжат чайки.
Около двенадцати ночи я поднимаюсь в номер в надежде поработать над идеей для новой книги. До второго этажа мне остается преодолеть пару ступенек, как вдруг раздается тоненький дрожащий голосок – кто-то поет.
Чайки ломают мои ребра. Я бы не удивилась, если бы обнаружила на полу пентаграмму, а в центре – сумасшедшую девицу; но чем дольше я медлю, тем отчетливее осознаю: это вокалистка из рок-клуба, просто сейчас она поет тихо, обессиленно.
Мы с сестрой Павла – соседи.
Я ныряю в коридор и озираюсь: дверь в ее номер приоткрыта. Чайки заглушают пение – им не нравится песня. Не нравится, когда я тону и… когда из окна выглядывает черноволосая женщина.
Я запираюсь у себя и теперь не сомневаюсь: главные герои моей книги живут со мной в одном доме.
7 Захар [До]
Нам двенадцать.
Нам тринадцать.
Нам четырнадцать.
Мне пятнадцать. А Торе – исполнится через час.
Она пока маленькая.
Мы лежим на пыльном полу – у Ворона. Ночь непозволительно близко, дышит на нас, пялится огромными звездами, пахнет орехами и яблоками. Прямо как девочка, сопящая у моего уха. В углу светит фонарик. Ночь заплетает Торе косы. И я заплетал. Согласен, выходило на троечку. Но я старался, правда-правда. Тора считает, что главное – практика, и тогда все удастся.
Разделить волосы на три пряди.
Левая – через правую.
Правая – через левую.
И так до бесконечности.
– Представь, что ты следишь за пьяницей-мутантом, – хихикала Тора, когда я в очередной раз начинал заново. – Его три ноги заплетаются в косичку.
Ворон наблюдал за нами, щелкал замками, хохотал скрипящими половицами. С миллионной попытки у меня получилось. Тора пообещала пойти завтра в школу с этими непослушными-ногами-пьяницы, чтобы все ее оценили.
Мягкие-мягкие волосы щекочут подбородок. Сейчас, когда Тора дремлет, я зарываюсь в них лицом. Какие же они теплые.
Ворон молчит – в последнее время он полюбил тишину, но я не расстраиваюсь: друг не ушел. Друг боится спугнуть кролика. Так я назвал шар, растущий внутри меня. Пушистый, горячий, ведущий в нору под деревом. Скоро я узнаю, попаду ли в чудесную страну. И вообще – есть ли она.
– Доброе утро, господин бука, – хрипит Тора, потягиваясь.
– Скорее – добрый вечер.
– Чего задумался? Стряслось что-то?
– Ничего. С днем рождения. Я… сюрприз приготовил.
– Честно?
Я вытаскиваю спрятанный под половицей проигрыватель. Свой проигрыватель, с трещиной по центру. Кролик потребовал, чтобы я подарил именно его. Тора любит музыку. Я купил ей кассету с композициями Тартини.
– Ничего себе!
Хлопушка обнимает меня и прилипает губами к моему лбу. Я сдавленно кряхчу.
– Спасибо, спасибо, спасибо, Захар! Я обожаю Тартини! Давай завтра ко мне пойдем, и я сыграю тебе на скрипке? А еще я начала писать песни! Оценишь?
Из моего кармана выпадает кассета с «Наутилусами».
– Хм… Давай ее послушаем!
– Нет, – отрезаю я.
Мои любимые песни кричат о диагнозе «Что-то не так». Если бы я включил их своему доктору, тот бы сразу упек меня в психушку, а Торе и без того чересчур много обо мне известно.
– Нет, – повторяю я громче.
Растяпа, как же я мог забыть, что у девушек «да» – это «нет», а «нет» – это «да»! Что у них в мозг встроен маленький генератор антонимов.
Тора бесцеремонно хватает кассету, пихает ее в проигрыватель и подскакивает. Громкость зашкаливает, раздевает меня до костей, колет тело нотами. Дом пронизывают родные ритмы и интонации «Наутилусов».
Нет, я не выдержу взгляд этот из-под бровей. Глаз – правильный квадрат на пустой голове.[11]Песня обнимает нас липкими строчками, и Тора танцует. Я краснею. Делиться музыкой – явно не мое.
Коса обматывает Хлопушкину шею.
Улиц измерен конец, но всякий раз Взгляд упирается в стену квадратных глаз.Тора летает под потолком. Ее тело словно забыло о гравитации.
Я хочу прекратить это, выключить то, что принадлежит лишь мне, но Хлопушка прижимает палец к губам и приземляется рядом.
Песня заканчивается.
– Он похож на человечка с огромными глазами. – Тора поглаживает проигрыватель, как уличного кота. – А что, если… – И, достав из кармана фломастер, рисует на подарке улыбку. – Настоящий человечек.
– Я бы назвал его Вячеславом Геннадьевичем[12].
Через дыры в крыше за нами следит луна. Ворон притворяется, что спит, – не скрипит, не трещит, не плюется в нас штукатуркой. Даже Zahnrad тикают тише обычного.
Тора скользит пальцами по моему животу. Она – мой кролик. Ждет у норы, а я никак не осмелюсь нырнуть в ее мир.
Закрой глаза. Хлопушка говорила, что это помогает перебарывать страхи.
Пошли на три буквы сомнения. Живи. Позволь себе жить.
Я мысленно повторяю совет Торы, как молитву.
Ее пальцы добираются до лица и застывают у губ.
Мир Хлопушки совсем близко.
Ближе, чем луна.
Я целую Тору. На вдохе, сжав кулаки до дрожи. Жмурясь так, что во тьме начинают мерцать звезды.
Закрой глаза – и ты увидишь ночное небо.
Закрой глаза – и ты увидишь кролика.
Мягкие-мягкие локоны. Хрупкое-хрупкое тельце. В сантиметре от меня бьется сердце. Если протяну руку, прикоснусь к нему. Оно мое.
Мое.
Я обнимаю Тору. Хотя нет – я обнимаю вечность. Млечный Путь, северное сияние, тонкие ростки травы.
Хлопушка отстраняется и поглаживает мое запястье мизинцем.
– Я бы поселилась здесь. Не пожалела бы денег на ремонт. Купила бы кучу пластинок и граммофон. Танцевала бы под твои любимые песни. Ты бы жил со мной? Пожалуйста, я не смогу без твоих веснушек.
– Да.
А я – без аромата яблок.
– Ворон… Ты бы играл в прятки с нашими детьми?
Вопрос дается Торе с трудом. Она выплевывает его, как раскаленную колючую проволоку.
Ворон хлопает оконной рамой. Значит, согласен.
– У меня гениальная идея, – шепчет Тора. – Обведем наши ладони, как те люди, что жили здесь? Я принесла мелки.
Ворон не реагирует на эту «гениальную идею», и я, чувствуя, как пылают щеки, уточняю у него:
– Ты же не против?
Наверху хлопает дверь – Ворон разрешает. Иногда он общается с нами знаками. Ленивый балбес. Один раз – да. Два – нет.
Я прислоняю ладонь Торы к стене, над Облаком. Здесь обоев нет, и я надеюсь, что наши отпечатки продержатся как можно дольше.
Мне страшно испортить рисунок, поэтому я обвожу пальцы Хлопушки медленно, дрожу всем телом и ругаю себя за трусость.
– Когда-нибудь я вернусь сюда. Если наши отпечатки по-прежнему будут здесь, я пойму, что ты не забыл о… нас, – роняет Тора.
Ее слова заставляют меня замереть.
– А почему я должен забывать о нас? Ты думаешь, что когда-нибудь мы будем навещать Ворона по отдельности?
Тора стискивает мое запястье и достает из кармана новый мелок. Ее очередь рисовать.
– Я трезво смотрю на вещи.
– Тогда я пьяный в стельку. Объясняй.
Чирк – мелок царапает камень.
– Когда много-много раз кипятишь воду в чайнике, на дне образуется накипь. Если нальешь такую воду в стеклянный стакан, заметишь, что в ней плавают частички. Это значит, что пора покупать новый чайник.
– Круто, – вскидываю брови я. – В учебнике по химии вычитала?
Мы отступаем от стены. Рисунок получился идеальный.
– После точки кипения ничего не бывает по-старому.
Я прорисовываю Облако огрызком мелка.
– Ясно. По твоей теории я – чайник. Выкидывай прямо сейчас, не обижусь.
– Захар… – Тора упирается лбом в мое плечо. – Если бы ты был чайником, я бы хранила тебя до смерти и не обращала бы внимания ни на какую накипь.
– Тогда в чем проблема?
Zahnrad с каждой секундой тикают все громче. Я различаю в этом ритме робкое «успокойся».
Закрой глаза – и увидишь звездопад.
Закрой глаза – и загадай желание.
Закрой. Глаза.
Вдох-выдох.
– В чем проблема? – повторяю я.
– Не ты чайник, Захар. Не ты, а я.
Рисунки светятся в бликах фонарика. Секунду назад мы с Торой были, а сейчас… я не понимаю эту девчонку с растрепанной косичкой. Если бы не предки, я бы запер ее у себя в комнате и заплетал бы ей косы вечно.
Мы бы кипели вместе. И вместе бы покрывались накипью.
– Мне… пора.
Тора выскальзывает из дома, и когда ее белое платьице превращается в маленькую точку у ворот, Ворон спрашивает:
– Ты дурак?
А я отвечаю:
– Полный.
И пинаю ботинком прогнившие доски, ныряю в ночь, спотыкаюсь. Догнав Тору у подножия холма, я притягиваю ее к себе, неумело, грубо и рычу на ухо:
– Не отпущу.
Она же… моя. Сладкая-сладкая вата, громкая-громкая Хлопушка, маленькая-маленькая девочка.
За нами наблюдают окна Ворона. Крыльцо просело, местами проломилось, выгнулось кошкой. Наш друг улыбается.
Я провожаю Тору домой и всю дорогу молчу. Хлопушка – тоже. Готов поспорить, если бы наша кожа была прозрачной, люди бы заметили в нас накипь.
– Спасибо за… Вячеслава Геннадьевича. – Тора целует меня в щеку и исчезает в объятиях Ласточки.
Я натягиваю капюшон – промозгло – и спешу к себе домой. Проскальзываю в спальню на цыпочках, но предки преграждают мне путь. Батя протирает очки рукавом и надевает их на нос.
– Ты опять лазал непонятно где?
– Да.
– А твоя подруга? Неужели тоже?
– Нам нравятся заброшки, – хлопаю ресницами я. – Ничего криминального.
Я давно вышел из того возраста, когда хочется кричать о дружбе с домами. Теперь я прячу свое «Что-то не так» под подушкой, в кармане, под половицами, но предки чуют его за километр. У них хорошее обоняние.
– Захар. – Матушка внезапно обнимает меня, впервые за миллиарды лет. – Пожалуйста, перестань себя так вести! Иначе мы запретим тебе общаться с Викой!
– С Торой, – поправляю я. – Вы же мечтали, чтобы я дружил со сверстниками.
– С нормальными сверстниками, – добавляет батя. – Сынок, мы с мамой решили, что… в общем, заканчивай школу, и переедем в город. Там поступишь в университет. Все наладится.
Закрой глаза – и ты увидишь бездну.
Закрой глаза – и ты увидишь, как дождь смывает контуры двух ладоней.
Да, мам.
Да, пап.
Спокойной ночи.
Я нормальный, вы верите мне?
Вопросы душат меня, но я стискиваю зубы. Рано паниковать. Лишь в одном я уверен: пока Тора живет здесь, я никуда не уеду. И пусть наш чайник хоть трижды с накипью.
* * *
Всю ночь я не могу уснуть. Страшно, черт побери. В ушах пищат гадкими комарами сомнения. Из-за предков. Из-за Торы. Из-за кролика.
На следующий день мне везде мерещится Хлопушка. Мы учимся в разных частях школы, но пьяница-мутант связывает нас – я вплел себя в ее косу.
После занятий, на крыльце школы, я все выкладываю Торе. Она кивает и, заправив прядь за ухо, как ни в чем не бывало интересуется:
– На какую специальность?
– Не знаю.
– Я могу попросить учителей, чтобы с тобой позанимались. Определяйся скорее.
– А как же ты?
Я вцепляюсь в лямки рюкзака. Топчусь, как дурень. Шмыгаю носом – хронический насморк.
Да кого я обманываю.
Хроническое одевчачивание. Сопли розовые, только и всего.
– Мало ли, вдруг и я куда-то уеду.
Весь вечер я стараюсь стереть из мыслей ответ Торы. Предки, ужин, уроки – отдаляются от меня, расслаиваются прокисшим молоком. Что со мной не так?
Или… что с ними не так?
* * *
Теперь мы с Торой не говорим о переезде. Мы молчим о нем, как молчат люди о страшной опухоли. Ощущаем ее и боимся. И все же мы не унываем. Тора часто играет на скрипке, поет мне свои песни – волшебные, удивительные, – и дрожит, краснеет, невпопад смеется, будто они способны нас разлучить. А впрочем, так и есть. Пишет Тора чаще всего о расставании.
Когда она играет на скрипке, ее лицо меняется до неузнаваемости: глаза наполняются уверенностью, решимостью. Тора тонет в музыке, отдаляется от меня с каждой нотой, и я ничего не могу с этим поделать.
Мы встречаем последние школьные каникулы, навещаем Ворона, обводим наши отпечатки и Облако, объедаемся пирогом с яблоками и жареными орехами. Отбиваемся с Воробьем от Пашки. Плетем косички. И всегда, прощаясь, смотрим друг на друга долго-долго, чтобы запомнить лица на случай апокалипсиса.
Тора не признается, кем мечтает стать. Еще одна запретная тема. Еще одна опухоль.
В июне Пашка все же нас достает. Мы сталкиваемся с ним у моря, чуть поодаль от поселка. Тора обожает гулять здесь вечером – нам нечасто удается побыть наедине. С нами постоянно дома́. Вдыхая соленый воздух и стискивая мини-ладонь мини-девочки, я начинаю понимать язык моря. Оно любит затворничество. Слышит миллионы голосов и мечтает оглохнуть.
Солнце приближается к горизонту. Я сую руки в карманы. У меня завалялась горстка орехов, и мы с удовольствием их уминаем.
– Приятного аппетита, – желает кто-то.
Мы оглядываемся. Пашка. Естественно, Пашка. Мокрый, в плавках – он только-только из моря. Странно, что мы его не заметили. На песке валяется доска.
Пашка уже год занимается серфингом. До него в нашем поселке о подобном и не слыхали – а тут на тебе. Я бы тоже попробовал, но предки ни за что мне не позволят.
– Как жизнь? – Пашка цокает, да так громко, что язык вот-вот отвалится.
Тора хватает мой локоть. Паникует – сегодня мы беззащитны.
– Сыграем в прятки? Поностальгируем, а? Только мне надоело… Надоело искать вас.
Он расправляет плечи – солдат недоделанный. Ухмыляется – мы на его территории.
– Прячемся по правилам: от нашей улицы до вашего любимого холма.
– А если мы не согласны? – сглатываю я.
– Вчера, когда вы ворковали в гостях у Ворона, – так вы его называете, да? – я все записал. Все-все записал на диктофон. И как вы общаетесь со стеной, чтобы воображаемый друг не плакал. Какое горе, у него отвалилась оконная рама! Я включу эту запись вашим родителям. Интересно, как они отреагируют?
Тора сжимает кулаки и, не сводя с Пашки взгляда, цедит:
– Откажись, Захар.
Но я не могу. Ее предки не шарахаются от нашего «не так». Мои – борются до сих пор и в особо тяжелых случаях пихают мне в глотку пилюли.
– Нет, давай сыграем. Почему бы и нет?
Мы же нормальные.
– Ладно, – неожиданно быстро уступает Тора. – Кто считает?
На лице Пашки змеится усмешка. Его светлые волосы торчат, как бы он их ни прилизывал. Под губой – ссадина – очередной подарок от Ворона.
– Ты. – Он толкает меня в грудь. – А мы с твоей подругой спрячемся. Спорим, не найдешь?
Я кошусь на Тору, и она отдает мне орехи.
– Потом доедим.
– Может, будешь считать? – предлагаю я.
– Да не боись, не обижу я ее. Это ведь просто прятки. – Пашка подходит ко мне вплотную. – Считай до ста.
Я отворачиваюсь к морю. Сегодня шторм. Из-за ветра я не слышу шагов, но всем телом чувствую, что мой враг уводит Хлопушку подальше от меня.
Раз.
Два.
Три.
Море интроверт. Оно не любит людей, а мы его имеем с утра до вечера. Миллионы подстилок облепливают пляжи, миллионы тел купаются в пене, миллионы трупов покоятся на дне.
Шестнадцать.
Семнадцать.
Восемнадцать.
Я бы не хотел быть морем. А впрочем, разницы – никакой.
Тридцать.
Сорок.
Пятьдесят.
Если вылить в море канистру молока, оно не перекрасится в белый. Если добавить пятьдесят литров крови, оно не покраснеет. У моря нет отпечатков пальцев. Оно умеет прятать трупы – его не арестуют.
Шестьдесят.
Семьдесят.
Восемьдесят.
Ты заболело, море. С тобой что-то не так. Запишись к врачу, тебе нужно удалить фантазию.
Я не досчитываю до ста. Убеждаю себя, что Пашка не утащил бы Тору в воду. Он псих, но проблем себе не ищет. Нет, он бы не утопил Хлопушку.
Я несусь в поселок. У меня есть преимущество – дома́. Я мысленно обращаюсь к ним.
Где они?
Громче всех визжит мой родной Воробей:
– К лесу! Они пошли к лесу!
Я пересекаю улицу, мчусь мимо покосившихся хижин и взбираюсь на холм. Ворон возвышается надо мной покореженным скелетом. Сердце барабанит по ребрам. Профессиональный боксер, не иначе.
Я спрашиваю у дома:
– Где?
А он отвечает:
– В лесу.
Дурак.
Идиот.
Псих.
Зачем, зачем я клюнул на байки о камере? Что, если Пашка обидит Тору? Побьет? Отомстит за наши встречи?
Кусты впиваются в голени колючками, деревья изгибаются лабиринтами, лес недовольно шуршит. Он не желает меня принимать.
Зато этого ублюдка принял.
Я выбегаю на поляну, заросшую травой по колено. Солнце ныряет за горизонт. Фантазия тщательно прорисовывает тысячи вариантов, где побеждает он.
Успокоиться и найти их, пока не стемнело, – ничего сложного.
Абсолютно.
Абсолютно.
Абсолютно.
Абсол…
Треск веток режет слух. Я карабкаюсь по нему, как по спасательному канату. Тени пляшут передо мной, столбы деревьев подозрительно напоминают монстров с картин психиатра.
Я стараюсь двигаться тихо. Нет. Их нигде нет.
Кажется, я окончательно свихнулся. Самое время навестить доктора.
Или…
Я натыкаюсь на них возле вековой сосны и прячусь за дуб. Они не видят меня, шепчутся. Ни черта не слышно. Пашка держит Тору за локоть и морщится.
Зря я боялся. Мой враг не таскает Хлопушку за волосы, не толкает ее и не бьет коленом в живот, не угрожает ножом и не заламывает руки. Я все это себе придумал. Пора мне удалить фантазию.
Я напрягаю слух.
– Обещай, – чеканит Тора.
Пашка склоняется над ней, высокий, как фонарный столб, ухмыляется.
– Договор.
– Обещай!
– Обещаю.
Я выхожу из-за дуба. Они вздрагивают и с ужасом пялятся на меня. Парочка. Голубки облезшие. Как же бесит!
– Что вы здесь делаете? – хмурюсь я, и за то, что осмелился спросить, ненавижу себя больше, чем Пашку.
– Тебя ждем, – пожимает плечами Тора.
– Но ты бы не сильно расстроилась, если бы я не пришел, да?
– Захар, ты чего?
Тора порывается меня обнять, но я показываю Пашке средний палец и несусь прочь из леса. Быстрее, быстрее от мини-девочки. Она не моя.
Поселок растворяется во тьме.
Добравшись до Ворона, я бросаю кулак в дверь и сажусь на пыльное крыльцо. Глажу перила.
Дом колет меня занозами и спрашивает:
– Что произошло?
А я отвечаю:
– Он выиграл.
Ворон умолкает, и я ему благодарен. Мне срочно нужно что-нибудь сломать. К примеру, шею одного придурка.
Но… Где-то за ребрами клубится сомнение. Что, если я неправ? Они могли говорить о чем угодно.
Кретин. Ты опять обидел Тору. А сам боялся, что ее обидит Пашка.
– Можно?
В свете луны появляется родной силуэт Хлопушки. На ее месте я бы дал мне пощечину и убежал бы домой.
– Я здесь не хозяин.
Неохотно подвигаюсь. Тора опускается и толкает меня в плечо.
– Ты чего надулся? Ревнуешь?
– Ты болтала с этим козлом как с закадычным другом!
– Пора прекращать детскую вражду.
Да чтоб тебя!
Лицо горит, плавится. Я беру Тору за подбородок, и она закусывает губу. Боится. Того ублюдка не боялась, а от моего прикосновения едва не визжит. Дуреха.
– Тебе легко. Тебя никогда не водили к врачу из-за проклятого «Что-то не так». Не поджидали у школы, чтобы хорошенько поколотить. Не фаршировали таблетками, как долбаную курицу. Мы разные, Тора. Не учи меня жизни.
В комнатах завывают сквозняки.
Не встревай, Ворон.
Мне стыдно перед ним за эту сцену. Он-то преданный друг.
Нужно было сразу домой.
Тора облокачивается на перила.
– Ты прав, Захар. Мы разные. Чересчур… – проглатывает она всхлип. – Пожалуйста, не сердись на меня, но… мы расстаемся.
Рас-ста-ем-ся.
Странное слово.
Картонное.
Вот бы сделать из него самолетик и скормить Пашке!
Я хватаю Тору за плечи. Наверное, сама не поняла, что ляпнула.
– Смешно-о-о!
– Нет, не смешно, Захар.
– Подожди. – Это сон, всего лишь сон. – Ты… серьезно?
– Более чем.
– Да ладно тебе. Пошутили и хватит. Я в курсе, что повел себя как дурак. Прости.
Я обнимаю ее, пытаюсь удержать, но она выскальзывает, как рыбешка. Тает, как снежинка на ладони.
– Захар…
– Прости, прости, прости, – тараторю я, не позволяя ей договорить.
– Да послушай же ты! – рявкает она и отталкивает меня. – Я не обижаюсь на тебя. И решила все до того, как ты нас нашел.
До.
– Значит, я прав насчет Пашки.
– Нет, нет, нет! – горячо мотает головой Тора. – Мы с тобой не будем вместе, но он здесь ни при чем. Ты поступишь в университет, найдешь хорошую работу в городе, забудешь обо всем, что творилось с тобой здесь. Ты станешь нормальным.
– Давай со мной.
– Не могу.
– Да чего ты, Тора!
Я до сих пор надеюсь превратить слова Хлопушки в шутку. Вцепляюсь в ее запястье, но она подскакивает и высвобождается.
– Мы расстаемся, Захар, – уже тверже повторяет Тора.
Она убегает от меня, как от маньяка, без оглядки, спотыкаясь, по колючкам и крапиве, а я смотрю ей вслед и проглатываю последний вопрос.
Что со мной не так?
* * *
Я просыпаюсь.
Ем яичницу.
Иду к Ворону и иногда сталкиваюсь с ней там. Если нет – встречаю по пути домой.
Прошу ее еще раз обо всем подумать.
Обещаю, что никуда не уеду, и пусть она хоть сто раз будет против.
Изо дня в день.
Но Тора непреклонна, упертая девчонка. Через неделю она уже не обводит Облако и наши отпечатки. И тогда я понимаю – все кончено.
Я вспоминаю тот день: Пашку, как он держал ее за локоть, тихое «обещай», горькую уверенность. Это я виноват, точно. Я был груб.
А можно и просто – я был.
Я посылаю куда подальше учителей и подготовки. Матушка бьется в истерике. Еще бы, экзамены через месяц, а я до сих пор не взял в библиотеке учебники. Батя потерял всякую надежду образумить меня и теперь вовсе не обращает внимания на мои выходки.
Неудавшийся сын. Поломанный.
Должно быть, они бы спрятали меня под диван, туда, где валяется бракованный паровоз, если бы у нас разрешили самосуд.
8 Анна [После]
Изо дня в день я наблюдаю за Илоной, Павлом и Темычем: как они вскапывают огород, как по вечерам кутаются в колючие пледы и бродят по улицам, как шутят друг над другом – мне интересна каждая мелочь. У них все идеально ровно. Нет ни изъянов, ни торчащих ниточек. Если бы они были платьем, то определенно самым лучшим в мире.
По ночам я записываю это и сразу же порываюсь удалить – безупречная вселенная убивает книгу, расщепляет ее на молекулы.
Я знаю, каково оно, потому что сама расщепляюсь. Но – продолжаю писать. Через силу. Без этого я быстрее состарюсь. За себя и за книгу. Пока история внутри, она будет грызть меня, плодить болезни и бессонницу. Сюжетам нужно жить на бумаге, а не в голове. Голова – плохой дом, без евроремонта.
Облако ютится на краю стола, молчаливо сочувствует. А я все отчетливее понимаю, что этот кот мой. Мой с детства.
В субботу Градинаровы – какая замечательная у них фамилия! – вновь зовут меня покататься на троллее.
Я прошусь к Лидии в кухню и пеку пирожки, чтобы хоть как-то отблагодарить эту семью за то, что они вдохновляют меня писать книгу.
* * *
Мы топчемся у обрыва. Море закипает, бьется об скалу, вопит нам, чтобы мы убирались. Люди надоели ему миллионы лет назад.
Здесь, вдали от поселка, почти никого нет – лишь палатки у горизонта, грязный спринтер, оборудованный под дом, да старенькая «Волга» Градинаровых.
Слева – про́пасть. Дальше – маленький выступ и снова пропасть. Точно по скале потоптался великан, и она частично обрушилась. От раскидистого клена, под которым мы устроились, далеко-далеко тянется троллей, растворяется в тумане, несется навстречу тучам.
Павел вытряхивает из рюкзака карабины, Илона проверяет крепления, Темыч не моргая смотрит на море, шевелит губами, будто у них с волнами свой язык.
– Ну что? – Павел с наслаждением втягивает соленый воздух. – Кто первый?
Я кошусь на троллей. Если он треснет, меня размажет по скалам, а туман заметет следы.
– Аня, вперед, – подмигивает Илона.
Я глотаю нервный смешок. Что, если троллей ведет прямиком в пекло? Или в пасть волнам?
А впрочем, это мне и нужно. Сама я не соскребу прошлое – потребуется нечто острое, нечто тающее в тумане и ведущее в никуда.
Темыч роется в рюкзаке отца и вытаскивает игрушки. Рассаживает их, чтобы они полюбовались, как я исчезаю.
Павел закрепляет на мне страховку, защелкивает карабины.
– Удачи. – Он окидывает меня пристальным взглядом. – Где-то посредине пути выступ. Во-о-о-н там. Заметили? Можете, конечно, чиркнуть по нему ботинками – сам обожаю так делать, но лучше не рискуйте, подошвы сотрете. Лучше подогнуть ноги.
Я шагаю к пропасти. Трава вытоптана. Должно быть, Градинаровы часто катаются на троллее.
– Вас столкнуть?
Илона подкрадывается бесшумно, и я вздрагиваю.
– Н… Нет.
– Через пять минут я тоже буду на той стороне, не переживайте.
Я набираю в легкие влажный воздух, ветер бьет в спину, и…
Я обгоняю его. Ускоряюсь с каждым ударом сердца. Подо мной – вечность; следы великана бездонны. Дышать трудно, невыносимо. На языке – соль. Море целует меня, в горле клокочет: «лечу, лечу, лечу». Адреналин сочится через поры.
Естественно, я забываю подогнуть ноги. Ботинки чиркают по скалистой поверхности.
Прощайте, подошвы.
Но я не расстраиваюсь и парю в нескольких местах одновременно. Или вовсе – нигде. Я – падающая звезда. Загадывайте желание.
Туман рассеивается. Мой путь завершается так же стремительно, как и начался. Конечная – скала, впивающаяся в море черным клыком. На ней будто кариес.
Между березами распята сетка, и я врезаюсь в нее, как муха в паутину. Несколько секунд ищу себя между потрепанными веревками. Себя десятилетнюю. Безрезультатно – я профессионал в игре в прятки.
Приземлившись, я отцепляю карабины. Высокие скалы, ветер слабый, растянутый, как жвачка, я больше не падающая звезда, – все расслаивается. Туман стелется по траве, намазывается на нее маслом.
Чуть поодаль, за дорогой, раскинулась роща. Я щурюсь. Между кленами – смутный силуэт мужчины. Огромные руки – в них поместилось бы море, – широкие плечи.
Господин великан выжидает. Хочет замести следы.
Он наблюдает за волнами – или за мной, – не шевелится. Как дерево, по форме похожее на человека.
Раздается хохот, звонкий, трещинами расползающийся по туману. Илона. Новая падающая звезда.
– Чего застыли? Не понравилось?
Она отцепляет страховку и спешит ко мне.
– Понравилось. Хм… – я кошусь на великана, а затем поворачиваюсь к Илоне. – Кто это?
– Где? Здесь никого нет, кроме нас.
– Там…
Только там и правда пусто.
– Ладно, – сдаюсь я. – Неважно.
Но чужак уже наследил в мыслях и где-то рядом с проклятым тиканьем нацарапал: «Важно».
Мы берем страховку и, обходя пропасть, идем обратно. Илона рассказывает мне, как счастлива жить по соседству с морем.
– У вас прекрасный сын. Очень интересный…
– Знаю я, о чем вы, – морщится она. – Просто… Чем ближе к морю, тем тяжелее прятать демонов, а у этого сорванца их хоть отбавляй.
– Вы не водили его к врачу?
– Он здоров, – откликается Илона чересчур резко для дружеской беседы. – Видите ли… Артем кое-что слышит. Кое-что, чего не слышат обычные люди. Конечно, психика ребенка не выдерживает.
Я пинаю камешек в пропасть, и его заглатывает море.
– О чем вы?
– Нечто умное и опасное общается с ним. Для этого нечто люди – домашние животные, – фыркает Илона. – Я не разрешаю Артему гулять самому, а муж разрешает. Балбес, что с него взять.
Мы возвращаемся к Павлу и Темычу. Они устроились под кленом за компанию с игрушками и жмурятся. Медитируют?.. Или беседуют с морем.
Я достаю из рюкзака пирожки. Мальчишки сразу оживают, плюхаются на валуны у обрыва, и мы с Илоной присоединяемся к ним.
– Ешь, Темыч, а то дрыщ-дрыщем! – веселится Павел.
Жена пихает его в бок. Злится из-за «Темыча»?..
Странно, но сейчас, когда они так близко друг к другу, я не представляю их вместе. Даже сын для каждого – свой: Артем и Темыч. Они параллельны. И плевать, что спят в общей кровати.
Сердце сжимается. Градинаровы не идеальны. Не идеальны! Я спасу эту семью, построю им дом из букв.
Время мчится заодно с волнами. Илона и Темыч болтают не прекращая, и когда голоса внезапно затихают, я вздрагиваю.
Кто-то выключил звук. Павел бледнеет, Илона застывает, вцепляется в его локоть, а Темыч больше не играет с плюшевым кроликом. Шум волн, встревоженное дыхание ветра и – наше, возвращается с кашлем Павла. Будто у него в легких – целое море.
Илона подскакивает и, спотыкаясь, несется к сумке.
Темыч зовет отца, дергает его за плечо, но тот не реагирует. Павел вот-вот вывернется наизнанку.
Илона трясется и, когда подбегает к мужу со шприцем, едва держится на ногах. Я не вмешиваюсь, лишь наблюдаю. Удивительно – по ОБЖ в школе у меня была заслуженная пятерка – я вызубрила весь учебник. Но сейчас, когда наступил момент икс, в голове – ни строчки.
Суета прекращается быстро. Илона вводит лекарство Павлу в руку. Темыч испуганно стискивает кролика. Мир успокаивается. Павел еще покашливает, но уже не выворачивается наизнанку. Илона опускается на валун. Секунду назад эти двое пересеклись, а теперь опять параллельны.
Никто не издает ни звука. Нас оглушил кашель. Волны шумят предательски тихо, сердце бьется глухо, точно под ребра напихали ваты.
Мы запрыгиваем в «Волгу», когда Темыч вытаскивает из рюкзака телефон и тычет пальцем на время. В салоне душно. Павел выкручивает радио на максимум. Поет Titiyo – Come Along. Эта песня им к лицу. К лицу моим параллельным персонажам.
Мы доезжаем до поселка минут за десять, не больше. Пока Павел заносит в дом рюкзаки со страховкой и игрушками, я спрашиваю у Илоны:
– Что с ним?
– Аллергия, – слишком резко отвечает она. Анафилактический шок? – Вообще-то я ношу лекарство для себя, постоянно летом задыхаюсь… Но в последнее время Паше тоже не очень хорошо. То пыльца, то пыль, то специи…
– Я люблю добавлять в выпечку ванилин. Ох… – я хватаюсь за голову. – Что же вы не предупредили!
Илона хлопает меня по спине и исчезает в доме. За ней плетется Темыч и с каждым шагом все быстрее превращается в Артема.
* * *
До вечера я работаю над книгой. Печатаю, печатаю, печатаю… Но все не так. Параллельные линии ломаются и снова и снова пересекаются.
Вот же она, Илона – та, кто не любит, когда сына называют Темычем.
Вот Павел – человек, обожающий море и именно Темыча.
А вот мальчик с пакетом вместо лица, пощадивший лишь кролика и странного друга по имени Нечто.
У меня не получается их срисовать.
Я устанавливаю себе норматив по знакам – чтобы не выбиваться из ритма. Чтобы не захлебнуться. Звоню Рите в тысячный раз. В миллиардный – клянусь, что все отлично.
О родителях ничего не вспомнила.
Книга пишется с трудом.
Покончив с нормативом, я выхожу на улицу. Мне так душно, точно я не пять страниц написала, а сотню.
У калитки курит Павел. Дым обволакивает его и стелется туманом по земле.
Я взлохмачиваю волосы.
– Как вы?
– Лучше. Что, испугались? – хмыкает он и снимает очки.
– Есть немного. Простите.
– Забыли. – Он сжимает сигарету двумя пальцами и всматривается в нее с сожалением, словно курит стодолларовую купюру.
– А… – Щеки вспыхивают. Благо, я тону в сигаретном дыме. – Почему Илоне не нравится имя Темыч?
– Кто ее знает. Она как шляпа фокусника. Непредсказуемая до ужаса. Что наколдуешь, то и выпрыгнет. – Он запрокидывает голову и выдыхает новое облачко. Лицо вновь сползает. – Твое предложение в силе?
– Какое?
– О серфинге.
Я приподнимаю бровь.
– Но ведь вы не катаетесь.
– Согласен! Как это я до сорока дожил и не покатался? – подмигивает он. – Так что?
– А Илона?
– Придумаю что-нибудь. Для нее серфинг – больная тема. А я давно мечтал попробовать, да компании не было. – Он тушит сигарету и бросает ее в консервную банку, прикрученную к забору. – Мы познакомились с ней в городе. Как ни странно, у психолога. Она спасалась от прошлого. Я – тоже. Десять лет лечился, хоть и с перерывами…
– От чего?
Павел сует руки в карманы.
– Кхм… у нас с сестрой были некоторые разногласия. Мне не нравилась ее работа, но потом все наладилось. Сейчас она поет. Только поет.
* * *
Я выскальзываю из номера рано утром. Павел говорит Илоне, что проведет для меня экскурсию по поселку. Она чует ложь: уголки губ подрагивают, на лбу появляются морщины. Но как ни в чем не бывало желает удачи.
Мы спешим на соседний пляж. Туда, где громоздится двухэтажное здание. На крыльце топчется мужчина в спасательном жилете. Павел объясняет мне, что незнакомец сдает в аренду доски и инструктирует.
В животе что-то трепещет. Наверное, чайка, но я не поддаюсь. Тренер выдает нам доски и лиши[13], а затем проводит зарядку. Мы пробуем работать с досками на суше, а после – отправляемся в море. Тренер учит нас грести. Меня шатает из стороны в сторону, зато у Павла получается сразу.
Спустя десяток неудач я все же ложусь на доску правильно. Вытягиваюсь, срастаюсь с ней, деревенею.
Тренер показывает Павлу, как ловить волну. Признается, что еще не встречал таких способных учеников. Я – то и дело переворачиваюсь.
Сердце тяжелеет килограммов на сто и барабанит, барабанит, барабанит. Ему тесно в грудной клетке. Мышцы ноют. Чем усерднее я гребу, тем отчаяннее мечтаю ощутить под ногами песок. Чайки во мне вопят, я слышу их даже под водой. И уже не знаю, где плыву: в море или в небе. Мой мир – соль и водоросли.
К счастью, доска не дает утонуть и тянет, тянет на поверхность. Я чувствую себя собакой на поводке.
– Напрягитесь! – командует тренер. – Попытайтесь лечь так, чтобы ноги сравнялись с гранью доски!
Я стискиваю зубы, и… у меня получается. Правда, ненадолго.
Черт с ним.
Я выползаю на берег – слишком болят мышцы – и освобождаюсь от чего-то.
По телу растекается липкое счастье.
Я не утонула.
Ура.
Чайки умолкают. Пока им некого оплакивать.
Я наблюдаю за тем, как Павел ложится на доску, как ловит волну, как поднимается – на целых пять секунд! А я не смогла даже полежать.
Зажмурившись, я представляю, что мне десять лет. С кем я была на пляже, когда так звонко кричали чайки? Почему едва не утонула? Зачем полезла в воду, если не умела плавать?
Я открываю глаза. На колене краснеет ссадина. Капельками крови сочатся ответы: я люблю море. Оно честное со мной. Оно помнит десятилетнюю девочку.
Мы возвращаемся домой к завтраку, мокрые и уставшие.
– Вы видели, Аня?! Я поймал волну! Уму непостижимо! Это же магия какая-то! – тараторит Павел. – Если честно, у меня такое ощущение, что я когда-то давно занимался серфингом, но потом напрочь забыл. Странн…
– Как экскурсия?
У крыльца мы сталкиваемся с Илоной. Она треплет Павла по макушке, зарывается пальцами в мокрые волосы, радуется, торжествует, что мы прокололись.
– Пора на завтрак. Догоняйте, Аня. Лидочка волшебница, а не повар! – шепчет она и увлекает мужа в столовую.
Я еще долго брожу вокруг дома. Аппетита нет, я наполнена морем, штормящим, черным. Что-то изменилось в нас – и во мне, и в Павле. И это «что-то» связано с чайками.
9 Захар [До]
Мне шестнадцать.
Я до сих пор дружу с воображаемой подругой. Теперь воображаемой.
Тора, ты в курсе, что Ворон – самый старый дом в поселке?
Что он ужасный болтун и порой его нереально заткнуть?
Знаешь ли ты, Тора, как Ворон жесток, когда злится?
Это нам он рассказывает об Облаке да о шансоне. Других он колотит, как я – подушку перед сном. Мы особенные, Тора.
Если бы ты была домом, я бы поселился в тебе, побелил бы твои потолки, со всех сторон тебя бы оплел виноград кружевным зеленым платьем. Ты бы не скрипела и не плакала – я бы не давал тебя в обиду. Ты бы пахла жареными орехами и яблоками.
Орехами и яблоками.
Ты постоянно так пахнешь.
Я жмурюсь. Ты улыбаешься.
Я открываю глаза. Тебя нет.
Вдали белеет мой рисунок. Он быстро стирается, но я изо дня в день его обвожу. У меня ушла целая пачка мелков, чтобы наш кот жил хотя бы на стене.
Я шагаю к нему. Пришло время вновь обновить тебя, парень.
Обвести контуры.
Эх, кто бы обвел мои.
Я жмурюсь. Облако спит в мягком кресле.
Я открываю глаза. Облако корячится рисунком на кирпиче. Горбится, потому что у девятилетнего мальчугана дрогнула рука и хребет бедного животного изогнулся кардиограммой.
Здесь до сих пор пахнет яблоками и орехами. Я надавливаю на мел.
Тора так хотела отремонтировать Ворона.
Я – тоже.
Но теперь я понимаю: не дому – нам с Хлопушкой нужен ремонт.
Мелок ломается – я переусердствовал. У Облака выпирает очередной позвонок.
Не бойся любви, пока она не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»
Тора мечтала обклеить спальню на втором этаже розовыми обоями. Мечтала жить там и по утрам наблюдать, как из-за моря выныривает солнце.
А сейчас… Сейчас мое солнце – она.
Мой дом – она.
Мое одиночество – она.
Она. Она. Она.
Что мне делать, Ворон?
Что ты делал, когда твои хозяева отправились на тот свет?
Дом молчит, но за столько лет мы научились общаться и без слов. Если бы он смог, похлопал бы меня по плечу.
Я обвожу проклятый рисунок.
Проклятое пятно на спине у кота.
Проклятые ладони.
А впрочем, одну можно убрать. Хлопушка нас больше не навещает.
Я стираю рукавом заветный отпечаток. Прощай, Тора. Ворон тоже тебя отпускает.
– Что ты здесь забыл? Не надоело?
Пашка.
Долговязый паренек, который никогда меня не бросит, который будет обзывать меня Кирпичом даже на том свете.
– Не надоело, – отрезаю я.
Он приближается ко мне медленно, шаркает, как хромой волк.
– С кем ты болтаешь?
– С ними.
– С кем?
– С домами, придурок. – Я мысленно умоляю Ворона потерпеть и не швыряться люстрами.
Пашка косится на часы.
– Zahnrad. Твои?
– Нет. Его.
– Что ты как ребенок. – Пашка тянет меня в угол и хватает за воротник. – Семнадцатый год пошел, а ты до сих пор слюнтяй. Чмо недоразвитое. Что творится в твоих мозгах?
– Ничего.
И правда. Ничего.
– Ты забил на друзей. Забил на школу. Да ты на родителей забил, о чем я вообще? – цедит Пашка и вскидывает брови, как Эйнштейн на знаменитой фотографии. Разве что язык не показывает. – Ты не радуйся. Чихал я на тебя и твои мозги. Просто интересно, что с тобой не так.
Мне не ампутировали фантазию в детстве – вот что со мной не так. У кого-то воспаляются гланды, и их удаляют. У кого-то – аппендикс. Но вырезать фантазию почему-то никто не берется.
Я отталкиваю его.
– А с тобой что? Почему ты до сих пор спишь с плюшевым медведем?
Я говорю нарочито громко: Пашка редко ходит по заброшкам сам. Сейчас, должно быть, его друзья прячутся за воротами и думают, что я их не заметил. А я замечаю. Всегда. После того, как Воробей сломал этой твари нос, она не суется на мою территорию без подмоги.
Пашкино лицо вытягивается. Да так стремительно, что скоро из него получится скрутить собачку, как из надувного шарика для моделирования.
– Что ты сказал?
– Ты спишь с плюшевым медведем. Не отмажешься.
Из-за ворот доносится фырканье, и Пашка вдруг начинает хохотать. Корчится, краснеет, будто через секунду выплюнет кишки, вот только в глазах по-прежнему мраморный лед.
– Знаешь, Кирпич, – смех резко обрывается, – я пришел сюда, чтобы сжечь нахрен твое уютное гнездышко. Но когда увидел, как ты вырисовываешь эти дебильные ладони, решил, что, может, не стоит. Что, может, пожалеть тебя. Но ведь никто не жалеет кирпичи. Они из года в год пылятся, замурованные, умершие. Они падают и разбиваются. Ими рисуют на асфальте. И их никто не жалеет. Да-а-а… Какой же я идиот. Каюсь.
Пашка засовывает пальцы в рот и свистит. Четверо мальчишек в ободранных спортивных костюмах мгновенно вырастают за его спиной.
– Бензин не забыли, чуваки? – осведомляется тварь.
Мои органы превращаются в пульсирующий узел. Каждый «чувак» притащил по канистре.
Ворон.
Ворон, очнись.
Швыряй люстры. Круши потолки. Пробей тварям черепа, мне фиолетово. Похорони их в подвале.
Вчера я объяснял дому, какие на вкус жареные орехи, а сегодня он грустит. Сегодня Ворон не проронил ни слова. Я жаловался ему и давился соплями, но он даже не попытался влезть в мою башку. Он без сознания.
Пашка скручивает мне руки. Я пинаю его ногами – бесполезно.
Мальчишки обливают бензином пол и лестницу, поднимаются на второй этаж.
– Ворон, – сквозь зубы лепечу я.
– Что-что? – переспрашивает Пашка.
Я плюю ему в лицо и ударяюсь об что-то виском. Или меня бьют?.. Мир растекается черными кругами.
– Ворон! – чуть громче восклицаю я.
Но Ворон не откликается. Теперь я сомневаюсь, что он бы похлопал меня по плечу.
Дома не спят. Они стареют, когда их предают, рушатся, плачут, но не спят.
Я вспоминаю, о чем говорил Ворон семь лет назад.
Если я когда-нибудь замолчу, не сомневайся: я на море.
– Нет! Валите отсюда! – разоряюсь я, но Пашка только сильнее стискивает мои запястья.
– Мы тебя вылечим, Кирпич. Твоя любовь к домам – нездоровая любовь.
– Твари! Он живой!
Я ненавижу себя за то, что не могу прикончить этих гаденышей. Ненавижу Ворона за то, что он меня бросил. Ненавижу Пашку за то, что он тупой, но считает себя гением.
В полумраке, у лестницы, чиркает спичка. Нет, мне не победить тварей. Проклятый дым обволакивает шею и душит не хуже веревки.
– Подожди, Тоха, мы кое-что забыли. – Пашка вдавливает мою голову в стену. – Возьмите кто-нибудь часы и вытащите батарейки!
Я жду, как дурак, что посыплется штукатурка, что Ворон не подпустит тварей так близко к сердцу, но ничего не происходит. Мальчишка в кепке хватает часы, и вновь загорается огонек.
– Нет! – воплю я. – Умоляю вас! Пожалуйста! Отстаньте от него, он живой!..
Воздух сотрясает грохот: чудовище в кепке уронило часы. По полу разлетаются стрелки.
Тоха от испуга выпускает из рук спичку.
– Идиоты! – багровеет Пашка, но времени на разборки нет. Дом вспыхивает. – Валим!
Я упираюсь, но Пашка тянет меня к воротам. Волочет, будто мешок с картошкой. Толкает к валуну, подпирающему холм.
Я падаю.
Задыхаюсь.
По щекам текут слезы.
Пашка зажимает мне рот и поворачивает меня к Ворону.
Мой друг, мой преданный воин вспыхивает. Ему удалили сердце. Он скоро уедет на море.
Где ты, Тора? Как же ремонт?
Я жмурюсь. Мы клеим розовые обои в спальне.
Я открываю глаза. Горящая крыша обваливается, а рядом со мной сидит мой враг, который никогда меня не бросит.
– Чего ты стонешь? Алло! – рычит Пашка. – Кирпич, почему ты такой слюнтяй?
В раскаленном воздухе его лицо тает.
Я чувствую себя сморщенным червивым яблоком. Из меня бы не получился пирог.
– Зачем? – хриплю я.
Двери Ворона падают.
– Считай, что я твой врач. Тебе ведь нужны здоровые мозги, если ты собираешься в универ.
Врач.
Тик-так, тик-так, тик-так…
– Ненавижу!
Я накидываюсь на тварь и уже не различаю, где земля, а где его лицо. Мышцы наполняются горячей силой. Второе дыхание.
Я сделаю из тебя землю.
Построю дом.
Выкую ворона.
Скручу, как пластилин.
– Зачем, зачем, зачем…
Я наваливаюсь на тварь всем телом и пихаю в ее рот песок.
– Ты псих! Успокойся!
Пашка давится, кашляет и – неужели? – всхлипывает. А мне фиолетово. Я запихиваю ему в глотку не попавший в мусорный бак пакет. Полынь. Собачье дерьмо.
Пашка, Пашка. Никудышный бы из тебя вышел дом.
Мне не дают закончить начатое. Кто-то визжит и оттаскивает меня от твари. Вокруг – люди. Много людей. Они пришли поприветствовать смерть.
Даже издалека я слышу, как скрипят половицы. Ворон плачет. Ворону больно. У него нет сил сопротивляться, он слишком стар и болен.
Интересно, о чем он думает сейчас, за миг до темноты?
О чем бы думал я?
Мы не успели попрощаться.
Всюду – размытые силуэты.
В ушах звенит. Тикает.
Тварь поднимается, плюется, отряхивается. К ней тоже кто-то подбегает. Раздаются знакомые голоса.
Естественно: Пашкины предки.
– Он снова напал.
Тварь смотрит на меня, и от ее взгляда обугливается кожа.
Тонкие пальцы стискивают мои плечи. Как бы я ни вырывался, они срастаются со мной.
– Чтоб ты сдох! – рявкаю я.
Пашка застывает. Отмахивается от вопросов предков и хромает ко мне.
– Это она, дурак. Она меня попросила. Так что пожелай ей того же. – Сунув руки в карманы, он наклоняется к моему уху. – Угадай, что она дала мне взамен. Не знаешь? Яблочный пирог. Обалденно вкусный.
«Я бы поселилась здесь».
«Ворон… Ты бы играл в прятки с нашими детьми?»
«Когда-нибудь я вернусь сюда. Если наши отпечатки по-прежнему будут здесь, я пойму, что ты не забыл о… нас».
«Теперь мы вместе».
Моя Хлопушка исчезла, а я не заметил. Когда это случилось? Ког-да? Я бы отмотал время и попытался ее удержать.
Мы ведь мечтали о ремонте, Тора.
Коридор, обклеенный обоями в горошек. Аромат пирога. Граммофон и сотни пластинок с нашими любимыми группами в гостиной. «Аквариум», «Кино», «Наутилусы»… Теплые тапочки с помпонами. Черно-белый телевизор. Сервиз за стеклянной дверцей шкафа.
Мы так мечтали об этом, Тора. Куда ты исчезла?
Почему ты исчезла?
Когда?..
Я все прозевал, Тора.
Нас оглушает душераздирающий треск. Ворон умер.
* * *
– Сынок, ты как? – Это батя.
Что-то мокрое на лбу.
– Дорогой, давай вызовем скорую! – Это матушка. – Он бредит уже пятый час!
Всхлипы.
– У него шок. Ты же в курсе… Его… увлечение и пожар…
– Господи, я же говорила, что добром эти похождения не кончатся!
Я пытаюсь пошевелить пальцами, но они так же безжизненны, как одеяло, давящее на меня с усердием маньяка.
– Мама. – Мой голос скрипит, точно лестница Ворона.
– Да? Что? О, мальчик мой, ты очнулся!
Глаза не открываются – веки будто кто-то зашил.
– Когда экзамены? – Капелька то ли пота, то ли слезы, то ли воды чертит линию на моей щеке.
– Какие экзамены? – недоумевает матушка.
Кровать проседает. Должно быть, предки опускаются рядом.
– Сынок, у тебя жар.
– Нет… Просто я хочу поступить в универ. Я ведь успею?
10 Анна [После]
Проклиная позу собаки и считающую секунды Илону, я вновь вижу силуэт великана-дерева за плеядой кафе и пивных. Чужак смотрит на море. Ветер бесится, пытается его сломать, как ветвь. Но – нет. Чужак не двигается.
Все занятие я кошусь на него.
И вот уже Илона произносит заветное «до завтра», а великан по-прежнему у моря. Оно его загипнотизировало.
Какой… интересный персонаж. Он оживит мою историю.
Я шлю к чертям осторожность и бреду к нему. Песок обжигает ступни, но я не обуваюсь. Лучше чувствовать. Я обхожу накренившиеся столики с пивными кружками, еще неубранными после ночи. До пропасти-следов-великана пляжей пять, не меньше, но скалу, о которую я чиркнула ботинками, видно и отсюда.
Чужак замечает меня, лишь когда я застываю в метре от него, и с наслаждением втягивает воздух.
Дикий он, потерявшийся. Мутные глаза, угловатые черты лица, тонущие в морщинах, грязные израненные ладони, грязь под ногтями – чужак похож на потрескавшуюся в зной землю. Брови вздрагивают. Странно, но его мимика… чересчур живая, чересчур молодая. Если бы не она, я бы дала чужаку лет сто. А так… сорок пять. Он не старый. Он просто заблудился.
Я закусываю губу. Приветствие стынет на зубах.
– Море сегодня – волшебное-е-е, – протягивает он. Голос колючий, надломленный. – Вы городская?
– Да.
Мы молчим. Слушаем ветер и силимся прочесть мысли друг друга. А я – еще и свои. Что со мной не так? Зачем я пошла за великаном? Почему волнуюсь, словно вот-вот спрыгну со скалы?
Чужак поглаживает полуседую щетину.
– Что ты забыла у нас, девочка?
Я моргаю. Пробую на вкус его резкое «ты».
Сняв ботинки, чужак делает шаг. Волны обнимают изуродованные землей ноги, но грязь не отмывается, а наоборот, все больше и больше въедается в кожу, как солнцезащитный крем.
– Память, – признаюсь я, а сама ругаю себя за откровенность. – Я пишу книги и…
– Правда? Ничего себе. – Чужак приподнимает брови, но через миг они опускаются, как два парашюта. Лицо мрачнеет. – Дашь почитать?
Чернохвостая чайка пролетает в сантиметре от моей макушки.
– Нет. У меня… творческий кризис. Мало что получается. И я надеюсь, что прошлое поможет мне вернуться к писательству.
– Как интересно. Я тоже иногда балуюсь.
– Серьезно?
– Серьезно.
– Дадите почитать?
– Нет уж. Так не честно, девочка, – смеется чужак. – А если серьезно – просто еще не время.
– Понимаю. Сама первые черновики прячу за семью замками.
Мы бродим по берегу, а над нами вновь и вновь пролетает чайка с черным хвостом. Чужака зовут Вячеслав. Он пишет уже давно, но ни с кем это не обсуждает. Теперь нас двое – двое авторов-неудачников.
– Ты работаешь утром или вечером? Как насчет вдохновения? Лично мне все равно. Предпочитаешь ручку? Клавиатуру? По сколько знаков в день? Читатели есть? А я, когда дописал повесть, сразу к девушке помчался, но у нас… не сложилось.
Солнце печет все сильнее, и мы возвращаемся в поселок. Улыбка не сползает с моего лица. Небо, я нашла своего человека!
Вячеслав замирает на перекрестке, напротив моей «Свежести». На огороде, вся в земле, подвязывает помидоры Илона. Я киваю ей, и она кивает в ответ.
– Странно, – хмурится Вячеслав. – Ты пишешь для того, чтобы вспомнить, а я – для того, чтобы забыть.
Это и впрямь странно, но я ему не завидую. Забывать сложнее, чем вспоминать. И я боюсь, что, докопавшись до правды, захочу огреть себя по голове чем-то тяжелым, лишь бы заработать амнезию.
– У меня кое-где проседает сюжет… – осекаюсь я. За мутными, как старое стекло, глазами Вячеслава прячется нечто, заставляющее мои кулаки сжиматься. – Мне нужно с кем-то обсудить все это.
– Конечно, я не против. Заходи на чай. Я живу у леса. Самый крайний дом справа. На холме.
* * *
Целых три дня я почти не выхожу из номера и работаю над книгой. Успеваю написать десять страниц для новой главы. Я тону в ней и не пытаюсь вынырнуть. Меня полностью поглотил поселок – до последней капли моря, до пылинок на прикроватной тумбочке, до шатающейся табуретки в столовой.
Он мой. Я это чувствую. Но насколько принадлежу ему я – не знаю.
Поужинав, я с трудом убеждаю себя, что пора отдохнуть, и спешу к Вячеславу в гости. Мне по-прежнему нужно с кем-то обсудить сюжет.
Я несусь к лесу. Солнце сегодня спит на облаке и почти не светит. Ему не мешают даже крики птиц. Моя тень выглядит расплывчато, будто призрак. Но еще призрачнее то, что возвышается надо мной. Вячеслав сказал же… направо?
Огромный дом, черный, прогнивший – здесь не может жить человек. Они с Вячеславом похожи. Оба сгоревшие, оба с мутными глазами-побитыми-стеклами.
Забор почти обвалился. Изредка торчат острые железки, словно ждущие, когда на них нанижут… игрушки Темыча? За воротами прячутся две высохших яблони. Огромные, как и сам дом. У них сломаны ветки, и они обнимаются ими.
Я взбираюсь на холм. Сердце барабанит так, точно мечтает отправиться к солнцу. Или дремать на облаке, но я не останавливаюсь. Это поможет мне написать роман.
Как же тихо. Слишком, слишком тихо.
Я каменею у крыльца.
– Вячеслав?
И делаю шаг. Скрипят ступеньки. Плачут?
Комната втягивает меня, вдыхает и, должно быть, сейчас чихнет. Пол кромсает трава. В углу растет деревце, молодое и хрупкое.
Еще шаг.
Что-то хрустит под ботинками. Ломаются кости?
Я щурюсь и понимаю, что наступила на гнилые яблоки. Маленькие черепа, не иначе. В этом доме все мертвое.
– Вы пошутили, да? Вы живете на другой улице?
Еще шаг.
Где-то тикают часы. Чересчур громко. Чересчур живо. Бьют по моим перепонкам, просачиваются в мозг.
Я не могу отделаться от ощущения, что кто-то следит за мной.
В потолке темнеет дыра. Под ней, на полу, валяется разбитый граммофон, весь в ржавых пятнах и земле. Вокруг прогнивших досок, прикрывающих подвал, разбросаны расколотые пластинки. Из дома выгребли все, кроме этих крохотных осколков музыки.
Хотя нет – между половицами поблескивают цепочки. Кажется, золотые. Странно.
Я иду к лестнице. Что, если под ней чьи-то ноги?
Иду к окну. Что, если в раме чьи-то зубы?
Иду на второй этаж. Что, если на чердаке чья-то голова?
Дом расчленили. Или дом расчленил кого-то.
Проклятое тиканье не позволяет мне сбежать. Оно держит меня за ворот и встряхивает, встряхивает, встряхивает.
Рамы сожрут твои зубы, лестница – ноги, чердак – голову. Слышишь?
Нет, в доме никого нет. Вячеслав не живет здесь, если он не наркоман и не алкоголик.
Второй этаж тоже пуст – лишь обгоревшие стены, гнездо вороны на старом карнизе да гора хламья, покрытая тоннами паутины и копоти.
– Какого черта ты притащилась?
Опять «ты». Опять своя.
Женский голос оплетает меня красной ленточкой и завязывает ее на бантик. Мол, держи подарок, дом. Тебе же нужны зубы.
Из-за горы хлама выныривает та самая женщина, которая пела в клубе, – с черными прямыми волосами и взглядом, пронизывающим насквозь. В белом воздушном платьице, с разноцветными браслетами на обоих запястьях.
– Меня позвали.
Женщина непозволительно близко. Воображение в красках описывает мне, как эта сумасшедшая берет острый обломок и впихивает в мою глотку, как толкает меня к окну и как стеклянные клыки распарывают мне живот.
– Кто?
– Вячеслав.
– Какой Вячеслав?
– Он говорил, что живет в этом доме.
Сумасшедшая к чему-то прислушивается.
– Хм. Не врешь.
– С чего бы мне вра…
– Тебе не место здесь, – перебивает она.
– А тебе?
Этого вопроса она явно не ожидала. Пялится на меня, как на очередную мертвую игрушку Темыча.
– А мне – в самый раз.
– Ты ищешь вдохновение в заброшках? – интересуюсь я.
– Нет, – отрезает она. – Проваливай. Если, конечно, не мечтаешь напороться на алкашню или обдолбанных подростков.
– И ты одна из них. Как тебя зовут?
– Диана. Для друзей – Ди. Только для друзей.
– Очень… – …неприятно. – Я Аня.
– Мне по барабану.
– Ладно, проехали. Ты случайно не встречала высокого мужчину с щетиной и мутными глазами?
С ее лицом происходит что-то странное. Оно перекашивается, вытягивается и – стареет.
– Нет.
Ди сползает на пол.
– Тебе плохо?
– Проваливай.
– Но…
– Считай это моим хобби. – Волосы прилипают к ее губам, но она не поправляет их. – Лазать по помойкам.
Ясно.
Она – обличье дома в людском теле.
Его голос.
Я спускаюсь на первый этаж и шагаю прочь. Лес, холм, поворот направо. Все в точности так, как объяснял Вячеслав. И если я не ошиблась, тогда… где он живет?
Я возвращаюсь в «Свежесть». Илона сидит в кресле и любуется подвязанными помидорами.
– Добрый вечер! – здороваюсь я и открываю калитку.
– А, это вы, Аня. Здравствуйте.
Я иду к ней и замираю за ее спиной. Почему-то мне легче говорить о том, что волнует, прячась.
– Сегодня на перекрестке я стояла с одним мужчиной, помните? Высокий такой, с щетиной… Вячеславом зовут. Вы не в курсе, кто он?
Илона оглядывается.
– С утра?
– Да, когда мы с вами еще кивнули друг другу.
– Вы что-то путаете, Аня. Кроме вас там никого не было.
11 Захар [До]
Ты до сих пор читаешь, Вячеслав? Значит, твои дела плохи. Или ты успел выбраться и листаешь мой дневник по пути на работу. Чувствуешь? Дышится по-другому, правда? А небо какое синее! Это тебе не пыльные потолки.
Теперь на тебя не свалится люстра.
Сейчас я продолжу историю. Решишь отблагодарить за труд – отдай дневник тем, о ком я напишу еще миллион раз. Найди и отдай.
Как же я надеюсь, что Zahnrad тебя не сцапали! Они бывают добрыми, клянусь. По крайней мере, для нас – были.
Если позволишь, я пропущу два года. Две дороги, ведущие к пропасти. Немых. Блеклых, как выстиранные простыни.
Я пытался учиться на математика. Пытался жить в общаге с предками. Пытался «выздороветь». Магистрали, высотные здания, потрескавшийся асфальт и шум машин – не оглушали меня. Я оглох до того, как поселился в городе. Или… Кто-то прикрутил громкость. Многоэтажки не тикают.
Во время сессии на втором курсе предки сообщили мне, что я «выздоровел». Что моя фантазия исцелилась. Что пора взрослеть. Я обрадовался. Круто же, перестану насиловать унитаз пилюлями! Предки вернутся в поселок ухаживать за виноградом и огурцами. Сын-то вылечился. За сыном ухаживать не нужно.
А я… я сниму квартиру. Нет, лучше комнату в частном доме на окраине города. Буду есть холодную овсянку и гонять пауков.
«Мне повезло с тобой», – обронила матушка перед отъездом и толкнула батю в бок, чтобы тот кивнул. Они уехали, а я побрел в кухню давиться застывшей кашей.
С этого дня я превращаюсь в шкуру медведя. Снаружи – самостоятельный парень, здоровый, дружащий со сверстниками, а не со стенами, но внутри – сгоревший дом.
Я не видел Тору с тех пор, как Ворон погиб.
Каждое утро я чищу зубы – без пинков матушки. Пялюсь в зеркало и не узнаю себя.
В одиннадцать лет я зачеркивал фломастером дни, пока ждал Хлопушку. Искал угольки и думал, что самое страшное – израсходовать их за неделю.
Сейчас у меня гора ручек, а зачеркивать дни бесполезно.
Каждое утро я ем застывшую овсянку и спешу на занятия. Включаю «Наутилусов». Представляю, как Тора бы под них танцевала. Тянулась бы вверх нежной ромашкой. И я бы проломил череп тому, кто захотел бы на ней погадать.
Каждое утро я здороваюсь с сокурсниками, а они здороваются в ответ. У нас нет Пашек. И Тор тоже нет.
Странно наблюдать за другими, проглатывать их шутки, одалживать учебники, а втайне мечтать о застывшей овсянке.
Я живу один – повезло. Хозяйка дома часто в командировках.
Каждое утро я выжимаю себя без остатка. А на следующее – вновь наполняюсь. Я с ужасом жду, когда этот резерв закончится. Когда я превращусь в очередную порцию застывшей овсянки, и кто-то будет ковырять вилкой меня.
Я сдаю сессию. И когда выжимаю себя лишь наполовину, а утром – не наполняюсь вовсе, понимаю: пора навестить предков.
Навестить Воробья.
Навестить Хлопушку.
Чтобы с новыми силами вернуться к шкуре медведя.
* * *
Я переминаюсь с ноги на ногу – непривычно чувствовать землю. Асфальт замуровал меня, а я и не сопротивлялся.
Вдали, перед лесом, возвышается холм. Старый холм, укравший мое детство. На его макушке торчат почерневшие стены. Клыки убитого хищника. Ребра Ворона.
Почему люди не хоронят дома? Кирпичные существа заслуживают огромные памятники с двумя датами, обозначенными через черточку, венки и почести. Но больше всего они заслуживают нашу любовь.
Я бреду к изуродованной груде костей – к моему мертвому другу. Ржавые ворота колыхаются на ветру.
– Сомневаюсь, что это хорошая идея, – бросила мне вслед матушка, когда я запер калитку и направился в сторону леса.
Я приехал к предкам вчера. Весь ужин притворялся немым и не обращал внимания на расспросы Воробья.
Мы же продержимся этот вечер?
«Пап, мам, видите? – безмолвно спрашивал я. – Ваш сын вылечился. Ваш сын нормальный».
Вчера они мне верили.
Теперь матушка снова чует мое «Что-то не так».
– У тебя все в порядке?
– Лучше не бывает, – хриплю я, натягивая капюшон.
В университете у меня нет друзей. Приятелей – завались. Я слоняюсь по утреннему городу, наблюдаю за жизнью нормальных людей, фантазирую, кем бы я был, если бы не тиканье Zahnrad.
Да черт с ним.
Никем бы я не был. Без домов я бы сдох.
Правда, в начале года я познакомился с одной странной девчонкой, учащейся в соседней группе, – Ди – мы вместе готовились к олимпиаде по математике. Кажется, она тоже из моего поселка: я нашел у нее в конспекте снимки Ворона, еще живого.
– Понравилось? – спросила она, когда я рассматривал ее работы.
И я ответил, что понравилось. До безумия.
Как же мне хотелось забрать эти фотографии! Заключить их в рамки, спрятать под подушку.
– Зачем тебе олимпиада? – с трудом выдавил я.
– На фотоаппарат коплю. Чуть-чуть не хватает.
– Тогда удачи. Ради таких снимков ты обязана победить.
И она победила. А потом возненавидела меня за это. Ди терпеть не могла, когда ей поддаются, но я-то не знал… и поддался. Больше мы не пересекались.
Я взбираюсь на холм и застываю перед ним.
Яблони подросли. Тянутся друг к другу, обнимаются ветками.
Ворота распахиваются. Нет, не из-за того, что Ворон так захотел. Так захотел сквозняк, только и всего. Мой приятель мертв. Он никогда не откроет двери.
Я поднимаюсь по засыпанным землей ступенькам и ныряю в комнату, где когда-то бывал чаще, чем дома. Здесь тихо. Часы не тикают, рамы не хлопают, половицы не скрипят.
В нос бьет запах сырости.
Я спрашиваю у дома:
– Как ты?
А мне отвечает ворона, шагающая по подоконнику:
– Кар.
Она пялится на меня так, словно вот-вот разрыдается, и – взлетает. Что, если между черными перьями и потрепанными крыльями прячется мой друг? Что, если он ждал нашей встречи в обличии птицы?
Слюнтяй.
Я пинаю гору бутылок из-под пива.
Нет, не ждал. Ворон умер миллиард лет назад. Отправился в отпуск. А местный сброд устроил пир на его могиле.
Я бы разбил эти бутылки и запихал бы осколки в глотку каждому, кто здесь шлялся.
В комнате страшно: обои сгорели, тумбочка, где билось сердце и валялись шашки – тоже. Люстры нет. Ничего нет, кроме потолка-дуршлага и следов чьего-то праздника. Лестница на второй этаж превратилась в гору железок. Окна развалились окончательно. Огонь выколол Ворону глаза.
Отпечатки ладоней хозяев стерлись. Кирпичи, кругом кирпичи…
Я веду пальцами по пыльной стене, ищу наши рисунки.
Наи-и-ивный. До сих пор ребенок. Странный ребенок.
Хотя нет.
Просто идиот.
Прошло два года. Пламя все сожрало, а что не получилось уничтожить у него – уничтожили дожди… Должны были уничтожить. Взгляд упирается в белые четкие линии. Облако. Наши ладони. Кто-то нарисовал их. Воссоздал рисунки по памяти. Неумело и криво, но воссоздал.
Я касаюсь мизинцем неровных линий, боюсь, что спугну галлюцинацию. Или реальность? Нет, это определенно мел. Как и раньше.
Она проведывала Ворона. Возможно, час назад, возможно – день. Но проведывала.
Я оступаюсь и падаю. Растягиваюсь на крыльце. Затылок плавится от боли. Вместо неба – черные кляксы.
Но мне все равно.
Я обязан ее найти.
Обязан.
Над поселком обнимаются тучи. Огромные черные лохмотья мечтают упасть на нас. Где-то чертыхается гром.
А я чертыхаюсь в ответ и мчусь на пятую улицу. К участку – о боги! – без огорода, где пахнет яблоками и орехами. Где за окном прячется мини-комната мини-девочки. Где живет Ласточка.
По пути я то и дело натыкаюсь на сгоревшие постройки. Вот хижина подруги предков. У нее, как и у Ворона, уцелели лишь кости, а вот трехэтажный дом Пашки. Полый. Черный.
Новый мертвец.
Свежие следы огня.
Что же с ними не так?
Я стараюсь не поддаваться страху, не слушать шепот уцелевших домов и несусь, несусь дальше. Пересекаю дорогу и – застываю.
Здравствуй, Ласточка. Тебе к лицу белая краска. И если пламя постучится… Гони его прочь.
На воротах висит замок.
Если здесь и была Тора, то уже уехала. Дверь заперта, а на ручке болтается пакет – Хлопушка что-то забыла.
К счастью, на улице безлюдно, и я перемахиваю через забор. Странно, но теперь он не кажется мне огромным. Траву на участке не стригут – выросла по колено. Правда, до крыльца дорожка все же вытоптана.
Я подцепляю пальцем пакет. Кому я его отдам? Зачем я вообще все это затеял?
Глаза сами собой опускаются: орехи, много-много орехов. А между ними – записка, сложенная самолетиком.
Сердце деревенеет.
Не читай, дурак.
Не читай.
Я вытаскиваю послание и ломаю самолетик. Этот ровный, размашистый почерк, с одинаковыми «ж» и «ш» я не забуду никогда.
«Я знаю, что ты приехал. И не сомневаюсь, что залезешь проверить пакет. Следи за Воробьем, Захар. Следи в оба. Если заметишь что-нибудь странное – сломай Zahnrad. Без жалости. Без разговоров. И… не злись, пожалуйста. Ворон меня сам попросил. Так было нужно. И ему, и нам. Прощай».
Так было нужно.
Прощай.
Мы разминулись. Как же глупо.
Я комкаю записку и сую ее в карман.
Зачем мне следить за Воробьем? Зачем ломать его сердце?
Я не убиваю дома. Я – не ты, Тора.
– Зд-д-дорово!
Я подпрыгиваю и рассыпаю немного орехов. Сквозь заборную сетку на меня таращится Пашка. Мой враг. Верный враг. Его волосы по-прежнему торчат. На виске белеет шрам-полумесяц – подарок от Ворона. Пашка почти не изменился, разве что вымахал до небес.
«Он начал заикаться?» – мысленно удивляюсь я.
Горизонт рассекают молнии.
Я подхожу к забору и, повесив на железные шпили пакет, перелезаю.
– Привет.
И вот, в шаге от меня человек, убивший моего друга. Человек, которого я в отместку заставил сожрать песок и закусить дерьмом.
Пашка хлопает меня по спине, как закадычного друга.
– Как жизнь?
– Не жалуюсь.
Я снимаю пакет с забора.
– Тора была зд-д-десь сегодня. Утром, оставшиеся вещи паковала. Переехала. С родителями.
– Куда? – интересуюсь я, стискивая пакетик так, что белеют костяшки.
– В город. Спрашивала о тебе. Мол, где ты, д-д-да все ли в порядке. А я что? Я без понятия. Повезло еще, что твои родители проболтались, когда ты к нам пожалуешь. Ну, я ей и выложил.
– Ясно.
Молнии-пауки все ближе. Я обхожу Пашку и бреду мимо почерневших хижин.
– Захар! – окликает меня недовраг.
– Да? – я кошусь на его дом. За обгорелым монстром ютится крошечная хижина. Калитку подпирает старая доска для серфинга. – А почему не Кирпич?
Пашка догоняет меня и преграждает путь.
– Д-д-дурак я. Дурак. Ты… Прости, лады?
– За что?
– Д-д-да за все! Ты слышишь их? Взаправду?.. – морщится он. – Апчхи!
– Будь здоров.
– Проклятая аллергия.
Если бы пакет с орехами ожил, то завизжал бы от боли – так я его сжал.
– Слышу кого?
– Ну… их.
– Или говори прямо, или я сейчас прочищу тебе уши. Чтобы и ты слышал, – рычу я, догадываясь, к чему он клонит.
– Zahnrad. Ты дружил с ними, а я считал тебя психом!
– Что здесь творится?
Мне на лоб падает первая капля. Небо волнуется за компанию с нашим поселком. Оно вобрало в себя весь дым и пепел, и поэтому такое черное.
– У них едет крыша, Захар. Люд-д-ди не обращают внимания на пустяки. Но – зря. Недавно я забыл защелкнуть замок. На море ушел. А когда вернулся, все было заперто. Ну, решил, мало ли. Захлопнул и выкинул из головы. Или папа раньше явился. А однажды свет погас вечером. Как раз тогда, когда я собирался его выключать. Ну, под-д-думал, ничего необычного. Пробки выбило, наверное. – Пашка резко умолкает и скалится. – Но нет, черт побери. Это не пробки. Это каменные существа. Месяц назад на маму упало зеркало. Разбилось на мелкие кусочки. Мама в больнице две нед-д-дели пролежала.
– Сочувствую.
Бред. Дома так не поступают. И не предают.
– Вечером к нам приперлись спасатели, – шипит Пашка. – Не милиция, не врачи. Гребаные спасатели в огнеупорных костюмах! Я бы их выгнал, если бы они нас с папой не выгнали раньше. Д-д-дом сгорел. Они его сожгли. Знали, что он сошел с ума.
– А как эти люди вас нашли? – хмурюсь я.
– Тора в тот день ошивалась на нашей улице, вынюхивала что-то. Мама кровью истекала, я вел ее к машине. Скорой же не д-д-дождешься. А Тора зыркнула на нас так, что у меня внутри все рухнуло. Она была единственным свидетелем, сечешь? Е-дин-ствен-ным. Как пить дать, она работает на спасателей.
– Ясно…
«Бред, бред, бред», – стучит в висках.
– Как мать? – выдавливаю я.
– По чуть-чуть восстанавливается. Папа спился. Еще бы, д-д-дом пятнадцать лет строил, а тут такое… в общем, все хозяйство на мне теперь. Я и огородник, и продавец, и серфингист. – Пашка жмурится и прижимает кулак к губам. – Не сердись на меня, Захар.
– А… спасатели, – я подбираю слова, но они, как мухи, разлетаются, – оставили вам контакты? На всякий пожарный.
Я глотаю нервный смешок, но тут же себя одергиваю. Пашка шарит в кармане. По его щекам текут капли, и непонятно, плачет он или – небо.
– Я не сомневался, что ты спросишь. Д-д-держи. – Он протягивает мне смятую бумажку. – Себе я новую напишу, уже наизусть их телефон выучил.
Я рассматриваю каждую цифру, каждую букву и ищу среди закорючек след Торы. Зря. Этот почерк слишком корявый для идеальной девочки.
– Люди в курсе? – спрашиваю я.
– Лишь те, у кого Zahnrad. И то – не все, – качает головой Пашка. – Д-д-другие называют спасателей убийцами и заявляют в милицию.
– Но ведь так и есть…
– Они не разрушают д-д-дома. Они спасают нас, – резко перебивает он. Его руки дрожат, и Пашка опять сует их в карманы. – Эти люди переселяют пострадавших в крохотные общаги на побережье. Но главное – в мертвые.
Из-за полосы хижин выныривает девушка. Мокрые светлые волосы лезут ей в лицо, но она не поправляет их. Таращится на меня, опасливо, настороженно, словно я минуту назад спалил очередной дом. Готов поклясться, что мысленно она проклинает весь мой род.
– О, Ило-о-онка. Красотка, скажи? – шепчет мне на ухо Пашка. – Моя жена, между прочим. Ну, пока, дружище, спешу. Волны жд-д-дать не будут! Сегодня шторм! Мы с Илонкой давно его жд-д-дали!
Я провожаю их взглядом. Они… привыкли к пожарам и просто не слышат, как дома визжат перед смертью.
Ноги подкашиваются. Я поворачиваюсь к Ласточке. Белый-белый кирпич. Мини-окошко. Мини-комната, прячущаяся за занавесками. Застекленная веранда. И сквозняками в висках Ласточкин голос: «У меня иммунитет».
Я улыбаюсь ей, как улыбаются смертельно больным, убеждая, что все пройдет.
Пройдет, птица. Только ты тоже пройдешь.
Здесь что-то творится. Эпидемия? Что, если и людям, и каменным существам пора в отпуск?
Воробей.
Дождь усиливается. Я несусь домой, спотыкаюсь, сбиваю костяшки в кровь, купаюсь в грязи и, распахнув дверь настежь, окунаюсь в полумрак коридора. Матушка не успевает отчитать меня за испорченные бриджи и футболку – я хватаю ее за плечи.
– Ты не замечала ничего необычного после того, как вы вернулись в поселок?
– Если не считать этого, – она выразительно окидывает меня взглядом, – то нет.
Я облокачиваюсь на шкаф и пытаюсь собрать мысли воедино.
– Где папа?
– В магазине. О чем ты вообще?
– О доме.
– Захар… – Матушка подплывает ко мне и гладит меня по щеке. – Ты опять за старое? Не стоило тебе приезжать. В городе…
…я почти удалил фантазию.
Я проскальзываю мимо матушки.
– Ты хоть ванну прими! – кричит она.
Но я поднимаюсь в комнату и запираюсь.
Воробей, как ты?
Не болеешь?
Конечно, нет. Ты ведь мой друг. А друзья не болеют.
Не имеют права.
Во-ро-бей…
Ты же не проломишь мне череп?
– Не проломлю.
Как я скучал по его голосу!
– Поклянись, что не заболеешь, – молю я, прислоняясь к стене лбом. – Пожалуйста, Воробей.
– Клянусь.
– Что не так с поселком?
– Zahnrad, – выдает друг.
Вечер пролетает быстро. Мы болтаем с Воробьем о жизни. Он – о тикающей, я – о студенческой. О парах до трех дня, о гнилом доме на окраине, о тараканах (не столько в кухне, сколько в моей башке), об университетской столовке и остывшей овсянке. А еще об одиночестве. И тишине.
Воробей зачарованно слушает меня. Даже занавески у открытого окна не пляшут. Если бы дом был человеком, то обязательно высоким и кудрявым. Меломаном, спящим в наушниках и растягивающим слова. Я бы делился с ним музыкой, а он – со мной.
Мы стали бы лучшими друзьями.
– Почему стали бы? – удивляется Воробей.
– Извини. Ты и так мой лучших друг, – фыркаю я. – И не лезь ко мне в башку.
– Ты громко думаешь.
– Тогда ты…
Я боюсь произнести то, что уже витает в воздухе и оседает в нас. Вопрос не в том, случится ли, нет. Вопрос в том когда.
– Разбей их, если я заболею, – чеканит Воробей. – Поклянись, что не пожалеешь меня. Я тебя жалеть не буду, ты ведь понимаешь?
Собрав в кулак самообладание, я киваю. Как же тяжело просто кивать. Невыносимо.
– Я… не пожалею. Клянусь.
Иногда только у настоящих друзей можно попросить об этом. А я настоящий.
– Как скромно, – хихикает Воробей.
– Иди в пень!
Я наслаждаюсь этим днем. Нашим. Не исключено, что последним общим. Шлю куда подальше страхи, но они вцепляются в меня, пристают вместе с грязью. В конце концов, и правда пора искупаться. Воробей притворяется, что не читает мои мысли, но полки над кроватью время от времени подрагивают.
Завтра я уеду в город, чтобы снова спросить себя: «Не привиделось ли тебе, брат?» Затем – спросить у многоэтажек и убедиться: они не ответят. А я, скорее всего, псих.
– Обещай, что будешь держаться до последнего, Воробей.
– Обещаю, – свистит ворвавшийся через форточку ветер.
* * *
– Если произойдет что-нибудь странное… – Произнеси это, слюнтяй. – Разбейте часы. Zahnrad. Ради меня. И… звоните почаще, ладно?
Я топчусь на пороге Воробья. Чемодан, кажется, весит килограммов миллион. Еще немного – и он проломит Землю.
– Что-нибудь странное? – фыркает батя. – А сын считается?
– Очень смешно, пап.
Попрощавшись с предками, толкаю дверь. Небо слепит синевой. Радуется, что я уезжаю. А я радуюсь, что Воробей по-прежнему тикает. Как никогда громко.
Я шагаю прочь и не оглядываюсь.
На остановке меня ждет новый автобус, блестящий, с красными сиденьями, а водитель будто секунду назад вышел из магазина одежды. Я возвращаюсь в настоящее, стараясь не думать, что так громко тикают лишь бомбы.
12 Ди [До]
90-ые гг.
Ди ненавидела, когда ей поддаются. Она всего добивалась сама.
Она – сильная.
До олимпиады по дискретной математике оставалось три дня. Студенты до вечера засиживались в библиотеке и зубрили формулы. Противников Ди насчитала целых четырнадцать, но не сомневалась, что победит их.
Она – целеустремленная.
И только алгоритм Дейстры портил настроение. Как его применить, чтобы получить кратчайший путь? Как не ошибиться и не уснуть?
– Помочь?
Ди вздрогнула. Над ее партой наклонился паренек с потока. Угрюмый, сутулый, бубнящий себе под нос что-то нечленораздельное, он никогда не вызывал у нее доверия. Ботан.
– Нет, спасибо, – отрезала Ди и снова уткнулась в учебник.
Но занудный паренек не отвязался:
– Здесь ты выбираешь минимум. А здесь – считаешь сумму. От второй и до седьмой вершины – все бесконечность. Да-да, теперь правильно.
Он приземлился рядом и продолжил объяснять.
Чем дольше паренек тараторил, тем отчетливее Ди понимала, какая же она дура. Задачка-то для первого класса. И если этот ботан вызубрил все алгоритмы, то…
Нет. Она выиграет.
Она – боец.
– Спасибо.
Ди захлопнула учебник, и лежащие под ним фотографии разлетелись по полу. Парнишка кинулся их поднимать, но почему-то тут же замер над снимком с заброшенным зданием и покореженными воротами.
Ди любила фотографировать дома. В основном – прогнившие, пыльные, съеденные мхом. Фото с заброшенным зданием на холме она сама обожала. На даче, в ее родном поселке, полно таких… скелетов.
– Понравилось?
– Да. Красиво. – Парнишка протянул ей фотографии, но, когда она захотела их взять, почему-то не отпустил. – Прости… – Он бросил снимки на парту. – Зачем тебе олимпиада?
Этот вопрос студенты часто задавали друг другу, ведь тем, кто занимал призовые места, давали дополнительную стипендию.
– На фотоаппарат коплю. Чуть-чуть не хватает.
– Тогда удачи. – Парнишка посмотрел на нее в упор, точно целился. Точно внезапно узнал в ней старую подругу. – Ради таких снимков ты обязана победить. Я, кстати, Захар.
* * *
Результаты олимпиады вывесили на следующей неделе. Ди изучала крохотный листок с фамилиями и оценками долго-долго. Второе и первое места разделял всего один балл. Ди победила. Теперь она купит фотоаппарат.
Захар был предпоследним в списке. Неужели он ничего не решил?
Ди встретила его в аудитории, где читали лекции по дискретной математике, и уселась напротив.
– Жаль, что ты не выиграл.
Захар ни с кем не общался. Пялился сквозь, шевелил губами и молчал. Иногда ни с того ни с сего начинал яростно лупить парту, но быстро остывал. И шептал, проглатывая гласные, коверкая слова, запинаясь: «Говори, говори, говори…»
– Я и не стремился, – пожал плечами парнишка.
– Но ты ведь самый умный на потоке. Ты… уступил мне? – спросила Ди и подалась к Захару. Их лбы почти соприкоснулись. – Тебе понравились фотографии, да?
– Нет.
– Врешь.
– Ну, тогда… – Захар облокотился на спинку стула и скрестил руки. – Подаришь тот снимок в знак благодарности?
– Не дождешься.
Ди подскочила и выбежала из аудитории. А все потому, что она – сильная и ненавидит, когда ей поддаются.
* * *
Приближалось лето. Кроме стипендии, за победу на олимпиаде ей разрешили не сдавать некоторые экзамены, поэтому Ди закрыла сессию на неделю раньше и уехала в поселок, к домам и морю. Она купила профессиональный фотоаппарат, чтобы вновь снимать покосившиеся хижины. С Захаром они виделись редко. И все было бы прекрасно, если бы летом ее братец не отдыхал на даче.
Паша учился на инженера, верил чертежам и ничему больше. Не скептик – идиот. Ди таких терпеть не могла.
Она застала Пашу в гостиной. Он сидел на полу, кусал ногти и смотрел телевизор, а под потолком летал зелено-желтый попугай. Визгливое капризное создание. У Паши их двое – Лала и Лулу. Второй, скорее всего, спал в клетке на чердаке.
В общем, ничего необычного, если не считать странность, мелькающую на экране.
Ди называла странностями происшествия, пахнущие черноземом и пеплом. А это происшествие пахло. Телевизор показывал ее. Ди резала помидоры и высыпала их в миску. Затем – укроп. А затем… Затем – попугая.
Противное создание под потолком закричало. Гостиная перед глазами Ди покачнулась, завтрак попросился наружу.
– Что? – опешил Паша. – Шутка такая, да?
Лучше бы это была шутка. Если бы он знал, что у домов нет чувства юмора… Когда у них начинаются странности, следующая станция – конечная. Пора выходить.
– Я не убивала твоего попугая, дурак. Дому померещилось. Или… Или он сам его зарезал.
– Сам?
– Дом заболевает. – Ди теребила ремешок фотоаппарата. Она носила новенькое устройство вместо бус. – Его сожгут, а мы… Мы уедем.
– Что ты несешь?
– Сколько раз тебе повторять: они живые. И они убьют тебя, если ты не опомнишься.
Ди сосредоточилась на тиканье и мысленно спросила у дома:
– Как ты?
– Хорошо как никогда, – ответил он.
На экране тем временем попугай превратился в кровавую кашицу.
– Мне надоели твои шутки. Тебе в психушку пора! – Паша поднялся и отвернулся к окну. – Возвращайся в город. Я занялся ремонтом в кухне, так что хоть рыдай – не съеду.
– К черту ремонт! – Ди старательно подбирала слова. Понимала, что бесполезно, – за всю жизнь так и не подобрала – но по-прежнему пыталась. Кто, если не она, спасет Пашу? – Он убьет тебя.
– Как ты Лулу? А я-то думал, что он улетел…
– Я не трогала его! Клянусь!
Братец снял с ее шеи фотоаппарат.
– Новый, да?
– Ага, – кивнула Ди. – На олимпиаде выиграла дополнительную стипендию.
– У тебя едет крыша из-за твоего увлечения. Лазать по заброшкам, фоткать всякую мерзость… Это ненормально. Завязывай.
Ди покосилась на телевизор. Псевдоона высыпала кровавую кашицу в миску.
– Я слышу их.
Паша внезапно зарылся пальцами в ее волосы и прошипел:
– Прости, сестренка.
А потом – швырнул фотоаппарат в стену.
* * *
Ди бежала по улице, по заброшенным участкам, по дороге вдоль леса. Она плакала и во весь голос ругала брата. Придурок. Идиот. Слабоумный. Ди так спешила, что не застегнула сандалии.
Мимо проехал автобус. Даже не притормозив, он чихнул выхлопными газами. Ди закашлялась и замедлила шаг. Куда теперь? Зачем? И… Что будет с Пашей?
Воображение тут же заменило попугая на брата. Брата, который верит только чертежам. Но четкие линии и цифры не спасут придурка-идиота-слабоумного. Его спасет лишь тот, кто слышит. А Ди, родная сестра, вместо того, чтобы заставить его уехать, обиделась и ушла.
Нет, она не боец. Она – трусиха.
Трусиха сняла сандалии и помчалась обратно, молясь, чтобы дом ограничился попугаем. Она неслась по заросшим участкам, по каменистой дороге, по раскаленной земле и не чувствовала боли.
Из-за полосы заброшенных зданий выглянул двухэтажный монстр. Ди вломилась в гостиную и выдохнула: Паша, как и десять минут назад, сидел напротив телевизора. Сейчас – выключенного.
Живой!
Ди упала на колени и обняла брата.
– Ты в порядке? Извини, ладно? Ты должен меня извинить… Господи, я так долго копила на этот фотоаппарат!..
Она тараторила и тараторила, но Паша не реагировал. Паша смотрел выключенный телевизор.
* * *
Перед тем как заглянуть в кухню к брату, Ди долго пялилась в зеркало и внушала себе: «Я сильная. Я – боец». Прошел месяц с того дня, как Паша и дом побеседовали. Ди отвезла брата к родителям. Тот почти не разговаривал, постоянно дергался и чего-то ждал. Отец записал Пашу на прием к психологу. Первое время ничего не менялось, но спустя пару недель Паша ожил. Нет, он так и не признался, что случилось. Он просто притворился прежним.
– Привет.
Ди проскользнула в кухню и приземлилась на старенький табурет. Паша выронил недоеденный бутерброд и тут же ринулся собирать крошки. Испугался?..
– Привет, – буркнул он и плюхнулся обратно.
– Извини, что давно не проведывала. Кое-что произошло.
– Что же?
– Нашей дачи больше нет.
Горькое «больше нет» подействовало на Пашу, как пощечина. Раз – он отвернулся к стене. Два – задышал, часто-часто.
– Ты позволила этим вандалам поджечь наш дом?
– Если бы я не позволила, дом бы поджог нас. И вообще, его уже ремонтируют.
– Не сходи с ума!
– А сам? – не выдержала Ди. – Что твой любимый дом с тобой сделал?
Еще пощечина. Паша сдавил чашку с чаем так, что она едва не треснула.
– Ни-че-го.
– Ты был придурком, а сейчас ты придурок вдвойне. – Ди взглянула на Пашу, как в тот день он взглянул на нее. – Прости.
– За что?
– Я бросила универ и устроилась на работу к вандалам.
13 Анна [После]
– Темыч! Те-е-емыч! – зову я, а у самой сердце скоро улетит воздушным шариком.
Кроме вас, там никого не было.
Эта фраза не дает мне покоя второй день. Я должна проверить, иначе не только Вячеслав, но и я сама исчезну.
Темыч играет в коридоре с любимым кроликом. Ерзает по полу, ноги скрещивает, как настоящий йог. Заматывает игрушку в ковер. Илона и Павел копошатся в рядах картошки, постояльцы давно на море. Мне никто не помешает.
– Чего тебе?
Темыч не поднимает глаз, но у меня – мурашки по спине. Я словлю этого мальчишку. Словлю и расщеплю на буквы.
– А… зачем вам камеры во дворе?
– У нас везде они. Защита от монстров. Весело же! Я люблю за всеми следить, но мама ругает.
– Следить – твоя любимая игра?
– Почти.
Я хочу уточнить, какое развлечение ему нравится больше этого, но прикусываю язык. Темычу нельзя задавать лишних вопросов, если не мечтаешь превратиться в плюшевого друга.
– А где ты обычно играешь в слежку?
– На втором этаже. Там мониторов куча. Напротив твоей комнаты.
Темыч продолжает пеленать кролика в ковер, да так рьяно, что игрушки уже и не видно.
– Зачем ты его закутываешь?
– Прячу от монстров.
Я выдавливаю улыбку.
– О… Ну тогда удачи.
Темыч не обращает на меня внимания и вряд ли запомнил, о чем я спрашивала. Он живет в выдуманном мире, а выдуманный мир чересчур мал для двоих.
Взлетев по лестнице, я добираюсь до заветной двери и отчаянно ловлю каждый звук.
Илона на огороде.
Павел – тоже.
Постояльцы наслаждаются морем.
Умоляю, удобряйте картошку вечно. Умоляю, не выходите из воды.
В кармане звенят ключи. Я одолжила их, когда заглядывала утром к Илоне поболтать о йоге.
Ладно, если быть точнее – украла. Благо, у Градинаровых три экземпляра, и они не заметили.
Я ищу нужный ключ и пробую вставить в замок. Не то, не то, не то…
Вытираю со лба пот. Закусываю губу – до крови.
Если я не успокоюсь, сойду с ума. Если не просмотрю записи с видеокамер, сойду с ума. Если на них не будет Вячеслава, я сошла с ума уже давно.
Щелчок.
Маленький облезший ключ с легкостью провернулся.
Я проскальзываю в тесную каморку и иду к столу. На поверхность давит стекло, а под ним – тонны фотографий и открыток: поздравления с днем рождения, грамоты, черно-белые снимки Илоны и щуплого паренька с доской для серфинга… Волны бьют их в спины, а они хохочут и обнимаются.
Поосторожнее у нас в поселке с мечтами, девочка.
Странный совет от того, кто сам не очень-то осторожничает.
Я приземляюсь на шатающуюся табуретку. Слабо гудит системный блок, монитор выключен. Меня не покидает ощущение, будто я – мишень. Один неверный шаг – и game over. Без второго шанса.
Я вывожу компьютер из режима сна. Этот умник тут же просит код. Илона и Павел не смахивают на тех, кто ставит сложные пароли, и я экспериментирую с простейшим вариантом – с годом рождения.
Илоне на вид от тридцати до тридцати пяти, и я пытаюсь угадать, в каком году она родилась. Нужно попробовать восьмидесятые. Спустя несколько попыток компьютер все же оживает.
Я свожу лопатки до боли и кликаю на диск D. Щелкаю на позавчерашнюю запись, перематываю. Еще немного. Еще.
Из открытой форточки доносятся приглушенные голоса Градинаровых.
Тот кадр я нахожу сразу. Илона подвязывает помидоры, к забору льнет раскидистая вишня, а возле дерева топчусь я. Одна.
Или…
Я щурюсь. Что, если Вячеслав за деревом? Что, если это совпадение? Я ведь нормальная?
Нет, вздор. Вячеслав за вишней.
Я вновь и вновь воспроизвожу этот момент. Ничего необычного, если не считать моих галлюцинаций. Я подскакиваю, но, обернувшись, замираю. В комнату вваливается Темыч со своим замученным кроликом.
– Ты тоже любишь играть в слежку? – сияет он. – Крутое место, да?
Проклиная свою неосмотрительность, я веду его к себе в номер и опускаюсь на корточки.
– Да, люблю. Ты ведь не проболтаешься?
– Не-а. Мы ведь друзья. Только отдай мне ключи.
– Не могу, – качаю головой я. – Твоя мама разозлится, если узнает.
– И разозлится, если узнает, что ты игралась с мониторами.
Я закатываю глаза. Маленький Темыч превращается в огромную проблему. Пора переселять его в книгу.
– Аня? – топает ножкой он.
План номер два созревает мгновенно.
– Зачем они тебе?
– Мама забрала у меня жирафа, чтобы я над ним не издевался. Но я не издеваюсь. Ему нужна настоящая операция.
– Хорошо. Давай поступим так: я провожу тебя в спальню твоих родителей, ты найдешь игрушку, и мы будем в расчете.
Темыч неохотно соглашается.
Мы выглядываем в окно: Илона и Павел до сих пор суетятся на огороде. Сбежав по лестнице, мы крадемся к спальне Градинаровых. Я подбираю ключ, а этот нахальный мальчишка лопается от счастья.
Замок щелкает. Мы юркаем в номер, насквозь пропитанный сигаретным дымом. Он ничем не отличается от моего. Разве что телевизор новее и шторы плотнее задернуты.
На тумбочке громоздятся книги. Я провожу пальцами по корешкам и вытаскиваю первую попавшуюся – «Легенды о Zahnrad». В углу форзаца размашистым почерком выведено: «У каждого есть свой сгоревший дом. Бруно от Лиды».
Я кладу книгу обратно.
Темыч извлекает из шкафа бедную игрушку. У жирафа вспорото брюхо.
– И где же он получил такую… травму? – интересуюсь я, возвращая ключи на холодильник.
– Упал с кровати.
– И… все?
– Я проснулся рано, темно было. Испугался его, за монстра принял! А под подушкой у меня всегда лежит нож. Ну и…
Мы выныриваем в коридор. Темыч вприпрыжку отправляется лечить жирафа, а я – едва передвигаю ноги.
Кровать. Ножи. Монстры. Если кто-то и выживет в борьбе с потусторонними силами, так это он, Темыч. Чудовища просто испугаются его выпотрошенных игрушек и сбегут.
* * *
Я зря беспокоилась. Или… точно спятила.
Потому что следующим утром я сталкиваюсь с Вячеславом на пляже. Зарядка закончилась полчаса назад, все разошлись, а я ждала его. Знала, что явится. Чувствовала.
Я подкрадываюсь к нему со спины. Море штормит. Вряд ли Вячеслав слышит мои шаги – их заглушает шум волн. По крайней мере, я так думаю до тех пор, пока Вячеслав не произносит:
– Здравствуй, Аня. Я ждал тебя.
– А я – вас.
Он поворачивается ко мне и как ни в чем не бывало поглаживает щетину. Его губы похожи на подкову – всегда улыбаются, всегда коллекционируют счастье. Ветер взлохмачивает полуседые волосы, тянет Вячеслава прямиком на морское дно.
– Я искала ваш дом, – сообщаю я и пяткой черчу линию на песке. Разбитая ракушка царапает ступню. – Вы говорили направо, верно? Там заброшенное здание. Или вас вдохновляют развалюхи?
Последние слова опрокидывают подкову. Вячеслав больше не коллекционирует счастье.
Я рисую пяткой вторую линию и скобку. Получается кривой смайлик.
– Ты ошиблась, Аня. Я говорил налево. И там, на окраине, белый-белый дом. Не развалюха.
– Серьезно? Скорее всего, я что-то перепутала…
– Хотите, пройдемся прямо сейчас?
– Да, давайте…
Вячеслав шагает по смайлику. Теперь у рисунка вместо глаз – огромные следы.
До дома мы идем молча. Вопросы царапают горло, но я лишь плотнее стискиваю зубы. Все мои страхи и сомнения глупые, тусклые, как лампочка, намазанная черным цветом.
Мы действительно движемся в другую сторону. Сбоку, возле автобусной остановки, кривым зубом приютился дом. Странно, что я не обратила на него внимания.
Здесь нет огорода, как на соседних участках. Заросшая трава пожирает потрескавшуюся асфальтированную дорожку.
У меня в голове снова тикает. Сердце стучит в ритм невидимым часам.
– Чувствуй себя как дома. – Вячеслав толкает незапертую калитку и бредет к крыльцу. Веранда украшена потускневшими разноцветными плитками. Он отковыривает одну из них и достает ключ.
– Беспечно, – хмыкаю я.
– Беспечно так не делать.
– Почему?
Вячеслав возится с замком.
– Мы не ждем беды извне. Мы ждем ее изнутри.
У меня появляется настойчивое желание сейчас же отсюда сбежать. Не из дома – из поселка.
Тик-так. Тик-так.
Мой подрывник отсчитывает секунды, ждет чего-то жуткого. Вячеслав попал в точку: внутри каждого, кто связан с поселком, таится нечто.
Мы окунаемся в липкую духоту дома. Пахнет яблоками и пылью. Кажется, Вячеслав этим наслаждается: наполняет легкие с таким усердием, точно силится забрать весь воздух себе.
Я осматриваюсь: лестница на второй этаж, ржавая плита, шкаф с сервизом, пожелтевшая краска на двери в какую-то комнату.
– Загляни туда, если интересно, – шепчет Вячеслав. Странно шепчет, прерывисто.
Я медлю. Внутренний голос умоляет меня замереть, а еще лучше – спрятаться подальше от дома. Подальше от поселка. Но я посылаю его к чертям – этот паникер против того, чтобы я писала книги, – и подаюсь вперед.
Тик-так.
Я ныряю в маленькую-маленькую комнату. Она пуста. Я будто в крохотном шаре – настолько в ней все по-детски, по-девичьи: шкаф с книгами, стол и стул, словно купленные в магазине кукол, миниатюрная кровать, на которой вместо хозяйки спит скрипка.
Здесь живет принцесса.
Я представляю, как она играет на инструменте, а сопрано скачет по нотам, как по ступенькам. Как мама заплетает ей косы и кормит яблоками.
Странная мелодия комкает видение. Иголкой вышивает прошлое – от уха к уху. Она где-то внутри меня, течет по венам. Играет так громко, что я зажимаю уши, лишь бы ее не услышал Вячеслав.
Мой голос изгибается раскаленной проволокой. Я начинаю петь. Фальшиво. Моя музыка распадается, как снег при минус тридцати.
– Каприс номер двадцать четыре, – комментирует Вячеслав. – Увлекаетесь творчеством Паганини?
– Нет, – шепчу я.
«Да», – шепчет Аня-подрывник.
Дерганая мелодия скрипки вновь и вновь тыкает в меня иголкой. Я ежусь. Мне почти физически больно взращивать ее в себе. Воспоминания пугают. Воспоминания кровоточат. Воспоминания горят.
Я с трудом поднимаю глаза.
Смотри на скрипку, смотри на скрипку, смотри…
И вышей себя вечером заново. В книге.
– Мне нужно докопаться до правды. – Я метаюсь из угла в угол, перескакиваю взглядом с мультяшной картины на высохшую ромашку в вазе. С миниатюрного стола на круглое зеркальце. – В этой комнате что-то… не так. Мне не очень хорошо. Вы не общались с моей мамой? Ее звали…
– Тора. – Вячеслав изучает мои родинки над бровями и даже не пытается скрыть любопытство. – Общался.
Я прислоняюсь к стене виском. Вокруг меня пляшут мебель, вещи, занавески… и только этот человек с морщинами на лбу и мутными глазами не движется. Мама была с ним знакома. Возможно, она хлопала его по плечу. Возможно, на прощание говорила «до завтра». Возможно, ерошила его волосы.
А сейчас рядом с ним – я. Вячеслав для нас как телефон – связь виртуальная, почти неощутимая, но я знаю, что она есть. Нужно лишь нажать на правильную кнопку и ни в коем случае не класть трубку.
– Откуда вам известно, кто я?
– Твои родинки. Тебя бог пометил, девочка.
– Расскажите о ней.
Вячеслав мрачнеет и, распахнув окно, вдыхает свежий воздух. Должно быть, ему надоел запах яблок.
– Я любил ее, но мы расстались.
– Почему?
– Она обожала летать. А я предпочитаю землю.
– Как вы познакомились?
Вячеслав отмахивается от моего вопроса, как от сигаретного дыма.
– Я спас ее от воров.
Тик-так.
Скоро я завизжу будильником и распадусь на шестеренки.
– И вы не пытались… отрастить крылья?
– Пытался. Всю жизнь пытался. А потом отчаялся, захотел пригвоздить Тору к земле. Но… не вышло. Я мечтал задушить ее, девочка.
Ответ стынет в горле. Ладони Вячеслава, огромные, как море, с черными ногтями сжимаются в кулаки. Мое воображение дорисовывает в них шею мамы.
Я пячусь. Игрушечная комната уже не мельтешит перед глазами и убийственным уютом напоминает маленький склеп. Если я не сбегу – она станет моим домом.
– Что вы натворили… – лепечу я.
Вячеслав садится на подоконник, смеется. Нет, не так – прожигает себя смехом. Радуется, наверное, что я никуда не денусь.
– Да не боись. Ничего я с ней не сделал. Как встретил ее, понял – не смогу. И злость вся сразу улетучилась.
Я упираюсь лопатками в стену.
– Тогда что с ней случилось?
Вячеслав не успевает произнести ни слова: на веранде раздаются шаги.
– Кто это? – вскидываю брови я и оглядываюсь.
Но Вячеслав не отзывается. На пороге комнаты появляется пожилая женщина в черном платье и красной шляпе с полями. Непропорциональная, высокая, словно ее растянули, как дрожжевое тесто.
Она снимает шляпу и бросает ее на кровать.
– Кто вы? – и смотрит в пустоту. Куда-то, где нет ни людей, ни миниатюрных спален.
– Я… коллега Вячеслава. А вы его мать, да?
– О ком вы, дорогая? – недоумевает женщина. – У меня нет сына.
Я поворачиваюсь к окну и ужасаюсь: Вячеслав исчез. Лишь ветер треплет занавески.
– Секунду назад он был здесь. – Комната тает, как воск, и вместе с ней таю я. – Мужчина. Клялся, что это его дом. Думаю, он сбежал через окно…
Женщина обходит спальню, быстро, дергано, а затем – каменеет в метре от меня. И пялится на мои родинки. Странно: в городе на них никто не обращает внимания, а в поселке они… гипнотизируют.
– Что с вами?
– Нет-нет, я в порядке… Аня.
– Да кто же вы?
Я чувствую себя известной актрисой. Куда бы я ни пошла, с кем бы ни говорила – спина болит от налипших взглядов. Все знают, кем я была, кроме меня самой.
– Зачем ты приехала? Зачем? – Женщина впивается пальцами в мои плечи, срастается со мной. – Возвращайся в город!
Ее глаза скоро выпадут и закатятся под кровать. Ногти – проткнут меня, как игольницу. Скривившиеся губы – лопнут.
– Я ищу себя. Поможете мне?
Еще немного – и этот вопрос потеряет смысл, состарится и обзаведется морщинами.
– Пожалуйста. – К горлу подступают слезы – это она, странная женщина, выдавливает их из меня цепкими пальцами. – Мне больно.
Как же мне больно.
Я становлюсь такой же сухой и высокой. Женщина тянет, тянет меня за собой, а кости превращаются в тонкие палки.
– Живые дома. Они не примут тебя. Ты слишком долго не приезжала. Я умоляю тебя, Аня… Ты же хорошая девочка. Не дружи с домами.
– Но…
– Уезжай, идиотка!
Я вытираю слезы тыльной стороной ладони. Женщина сумасшедшая, как и Вячеслав. Эти двое ничем мне не помогут.
Вырвавшись, я пячусь к кукольному столику. Хватаю карандаш и листик, записываю номер.
– Если все же решите поговорить начистоту… Звоните. – Сказав это, шагаю прочь.
Я бреду по улице и наблюдаю за людьми. В косынках и с косами, в очках и без, молодые и старые, в резиновых сапогах и во вьетнамках – все разные, но сумасшествие их объединяет.
Эта огромная машина, запущенная в далеком прошлом и называющаяся поселком, дала сбой. Она разваливается, искрит и отдает гарью, но никто не чует запаха. Машина ревет все громче и громче, и, когда ее голос осипнет, она взорвется. Море уцелеет. Мы – нет.
Но пока люди пашут, тонут в собственном поте, улыбаются друг другу и прогоняют чужаков. А по вечерам пьют чай и беседуют с домами.
* * *
Мне снится огонь. Он везде. Он пожирает мои руки. Я развеваюсь пеплом и со мной развевается дом. Мы рушимся, потому что срослись миллиарды лет назад.
Я зову на помощь, но никто не слышит. Или никто не хочет слышать. Умоляю, чтобы кто-нибудь собрал меня заново, посадил в автобус и отправил на другую планету – подальше, подальше от тиканья.
Я кричу, но из горла вырывается лишь скрип лестницы.
Я моргаю, но все, что у меня получается, – хлопать окнами.
Я плачу, но слез нет, – есть только протекающая крыша.
И мама. Голос мамы – громкий, чистый – заглушает даже тиканье. Она ищет меня – тщетно. Я растворилась в штукатурке.
Рас-тво-ри-лась.
Я просыпаюсь внезапно, словно кто-то швыряет меня обратно в кровать. Безжалостные полуденные лучи обжигают кожу, но это приятное тепло.
Я больше не горю.
Я больше не дом.
На часах – полдень. До трех утра я писала главу. О тайнах Градинаровых, о тайнах поселка и… о своих – тоже.
Вячеслав в который раз меня обманул. Или его действительно не существует. И если так, существую ли я? А та женщина, хозяйка дома? Мы с ней близки, я ощущаю связь на уровне тиканья.
После сна во мне что-то поменялась. Мысли до сих пор тлеют, голос скрипит. Заброшка и этот белоснежный дом будто выжгли на моем лбу клеймо. И единственный способ от него избавиться – избавиться от головы.
Вообрази, герой: тебе на макушку падает люстра. Щелк – и тебя нет.
Лидия меня предупреждала. Вот почему она выносливее молодых девчонок на тренировке – она борется с ними.
Нет, это сказки.
Я ругаю себя за глупые страхи и сползаю с кровати.
Лидия сама не знает, во что верит, но… проведать ее нужно. Сегодня у нее выходной, поэтому придется взять у Илоны адрес нашей волшебницы, а не повара.
Лишь бы поверить хотя бы во что-то.
14 Захар [До]
Я проживаю еще пять месяцев, ведущих к пропасти. Чем дольше я ем дурацкую овсянку, тем отчетливее ощущаю, что сам в нее превращаюсь.
А потом наступает июль и самый прекрасный день. Я сдаю экзамены на отлично и соглашаюсь прогуляться с сокурсниками. Удивительно: это даже интересно – общаться. «Почти друзья» не косятся на меня, как на долбанутого. Хохочут так заразительно, что я тоже не сдерживаюсь.
Странно, что они не пахнут штукатуркой.
Странно, что их сердца не тикают.
Странно, что у них вместо окон – глаза.
Слушая болтовню приятелей, я почему-то вспоминаю, как уютно в кухне у Торы. Как воздух сочится яблочным нектаром, а не перегаром. Как шепчет Ласточка, а не пьяный товарищ. Я нащупываю в кармане мелочь и, когда мы пересекаем улицу и натыкаемся на старушку, продающую яблоки, покупаю килограмма три.
Вечером я впервые готовлю сладкое. Вообразить только: мука, яйца и сахар – это все, что нужно для пирога. Никаких тебе заклинаний. Получается вполне съедобно. Я обещаю себе, что завтра угощу сокурсников. Они ведь… почти друзья. Налив чай, я разрезаю свое произведение искусства.
Пауки уже не кажутся неприветливыми, овсянка – противной. Я не чувствую себя ни Кирпичом, ни слюнтяем. Все прекрасно, что у меня случается редко, и я бы написал, что день удался, если бы телефонный звонок не поселился в нем, как вирус.
На часах – полночь. Хватая кусочек пирога и откусывая от него, я беру трубку.
– Захар Иволга? Das ist Herr Schulz[14]. Я по поводу Zahnrad, – кряхтит кто-то. – Ваш дом… заболел. Просим вас приехать.
По спине бегут мурашки. Треугольник пирога падает.
– А родители?
– Их пока не нашли…
Нет. Нет, нет, нет, это вранье.
Яблочный аромат душит меня. Я пинаю кусок пирога и тащусь в ванную. Кран фыркает. Умывшись ледяной водой, я швыряю кулак в стену, чтобы не отключиться.
Воробей, Воробей, где же твои крылья?
* * *
Я доезжаю до поселка минут за пятнадцать – спасибо водителю автобуса, гнавшему так, словно за нами неслось торнадо. По хребтам пробок, по рельсам, по ямам – водителя это только подстегивало.
Над нашим участком клубится дым. Зеваки слоняются по улице, украдкой зыркают на очередную жертву.
Спасатели в серых огнеупорных костюмах толпятся у дома. Вокруг – кольцо машин.
Воробей, мой преданный воин, болеющий левосторонним сколиозом, горит.
Я успел на кульминацию. Как жаль, что успел.
Рядом со скорой лежит нечто, смахивающее на тело. Застывшая овсянка красного цвета.
Тошнит. Как же тошнит… Я умоляю себя зажмуриться, но вместо этого, придурок, впиваюсь взглядом в ошметки лица. Папа.
Я опускаюсь на колени и рою ладонями землю. Глубже. Глубже. Я не прекращу, пока не доберусь до противоположной точки Земли – туда, где нет живых домов.
Папа.
Я пытаюсь позвать его, но голос исчез, улетел к мертвым искать моего батю. Мы с родителями любили смеяться за ужином. По крайней мере, до тех пор, пока фантазия ребенка-что-то-не-так не воспалилась. Я засыпал с улыбкой.
Папа.
Он догадывался, куда я деваю пилюли, но не выдавал меня. Батя был на моей стороне.
Под пальцами образовываются маленькие ямки. Кусочки земли и травы летят на потрескавшиеся мертвые губы. Я вытаскиваю из кармана платок и силюсь вытереть грязь – бесполезно.
Папа, папа, папа…
Вернись.
Пожалуйста.
Его уносят в машину. Я подаюсь за ним, но через миг каменею: дом кряхтит и выплевывает троих человек. Хотя нет – четверых. Последний лежит на носилках.
Я подрываюсь и мчусь к ним, а мои ноги… ноги заржавели и скрипят. Это матушка. И она шевелится. Вся в крови и пепле, но живая. Живая! Меня оттаскивают от нее, заламывают руки, и как бы я ни сопротивлялся, как бы ни обзывал этих тварей – тщетно.
Матушку прячут в скорой. Двери захлопываются. Я пинаю ботинком колеса и посылаю спасателей (убийц?) к черту. Меня прижимают к забору, и скорая газует. Нас окутывает пыльная дымка.
Я поворачиваюсь к Воробью. Вот уж правда – в глазах пляшут огоньки. Охваченная пламенем штора сигает из окна и зацепляется за подоконник. Самоубийство не удалось. Пожарные носятся со шлангом.
Ты же обещал, друг. Что с тобой случилось?
Надо мной, на яблоне, чирикают воробьи. Я луплю по дереву, сбиваю костяшки в кровь. Птицы разлетаются. Им здесь не место.
А Воробей… Воробей плавится, течет воском.
Прощай, друг.
Спасатели облокачиваются на забор и наблюдают за суетой пожарных. Они отработали. Худощавый паренек клянется, что завтра охмурит очередную красотку. Его друг сообщает, что взял билеты на футбольный матч. Третий, зевая, говорит, что море он не променяет ни на красоток, ни на матчи.
Их беседа обволакивает меня, зажимает рот и нос, душит не хуже угарного газа.
Нужно остыть. Нужно посчитать до десяти.
Раз.
Два.
Да пошло оно.
Я стискиваю зубы. Кулаки каменеют. Мир смазывается, словно постиранный и полинявший. Пора сдавать его в химчистку.
– Вы же спасатели! – рычу я.
И – выбиваю улыбку из чертового футболиста.
– Почему вы не помогли им? Почему вы приехали так поздно?
Спасатель, охмуряющий красоток, толкает меня. Я теряю равновесие и, пройдясь виском по забору, падаю.
– Успокойся, парень. Мы сделали все, что от нас зависело. Соболезную.
На зубах хрустит песок. Воздух пропитан гарью и пеплом. Я шевелю губами, но голос застрял осколком в глотке. В рот набивается земля.
Футболист поднимает меня и тащит в служебную машину. Я не смотрю вперед – боюсь.
– Будет. Будет тебе. Твою мать спасут. Держись ради нее. – Он хлопает меня по плечу и машет приятелям. – Поехали за ними, пацаны!
В салоне душно и пахнет бензином. Щелк – заводится двигатель. Машина набирает скорость. Трясет так, точно водитель специально наезжает на камни. Я представляю, как врачи склоняются над матушкой и кружатся, как снежинки в маленьком прозрачном шарике, только в роли Деда Мороза – самый родной и одновременно чужой для меня человек. У матушки тоже красный костюм, но – из кожи.
Она не подарит мне железную дорогу.
На этот раз сломался Дед Мороз. Но я не выброшу его. Паровоз ведь не выбросил.
Что же ты натворил, Воробей? Я думал, у тебя прививка.
Мы несемся навстречу больнице. Я молюсь, чтобы снежинкам-врачам было ради кого плясать и чтобы они не осели.
Во мне, где-то на уровне сердца, дымится мой собственный дом.
Ворон и Воробей в отпуске. Они… закончились. Лучше бы вместо дружбы с ними я купил карамельки – их бы точно хватило на более долгое время. А еще – карамельки бы не сошли с ума.
Батя мечтал, чтобы я носил серый костюм. Мол, цвет обалденный. Я не любитель, но… огнеупорный – в самый раз.
У меня не осталось друзей – теперь будут жертвы.
Я убью их.
Всех до последнего.
* * *
Белый кафель. Запах хлорки. Шарканье и шепот. Лица. Много-много чужих лиц.
По пути в больницу футболист признался, что на батю упал трельяж. А матушка была в кухне, и Воробей ее запер.
– Мы наткнулись на Zahnrad, – объяснял спасатель, водя пальцем по стеклу. За окном мелькали куцые поля. – Ты пойми, брат, мы ни за что не убили бы дом, пока не нашли бы твоих родаков. Но когда я взял часы, эта сволочь приперла меня к стене шкафом. Илюху и Валика вообще оглушила. Пришлось действовать.
– Кто вам позвонил?
– Коллега наша. Она с нами работает, помогает дома проверять.
Троица высадила меня на пороге больницы, а сама умчалась охмурять красоток, наслаждаться матчем и купаться в море.
И вот я здесь. Подпираю лопатками спинку плюющегося поролоном стула.
Меня окликает врач – высокий мужчина с абсолютно равнодушными глазами. Привык, видать, приносить плохие вести.
– Прооперировали, – сообщает он. – Состояние тяжелое. Нужно пересаживать кожу, ожоги четвертой степени.
А потом называет сумму.
Я пытаюсь сравнить ее со стипендией. Нет, глупо… Мне придется ломать тикающие сердца хотя бы ради того, чтобы накопить денег на операцию.
Я проскальзываю к матушке – всего на минуту. Она спит. В коконе из бинтов, с иголками, торчащими из вены. Что ей снится? Надеюсь, не Воробей.
Прости, мам. Я не пил пилюли. Их глотал унитаз.
Прости, мам. Батя видел.
А теперь бати нет.
За это – тоже прости.
Больница ютится на окраине города. Я покидаю ее поздней ночью и тащусь домой – к остывшей овсянке. К ненавистным паукам.
Полгода назад предки сказали, что я повзрослел. Ни фига. Я должен был – черт возьми, должен был! – спросить у потолка, как дела, окончательно сбрендить, чтобы они не уехали. Дом бы умер в одиночестве.
Что с тобой не так? А, Воробей?
Мое «не так» растворилось в городе и сейчас восстанавливается по крупицам из пыли, брусчатки и горбатых фонарей.
* * *
На похороны съезжается весь поселок. Люди молчат, но знают, из-за кого воздух пропитан гарью. Они боятся, что, если раскроют рот, их дом заразится безумием. Но на самом деле сумасшествие рождается в тишине.
Я перевожусь на заочное отделение и каждый день звоню по номеру, который дал Пашка. Раз. Два. Десять. Еще немного – и трубка сама завизжит, как попугай, мерзкое «вакансий нет». Убивать дома – единственное, что я умею, а меня посылают.
Я бегаю по вечерам – чтобы забыть о сегодняшнем звонке и настроиться на завтрашний. Свежий воздух хорошо проветривает мозги. Отрезвляет.
В перерывах мне трезвонит матушкин доктор. «Когда заплатите?» Очередная фраза для попугая.
– Захар Валерьевич, – причитает он, – у нас мало времени.
Я швыряю трубку в стену и ерошу волосы. Ноги не держат, я оседаю на протоптанный линолеум.
Решайся, слюнтяй.
Повторив заготовленную речь, я подползаю к телефону и прислоняю трубку к уху. Слава небесам, гудит. Пальцы тарабанят по кнопкам.
– Алло. – Я коверкаю голос и накручиваю провод на запястье.
– Добрый вечер.
Это он. Тот, кто привык выносить приговор.
– Я по поводу Zahnrad.
Дыши, дыши, дыши. Расслабь кулаки. Не калечь телефон. Прикинься жертвой.
– Wer ist das[15]?
– Я… я спешил на работу, но замок заел. Через окно тоже не выбраться – шкаф упал прямо перед моим носом! И люстра. Он запер меня.
Я диктую адрес.
– Ждите спасателей.
– И еще кое-что… – с замиранием сердца продолжаю я. – На обоях выступила надпись.
– Какая?
– Тора.
– Тора?
Я до крови закусываю губу. Это же так легко – блефовать. Почему я трясусь, как школьник с сигаретой на заднем дворе?
– Возможно, он кого-то зовет? Как думаете?
– Возможно, – чеканит герр Шульц. – Спасатели выезжают. Auf Wiedersehen[16].
Связь разрезают гудки. Я пялюсь на себя в зеркало. Красные пятна расплылись по щекам и шее… Это герр Шульц наследил. Распознал мое вранье и вывел его алыми островками.
Я спотыкаясь и тащусь в спальню. Матушку прооперируют, когда я добуду деньги. Я правильно сделал. Правильно.
Пусть меня примут за идиота – Тора все поймет. Она обязательно поможет. Хлопушка добрая, даже если у ее доброты сели батарейки.
Я приземляюсь на подоконник и не свожу взгляда с настенных часов. Им повезло – они не сойдут с ума. Потому что мертвые.
Я успеваю окаменеть, слиться со шторой, превратиться в дополнительный стежок на вышитой гардине, прежде чем появляются они. Колотят по двери, выбивают ее.
Придется постараться и починить замок до приезда хозяйки. Иначе я получу в голову не от дома, а от вполне живого человека.
Вдох-выдох.
Если Тора с ними, у меня есть шанс. Если нет – тоже. По крайней мере, на столовку и рубаху с чересчур длинными рукавами.
Пол вздрагивает, я – с ним за компанию. Жаль, что он немой. Или… Жаль, что я давным-давно оглох.
Хруст. Шаги. Голоса. Они внутри. До них сейчас дойдет, что Zahnrad в доме нет.
Кто-то гремит тарелками в кухне, а кто-то крадется ко мне в спальню. Я массирую виски и мысленно твержу, для чего затеял этот маскарад. Не получится сегодня – не получится никогда.
– Здесь чисто! Клиента нет, имени твоего не нашел. Обыщи спальню или что там… – Возня и лязганье. – А я шкафами займусь.
И снова шаги. На этот раз я знаю, чьи они. Виктория.
Спаси меня, Хлопушка.
Дверь распахивается. Я подскакиваю и улыбаюсь во все тридцать два. Кретин.
На пороге застывает Тора. Волосы собраны в хвост. Серая форма висит на ней. Хлопушка тонет в складках грубой ткани и вот-вот исчезнет бесследно. Наверное, в этой конторе не шьют мини-костюмы. Какой была Тора, когда Ворон еще тикал? Бледной? Нет. Губы плотно не сжимала. Шрам не рассекал левую бровь. Она была воздушной.
Чужая Хлопушка. Надкусанная сладкая вата.
Тора запирается, но не спешит ко мне.
– Я сразу поняла, что это ты. И все равно поехала. Идиотка.
– Я тебя ждал.
– Твой дом… я в курсе, что произошло. Как ты?
– Лучше не спрашивай.
Тора опускается на кровать и закрывает лицо ладонями.
– Что же ты натворил…
Я подаюсь к ней и зарываюсь пальцами в ее волосы. Мягкие-мягкие, как раньше.
– Что же ты натворил, Захар? – повторяет Тора.
– А ты?
– Я защищаю людей! Почему ты постоянно упираешься? – Она подрывается и заламывает руки. – Они догадаются. Они заберут тебя к нам.
– Отлично. Давно мечтал разобраться во всей этой жести.
– Нет! – Ее бледное лицо багровеет. – Там… Там не место для таких, как ты.
– Для каких?
– Для таких нерешительных, – выдавливает Тора, но это явно не то, что она хотела сказать.
Слабак?
Слюнтяй?
Кирпич?
– Чайник с накипью, да? – фыркаю я и запрокидываю голову. Мертвый потолок ослепляет меня белоснежной штукатуркой.
Не-е-ет. Я нерешительный, только и всего.
– Прости. – Тора упирается щекой в мое плечо. – Прости, Захар… я глупость сморозила, слышишь? Глупость.
– Я буду с вами. Против ты или нет, – шиплю я, схватив ее за запястье.
Тора высвобождается и трет кисть, точно от моего прикосновения у нее тут же раздулись волдыри.
– Хорошо. Но для начала ты пройдешь экзамен. Я буду ждать тебя завтра в офисном здании Zahnrad. Это через пять кварталов отсюда.
Она выныривает из спальни и зовет коллег. Ее окружает кучка спасателей.
– Ошибка. Ложный вызов. Паранойя у парня. Недавно отца потерял из-за Zahnrad. Никак не придет в себя.
Не оглядываясь на меня, Тора сжимает кулаки, зыркает на коллег, и под ее напором их подозрение ослабевает. Я для них снова обычный человек.
Нормальный.
Не слышащий ни черта, кроме болтовни людей и телека.
Даже не попрощавшись, спасатели рассеиваются, как темнота перед огнем. Но на этот раз сгорел не дом – на этот раз сгорел я.
15 Захар [До]
Мою Хлопушку, маленькую беззащитную Тору заменили на фигурку из железа. Она здоровается со снующими из кабинета в кабинет спасателями и шагает все быстрее и увереннее. Я тащусь следом, но Хлопушка даже не оглядывается. Дошло до нее, наконец, что я не отцеплюсь и тем более не смоюсь.
Сегодня у меня экзамен.
Стены облеплены стендами, потолки – ребрами люминесцентных ламп. За десять минут нашего спринта каменный лабиринт успел мне порядком надоесть. Должно быть, мы будем бродить по нему лет четыреста, а потом нас прооперируют и заменят наши органы на шестеренки фирмы Zahnrad. Мы превратимся в часы.
– Тора, подожди! – кряхчу я. – Да подожди же ты!
Хлопушка сбавляет скорость и закусывает губу. Растрепанный хвостик, смешно покачиваясь, дает хозяйке пощечину. Мол, вспомни, кто ты, дурочка.
– Мы спешим, Захар. Чтобы ты понял, куда попал. – Тора хватает меня за локоть и тянет за собой. – Я не собираюсь тебя отговаривать. Решай сам, что для тебя важнее, когда сдашь экзамен.
– Экзамен для новичков, надеюсь?
– Как по-твоему, почему спасатели такие живучие?
– Экстрасенс из меня неважный.
– Они не треплются по пустякам!
Мы ныряем за очередной угол и – слава небесам! – оказываемся в тупике, щедро нафаршированном железными дверями. Тора притормаживает у девятой и выуживает из кармана ключи.
Щелчок – и мы проскальзываем в помещение, больше смахивающее на мини-коридор (куда же еще могла привести меня мини-девочка?). Потрепанное кресло, телевизор на тумбочке, рядом – часы с золотистой надписью. Стеллажи выстроились кривыми шеренгами. Странно, но полки завалены не книгами, а медикаментами, жгутами и шприцами.
В конце «коридора» темнеет проход. Портал, ха-ха.
– Зачем вам бинты? – интересуюсь я.
– Чтобы ты не сдох. Экзаменационная комната там. – Тора кивает в сторону портала. – Я буду следить за тобой через телевизор. Никаких глупостей. Выбирайся сразу же, как найдешь Zahnrad. Чем быстрее, тем лучше.
– Так вот же часы, – хмурюсь я и дотрагиваюсь до тикающего сердца с золотистой надписью.
– Это не те. Вперед, Захар. Удачи.
Тора тащит меня к проходу и заталкивает внутрь. Я попадаю в обычную квартиру.
Нет, ну действительно портал!
Что ж, поиграем.
Кто не спрятался, я не виноват.
Я просачиваюсь в спальню. Пыльное зеркало, календарь с фотографиями растений, сушеные абрикосы на пожелтевшей газете – все намекает, что я здесь лишний. В кухне фыркает радио. Шансон?.. Сквозь стекло улыбается веревка с сохнущей простыней в розочку. Балкон на троечку: окна упираются в кирпичную стену. Это единственное, что помогает не забывать: я на проклятом экзамене.
Я обыскиваю гостиную. Люстра с абажуром покачивается, машет мне. Трельяж усмехается трещиной на зеркале.
Наверное, сейчас из ванной выйдет седая женщина с фиолетовыми бигуди. Она занимается садоводством. Печет пирожки с вишней и продает их на ближайшей площади. По вечерам – сериалы. В мире этой женщины люди не охотятся на Zahnrad, а Zahnrad не охотится на людей. И если бы мне предложили накрутить бигуди, чтобы поменяться с ней ролями, я бы тотчас помчался в магазин за фиолетовыми брусочками.
Но в квартире пусто, даже часы не тикают. Они умные. Знают, что я по их душу.
В кухне, в забитой мойке, утопились доска для резки овощей и нож. Я вцепляюсь в них, как в щит и меч.
Домашний воин готов к бою.
Я спрашиваю у дома:
– Как тебя зовут?
А он отвечает:
– Ворон.
Во-рон.
Я запрокидываю голову. Потолок крутится каруселью.
Конечно, как я сразу не догадался. Вот же они – оранжевые выцветшие обои, шашки, разбросанные по обеденному столу, холодильник, усеянный магнитиками.
Что такое уют, если не магнитики на холодильнике?
А за шкафом… наши ладони, тщательно прорисованные мелом.
Тора. Она все подстроила и теперь выдавливает из меня силы. Удивительно, что я до сих пор не лежу под землей и по-прежнему выполняю капризы несносной девчонки.
Я стираю рукавом рисунок и направляюсь к «порталу». Предвкушаю, как выскажу Торе все, что о ней думаю, но внезапно пол начинает вибрировать. И это не трамвай. Я не спутаю подобное ни с чем.
– Ты болен, Ворон?
– Дома не умеют болеть.
Ты прав, друг. Дома просто уезжают на море.
Его голос кажется мне смутно знакомым.
Я стискиваю нож и доску – где бы раздобыть доспехи? – и обыскиваю спальню. Часов нигде нет. Роюсь в шкафах. На пол летят платья, парики, расчески, книги – все что угодно, кроме железного сердца.
– Почему? Почему у меня в ушах не тикает? – вспыхиваю я. – Живые не могут без Zahnrad.
– Ты же можешь.
– Трудно возразить, – фыркаю я, опираясь на подоконник. Если Тора надеется, что я поведусь на это, она вдвойне дурочка. – Кто твои хозяева, Ворон?
До коридора – шагов десять. Скорее всего, дверь в спальню захлопнется, если я не потороплюсь. А впрочем, дома раз в сто проворнее людей, бессмысленная затея. Бессмысленная для тех, кто не умеет заговаривать зубы.
– Они любили кота и обожали играть в шашки… – шипит псевдо-Ворон.
Я крадусь к «порталу» на цыпочках, как чертова балерина.
– Хозяин был моряком…
Надо мной громоздится полка с книгами. Я поддерживаю ее рукой – мало ли что выкинет псевдо-Ворон.
– Они обвели ладони…
Пол вздрагивает. Я выныриваю из-под полки, и она падает, чудом меня не задев.
– В восемьдесят три хозяйка умерла от инсульта…
С потолка сыплется штукатурка. Тающий снеговик, не иначе. Я прикрываю себя доской вместо зонтика.
– В девяносто скончался хозяин. Уснул и не проснулся…
Я с ужасом представляю, как этот монстр будет трепаться обо мне со следующими студентами. «Он отбросил коньки от обильного кровотечения прямо у порога. Я прибил его шкафом и заколол осколками разбитого зеркала».
До коридора мне не хватает всего шага, и дверь дает мне подзатыльник, точно желает побыстрее вытолкать вон.
Я теряю равновесие, но чудом остаюсь на ногах.
– Они хотели ребенка, но их мечта не сбылась. Купили кота к старости, чтобы о ком-нибудь заботиться. Знаешь, что с ним случилось?
– Что?
Из кухни раздается тиканье. Что, если я, слепой кретин, не заметил Zahnrad? Что, если разгадка близко?
Я в два счета оказываюсь там, где были обведены чьи-то ладони. Дом не убьет меня. Не успеет. Я только проверю…
– Он сбежал. Любил облака. Мурлыкал мне, что там его сердце. Он единственный чувствовал, что я не просто кучка кирпичей. Все коты это чувствуют. А люди зажимают уши.
Я роюсь в шкафах, но не нахожу ничего, кроме заплесневелого хлеба. И уже думаю валить отсюда, как вдруг ящик захлопывается и с аппетитным хрустом жует мои пальцы.
Я отпрыгиваю.
Вспоминаю все известные мне ругательства.
Ногти горят огнем.
А через миг включается песня. Та самая.
Нет, я не выдержу взгляд этот из-под бровей.
Глаз – правильный квадрат на пустой голове.
На полке рядом с чашками стоит проигрыватель. С царапиной посередине и мутными глазами-динамиками. С улыбкой, нарисованной фломастером.
Это он. Мой личный Вячеслав Геннадьевич.
Я тянусь к нему, забываю о боли, о том, где я и где Тора. Погружаюсь в теплый летний день – день рождения Хлопушки. Вот тот фломастер. Вот растрепанные косички. А вот я дарю Торе проигрыватель и кассету с композициями Тартини.
А она танцует. Где-то по соседству со звездами.
Щелчок.
В кухне что-то меняется – вибрирует, кряхтит, пульсирует.
Жаркий летний день обрастает уродливыми очертаниями псевдо-Ворона. Я мотаю головой, отгоняя видение, – не сейчас – и отскакиваю как раз вовремя: чашки летят на пол с такой скоростью, словно их швыряет обезумевший кролик. Или дом.
Я озираюсь. Засохшие фиалки, просроченные леденцы в вазочке, пыльная салфетница, дырявые тапочки без помпонов, запах сырости, а не пирога и орехов, разбитый сервиз и проигрыватель, картина с облаками… Кусочки ваты разбросаны по небу, как на столе перед операцией. Готов поспорить, где-то за ними прячется скальпель.
Я застываю и охаю.
Он сбежал. Любил облака. Мурлыкал мне, что там его сердце.
Не обращая внимания на маленькое сумасшествие танцующей мебели, я снимаю картину.
Тик-так.
В крохотном углублении стучит сердце с золотистыми буквами на циферблате.
Я нашел тебя. Теперь считаешь ты.
Замок на «портале» цокает. Квартира выплевывает меня, как надоевшую жвачку, но Тора преграждает мне путь. Бормочет что-то невнятное, гладит царапины на виске и трясется так, будто заразилась безумием Zahnrad.
Я притягиваю ее к себе. Секунд пять мы гипнотизируем друг на друга, пытаемся сложить мозаику из прошлого, но – тщетно. Какой-то элемент потерян.
– Волновалась за меня?
– Как и за любого студента, – отмахивается Тора. – Поздравляю. Ты зачислен.
Но произносит она это холодно, как произнесла бы любая молоденькая ассистентка, если бы я завалил экзамен.
– А как же аплодисменты?
– Похлопаю на твоих похоронах, – морщится она и отстраняется.
Гипноз не подействовал. Кусочек мозаики так и не нашелся.
– Я чайник, да?
– О да, ты полный чайник.
Только сейчас я замечаю, что телевизор мерцает. Экран поделен на маленькие квадратики: в углу темнеет проигрыватель, за ним – ряд фиалок, после – шашки, рассыпанные крупой по столу. Хлопушка наблюдала за моими мучениями. Я подавляю желание сию же секунду опрокинуть на себя шкаф.
Тора выключает телевизор.
– Ты понимаешь, о чем я.
– Нет, не понимаю, Захар.
– Зачем ты создала его копию? Он же… наш. И ничей больше.
– Ребята попросили помочь. – Тора отворачивается и делает вид, что ее очень заинтересовали обои. – А я… я боюсь его забыть. Уж лучше так.
– Твой проигрыватель неплохо разряжает обстановку.
– Твой, – поправляет Тора.
Обогнув меня, как дряхлую табуретку, она наваливается на дверь и скрывается в коридоре. Я спешу следом. Мы вливаемся в поток людей. Спасателей?.. Никогда не думал, что там, где занимаются убийствами домов, может быть настолько шумно.
Мы пересекаем темный пролет. Длинная лампа, рассекающая потолок, мигает, трещит, подает сигнал SOS. Будто внутри у нее умирает человечек и его срочно нужно освободить. Скрежет слышен даже здесь, где голоса почти материальны и путаются под ногами армией крыс.
– Нам на третий этаж, – сообщает Тора.
На лестничной площадке мы сталкиваемся с мужчиной в странных очках. Форма линз похожа на ту самую умирающую лампу. На нем серый костюм размера шестидесятого, который, кажется, вот-вот треснет.
– Тора? Я как раз за тобой! – восклицает он.
Герр Шульц?..
Его баритон выуживает откуда-то из-под кожи тот вечер, пихает его в стеклянный шар и демонстрирует мне. Наслаждайся.
– Кто это? Ты была с ним в девятой комнате? Вас видели!
Железный солдат по имени Тора превращается в мини-девочку. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не врезать герру Шульцу. Ради какого-то толстяка она снимает броню, а мне даже не разрешила к ней прикоснуться.
Тора сжимает кулаки.
– Он сдавал экзамен.
– Экзамен? Сколько месяцев он тренируется? Или лет?
– Захар новенький… – На ее лбу проступает вертикальная морщина. Глубокая, чужая, раскраивающая молодую кожу, делящая Хлопушку на две симметричные части. Правая – солдат, левая – моя мини-девочка. – Клянусь, я бы ни за что не подвергла его такой опасности! Я все контролировала.
– Ты не в себе, – багровеет Шульц. – Das ist schrecklich[17]!
Его лоб лоснится, словно облитый фритюром.
– Я. Все. Контролировала.
– Марш ко мне в кабинет!
Наша странная компания устремляется в конец коридора, а затем – каменеет перед массивной дверью. Но герр Шульц не успевает нас впустить: его окликает девица в ярко-розовых лосинах. Лак на ее ногтях облупился и выглядит, как мини-карта Карибских островов.
– Приветик! Я к тебе насчет Дианы. Или ты занят? – Девица с подозрением косится на меня.
Она старше нас на лет десять, если не больше, но голос совсем детский.
– О, надо же. Все в сборе. Что ж, прошу.
Мы проскальзываем в кабинет, заваленный часами и бутылками спиртного. Высокие стулья, стойка, тянущаяся вдоль стены, бокалы… Если бы не разбросанные повсюду документы, помещение вполне бы походило на бар.
Герр Шульц приземляется на край стола и снимает очки.
– Кого же ты привела, Тора? – спрашивает он и протирает стеклышки-лампочки краем галстука. – Нам очень интересно.
Девица в лосинах плюхается рядом с ним и обнимает его за плечи. Тора касается моего запястья, молчаливо просит о помощи, но здесь, в серых каменных сотах, этот жест явно лишний.
– Позвать твоих родителей? – цедит герр Шульц.
– Нет… – хрипит Тора. – Нет. Дело в том, что… Захар не понимал, куда ввязывается. А я объяснила.
Человек-фритюр высвобождается из объятий девицы и шагает к нам.
– Не понимал? Как так? Он ведь с рождения слышит?
– Да, но он не знал о нашей… о нашей организации.
– Почему? Вы ведь с ним друзья. Или нет?
– Бруно, ты что, слепой? Они же влюблены друг в друга по уши. – Девица подплывает к герру Шульцу и начинает массировать ему шею. – Как тебя зовут, герой?
– Захар, – выдавливаю я. – Хочу работать у вас.
Тора отпрыгивает в сторону. Если бы она была ежом, то, наверное, свернулась бы в клубок от моего заявления.
Девица взлохмачивает волосы.
– Во-о-от! Он пришел, чтобы спасать людей от Zahnrad. Все не так плохо, милый.
– Но она отвела его в комнату номер девять, Лида. Как на экскурсию!
– Я займусь наказанием наших голубков, если позволишь.
– Ладно, – неохотно сдается тот. – Если вы двое приблизитесь к той комнате ближе, чем на километр, я запру вас там и не выпущу!
Мы с Торой упираемся взглядом в пол. Я ощущаю себя ребенком, не надевшим в снегопад шапку. И все же в этом огромном человеке с раскрасневшимся лицом нет ничего, что могло бы испугать. Он похож на кота, которому девица в ярко-розовых лосинах изо дня в день обстригает когти.
– И зарегистрируй его, Тора! Завтра посмотрим, что он за зверь.
Голос Бруно напоминает бульканье. Закипевший куриный бульон.
– Хорошо, герр Шульц, – кивает Хлопушка.
Мы прощаемся со странной парочкой и погружаемся в суету коридора. Я бы забаррикадировал вход в кабинет огромным шкафом – скорее из-за «когтереза» в лосинах, чем из-за Бруно. Держу пари, ее доброта и мягкость вот-вот лопнут, как попкорн на сковороде.
Мы спускаемся на этаж ниже и бредем к каморке со стеклянным окошком. Старушка с гулькой и самыми яркими в мире румянами записывает мое имя. Год рождения. Адрес. Информацию о родных. Образование. Цели. Что со мной не так.
– Деньги понадобились, – буркаю я.
Почему из прошлого нельзя вырезать снежинки? Или строить кораблики? Почему оно не оттирается, как мел с кирпича? Сколько булыжников к нему привязать, чтобы оно не всплывало?
Старушка всучивает мне ключ.
– Вам на первый этаж. В крыло, где общежитие.
Я подписываю внушительную стопку бумаг, после чего Тора в полном безмолвии провожает меня до моей комнаты.
В общежитии никого нет. Тишина – как в склепе. Давит, давит, давит на нас, а расколоть не может. По крайней мере, Хлопушку. Я-то нерешительный, со мной бороться – плевое дело.
Тора машет мне на прощание, словно ничего не произошло. Я не выдерживаю:
– Да что с тобой?
– Заткнись, Захар. Я так много сил приложила, чтобы тебя здесь не было, а ты взял и все испортил!
Тора пятится, мотает головой, а затем – разворачивается и убегает от меня, как в тот день, когда мы играли в прятки с Пашкой.
Я снова для нее враг.
Чайник.
Давно забытый кролик оживает.
Я смотрю ей вслед и понимаю: моей Торы больше нет. Но что, если ее и не было? Если я совсем псих? Что, если нет ладоней на стене? Нет крохотной спальни и крохотного шкафа? Нет Ласточки?
Что, если ничего нет?
Что, если я лежу на больничной койке, а родители сидят рядом? Я брежу: «Тора, Тора, Тора…» Мама рыдает, кричит, что была права. Что мою воспаленную фантазию нужно срочно удалить.
А я не замечаю их. Я замечаю лишь кролика. И он обещает, что вдвоем мы отыщем Хлопушку, как далеко она ни спряталась бы.
* * *
Мне не спится. От запаха выстиранных простыней тошнит. По лбу течет струйка пота, уж слишком здесь душно, тесно, пусто. Я ковыляю к окну, чтобы распахнуть форточку, но вместо этого прирастаю к полу. На меня пялится каменный кот, разлегшийся на перилах центрального входа. Странно видеть его в городе, где нет никаких достопримечательностей, кроме университета. Рядом с ним, на лестнице, темнеет силуэт: тонкая талия, острые плечи и руки-ниточки. Тора сидит на ступеньке – без огнеупорного костюма. Прежняя.
Когда, если не ночью, у нас получится вспомнить друг друга?
Я натягиваю помятую рубашку и джинсы, выныриваю из спальни и, спотыкаясь, тащусь на улицу.
Вокруг корпуса вьют гнездо дороги, шумят машины, пульсируют разговоры, но от этого движения по замкнутой траектории нас ограждает забор. Как хорошо, что мы наблюдаем за городом через железные прутья, иначе давно бы исписали себя, как любимый мелок.
Услышав шаги, Тора выпрямляется и запрокидывает голову. Я приземляюсь на ступеньку выше.
Тора кутается в растянутую кофту и наматывает на мизинец пояс.
– Не сердись на меня. Я хотела тебя переубедить.
– Зачем?
– Мой брат… – Всхлип. – Он погиб из-за Zahnrad. Тоже не любил отсиживаться в стороне. Как ты.
Короткое «как ты» – и нет железной Торы. Она снова Хлопушка, тонущая в необъятной кофте. Маленький оловянный солдатик, брошенный в очаг.
Я раскрываю рот, но не произношу ни слова. Сказать «соболезную»? Глупо. «Все будет хорошо»? Вершина идиотизма. Поэтому я просто прикасаюсь кончиками пальцев к Ториным волосам. Теперь она пахнет не только яблоками. Добавился запах гари и капелька горечи. Сейчас, на этой лестнице, ее огнеупорный костюм – я.
Тора вытирает запястьем слезы и поворачивается ко мне.
– Ты не думай. Я бы ни за что не подвергла тебя такой опасности. Экзаменатор не вмешивается, если ученик справляется сам. А я… я полностью контролировала действия дома. Клянусь. Там, за телевизором, были рычаги, я их настраивала. А конструкции, которые шевелили мебель, замаскированы в стенах… Такой вот эффект присутствия.
– И с кем же я разговаривал?
– Одна приятельница помогла…
– Приятельница? – проглатываю смешок я. – Голос был мужской!
– Имитация, Захар, имитация.
– Имитация Ворона? – мрачнею я.
– Мне так легче.
– Ты… Ты обводишь наши ладони. В поселке…
– А как иначе? – Тора гладит каменного кота. – Я же обещала. Если мы не забудем об отпечатках, не забудем и друг о друге.
Я обнимаю ее за плечи.
– Но я забыл. Прости, прости, прости…
– Ты ненавидишь меня?
– Что? – моргаю я.
– Из-за Ворона.
Я стискиваю зубы, обнимаю Тору крепче и – молюсь, чтобы наше мимолетное счастье не ускользнуло. Но оно уже под землей – похороненное по соседству с засохшими корнями травы.
– Ненавидишь.
– Нет.
– Я сделала это, чтобы ты, наконец, отцепился. Спровоцировала тебя, лишь бы ты уехал в город и больше не возвращался в поселок, – чеканит Тора, не сводя с меня глаз. – Пашка ничего не смыслил в Zahnrad и выполнял мои команды. Я бы сама не смогла. Потом были разборки… Но – бесполезно, кому нужна заброшка? Пашка отделался штрафом. Я – долгой беседой с родителями.
– Ты затеяла это, чтобы расстаться со мной?
– Ворон давно хотел на море. Он устал, Захар… – жмурится Тора и распутывает пояс. – Неважно. Я его верну.
– Вернешь? Ты о чем?
– Еще не время. Подожди немного. Ты же умеешь ждать?
– Ждать? – внезапно начинаю хохотать я. Горло сводит, а я будто выплевываю осколки. В ушах звенит голос Ворона. – Мы же собирались отремонтировать его!
– Захар…
– Он плакал, когда рушилась крыша. Нестерпимо.
– Пожалуйста…
– Я заставлял Пашку жрать дерьмо. Надеялся, что он подавится и помрет прямо там!
– Замолчи! Все дома обречены! Все! Ворон бы тоже заболел! Он бы прихлопнул тебя, как назойливого комара! Ты об этом мечтал?
Тора подскакивает и, зыркнув на каменного кота, как на злейшего врага, исчезает в корпусе.
Теперь мы вдвоем с накипью, парень. Не грусти, привыкнешь.
Ты об этом мечтал?
Я мечтал купить новый чайник, дурочка. Но ты купила его раньше меня.
16 Анна [После]
Я окунаюсь в полумрак. В доме Лидии душно. Вентилятор обдает жаром лицо, трещит, играет с занавесками. До тошноты пахнет чем-то сладким. Если бы я зажмурилась, то, наверное, решила бы, что попала в кондитерскую.
Но передо мной – протершееся дряхлое кресло и пушистый белый кот, похожий на Облако. На столе – клетка, в которой, по-видимому, давно не живет птица.
Пожелтевшие обои частично прикрывает плакат Кайли Миноуг.
Лидия падает на табуретку и извлекает из кармана потрепанного халата веер. По морщинам текут капли пота, как вагонетки по американским горкам.
– Пришла-таки. Молодец. Герой. Садись в кресло.
И я слушаюсь ее, подчиняюсь, как марионетка.
– Чаю?
Я не успеваю ответить: Лидия подпрыгивает и несется в кухню. Кот семенит за ней.
Из комнаты мне удается разглядеть лишь плиту и холодильник с выцарапанным кривым лицом. Для худеющих, должно быть. Посмотрел на такое чудо, испугался, и живот уже не урчит.
Стук вентилятора усиливается. Или это… подрывник, и у меня поехала крыша?
– Как зовут вашего кота? – спрашиваю я, чтобы заглушить неприятный звук.
– Гроза.
– Серьезно?
Чайная ложка бьется о стенки чашки.
– Вполне. Он меня охраняет.
– От чего?
– От домов.
Лидия возвращается с чаем. Я делаю крохотный глоток – вроде бы не яд. Обычный черный с десятью ложками сахара. Стараюсь не морщиться, выпрямляю спину.
– Зачем пришла?
– Расскажите мне о… сгоревших домах.
Кот трется об мои ноги. Я люблю животных, но сейчас, рядом с полоумной старухой, в странном доме, Гроза будто читает мои мысли. Или гипнотизирует меня. Или проклинает. Или… Скрывает что-то. Да, именно скрывает.
Лидия залпом выпивает чай, подозрительно отдающий спиртом.
– Для начала уясни кое-что: тот, кто интересуется огнем и часами, рискует сгореть сам.
– Почему?
– Потому что это не твой мир, а гостям в нем не рады. Дома умеют строить виселицы, не сомневайся.
– Перестаньте запугивать меня своими сказками! – вспыхиваю я, а у самой руки дрожат так, что чай едва не выплескивается.
– Существует легенда: дом, познавший огонь, но не погибший, находится и в мертвом, и живом мире одновременно, – усмехается Лидия и наклоняется ко мне. На зубах – кляксы фиолетовой помады. – Такие дома навечно связаны с призраками, а призраки любят исполнять мечты. Не бесплатно, естественно. Поэтому люди приносят им подарки – фотографии, письма, книги, украшения. Такой вот обмен.
– И… у кого-то сбывалось?
– Ты ведь сама знаешь ответ. Или хотя бы догадываешься. Не будь дурой, герой.
Я допиваю чай. Тошнотворная сладость течет по пищеводу.
– А вы верите?
– От моего «нет» что-то изменится?
– Мне важно…
– Не связывайся. Мы даже не представляем, о чем мечтаем. – Голос Лидии высыхает и рассыпается песком по полу.
– Вы жили в поселке, когда мне было десять?
Лидия молчит, кот сворачивается клубочком. Лишь жужжание вентилятора нарушает тишину.
Хотя нет, все же это тиканье в моей голове.
Напряжение растет, лязгает, двоится, но, к счастью, Лидия произносит:
– Да. Ваш дом был красивым.
– Вы часто видели нас?
– Маму твою… Маму – да. Тебя – нет.
Мне чудится, что Лидия хочет схватить меня и швырнуть в клетку; что эта загадочная старуха хранит ее специально для гостей.
– Неужели я… не гуляла по поселку? Почему нет?
– Мы гуляли в разное время.
– Что вам известно о моей маме?
Лидия расплывается в улыбке. Морщины текут по глазам. За этой старой пятнистой кожей прячется что-то важное, но старуха не желает со мной делиться.
– Тора любила фиолетовый. Бегать и падать. Играть на скрипке. Тартини.
– Джузеппе? – внезапно осеняет меня. – Какую композицию?
– «Дьявольскую трель».
– Мне бы найти человека, который играет на скрипке… – закусываю губу я. Пальцы впиваются в ручки кресла. Еще немного – и я пущу корни.
– Диана. Играет превосходно. Виртуозно, – сообщает мне Лидия шепотом, как давней подруге свежую сплетню.
– Отлично.
Я поднимаюсь.
– Надеюсь, тебе понравился чай, Аня.
– Да, спасибо… – …волшебница, а не повар. – Мне пора.
И я спешу, спешу – на обед, заняться книгой, поплавать в море – куда угодно, лишь бы подальше от засахаренных обоев и законсервированной хозяйки.
Кот мчится за мной.
– Ты ему понравилась.
– Правда? – хмыкаю я.
– Чистая.
Гроза вновь об меня трется.
– Защитить пытается.
– От чего?
– От домов, герой. От домов.
Я киваю и шагаю прочь. Герой. Лидия словно привязала меня к себе.
Перед глазами снова и снова всплывают губы с фиолетовой помадой.
* * *
Я стучусь к Ди и успеваю миллион раз отругать себя за страх и нерешительность, прежде чем замок щелкает. В нос бьет запах яблок. Лишь в псевдодоме Вячеслава я слышала его так же отчетливо.
– Заходи, – роняет Ди и прислоняется к дверному косяку. Белое кружевное платье – или ночная рубашка? – электризуется, липнет к ногам.
Я проскальзываю в номер. Эта комнатка меньше моей. Чересчур громоздкое кресло выглядит как огромная бородавка на молоденьком личике. Подоконник завален яблоками, а на кровати лежит потрепанная записная книжка с котом на обложке.
Вопрос бьет в спину внезапно:
– Долго пялиться будешь?
– А? Что? – моргаю я. – Нет. Я не пялюсь.
Ди подплывает окну, хватает яблоко и впивается в него зубами.
– Будешь? Сегодня купила. Вкуснотища.
– Сыграй мне на скрипке, пожалуйста, – неожиданно легко для самой себя выдаю я.
Ди бледнеет и, кажется, сливается с цветом платья. Смотрит на яблоко так, словно мечтает его раздавить.
– Вот как. Что именно? И зачем тебе?
– Чтобы вспомнить. Мы ведь с тобой знакомы, да?
Ди отправляет огрызок в открытую форточку и ныряет в шкаф. На пол летят платья, куртки, фиолетовые колготки, и уже через миг на это разноцветное месиво из тканей падает скрипка.
– Что играть?
– «Дьявольскую трель».
Ди прижимает инструмент к ключице. Лицо бледнеет еще сильнее, руки трясутся, будто она едва сдерживается, чтобы не огреть меня скрипкой.
– Не пожалеешь потом?
– Только если не вспомню.
Ди касается смычком струн и начинает играть – быстро, метко, четко. Тонкой извилистой тропкой выкладывает дорогу в ад. Усмехается, зовет меня за собой и беззвучно шепчет: «Добро пожаловать домой». Я не узнаю этот дом, не вижу тропки. Я следую за музыкой. А музыка выдергивает из моего естества ниточку за ниточкой, распарывает до основания и вяжет меня заново. Неумело, криво, запутывая все больше и больше.
В висках молотом – тик-так. Снаружи – дорога в преисподнюю.
Добро пожаловать, добро пожаловать…
Танцуй, танцуй, танцуй…
Ди ускоряется. Я отстаю от нее, срастаюсь со стеной, жмурюсь, но музыка тянет, тянет меня дальше. Размазывает по полу.
Мам, включи на ночь каприс номер двадцать четыре. Я без него не усну.
Мам, я вчера чуть не утонула, представляешь?!
Мам, а давай погуляем?
Ма-а-ам, научи меня кататься на велосипеде.
Мама!
Но мама не любила кататься на велосипеде и не гуляла со мной. А вот Паганини – гулял. Раскрашивал улицы в зелено-серый и постоянно куда-то торопился.
Я же торопилась только к маме – чтобы она погладила мои родинки на лбу и в очередной раз произнесла: «Тебя поцеловал бог». А я почему-то думала, что меня заклеймили в преисподней.
Мама считала, что ад простирается вокруг дома. Я – не могла жить в нашем раю. Мне было тесно. Я задыхалась и кого-то искала.
Или наоборот – пряталась. Под кроватью. Господи, как же мало оттуда видно! Я, например, однажды следила из-под кровати, как мама сует мой подарок к дню рождения в шкаф, и ничегошеньки не разглядела. Но чтобы подружиться со смертью, крохотной полоски обзора мне вполне хватило. Эта дама… пахнет полынью и железом. Тикает. Как же бойко она тикает!
Мне было десять.
Часы сломались, а она по-прежнему тикает и марширует в ногу со мной.
Преданная подруга.
Музыка исчезает мгновенно.
Больно, больно, больно, больно, больно…
Мам, а давай погуляем?
* * *
Вечереет. Голова трещит, звенит, плавится. Слишком громкая в этом поселке тишина. В моем номере – особенно. Я в вакууме. Меня пеленает сон, но упасть на кровать я не успеваю – звякает телефон.
Черт. Забыла, что обещала Рите отчитываться каждый вечер. Она… волнуется. Да, волнуется. Узнать бы почему.
Я наполняю легкие воздухом – до отказа – и распахиваю форточку. Горело-соленый запах вечера электризует меня, заряжает, как батарейку.
– Алло, – улыбаюсь я так, что вот-вот сломается челюсть. – Как ты?
Тяжелый вздох.
– Ну слава небесам. Где ты пропадала? Я уже собиралась ехать! Совсем сбрендила?
– Прости, – лепечу я. – Закрутилась.
– Ты что-то выяснила?
– Нет.
– Выкладывай, – рявкает Рита.
– Пока нечего выкладывать, честно! Сняла комнату у одной семьи. Хороший ремонт, отличная столовая…
– Не слышала, что там есть настолько комфортабельные условия.
– Илона и Павел очень гостеприимны…
– Кто? – Шуршание. Нервное хихиканье. – Ты что, прикалываешься?
– Нет, с чего бы? Прекрасная семья, и цены у них невысокие.
Армия мурашек ползет по спине. Из открытой ванной текут, пачкают меня обои-кровоподтеки.
– Илона уехала из поселка десять лет назад, – хрипит Рита. – Ее муж Павел погиб. Бред же! Аня… Аня, это реально они?
Меня лихорадит, комната теряет объем. Я будто погрузилась в 2D-игру и теперь могу ходить лишь вдоль стенки. Бежать или пятиться – без права повернуть. Драться или дрожать. Удобно, когда нет выбора.
– Она блондинка, – выдавливаю я.
– Блондинка.
– Любит возиться с помидорами и картошкой.
– Да.
– Йогу обожает.
– Да, мы с ней поэтому и общались. Тренировали друг друга.
– Муж тайно мечтает кататься на доске.
– Он погиб на доске! – Молчание. – Аня, родная, ты точно в порядке? – Голос Риты обволакивает меня приторной сладостью. Так сестра разговаривает, когда…
– Я здорова! – Слезы душат меня, и я пинаю коленом стену. – Здорова. Клянусь, это не галлюцинации.
Рита всхлипывает. Не верит, дуреха.
– Паша утонул. Да, он любил кататься на доске, но он, черт побери, мертв! А Илона переехала в город и долго лечилась у психолога. Вечные истерики, все дела. В доме Градинаровых никто не живет!
– Врешь.
– Нет, Аня! – рыдает Рита. – Умоляю тебя, возвращайся! Пожалуйста! Или я подключу маму, и тогда за тобой приедет твой психиатр!
– Как, по-твоему, я могла их выдумать? Ты же сама сказала, что они существовали!
– Возможно, ты вспомнила соседей, и твой мозг спроецировал прошлое. Возможно, ты дружила с ними, откуда я знаю! Аня, хватит. Эта затея ни к чему хорошему не приведет. Где ты живешь? С кем? Почему там? Книга не стоит твоего рассудка. Возвращайся.
Небо, мы миллион лет не обсуждали мои приступы, а сейчас… Сейчас словно очистились от скорлупы. Приблизились друг к другу на миллиметр.
– Я здорова. – Я здорова? – У них есть сын. Темыч.
– Я звоню маме.
– Рита… Дай мне шанс, – шепчу я и сползаю на пол. – Я во всем разберусь. Буду звонить тебе по вечерам. Да и вообще… Неужели тебе на меня не наплевать?
– Ты, должно быть, удивишься, но я не сволочь.
Рита бросает трубку. Я с трудом подавляю желание поиграть телефоном в баскетбол и закинуть его в форточку вместо кольца.
Тишина давит на уши.
Экран телефона вспыхивает. Появляется сообщение от Риты: «Будь осторожна».
Обещаю, сестренка.
Я захлопываю окна, задергиваю шторы, проверяю, хорошо ли закрыла дверь. Здесь, в маленькой комнатке, я в безопасности. Кто бы ни были эти люди – я не сдамся. Илоны и Павла нет.
Их нет.
Мой мозг – поцарапанная пластинка. Он фальшивит. Заставляет зажимать уши и ждать, когда фильм закончится. Но вот беда – он не закончится никогда.
И если так, я выстрою из него сюжет. Это единственное, что я умею.
Мне не страшно.
Я заплету косу, закутаюсь в кофту, выпью бокал красного и спущусь на первый этаж. Поздороваюсь с Илоной и Павлом. И с Темычем – обязательно. Сегодня он будет окунать игрушки в чай и визжать на весь дом, что они тонут. Илона позовет меня на утреннее занятие, и я с радостью соглашусь.
А потом мы пойдем к морю. И уж там я пойму, где обрывается реальность. Я ухвачу ее за край.
Ух-ва-чу.
17 Захар [До]
Утром ко мне в комнату вламывается Лида.
– Уже шесть, а ты до сих пор валяешься? Не стыдно? Подъем! – ворчит она. – Через час у нас тренировка. Ты что, еще не позавтракал? Если тебя стошнит на меня, будешь покупать мне новый костюм!
Пока я сползаю с кровати, она кладет на стул форму.
– Не в брюках же тебе заниматься. Ах да, и не забудь, что вечером вы с Торой отправитесь в увлекательное путешествие под названием «Генеральная уборка в спортзале». И завтра тоже. И послезавтра. Всю неделю, герой!
За завтраком я усердно пялюсь в тарелку, но в какой-то момент не выдерживаю и бросаю взгляд на Хлопушку, сидящую у окна. Она не замечает меня. Я подавляю желание рвануть к ней и сгрести в охапку.
Нельзя. Вечером.
Почти не жуя, я проглатываю сырники.
И ругаю себя за то, что думаю о чем угодно, но не о том, как спасти матушку. Да, мне заплатят что-то вроде стипендии, и я потрачу ее на операцию. Но для этого я должен усердно учиться.
Я заявляюсь в спортзал на пять минут раньше. Лида сооружает на голове гульку и поочередно подтягивает к груди колени.
Здесь просторно и от этого неуютно. Половицы скрипят, краска частично облезла. Пахнет резиной и потом.
– Чего рот раскрыл, герой? Разминайся! Если заработаешь растяжение, сам лечиться будешь.
Мы наматываем круги по залу, затем – разогреваем мышцы рук. Я чувствую себя рубашкой, накинутой на швабру и вымывшую весь корпус.
Раз – и мы начинаем отжиматься.
Два – я убеждаю себя, что когда-нибудь это закончится.
Три – Лида говорит, чтобы я втянул живот.
– Какой-то ты хилый совсем. – Накрашенные фиолетовой помадой губы расплываются в улыбке. – Ладно, пошли в основной зал.
Лида юркает за хлипкую дверь между лавками, и я тащусь следом.
Основной зал. Нет, это определение не соответствует тому, что нас окружает. Комната похожа на жилище сумасшедшей вязальщицы, обмотавшей мебель и стены нитками. Здесь тебе и спальня, и гостиная, и кухня. Три в одном. Под потолком колыхается люстра. А с ней – и железный монстр, состоящий из зубчатых колес и цилиндрических катков. Он приветствует нас, радуется, что у него гости.
Мы в логове паука. Он строит дом – обматывает комнату паутиной, коллекционирует вещи, выброшенные людьми на помойку. Мечтает отомстить за скрипящий шкаф и шатающийся стул. От них несправедливо избавились. А ведь они – его друзья.
Я жду, когда он помашет нам лапами из-за трельяжа. Секунда, другая…
Хм.
Слишком мило для паука.
Слишком миниатюрно для мохнатого чудовища.
Вместо монстра из-за трельяжа выпрыгивает Ди. Та самая Ди, из университета. Ее губы искусаны до крови, кулаки – в ссадинах. Глаза – две божьих коровки.
– Диана, это Захар. Захар, это Диана, – нарушает тишину Лида.
Ди подходит к нам. Ниточки-косички лезут ей в лицо.
– Мы знакомы, – цокает она. – И… я Ди. Не Диана.
Я и забыл, какой у нее мужской, ледяной голос. Голос-колючая-проволока.
Стоп. Кажется, так разговаривал со мной псевдо-Ворон.
Странное сочетание. До сегодняшнего дня я был уверен, что у божьих коровок и колючих проволок нет ничего общего.
Но оно есть, и зовут его Ди.
– Тогда ты, Захар, наверное, в курсе, что Диана занимается всего полтора месяца и уже достигла неплохих результатов, – с нажимом продолжает Лида. – Посмотрим, чего достигнешь ты.
– Хватит болтать, – встревает Ди и выуживает из шкафа каску и бронежилет. – Лови.
– Зачем? – вскидываю брови я.
– Мы называем эту комнату Иркой. Ей сорок, у нее ожирение, и она очень-очень злая.
– Оригинально.
– Красный крестик на полу, по центру, видишь? Топай туда, – командует Лида.
– Но… Он же под люстрой, да?..
А люстры в домах с Zahnrad падают, как гнилые яблоки.
– И что? Вперед, герой.
Ди облокачивается на стеллаж с книгами и скрещивает руки, точно сейчас начнется комедийная передача, которую она ненавидит всем сердцем.
Ди и Лида следят за мной и толкают, толкают пристальными взглядами в капкан. Им удалось замаскировать его под крестик, но меня не обманешь.
– Да ладно тебе. – Лида хохочет и дает мне подзатыльник. – Шучу я, шучу, вместе будем учиться. Я же тренер, как-никак.
Она тащит меня к крестику, а я тем временем натягиваю бронежилет и каску и прислушиваюсь к ощущениям. В комнате ничего не тикает и не грохочет. Она мертвая. Но радоваться рано: конструкции под потолком угрожающе покачиваются.
Мы с Лидой застываем под люстрой.
– Прояви максимальную реакцию, – шепчет она мне на ухо. – Будь надоедливой мухой. Зли эту толстую тетку, она ведь хочет тебя прихлопнуть! Вновь и вновь выскальзывай из-под газеты и жужжи что есть мочи.
– Не очень обнадеживает, – хмыкаю я.
– Ты до сих пор не понял, герой? Пока ты в корпусе, засунь свою надежду в задницу! Диана, включай эту махину! Первый уровень!
Ди шагает к разноцветным рычагам, встроенным в стену. Их здесь, должно быть, больше, чем лосин у Лиды.
Щелчок.
«Потолочный монстр» оживает. Комната начинает танцевать: вздрагивает шкаф, скользит улиткой потрепанный диван, трещит зеркало.
– Часы на подоконнике, – сообщает Лида таким тоном, будто подоконник находится в шаге от нас, а не в другом конце зала.
– Смеетесь?
– Не бойся, в девятый кабинет тебя никто не потащит. По крайней мере, ближайшие пару месяцев.
Лида пихает меня, и я пролетаю несколько метров, как та самая надоедливая муха. Только без крылышек. За спиной что-то лязгает и бьется. Люстра?..
– Надеюсь, ты усек, как важна концентрация? Подъем, Захар, подъем!
Я тру ушибленный бок и встаю.
Веревки-паутины трутся о мебель, вращают колеса под потолком, «активируют» диван. Тот переключает скорость с черепашьей до гоночной и несется в нашу сторону. Если бы не космическая реакция Лиды, из нас бы вышли зачетные отбивные.
Дверца шкафа дает мне пощечины деревянными ладонями. Столы охотятся за моими ногами. Их дети-стулья тренируются на Лиде.
У меня с комнатой получается неплохой вальс. Но вот беда: она – толстая тетка, а я – особо опасная муха, которую нужно лупить мебелью.
Где-то за нашими спинами смеется Ди.
Тело ноет, но я не имею права на отдых.
Часы совсем рядом. Вот он, кухонный стол, а за ним…
– Рано радуешься. – Лида хватает меня за локоть. – Гляди, что висит под потолком.
Я запрокидываю голову. К движущемуся механизму прикреплены ножи.
– Серьезно? – Я пячусь, но пьяный стол тут же напоминает, что зря. – У вас были смертельные случаи?
– Да. Ты что, не гулял по нашему кладбищу? – округляет глаза Лида.
– По какому кладбищу?
– О боги, да я шучу. У тебя же каска!
Секунда – и первый нож застревает между половицами.
Вдох-выдох.
Я срываюсь с места. Плевать, что мимо меня проносятся острые лезвия, что одно из них едва не задевает запястье, что я катастрофически медленный. Лишь бы добраться до часов и прекратить этот ад. Выключить его, как телевизор.
Будет глупо, если я подохну прямо на занятии.
Я представляю, что уклоняюсь от дождя.
Когда я добегаю до часов, сердце превращается в маленькое торнадо, засасывающее легкие, да и остальные органы – тоже.
На меня наваливается Лида, и мы падаем, задев танцующий кухонный шкаф. С полки сыплются яблоки. В сантиметре от моего виска пролетает лезвие.
– Не забывай считать ножи, дурень. Их было десять. Ровно десять, – злится Лида. – В итоге я спасла тебя шесть раз. Придется заниматься с тобой, пока ты сам не научишься читать их мысли.
– Чьи мысли?
– Домов.
– Но я умею!
Мы поднимаемся и отряхиваемся.
– Я не об этом, Захар, – отрезает Лида, плюхаясь на подоконник. – Читай наперед, будь быстрее и проворнее. Иначе тебе не выжить. Уяснил?
– Ай-ай-ай, Лида загоняла новичка. – Ди возится с рычагами и периодически косится на нас. – Нельзя же так.
– Ладно, – сдается та. – Свободен, герой.
После произошедшего дико и непривычно просто идти к двери. Просто пинать ботинком шкаф. Просто прощаться и благодарить за занятие.
– А Тора тоже прошла… это? – интересуюсь я, замирая у выхода.
– Да. Все десять уровней за три месяца. – Лида как ни в чем не бывало подбирает упавшее яблоко и откусывает от него. – Есть к чему стремиться, правда?
* * *
После тренировки я сижу в библиотеке и изучаю часовые механизмы, но продвигаюсь всего на пару страниц. Мышцы ноют, я едва сдерживаюсь, чтобы не застонать.
Вечер подкрадывается незаметно. Поужинав, я спешу в зал. Недавно я тренировался здесь с Лидой и Ди, и дощаной пол плавился от отжиманий. Сейчас же все остыло. Затвердело. Мои шаги непозволительно громкие. Я скриплю, как ржавый робот. Превратиться бы в брусья и присоединиться бы к их выпотрошенному спокойствию – я согласен терпеть даже запахи резины и пота.
Тора пришла раньше меня и уже накидывает тряпку на швабру. Я присоединяюсь к ней.
– Как ты?
Вопрос звучит глупо, но ничего умнее я не придумал.
– Как обычно.
– А как ты обычно?
Я вдруг понимаю, что ни черта о ней не знаю. И это неправильно. Незаконно.
– Пишу песни, играю на скрипке. Давлю дома, как колорадских жуков. – Она смотрит на меня исподлобья. – Чего нахмурился? Удивлен?
– Нет, но… Странно, что у тебя такая широкая подошва.
Я мою правую часть спортзала, Тора – левую.
– Расскажи мне о Zahnrad, – прошу я.
– Что именно?
– Все.
– Ну… Хорошо. – Тора яростно налегает на швабру, будто больше всего в мире ей нужно оттереть пол в спортзале. – Дома сходят с ума. Оказывается, они не добрые и совсем не друзья. Эти твари теперь на стороне Пашки, ясно? – Хлопушка застывает. Между нами – лавка и пять канатов, и это больше, чем бесконечность. – Клянусь, они приложат максимум усилий чтобы грохнуть тебя. Готовься к худшему.
– А… Если бы Ворон выжил? Как по-твоему, он свихнулся бы?
– Да. – Тора швыряет тряпку в ведро и чересчур усердно ее полощет. Вода разбрызгивается. – Если бы он выжил, погиб бы ты. А все началось с того, что Бруно подарил домам чувства. Он с детства мечтал заниматься тикающими механизмами. Приехал из Кельна – у него были какие-то проблемы в семье – и остался у нас. Начал свои исследования… и продал Zahnrad нашим, из поселка. Как он и ожидал, дома ожили. Ученые радовались, но… недолго. Многие из каменных существ оказались больными и жестокими. Они умеют контролировать внимание. У них прекрасная интуиция. Они транслируют будущее через телевизоры и радио. Пугают и сводят с ума. Обожают скрипку. Музыка их успокаивает, поэтому среди спасателей всегда должен быть хотя бы один скрипач. Наша задача – искать часы. Мы Стая. Мы обязаны их истребить. Растоптать. Разбить. Ведь когда «сердце» ломается, дом сгорает.
– Но как же Ласточка?
Тора выпрямляется и зыркает на меня так, точно хочет придушить тряпкой.
– У Ласточки нет сердца. – Ее глаза готовы сжечь спортзал. Уничтожить корпус. Нет, Хлопушке не нужен ни огнеупорный костюм, ни оружие. А вот тем, кто с ней рядом, страховка не помешает.
– Она же живая.
– У Ласточки нет сердца, – повторяет Тора.
– А если Бруно найдет на нее документы?
– Не найдет. Их нет.
Я ухмыляюсь. Откуда в тебе так много сил, Хлопушка? Поделись. Подари мне всего пару капель.
Тора за миг преодолевает лавку и пять канатов и упирается пальчиком в мою грудь.
– Проболтаешься кому-то – я тебе лично рот зашью.
– Я не проболтаюсь, обещаю.
Хлопушка не доверяет мне. Как она посмела подумать, что я ее предам?
Мы ведь вместе. Всегда вместе. Наше безумие никуда не делось. Я его отыщу.
Мы молча домываем спортзал, а затем расходимся по комнатам, так и не вспомнив друг друга.
* * *
«Есть к чему стремиться, правда?»
Я стремлюсь, Лида. К ней, к моей Хлопушке, разгоняюсь до темпа легкоатлета, до скорости самолета, но Тора неизменно маячит у горизонта. Непозволительно близко к звездам.
Мы не ругаемся, но и не видимся. Сомнительный выигрыш. Тора работает, ездит на задания и возвращается… другой. Она – черно-белая фотография, вывернутое наизнанку платье, а я всего лишь пытаюсь вывернуться. Пока – тщетно.
По воскресеньям из спортзала часто доносится музыка. Однажды я решился и заглянул туда: группка спасателей с Лидой во главе играли на скрипке. Увлеченно, отчаянно репетировали убийство. Лида тренировала их, как тренирует меня: без права на ошибку, до изнеможения. Нет, ее место не в спортзале. Ее место в городском оркестре, как и Торино.
А я… я скучаю по живым потолкам. Иногда я представляю, как возвращаюсь в поселок, к Ворону, а рисунки наших ладоней и Облака стерты.
Но я запретил себе туда ездить, сосредоточился на тренировках.
Теперь дома мне не друзья.
Теперь они мои пациенты. Обреченные.
Я повторяю это по вечерам, перед сном. Боюсь забыть лица родителей в ту ночь. Забыть, какого черта я учусь на убийцу.
Чтобы окончательно не спятить, я записываю воспоминания о домах в толстую тетрадь. Получается почти книга.
Это увлекает. «Почти книга» тяжелеет, а я, наоборот, теряю килограммы. И нет, я худею не только из-за отжиманий и прочей ерунды. У мальчишки по прозвищу Кирпич новоселье. Его дом пахнет бумагой и приятно шуршит. Я бы переехал вместе с ним, но мне нельзя. У меня мама. Она мечтала удалить Воробью фантазию, а в итоге он удалил ей кожу. Нарядился в нее от крыши до подвала.
И погиб.
Как же ты мог, Воробей…
Ты обещал мне, что не заболеешь.
Мы ведь друзья?
Это Кирпич спрашивает, выглядывая из нового дома. Я боюсь его разочаровывать, но все же отвечаю, что теперь мы с Воробьем как врач и пациент. Жаль, я поздно решился. Не успел отправить его на море сам.
Вскоре у меня появляются деньги, и я отвожу их матушке. Впервые навещаю ее после произошедшего. Давно хотел, но… тру́сил все время.
Я едва осмеливаюсь обронить «привет» этому кровавому комку, перемотанному бинтами, сгустку, по немыслимой причине живому. Матушка почти не шевелится и не разговаривает. Ей срочно нужна операция по пересадке кожи. Свою у нее украли.
Я ищу в перекошенных чертах лица хотя бы что-нибудь знакомое – морщинку на лбу, ямочки на щеках, но ничего нет. Это не моя мама. Это работа бездарного скульптора, у которого вместо красивой женщины получилась каша, раскрашенная в алое.
Между матушкой и прошлым – огромный обрыв. Дом отпустил ее в вольное плавание. В открытое море.
Я ерзаю на краю кровати, касаюсь мизинцем перемотанного запястья. Она вздрагивает и отдергивает руку.
Скажи, мам, что со мной не так? Скажи, что не так с моими друзьями? А с тобой? Что с тобой не так?
Ответь, мам.
Обещаю, я подарю тебе новую кожу. Только ответь.
Но она лишь стонет. Зараза под названием Zahnrad добралась и до нее.
Я возвращаюсь в корпус постаревшим на двести лет. Почему я до сих пор живой? Где морщины? Я смотрю на спасателей – в столовой, в коридорах, на занятиях. У них такая чистая кожа…
Одолжите ее моей матушке. Пожалуйста. Чтобы она защитилась ею от бездарного скульптора.
Маме холодно без кожи. Что, если она подхватит насморк?
Но всем фиолетово. Все фиолетово.
Мне так паршиво, что вечером, отзанимавшись, я не добираюсь до спальни и в – о чудо! – безлюдном коридоре сползаю на пол. Прислоняюсь затылком к стене, и рядом прислоняется швабра.
Компания не самая удачная.
– Захар?
Из темноты выныривает Тора. Надо же, она помнит мое имя!
Наши комнаты находятся далеко друг от друга, но у Хлопушки нет выбора: чтобы добраться до своей спальни, ей нужно пройти мимо моей.
Я тянусь к Торе, хочу убедиться, что она настоящая.
– Все наладится. – Она приземляется в сантиметре от меня.
Обнадеживает. Может, ты одолжишь кожу, Хлопушка?
Я стискиваю зубы. Тора ничего не спрашивает, и я благодарен ей за это. Кажется, молчание нас мирит. По крайней мере, в безмолвии я понимаю ее куда лучше.
* * *
Утром все начинается заново.
Я глажу форму. Зачесываю стоящие торчком волосы. Проглатываю безвкусную котлету. Ловлю миллионы «здравствуйте», летящих в лицо. А затем – занимаюсь в компании девушки в розовых лосинах и студентки с глазами-божьими-коровками.
Ди вручает мне стопку учебников.
– Читай и зубри. Сила – это не все, чем мы должны владеть, – цедит она. – Ты обязан спасать, а не калечить. Так что дерзай.
Она часто заменяет Лиду. И если та время от времени позволяет мне переводить дух, Ди выжимает меня до последней капли. Определенно, у этой девчонки вместо сердца тикают часы. Уж слишком она нереальная, жестокая.
Тора изредка заглядывает в спортзал и наблюдает за тем, как я подтягиваюсь. Ее внимание действует в сто раз эффективнее подзатыльников Ди.
Теперь я отключаюсь с книгой и светом, но даже во сне натыкаюсь на бездарного скульптора и твержу: «Одолжите кожу. Одолжите кожу. Одолжите кожу».
Моя мама потеряла лицо.
18 Анна [После]
Город встречает меня сгустками тумана и запекшимися бензиновыми лужами. Как же я скучала по гниющим многоэтажкам, по муралам и по разрисованным заборам! Все же… эти дома надежнее. Подрывник до них не доберется, я чувствую. Ему куда интереснее разрушать хижины.
Я приехала в город на пару часов, записалась на прием к доктору, лечившему мои истерики. Он знает историю болезни. И если Павел действительно мертв, я добровольно надену смирительную рубашку.
Илона, должно быть, удивилась что я прогуляла занятие. Если она, конечно, существует. Я наткнулась на нее у крыльца, она сидела на ступеньках и читала потрепанную книжку – «Легенды о Zahnrad». Илона рассеянно помахала мне, а я умчалась на автобус и почему-то до последней секунды боялась, что поселок меня не отпустит. Я ведь… меченая.
Улицы давятся банками из-под пива, окурками, выхлопными газами. Я бегу мимо здания, где работаю, мимо фитнес-центра Риты, мимо дома. Мимо, мимо, мимо…
И ощущаю, как натягивается ниточка между мной и поселком. Нет, он не отпустил меня. У него просто длинный поводок. А я, наивная, обрадовалась.
Доктор работает в первую смену. Я взлетаю на пятый этаж по ступенькам, заключенным в железки-брекеты, и упираюсь ботинками в порог. Облезшие кресла наблюдают за мной поцарапанными спинками.
Повторяя про себя проклятую мантру (это не приступ, не приступ, не приступ), я стучусь и пинаю коленом дверь. Как из дырявой баклаги, из меня вытекает рассудок.
Я нормальная. Илона, Павел, Вячеслав – все настоящие.
Настоящие.
Я сую пальцы-ледышки в карманы. Бесполезно, не спасет. Страх холодный – аксиома. Если я не успокоюсь, то, наверное, умру от воспаления легких.
Больное сознание выуживает из памяти того, кто пробил баклагу. Кто превратил меня в помятую банку из-под пива. Кто любил мою маму.
Писатель с мутными глазами, проваливайте. Вас нет.
Спортсменка, ненавидящая Темыча и обожающая Артема, вы тоже убирайтесь.
И вы, тайный серфингист.
И вы, волшебница, а не повар.
И ты, мальчишка-садист.
Я смеялась над безумием Лидии, а сейчас у меня самой едет крыша. Крошится, как размокшее печенье.
Я переступаю порог.
Мужчина в белом халате развалился в кресле и читает потрепанную тетрадь.
Удалите мой мозг, доктор. Он вышел из строя, заржавел. Сдайте его на металлолом.
Пол вибрирует – мимо больницы ездят столетние трамваи. А впрочем, нет, это тараканы, пожирающие людей и питающиеся электричеством. Где бы найти отраву? Или хотя бы лакмусовую бумажку, краснеющую, только когда человек ненастоящий.
Как Вячеслав, Илона и Павел.
На книжной полке кивает собачка-сувенир. Соглашается, что писатель с мутными глазами – не больше, чем персонаж. Чересчур реальный, но неосязаемый.
Последняя капля рассудка прощается с дырявой баклагой.
Кисти немеют – страх заморозил их окончательно.
Доктор – его зовут Петр Святославович – приподнимает брови и откладывает тетрадь.
– Доброе утро. Вы по записи?
– Да. Я Анна. Анна Рэу.
Я падаю в кресло, кожаное, мягкое, новое. И лишь ручки исцарапаны, словно здесь воевала армия лилипутов. Но на самом деле здесь воюем мы – те, кому катастрофически нужно забыться, хотя бы в ошметках изуродованного кресла. Кожа ручек похожа на мою, – я нечаянно расцарапала запястья в маршрутке – там не было кресла.
Внутри меня – минус двадцать. Жаль, что нельзя закутаться… изнутри.
– Анна. Не узнал. С чем пожаловали?
Я нарисовала Вячеслава на помятом листике. Художник из меня отвратительный, но… Пока этот портрет со мной, я не боюсь.
– С ним, – хриплю я.
Петр Святославович откидывается на спинку кресла.
– Почему?
Я пялюсь на идеально подстриженные усики доктора, идеальные ногти, идеально уложенные седые волосы. Нет, этот идеальный человек мне не поможет. Он живет в идеальном доме и ходит на идеальную работу, а по вечерам его ждет идеальная жена, готовящая идеальные кружевные блинчики. По воскресеньям идеальные супруги копаются в идеальном саду и выращивают идеальные розы.
У них идеально чистый рассудок. И идеально прозрачная жизнь.
– Мне пора. Извините, – буркаю я и, подскочив, бросаю взгляд на собачку.
Доктор не кивает. Осуждает мое безумие.
– Анна, чего вы боитесь? Обещаю, это останется между нами.
– Х-х-хорошо. – Я сползаю обратно в кресло и кладу ладони на его протертые ручки. Отдираю кусочек материала, переключаюсь на запястье. Так больнее и действеннее. – У меня галлюцинации, доктор. Это все из-за книги…
Петр Святославович ловит каждое мое слово и слабо улыбается. В детстве было так же. Его безмятежность успокаивает – значит, не сдохну.
Он назначает антидепрессанты, говорит, это стресс. Хвалит, что решилась вернуться в поселок. В последний раз, когда я была на приеме, даже думать о доме боялась.
Это хорошо.
Ты вылечишься.
Скоро твоя баклага вновь наполнится рассудком.
Петр Святославович отдает мне портрет Вячеслава.
– Случайно не на художника учитесь? У вас талант. – Поднявшись, он подплывает к шкафу. – Я сохранил ваши детские работы. Помните, с каким воодушевлением вы рисовали, когда боялись? Если вам интересно…
– Я с радостью их заберу!
В висках тикает все громче. Подрывник торжествует.
Петр Святославович всучивает мне стопку рисунков. Я пихаю их в сумку, и плевать, что листик с рецептом помнется. Я выброшу его в ближайшую урну.
Теперь я доверяю лишь внутренним часам, а они против пилюль.
Я благодарю Петра Святославовича и шагаю прочь.
* * *
Утренний туман впитывает меня. Я в белом коконе, и лишь вдалеке темнеет пятно, крохотная родинка под названием «больница». В ней работает идеальный человек с идеально уложенными седыми волосами. Я бы разобрала ее, как конструктор, но… Все бесполезно. Я – бесполезно.
Подрывник пляшет, барабанит по вискам, умоляет сжечь рисунки. Под музыку, под «Дьявольскую трель». Нота за нотой она вышивает мои нервы, плетет из них морские узлы.
На эту больницу-родинку, должно быть, израсходовали всю коричневую краску в мире. Я чувствую, она уже поставила мне диагноз, вынесла приговор. Но я… я могу описать Вячеслава до мельчайших деталей. Павла и Илону – тоже.
Они существуют.
Я бреду по израненному тротуару. Хрущу камушками.
– Эй!
Копье. Громким «эй» в меня метнули копье. Оно попало в десяточку – как раз между лопаток.
Если бы голосам измеряли температуру, у этого термометр бы лопнул от холода. Таких северных людей не бывает.
Ди. Она летит ко мне прозрачным воздушным шариком, легким и невесомым, но земное притяжение почему-то действует на нее и не позволяет раствориться в облаках.
– Ты откуда? – недоумеваю я.
– Тебя жду.
– Меня?
– Да. Я с тобой в автобусе ехала, слепая ты идиотка.
– Зачем?
– Чтобы ты, дура, наконец, догнала: психологи тебя не спасут, – криво ухмыляется Ди. Ее рот расходится, как молния в сумке. Вот-вот выпадет что-то важное.
– Ты подслушала мой разговор с сестрой?
Ди закатывает глаза.
– Да не напрягайся ты так. Не бывает полностью нормальных. Правда, есть те, кто притворяется. Но от них лучше держаться подальше. Зачастую они стирают пододеяльники в крови.
– Что ты несешь? Ты… Ты в курсе, что твоего брата не существует?
Звучит паршиво. Прокисшая фраза, расслоившаяся.
– Бред. Мой брат – другой Павел. Они тезки, ясно тебе?
Я бы засмеялась на всю улицу, а потом – танцевала бы, пока земля бы не проломилась, но… что-то мне мешает. Что-то склеивает губы, руки и ноги. У меня получается выдавить лишь одно:
– Честно?
– Более чем.
Неповоротливо, неуклюже, как металлический солдатик, я разворачиваюсь к остановке, но Ди преграждает мне путь:
– Давай прогуляемся.
– По городу?
– Нет… По поселку. В городе прогулки бессмысленны. А у нас я проведу тебе экскурсию.
На ее шее висит фотоаппарат – новейший, со съемными линзами. Странно, что я не заметила его сразу. Я фыркаю: так вот что утяжеляет ее! Мне почти физически больно наблюдать, как он топит Ди на дне тропосферы.
Мы тормозим автобус. Грязный и умирающий, он точно уже отпраздновал пятидесятилетний юбилей.
Возможно, я когда-то была здесь. Возможно, я смотрела в окно, которое теперь не закрывается, а рядом сидела мама. Возможно, мы держались как раз за тот облезший поручень, где сейчас нацарапано матерное слово.
У меня в голове роятся тысячи вопросов. Скорее всего, Ди сумеет ответить на них. Я молюсь, чтобы сумела. И если так… я согласна гулять с ней хоть до вечера. Главное, чтобы после я дописала книгу и дописала себя.
Автобус выплевывает нас между полосой леса и первыми хижинами. Поторапливая меня, Ди устремляется вглубь поселка. Вынюхивает что-то, крадется, как хищник на охоте.
– Ты чего? – интересуюсь я, но мой голос застревает в ветках деревьев. Шелестит вместе с листьями.
Из-за поворота вырастает почерневшая от старости хижина. Ди как ни в чем не бывало перемахивает через забор и исчезает за засохшими кустарниками.
Или у меня галлюцинации, или…
– Ты куда? Рехнулась?
Не бывает полностью нормальных.
Во всем этом безумии я нахожу лишь один плюс: Ди не стирает пододеяльники в крови.
К счастью, туристы в дообеденное время загорают на пляже, а коренные жители торгуют. Если повезет, нас не арестуют. Чертыхаясь, я перелезаю через раскаленную металлическую ограду – почти барбекю. Ди тем временем проскальзывает между лозой винограда и стеной.
Я догоняю ее и шиплю на ухо:
– У тебя совсем крыша поехала?
– Это развлечение. Поняла? Развлечение. Не нравится – проваливай.
– Мы лезем в чужой дом. – Я скорее констатирую факт, чем пытаюсь возразить.
Конечно, правильнее было бы схватить эту полоумную за ворот и хорошенько встряхнуть, но… кого мне тогда расщеплять на буквы?
Ди вцепляется в доску, торчащую из земли, подпрыгивает к мутному окну и сует ее в щель между потрескавшимися рамами. Взламывать у Ди получается быстро и бесшумно, словно она управляет домом мысленно.
В нос бьет запах сырости. Вдохнув его с наслаждением, Ди ныряет в полумрак. Дикая кошка – вот она кто.
Я кошусь на доску. Нет, прогнившая деревяшка здесь ни при чем. Чтобы проникнуть в тикающий дом, нужны безумные глаза и черные прямые волосы. А еще – северный альт.
Я медлю. Слишком много «если». Первое – хозяйка. Вдруг она смотрит телевизор и вяжет внукам перчатки? Второе – сигнализация. Да, хижина выглядит так, будто построена в веке девятнадцатом, но…
– Аня, мне долго тебя ждать?
Я залезаю в комнату, попутно проклиная ту секунду, когда согласилась прогуляться. Тесная спальня встречает меня поскрипывающими шкафами и стопками книг. Ди водит пальцами по ободранным обоям. Диван, накрытый потертым пледом, утопает в пыли.
– Разуйся.
Сандалии Ди валяются в углу.
– Интеллигентный вор? – хмыкаю я.
– Интеллигентный гость.
– Чей это дом? А вдруг хозяйка вернется? С ружьем!
Ди включает фотоаппарат. Кадр за кадром она запечатлевает комнату. Давно ослепший трельяж, просроченную пудру и карандаш для бровей, шкаф, набитый старомодными платьями и юбками клеш. Игрушечную железную дорогу у дивана – на удивление чистую, точно вчера купленную.
– Чей. Это. Дом? – повторяю я, теряя терпение.
– Старушки одной. Муж и… сын погибли. – Снова снимок. На этот раз в кадре – расческа с клочьями седых волос. – Она носит парики и любит готовить блинчики. Ее нет дома, не парься.
– Откуда ты…
– Вещи. Стены. Они те еще болтуны.
«Может, она все же стирает пододеяльники в крови?» – зудит под кожей.
Ди словно читает меня:
– Да расслабься, Аня. Я просто рассуждаю логически. Несколько лет проучилась на математика, а потом – бросила.
– Почему?
– Работать пошла.
– Кем?
– Часовщиком.
Я сглатываю. Этот поселок – огромный будильник, а люди – заржавевшие шестеренки. Но настанет время, и механизм кто-то почистит. Он зазвонит. Громко-громко, чтобы взять самую высокую ноту и умертвить фальшивой колыбельной.
Закончив фотографировать спальню, Ди принимается за другие комнаты. Я хожу за ней – по крошкам в кухне, по выеденному молью ковру, по плесени в ванной.
Спустя четверть часа эта полоумная застывает перед стаканом с тремя зубными щетками.
– Она надеется, что муж и сын вернутся, и не выкидывает их щетки, – тоном экскурсовода сообщает Ди.
Затем – к чему-то прислушивается. Бормочет себе под нос бессвязные фразы, выключает фотоаппарат. Мы возвращаемся к нашей обуви, но щетки до сих пор у меня перед глазами. Их хозяева запредельно далеко, как и разум той, что живет здесь. Нет, она не страдает. Должно быть, старушка счастлива, что переселилась. И пусть она по-прежнему спит на этом диване и кутается в этот плед, ее давно не существует.
Ди перепрыгивает через подоконник.
– Неужели все? – удивляюсь я.
– Нет. Еще шесть домов.
– Что? Зачем?
– Они меня вдохновляют.
Я наблюдаю за ней, за этим воздушным шариком, и жалею, что не прихватила ручку и блокнот. Мне нужно законспектировать это, запечатлеть все до мельчайших деталей.
И снова – лоза винограда, тонкая тропка, забор-барбекю, пустая улица.
Ди продолжает охоту, разувается. Стопы исчезают в засохшей траве. Ди нравится обжигаться, нравится царапаться о колючие стебли – такой радостной я ее не видела ни разу.
Наверное, я сплю. Или мир окончательно свихнулся, и это – тест на нормальность. Поселок устроил его, чтобы убедиться в моей адекватности. Жаль, но мне придется его расстроить.
Высокий дом, миниатюрный, разваливающийся, давящийся мхом – как воры-профессионалы, мы бесшумно проникаем в самое сердце чужих секретов и крадем лишь воспоминания. Меня тошнит от грязных чашек и цокающих часов. Ди – в восторге.
– Почему бы не фоткать… цветы? – Я плетусь за ней в очередную ванную комнату. – Зачем тебе зубные щетки?
– Я коллекционирую все мрачное. Прячу необратимое в снимках. А цветы… Ими и в реальности наслаждаться можно. Необратимым ты вряд ли насладишься в реальности, верно?
К двенадцати люди начинают возвращаться с моря. Мы шагаем в сторону нашей «Свежести», но не успеваю я выдохнуть, как Ди хлопает меня по плечу и шепчет:
– Последний.
– Нет.
– Тогда проваливай.
Проклиная себя за нерешительность, я поворачиваю за ней. Налево, к участку без огорода. К белому дому и веранде, украшенной разноцветными плитками. К потрескавшейся тропке. Вячеслав совсем недавно клялся, что живет здесь, и теперь история повторяется – на этот раз с Ди.
Мне не повезло: я – единственная постоянная в море переменных. Единственная, кто лазает в чужие дома не по своей воле, а по воле психов. Выдуманных психов.
Та скрипка играет в висках до сих пор.
– Давай сама, Ди. Мне нехорошо… – Сердце барабанит в ритм мелодии, звенящей в ушах.
– Мы ненадолго.
Нет, ее не переубедить. Вымышленные психи не действуют в одиночку.
Как ни странно, Ди тоже в курсе, где лежат ключи.
– Чего глаза выпучила? У нас никто никого не боится. Если ты не дом, естественно.
Она сбрасывает сандалии и включает фотоаппарат. Мы изучаем каждую комнату, каждую трещинку на обоях, каждую пылинку. У меня сводит скулы и кружится голова.
– Чей это дом? – в раз миллионный за сегодня спрашиваю я.
– Глупейший вопрос.
– Почему?
Ди направляется в кукольную комнату. Мне больно, как же мне больно идти за ней. В ушах – Паганини, в висках – барабаном сердце, в мозгах – тиканье. Я звеню. Я – будильник.
Но кого я бужу и стоит ли?
Ответ всплывает быстро: стоит. Ради книги. Я должна, обязана проломить все двери поселка. Рассмотреть все песчинки.
– Чем занимается эта женщина? У нее есть дети? Если нет, зачем ей детская комната и… скрипка?
Щелкнув что-то на фотоаппарате, Ди оглядывается ко мне.
– Так ты знакома с ней.
– Почти.
Ди каменеет, и мое «почти» разбивается, врезавшись в острые плечи. Она – часть дома. Ее не существует за пределами этого участка.
– Кто она? – повторяю я.
– Без понятия, – мямлит Ди и возвращается к съемке.
– Что? Ты рассказала мне о половине поселка, а сейчас включаешь заднюю?
Но Ди не обращает на меня внимания и продолжает фотографировать. С яростью и остервенением, метко, рывками. Боится, что я отниму камеру? Нет, скорее, что украду ее воспоминания.
– На пенсии она, – морщится Ди, будто эти слова галькой раздирают ее горло.
Чем дольше я вдыхаю яблочный аромат и шатаюсь из угла в угол, тем быстрее исчезаю. Сердце-барабанщик грезит о гастролях без меня, мысли трансформируются в скрипку. Я слепну и в то же время вижу четко. Только не то, что мне нужно.
Я замечаю под столом синюю квадратную карточку. Ди увлечена снимками. Почему-то я не хочу делиться с ней находкой и, нагнувшись, притворяюсь, что рассматриваю рисунки на обоях, а сама поднимаю потрепанную… визитку? В левом верхнем углу прикреплена фотография Вячеслава. Фамилия и имя как назло стерты – бумага явно не новая, давно протерлась.
Я сую карточку в карман.
Ноги подкашиваются. Ди бросает на меня встревоженный взгляд.
– Тебе не место здесь.
– Тебе тоже.
– Я о поселке.
– Да что вы заладили! – вспыхиваю я и уже собираюсь сбежать из этого безумия, как вдруг Ди догоняет меня, толкает в угол и касается моего подбородка.
– Что ты слышишь?
– Тебя, – выплевываю я.
Скрипка в голове играет все нестерпимее. Сегодня музыкант во мне фальшивит как никогда.
– Что ты, черт возьми, слышишь, кроме моего голоса?
Фотоаппарат гаснет. Ди не сводит с меня глаз.
Я бы зажала уши, но мишеням не положено двигаться. Вопрос Ди обесточивает меня, выдергивает вилки из розеток, выключает свет.
Мои внутренние колонки выкручены на максимум, и я боюсь, что женщина-воздушный-шарик все услышит.
– Скрипку, – признаюсь я. – И тиканье.
– А еще?
– Иногда… Вроде бы чей-то шепот. Да, я псих… Тебя не существует, Ди.
– Ты… о господи, какая же ты дура. Вся в свою мамашу.
Вся в свою мамашу.
Я – чайный пакетик. Меня окунули в кипяток. Чаинки крутятся, крутятся во мне, а я горю в аду.
– О чем ты?
– Ты… часовщик. – Ди отстраняется и настраивает фотоаппарат. Делает пару кадров – с мультяшной картиной и с шатающимся крохотным стулом. – Я сразу догадалась. Но молчала, немного сомневалась. Да не трясись ты так! Я тоже слышу.
– Кого?
– Дома.
– Это безумие.
– Безумие – это тащиться сюда, чтобы дописать гребаный роман. Мой тебе совет – не связывайся, – цедит она. – Я устала. Пойдем.
Мы просачиваемся на веранду. По улице шастает компания туристов, и нам приходится прятаться то за виноградом, то за яблонями.
Спустя, наверное, вечность, люди исчезают между прогнившими хижинами. Мы перепрыгиваем через забор.
– Беги.
– Что? – вскидываю брови я.
Ди замирает, так и не обернувшись ко мне.
– Ничего. Я молчала.
– Ладно, – сдаюсь я. – Показалось, значит.
Но мерзкое «беги» уже растворяется в крови. Оно настоящее и требует, чтобы я подчинилась.
Нет, чушь. Я просто… переволновалась.
Мы бредем в сторону «Свежести». Солнце медленно превращает поселок в гриль.
– Посмотрим снимки? – Ди приземляется на лавочку под раскидистой вишней. – Лучше здесь, чем в номере. Он чересчур… современный для этих фоток. А еще – никто не в курсе, чем я занимаюсь.
– Зачем тогда разболтала мне?
Ди косится на мои родинки и включает фотоаппарат.
Получилось красиво. По крайней мере, красивее, чем в реальности. Ди нашла в умирающих домах, сырых спальнях и заплесневевших ваннах то, чего не увидела я: стручок засохшего гороха под диваном, тапочки с помпонами, ворох помятых простыней на стуле. Их место – в фотоаппарате. Должно быть, объектив фокусируется на чем-то скрытом, притрушенном пылью.
Наши снимки заканчиваются, и Ди демонстрирует мне старые, а на старых – тот самый заброшенный дом: покореженный граммофон, разбитые пластинки, бутылки из-под пива – ничего необычного, если бы не кое-что яркое, зацепившееся за подоконник.
Мое полотенце.
Персиковое, с вышитой буквой «А». Я отдала его Илоне, чтобы она постирала. Чтобы вывела пятно, которое сама же поставила.
– Когда ты это сняла?
Мишеням не положено бояться.
Мишеням нельзя спрашивать.
Мишени не знают, кто в них целится.
– Дня три назад.
Мой внутренний музыкант затихает. Я поднимаюсь. Ди окликает меня, но все, на что я способна – шагать и до боли сводить лопатки. Если в поселке что-то и происходит, то это «что-то» зовут Илона.
Я встречаю ее на веранде и подзываю к себе. Она как ни в чем не бывало улыбается, будто ее губы парализовало.
– Где мое полотенце?
Ты… часовщик.
Безумие – это тащиться сюда, чтобы дописать гребаный роман.
Монстр из шестеренок бегает передо мной, а я не могу схватить его за хвост и загнать в клетку.
– Ой, совсем забыла, сейчас! – Илона растворяется в полумраке дома и через минуту выносит полотенце. Персиковое, с вышитой буквой «А».
– Спасибо…
Она приобнимает меня за плечи.
– Ты в порядке? Побледнела так.
– Да, – моргаю я. Еще и еще, только бы поскорее проснуться. – Оно не улетало случайно? Темыч не гулял с ним где-то у леса?
– Мы не пускаем его туда. А что?
– Нет, ничего…
Просто я не знаю, чему верить, Илона, – снимку или глазам. Да, объектив Ди фокусируется на чем-то скрытом, но… Что, если мне нужно всего лишь протереть пыль?
* * *
За окном – сумерки. Я изучаю свои рисунки, каждую деталь, каждый штрих. На потрепанных листиках изображены монстры, охваченные пламенем, бескрылые чайки, вороны. И лишь на одном из них темнеет он. Мой дом.
Меня бросает в жар, когда я добираюсь до аккуратного домика на холме с кривой подписью: «Здесь живем мы».
Я специально не спрашивала у Риты адрес. Боялась. Но…
Почему, почему я не узнала в граммофоне и пластинках нечто родное? Почему сердце не забилось чаще?
Я звоню Рите, и она подтверждает. Этот черный скелет, огромный монстр со сломанными ребрами, – мой.
Но я предала его. Не узнала.
19 Захар [До]
Дни летят, и наше с Торой наказание подходит к концу. Хлопушка уже не зыркает на меня, как на чудовище, и даже иногда улыбается.
Мы убираем в последний раз. Как бы скверно это ни звучало, но швабры и спортзал – единственное, что нас связывает. И если завтра мы не отправимся натирать полы, все рухнет. Клянусь, рухнет. Корпус провалится под землю, город сметет торнадо, наша планета сойдет с орбиты.
Не выдержав, я бросаю швабру и хватаю Тору за локоть.
– Почему ты мне не доверяешь?
– А почему должна? – щурится она.
– Да потому что, кроме меня, тебе не на кого положиться!
Тора отстраняется, так и не ответив.
Нет, мы не вспомним друг друга. Бесполезно.
И когда я почти смиряюсь с Ториной огнеупорной кожей, мне внезапно везет.
Я все чаще засиживаюсь по вечерам в коридоре. Все чаще замечаю, как Хлопушка выныривает из спальни и крадется в сторону противоположного крыла – к кабинетам тренеров. Она так увлечена чем-то, что не видит меня, сутулого паренька, прислонившегося затылком к стене.
Однажды я окликнул Тору, и она тут же сослалась на головную боль. Сказала, что заблудилась.
Но люди, живущие в лабиринтах Zahnrad, не могут так просто теряться. Я намекнул Торе об этом, а она, поджав губы, убежала к себе. Почему-то я вечно забываю, что мы… Что мы всего лишь коллеги.
Подумав, я решаю проследить за Хлопушкой.
Удивительно, но прятаться от любимой девушки в сто раз сложнее отжиманий и уровней в тренировочном зале.
И вот Тора летит мимо кабинета Бруно и пересекает коридор. Я – крадусь за ней. Здесь нет никого, кроме нас. Шум крови в висках выдает меня, но Хлопушка почему-то его не слышит. Или не хочет слышать.
«Трясись тише», – приказываю я себе. Разойдись по швам, но трясись тише.
Мы петляем по офисным коридорам. И все идет по плану, пока я – кретин! – не выдаю себя и не заворачиваю за угол раньше времени. Мы сталкиваемся с Хлопушкой нос к носу. Она отпрыгивает и шумно вздыхает.
– Что ты творишь?
– А ты?
– Не валяй дурака.
– Тебя ищу, – признаюсь я. – Головная боль, да? Заблудилась?
– Ты за мной следишь, – подытоживает Тора.
– Ты ведь любишь прятки.
– Нет…
– Любишь. А еще любишь Тартини и звездное небо. Любишь, когда я тебя заплетаю. Ты боишься того, что любишь. Почему?
Тора долго не отвечает – смотрит в пол и сопит.
– Ладно… – наконец произносит она и будто уменьшается раза в два. – Ты прав, мне нужно поделиться этим с кем-нибудь.
И, схватив меня за руку, шагает во тьму. Ее силуэт похож на облако. На крохотное пятнышко в небе, до которого я никак не доберусь. Все лестницы малы.
– А если нас засекут? – уточняю я.
– Ш-ш-ш! – Тора прижимает палец к губам. – Лида одолжила мне ключ от своего кабинета. Я занимаюсь у нее. И… заткнись, Захар. Бруно любит гулять по ночам.
Темнота обволакивает нас, уплотняется, застывает. Мы бродим в пустом кубе без щелей и ламп. Мы – шарики в погремушке. Одно неверное движение – и все проснутся.
Тора сует ключ в замок. Я молюсь, чтобы дверь Лиды не скрипела. Даже тихий щелчок сейчас кажется рыком динозавра.
Мы проскальзываем в кабинет. Как и у Бруно, здесь все заставлено часами. Zahnrad, Zahnrad, Zahnrad…
Хлопушка запирается и включает лампу.
– Задерни шторы.
Я осматриваюсь: между часами висят плакаты Кайли Миноуг. Распахнутый шкаф нафарширован разноцветными лосинами. Верхнюю полку занимает коллекция лаков для ногтей и потертый плеер.
– Зачем Лида хранит это… в кабинете? У нее что, нет дома?
– Она иногда ночует здесь. Часто закатывает Бруно скандалы, любит хлопать дверями. Бывает и такое, что не возвращается до утра, лишь бы пощекотать ему нервы. Когда-то, после очередной ссоры, она устроила себе салон красоты, – улыбается Тора. – Выглядела сногсшибательно, настоящая Кайли Миноуг. Бруно чуть в обморок не грохнулся. Покупает ей теперь лосины каждый раз. Есть мужчины, дарящие цветы или шампанское, а он – лосины.
– Вот это парочка, – присвистываю я, пытаясь сосчитать, сколько лосин напичкано в шкаф. Бесполезная затея.
Или…
Из-под разноцветной горы торчит блондинистый парик. Неряшливые косы подметают пол.
Добрый день. А я вам фрукты принесла. Дай, думаю, порадую любимых соседей.
Какой замечательный у вас мальчишка! Почему он в углу?
Вы водили его к врачу?
Это детская фантазия. Но я бы не распространялась на вашем месте…
Двенадцать раз в год – яблоки (или клубника, смородина – по сезону). Двенадцать – тонкий голосок, поражающий дом не хуже плесени. Когда она щебетала у нас в кухне, я всегда был под прожектором.
Она знала меня лучше родителей. Она насмехалась над моей воспаленной фантазией. Воробей ее боялся. Я – тоже.
– Так… Так это Лида? – бледнею я. – Соседи говорили, что ей скучно. Что у нее нет семьи, и она надоедает всем, лишь бы не сидеть дома перед теликом.
– А что говорил ты? – вскидывает брови Тора.
– Ничего. Мне было страшно. О боже… в парике она совсем другая! И голос…
– Лида отличная актриса. Ее обязанностью было обследовать Zahnrad и не привлекать к себе лишнего внимания. Что-то вроде медосмотра.
– Теперь ясно, почему Воробей молчал…
– Все дома ее боялись, – разводит руками Тора. – Как и все умирающие люди боятся врачей и своей болезни.
Мы пялимся на парик. Та, старая, Лида до сих пор вызывает у меня желание забиться в угол.
– Как она успевает работать и в милиции, и на заводе? – недоумеваю я.
– Гибкий график. Но… мы сюда пришли не за этим. – Тора прячет блондинистые косы под гору лосин, подплывает к столу и достает из верхнего ящика огромную коробку.
Я заглядываю внутрь: на дне лежат шестеренки, циферблат и листочки с заметками.
– Мои разработки, – шепчет Тора. В ее зрачках отражаются стрелки и цифры. Я бы не удивился, если бы внутри, за ребрами, у Хлопушки обнаружилась такая же штуковина.
– Зачем?
– Если я сконструирую сердце, Ворон оживет. Хотя… к черту «если». Сконструирую! Я стащила инструкции у наших механиков. Искала брак, выводила формулы, строила теории, почему дома сходят с ума. И у меня получилось, Захар, представляешь? Получилось!
Я слышу, как наши сердца тикают. Громко-громко, как Zahnrad. Клац-клац-клац. Цокают вставными челюстями.
– И… Что с ними было?
– Часы спешили. Сначала на минут пять. Потом – на десять. Они мчались, как бегуны на соревнованиях, но без передышки, старели… Для домов время летело со скоростью света, их рассудок не выдерживал, – морщится Тора. Ее лицо искажается, как в кривом зеркале. – Я вылечу Ворона. Поломанные часы – не приговор. Это всего лишь ОРВИ.
– Вылечишь? Как?
– Сделаю ингаляцию, – фыркает Тора. – Захар… Ворон вернется. Я спасу его. Я все исправлю. Ты простишь меня? Простишь?
На ее ресницах – слезы. Нет, я ошибся, она по-прежнему моя – хрупкая маленькая девочка, слышащая голоса домов лучше, чем кто-либо, просто ее жизнь наполнена страхами и чувством вины.
И все потому, что она дружит с домами.
Мне до боли хочется сгрести Тору и спрятать в карман: от кота и когтереза, от родителей и самой себя. Я бы хранил ее там и кормил орехами.
– Ты не представляешь, как я рад, что нашел тебя.
Я притягиваю ее к себе и целую. О боги, она до сих пор пахнет яблоками. Я сжимаю кулаки, чтобы унять дрожь.
Если бы существовал кастинг самых счастливых людей в мире, я бы занял первое место.
Если бы дарили лосины за красоту, мини-комната была бы набита ими до потолка.
Если бы Тора попала под дождь, я бы превратился в зонтик.
Я целую самую волшебную девушку на земле, а она отвечает мне взаимностью. Тора скучала. Скучала!
Я нащупываю выключатель.
Будь моим облаком, Тора. Помоги мне дотянуться до небес.
Как я мог забыть, какая нежная у тебя кожа и как сладко пахнут яблоки? Я исправлюсь, Тора. Я изучу тебя заново.
Закрой глаза – и ты увидишь прошлое. Поцарапанную, заваленную хламом фотопленку.
Закрой глаза – и ты дотянешься до звезд.
Закрой глаза.
* * *
Тора переселяется ко мне. Мы снова вместе – как раньше. Жаль только, что наш дом – это маленькая спальня, а не Ворон. Мы забрали из девятой комнаты проигрыватель. Теперь у нас все общее. Одни наушники на двоих. Один будильник. Один шкаф. Я мечтал об этом миллиард лет. А сейчас сижу и гадаю: сколько нужно делать вдохов в секунду, чтобы не умереть от счастья?
По мнению Торы – сто сорок. Я же считаю, что пятьсот.
Хлопушка поговорила с Лидой и Ди, и те позволили ей тренировать меня раз в неделю. Я стараюсь ее не подводить, выкручиваю себя, как мокрое полотенце, и любуюсь ею, бегающей в фиолетовых колготках. Тора без ума от фиолетового, а я – от оранжевого.
Я купил Хлопушке две пары колготок: и оранжевые, и фиолетовые. Она их чередует: по понедельникам – мой любимый цвет, по вторникам – ее, и так до бесконечности.
– Мою коллекцию лосин вы не переплюнете, – смеется Лида.
Я преодолеваю все новые и новые трассы. Так студенты называют уровни в тренировочной комнате.
Ди виртуозно управляет рычагами – как на арфе играет. Я быстро учусь, Лида хвалит меня и через неделю позволяет самому пройти трассу. Если я буду продолжать в том же духе, через месяц сдам выпускной экзамен.
Лида готовит меня к «мухобойке». Так студенты называют десятую, завершающую трассу.
Обычно ученики выбирают для выпускного экзамена псевдо-Ворона, но сейчас он на реконструкции, и Бруно разрешил мне пройти последнюю трассу. С ней справляются единицы, поэтому она – достойная замена.
Я буду мухой без крылышек. Так студенты называют тех, кто преодолел мухобойку.
Да, я мог бы подождать, пока переоборудуют девятую комнату, но… Паршиво, когда твоя девушка рискует собой, убивая дома, а ты приседаешь, отжимаешься и ноешь, что устал. Поэтому по вечерам я тренируюсь до звездочек в глазах и оттачиваю реакцию, скорость, меткость. Учусь молчать, даже когда невыносимо сложно.
Лида и Тора косятся на меня, как на муху без крылышек. «Как же ты взлетишь?» – написано на их лицах.
– Иногда журнала недостаточно, чтобы прихлопнуть муху. Тельце ее искореженно, но она по-прежнему шевелится. У тебя есть неплохие шансы спасти свою шкуру! – язвит Ди.
А Тора… Тора почти забыла, что такое улыбка. Она все сильнее обнимает меня ночью, и когда наступает день икс, впервые подскакивает раньше будильника. Впервые не надевает фиолетовые колготки. Впервые не красит губы бордовой помадой.
Мы собираемся в тишине – робкой, ненадежной и нежной; такой, что кожа стен покрывается мурашками.
Через пару часов все решится, но… Что потом? Радоваться или валить отсюда?
И вот мы с Торой топчемся перед спортзалом.
– На завтрак не успеешь. Беги, – выдавливаю я и тащусь к двери.
– Захар! – выкрикивает она. – Не иди туда. Бруно не посмеет заставить.
Я замираю, и Тора обнимает меня за плечи.
– Я пришел сюда не для того, чтобы сразу уволиться.
– Бруно не выгонит тебя. Ворона переоборудуют, ты победишь его, и мы будем ломать Zahnrad вместе.
– Это подделка, а не Ворон. Да и вообще… Сколько ждать? Полгода? Год? Нет уж, я пройду десятую трассу.
– Мухобойку.
– Ты мне до сих пор не доверяешь. – Я разворачиваюсь к ней и заправляю выбившиеся из хвостика пряди за ухо. – Почему?
– Я… боюсь.
– Ты не можешь всю жизнь бояться.
– Могу. Могу! – кивает Тора, и пряди опять лезут ей в лицо.
Я мысленно усмехаюсь. Волосы, достойные хозяйки – такие же непослушные и в то же время беззащитно-мягкие.
– Перестань думать за меня, Тора. Тебе пора в отпуск.
Она понимает, о чем я, и приглаживает волосы, но те продолжают лезть в глаза.
– Мой брат травмировал ногу в мухобойке, – цедит Тора, глотая слезы. – Его никто не заставлял. Он постоянно что-то доказывал, доказывал, доказывал… Скорее себе, чем другим. Кости как-то не так срослись. Он мучился от болей, но все равно отправился на задание. Глупы-ы-ый. – Тора приподнимается на носочки и смотрит на меня, как на что-то недосягаемое. – Он не успел выбраться. Сгорел заживо.
– Тора… – шепчу я и прислоняюсь губами к ее лбу. – Я клянусь тебе, что успею.
– Бруно не отпускал его на задания, и когда узнал о произошедшем, очень разозлился, – хрипит Тора. – Конечно, студент без его ведома убил Zahnrad. Не было свистка. Как же не разозлиться?
Она всхлипывает и пытается отстраниться, но я прижимаю ее к себе.
– Обещаю, со мной ничего не случится. Завтра мы поедем на задание вместе.
– Честно-честно? – по-детски наивно спрашивает Тора.
– Честно-честно.
20 Захар [До]
В спортзале душно и пахнет резиной. Здесь нет никого, кроме Лиды, качающей пресс.
– Подключайся!
Разминка больше меня не выматывает. Отжимания, гантели и растяжка даже из мухи сделают хищника. Иногда мне кажется, что мои мышцы разогреваются до температуры жареного стейка, и это круто.
Лида наблюдает за мной внимательнее обычного. Почти не улыбается, сутулится.
– Будь осторожен, Захар, – шепчет она.
– Я ведь уже проходил трассу без тебя. Не переживай, все будет хорошо, – заверяю я, но Лидино лицо по-прежнему непроницаемо.
– Осторожнее, чем обычно. Из мухобойки часто выносят студентов. Все вы бойцы, пока из спины не торчит нож.
Нет. Я справлюсь, без вариантов. Ради Торы. Я чувствую ее присутствие сквозь толстую стену спортзала. Должно быть, она отчаянно пытается вычленить из коридорной суеты наши голоса и бесится, потому что дверь заперта слишком плотно.
– Удачи! – хрипит Лида, когда я замираю на пороге тренировочного зала.
Бруно и Ди ждут меня у скамьи, о чем-то болтают, хмурятся – неестественные, чужие, будто прилетевшие с несовместимых планет. Им нельзя общаться. У них разные весовые категории.
Да и вообще, кот без когтей и девочка с божьими коровками вместо глаз – это не те ребята, в компании которых я бы мечтал завоевать мир.
Конструкция под потолком поскрипывает – старая, но надежная. Уборщицы постарались на славу: все блестит, на полу – ни пылинки. К мухобойке готовились тщательно.
Я кошусь на управляющие рычаги. Мой – красный. Последний и самый новый, хотя они все устанавливались одновременно. Многие поржавели, кое-где облупилась краска, а мой – нетронутый.
Никто не любит мухобойку.
– Привет, Захар! Как настроение? – интересуется Бруно и чересчур крепко пожимает мне руку. Небось проверяет, сколько упавших шкафов я выдержу, прежде чем превращусь в паштет.
Ди идет к рычагам.
А я надеваю бронежилет и каску и все жду, когда Бруно даст команду. Когда позволит мне со спокойной совестью расплющиться под шкафом. Но вместо этого он приземляется на скамью, такую крохотную для него, такую хрупкую. Снимает очки и по привычке протирает их галстуком.
Умник. Еще бы бинокль прихватил.
– Ну, поехали, – наконец говорит он.
Ди пялится на меня – белая, как молоко. Ее ниточки-косички потеряли контрастность, божьи коровки заледенели.
Она опускает рычаг.
Тишина давит на меня, на зал, на корпус. Триста килопаскаль[18], не меньше. Но шкафы не двигаются, потолок не рушится. Если бы я телепортировался к часам за секунду, то дотронулся бы до них не окровавленными ладонями.
Шаг. Ничего не меняется. За мной наблюдает безобидный кот, да так пристально, что скоро просверлит во мне две дыры. И тогда я уволюсь.
Второй шаг. Я и правда чувствую себя мухой. Где-то поблизости таится гигантский человек и выжидает, когда я сяду на его ботинок.
Ди изучает плеяду кнопок. Она знает эту трассу. Вот бы залезть к ней в голову! Но я не дом. Во мне не тикают часы.
Третий шаг. Половицы вибрируют…
Да к черту их. Ничего не произойдет.
Под потолком лязгает конструкция.
Ничего…
Цок-цок-цок – здороваются со мной металлические механизмы.
Не…
Мышцы каменеют. Плохой из них получился стейк.
Произойдет…
Вокруг меня трескается пол. Тонкая линия точно отчерчивает границы Китая. А после – я падаю. Улетаю в никуда.
Как жаль, что не в Китай.
К счастью, я успеваю ухватиться за острый выступ. Пальцы болят так, словно обломки половиц проткнули их насквозь. Будет глупо, если они спасутся, пусть и нанизанные на деревяшку, а я оторвусь от них и улечу в недокитай.
Но ведь нужно-то всего лишь подтянуться. Давай, дурень. Ты же умеешь. Ты же обещал Торе.
Исчезни, пока на твой Китай не рухнул шкаф.
Я стискиваю зубы и подтягиваюсь, по чуть-чуть, по миллиметру… Ди подается ко мне, но Бруно тут же ее останавливает:
– Не лезь.
Преодолев последний миллиметр, я выползаю из мини-пропасти и сразу же вскакиваю. В голове – голос Лиды.
Пока ты выравниваешь дыхание, тебя размажут по полу, как бутербродное масло.
Пока ты дуешь на ссадину, тебя ранят еще тысячу раз.
Пока ты жив, тебя будут пытаться убить.
Комната вся в дыму. Она умирает, как умирали Ворон и Воробей. Разница в одном: ей не больно. Она не кричит.
Я двигаюсь дальше, продираюсь сквозь дым, крадусь на ощупь. Слепой, глухой, потерявшийся.
Раз – что-то разбилось в метре от меня. Зеркало?..
Два – конструкция гремит, готовит новый сюрприз.
Три – все успокаивается.
Дым везде. Я не вижу ничего, кроме осколков зеркала, хрустящих под ботинками. Где-то включился телевизор.
Комната сужается. Раньше я не замечал, как пляшут стены. Они будто скучали по мне и хотят обняться, но я отталкиваю одну и через секунду натыкаюсь на вторую.
Стоп.
Это не стены. Это шкафы. И если я не высвобожусь из их объятий, они меня раздавят.
Я разгоняюсь и прыгаю, но лодыжка застревает между дверцами деревянных монстров. Шкафы звякают от радости. Еще немного – и я перекручусь в фарш. Монстры пожарят из меня котлеты.
Надеюсь, Ирка хороший кулинар.
Впереди – силуэт кровати. Я цепляюсь за ее ножку и подтягиваюсь.
Что-то хрустит, мизинец взрывается болью. Я ругаюсь, но не позволяю себе расслабиться. Все просто: не быть чайником с накипью и не быть кирпичом. Или просто – не быть.
– Хватит! – Это голос Ди.
– Вот именно – хватит! Угомонись! – Это голос Бруно.
Щелк.
А это голос конструкции-убийцы, активирующей дождь из ножей.
Собрав в кулак остатки сил, я подтягиваюсь и – о святые дома! – нога выскальзывает. Шкафы врезаются друг в друга. Я поднимаюсь и охаю: как же больно!
Дым облепил потолок, лезвий почти не видно. И нужно бы спрятаться и переждать ливень, но не успеваю я даже пошевелиться, как комната оживает. Превращается в мухобойку.
Вот семенит тараканом кровать. Вот вытанцовывает чечетку стол. А вот плачет потолок. Расклад не из лучших: его слезы способны проткнуть меня насквозь. Я застегиваю каску покрепче.
За спиной кровоточат крики Ди. Бруно молчит. Конечно, такое зрелище!
Я пролетаю между смертоносными слезами. Стол приглашает меня на танец, но я говорю ему, что он оттоптал мне все ноги и партнер из него никудышный.
А через миг проклятый нож разрезает мое плечо, как торт со сметанным кремом.
Тора, Тора, я справлюсь. Я выползу из этой мясорубки. Обещаю. Я не погибну по команде.
Иди к дьяволу, Бруно.
И я бегу. Мне все равно, что лодыжка перебита в фарш. Все равно, что пальцы сломаны и теперь напоминают крючки для верхней одежды. Все равно, что я не торт и вместо крема из меня сочится кровь.
Я справлюсь, Тора.
Ножи впиваются в половицы. Я переворачиваю стулья, спотыкаюсь, перелезаю через пляшущий стол. Глаза слезятся от боли и дыма.
Эта комната сошла с ума понарошку. Как жаль, что умереть понарошку у меня не получится.
Мое тело – торт. Я представляю, как по венам течет вязкий сметанный крем. Вот же они, мягкие коржи, пропитанные красным сиропом. Приятного аппетита.
Я – подарок на чей-то день рождения.
Несколько шагов – и Zahnrad мои. Несколько шагов – и я одержу победу над мухобойкой.
Несколько шагов – и я герой.
Но меня отвлекает скрежет. Я запрокидываю голову: прямо надо мной висит кирпич. Ножи закончились, а муха до сих пор жива. Непорядок.
Я бы не успел отскочить, если бы не обезумевший стул. Он пихает меня в сторону часов, и я, дотронувшись до них, падаю. Кирпич разбивается в сантиметре от моей лодыжки.
Дом мне помог.
Безумие…
Если муха жужжит, за ней гоняются, а не приглашают на чай.
Я озираюсь. Ди кивает мне, и ее рука соскальзывает с рычагов. Небо, да это же она! Если Бруно узнает, ее уволят. Но наш кот невнимателен: он смотрит на меня, ему нет дела до девчонки с глазами-божьими-коровками.
– Молодец! Теперь ты спасатель, Захар. Ich bin stolz auf dich.[19]
Тик-так. Я прислоняюсь ухом к циферблату. Часы поют колыбельную, четкую, ритмичную, звонкую. На немецком, определенно.
Поздравь меня, Тора. Я выжил.
* * *
Кто-то держит меня за руку, и этот кто-то пахнет яблоками. Мини-ладошка, мини-ключицы, мини-личико… Тора.
Неужели я справился?
– Очнулся, – горько улыбается она. – Как же ты нас напугал! Разве можно спать целый день?
Я хочу ей ответить, но тут же понимаю: это дурацкая затея. Голос запекся кровавой раной, попробуй отдери. Тело затекло. Я лежу как бесполезная деревяшка.
– Что со мной? Где я?
– В корпусе. Все в порядке. Ты победил мухобойку, но… Ушиб стопу, поранил плечо и сломал мизинец. Не волнуйся, доктор пообещала мне, что скоро ты будешь в норме. – Тора украдкой смахивает слезы. – Бруно… Как он посмел?
– Никак. Он не заставлял меня, – отрезаю я и пытаюсь сесть. – Ох…
По ощущениям мое плечо превратилось в муравейник, и теперь маленькие существа копошатся там, в своем новом доме с красными подтеками.
– Не вставай пока. Считай, что это твой отпуск.
Я осматриваю палату: белый шкаф-труп, лампочка, свисающая с потолка, как слюна огромной собаки, одинокий кактус на подоконнике – все это мой дом на ближайшее время.
– Не знал, что здесь есть больница.
– Мы ведь спасатели, – вздыхает Тора. – Если кого-нибудь из Стаи со вспоротым животом привезут в обычную клинику, начнутся расспро…
Она не успевает закончить: в палату врывается Ди – растрепанная, запыхавшаяся, уставшая.
– О, у тебя гости. Я… подожду в коридоре, ладно? – Кивнув мне, Тора шагает прочь.
А я все пялюсь ей вслед и борюсь с желанием окликнуть. И плевать мне на Ди, гнущую пластилиновые, бескостные пальцы. Плевать, что она прилипла к окну и, кажется, не замечает меня. Мне страшно ее благодарить. Вдруг я ошибся? Какие отношения могут быть между тем, кто чуть не сдох, и его новым богом?
Тишина – та еще крыса. У нее длинные ноги и сильные мышцы. Она пинает нас с Ди в сторону недокитая, но ей не везет: мы недвижимы. Мы сломаны.
Спустя некоторое время я все-таки беру себя в руки и спрашиваю:
– Почему?
Ди поворачивается ко мне, растерянная, выцветшая, как старый календарь.
– Отомстила. Ты поддался мне, я – тебе. Да и вообще… Ты хотел умереть, что ли?
– Спасибо.
– Бруно ничего не заподозрил. Ты в команде, поздравляю, – произносит Ди высоким, чужим голосом. – Мне никто не помогал, Захар. Поэтому… Больше не будет поблажек, ясно? Небо, да я чуть с ума не сошла, пока ты проходил трассу!
– Ты… волновалась за меня? Почему?
Мой вопрос отпугивает ее. Она пятится, то открывая, то закрывая рот, перепуганная, поникшая, словно это ее едва не зарезала мухобойка.
– Я, пожалуй, пойду. И кстати, выглядишь дерьмово.
– Спасибо за комплимент… – Я старательно подбираю слова: кое-что уже давно не дает мне покоя. – Ваши с Торой имена как-то связаны? Почему вы выбрали такие… иностранные сокращения?
– Когда-нибудь мы рванем в Чикаго и станцуем там стриптиз. А девочкам, танцующим стриптиз, нужны красивые имена, – хохочет она и исчезает в коридоре.
* * *
Весь вечер я болтаю с Торой и отчаянно пытаюсь представить ее с Ди, понять их дружбу. Они для меня – как чай и апельсиновый сок – не-сов-мес-ти-мы-е. Я, к примеру, обожаю пить чай, и чтобы чашка была крохотная. А от апельсина у меня щиплет язык.
Тора хвастается, что подобрала ноты к «Квадратным глазам», что увлеклась шитьем. Но обо всем этом она говорит с долей грусти: за последний месяц Тора не написала ни строчки.
Перед сном ко мне заглядывает доктор и делает перевязку.
– Не понимаю вас, – причитает она, заправляя за ухо седую прядь. – Зачем гробить себя, если можно просто подождать?..
– В моем случае ждать – это то же самое, что и гробить, – усмехаюсь я.
* * *
Тора, бледная, помятая, обнимает скрипку так нежно, как маленькие дети обнимают плюшевых медведей.
– Не выспалась? – спрашиваю я.
– А что? Тебе не нравятся мои квадратные глаза? Зажмурься.
Тора гладит меня смычком по щеке и – начинает играть.
Едва уловимые, робкие звуки вспыхивают передо мной красными пятнами. Я мысленно рисую из них девочку-Хлопушку.
В висках стучат строки из моих любимых «Квадратных глаз», и я бы спел, если бы не высох, как лужица под палящим солнцем. Музыка ускоряется, я вот-вот ее упущу. Она течет сквозь пальцы, сквозь потрескавшийся корпус и далеко-далеко внизу встречается с корнями деревьев. Как же им повезло!
Когда-то Тора танцевала под эту песню. Когда-то Ворон боялся выдать себя скрипом лестницы и спугнуть нас. Когда-то я целовал Хлопушку, а она говорила о чайниках.
Так по-детски. И поэтому так безошибочно и больно.
Музыка затихает, но я хочу продолжения. Торина версия песни мне нравится больше оригинала. И пусть она без слов – я сочиню их мысленно.
– Не подглядывай, – шепчет Тора.
Нечто мягкое и пахнущее яблоками касается моих губ – нечто, до боли напоминающее сладкую вату и волосы Хлопушки. Я жадно втягиваю воздух. Он мой. Он пахнет тем, что всегда было моим.
Я нащупываю здоровой рукой талию Торы.
– Остановись… Что ты чувствуешь?
«Сладкая вата» щекочет мою шею.
– Твои волосы, – улыбаюсь я и открываю глаза. Передо мной – кусочек пушистой ткани. – Что это?
– Хвост. Я ведь шью кота. Думаю назвать его Облаком.
– А где старое Облако?
– Протерлось. Улетело. – Тора внезапно серьезнеет. – Иногда нужно просто закрыть глаза, и тогда ты поймешь, что все не так страшно.
– Даже если ты провалился в помойную яму?
– Именно. Когда ты зажмуришься и забудешь об отвращении, помойная яма превратится в детскую кроватку.
– Ты пробовала? – с подозрением щурюсь я.
– Дурак!..
Посидев со мной еще немного, Тора отправляется на задание, а я жду перевязку и запихиваю в себя лекарства, оставленные доктором. Если бы я их не пил, то, наверное, они бы не поместились ни в шкафу, ни в ванной.
Но я закрываю глаза и дышу.
Ты права, Тора. Это помогает мне с самого детства.
21 Анна [После]
Прогулка с Ди превратила меня в вакуумную коробку. Кто я? Зачем я? Почему мне снятся дома? Регулярно. Я боюсь засыпать, боюсь снова гореть, боюсь маминых слез, пепла, чужака в пыльных сапогах.
Я не пишу уже третий день. Реальность расслоилась на мой вымысел и вымысел тех, кто действительно существует: Темыч, его родители, Лида, Вячеслав, Ди – шарики в колыбели Ньютона. Двигаются по инерции. Говорят – тоже. Еще немного – и я присоединюсь к ним.
Дни увариваются, как манная каша с комочками. Я тону в ней. Захлебываюсь.
И все чаще думаю о Вячеславе. Он что-то скрывает и специально пригласил меня туда, или я сама себя пригласила. Безумие.
Облако спит со мной. По вечерам я смотрю на него и пытаюсь вспомнить что-то, кроме белого пятнышка и стеклянных глаз. Мама жарила блинчики? Целовала меня перед сном? А что насчет велосипеда и скрипки? Где пропадал папа?
Иногда я нащупываю нить – смутный образ маленькой, худенькой женщины. А голос… Голос кактусом вгрызается в пол – попробуй перебей.
Голова звенит будильником. Все время. Словно кто-то воткнул мне в уши наушники и заклеил пластырем.
Дом общается со мной через часы. Я такая же, как Ди, такая же, как мама. Просто выросла среди мертвых многоэтажек и не заметила, как оглохла.
Изо дня в день я проклинаю ноутбук, подавляю желание раздолбать его до консистенции гречневой каши и утопить в море. Сколько бы я ни сидела перед ним, сколько бы ни щелкала по клавиатуре – тщетно.
Самое страшное – это когда писатель заканчивается вместе с пастой в ручке. Мне нечего сказать. Я потратила все мысли. Отдала их домам, сама того не подозревая. Глупая… Думала, заключу поселок в книгу, но на самом деле он заключил меня.
На четвертый день без слов я решаюсь. Если я и правда чокнулась, хуже уже не будет.
Я хватаю Облако и выныриваю из комнаты. На часах – семь утра. «Свежесть» проглотила всех и дремлет. Даже Темыча не видно.
Я кутаюсь в кофту. Ветер причесывает деревья с такой силой, будто мечтает унести их с собой, а я мчусь к моему дому.
Облако бьет меня хвостом по лодыжке. Догадывается.
Ночью был дождь. Я шлепаю по грязи, как по скользкому языку. Это обгоревший монстр его высунул, чтобы побыстрее добраться до нас с котом. Покореженные ворота машут мне, холм обнимает тенью. Холод обжигает кожу и впитывается, как ядовитый крем, спешит в гости к подрывнику.
Тик-так. Тик-так.
Стук-стук. Стук-стук.
Здравствуй, друг. В какой комнате я играла с Облаком? В какой пряталась под кроватью?
Пламя замуровало мое прошлое, и лишь тиканье стелется мхом по кирпичу. А еще… что-то дикое. Скрип – робкий, но разумный. Это голос живого существа.
Ди была права.
Я отгоняю паршивые мысли и погружаюсь в полумрак дома. Прислоняюсь ухом к влажному кирпичу.
Его зовут Ворон. Я… услышала.
Имя превращается в цепочку и обматывает мою шею. Я ощущаю себя обычной вещью – картиной, фотографией, заржавевшим граммофоном, поцарапанной пластинкой, камешком. Мы связаны с Вороном. Я пропитана им, а он пропитан мной. У нас общие легкие, общее сердце, общие нейроны. Вот почему Аня-подрывник не давала мне покоя. Она ждала, когда я очнусь.
А я продолжала прятаться под кроватью, несмотря на то что той самой кровати давно нет.
Я обнимаю Облако крепче.
Ворон что-то шепчет. Что-то важное. Я узнаю сиплый тембр и интонации, мягкие и густые, как жидкая карамель. Прошлое проходит через поры тонкими нитями, и я молюсь небесам, чтобы они не оборвались.
Дом говорит неразборчиво. Или я оглохла, чересчур долго блуждая там, где тикает только будильник.
– Я скучала, – произношу я.
Тишина.
Поздравляю, Аня. Ты треплешься со своей тенью в заброшенном доме.
Я прикрываю глаза. Нет, Ворон здесь. У нас же общее сердце, и оно барабанит виртуознее любого рок-музыканта.
– Подросла немного, да? И… Представляешь, книжки начала писать.
Если бы Рита меня увидела, точно бы вызвала скорую. Да я и сама сомневаюсь, что обойдусь без смирительной рубашки.
Радует одно: полотенца нигде нет.
Я сажаю Облако на подоконник. В заброшенном доме, в пыли и плесени, кот выглядит как свой. Он подружится с поломанным граммофоном и золотыми цепочками, оплетающими пол вместо паутины. Чьи-то дары в обмен на чьи-то мечты. Если бы я была туристом, удивилась бы, почему украшения до сих пор не своровали… но… турист из меня плохой. И я клянусь, живые стены защищают лучше самых надежных замков.
– Мне не о чем писать, – заявляю я громко и четко. – Нет, не так. Я не могу писать.
Тысячи моих клонов произносят то же самое в соседних комнатах.
– Я дарю тебе Облако. Ты… рад?
Ничего не меняется: Ворон не рушится, не выгоняет меня, не кричит, даже не скрипит. Лишь бойкое «тик-так» никогда не заглохнет.
Я поднимаюсь на второй этаж. Мне хочется найти осколки посуды, лоскуток маминого платья, корешок старой книги, воссоздать из пепла частичку сгоревшего мира. Но в доме пусто, если не считать покореженной плиты, полуразрушенного балкона и кровати, больше похожей на ежа из-за пружин и железок.
Что, если я пряталась под ней?
Когда в каком-нибудь фильме герой вспоминает, кем был, на экране тут же вспыхивают сцены. И если моя жизнь – кинолента, я отыщу режиссера и заставлю его включить этот проклятый видеоряд. Но пока я не добуду доказательства, мне придется исполнять роль зрителя. Роль внезапно уволенной актрисы.
Нет, бесполезно.
Я прощаюсь с Вороном, в последний раз глажу Облако и возвращаюсь в поселок. Потеплело – я снимаю кофту.
Возле «Свежести» я натыкаюсь на Илону, которая, наоборот, ежится и укутывается в плед.
– Пройдемся? – закусывает губу она. – Давай на «ты», ладно? Надоело «выкать»… Где была?
Мы идем по узенькой тропке в сторону моря. Илона – впереди.
– Гуляла.
– В заброшке?
Я не отвечаю – ее любопытство раздражает сильнее молчания Ворона – и сую руки в карманы. За забором шумят волны, только теперь они не шепчут мне истории. Магия моря еще спит, но одно я знаю твердо: при пищевых отравлениях нужно принимать активированный уголь. При других – добро пожаловать в сожженные дома.
Илона резко притормаживает. Я врезаюсь в нее и морщусь:
– Что-то не так?
– Паша – мой второй муж. Мой второй Паша, – сглатывает она. – А первый… Серфингистом был. Мы влюбились друг в друга моментально. Его непослушные волосы – все, что я запомнила в день нашего знакомства, но этого хватило. Я приехала сюда отдохнуть, искупаться в море, а в итоге… в итоге обратные билеты так и не использовала. Я пробовала сама прокатиться на доске. Чуть шею не свернула, Паша вовремя подоспел. Мы выползли на берег, и он заявил, что верит в меня. Что обведет в календаре тот день, когда я поймаю волну, и мы будем праздновать его каждый год. Перед заплывами он целовал меня в лоб. Глядел – внимательно-внимательно, будто видео глазами снимал. А я падала и падала. И до бесконечности – синяки, гематомы или растяжения. Море било беспощадно, хлестало по ногам и лицу. Но я не сдавалась – жуть как хотелось праздника. Паша ведь обещал. И не обманул. Когда я поймала волну, он подарил мне новехонькую доску. С кольцом обручальным в придачу. Мы расписались по-тихому, без гостей, и я переехала к нему. В поселке все чаще… умирали дома. Потерпевших переселяли в общежития на побережье. Милиции до происходящего не было никакого дела. Первое время мы удивлялись, потом – привыкли. Спасатели многим давали визитки. Мол, если заметите что-то странное, звоните. Мы позвонить не успели. Мало кто успел. Дом нас запер. Пашу чуть не прибил шкаф. На его маму свалилось зеркало. Меня – плита обожгла. Конфорка сама включилась. Короче, заболел дом. Точнее – Птица. Паша почему-то так его окрестил. Спасатели приехали быстро. И снова огонь. Соседи толпились у нашего участка, наблюдали за тем, как погибает очередное нечто. Нам предложили комнату в общежитии, но кроме Птицы у нас была еще и маленькая заброшенная хижина. Повезло. Только вот… Паша заикаться начал. Буква «Д» в горле застряла. Ни туда и ни сюда – никак не мог ее выкашлять. «Д-д-дом». Так он стал называть лачугу с тараканами. Мы отстроились – заработали на продаже винограда. Редкие сорта выращивали. Радовались, как ненормальные. Пригласили всю улицу в гости – новоселье праздновать. Лачуга превратилась в «Свежесть». Темыч родился. А Паша… Паша потом утонул. У нас море редко штормит, а он любил волны. Лучший серфингист – так о нем говорили. Мечтал продемонстрировать мне, на что способен, да погода не позволяла. И тогда мы загадали желание. Отнесли Ворону – да-да, твоему Ворону – доску. Его первую доску. До этого все было хорошо: мы много чего просили у домов, и они нам помогали.
Илона горько фыркает. Море шумит все яростнее. Злится: жена серфингиста раскрыла его тайну.
– Что, Аня? История не понравилась?
Не продолжай.
Я бы закрыла уши, но пальцы окоченели. Я бы завизжала, но голос высох.
Значит, Илона и Павел не призраки. Они реальны. Реальны!
– Мы волны загадали. Идиоты. В тот раз он не поцеловал меня в лоб, – хрипит Илона и заламывает руки. – Я потом некоторое время в городе жила, к психологу ходила. Там, кстати, со вторым Пашей и повстречалась.
– Мне… жаль, – выдавливаю я.
– А мне жаль тебя, девочка. – Илона щурится, точно пытается найти улики, признаки того, что мой контракт с Вороном уже подписан. – Иногда мы мечтаем о собственной смерти, но даже не догадываемся об этом. Будь осторожна.
Я молчу. Слушаю, как звенит прошлое. Нет, Ворон не предаст меня. Он же друг.
– Знаешь что, Аня? – вздыхает Илона. – Поехали завтра кататься на троллее.
– И так х…хорошо, – улыбаюсь я, а у самой сердце высыхает гербарием.
Я ведь всего лишь хочу писать книги. Это не убивает.
Не убивает.
* * *
Мы вновь возле пропасти. Возле вмятины в форме стопы великана. Трос рассекает ее на две части. Море спокойное – спит.
Павел извлекает из багажника «Волги» топор и обрубает разросшиеся ветки на дереве, где закреплен трос. Илона распаковывает страховку, Темыч носится по полю – неподалеку от выступа, где во время полета чиркают ботинки. Я бреду к нему.
– Как ты? – интересуюсь я, когда Темыч ко мне поворачивается.
Он падает на колени и ерошит траву. В глазах – слезы.
– Потерял.
– Кого?
– Кролика. Мы с ним играли в прятки. Он считал. Вот гад, тоже решил спрятаться!
Где-то между горизонтом и обрывом Илона надевает на Павла страховку, туже затягивает крепления, целует его. Даже отсюда я вижу, как ей тяжело.
Они параллельные и никогда не пересекутся. Илона скучает по первому Паше.
В голове зарождается что-то мерзкое, отдающее гарью. Я… перегораю. Илона, Павел, Темыч живут внутри ярко-синего воздушного шарика. Они боятся колючек и иголок, им уютнее под тонкой резиновой пленкой, потому что так я до них не доберусь. Глупые, глупые люди.
Их шарик мешает мне писать книгу. А я не люблю, когда мне мешают.
– Темыч…
Павел отталкивается и летит.
– Твой кролик там, – киваю я в сторону выступа, где чиркают ботинки. – Желтое пятнышко, смотри!
Если шарик не лопается, ему нужно помочь.
Если персонажи прячутся, нужно бросить их в клетку и понаблюдать за их реакцией.
Сын или муж? Кого она скинет в море?
Кто для нее самый параллельный?
Темыч идет к пропасти – не замечает ни папы, ни меня. Он ищет друга.
Топ-топ. Топ-топ.
Я слышу, как под ним шелестит трава. Слышу, как скрипит троллей. И возгласы родителей – тоже слышу. Павел собьет Темыча, если Илона не разрубит троллей. Как вовремя Градинаровы прихватили топор…
Кого она скинет в море?
Кого она скинет в море?
Кого она скинет в море?
Я буду ждать. Превращусь в дерево и впитаю страхи Градинаровых, чтобы достоверно описать их в книге. Достоверность – самое главное для писателя. Это то, чего мне недоставало.
Плохо быть персонажем. От тебя не отцепятся, пока ты не сдохнешь.
Тик-так – звенит в ушах.
Передо мной вспыхивает сцена из прошлого. Мой маленький потерявшийся кусочек пазла.
На краю стола лежат конфеты – шоколадная и карамелька. Я смотрю на них и не могу решить, какую съесть. Карамелька экономная, я буду ее рассасывать почти полчаса, но шоколадная вкуснее. А еще шоколадную любит мой самый-самый родной человек.
– Зажмурься, – советует мама. – Так ты поймешь, какую хочешь больше.
Но я медлю.
Медлю, медлю, медлю…
– АРТЕМ!
Картинка тает.
Возле пропасти маячит маленькая знакомая фигурка… Ползает, копошится в траве. Темыч!
Я несусь на предельной скорости, лишь бы оттолкнуть мальчишку от обрыва. Спасти этого странного человека, которому не посчастливилось расщепиться на буквы.
Павел едет все быстрее. В метрах десяти от нас он пытается зацепиться руками за трос, кричит от боли. Я вижу, как он боится. Вижу достоверность, но сейчас мне на нее плевать.
Темыч по-прежнему ищет несчастного кролика. Я прыгаю и, стиснув плечи мальчишки, отталкиваю его от троллея. Он визжит и растягивается на земле. Я падаю за ним.
Мимо нас пролетает Павел. Сегодня он подогнул ноги. Впервые.
Я выбрала карамельку, мам. Зажмурилась и выбрала. Верно?..
Несколько секунд мы лежим и даже не шевелимся. Скрип троллея, далекий и ненастоящий, задает ритм моему дыханию. К нам мчится Илона.
– Там нет кролика, – сообщает Темыч и поднимается.
– Значит, мне показалось. Прости…
Спустя, наверное, вечность Илона заключает сына в объятия. Сутулится, точно надломилась от испуга и навсегда потеряла форму. Губы – искусаны, измазаны в крови.
– Мальчик мой, о господи… – всхлипывает она. – Зачем, зачем ты туда побежал?
Я леденею. Интересно, что сделает персонаж, догадавшись, кто посоветовал его сыну рискнуть жизнью? Как поступит Илона?
Если она расцарапает мне лицо или переломает кости – я не против. Я – за достоверность. Главное – чувствовать.
К нам спешит Павел.
Темыч отвечает:
– Я искал кролика. – И косится на меня, скалится, как испуганный зверек. – А Аня помешала, бросилась ко мне…
Я говорю ему одними губами спасибо и пячусь. Мысли о книге расползаются по темным углам. Меня трясет.
Я едва не убила ребенка. Шизофреничка!
Во всем виноват дом, определенно. Он исполняет желания. Илона была права – ему без разницы, какими методами. Он держит слово.
– Я… прогуляюсь, – буркаю я и бреду по каменистой дороге в сторону поселка.
– Спасибо тебе, Аня! – кричит Илона мне вслед.
Ее благодарность врезается в меня сырыми яйцами и гнилыми помидорами.
Ветер дует в лицо, бьет, вопит, чтобы я очнулась. Но я не могу – я загадала желание. И когда оно исполнится, я стану другой.
Взять под контроль мысли – до смешного легко. Дисциплинировать себя – раз плюнуть. Расцарапать запястья, снять кожу, но не поддаваться этому механизму с нержавеющими шестеренками – э-ле-мен-тар-но.
Поселок приближается чересчур быстро. Лес редеет, группки туристов фотографируют скалы. За тонкой полоской хижин маячит наш пляж. И лишь одно не вписывается в умиротворенную обстановку: северная женщина, возникшая из ниоткуда. Снова. Ветер треплет ее черные волосы, а они настойчиво липнут к накрашенным губам.
– Что ты здесь забыла?
– Бедня-я-яжка, – качает головой Ди и кладет ладони мне на плечи.
– Отвали.
Оттолкнув ее, я шагаю дальше.
– Я все видела.
Ее «видела» связывает мои ноги не хуже веревки. Колючая проволока, не иначе.
Я оглядываюсь. Ди улыбается, ее шифоновое платье будто светится – призрачное, как и хозяйка.
– Что?
– Ты спровоцировала его. Потому что любишь экспериментировать.
– Ложь.
– Нет. – Она протягивает ко мне руку, словно хочет от чего-то спасти. – Ты же была в заброшке. Облако туда отнесла. Думаешь, я дура?
– Ваши легенды – полная чушь.
– Но ты шлялась там. Зачем?
Я вздрагиваю, щеки обжигает предательское тепло.
– Я не специально…
– За-чем?
– Я не знаю! Не знаю! Наверное, надеялась, что допишу книгу, когда проведу этот… ритуал.
– Допишешь, не сомневайся. Дома всем помогают. – Ди обгоняет меня и идет в сторону поселка. – Но не теряй бдительности, чтобы твое желание не прикончило тебя.
– Как его отменить? – кричу ей вдогонку я.
– Никак. Теперь ты – клиент дома. А эти твари клиентов не обманывают.
Я пинаю камень и хватаюсь за голову. Что за сказки? Нет, вранье. Главное – не верить.
Главное – контролировать себя.
И выбирать карамельку, чтобы радовать маму.
* * *
Я врываюсь к Лидии без стука и даже забываю разуться.
Ржавая клетка по-прежнему на столе, сладкий запах так и не выветрился. А впрочем, он – неотъемлемая часть дома. Что-то вроде штукатурки.
Из полумрака выныривает Лидия. Сегодня ее волосы распущены и вьются. Думаю, в молодости у нее были толстые длинные косы. Вертя в руках тюбик с красным лаком, она падает в кресло и закидывает ногу на ногу.
– Как отменить желание? – начинаю я, но тут же закусываю губу. Идиотский вопрос. – Я… Нет, я не верю во все это, но… На всякий случай.
Лидия не обращает на меня внимания. Красит ногти, щурится из-за плохого освещения и попадает мимо. Смотрится не очень: будто пальцы в кетчупе. Или в крови. Запах лака перебивает приторную сладость.
– Я тебя предупреждала, герой. Твердила – будь осторожнее. Разве нет? – Лидия подается ко мне. Между нами всего полметра, и я слышу запах гнили из ее рта. – Самое страшное – быть одержимым. Ты одержима дурацкой идеей написать книгу. Не бойся. В поселке много таких. Но – не я.
Стена, стена, мне нужна стена. Нужно прижать лопатки к чему-то ощутимому, реальному. Но я тщетно стараюсь – комната безгранична.
– И что дальше?
– Попробуй убить дом. Разбить часы. Результат, конечно, не гарантирую. – Лидия закручивает тюбик с лаком. Ногти накрашены. Пыльцы в алых капельках, словно минуту назад Лидия кого-то зарезала. Удивительно, но сама она этого не замечает.
А я… я мечтаю нажать на кнопку Delete на ноутбуке с такой силой, чтобы она деформировала материнскую плату. Но – вот беда – она сотрет меня, а не книгу. Я перестану быть. Окаменею перед экраном. Темыч превратится в обычного мальчика.
Я не тороплюсь прощаться с Лидией: человек, которого я нарисовала на клочке бумаги, мой выдуманный персонаж, не дает мне покоя.
– Один мужчина говорил, что живет там.
Лидия застывает, будто вместе с лаком высыхает и ее кожа. Глаза, красные, обведенные карандашом, точно выжженные сигаретами, округляются.
– Как он выглядел?
Я жалею, что проболталась о Вячеславе, но деваться некуда:
– Да бродяга он. Потом признался, что дал не тот адрес.
– Как он выглядел? – повторяет Лидия.
Комната начинает сужаться. Стены надвигаются на меня, а лицо Лидии искажается, как если бы было нарисовано на скомканной ткани. Мои лопатки, наконец, прислоняются к твердой поверхности, но я уже не рада этому. Еще чуть-чуть – и я нырну в клетку, лишь бы меня не раздавило.
– Мутные глаза, щетина, широкие плечи… – сглатываю я. Воспоминания о нем летают под потолком мотыльками, такими же нереальными и призрачными.
– Как его зовут?
– Вячеслав.
– Геннадьевич?
– Я не знаю.
Лидия встает. Стены вот-вот раздавят комнату, сделают из нас фотоснимки. А голос полоумной старухи ускоряет нашу гибель, тянет за собой по кирпичику. Не пройдет и минуты, как я превращусь в мотылька. И тогда Вячеслав все расскажет. Насекомым можно доверять.
– Он солгал, – улыбается Лидия. – Как интересно!
– Пожалуйста, объясните…
– Ты же герой? Пойми, девочка, здесь тебе никто ничего не объяснит, кроме тебя самой.
Я пячусь к двери. Эти люди знают обо мне все. Они изучили мое прошлое, вызубрили его, выгравировали в мозгах, набили себе тату под кожей. Но они не желают обнажаться до костей, чтобы я вспомнила.
– Извините, мне… нехорошо.
Я выскальзываю на улицу, и Лидия вскрикивает:
– Не убивай дом, если не хочешь распрощаться с Вячеславом!
Она догоняет меня и всучивает потертую книгу с золотистым названием: «Легенды о Zahnrad».
– Я видела такую же у Илоны.
– Она брала почитать.
Я листаю ее. В печатный текст врезаются заметки, написанные мелким неразборчивым почерком. Некоторые слова перечеркнуты, некоторые – дописаны на полях.
– Всю жизнь я собирала легенды о домах, училась жить с ними бок о бок. Она пригодится тебе. Удачи, герой.
Лидия возвращается в дом – в свою клетку. Раньше я думала, что она хранит ее для гостей, но я ошибалась. Она хранит ее для себя. Прячется в ней от одержимости. От эпидемии.
И я бы с радостью купила марлевую повязку, если бы сама не заболела. Но мне не поможет даже постельный режим. В моей голове тикают дома.
В кармане звонит телефон. Тик-так, тик-так, тик-так…
Я принимаю вызов.
– Алло! Аня? Ты оставила мне свой номер, помнишь? Пробралась в мой дом и оставила… Так вот. Меня зовут Марина, и я твоя бабушка.
22 Ди [После]
90-ые гг.
– Как думаешь, чем все закончится?
Ди вздрагивает и отпрыгивает. В метре от нее стоит братец – пялится на нее, как на душевнобольную, сочувствует. Господи, как же ее раздражает сочувствие!
– Чем закончится что?
Если Паша решил поиграть в психолога, то зря. Ему самому нужен врач.
– Ничего. Забудь.
Ди подзывает Пашу к окну.
– Смотри. Жена на троллей собирается, страховку пакует. Какого черта ты здесь?
– Мы ведь семья. И… прости, что я не спас тебя.
Ди хватает Пашу за плечи и разворачивает к себе. Изучает его морщины. За год их прибавилось немало.
– Ты ни в чем не виноват, абсолютно. А я виновата. Я – идиотка.
Паша отстраняется, словно прикосновения сестры ему неприятны, и шагает к двери, хромая на левую ногу.
– Увлекся серфингом? – фыркает Ди.
Вопрос-пощечина. Вопрос-поводок. Раз – и цепь натянулась. Раз – и брат во власти сестры.
– Как догадалась?
– Мысли читаю.
– Не проболтайся Илоне. Она… Не выдержит.
Паша исчезает в коридоре.
Ди улыбается – силится прогнать странность, несущую землей и сыростью, но она уже на пороге, дышит на нее и на брата.
Осталось чуть-чуть.
* * *
После разговоров с Пашей у нее постоянно болит голова. Спасает лишь море. И да, осталось совсем чуть-чуть. Ди видит это, гуляя по пляжу. Аня играет с Темычем у обрыва. О, девчонка уже в курсе, кто она. В курсе, что ищет.
Ди пугает ее решительность и… Страх. Да, Аня боится. Боится, что поверит в них.
Илона закрепляет карабины. Павел потягивается, предвкушает полет. Ди догадывается, что произойдет, но вмешиваться не в ее правилах. Десять лет как не в ее.
Когда они с Аней фотографировали дома, кое-что случилось. Девчонка нашла визитку. Его визитку. И, без сомнений, узнала, чья она. Ди не вмешивалась – лишние расспросы ни к чему. Да и зачем? Наблюдать – наивысшее счастье. Наблюдать и чувствовать.
– АРТЕМ!
Свершилось. Темыч ползает у пропасти. Паша несется на всей скорости и цепляется за трос, а эта дура замерла и пялится на них.
Ди сжимает кулаки.
Не вмешиваться. Наблюдать. Чувствовать.
Три правила, благодаря которым Ди до сих пор жива.
И все же что-то обжигающее, электрическое разливается по венам, когда Аня просыпается и отталкивает Темыча. Сегодня она победила.
Но – только сегодня.
Осталось чуть-чуть.
23 Захар [До]
Через пару дней я возвращаюсь в свою комнату и сразу чувствую себя лучше. Тора бегает за мной, как за ребенком, а я все клянусь ей, что и сам могу поесть и одеться. Да, плечо иногда саднит, но зато не кровоточит. Скоро мне снимут швы.
Я выжидаю неделю, а затем заявляюсь к Бруно. Лишь бы не покрыться накипью, лишь бы не заржаветь.
– Я готов.
– Нет, – качает головой он. – Здесь я решаю, когда ты будешь готов.
Тора умоляет меня не дергаться. Ты ведь хромой, говорит. А хромым не место в мухобойке. И только Лида не жалеет меня и заставляет тренироваться хотя бы по полчаса в день, чтобы я «не лежал кирпичом». Если бы она знала, как близка к истине.
Ди часто ездит на задания с Торой. В такие часы я растворяюсь в своем дурацком бессилии, как кубик сахара в чае. И ведь не собраться обратно, как ни старайся.
Однажды я спросил у Торы, сколько она восстанавливалась после экзамена.
– Где-то месяц. Руку сломала, представляешь? А Ди вообще потащилась на задание, никому не сказав. Потом долго работала без выходных.
Пролетает вторая неделя.
Тора разрешает мне есть и одеваться самому.
За эти проклятые четырнадцать дней комната облепила меня изолентой одеял и замотала в кокон простыней.
Прости, подруга, но бабочки не получится.
Бруно интересуется, почему мое «готов» он теперь слышит намного реже. А я ему: изолента держит. Комната залепила мне рот, герр. И уши, прикиньте? Хотите бескрылую бабочку? Я к вашим услугам, герр.
Здравствуй, третья неделя.
Доктор сообщает, что мой мизинец почти зажил. Тора – о том, что почти зажили раны на имплантанте для дома. Что часы скоро пойдут. Что мы вернем Ворона.
А вот и четвертая неделя. Хромает мне навстречу, обклеивает комнату последним мотком изоленты.
По ночам я наблюдаю за Торой, изучаю каждую родинку на ее лице, каждый изгиб тела. Нет, Хлопушкам нельзя работать здесь. Они чересчур хрупкие. Чересчур взрывоопасные.
– Нельзя, – повторяю я, когда Тора просыпается.
– Мошек тяжелее ловить, чем мух, – шепчет она мне в шею. – Мы спрячемся под облупившейся краской на подоконнике и – готово. А куда спрятаться мухе? Особенно той, у которой повреждено крыло?
– Но я не муха.
Тора целует меня, и я клянусь себе, что больше не отпущу ее. Кожа мини-девочек слишком нежна, чтобы эти самые девочки боролись с монстрами. Иногда я боюсь дотрагиваться до Торы – мне кажется, что она мигом покроется синяками.
И что бы эта упрямая девчонка ни говорила, за мухой можно спрятать целую армию мошек, если вдруг рядом не найдется облупившейся краски.
Скоро я сдеру изоленту. Всю сразу, с кожей. И… Нет, здесь не место бабочкам.
Я превращусь в муху.
* * *
Я наматываю круги по комнате, попутно завязывая пояс на огнеупорном костюме. Плечо саднит – предчувствует новую мухобойку. А я изо всех сил убеждаю себя, что нас вызвали по ошибке.
Вчера я принес Бруно справку от доктора.
– Поздравляю, Захар. Твое der Trotz[20] мне импонирует. Завтра ты отправишься на задание с Викторией и Дианой. Как говорит Лида, гер-р-рой. – Он откидывается на спинку кресла и смеется. Его голос раздваивается, булькает, разлетается эхом по кабинету, словно внутри огромного тела сидит как минимум человек десять.
И теперь я медлю. Боюсь, что мы разрушим здоровый дом.
Когда-то я называл их друзьями. У нас с ними были совсем другие отношения, но мы по-прежнему неразлучны.
Дом и я. Я и дом. Кто из нас убийца?
Здесь два варианта: или никто, или сразу оба.
– Готов? – Тора обнимает меня со спины.
Сегодня на завтрак она надела платье и фиолетовые колготки, а затем, когда поступил вызов, – превратилась в черно-белый снимок. Помятый и потертый. Да, возможно, та Тора, которая позировала для кадра, была вспышкой, но ее яркость съел фотоаппарат.
– Готов. – Пальцы по привычке тянутся к шраму на плече. – А ты?
– А я живу в этом мире уже второй год. Мне не к чему готовиться.
Я запускаю руку в карман и касаюсь шероховатого корешка. Книга-талисман. Книга-друг. Книга-первая-помощь. Я взял ее в библиотеке и всю ночь перечитывал, учил, подчеркивал важное.
– Небо… Ты до сих пор надеешься, что она пригодится нам? – грустно улыбается Тора. – Ох, Захар… Помнишь, как ты спас меня от воров и потом обрабатывал мне рану? Все по пунктам, четко, без самодеятельности!
– Зря ты так, – обижаюсь я. – Что, если эта книга поможет нам выжить?
– Разве что если примет на себя удар топора.
– Ты не понимаешь…
– Нет, это ты не понимаешь, Захар. Ты знаешь ее лучше песен «Наутилусов»! – серьезно заявляет Тора. – Зажмурься.
– Что? Зачем?
Она закрывает мне глаза ладонью и тараторит:
– Вообрази: дом запер нас. Замуровал. Мы в каменном гробу, среди мертвых зеркал и перегоревших лампочек. Пахнет пылью и чем-то сладким. Конечно, скажешь ты, так пахнут яблоки. Так пахнет моя Хлопушка. Где-то в темном углу тикает сердце, но этих углов в доме десятки. Тебе сложно, ты ищешь Zahnrad, и все бесполезно. Тебя оглушает собственное сердцебиение. Дом ждет, когда ты сдашься. Он больше не называет тебя другом… и лишь мне, твоей Хлопушке, известно, в каком из темных углов он прячет сердце. Но я в отключке. У меня из шеи торчит – о ужас! – вилка. Сладкий запах постепенно вытесняет запах пыли. Я умираю. А теперь ответь, Захар: ты что, полез бы в учебник?
– Тора… – хриплю я. В горле пересохло. Я пытаюсь выкинуть из головы эту сцену, но с каждой секундой она обрастает новыми деталями. – Я сделаю все, чтобы с тобой ничего не случилось.
Только не будь черно-белой фотографией. Я разрисую тебя фломастерами. Поставлю в рамочку. Повешу на стену.
В дверь начинают барабанить.
– Хватит нежиться, голубки! – доносится из коридора ворчание Ди. – Нам нужно спешить!
И мы берем с собой скрипку и спешим – на первое в моей жизни задание. Бруно выделил нам машину – старую-старую «Волгу».
– Чур, я за рулем! – восклицает Тора и приземляется на водительское сиденье.
До поселка мы доезжаем быстро. Чересчур быстро для того, чтобы мои молитвы о ложном вызове были услышаны.
Мы минуем полосы улиц и Ворона, пляж и россыпь прибрежных кафе. Дальше, дальше, дальше – к скалам. Отшельник – белый двухэтажный дом – приютился у самого моря. Выбился из стаи, как беззащитная овечка, и – заболел.
С хозяевами мы не знакомы. И мне легче от этой мысли, спокойнее. Спасателям запрещено… скорбеть.
В детстве, когда мне было четыре, я часто гулял по соседнему пляжу. Строил башни из песка, гонял чаек. Тогда родители даже не подозревали, что у меня воспаление фантазии. Поэтому… Что бы ни ждало нас в доме, я буду думать о замке из песка. И о чайках.
Мы притормаживаем вдалеке, у леса, – чтобы на машину ненароком не упал кирпич, а затем идем навстречу монстру. Молча. Сосредоточенно. Готовясь к худшему.
Калитка приоткрыта. Из-за забора выглядывает огромная магнолия. Здоровается колышущимися на ветру ветками.
– Я звонила пожарным и в скорую, – сообщает Тора, доставая из футляра скрипку. – С минуты на минуту должны приехать. Но мы не будем ждать. Мало ли что там. Ди, ты обыщешь подвал, я – первый этаж. – Она сжимает мое запястье. – А Захар… Захар – второй.
Мы выбиваем дверь. К черту вопрос «есть ли здесь кто-нибудь?».
Есть.
По крайней мере дом.
Я сую руки в карманы и нащупываю учебник. Заметив это, Тора шепчет:
– Удачи.
Мы ныряем в пищевод дома и каменеем. Вот же он, коридор, тонкой змейкой тянущийся в никуда. Обычный, как миллионы мертвых коридоров. Полосатые обои. Пыльный ковер. Искусственные цветы в вазах.
Дом-могила. Дом-убей-себя-сам.
Мы разделяемся и шагаем – каждый в свою мухобойку.
Почти не дыша, я поднимаюсь по лестнице. Главное помнить: дома любят кожу без морщин, потому что ею легко обтягиваться. Косметическая хирургия в действии. Главное помнить: дома не оставляют выбора. Они высасывают из нас энергию, чтобы выжить, пьют нашу кровь, чтобы их сердца бились как можно дольше.
Но я найду часы и растопчу. Размажу по полу, как бутербродное масло.
Теперь я понимаю, почему слышу их – чтобы убивать.
Лестница приводит меня в просторную комнату. На стенах – десятки фотографий, с которых улыбается маленький мальчик. Щель между передними зубами, веснушки, неестественная бледность… Готов поклясться, я его где-то видел.
Кожаный диван у окна, точно пластилиновый, четко отчерчивает изгибы хозяев. За ним лежит разбитая люстра. Перламутровый паук, не иначе.
Я спрашиваю у дома:
– Что с тобой?
А он отвечает:
– Я разучился летать.
Раньше дома были птицами, но потом болезнь сожгла их перья и крылья. Крыши начали протекать, слезы – разъедать половицы, и все, здравствуй, тахикардия.
Я запрокидываю голову: на меня смотрят пожелтевшие обои.
Как тебя звали? Сокол? Ястреб? Гриф?
Где твои крылья, птица? Кто их украл?
Мне по-прежнему страшно убивать. Да, этот дом болен. Да, он сдохнет через полчаса, и, если не повезет, – мы тоже. Но я ненавижу запах смерти, а здесь он повсюду, от подвала до чердака.
Дом молчит. Он не сдался и не сдастся – он ждет нашего решения. Эта тварь благородна и дает нам время на побег.
Но мы не сбежим – вот в чем проблема.
На полке выстроились невымытые чашки и масленка с бутербродным ножом. Значит, совсем недавно хозяева пили чай и обсуждали кинопремьеры, погоду, надоедливых туристов – да что угодно. Важно только одно: сейчас их нет.
Сквозняк треплет занавески, танцует. Я настораживаюсь: за моей спиной начинает играть скрипка. Музыка плавно набирает высоту, летит – бесстрашно, наперекор ветру, а через миг раз – и чья-то пуля попадает в самое сердце; мое или механическое, не знаю.
«Дьявольская трель» погружает меня в дом, ведет за собой. Наверное, это Тора. Я мечтаю, господи, как же я мечтаю быть ее смычком. У нее отличный музыкальный вкус…
И все же я боюсь оглядываться. Вдруг на скрипке играет не Тора, а дом? Вдруг он поет, как Воробей пел Наутилусов? Он хотел, чтобы я уснул и больше никогда-никогда не открывал глаза. Обнять меня, как умеют обнимать лишь дома. Но я не оправдал его ожиданий, и, без сомнений, если бы Воробей выжил, он бы мне мстил.
Сжимая кулаки до боли, я оборачиваюсь.
Тора. Конечно, Тора. Дома так не умеют.
Хлопушка топчется на лестнице и играет своего Тартини.
– Прекрати, – буркаю я.
– Это ведь успокаивает его. А еще… – Тора замахивается и ни с того ни с сего запускает в меня скрипку.
– Что?!
Я едва успеваю отскочить. В инструменте застревает нож.
– Сейчас бы он был в твоей шее, Захар. Так что повремени с обвинениями, – морщится Тора. – И почему я должна тебя учить?
– Часы в подвале! – раздается приглушенный голос Ди.
Мы срываемся с места, и с каждым шагом все отчетливее слышим, как бьется сердце дома. Он боится и не сдастся просто так.
В подвале душно. Ди плавает в облаках пыли, как буек в море. Столы и полки забиты шестеренками, повсюду валяются сломанные часы. Этот дом… Он принадлежит кому-то из нас. Тому, у кого тоже воспалена фантазия.
– Небо! – ужасается Тора. – Чей же он…
– Думаю, хозяин запудрил ему мозги и смылся, – предполагаю я.
Ди роется в выдвижном ящике и извлекает оттуда будильник.
– Они тикают. Единственные.
Сердце дома крутит шестеренки, гонит стрелки по циферблату и спешит, спешит – в преисподнюю.
Прости, дом. Ты не имеешь права жить. Ты опасен. У таких, как ты, часто… едет крыша.
– Как-то он подозрительно спокоен, – хмурится Тора.
Я прислоняюсь ухом к стене и спрашиваю:
– Как тебя зовут?
А дом отвечает:
– Чайка.
– Ты больна, Чайка.
Подвал заполнен тяжелыми и острыми предметами. Вот отвертка, вот ржавый молоток, а вот – половицы, широкие, как крышки гробов.
– Позволь нам тебя вылечить. Отправить на море. Ты же Чайка. Твой дом там, где волны.
Так говорят неизлечимо больным. Да, друг, ты объездишь весь земной шар. И картину нарисуешь, не сомневайся. Акварелью, да. Ты свяжешь самый длинный в мире шарф и войдешь в книгу рекордов Гиннеса. Твое имя запомнят.
Но больные чуют ложь так же хорошо, как понимают: все потеряно. Они не успели, и это самое страшное. Бедняги не погуляют по Риму и Парижу и не нарисуют новую Мону Лизу. Они никогда не купят спицы и пряжу.
Наверное, они бы не так боялись, если бы их мечты сбылись.
А твои сбылись, Чайка? Ты связала самый длинный в мире шарф?
Она трясется, и я понимаю: не сбылись. Чайка мечтает нас убить.
Сломанные часы лязгают, падают, раскалываются, как орехи. Мы теряем равновесие и раскатываемся по полу бильярдными шарами.
Нет, это не подвал. Это грудная клетка. Под потолком – подпорки-ребра, а мы – мокрота. И если дом нас выкашляет, то только с кровью.
У тебя туберкулез, Чайка.
– Приготовьтесь! – рявкает Ди, поднимаясь.
И – швыряет часы. Еще немного, и Zahnrad продырявили бы стену. Стекло нестерпимо громко разбивается, циферблат отваливается.
Вот и все. Сердце остановилось. Сердце больше не тикает.
Чайка улетела на море.
– Чего рты разинули?! – возвращает меня в реальность Тора. – Валим!
Дым появляется из ниоткуда – едкий, густой, горячий.
Здравствуй, мухобойка. Давно не виделись.
Чайка уже не борется – она уснула. У нее температура под сорок, но вот беда: жаропонижающего для домов не существует. Она умрет во сне, когда лопнет градусник.
Мы несемся по лестнице, пересекаем коридор – скорее, скорее к выходу, прочь из этого ада. Воздух заканчивается резко. Подвал полыхает, огонь гонится за нами. Загораются обои и махровый ковер. Легко, как облитые бензином.
Мы успеваем выбежать на улицу, прежде чем дом вспыхивает ярче прежнего и – гаснет. Живые всегда быстро гаснут – от лихорадки, инсульта, туберкулеза. А мы помогаем им в этом.
Почти врачи. Почти спасатели. Почти нормальные.
Почти – слово, которое неизменно сопровождает нашу профессию.
У забора припаркованы машина пожарных и скорая. Поздно, ребята. Как же вы поздно. Люди в красных костюмах окружили дом. Рядом с ними – Лида в милицейской форме – наш антимайор. Она ободряюще кивает мне, но не произносит ни слова.
Тора и Ди возвращаются в машину, а я в последний раз оглядываюсь. Пытаюсь узнать в черном пятне, в этом гнилом зубе, заблудившуюся овечку и замечаю перед скорой еще одну машину. Синюю «Чайку». За рулем сидит мужчина – неестественно бледный, с веснушками по всему лицу и щелью между передними зубами. Это Бруно.
И он плачет.
* * *
Я сижу в машине и пялюсь в окно, наблюдаю за людьми, бредущими к дому огромной толпой. Нет, это не пожарные и не милиция. Обычные зеваки. Они держат в руках книги, фотографии, украшения, а некоторые – даже деньги.
– Что они делают? – недоумеваю я.
Перед глазами – лицо Бруно: перекошенное, потерянное. К счастью, из машины я его не вижу. Слезы сильных ядовиты. Слезы сильных способны уничтожить мир. Но пока я не признаюсь в том, кого встретил, этих слез не существует, как не существует и хозяина Чайки.
– Люди верят, что дома, которые станцевали с огнем, исполняют мечты, – отзывается Ди. – За определенную плату, конечно.
Внезапно из толпы вырывается парень – высокий, грязный, с багровым загаром. Он подбегает к нам и стучит по стеклу.
– Ди! Да что с тобой не так?! Прошу тебя, возвращайся домой! Эта работа ни к чему хорошему не приведет! Умоляю, хватит!
– Газуй, Тора, – командует Ди, а сама вцепляется в коленки с таким остервенением, что белеют пальцы. – Газуй же!
И Тора газует.
Странный паренек остается позади.
– Кто это был? – подаю голос я.
– Брат.
– Почему ты с ним не поговорила?
– Почему? Да потому что со мной что-то не так. И он никогда не понимал, что именно.
Я киваю. Этот дурацкий вирус «Что-то не так» уже давно заразил поселок.
Мы объезжаем дом. Люди косятся на нас с опаской – некоторые пятятся, некоторые прячут за спинами детей. Я догадываюсь, о чем они мечтают, но Чайка их не спасет. Когда-нибудь здесь вновь будут жертвы.
– Откуда взялась легенда, что дома исполняют желания? – спрашиваю я.
– Представь сгоревший дом со здоровым сердцем, – начинает Тора. – Считается, что душа такого дома застряла между миром живых и мертвых. Она – своеобразный телефон. Ты просишь у призраков что-нибудь, задабриваешь их подарками, а они тебе помогают.
– Но Чайка погибла…
– У тебя что, вместо мозгов шестеренки? – перебивает меня Ди. – Тора же ясно сказала: все дело в душе. Неужели ты думаешь, что она телепортировалась в мир мертвых за секунду? Люди неделями шляются по таким вот домам после пожаров.
Я прислоняюсь лбом к стеклу. В пепле, возле крыльца копошатся двое. Девушка обнимает какую-то коробку, а парень размахивает руками и что-то объясняет… Долговязый блондин. Пашка.
О боги. Ты же не такой.
Я подавляю желание выскочить из машины и встряхнуть его. Очнись, очнись, очнись… Что ты творишь?
Зачем?
Где заканчивается твоя вера?
Это ведь я сумасшедший. Я, не ты.
Тора тоже его замечает, но молчит и лишь сильнее надавливает на газ. Всю дорогу до корпуса я думаю о том пареньке, что называл меня Кирпичом. О доске для серфинга. Об одержимости.
Мы возвращаемся к Бруно, как почтовые голуби к хозяину. Стая, чего уж. И строчим, строчим отчеты о том, как разбили проклятые часы.
На ужин нам подают мясную запеканку и сырный пирог. Каждому – по две чашки чая.
Мы заслужили. Сегодня мы – герои.
Нам желают спокойной ночи и крепких снов. Только вот для Торы и Ди эта вылазка очередная, а для меня – настоящие похороны.
Мы расходимся по спальням. Я вспоминаю скрипку и целую Хлопушку в губы. Я вспоминаю слезы Бруно и стягиваю с нее фиолетовые колготки. Я вспоминаю магнолию в саду и включаю проигрыватель.
Я пробую на вкус Торину кожу и чувствую на языке пепел.
– Закрой глаза, Захар.
– Нет, – отрезаю я. – Мне хочется видеть тебя…
…А не сгоревший дом.
Я обнимаю ее, свою Хлопушку, крепко прижимаю к себе, но все равно ощущаю между нашими телами пепел.
24 Захар [До]
Следующие три месяца я без перерывов тренируюсь и езжу на задания – лишь бы накопить денег. Матушку оперируют. Ткани почти восстановились, если не считать шрамов по всему телу. Я проведываю ее стабильно раз в неделю. Стабильно раз в неделю навещаю сгоревшего Воробья и делаю в нем ремонт.
Матушка не спрашивает меня о работе, я не спрашиваю ее ни о чем. Она понимает, что моя фантазия опять воспалилась, но уже не предлагает таблетки.
О папе мы тоже не говорим. Мы предпочитаем о нем молчать.
А после я возвращаюсь в Стаю. После пишу свою странную книгу, больше похожую на дневник. После сжигаю дома. После убеждаю себя: часы – это обычные механизмы. Они ничего не чувствуют.
Ведь не чувствуют, Тора?
Я научился разбивать их – не колеблясь, без сомнений. Швырять со всей силы, чтобы они попадали прямиком в ад. На дно самого глубокого океана – поближе к магме. В черную дыру.
По вечерам мы пишем отчеты. Сдаем железные сердца в морг.
Снова.
Снова.
Снова.
Наше трио – Тора, Ди и я – неразлучно. Мы тренируемся вместе. Мы охотимся вместе. Мы убиваем вместе. Мы – команда и знаем друг о друге все.
Ди обожает «Мастера и Маргариту». Любит крепко заваренный чай и не спать до трех утра. Они с Торой часто гуляют по вечернему городу, а вот по дневному – никогда.
Каждую ночь я засыпаю в обнимку с Торой. Каждую ночь между нами скрипит пепел. Каждую ночь она произносит:
– Закрой глаза.
А однажды еще и прибавляет:
– Завтра я тебе покажу маленький рай.
* * *
Весь следующий день – за завтраком, на тренировке, листая учебники – Тора поглядывает на часы. Она ждет вечера так отчаянно, как дети ждут дня рождения. Ди посылает нам многозначительные улыбки. Конечно, Тора ей рассказала.
Куда же без лучшей подруги.
И вот Лида нас отпускает, Стая разбредается по спальням, а стрелки часов упираются в цифру десять. Пора.
Мы с Торой крадемся по коридору.
– Здесь может быть красиво. Правда, – клянется она и хватает меня за руку.
Мы на первом этаже – пустом, оглохшем. Во тьме корпус будто умирает, не слышно даже тиканья. Лишь в окошке вахтера горит свет.
– Екатерина Константиновна не любит, когда ночью кто-то шастает. – Тора прячется за угол и увлекает меня за собой. – Ты выйдешь через черный ход и постучишься в центральные двери, а потом сразу побежишь обратно. Пока она будет выяснять, что к чему, я возьму ключи.
– Какие?
– Волшебные. Екатерина Константиновна охраняет маленький рай от монстров.
– А мы не монстры? – интересуюсь я.
– Разве что совсем чуть-чуть. Удачи, Захар.
Мы разделяемся. Теряемся в темных углах корпуса. Срастаемся с ними. Я стараюсь идти тихо, но – тщетно. Мои шаги – шаги великана, проломившего пол и проткнувшего землю до самой магмы. Вдруг Екатерина Константиновна уже обнаружила меня? Вахтеры появляются неожиданно – аксиома. Что, если на самом деле они спецагенты?
С трудом, но я все же нахожу черный ход и выныриваю из корпуса. Пахнет дождем. Ряд горбатых фонарей, потрескавшийся асфальт, мелькающие за решетчатым забором машины – все мне кажется идеальным хотя бы потому, что во дворе нет Екатерины Константиновны.
У старушек с гульками определенно есть какая-то суперспособность. Может, они умеют летать? Читать мысли? Управлять оружием на расстоянии?
Я спешу навстречу каменному коту, взлетаю по ступенькам, стучусь. Где-то там, за окнами, семенит к двери Екатерина Константиновна, но я не дожидаюсь ее и возвращаюсь к Торе.
– Ключи у тебя?
– А ты сомневался?
Мы несемся по лестнице – чересчур долго для четырехэтажного здания, и, наверное, скоро очутимся на Венере.
– Где же твой рай? – продолжаю расспрашивать я.
– На крыше.
И как я не догадался? Красота всегда стремится к звездам.
Перед нами вырастает решетка, и Тора сует ключ в заржавевший замок. Странно, но в густом полумраке коридоров она ориентируется лучше, чем в нашей комнате. Словно ее дом – здесь, по соседству с Венерой.
Мы вырываемся из темноты, расплескиваемся, как капли, летящие мимо чашки. Сегодня мы отправляемся в свободное плавание к звездам.
Вдали мерцает город. Под Большой Медведицей приютился сквер студентов. Под созвездием Льва – автобусная остановка. А под черными облаками – мы.
Тора обнимает меня со спины.
– Нравится?
– Да…
– Я бы хотела кое-что тебе подарить, – вдавливает она горячие-горячие слова между моими лопатками. – Талисман.
Тора извлекает из кармана шестеренку. Я щурюсь и замечаю, что на ней нацарапана надпись: «Моему Облаку».
– Спасибо, – хмыкаю я, принимая подарок.
– Ты мое облако, Захар. Клочок неба.
– А как же чайник с накипью?
Я мечтаю, чтобы она засмеялась и обозвала меня дураком, чтобы заплела косу и станцевала, как тогда, в свой день рождения.
– Я рада, что ты со мной.
Она подплывает к краю крыши. Ее силуэт на фоне огромного города уменьшается до силуэта птицы. Но как только я закрываю глаза, Тора превращается в город. В миллиарды созвездий.
С лестницы доносится шум. Тора не слышит. Тору оглушил ветер и ослепили ночные огни. А я наблюдаю за тем, как на крышу выпрыгивает Лида. Щеки ее горят, а в улыбке вполне бы поместилось море. Лида таращится на нас не моргая. На нее, будто цунами, надвигается огромная тень. Бруно?.. Неужели кот и когтерез тоже решили прогуляться до Венеры?
Я качаю головой. Давай, Лида, уведи его отсюда. На эту ночь звезды забронированы.
Ее улыбка тает, и теперь в ней поместится разве что маленькое озерцо.
– Пойдем в спальню. Мне холодно, – жалуется она, отворачиваясь к коту.
Тень застывает, как желе. Бруно выныривает из темноты лишь на миг, но успевает окинуть нас с Торой взглядом и рассмотреть шестеренку в моих руках.
Секунда – и они исчезают. О чем он подумал? Догадался ли об экспериментах Хлопушки? Я подавляю желание броситься за ним и все объяснить.
– Чего ты там копаешься? Иди ко мне! – зовет меня Тора.
Я прячу шестеренку в карман и отгоняю тревожные мысли. Сегодня они лишние.
Мы забронировали звезды и Венеру. Чем не идеальная ночь?
* * *
Я просыпаюсь от настойчивого ощущения, что за мной кто-то наблюдает.
– Доброе утро, соня, – мурлычет Тора мне на ухо. Как же она близко… Я даже пепла не чувствую.
Приподнявшись на локти, я изучаю ее – медленно, чтобы ничего не упустить. Теперь я делаю это каждое утро. Потому что… я знаю, такие вот утра рано или поздно закончатся, как зубная паста. Как бензин в автомобиле. А я должен запомнить Хлопушку. Должен ее вызубрить.
Накрашенные ярко-красной помадой губы целуют меня в щеку. Тора уже в шортах, рубашке и своих любимых фиолетовых колготках, выделяющихся яркой кляксой на фоне комнаты.
– Иди сюда. – Я обнимаю ее, но она трясет указательным пальчиком перед моим носом и извлекает из-под подушки наш проигрыватель.
Блюз коммунальных будней, хозяин пыльных нот Творит по кухням блудным очередной обход.– Песня как раз под настроение! – воодушевляется Тора, подскакивая.
И вот она уже танцует – плавно, завораживающе. Колыхается деревом. Определенно, яблоней.
– Поиграй со мной, – просит она.
– Во что?
– В виселицу, или что-то вроде того. Я придумываю слово – ты пытаешься его отгадать по буквам.
– А если я ошибусь?
– Я надену кофту. Куртку. Шапку. Укутаюсь в плед.
– Как интересно! Тогда за правильную букву… наоборот? – фыркаю я.
– А ты молодец. – Тора хватает меня за руку и стаскивает с кровати. – Это о нас. Шесть букв.
– Хм… Счастье?
– Нет, дурачок! В слове «счастье» семь букв!
Тора роется в шкафу и через миг выуживает шерстяную кофту.
– Хорошо, по буквам так по буквам, – сдаюсь я. – Но для начала ответь: ты специально оделась как на Северный Полюс?
– Конечно! – кивает Тора и продолжает колыхаться. – Если бы я была в одном платье, игры бы не получилось.
– Ладно. Может… «О»?
Кофта соскальзывает с Ториных плеч.
– А еще «Л».
Мы не ждем, чтобы ждать, мы не верим, чтобы верить, Но способность стрелять ломает в клетке двери.Тора застывает и прижимается ко мне. Мы стоим долго – вечность или больше, не знаю, и превращаемся в те самые яблони, что обнимались у Ворона.
– Расстегнешь рубашку?
Что, если она загадала «любовь»? Нет, слишком просто. А Хлопушке не нравится, когда просто.
Я перепрыгиваю с пуговицы на пуговицу, и рубашка Торы падает на кофту.
– Осталось чуть-чуть. Давай, Захар, мне жарко в шортах.
Меня посещает неожиданная догадка, но я не спешу ее озвучивать. Вместо этого я провожу пальцем по нежным изгибам Ториной спины.
– «К».
– Говори слово, – стараясь унять сбившееся дыхание, требует Тора.
– Кролик.
Песня заканчивается, и – как же, черт возьми, не вовремя! – кто-то стучится в дверь. Отголоски музыки трескаются карамельной корочкой. Тора натягивает рубашку и быстро, застегивает ее. Я надеваю джинсы. Секунда – и Тора, неестественно выпрямившись, сидит на кровати. Ее фиолетовые колготки и алые губы тускнеют, перегорают, как лампочки на гирлянде – медленно, по очереди.
Я открываю дверь.
– Guten Morgen.[21] Виктория здесь?
Бруно презрительно пялится на меня и почти не моргает.
– Зачем она вам? – хмурюсь я. – У нас сегодня выходной…
Не дослушав меня, он вламывается в комнату. Тора подскакивает, мечется, и, должно быть, жалеет, что ее гирлянда не до конца погасла. Что она до сих пор видима.
– Да как вы смеете! – бледнею я, преграждая Бруно путь, но он отталкивает меня и шагает к ней, к моей Хлопушке. А она отбивается, по-детски, неуклюже. В фиолетовых колготках сложно быть спасателем. Минуту назад я обнимал ее, и она не успела надеть броню.
– Не трогайте меня.
Просьба Торы взлетает бабочкой, но Бруно тут же ее прихлопывает:
– Ты пойдешь со мной.
– Не трогайте меня! Захар, скажи ему!
Еще сотни бабочек. И все размазаны по полу.
А я стою. Стою и смотрю на осколки их крыльев. Бруно стискивает нежные запястья Торы…
И я начинаю понимать. Ночью мы все-таки добрались до звезд, но корпус не принял нас обратно. Я нащупываю в кармане шестеренку.
Это Лида. Больше некому.
Бруно тянет Тору в коридор.
– Захар!..
Я одними губами шепчу ей, что все будет хорошо. Что я разберусь.
Услышь меня. Ты же слышишь лучше других.
Внезапно ее лицо меняется. Она перестает упираться и спрашивает:
– Это из-за… экспериментов? Из-за них?
– Ты о Zahnrad, дорогуша? – вмешивается Бруно.
– Ненавижу!
Этого «ненавижу» хватит на нас всех: и на Бруно, так усердно держащего Тору, и на меня, и на нее саму.
«Я тебя не сдавал, дурочка», – хочу выкрикнуть я, но сразу же прикусываю язык. Не время для разборок.
Бруно уводит ее. Тишину нарушают лишь хриплые рыдания.
Моя Тора, яркая девочка-лампочка, в последний раз вспыхивает и перегорает.
25 Анна [После]
Я снова здесь. В комнате, где на кровати вместо маленькой девочки спит скрипка. А все потому, что утром мне позвонила… бабушка? Как же непривычно так ее называть!
Мы сидим в крошечной кукольной комнате – я, бабушка и дедушка. Непозволительно близко к скрипке. Когда-то на ней играла мама. Что, если я дотронусь до струн? Вернусь ли в прошлое?
Мы говорим о погоде и ценах на хлеб, о том, кем я работаю, и об их жизни – да много о чем. Но ни слова о моей амнезии. Будто мы знакомы вечность. Будто каждое утро завтракаем омлетом, пожаренным на одной сковороде. Будто я просто забыла, что по вечерам мы смотрим бабушкины мелодрамы.
Я не выдерживаю и прерываю замкнутый круг:
– Вы… поможете мне?
– А что ты считаешь помощью? – щурится бабушка.
Сегодня она в обычном халате. Не накрашена, без шляпы с полями. А дедушка… я вспомнила его. Эти мягкие черты лица, слегка перекошенные плечи, высокий лоб – в нем ничего не изменилось.
– Уезжай, Аня, – отрезает он.
– Вы опять? Я должна разобраться, что произошло с мамой.
– Ее кто-то убил, абсолютно точно. На теле были глубокие раны. Много ран. Над ней издевались, перед тем как сбросить с обрыва. Уезжай. Это слишком опасно.
– Хорошо, что опасно, – парирую я. – Люблю экстрим.
Почему, почему они не понимают, что я обязана найти убийцу? Что я за этим и приехала? Илона, Лида, бабушка и дедушка – они все меня от чего-то оберегают. Да так рьяно, что я вот-вот задохнусь.
– Мне пора, – улыбаюсь я, а у самой слезы на глазах. – Рада, что мы, наконец, встретились.
Я выскальзываю из комнаты, и за мной выскальзывает бабушка. Она наблюдает за тем, как я завязываю шнурки на кроссовках, грызет ноготь, переминается с ноги на ногу.
– Навести свою вторую бабушку, Аня. Ее зовут Нина. Соседняя улица, пятый дом. Она слегка не в себе, но… Вдруг именно у нее ты во всем разберешься?
– Ох… Спасибо.
Я бросаюсь бабушке на шею. Как же ее волосы пахнут яблоками!
– Надеюсь, ты найдешь убийцу, – хрипит она.
И мы расстаемся. Я выныриваю из домашнего тепла, так и не попрощавшись с дедушкой. Мы еще увидимся. Обязательно.
Я пересекаю улицу. Небо заволокло тучами, на горизонте сверкают молнии. Гроза парализует поселок.
Первая капля падает мне на лоб. Первый дом покосился и оброс шиповником.
Вторая – на макушку. Второй дом улыбается прогнувшимися ступеньками.
Третья – на плечи. Третий дом заболел туберкулезом и кашляет открытыми окнами.
Четвертая – на пальцы. Четвертый дом страдает от левостороннего сколиоза.
С пятой начинается ливень. Пятый дом машет мне калиткой, и я понимаю: мы знакомы.
За этим окном, в пыльной комнате, валяется поломанный паровоз. В ванной – три зубные щетки.
Ди знала. Определенно.
Поднявшись на крыльцо, я на миг замираю.
Вдруг именно у нее ты во всем разберешься?
Мое сердце танцует, трепыхается, барабанит. Ему тесно в грудной клетке. Я закусываю губу и стучусь.
Кто-то шаркает тапочками. Долго-долго, словно в этом доме бесконечный коридор. Я успеваю тысячу раз пожалеть о том, что пришла сюда, прежде чем на пороге появляется бабушка Нина – маленькая, худая, игрушечная, в пледе. Волосы наэлектризованы, торчат, как иголки.
– Вы кто?
– Журналист, – зачем-то вру я. – Пишу статью о жителях поселка.
– А я думала, Захар, – говорит бабушка и съеживается, уменьшается раза в два. – Проваливайте.
– Но…
– Мне некогда. Скоро приедет сын, а я до сих пор не связала ему носки.
Бабушка Нина собирается захлопнуть дверь, но я хватаю ее за руку. И она не сопротивляется. Такая слабая и беззащитная – я могла бы ворваться в дом, не спросив разрешения, но… Если ты в гостях, всегда снимай обувь.
– Я пошутил. Ты разве не узнаешь своего… сына?
Вопрос дается мне с трудом. Хрустит песком на зубах, отравляет меня.
– Захар? – охает бабушка. – Но носки! Я не связала тебе носки!
– Не переживай. До зимы еще далеко.
Она ведет меня в кухню, спрашивает, как я, что со мной случилось после пожара – «я-не-верила-не-верила-не-верила-что-ты-погиб», – где жена и дочь. А я киваю и клянусь, что у Ани все в порядке. Что «мы с Торой не ссоримся, и нет, по заброшкам не лазаем».
Мы устраиваемся за крохотным деревянным столиком. Бабушка Нина наливает чай. Улыбается, рассказывает о дурацких сериалах и новой пряже. А я слушаю, слушаю, слушаю… и песок на зубах продолжает скрипеть. Я солгала ей, отчаянно ждущей сына.
Я дрянь.
– Мам, – я отодвигаю чашку, – то, что произошло тогда… Как думаешь, что это было?
– Не вини себя, сынок. Это Тора тебя бросила. Эгоистка… – осекается бабушка и мотает головой. Волосинки-иголки падают. – Извини. На самом деле я давно ее простила. И хорошо, что ты тоже простил. Честно говоря, меня пугали твои записи…
– Ты о чем?
Бабушка складывает чашки в мойку.
– Забыл? Сейчас принесу.
Пока она ищет записи, я мою посуду. Серебряные ложки, блюдца и чашки в горошек выскальзывают из рук. Зачем я солгала ей?
Дрянь, дрянь, дрянь…
Нет ничего хуже обманутых надежд.
Я выключаю воду. Успокоиться – какое же это, черт возьми, недосягаемое слово.
– Вот! – выкрикивает бабушка Нина и ковыляет ко мне. – Вот. Ты вырвал эту страницу из своей книжки. И знаешь, я не удивлена.
Она трясет перед моим лицом пожелтевшим листиком.
– Кажется, настало время восстановить записи. Ты же… отдашь их мне?
И я клянусь ей, кукольной и тощей, что обязательно вернусь. Что мне до безумия нужны шерстяные носки. Что я починю паровоз. Что мне пригодится зубная щетка, которую она так долго хранила.
Дождь усиливается, но я не надеваю капюшон. Промокну? Плевать. Главное – записи под кофтой.
Не скучай, бабушка Нина. И прости свою внучку.
Отрывок из записей Захара
Пашка был прав в детстве. Я сумасшедший. Странно, что потом он изменил мнение. Я Кирпич и проломлю череп любому, кто еще раз попытается украсть у меня дочь.
Теперь я не сомневаюсь – Бруно убила Тора. Не прощать никогда, ни при каких обстоятельствах – вот чему она меня научила. Я раздену ее до ребер и поцелую – в самое сердце – чтобы сдать экзамен. Наведу ее губы кровью.
Тора – маленькая девочка, играющая с людьми, как с пазлами. Она растыкивает нас по комнате, прячет за шкафами и под кроватями. Потому что любит.
Но я скормлю ее любовь собакам. Или выкую из нее железную дорогу для своего поломанного паровоза.
Я сожгу Торины песни – они безумнее любого дома – и не позволю, не позволю, не позволю ей отнимать у меня дочь. Даже если придется разбить ее Zahnrad.
* * *
Я лежу на кровати и перечитываю. Снова и снова. Нет, папа не убил бы ее. Папа был добрый, я уверена. И пусть я его не помню – или не знаю? – он любил маму. Клянусь, любил.
Я раздену ее до ребер.
Бред. Бессмыслица. По щекам текут слезы, мне холодно и неуютно. Я натягиваю теплую кофту, и из кармана выпадает визитка – как я могла о ней забыть! – с фотографией Вячеслава и надписью «Zahnrad».
Я где-то слышала это слово. Точнее – видела…
Конечно!
Золотистая надпись переливалась в свете монитора, а противный голосок пищал:
– Еще три минуты.
Борька Иглов. Ученик, способный разозлить меня за секунду. Мальчишка, обожающий дорогие часы. Часы, тикающие-бьющиеся громче моего сердца.
26 Захар [До]
Я вламываюсь в спортзал с твердым намерением схватить Лиду за волосы и выдрать ей пару клоков. Но – немею. Внезапно, необратимо. Мой тренер, жизнерадостный и яркий, сидит на полу. Вытирает слезы и потекшую тушь.
За окном темнеет. Целый день я был на задании. Чертовом задании, не позволившем мне поговорить с Торой. И прежде чем возвращаться туда, где Хлопушка возненавидела меня, я должен разобраться, из-за чего. Или из-за кого.
– Прости, Захар. Бруно… – всхлипывает Лида. – Бруно понял, чем она занимается. Понял где. Понял, кто ее прикрывал. Я думала, он убьет меня.
– Да ничего он не сделает, – отрезаю я. – Но если Тору уволят… в общем, она не переживет этого.
Лида бросается мне на шею.
– Прости меня! Прости, прости!
Ее краска исчезает вместе со слезами. Она полиняла. Ее нужно заново покрасить. А впрочем, и это не поможет.
– Я так хотела романтики! Потащила его на крышу, дура! Я ведь не знала, что вы там! – Лида закусывает губу и отстраняется. – Бруно увидел проклятую шестеренку и сразу смекнул, что я в этом замешана. А ведь он запретил нам даже прикасаться к разработкам Zahnrad! Мы поссорились, он обыскал мой кабинет… Все перерыл! И нашел записи Торы.
Она вытирает слезы ладонью. Ее фигура, сутулая, потускневшая, выглядит неестественно в спортзале. И, наверное, гантели и мячи распадутся на атомы, если их хозяйка сейчас же не наденет ярко-розовые лосины.
– Почему ты с ним?
– Потому что он – мой дом, – криво усмехается Лида.
* * *
Я бреду в нашу комнату. Вокруг – месиво часов, людей, лиц-циферблатов. Нет, я не чайник. И Тора тоже. Чайник – это завод Zahnrad. Это корпус, где мы живем. Я слышу, как он нагревается. Я чувствую, как мы превращаемся в накипь.
Иногда стоит просто закрыть глаза.
Закрыть глаза.
Закрыть.
Я спотыкаюсь и проклинаю ступеньки, скользкий пол, темноту, звезды. Я добрался до них, но… как теперь спуститься?
Нырнув в спальню, я замечаю на кровати записку. Крохотную. Пахнущую яблоками. Вне себя от волнения я разворачиваю ее.
«Ложись спать, буду поздно. Хочу проветриться. Целую».
Целую.
Она не злится! Она все поняла!
Облегченно выдохнув, я придавливаю себя одеялом и молюсь, чтобы Хлопушка вернулась. Чтобы прокричала: «Люблю тебя!» Чтобы сыграла на скрипке. Чтобы мини-губы больше не калечило проклятое «ненавижу».
Я не сплю. Не сплю. Не сплю.
Сегодня утром Тора загадала кролика. Интересно, что бы она загадала сейчас?
В комнате темно, но это и к лучшему. Я представляю, как протягиваю руку и дотрагиваюсь до Торы. Как глажу ее волосы, губы, ключицы.
Она рядом – чуть выше звезд. Мне просто нужна лестница подлиннее. На пару ступенек.
* * *
Семь утра. Торы нет.
Я распахиваю окно – слишком разит вчерашним «ненавижу». Моя одежда пропахла им, вытеснила аромат яблок.
Мне все приснилось.
Приснилось.
Я выскальзываю в коридор и сливаюсь с толпой. Стая спешит на работу.
Где-то играет музыка.
Если прижать ракушку к уху, вы не услышите шум моря. Это миф. На самом деле звуки проехавшей машины, цокота каблуков длинноногой красавицы, движения крови в организме резонируют со стенками ушной раковины. Но стоит закрыть глаза – и ты на песчаном берегу.
Я взлетаю по лестнице – к кабинету Бруно. Мне нужно ему все объяснить. Он поймет.
Мифы превращаются в реальность, если зажмуриться. Просто закрыть глаза и представить, что ты мчишься к звездам.
Я сталкиваюсь с Екатериной Константиновной и бормочу извинения. Мне в спину, точно в мишень для дартса, летят ругательства. Екатерина Константиновна не знает, как за секунду добраться до моря. А ведь это легко: прислони ракушку к уху. Закрой глаза.
Я вхожу в кабинет Бруно без стука, задыхаясь от волнения.
– Захар… Доброе утро.
Герр Шульц расплылся в кресле бесформенным облаком. Ногти стучат по столу. Поссорился с когтерезом?..
Опустившись на стул, я спрашиваю:
– Где Тора?
Бруно пристально смотрит на меня и щелкает ручкой.
– Без понятия. Но мы с ней обсудили далеко не все.
– И я…
– Ты не думай, – перебивает он меня, – я не монстр. И не убийца.
Я глотаю нервный смешок.
– Правда?
Щелк-щелк-щелк – ругается ручка. Цок-цок-цок – возмущаются ногти.
– Ты малолетка. Неотесанный пацан. Недоучка. – Бруно раздувается, как огромный парус. Кресло под ним трещит. – Как по-твоему, зачем я вас нанял? Чтобы убивать? И не говори о домах. Они заслуживают…
– Даже Чайка? Даже она заслуживает?
Болевые точки у всех одинаковые, и плевать, что у тебя внутри – шестеренки или кровь. Я хороший спасатель и – плохой собеседник.
На лице Бруно проступают красные пятна. Пальцы каменеют. Ручка падает, укатывается под стол.
– Да, – шипит Бруно, наклоняясь ко мне. – Даже она.
– Вы по ней не скучаете?
– Я ненавижу чаек. И ненавижу магнолии.
– Именно поэтому вы плакали?
Он хватает меня за воротник и встряхивает.
– Найди Тору, Захар. Я обещаю, что не заставлю ее выплачивать штрафы. И не уволю. Она – наш единственный шанс.
– Хорошо, – киваю я, а сам прокручиваю в голове вчерашнюю сцену.
Тора исчезла. Тора обманула нас.
Тора ушла в свободное плавание.
Интересно, она до сих пор считает, что я ее выдал? До сих пор проклинает меня? Что, если в эту секунду она стирает со стен Ворона отпечатки наших ладоней?
Глупая, глупая девочка. Ты не оставила мне ничего, кроме снов. Так нечестно.
Слышишь?
Нечестно.
* * *
– Она пропала, – заявляю я, переступив порог кабинета Лиды.
К когтерезу заглянула и Ди: она переминается с ноги на ногу, готовая в любой момент разбить Zahnrad. Но сегодня нам угрожают не дома и даже не кот с отросшими когтями. Мы слабы без Торы. Все до единого.
Лида сползает на стул, вцепляется пальцами в колени. Слезший лак напоминает японские острова.
– Мы найдем ее, – продолжаю я.
Часы выстроились в ряд на длинной полке. Ди гладит циферблаты и морщится:
– Смеешься? Если она пропала, то это его рук дело. Его! Он убьет Тору. Или уже убил.
Я смотрю в потолок и вижу лицо Бруно. Перекошенное, как Пизанская башня. Он ненавидел нас с Торой, часы, Лиду, Ди. Магнолии и чаек. Нет, он не знает, где она. Бруно не умеет играть на публику. Бруно плохой актер.
– Он не виноват.
– Захар прав, – подает голос Лида. – Он нормальный.
– Да нифига! – багровеет Ди, сжимая кулаки. – Ни-фи-га! Он псих!
Я качаю головой.
– Псих, которому позарез нужна Тора. Мы будем ее искать. Хотя бы потому, что это задание твоего начальника.
– Или хотя бы потому, что ты неудачник и она тебя бросила, – парирует Ди.
– Иди к дьяволу.
Все не так страшно. Закрой глаза. Просто закрой.
Я скучаю, Тора.
Танцуй, где бы ты ни была, играй на скрипке, но не уезжай на море. Ты ведь не устала? Я буду ждать вас с Вороном. Обещаю.
– А если это действительно Бруно? – Ди подходит ко мне вплотную. Мы почти соприкасаемся лбами. – Что тогда?
– Тогда я закопаю его.
Расцарапаю изнутри. Вырву сердце. Закрою глаза и пойму, что на ощупь оно такое же, как мокрый надувной мяч.
Я сыграю им в волейбол.
– Как же вы ошиба-а-аетесь, – шепчет Лида. Слезы высохли, и черные подтеки разделили ее лицо на островки. Хонсю, Сикоку, Кюсю и Хоккайдо, не иначе. – Как же вы ошибаетесь, ребята.
* * *
Матушку выписали быстро. Я загорелся идеей поскорее восстановить Воробья, пусть и мертвого, отреставрировать его, и уже через несколько месяцев мы переехали в наш дом.
Сначала было трудно. Жить в том поселке, где когда-то пахло яблоками и танцевала самая маленькая девочка на свете, – все равно что играть в рулетку. Сегодня ничего, держишься. Не выстрелило. А завтра ты труп, потому что внезапно из шкафа выпадает плюшевый кот. Или проигрыватель. Она не забыла их, но забыла все остальные вещи, включая тебя.
Матушка обрадовалась, когда я притащился к ней с двумя чемоданами. В первом – моя одежда. Во втором – одежда Торы.
Когда Хлопушка найдется, я поглажу ее любимое платье. А она найдется. Нужно только зачеркивать дни в календаре. Угольком. Этот урок я усвоил с детства.
Теперь мы с матушкой часто пьем чай по вечерам и говорим – о мелочах. С трудом. Перебарывая страх. Замалчивая главное. А днем я пропадаю на работе в компании Ди. Этой девчонке все нипочем. Она, как и раньше, живет в корпусе, титановая, хмурая.
По выходным у нас тренировки с Лидой. До изнеможения. Пока тело не превратится в бесполезную груду мышц.
А еще я продолжаю писать книгу-дневник – медленно, по странице в день.
Иногда Бруно вызывает меня к себе. «Тора не объявилась?» – вот что его тревожит. А я лишь мотаю головой.
Ее больше нет, знаете ли. Знаете ли, и меня тоже.
Бруно это злит. О, как же злит. Он дергается от звонков, часами пялится в окно сквозь щелку штор, пьет виски на завтрак, обед и ужин. Он – кот, но не умеет приземляться, – если понадобится сбежать, у него не получится. Чувствует, что растечется по асфальту черным фритюром.
А Лида… Эта женщина в ярко-розовых лосинах без устали бегает за ним.
В свободное время я ищу Тору, брожу по городу в надежде встретиться с ней, пытаюсь поговорить с ее родителями, но – бесполезно. Город неприветлив, как и тетя Марина и дядя Антон. «У Торы все отлично, но она не хочет тебя видеть, – говорят они. – Нам очень жаль, ты хороший парень».
После очередной неудачи я возвращаюсь домой – пить чай и молчать о главном.
А потом снова утро. Снова будильник, который заедает и выключается через раз. Снова в зеркале заспанное непонятно что – мое лицо?.. Снова матушкины сырники. Снова Кайли Миноуг по радио. Снова восемь пятнадцать и корпус. Снова «Хорошего дня!» от Бруно, а между букв – «Где она?». Снова тренировки и сбитые костяшки на руках. Снова матушкины шрамы по всему телу, как тающий воск. Снова сон на правом боку. Снова запах гари, а не яблок.
Снова, снова, снова…
Я схожу с рельсов, как поломанный паровоз. Иногда я вытаскиваю матушкин подарок из-под кровати и радуюсь, что она не выкинула его.
Время летит.
Мы с матушкой празднуем Новый год. Рождество. Двадцать третье февраля. Восьмое марта. Мы празднуем все что угодно, но не ее возвращение.
Торы нет семь месяцев.
А Бруно по-прежнему задергивает шторы. По-прежнему пьет виски. По-прежнему дергается, когда ему кто-то звонит.
Мы ждем ее вместе и глотаем наше общее «снова».
27 Захар [До]
Сегодня мне исполнится двадцать три. В свой день рождения я просыпаюсь из-за тиканья. Что-то крутится внутри меня, оживает, и это «что-то» очистилось от ржавчины.
Раз – и я подскакиваю. Все изменилось: мой дряхлый шкаф блестит на солнце, как старушка-невеста, а трещина на зеркале улыбается.
Тик-так.
Я сползаю на пол и прислоняюсь ухом к пыльному ковру.
Тик-так.
Это сердце. Я узнал бы его из тысяч других. Ворон. Ворон ожил.
И существует лишь один человек, способный сделать мне такой подарок на день рождения.
Где же ты была, моя Хлопушка?
Я нащупываю в кармане шестеренку. С того вечера я не расстаюсь с ней. Это доказательство того, что Тора реальна. Что я не тронулся умом.
Запах выпечки повсюду – матушка готовит торт. Я спускаюсь на первый этаж и обнимаю ее.
– С днем рожденья тебя-я-я, – поет она.
Я благодарю матушку, а вместе с ней и весь мир: скоро нам исполнится двадцать три.
– Пожалуй, пройдусь немного. До завтрака успею, обещаю, – бросаю я, а сам выбегаю на улицу.
С каждым шагом Ворон тикает все громче. Он скучал и рад, что вернулся из отпуска. Да и я рад.
Я тоже вернулся.
До дома еще далеко, а я уже слышу запах яблок. На клочке облака висит утренняя луна, точно игрушка над детской кроваткой. Я спотыкаюсь, перелезаю через обломки сгоревших монстров, где совсем недавно побывала Стая.
И вот я у цели. Преодолею две ступеньки – дотянусь до звезд.
Покореженные ворота за моей спиной рыдают. Яблони шелестят, срастаются ветками. А Ворон… Ворон до сих пор улыбается. И пусть его тело теперь – одна сплошная гематома, он счастлив, что снова чувствует.
Здравствуй, друг.
– Тора? – зову я.
«Нет, это я. Я-я-я…» – едва слышно лязгают поломанные замки. Ворону трудно разговаривать после комы.
– Тора!
Ее здесь нет. Наверное, она оживила Ворона ночью. Или и того раньше, но я так увлекся поисками, что не заметил.
Подарок не удался.
Я падаю на колени. Шестеренка выкатывается из кармана и исчезает за горой бутылок. Холодно. В гостях у Ворона никогда не было так холодно.
Отпечатки наших ладоней стерлись. На обломках крыши свила гнездо ворона. Под ногами хрустят листья. Чей-то маленький мирок превращается в идеально мертвую плоскость.
Ты меня помнишь, Ворон?
Как отдохнул?
Поработав в Стае, я привык говорить с домами мысленно. Возможно, потому что боюсь общаться с теми, кто умирает, вслух. Возможно, потому что стыжусь. Возможно, потому что в голове все кажется нереальным.
Ворон молчит. Я – тоже. Интересно, он в курсе, сколько его братьев я сжег?
«Пятьдесят шесть», – хрустят осколки окон.
Где-то там, на улице, в другой реальности, на чужой планете моросит дождь. Небо пытается умыть Ворона, оттереть его клиническую смерть, как пятно от шелковицы.
– Прости…
Но это «прости» тонет корабликом в луже. Я не успел натереть его воском. Я вообще ничего не успел.
– Я принес тебе подарок. Ты поможешь мне?
Ты же горел. Ты же должен уметь помогать.
Я подползаю к шестеренке и прячу ее там, где когда-то тикало сердце.
– Верни ее, приятель. Верни. Это мое желание.
Ворон не отвечает, но я ощущаю согласие в каждом кирпиче, в каждом разбитом окне. И, клянусь, если бы у дома были мышцы, он бы напряг их до предела. Он бы сцепил зубы и похлопал бы меня по плечу.
Я помогу тебе, друг.
Я помогу тебе, убийца домов.
Где-то рядом, прямо подо мной, стучит новое сердце Ворона. На этот раз оно в подвале. На этот раз оно ушло в пятки.
– Здравствуй, – раздается за моей спиной.
Я оборачиваюсь. Пашка. Помятый, как рубашка после стирки. С сигаретой в зубах. Обгоревший на солнце.
– Ее ищешь?
– Кого?
Он шагает ко мне, спугивает ворону с покосившейся рамы, тушит сигарету о подоконник.
– Тора недавно приезжала. На пару часов.
– Неужели? – раздраженно фыркаю я.
В любой момент сюда может вломиться Ди. Как я ей объясню, почему праздную день рождения в гостях у скелета? Как объясню его воскрешение?
Но больше всего я боюсь, что Пашка что-то об этом знает. Как бы тихо он ни шептал, для спасателей его слова прозвучат слишком громко. Слишком четко. Они разберут их по слогам и сожрут на завтрак. А затем убьют Ворона.
– Тора спрашивала о тебе. Я сказал, что ты окончательно свихнулся. Ждешь ее, как ненормальный. – Пашка извлекает из кармана зажигалку и щелкает колесиком. – Она попросила передать, что ты не чайник с накипью. Во бред, да? И предложила вам встретиться. Через два месяца. Здесь же.
– Что? – бледнею я. – Почему через два?
– У нее есть уважительная причина, – мрачнеет Пашка.
– С… Спасибо.
– Тебе спасибо. Мы ваши должники.
Пашка перепрыгивает через подоконник и исчезает в перекрестках улиц.
«С днем рождения», – кряхтят ставни.
Спасибо, Тора. Спасибо, Ворон.
Как же я рад, что вы вернулись из отпуска.
* * *
Я снова жду. Два месяца – как в детстве. Зачеркиваю дни на календаре. Теперь у меня есть целый комплект фломастеров. Десять штук, чтобы хватило.
Но когда наступает тот самый вечер, я выкидываю их в урну и – что есть мочи бегу к Ворону.
Он встречает меня хлопающими дверями – соскучился. Я навещаю его пару раз в неделю и знаю, что он ревнует. Дома любят внимание. Любят, чтобы человек принадлежал им.
– Извини, брат, чаще не могу, – оправдываюсь я.
Извини, брат, я обязан сжигать таких, как ты.
Ворон все понимает и не боится меня. Скорее, поздравляет, ведь я почти добрался до звезд. Осталась последняя ступенька.
Я окунаюсь в полумрак комнаты и приземляюсь на подоконник. Торы пока нет. Но если потребуется, я буду ждать ее до утра. В спину бьет ветер и свистит: «Очнись, очнись, очнись…»
А я сплю. И мне нравится.
Я оглядываюсь – луна светит прожектором – и сталкиваюсь лицом к лицу с лесом. Кажется, я даже читаю его мысли. Этот парень хочет обнять меня и похлопать по плечу, как старого друга. Он тоже любит внимание. И тоже безумен. Он не замечает того, что творится у него перед носом. А творится следующее: в траве скукожился черный комочек. Птенец. Птенец вороны.
Совсем недавно гнездо было полно жизни, а сегодня часть этой жизни терзают муравьи.
«Кар-кар-кар», – рыдает ворона.
Я отворачиваюсь. Смерть разозлилась, что я не отдал Ворона, и забрала птенца.
– Почему ты им не помог? – спрашиваю я у дома.
– Не успел.
Раздается шорох.
«Это она, она, она», – стучит сердце.
«Это она», – подтверждает Ворон.
В темноте вырисовывается силуэт, хрупкий, крохотный. Я жадно втягиваю воздух, но не чувствую аромата яблок – лишь запах пыли.
Часы с каждой секундой барабанят все громче, заглушают мое волнение.
– Здравствуй, – выдавливаю я.
Тора подпрыгивает и настороженно озирается.
– Надеюсь, ты пришел без группы поддержки?
– Да…
– Если ты приволок Бруно, – она упирается тонким пальчиком в мою грудь, – я за себя не ручаюсь. Он ничего не получит!
Я стискиваю зубы. Где ты, Хлопушка? Неужели забыла, что мы с тобой выкроены по одинаковой схеме?
– Я не его ищейка. Успокойся.
Нет, Тора не узнает меня. Мы стоим в сантиметре друг от друга, но вот аномалия: этот сантиметр больше миллионов километров. Мне хочется во все горло завопить: «Где ты? Вернись! Если звезды тебя не приняли, давай отправимся в ад. Там Бруно точно нас не найдет».
Тора чертыхается и отстраняется, как только я нащупываю ее руку.
– Зачем я тебе, Захар? – вздыхает она и прислоняется лбом к стене – извиняется перед Вороном за сцену.
– Мы же… Мы же должны быть вместе.
Где ты, где ты, где ты? Как мне догнать тебя? Возле какой звезды искать?
– Ничего мы не должны.
Я вцепляюсь пальцами в ее плечи и шиплю:
– Клянусь, я бы не выдал тебя.
Тора вздрагивает. Ее каменный кокон трескается. Я прижимаюсь щекой к ее макушке. В голове звенит колоколом: «Я нашел тебя, нашел, нашел…»
Ты была совсем рядом.
Мысли стучат громче сердца, и я боюсь, что Тора их услышит. Думать тише – вот чему нужно учиться спасателям.
– Зря я впутала сюда Лиду.
– С ней все в порядке. Конечно, после твоего побега они с Бруно поругались, но уже на следующий день обнимались как ни в чем не бывало.
Тора молчит, и я не тороплю ее. Мы изменились. Заржавели. Сошли с рельсов. Раньше мы мчались к звездам, а теперь – в преисподнюю.
И я не выдерживаю. Представляешь, говорю, я почти год метался между городом и поселком, с Пашкой подружился. Ты мне каждую ночь снилась, говорю. Как «Санта-Барбара»[22], ей богу. А еще я научился ходить на ощупь. Тора, Тора, как же я мечтаю прокричать, что нам двадцать три! Нам, а не мне. И чтобы мы не расставались. Чтобы жили по соседству со звездами, в аду, да хоть у ног дьявола – не важно. Главное – есть яблочный пирог и танцевать под «Наутилусов».
Тора тянется к моему уху, но сразу же отстраняется. Нас парализует сердцебиение Ворона, будто мы по-прежнему дети и сейчас прячемся от Пашки.
– Забудь, что мы встречались. Пожалуйста. И меня забудь. – Тора пересиливает себя и касается губами моих губ. – Я… пишу песни. Много песен. В музыкалке учусь.
– Нет…
– Ты почти нормальный. Пользуйся этим, умоляю, – всхлипывает Тора, пятясь. – Мы… Мы тебя любим, Захар.
Мы тебя любим.
Мы.
Две буквы. Два человека. Тора и…
– О ком ты?
Но Хлопушки уже нет. Хлопушка исчезла за обгоревшей дверью. Я устремляюсь следом. Луна нырнула за облака, и как бы я ни старался разглядеть Тору во тьме – я снова слеп. Я снова разучился ходить на ощупь.
Невдалеке раздался рев машины.
28 Анна [После]
Я не спятила. Павел, Вячеслав, Илона действительно существуют. У меня есть доказательство – визитка с фотографией.
Дрожащими руками я беру с тумбочки телефон и нахожу номер Иглова. Динамик кряхтит гудками.
– Алло.
– Здравствуй, Боря. Это твой преподаватель, Анна Захаровна. Помнишь, у тебя были часы марки Zahnrad? Не подскажешь, где ты их покупал?
* * *
Завод Zahnrad расположен на окраине города. Широкий четырехэтажный монстр пестрит граффити, признаниями в любви и ненависти. Издалека он напоминает гниющее яблоко.
Лестница у центрального входа потрескалась. На перилах сидит каменный кот с отвалившимся носом. Он наблюдает, как я толкаю дверь и проскальзываю внутрь. Должно быть, он наблюдал и за мамой. Но, к сожалению, каменные рты не умеют разговаривать.
В коридоре душно. Пахнет колбасой и свежими газетами. Обои, люстра, лифт, пара кресел – все из прошлого.
Люблю старые ремонты. Это – единственная реальная машина времени.
На вахте дежурит старушка и, из последних сил стискивая карандаш, разгадывает кроссворд.
– Кого вам?
Я нащупываю в кармане визитку Вячеслава.
– Мне бы в отдел кадров.
– Пропуск.
– Я не работница…
Старушка возвращается к кроссворду.
– Посторонним нельзя.
– Ладно, – иду на попятную я. – А к начальству?
– Прямо по коридору, – неохотно кивает она и черкает что-то в заполненных клеточках. – Прямо, а потом направо.
Поблагодарив ее, я смыкаю лопатки и шагаю мимо потускневших картин-пейзажей. Кто-то приклеил жвачку на яркое-яркое небо, и получилось объемное облако.
Рядом с кабинетом начальника все больше дождливых, пасмурных пейзажей. Тишина давит на уши, и лишь чирканье карандаша вахтерши разряжает обстановку.
Мысленно сосчитав до десяти, я стучусь и вхожу в помещение, заваленное часами. Нет, это вовсе не кабинет. Стойка, высокие стулья, шкаф со спиртным и только у окна – крохотный рабочий уголок. Там и сидит мужчина, изучающий какие-то документы. Ему лет тридцать пять, а может, меньше. Высокий лоб светится от пота, как прожектор. Улыбка – тонкий серп. На столе горит ноутбук.
– Мне бы…
Я падаю в кресло и выуживаю из кармана визитку Вячеслава. Начальник захлопывает ноутбук.
– Меня зовут Анна Захаровна.
– Очень приятно. Алексей Евгеньевич.
Я кладу визитку на ноутбук.
– Вы его знаете? Он… пропал.
Улыбка-серп превращается в тонкий нож.
– Да, это наш сотрудник. Но он не пропал, а погиб.
Нет.
Выдох застревает в горле, кровь шумит в ушах отбывающими поездами. Сердце стучит, стучит, разгоняется. Мой внутренний мини-вокзал работает как часы.
– Что? – переспрашиваю я.
– Несчастный случай.
– А… когда? Как это произошло?
– Да уже лет десять назад. Тогда заводом управлял герр Шульц…
– Где он?
– Вы к нему не попадете, – отрезает Алексей Евгеньевич.
– Почему?
Он подается ко мне и шепчет:
– Герр Шульц тоже погиб.
Я сжимаю кулаки и заставляю себя успокоиться. Не время паниковать. Еще не время.
– Расскажите мне о Вячеславе, – прошу я.
Если человека, с которым я бродила по пляжу не существует, тогда… Тогда не существует ни меня, ни мужчины с лбом-прожектором, ни жвачки на картине. И это хуже смерти.
– О Вячеславе? Нет-нет, его зовут Иволга Захар Игоревич.
Захар Игоревич.
Если это не совпадение, если весь мир не решил повеселиться за мой счет, если я действительно существую… я вижу отца, погибшего десять лет назад. Вижу того, чьих фотографий у меня никогда не было.
И я вдруг вспоминаю, как изо дня в день искала папу, а он, оказывается, жил на соседней улице. Так близко, что можно дотянуться и прижаться лбом к его окну, подышать на стекло и написать: «Спокойной ночи».
А еще я вспоминаю, что папа не замечал меня. И лишь однажды, на обочине, когда я умоляла его спасти ворона, – заметил. Как же я злилась, что он не узнавал в родинках на моем лбу свою и мамину!
Но это мелочи. Сейчас я плаваю на поверхности.
Я – тонкая бензиновая пленка, и у меня не получается достигнуть дна. Там что-то прячется, я чувствую.
Алексей Евгеньевич обеспокоенно спрашивает:
– Вы в порядке?
– Извините, – сглатываю я. – У вас работает кто-нибудь по фамилии Рэу?
– О, эта семейка. Работают. Муж и жена, пенсионеры. А дочка их, Виктория, погибла вроде бы. – Алексей Евгеньевич щурится и облокачивается на спинку кресла. – Зачем они вам? Специальными часами интересуетесь?
– Можно и так сказать.
– Вы же понимаете, с чем имеете дело?
– Нет, – бессильно развожу руками я.
– Ну, теперь понимаете.
Я прокручиваю в голове разговор с бабушкой и дедушкой.
Высокая, высохшая заживо женщина, миниатюрная комната, скрипка… Дура. Какая же я дура! Я ведь бегала к ним в детстве. И они к нам тоже. Приносили яблоки, а мама пекла пирог. Пахло корицей.
Когда-нибудь ты вырастешь и приготовишь нам пирог сама.
Чтоб с яблоками. Обязательно с яблоками.
И с корицей – без нее никуда.
Последнее всегда прибавлял дедушка. Мы смеялись, уминая горячую выпечку.
Картинки загораются поочередно, как гирлянда на елке, и я пытаюсь запечатлеть их, сохранить в тайне от подрывника.
Поблагодарив Алексея Евгеньевича, я поднимаюсь и шагаю прочь. Здесь жила моя семья. Мама, папа, бабушка, дедушка. А я… я чужая.
Клянусь, бабушка, я испеку пирог. Обязательно с корицей, без нее – никуда.
– Извините, – окликаю я вахтершу. – А вы давно работаете на этом заводе?
Она отрывает взгляд от кроссворда и отбрасывает ручку.
– Лет двадцать. А что?
– Вы не в курсе, что случилось с герром Шульцем? Из-за чего он погиб?
Вахтерша наклоняется ко мне и шепчет:
– Да девка одна его подставила, Торой звали. Упертая была, злая. Шульц не заслуживал такой смерти, хоть и натворил дел. А бедная Лидка потом места себе не находила, год ни с кем не разговаривала! Они с Шульцем любили друг друга, любили до безумия…
У меня перед глазами двоится, но я все же нахожу в себе силы и спрашиваю:
– Лида живет в поселке у моря? Красится фиолетовой помадой? Занимается йогой?
– Да-да, – подтверждает вахтерша. – Она.
Я иду к выходу – на негнущихся ногах, как железный солдатик.
– Милочка, помоги отгадать. Подчинение разума чему-либо. Одиннадцать букв.
– Одержимость, – отвечаю я.
Эта старушка, обожающая кроссворды, даже не догадывается, что попала в точку. Мой разум давно подчинился и теперь тикает, тикает, тикает. Не дает мне уснуть. Отсчитывает секунды. Звенит вместо будильника. Но вот беда: его невозможно отключить.
* * *
Лидия молчит. Каменная, старая, как гнилая груша. Еще немного – и кресло впитает ее, проглотит. А я стою возле клетки и медлю. Мой вопрос, проклятый вопрос «Это правда?» повис в воздухе.
Гроза трется о мои ноги. Чувствует, что творится неладное.
– Твоя мать заслужила каждый удар. Я ненавидела ее, но… не убивала. Хотя с радостью сделала бы это, если бы меня не опередили. А теперь проваливай, Аня.
Лидия поджимает губы и вцепляется в ручки кресла. Мне страшно смотреть на нее, но и не смотреть я не могу. Гипноз, не иначе.
– Мама никогда бы…
– Проваливай!
Лидия подскакивает и надвигается на меня, как огромная туча. Гроза убегает от нас в кухню.
И я не выдерживаю. Срываюсь с места, несусь по темному коридору, по обожженному солнцем огороду, – дальше, дальше, лишь бы не видеть каменной Лидии. Лишь бы не чувствовать ее боль.
Ложь. Моя мама никогда бы.
Никогда.
* * *
Я листаю книгу Лидии всю ночь. Страницу за страницей, главу за главой. И вот на часах уже пять утра, но мне не спится. Заметки на полях, закладки, кляксы – все это выглядит как история болезни шизофреника. Как моя история болезни.
Теперь я знаю, что к каждому живому дому привязан призрак. Что часы – это их общее сердце.
Обожженные, не до конца сгоревшие дома – наполовину трупы. Мертвые ищут в них дверь, ведущую в никуда. Живые и одержимые своими желаниями – дверь, ведущую куда-то.
Но… какую дверь ищу я? Куда стремлюсь?
В никуда или куда-то?
Я до боли закусываю губу.
Следующая глава называется «Возврат душ».
Я вчитываюсь, силюсь разобрать кривой почерк на полях. Смысл предложений до меня доходит не сразу. А когда доходит, я леденею. Надо мной – наст, я в снегу, в ледяном гробу. Весны не будет. Весна отменяется.
Дома умеют будить мертвых, и, если этих тварей хорошо попросить, они подменят душу в здоровом теле на призрака. Постепенно поразят человека, как вирус. Умерший будет возвращаться медленно, по одной привычке в день. По одной болезни. По одной фобии.
Дом – настоящий Дед Мороз для одержимых. Но чтобы под елкой появилась заветная машинка на радиоуправлении, нужно хорошо себя вести. И подарить Деду Морозу кое-что взамен. Правда, чтобы оживить призрака, санки с двигателем и термобелье не подойдут. Он будет ждать особенный гостинец. А если не дождется – убьет того, кто загадал желание.
Кредит на выживание.
Вопрос на миллион: кого взять под залог?
Новая информация пульсирует в висках и горчит на языке. Скоро у меня будет интоксикация организма, слишком уж она ядовитая.
Два Павла.
Два мужа.
Две жизни.
А тело – одно.
Кого Илона взяла под залог? Какую дверь она ищет?
В никуда или куда-то?
Перед глазами – фотография Илоны с первым мужем, которая тут же сменяется снимком Ди. Почерневший подоконник и…
Мое полотенце.
29 Ди [До]
90-ые гг.
Ди шла по проспекту. Со всех сторон ее толкали люди. Семь вечера в городе – время, когда лучше не гулять без надобности – раздавят. Но у нее надобность была. Причем – какая! Вчера, когда Ди фотографировала многоэтажки и пыльные трамваи, где-то совсем близко пробежала Тора. Ди заметила ее на снимке: съежившаяся, в длинном пальто, с футляром для скрипки. Она спешила на троллейбус, отъезжающий в пять минут восьмого.
Возможно, сегодня все повторится? Люди ведь часто повторяют одни и те же действия. Вплоть до количества шагов, выкуренных сигарет и слов-паразитов. Ди надеялась, что город приучил Тору к расписанию. Молилась, чтобы приучил.
На остановке троллейбуса толпились люди, но среди них не было той, что носила с собой скрипку. Ди смотрела на вчерашний снимок и ругала себя за невнимательность. Она бы окликнула ее вчера и заставила бы объясниться, но…
Между старушками в потертых пуховиках мелькнула знакомая фигура. Еще пара рывков – и девушка в сером пальто скрылась бы в троллейбусе, но Ди схватила ее за локоть. Тора дернулась. Дурочка. Они ведь обе спасательницы. Обе умеют ловить.
Ди увлекла ее за собой. Вынырнув из толпы, они юркнули в подворотню. Полумрак отчерчивал лицо Торы неестественно остро и хлестко. Где-то далеко шумели люди.
– Почему ты прячешься? – Ди достала из кармана сигарету и зажигалку. Щелк – дым смешался с полумраком.
– Глупый вопрос.
– Я не о Бруно. И ты знаешь.
– Как ты меня нашла?
Ди облокотилась на рыхлую из-за облупившейся краски стену и затянулась.
– Ответь.
– Так… проще.
– Почему?
– Потому что никто не задает глупых вопросов! – вспыхивает Тора.
– На скрипке играешь, да?
– Учусь в музыкалке.
– А песни?
– Пишу.
Они помолчали. В дыму черты лица Торы смягчились. Теперь она казалась маленькой девочкой.
– И что нам делать? – прохрипела она.
Ди снова затянулась.
– Не парься. Захар не знает, где я.
– Спасибо. Как он?
– А то ты не догадываешься.
Тора зажмурилась и всхлипнула.
– Я не хотела, чтобы он страдал из-за меня. Честно, я пыталась… Пыталась расстаться с ним.
Ди подошла к ней вплотную.
– Так какого черта не рассталась? Ты не представляешь, что с ним сейчас творится.
– Я люблю его, – Тора проглотила слезы, – но сдохну, если не буду писать песни. А когда я счастлива, ничего не получается. Я высыхаю. Те месяцы в корпусе, счастливые месяцы с Захаром… я вспоминаю их с радостью и одновременно с ужасом. Как будто он крал ненаписанные строчки. Бред, конечно, да? Но лучше уж я буду рыдать, играя на скрипке, чем танцевать с самым прекрасным человеком в мире на ее обломках. – Она оттолкнула Ди и вытерла слезы рукавом пальто. – Мне пора. И… не проболтайся Захару.
Стук-стук-стук – зацокали ее каблуки. Тора исчезла за поворотом.
Ди потушила сигарету.
– Сука.
«Ты будешь танцевать на обломках», – подумала она и, выудив из кармана телефон, набрала Бруно.
30 Бруно [До]
80-ые гг.
Десятилетний Бруно сидел во главе стола. Желто-оранжевый колпак прикрывал макушку. Шишка на лбу ныла и пульсировала, но мама зачесала челку так, чтобы никто ее не разглядел.
– С днем рождения! – воскликнули гости – русские сотрудники с завода отчима.
К слову, об отчиме. Перед застольем он подарил Бруно целую коробку с бракованными деталями: шестеренки, циферблаты, амортизаторы, платины[23] – там было все. Мальчишка обожал конструировать часы – в подвале, под тусклой лампой. Чем не мастерская?
Отчим обронил «С праздником» и потрепал Бруно по щеке, будто это не он три часа назад ударил пасынка по той же щеке. Будто не он толкнул его на ступеньку крыльца. Будто не из-за него мама старательно зачесывала сыну челку.
Все случилось быстро. Бруно залез на магнолию – дерево, которое отчим выращивал уже восемь лет, – и сломал ветку с четырьмя бутонами. «Идиот! Первое цветение – это как первая поездка на велосипеде или как первый поцелуй – ни с чем не сравнится, – разорялся отчим, когда Бруно оправился от его удара. – А ты взял и все испортил».
Из кухни доносилось кряхтение радио, пахло ванилью. Мама пекла торт. Заметив топчущегося на пороге сына, она скользнула взглядом по ссадине, но не сказала ни слова. Лишь усерднее стала замешивать тесто, а через час, зачесывая Бруно челку, прошептала: «Прости».
А потом – желто-оранжевый колпак и много-много гостей. Горы подарков. «Все будет хорошо» – от мамы. «С праздником» – от отчима. Коробка деталей – как извинение.
Вот только Бруно с того дня возненавидел магнолии. Он прочитал в книге по ботанике, что аромат четырех-пяти цветков может убить, если оставить их в комнате с запертыми окнами. А отчим твердил, что настой сушеных листьев магнолии лечит от гипертонии, эфирное масло – от выпадения волос. И оба были правы.
Со следующей недели Бруно возненавидел ярко-синюю «Чайку»[24] отчима. Мальчишку раздражали мягкие, женственные формы машины. Ко всему прочему его в ней укачивало. И нет, здесь ни при чем подзатыльник отчима. Ни при чем мяч, ударивший «Чайку» прямо по кузову. Бруно терпеть не мог синий, его оглушал рев мотора, бесил вечно заедающий замок на двери. Отчим же восхищался мощным двигателем, хвастался перед друзьями, что впускной коллектор, блок цилиндров и поршни изготовлены из алюминиевого сплава. И оба были правы.
А через месяц Бруно возненавидел отчима. Он бы с радостью оглох, лишь бы не слышать его «проехали» и маминого «прости». Мальчишка злился не из-за синяков или шишек. Он злился из-за магнолии и уродской «Чайки», из-за желто-оранжевого колпака и маминого торта. Какой-то важный механизм сломался в нем – очень-очень давно. А отчим кричал, что пасынок идиот. И оба были неправы.
Бруно мечтал вернуться в Кельн, в их уютный домик, который построил отец. Ему снилось, как он забегает в гостиную, а там сидит папа. Как и раньше, он машет ему. Как и раньше, прячет улыбку за черными-черными усами. Как и раньше, в огромных очках. И худой. Какой же он худой!
Но отец умер от лейкемии, когда Бруно было пять. Мальчишка восстановил его в памяти по фотографиям. Прошло три года. Бруно почти смирился с мыслью, что больше никогда не услышит папиного смеха, но мама купила билеты, и они навсегда покинули Кельн.
Куда? Зачем? Почему? Бруно ничего не понимал, пока не увидел магнолию и ярко-синюю «Чайку». За его спиной шумело море, подвал огромного дома утопал в шестеренках, а высокий угловатый мужчина говорил на странном языке и хлопал его по плечу.
Отчим провел для Бруно экскурсию на заводе по изготовлению часов, где работал заместителем директора. Они поехали туда на «Чайке», но мальчишку это не смущало: его завораживали тикающие механизмы. А на заводе их было много. Очень много. Часы ручной работы, старинные или современные… После экскурсии Бруно казалось, что внутри у него тоже что-то щелкало. Ему нравилась точность и определенность механизмов. Да, иногда они спешили или отставали, но, по крайней мере, не умели кричать и бить.
Бруно зачитывался книгами отчима о часах и уже в десять начал конструировать свои. Долгое время у него ничего не получалось, механизм не работал, и тогда мальчишка снова изучал теорию. Спрашивать у отчима не хотелось – ему хватило того дня рождения. А в тот день рождения русские мужчины и женщины разошлись быстро. Наверное, почувствовали, что именинник не в настроении. Когда мама мыла посуду, она то и дело косилась на вытирающего стол Бруно. Но – молчала. Она всегда молчала. Должно быть, как и отчим, обожала магнолию и «Чайку». Не боялась ядовитого аромата цветов и рева мотора.
А Бруно изучал строение часов – из месяца в месяц, из года в год. Немецкий акцент исчез, мальчишка теперь свободно говорил на русском.
Через семь лет импровизированную мастерскую полностью заполонили платины – огромные и маленькие, женские и мужские[25]. Бруно обожал старинные часы. Он с особым интересом читал о шпиндельном, цилиндрическом и анкерном ходах, но в конце концов выбрал для своих экспериментов последний. Точный, надежный, простой в изготовлении – то что нужно.
Когда Бруно впервые услышал тиканье собственных часов, он едва не разбил их от радости. Вломился в гостиную, продемонстрировал механизм маме.
– Какой ты молодец, – похвалила она его. – Я тобой так горжусь!
– Оказывается, это несложно!
Мама коснулась мизинцем циферблата.
– Подари их отчиму, сынок. Завтра у него праздник – девять лет заводу.
И Бруно подарил. Как же ему было грустно расставаться с часами! Да и отдавать их тому, кто обожал магнолии, – перспектива не из лучших. Но мальчишка не растерялся: когда-то давно он засушил лепестки цветка, из-за которого мама потом зачесывала ему челку. Он перетер гербарий в порошок и спрятал в корпусе часов.
Вот смеху-то будет, когда отчим найдет! А если не найдет – еще забавнее. Никто, кроме Бруно, не узнает, где похоронена магнолия.
Никто не узнает.
* * *
Отчим оперся на балюстраду и жадно втянул соленый воздух. В одной руке он держал часы, в другой – бутылку пива.
– А ты молодец.
Они с Бруно стояли на балконе. Даже со второго этажа вид открывался завораживающий: штормящее море, на пляже – ни души.
– Без твоих учебников ничего бы не вышло.
Повисло молчание. Бруно жил с отчимом уже девять лет, но так и не привык к его резким переменам настроения. Их нелюбовь друг к другу росла, как росло количество синяков на теле мальчишки.
Отчим глотнул пива.
– Пойдешь ко мне на завод? Тебе пора задуматься о будущем, выпускной класс как-никак.
– Я не решил.
Под балконом росла та самая магнолия – отвратительная и ядовитая, – а в утренних лучах переливалось море, которое Бруно с радостью променял бы на суету Кельна. В метре от мальчишки пил пиво человек-ненависть. Человек-глупость. Все, к чему он прикасался, начинало вонять магнолией.
Отчим поставил часы на балюстраду.
– Ты не серчай. Мой отец меня так же воспитывал. Правда, у него недостаток был – спиртное литрами хлестал, но это ничего. – Он допил пиво и, прицелившись в мусорный бак, швырнул бутылку. Та не долетела – разбилась на мелкие осколки. – Гляди, какой я вырос. Дом построил, работаю. И ты вырас…
– А мой отец был другим.
Отчим повернулся к пасынку и долго-долго на него смотрел. Бруно чудилось, что он читает его мысли.
– Съезжу на работу.
Отчим похлопал Бруно по плечу, пробормотал что-то нечленораздельное и – нырнул в дом.
Тикали часы. Минутная стрелка успела проползти пять делений, прежде чем внизу взревела машина.
А вечером зазвонил телефон, и картонный голос сообщил маме Бруно, что синяя «Чайка» улетела в кювет.
* * *
Бруно бродил по балкону и думал, что днем они с отчимом бродили здесь вместе. И часы разглядывали – тоже. А сейчас отчим мертв.
Осталось только тиканье…
Бруно захотелось перевести стрелки на пару часов назад, вернуться в прошлое, чтобы отчим ожил и влепил ему пощечину. Чтобы прокричал: «Проснись!» Мальчишка сполз на пол и, ругая себя за дурацкую затею, попробовал.
– Здорово, что твой отец был другим.
Бруно подскочил, чудом не уронив часы. Отчим появился из ниоткуда. Тихо. Абсолютно тихо. Он по-прежнему пил пиво. Трясущимися пальцами Бруно вновь принялся переводить стрелки. На час вперед. На два. На три.
– Перестань, я не испарюсь, – поморщился отчим. – И, кстати, отремонтируй «Чайку».
Бруно не обращал на него внимания. На четыре, на пять…
– Дело не в переводе стрелок.
– А… в чем?
– В магнолии. В твоей маленькой мести, парень.
Бруно искал пути отступления, но единственная дверь находилась за спиной отчима – слишком далеко.
– Откуда ты?..
– Он привел меня.
– Кто – он?
Отчим допил пиво и швырнул бутылку. Но на этот раз она растворилась в воздухе, как только он ее отпустил. Бруно пялился на циферблат и продолжал бессознательно переводить стрелки.
– Кто? – повторил он.
– Меня зовут Чайка, – прозвенело у него в ушах. – Приятно познакомиться.
* * *
Бруно окончил школу. Мама настаивала на поступлении в университет, но он наотрез отказался – пошел работать на завод отчима. И как же он удивился, когда года через четыре директор назначил его начальником мастерской! О таком мальчишка и не мечтал.
– Ваш покойный отец…
– Он мне не отец, – отрезал Бруно.
– Извините. Ваш отчим гордился вами. Хвастался, что вы как никто разбираетесь в часах и рекомендовал вас как ценного сотрудника.
«Наверное, мы говорим о разных людях», – подумал Бруно. Отчим любил магнолии и «Чайку», но точно не своего пасынка. Не мог он его любить.
– Что ты им наплел? – спросил мальчишка у отчима-призрака, как только вернулся домой.
– Правду, – ответил тот и растворился во тьме коридора.
Как бы там ни было, Бруно надеялся, что на заводе кто-то знает о побочных эффектах. Но – все молчали.
Чертовщина началась в тот вечер, когда разбился отчим. Хотя нет – раньше. Когда Бруно решил отомстить. Если бы не дурацкая засушенная магнолия, если бы не дом и блуждающий по нему отчим, Бруно был бы обычным пареньком и радовался бы этому. Но, возвращаясь с работы, он старательно притворялся, что не слышит их. Что увлечен музыкой или фильмом – да чем угодно. Лишь бы выглядеть нормальным при маме. Ей и так несладко. После смерти первого мужа она сбежала в другую страну. После смерти второго – заперлась в доме, потому что не захотела больше бегать. Но она даже не подозревает, что второй муж сидит на подоконнике и поет ее любимую песню, когда она готовит курицу в духовке. Не подозревает, что он пытается вытереть ее слезы, когда она плачет по вечерам.
Бруно сразу понял, что дело в часах. Это они привели в дом то, что сводило его с ума. Тикающий механизм послужил чем-то вроде мостика между миром мертвых и живых. Он не раз пробовал сломать часы, но его постоянно отвлекал какой-то грохот – то чашка упала, то дверь хлопнула. Иногда Бруно получал по голове свалившейся с полки книгой. Он оставил часы в покое и все чаще начал задерживаться на работе. Для мамы нечто в образе отчима не существовало, а у него ехала крыша.
Бруно хорошо зарабатывал, поэтому домашние эксперименты он променял на огромную лабораторию в заброшенной части завода. Чайки ему было мало, он искал слышащих людей, чтобы вместе работать над тикающими сердцами. Бруно приводил кандидатов к себе домой, следил за реакцией, отбирал лучших. Он хотел во всем разобраться, но одного дома было мало.
Вскоре команда Бруно сконструировала сердца Ворона, Воробья, Ласточки и других птиц. И эти птицы разлетелись по поселку. На их циферблатах блестела надпись: Zahnrad. Кто же знал, что они начнут болеть и сходить с ума. В корпусы часов прятали засушенные листья яблонь, магнолий, абрикосов – словом, тех деревьев, что росли в садах хозяев.
Дома никогда не оживали без листьев. Они нуждались в душе, обожающей яблони, магнолии или абрикосы. Мечтали с кем-то разделить свое сердце.
Заброшенную часть завода отстроили и назвали Zahnrad.
А потом появилась Лида.
Спустя пятнадцать лет
Бруно любил свой кабинет – здесь оживали сердца. Он никому не доверял своих птиц. Листья, добытые работниками из отдела Zahnrad – Стаей, – хранились в сейфе. Только Бруно знал пароль. Только он имел право связывать таких разных существ. И только он замечал призраков. Стая была слепа. А жители поселка – еще и глухи.
Странно, но… За все время Бруно не встретил ни одного зрячего человека. Да и он сам видел далеко не всех призраков. Должно быть, близорукость, думал он.
У Zahnrad никогда не садились батарейки. А механические не нужно было заводить. Ими управляла другая сила.
Год назад Бруно и его мама переселились в общежитие на заводе. Чайка… умерла. У-мер-ла. Обычное слово. Но почему же, черт возьми, так больно?
В то утро отчим опять стоял на балконе и пил пиво.
– Можешь мне помочь? – произнес он, когда Бруно замер рядом. – Я знаю, что ты меня не переносишь, но сломай их, ладно? Чайка хочет убить твою мать, я чувствую.
– Ты…
– Мне осточертел этот дом и это море. Я уйду туда, где должен быть.
Бруно посмотрел ему в глаза и с трудом кивнул. Слова застряли в горле. Он побрел к двери.
– Удачи вам, герр Шульц.
Бруно застыл.
– Ты изо всех сил пытался стать плохим отцом, но… у тебя не вышло.
Он собрал чемоданы и увез маму в общежитие при заводе. Вызвал к себе новенького. Бруно ни за что бы не решился сам убить Чайку. Это не в его правилах. Но… зажмуриться он все же не смог. Так и пялился из отремонтированной «Чайки» на того, кто швырнул с балкона бутылку. На того, чья магнолия недавно расцвела.
И вот спустя год у него появилась надежда. Он поговорил с Торой. Поволок ее в ресторан, хоть она и сопротивлялась. Зря – Бруно искал ее не для того, чтобы придушить. Конечно, он же создавал часы, а разве можно ожидать чего-то хорошего от сумасшедшего изобретателя?
Но Бруно устал. Все живые дома, кроме Лидиного, сгорели. Его каменные дети погибли. Сколько душ эти несчастные существа прихватили с собой? Сколько жертв мерзнут в коммунальных квартирах после того, как лишились своих домов? Бруно построил общежитие, освободил поселок от монстров, но не учел, что свобода чаще всего равна смерти. И свои сбережения, которые он перевел на счета выживших, не играют особой роли.
– Вы ничего не добьетесь. – Тора закусила губу и не притронулась к ризотто, хоть Бруно и заказал его специально для нее.
– Почему?
– Вы подлец! Мой брат… Он погиб, борясь с вашими чертовыми птицами!
– Я увольняюсь, – вздохнул Бруно. – Уезжаю в Германию – домой.
– Но…
– Как ты вылечила сердце Ворона? Умоляю, Тора, ответь…
Она подалась к нему и прищурилась.
– Ладно. Но не думайте, что я вас когда-нибудь прощу, – цедит Тора. – Чем сильнее спешат часы, тем меньше вероятность того, что дом заболеет. Заставьте механическое сердце колотиться, и тогда на безумие у него не останется времени.
Бруно отчаянно ловил каждое слово. Там, в Кельне, их с мамой ждал маленький домик. Пока – мертвый. Но скоро папа будет читать газету в гостиной. Скоро он спрячет улыбку под смешными усами. Бруно посадит в саду сосну, а не магнолию. И никаких чаек. Ни-ка-ких. Должно быть, домик назовет себя Соловьем. Бруно не сомневался: у него красивый голос. А папа… Папа похлопает сына по плечу и прошепчет: «Я рад, что ты вернулся».
– Твой брат герой.
Бруно поднялся и одернул рукав. Незачем Торе пялиться на изуродованное запястье – когда-то дом прижал его дверью. Когда-то Бруно стучал что есть мочи и вопил проклятия, лишь бы пробраться в комнату, где задыхался Торин брат. Когда-то он едва не сгорел вместе с ним. Но девчонке не обязательно об этом знать. Бруно куда приятнее, когда его ненавидят. Как-то привык.
Он написал заявление об увольнении и купил лосины цвета осеннего моря. Бруно не сомневался, что Лида поедет с ним в этих самых лосинах… Но, вломившись к ней в кабинет, он все понял. Хватило одного взгляда. Одного движения. Она никуда не собиралась. Как же он сразу не догадался!
– Ты ведь тоже уезжаешь ради дома. Не заставляй меня бросать свой, – проговорила Лида.
И они расстались. У каждого была своя птица. Свое дерево и свой призрак. У каждого был свой сгоревший дом.
31 Лида [До]
80-ые гг.
У Лиды умер сокол. Четыре месяца назад, она, гуляя вдоль дороги у леса, нашла птенца. Купила ему огромную клетку, начала кормить крысами и мышами – благо, истребить их так и не получилось – выхаживала. Радовалась, что у дома появился друг-тезка. Но все – зря. Сокол каким-то чудом открыл клетку, закружил по комнате, и его засосало в вентиляцию. Стечение обстоятельств, не иначе. Вот только Бруно считал по-другому.
Лида вломилась к нему в кабинет в семь утра – после ссор с ней он приходил на работу раньше. Бруно сидел в кресле с идеально ровной спиной, как провинившийся ученик, пялился на возлюбленную, стучал пальцами по столу. В хлопковом платье Лида чувствовала себя неуютно, но, по крайней мере, его не подарил Бруно. Если бы Стая пощадила ее дом, она бы сразу же отдала им свою коллекцию лосин.
– Ты переселяешься, – процедил Бруно.
Его голос растекся по кабинету, застыл, как бетон, и Лида застыла вместе с ним.
– Нет.
– Я, кажется, тебя не спрашивал.
– Я, кажется, тебя тоже.
Миновав стол, Лида приземлилась на подоконник. Бруно не пошевелился.
– Он убил твоего сокола. Ты будешь следующей.
– Я доверяю дому, а он доверяет мне.
– Бред. Не существует ничего, кроме его Zahnrad и твоего сердца.
Лида вцепилась в кресло и наклонилась к уху Бруно.
– Ты забываешь, что я у него в долгу.
Бруно схватил Лиду за локоть и, не обращая внимания на ее слабые попытки высвободиться, притянул к себе.
– А кто его создал, дорогая? Кто? Я отвечаю за тебя.
– Мне больно, отпусти.
Бруно отстранился.
– Прости. Я… я волнуюсь.
– Ты умеешь волноваться? Надо же.
Даже не посмотрев на него, Лида выбежала из кабинета – смахнула слезу ладонью, тут же натянула на лицо улыбку. В коридоре суетилась Стая, приехавшая после очередного задания. Они могли заподозрить неладное. Лида шагала не быстро и не медленно, здоровалась не громко и не тихо, подстраивалась под ритм и молила небеса, чтобы Бруно не забрал у нее Сокола.
Лиду учили бороться. Еще в университете она вызубрила все болевые точки. Если ударить в солнечное сплетение, человек согнется или упадет на колени. Если попасть в углубление внизу шеи, противник начнет задыхаться. Если заговоришь о его бывшей, с которой они вчера расстались, или о паршивой работе, победа обеспечена. Лида всегда знала, на что давить.
Ты умеешь волноваться? Надо же.
Она любила Бруно и вряд ли решилась бы на запретный прием. Но… Он собирался убить дом. Ее родной дом.
Четырнадцать лет назад Лида обнаружила болевые точки и у себя. В университете учили: «Не рассказывай никому, как сильно ты боишься высоты, – друг подарит тебе билеты на прыжки с парашютом, а враг этот парашют проткнет». Но рассказывать и не пришлось. Перед глазами у Лиды все кружилось, в ушах звенело. Один раз она даже упала на работе – ни с того ни с сего, просто потеряла равновесие. А ведь майору милиции нельзя болеть. Звездочка на погонах ничего не стоит, если тебя рвет, а щуплая девчонка – новоиспеченный сержант – стучится в дверь и предлагает вызвать врача.
Но звон в ушах быстро прекращался. Все налаживалось до следующего приступа.
По вечерам Лида частенько приглашала к себе пятилетнюю девчонку с соседней улицы – Тору. Учила ее играть на скрипке и читать музыку.
По понедельникам – Паганини.
По вторникам – Тартини.
По средам – Вивальди.
По четвергам – Бах.
По пятницам – Бетховен.
Дом впитывал в себя ноты, полнился ими. А Лида пыталась разобраться, какая ее музыка. Веселая? Грустная? Ритмичная?
Тора с трудом удерживала огромную для детских ручек скрипку, но уже делала успехи. Без сомнений, ее музыкой была «Дьявольская трель».
Приступы учащались. В ушах звенело сильнее обычного. Дни Паганини, Тартини, Вивальди, Баха и Бетховена смазывались, выцветали, фальшивили, как ненастроенные инструменты.
– Что с тобой? – спросила Тора пятничным вечером и спрятала скрипку в футляр. – Ты очень бледная.
– Устала, наверное.
Лида прислонилась к стене. Кухня вытанцовывала джайв, словно живая. Словно она носила погоны. Словно играла на скрипке.
– Мы встретимся завтра?
Лида сползла на стул и промямлила:
– Я… я позвоню тебе, детка.
Круг замкнулся. А по диаметру – участок, приступы и ноты. Много-много нот. Дни тянулись медленно. Лида все реже брала в руки скрипку и все чаще пила вино. Она наслаждалась игрой Торы, но сама не притрагивалась к инструменту.
Проклятый джайв не прекращался.
Внезапно Лида поняла: ее музыка не веселая, не грустная и уж тем более не ритмичная. Это пьеса «4′33″» Джона Кейджа, где нет ни одной ноты.
Лида стремительно теряла слух.
* * *
Поселок наполнился водой. Как бы громко Лида ни включала радио, как бы звонко ни хохотала, пьеса «4′33″» погружала ее в вакуум. Джон Кейдж хотел, чтобы люди насладились окружающими их звуками. Но в поселке кто-то каждый день убавлял громкость. Это как уезжающий поезд – не догонишь, не старайся.
– У вас болезнь Меньера. Двусторонняя патология, редкий случай, – сообщил врач, когда Лида прошла обследование и в сотый раз явилась к нему на прием. – Проблемы с внутренним ухом.
Не догонишь. Нет, в тот момент Лида не сидела в кабинете доктора – она топталась на платформе, а где-то у горизонта мчался поезд.
– Ваше головокружение, тошнота, слабый вестибулярный аппарат – это все от болезни. Я пропишу вам препараты, которые снимут симптомы. Потеря слуха – необратимый процесс, но мы попробуем его приостановить.
Лида взяла больничный. Тора по-прежнему навещала ее по вечерам – играла строго по расписанию. Среда? Вивальди. Понедельник? Паганини. Поэтому Лида не путала композиции, даже когда звенело в ушах. Она пыталась уследить за руками Торы, за мелькающим смычком, за нотами, но поезд отдалялся. У Лиды появилось новое расписание.
По понедельникам – Кейдж.
По вторникам – Кейдж.
По средам – Кейдж.
По четвергам – Кейдж.
По пятницам – Кейдж.
Тора предложила Лиде переписываться в блокноте, но та отказалась. Она не больная. Поезд еще мелькает на горизонте.
– Сложно давать прогнозы, – говорил врач. – Возможно, вам придется задуматься о слуховом аппарате. Если у вас подвижная работа, не выбирайте карманный. Заколка – в самый раз, будет лучше держаться.
Он назначил ей лекарства, но… Лида боялась. Вдруг вместо того, чтобы сорвать в поезде стоп-кран, доктор прибавит скорость?
* * *
Пролетело пять месяцев. Одним осенним вечером – вечером Паганини – Тору привел высокий полный мужчина. Лида насторожилась: раньше это делали родители. Тора отправилась в кухню, а незнакомец так и не сдвинулся с места.
– Герр Шульц. Можно просто Бруно.
Лида не расслышала и мысленно чертыхнулась.
– Повторите, пожалуйста…
– Бруно.
– Зайдете? – Лида кивнула в сторону кухни. – Я заварила чай.
– Нет-нет, я погуляю. Голова болит. Сколько вы занимаетесь? Час?
– Да. Где Торины родители?
– Попросили посидеть с малюткой, – объяснил герр. – Они сегодня в вечернюю смену.
– Измену? Вы о чем?
– В вечернюю смену.
Лида покраснела. Весь вечер она чувствовала, как горят щеки. Музыка все больше отдалялась. Поезд украл ее, подарив взамен звон в ушах. Таблетки не помогали.
Когда мучительный час подошел к концу, Бруно забрал Тору. Лида попрощалась с девчонкой и новым знакомым, а сама накинула куртку и побрела к морю. Может, хотя бы там она не будет так остро ощущать, что проиграла в гонках с поездом.
Пляж опустел и преобразился – октябрь был в самом разгаре. Лида устремилась к воде. Ветер дышал солью, море шумело. По-прежнему. Вот она, самая прекрасная мелодия в мире.
Лида с наслаждением втянула воздух.
– Скучаете? – прервал идиллию голос.
Бруно поравнялся с ней и замер.
– Как вы меня нашли?
– Поверьте, я умею искать.
От его «умею» у Лиды по спине поползли мурашки.
– А что вы еще умеете? – Она присела на корточки и окунула ладони в воду.
– Абсолютно все. Только скажите, чего бы вы хотели?
Лида усмехнулась. Холод обжигал кожу, мозоли от струн пекли. Скоро они исчезнут, как и звуки.
– Вы не волшебник, герр Шульц.
– Ошибаетесь.
– Тогда подарите мне лосины.
– Лосины? – опешил он.
– Да. Цвета осеннего моря.
– И все? Вы что-то скрываете, верно?
Лида подняла голову и взглянула на герра Шульца. Этот огромный мужчина не мог быть врачом. А если он не врач, то и не волшебник. Бруно молчал, и Лида вновь отвернулась к воде.
– Я лучше волшебника, – раздалось рядом с ее ухом. Бруно поставил на песок коробочку с золотистой надписью Zahnrad. – Храните их и ни в коем случае не выносите из дому.
– Что там? – спросила Лида, но Бруно уже шагал прочь с пляжа.
* * *
Лида проснулась ночью и закричала. В горле першило. Ей приснилось, что вместе со слухом пропал и голос. Так и не нащупав в темноте тапки, она отправилась в кухню. И снова вино. Снова пьеса «4′33″». Снова силуэт скрипки на подоконнике. Лида потянулась к ней и прижала ее к шее.
Сегодня вторник. А значит, Тартини.
Пальцы вспомнили «Дьявольскую трель» быстро. Вот только для Лиды она по-прежнему была пьесой Кейджа. Чем усерднее она водила смычком по струнам, тем отчаяннее боролась с желанием разреветься. Ее любимую музыку заглушало пыхтение поезда.
Она прекратила играть резко.
В голове вертелся вопрос: заколка или карманный?
Лида осушила бокал вина, а затем – со всей силы ударила скрипкой по стене. Еще и еще. Щепки посыпались на пол.
Инструмент ей теперь ни к чему. По крайней мере, она так думала, пока нечто не сказало:
– У тебя талант.
Лида застыла со скелетом скрипки в руках. На горизонте замаячил поезд. Неужели слух возвращается?
– Кто здесь? – Лида старалась говорить четко, но язык заплетался.
– Друг.
Часы, подаренные герром Шульцем, тикали оглушительно – где-то в висках, наперегонки с пульсом.
Лида зажмурилась и прислонила Zahnrad к уху. Нет, безумие. Герр Шульц не волшебник… Не волшебник.
– Как тебя зовут?
– Сокол.
– Со-кол. Ты в часах?
– Нет, это они во мне.
Лида покосилась на бутылку вина. Или она слишком много выпила, или Джон Кейдж уступил место Тартини. Четыре минуты тридцать три секунды длились пять месяцев, а после – заиграла «Дьявольская трель».
* * *
– Что с ними? – Лида обвела взглядом кабинет герра Шульца. На столе, на полках, на подоконнике тикали часы. Свои она не взяла – боялась чего-то невидимого.
Бруно подался к ней.
– С кем?
– С часами. Я… я слышу кого-то. – Лида сжала кулаки – «слышу кого-то» прозвучало абсурдно. – Небо, не стоило мне приходить. Извините. Я выпью успокоительного, и все пройдет.
– Как насчет работы с Zahnrad?
– Смеетесь?
– Нет. Просто у вас отменный слух.
* * *
– Добрый день. А я вам фрукты принесла. Дай, думаю, порадую любимых соседей.
Мальчишка прятался за шкафом и дрожал. Он почему-то боялся Лиду. Его любимый дом молчал. Впрочем, как и все дома на медосмотре. Восьмилетний Захар был ему под стать – щуплый, мелкий, бледный. Он защищал друга, а друг защищал его.
Лида успевала обойти пол-улицы за обеденный перерыв, а потом, наспех перекусив, бежала на работу. Бруно этого хватало. Главное – за месяц проверить ту часть поселка, что примыкает к пляжу. Остальными домами занимались коллеги Лиды. Среди своих их называли Стаей.
Первого числа каждого месяца все начиналось заново.
Лида спрашивала у домов:
– Как вы?
А они отвечали:
– Захар научил нас играть в прятки.
Лида прислушивалась к скрипам, шуршанию, звяканью и писала об этом в отчетах. Где хлопнула дверь? Как быстро закипел чайник? Откуда сквозняк? Почему протекает крыша? Бруно интересовался абсолютно всем. Он создал их и теперь хотел познакомиться с ними ближе.
Болезнь Лиды отступила. По вечерам вместо Паганини, Тартини, Баха, Бетховена и Вивальди Лида общалась с Соколом. Она прислонялась виском к прохладному кафелю в кухне и шептала, шептала, шептала… а дом шептал в ответ. Щепки скрипки Лида сложила в футляр-гробик и запихнула в шкаф. Не время. Еще не время.
По пятницам к ней заходила Тора – сыграть что-нибудь из «Времен года»[26]. И было красиво. Нестерпимо красиво. Часы тикали в ритм «Лету», а вот от «Весны» отставали на пару секунд. Лида не сомневалась: девчонка тоже общается с домами.
– Я рада, что он помог тебе вылечиться, – однажды обронила она.
Лида улыбнулась. Сокол был мостиком между ней и реальностью, ее слуховым аппаратом. Горизонт оказался картонным. Поезд вернулся.
По субботам и воскресеньям Лида пропадала в заводском спортзале. Тренировалась сама и тренировала Стаю. Играла с ними на скрипке. Они продолжали знакомиться с домами и могли лишь предполагать, к чему приведет протекающая крыша.
А еще Лида начала собирать интересные факты о домах. Мини-легенды. Наблюдения. Получалось что-то вроде учебника.
Дождливым ноябрьским вечером в спортзал заглянул Бруно и подарил Лиде ярко-розовые лосины.
– Прости, цвет осеннего моря пока не нашел.
* * *
Расписание опять изменилось.
По понедельникам – розовые лосины и ужин с Бруно.
По вторникам – зеленые лосины и ужин с Бруно.
По средам – оранжевые лосины и ужин с Бруно.
По четвергам – синие лосины и ужин с Бруно.
По пятницам – красные лосины и ужин с Бруно.
По выходным – тренировки и ночные беседы с Соколом. Лида до сих пор боялась открыть футляр и увидеть обломки скрипки. А еще она боялась, что кто-то на работе узнает о ее… увлечении. Им нельзя. Они глухи.
Чем дольше Лида наблюдала за людьми, тем острее ощущала слышащих. Их было не так много, и почти все прятались от реального мира, как тот мальчишка, Захар. А Лида не пряталась. Лида радовалась, что болезнь отступила. Да, слух не восстановился до конца, но, по крайней мере, пьеса «4′33″» наполнилась звуками.
Какой же красивый у Бруно голос! Почему-то раньше она этого не замечала. Лида заново училась общаться – до Бруно она редко подпускала к себе кого-то так близко. Получалось не всегда:
– Ты опоздал на пять минут! Что? Ты не знаешь Кайли Миноуг? Нет, мы пойдем на ее концерт!
Они стоили друг друга: Бруно согласился купить билеты, но обманул Лиду и затащил ее на концерт группы AC/DC. После – долго просил прощения и в знак примирения подарил возлюбленной очередные лосины.
Так пролетали недели, месяцы и годы, пока не вспыхнула эпидемия. К тому времени Тора выросла и уже работала в Стае.
Лида дописала учебник и подарила его Бруно. Тот радовался как ребенок. «Легенды о Zahnrad» ему очень понравились.
В день, когда Лида все же познакомилась с домами ближе, беспощадно светило солнце. Пожилая женщина с Виноградной улицы вызвала милицию – жаловалась, что кто-то украл ключи и запер ее в собственном доме. Лида насторожилась – кто, если не они? – и отправилась с дежурными.
Еще издалека она уловила запах гари. Дым обволакивал деревья, полз между рядами цветущей картошки. Дом старушки горел, а рядом толпились ребята из Стаи в огнеупорных костюмах. И Тора, маленькая девочка, обожающая Тартини, – там же.
– Я… сама займусь этим делом, – выдавила Лида. – Всех свидетелей ведите сразу ко мне.
– Но майор…
– И никаких возражений.
«Дьявольская трель» закончилась. И зазвучала симфония номер пять[27].
* * *
И вот спустя пятнадцать лет Лида снимает плакаты Кайли Миноуг. Заявление об увольнении лежит на столе. Вскоре она отнесет его Бруно – попрощается, улыбнется, а может, даже пошутит… Сегодня без скандалов. Как странно. Они постоянно ссорились, но при этом любили друг друга, а с минуты на минуту помирятся и расстанутся.
В дверь стучат. Бруно проскальзывает в кабинет и подплывает к Лиде. Снимает очки, протирает их галстуком, словно хочет напоследок рассмотреть возлюбленную получше.
– Поехали со мной.
Лида тянет за огромный выцветший плакат, чертыхается и комкает его.
– Ты же знаешь, что нет.
Бруно пытается взять Лиду за руку, но она пятится.
– Не упрямься.
– Я и не упрямлюсь. Просто…
– Ты меня не любишь.
Лида застывает. Когда этот мужчина с шестеренками вместо сердца и пронзительным взглядом успел нащупать ее болевые точки? Так… нечестно.
Она подается к Бруно и берет его за подбородок.
– Не смей так думать.
– Тогда в чем проблема?
– Я не брошу Сокола. Он… Он единственный, кто борется с моей болезнью. А я – единственная, кто борется с его безумием. Жаль, что ты не изобрел машину для транспортировки домов.
Бруно косится на скомканные плакаты Кайли.
– Хорошо, что ты их сняла. Ужасная певица.
– Не ужаснее AC/DC, – подмигивает Лида. – Я увольняюсь, Бруно. Без тебя я здесь чужая. Не злись. Ты ведь тоже уезжаешь ради дома. Не заставляй меня бросать свой. И спасибо, что не убил Сокола. Мне кажется, что вовсе не новенькие часы лечат дома. Дома лечит наша любовь.
– Лида… я плохой человек?
– Ужасный. – Она целует его в висок. – А… Можно вопрос? Это она тебе подсказала, как их лечить?
Бруно грустно усмехается и извлекает из кармана брюк скомканные лосины.
– Цвет осеннего моря. Я нашел его.
32 Анна [После]
– Мама не разрешает мне здесь гулять, – хнычет Темыч.
Мы пересекаем дорогу и сворачиваем направо.
– Монстры не навредят ей. А тебе – навредят.
Мне повезло. Мальчишка – жаворонок, он просыпается раньше родителей и бродит по участку с пакетом на голове. Охотится на чудовищ.
Я наплела Темычу о хищниках, которые едят слышащих. О том, что сегодня они нападут на поселок. Он понял меня мгновенно и помчался в кухню за ножами. А я пообещала его спрятать.
Наивный маленький мальчишка. Он не знает, что хищник – его мать. И что спасаем мы не его, а меня.
И вот мы спешим – скорее в никуда, чем куда-то. Из-за макушек хижин вырастает холм. Мой холм. С моим скелетом.
– Я боюсь, – упирается Темыч, обнимая плюшевого кролика. – Гулять рядом с ним вредно.
Ворота скрипят. Ворота рады нам.
– Он добрый.
Ветер бьет в спину, сухие яблони по-прежнему обнимаются. Кто-то нацепил на ветки одноразовые стаканы, и они стучат что есть мочи.
– А вдруг монстры найдут меня и съедят?
Трава на холме пожелтела и царапает ноги.
– Нет, Темыч. Он добрый только для своих. А ты – свой.
Когда мы добираемся до крыльца, ветер успокаивается. Одноразовые стаканы замолкают.
Здравствуй, Ворон.
Спаси меня от монстров.
Мы ныряем в полумрак дома. В ушах – безумное «тик-так» и бормотание, далекое-далекое. Я завидую Темычу. Для него это – крик. Что-то вроде наушников. Мальчишка щелкает громкость на максимум и наслаждается звуком. А я… я стою за его спиной и пытаюсь уловить знакомые ноты.
Душно. Черные стены, дырявый потолок, пол – в земле. На подоконнике валяется Облако. Темыч замечает его мгновенно.
– Он… Почему он не у тебя?
– У меня.
Паршивое оправдание.
– Значит, это твой дом?
– Мой.
Ты даже не представляешь, насколько мой.
– Здесь есть подвал. Сюда монстры не полезут. – Я пинаю ботинком прогнившие доски. Из дыры в полу несет сыростью и мочой, на лестнице скрутились морским узлом черви.
– Там темно. – Темыч сосредоточенно смотрит куда-то мимо меня. Ему трудно отключить слух. Трудно усмирить подрывника.
Выудив из кармана фонарик, я отдаю его мальчишке. Я подготовилась. Я все просчитала. Я… нигде не ошиблась.
Темыч прыгает на ступеньку к червякам и гладит их.
– Они тоже прячутся, – объясняет он. – От тех хищников.
– Видишь, тебе не будет скучно.
– А ты?
– А я убью всех монстров и вернусь за тобой.
– Так нечестно! – возмущается Темыч. – Возьми меня!
Я сажусь на корточки.
– А как же черви? Они не выживут без тебя. Обещаю, я приведу тебе самого опасного монстра, и ты сам решишь, как с ним быть.
Поднявшись, я подхватываю доски. Темыч наблюдает, как над его макушкой смыкается тьма. Как я хороню его в костях Ворона, чтобы чудовища точно не пробрались к мальчишке – или он не пробрался к ним. Я опрокидываю шкаф и перетаскиваю его на прогнившие доски.
Я спасена. Осталось только побеседовать с монстром.
* * *
Илона складывается в позу собаки, и ее ступни омывает море. Солнце выглядывает из-за туч. Утренние лучи скользят по песку и бутылкам пива. Моросит мелкий дождь, и над волнами появляется радуга – на все небо, или даже больше. Обнимает поселок, улыбается ему, как старому другу. Силуэт Илоны похож на идеально ровную букву «Л». Если смотреть издалека, ее можно принять за штендер. С рекламой домов, определенно.
Мне не страшно. Не страшно и морю – второй день волн почти нет. Мы с ним связаны.
Я шагаю к Илоне и снова и снова проваливаюсь в песок – он засасывает меня, хоронит, и так – спасает. Он тоже мой друг.
– Доброе утро, – шепчу я.
Как странно. Почему, вывернув себя наизнанку, посерев в больнице из-за туберкулеза, побив всю посуду в квартире, мы продолжаем говорить «доброе утро»? Почему нельзя произнести: «Дерьмовое утро. Тебе чай или кофе?»
Буква «Л» выпрямляется. Синяки под глазами, бледная кожа, взлохмаченные волосы… Кажется, Илона ненавидит клетки.
– Красивый рассвет, да?
– Я все знаю.
– О чем ты? – хмурится она, и ее брови превращаются в длинное тире.
– Ты попросила у Ворона кое-что особенное.
Машинку на радиоуправлении.
– И что же?
– Точнее – кого, – рычу я.
Илона пятится и мотает головой.
– Что ты несешь…
– Второй муж – носитель здорового тела. Ты хочешь вернуть первого Пашу, разве не так? Я – подарок дому, ведь за такую услугу нужно немало заплатить. Но я не позволю тебе это провернуть, ясно? Не позволю. Ты прикидывалась идеальной женой, готовила сырники по утрам, обнимала мужа, но ты не любишь его. Ты ищешь прошлое, а оно от тебя бежит. – Я иссякаю и хватаю ртом воздух. – И Темыч растет таким по твоей вине. У чокнутых мамаш не бывает нормальных детей!
Илона едва не плачет. Мое «не бывает» проникает в нее через поры. На лбу, на носу, вокруг губ темнеют морщины-паутинки.
– Чокнутая здесь только одна. И это ты.
Губы Илоны не шевелятся. Звук течет из ее рта, как кровь. «Не бывает» добралось до сердца.
Но мне не страшно. Темыч меня спасет. Илона любит сына, а ее сын похоронен по соседству с червями.
– Артем слышит их. Да, Аня, он слышит твоих друзей. Ему… тяжело справиться с даром. Небо, он же совсем маленький, но проклятые Zahnrad не жалеют никого. За последние десять лет у них накопилось множество историй. В кинотеатрах на такие фильмы детей не пускают. Такие книги не продают несовершеннолетним. Они ломают психику, а в качестве утешительного приза разговаривают с тобой! Я водила Артема к психологу, но… Врач ведь не оглушит его. И не заткнет Zahnrad. Поэтому я рискнула. Подарила дому полотенце Артема. Ты из-за него так разволновалась? Зря. У вас одинаковые. «А» – Артем. Я попросила Ворона… Не тревожить моего сына. Отнять у него дар.
– Я не знала…
Илона трет лицо ладонями. Еще немного – и кожа слезет. Еще немного – и от нее останутся лишь шестеренки и циферблат.
– Я мечтаю, чтобы Артем вылечился, – бормочет Градинарова. – Чтобы он играл во дворе с детьми, а не с открученными конечностями игрушек. Чтобы он не общался с кирпичными монстрами. Чтобы рисовал Буратино, а не чьи-то кишки. Разве это плохо?
Мой идеальный план разваливается. Стук-стук – конструктор падает на песок. Я перепутала. Выбрала не тот указатель. Щеки полыхают. Солнце поднимается все выше. Оно тоже горит, изо дня в день, из века в век. Ему очень-очень стыдно за что-то.
Дай пять, солнце.
– Я любила первого мужа. – Илона разминает шею, пытается избавиться от тяжелых мыслей. – Но люблю и второго. Да, бывает, что мы с Пашей ссоримся, но я бы никогда его не предала.
Я готова упасть на песок и разреветься. Дура. Истеричка. Псих. Книга Лиды – вранье. Этот поселок – вранье.
– Прости…
– А ты ведь уже жалеешь, да? Жалеешь, что подарила ему Облако.
– Нет. Можно же отменить… заказ.
– Глупая девчонка. Думаешь, если убьешь дом, все наладится? Чушь. Нужно перестать верить. – Илона вдруг начинает смеяться. Громко, хрипло, словно у нее в горле застрял песок. – Да что я перед тобой распинаюсь! – Она тычет указательным пальцем между моими ключицами. – Ты не поймешь. У тебя когда-нибудь умирал муж? Нет. А дом сгорал? Тоже нет! А сын болел? Да у тебя и сына-то нет! Ты даже не помнишь, как лишилась матери! – Илона надавливает все сильнее. Она вот-вот провалится в меня, как в картонную куклу. – Ты пустая. Поэтому и книги твои никто не читает. Дом тебя не спасет.
Я моргаю. В ушах что-то гудит. Вокзал, работающий как часы. Женский голос объявляет посадку на поезд. Звук нечеткий, с помехами.
И пляж, и море, и бутылки пива – все нечеткое.
Вот Илона отдергивает руку. Вот я ощупываю нарисованный ее ногтями полумесяц между ключицами. Вот солнце расстается с горизонтом и отправляется в свободное плавание. До вечера. А вечером – обратно в клетку. К Лиде в гости.
Я вновь и вновь моргаю – жду отбытия поезда.
Когда мир снова обретает черты, Илоны уже нет. Я не оглядываюсь, не слежу, как она спешит домой. Мне достаточно ее шепота. Он засел в висках пулей, его не вытащить без операции.
Ты не поймешь…
Нормальная Аня сейчас бы летела к Темычу, но одержимая… Одержимая боится. Боится даже думать о нем. Она идет к морю и окунает стопы в воду. Ей плевать, что одежда намочится.
…книги твои никто не читает.
Бриджи липнут к коленям. Вот бы встретить акулу, чтобы понять хотя бы что-то. Чтобы почувствовать, с каким отчаянием умеет биться сердце.
Дом тебя не спасет.
Я ныряю в волны. Не жмурюсь. Глаза режет так, что хочется скулить. Песок, водоросли, маленькие рыбки – все шевелится. Все в помехах, как и на суше. Если бы у меня с собой был ноутбук, я бы запрыгнула акуле на спину. Попросила бы ее не двигаться и печатала бы. Мы бы заключили контракт – она помогает мне дописать роман, а я позволяю ей себя съесть.
Все честно.
Все достоверно.
Я бы отправила рукопись издательству и – умерла бы. Людям нравится, когда писатели умирают. Люди любят мертвецов.
Перед тем как акула проглотила бы меня, я бы ее поблагодарила. И, должно быть, вспомнила бы себя, маму, папу, мужчину в пыльных сапогах.
Но здесь не водятся акулы. Я выхожу из моря. По пляжу маленькими группками рассыпались отдыхающие. Белый песок, идеальный, как детская кожа, превращается в кожу подростка. Уже через минуту черные точки и воспаления покрывают его плотной пеленой.
А потом просыпается нормальная Аня и бежит, бежит к похороненному мальчишке, чтобы обрадовать: нападение монстров отменяется.
33 Захар [До]
Я схожу с ума. Ищу Тору в поселке, в городе, в гостях у Ворона… Даже несколько раз лазал к Ласточке. Родители Торы все равно там не живут, они постоянно в корпусе.
Перед глазами мельтешат люди и пейзажи – вчерашние, несвежие, застрявшие в прошлом. Я улыбаюсь Ди. Бруно и Лиде. Матушке. Пашке.
Я улыбаюсь всему миру, а ей – нет. Потому что она так решила. Потому что она считает себя моим здравым смыслом. Ду-роч-ка.
Я включаю Тартини. А в висках – «мы тебя любим».
Я успокаиваю матушку после очередной истерики. А в висках – «мы тебя любим».
Я жру сгоревшие сырники и капаю матушке валерьянку. А в висках – «мы тебя любим».
«Мы тебя любим» следит за мной и, когда я отвлекаюсь, нападает. Это невидимый зверь, которого как ни гладь – всегда будет против шерсти; как ни корми – он не наестся. Как ни прогоняй – вернется. «Мы тебя любим» слишком верный.
Мне двадцать четыре.
Бруно все реже спрашивает о Торе. Ему надоело мое «Нет, не нашлась». А через месяц он и вовсе ошарашивает меня новостью об их с Лидой увольнении.
– В поселке больше нет живых домов, кроме Ласточки и Сокола, – сообщает он. – Следите за ними.
– А вы?
– Улетаем в Кельн. Насовсем. И… прости меня, Захар. На самом деле Чайка и магнолии – единственные вещи, которые я ненавижу. Ты отличный ученик.
«А вы отвратительный учитель», – думаю я, но вместо этого произношу:
– Счастливого пути, герр Шульц.
* * *
Меня будит стук в дверь. На часах – семь утра. И все же кто-то торопится, барабанит по рассохшейся древесине.
Я одеваюсь и спешу к незваному гостю, лишь бы матушка не проснулась. Ей нельзя волноваться. А у меня… у меня иммунитет к стрессам. Я отодвигаю щеколду, и в прихожую вламывается Лида – заплаканная, растрепанная.
– Здравствуй.
Я веду ее к себе в комнату.
– Что случилось?
– Извини, что так рано. Мне… не с кем поговорить, а у меня крышу сносит, – морщится Лида. – Я не поехала с ним. И уволилась с завода. Выбрала Сокола. А он… Он даже «Легенды о Zahnrad» забыл, представляешь?
Эти слова слишком огромные, она тонет в них, как в рубашке для великанов. И сама себе не верит.
– Почему не поехала?
– Потому что Сокол меня вылечил. Сокол, не Бруно.
Лида мечется по комнате. Она похожа на мокрого чау-чау – без кокона роскошной шерсти. Без защиты.
– Он не отпустит меня. Заболеет. Я – единственная его надежда. А Бруно… Бруно справится и сам. Он сильный. У нас, у каждого без исключения, есть свой дом. Сгоревший или здоровый – неважно. Кем бы будем, если предадим его?
– Лида, Лида, Лида… – Я преграждаю ей путь и хватаю за плечи. – Ты же счастлива с Бруно, разве нет? Не забывай, что ты тоже герой.
– Трусиха я, вот кто! Мы любим друг друга, но что делать с любовью домов? – Лида отстраняется и подплывает к окну. – А ты не сдавайся, Захар. Ищи Тору. Это глупо – остановиться за шаг до Эйфелевой башни только потому, что сломался светофор.
Мне нечего ответить, поэтому я просто спрашиваю:
– Будешь кофе?
И иду на кухню за чашками, пообещав себе, что посмотрю по сторонам и перебегу дорогу.
* * *
Лида ушла, пока я заваривал кофе. Исчезла. Чашка с горячим напитком ей оказалась не нужна. Как и Бруно. Сокол – вот ее панацея. Вот ее лучший друг.
Но уже через пару дней, поздним вечером, я встречаю ее на улице – едва держащуюся на ногах, с бутылкой дешевой водки.
– О! Захар! – восклицает она. – Ты чего не спишь? У тебя же завтра тре-ни-ров-ка. Кто теперь работает физруком? Признавайся!
Я отвожу ее к себе и укладываю спать. Без расспросов, но с твердым намерением поговорить утром о Бруно. Попытаться ее убедить, что Сокол не заболеет, если она слетает на неделю в Германию.
Это же так легко.
Но мои планы рушатся. Молниеносно, в пыль, потому что Лида не спит. Лида кутается в одеяло и шипит:
– Я зарежу ее. Эту мразь. Бруно думал, что в случае чего вылечит своего Соловья, поверил ей. А она решила отомстить за своего братца, который сам полез в горящий дом. Часы не должны спешить, и мразь знала, что не должны. Но – посоветовала их ускорить, искусственно создать тахикардию. Мой Бруно… Он погиб, Захар. На него упал кирпич.
– Ч… Что?
Но Лида больше не произносит ни слова и только изредка всхлипывает.
Бруно мертв.
Мертв.
Какая чушь.
Я не смею пошевелиться и целую ночь сижу в кресле. Вспоминаю этого огромного человека, его голос, глаза, но – тщетно. Он недосягаем. Очередной сошедший с ума дом. Очередной безликий тикающий механизм. Бруно существовал лишь однажды, когда умирала Чайка. А после – исчез. Растворился в воздухе.
Но… кто ему отомстил?
Я стискиваю зубы. Нет. Лида просто напилась. Она не в себе.
* * *
Утром Лида бормочет бессвязные извинения, литрами пьет воду и больше не грозится, что кого-то зарежет. Я благодарен ей и молюсь небесам, чтобы мои догадки не подтвердились. Или, по крайней мере, чтобы я не узнал, если они подтвердятся.
А впрочем, это точно не Тора. Тора бы не смогла.
Тора добрая.
Целую неделю Лида проводит в Кельне, а потом возвращается и – запирается в Соколе.
Теперь мы почти не видимся. Но если все же сталкиваемся, поспешно киваем и скрываемся каждый в своем доме. Лишь бы не думать, кто убил Бруно.
Лишь бы не думать, кто убивает нас.
34 Захар [До]
Мне тридцать один.
Мне тридцать два.
Мне тридцать три.
Или уже миллиард – не разберешь.
Я не думаю о Торе, как о ком-то материальном, осязаемом. Она – фиолетовый цвет. Облако. Музыка в наушниках.
«Дьявольская трель».
Но сердце Ворона по-прежнему бьется. А значит, все было. Было.
Я говорю себе об этом каждый день. И каждый день сомневаюсь.
Матушка поглядывает на меня с тревогой. Зубы стискивает, барабанит пальцами по столу. Клянусь, скоро она его продырявит.
Да и я тоже.
Мы тебя любим.
Я зависим от этой фразы, как нитка от проклятой иглы. Она штопает, штопает, штопает, а я тащусь следом. И если я все же чайник с накипью, то где-то на дне, между частичками облупившейся краски, прячется догадка. Но я не чищу себя. И никогда не обвожу наши ладони. Не зачеркиваю дни на календаре. Я вообще туда не смотрю и давно выкинул бы его, если бы не матушкины протесты. Какая разница, что покрывает землю – снег или листья, когда ты застрял за две ступеньки до звезд?
Мы больше не сжигаем дома. Нас перевели в мастерскую, обучили и заставили собирать мертвые механизмы.
Моя жизнь застыла, как смола на стволе ели, и, наверное, я не замерзну, даже если прогуляюсь в минус сорок без одежды. Ведь главное – закрыть глаза. Это мое правило. Моя молитва.
Но однажды молитва не срабатывает, и ступеньки рушатся. Неожиданно. Без предупреждения.
Мы с Ди бредем ко мне. Матушка обещала заварить нам чай и пожарить сырники. Я радуюсь. Я всегда радуюсь, когда темнеет. Это значит, что наша смена закончилась. Лимит мертвых сердец исчерпан.
И вечер бы прошел как обычно, до тошноты бессмысленно, если бы не Ворон. Если бы не люди на холме. Если бы не новенький решетчатый забор. Ворон где-то откопал хорошего косметолога. Или ему откопали.
Я щурюсь – что же там творится?
Моего тикающего друга окружили незнакомцы в серой форме. Повсюду разбросаны кирпичи и чаны с цементом. Рядом пыхтят грузовые машины.
Это не спасатели. Это строители.
– Его кто-то выкупил, – хмурится Ди.
Мы устремляемся к забору. Я размахиваю руками, и нас замечает бородатый мужик в каске. Он неспешно спускается с холма и выкрикивает:
– Чего вам?
– Добрый день. Э-э-э… – запинаюсь я, судорожно сочиняя легенду. – Что вы себе позволяете? Дом принадлежит моей бабушке, это частная собственность.
Ди пихает меня в бок, но молчит.
– Вы что, не знаете? Его выкупили. Спросите у своей бабушки. И вообще, где ж вы были, когда в вашей частной собственности кололись наркоманы?
Я стискиваю зубы и борюсь с желанием заехать мужику в нос.
– А кто выкупил? Имя?
Меня бросает в жар. Я вцепляюсь в забор, прижимаюсь лбом к прохладной решетке, врастаю в нее.
– Губу закатай. Нам запретили трепаться с местными. Так что считайте, я вам подарок сделал.
До нас доносится чье-то ворчание:
– Михалыч! Ну где ты там?
Ди тем временем извлекает из сумки кошелек.
– А если мы тоже вам сделаем подарок?
– Не рискуй, красавица, не расплатишься, – фыркает он и возвращается к своим.
Ди показывает ему средний палец.
– Урод.
– Не знал, что ты по ночам грабишь банки, – смеюсь я.
Мы решаем понаблюдать за стройкой. Рано или поздно хозяева объявятся, и тогда я буду готов. Но если это Тора – а больше некому – нам придется обсудить ее странное «мы», как бы она ко мне ни относилась.
Дома, поболтав с матушкой и объевшись сырников, мы с Ди отправляемся в мою комнату – обсудить завтрашний план по работе. Мы часто засиживаемся допоздна, но сегодня… Сегодня все по-другому. Ступеньки разрушены. Авария.
Я пялюсь в окно, надеясь отыскать Ворона за бесконечными уголками крыш.
Ди подкрадывается ко мне со спины и упирается подбородком в мое плечо.
– Если мы найдем Тору… Что ты ей скажешь?
– «Здравствуй. Как поживаешь?»
– И, естественно, крепко-крепко обнимешь, как верную жену.
– Именно, – соглашаюсь я и пытаюсь отстраниться, но Ди хватает меня за запястье.
– Она тебя не любит.
Я разворачиваюсь к ней, к этой диковатой девчонке, и хочу ее оттолкнуть, выгнать, зашить ей рот, но – немею. Она гладит мои губы.
– Что…
– Ничего не говори.
Закрой глаза – и ты увидишь Тору.
Но здесь не пахнет яблоками. И орехами – тоже. На Ди нет фиолетовых колготок. Она не Хлопушка. Она не любит «Дьявольскую трель».
Вот она дотрагивается подушечками пальцев до моего подбородка. Вот скользит по щеке. Вот дышит мне в шею.
А потом – целует меня. Осторожно, точно боится, что я ненастоящий.
Пахнет сигаретами. В последнее время Ди выкуривает по пачке в день.
– Тора не любит тебя, – повторяет она. – Не любит. А я рядом. Я – люблю.
Ди обвивает руки вокруг моей шеи, но я пячусь. Нельзя. Красный свет. Радиация.
– Ты ничего о нас не знаешь, – цежу я. – Уходи. Пожалуйста. Скоро приедет твое такси.
Ди неохотно кивает, и вместе с ней кивают волосы-ниточки. Нападение отменяется. Жертва забилась в нору.
– Прости. Наваждение какое-то. Спокойной ночи.
Ди вылетает из комнаты, а я смотрю ей вслед и вспоминаю, как выглядит моя мини-девочка. Как пахнет. Как говорит.
Где-то далеко она готовит яблочный пирог. Где-то далеко живет «Мы тебя любим».
Я пытаюсь найти себя в этих словах, но пока тщетно.
* * *
Дни тянутся приторным медом, и Ворон превращается в огромную черную птицу. Строители определенно знают его имя.
Я не слышу Ворона, но надеюсь, что он слышит меня.
По утрам, перед работой, я проведываю его и прошу, чтобы он дал знак. Чтобы хоть как-то намекнул о своем новом хозяине. Но он не обращает на меня внимания.
Дома умеют хранить тайны. Их рты залеплены шторами, закрыты на щеколду и четыре замка.
Люди перешептываются за моей спиной, и только матушка невозмутима. Она в курсе. Мы не обсуждаем Zahnrad, но Воробей сумел объяснить ей что-то важное перед смертью. И она молчит об этом уже одиннадцать лет.
* * *
Пролетает очередная рабочая неделя, потертая, как старый журнал, который хранят, чтобы отмахиваться от мух.
Мы с Ди стараемся не вспоминать о том вечере. И изо дня в день ищем, где тикает его сердце, чтобы вытащить батарейки и забыть этот нелепый поцелуй.
В пятницу Ди спотыкается на лестничной площадке и сдирает кожу с колен и локтей, поэтому весь вечер матушка обрабатывает ей раны. А после ужина я провожаю ее на автобусную остановку – она по-прежнему живет в корпусе.
Небо покрывается кляксами туч.
Пересекая улицу, мы натыкаемся на маленькую девочку. Она застыла у обочины и пристально на меня смотрит. На лбу – две родинки-вишенки, держащиеся на тонких прядках русой челки. Девочка мнет ладошки, да так усердно, будто в них нет костей.
– Ты кого-то ждешь? – интересуется Ди.
Та поправляет помятое платьице.
– Вас и жду.
– А зачем тебе мы? Где твои родители?
– Птичка умирает, – едва не плачет девочка. – Спасите ее!
Я опускаюсь на корточки и спрашиваю:
– Где?
– На дороге. Во-о-он там. – Она тычет пальчиком куда-то за мое плечо. – Ворон. Он не может взлететь. Ему грустно, потому что его бросила ворона.
Я оглядываюсь. Птицы нигде нет.
– Тебе показалось. Беги домой, скоро начнется дождь, – выдавливаю я, а у самого сердце вот-вот проломит ребра. – Ты же… местная?
– Да.
Невдалеке ухает автобус, и мы прощаемся с девочкой. Она не плачет. Не зовет. Только визжит что есть мочи, как раненая птица, а я считаю шаги, чтобы скрыться за углом.
Один.
Два.
Три.
Четыре.
Пять.
Больно, как же ей больно расставаться с воображаемым другом!
Что, если она и правда кого-то видит? Что, если у нее тоже воспалилась фантазия? Что, если она скорбит вовсе не о птице?
Ди ныряет в автобус. Помахав ей, я пару минут топчусь на пыльной остановке – гоню паршивые мысли. Крик девочки затихает. Ругая себя за трусость, я иду домой той же дорогой.
Девочки уже нет. Есть только ворон. Мертвый ворон, тонущий в жухлой траве.
А мы… Мы просто его не заметили.
* * *
Пролетает четыре дня. Сегодня опять дождь. Небо поет «Дьявольскую трель». Поселок тонет в тумане, точно в кипящем молоке. Скоро, скоро оно убежит – никто его не мешает. Никто не убавляет огонь. Люди на пределе – пенятся, испаряются, сворачиваются.
И вот мы с Ди, мокрые и взлохмаченные, у меня дома. Плотно запираем двери. Сбрасываем ботинки. Радуемся как дети, что из кухни доносится аромат сырников.
Ди в очередной раз содрала коленки – иногда мне кажется, что она делает это специально, лишь бы… Лишь бы что? Матушка вновь обливает ее перекисью.
– До завтра не уедешь, дороги размыло, – сообщаю я Ди. – Переночуешь у нас. На втором этаже есть комната с теликом и приставкой, тебе понравится. А пока давай-ка поищем, во что тебе переодеться.
Я отвожу Ди к себе и роюсь в шкафах, но – тщетно. У меня нет ничего на нее, худую и мелкую. Ничего, кроме… одежды Торы.
Стопка цветных нарядов лежит на верхней – запретной – полке.
– Выбирай что хочешь. Но… верни потом, – буркаю я и вылетаю из комнаты.
Во время дождя я люблю сидеть на веранде. Вот и сейчас я здесь. Ночное небо все в трещинах – кто-то тревожит его по ту сторону. Кто-то швыряет в него камни, а оно рыдает и испепеляет нас молниями.
Слева веранда застеклена. Справа – нет. Ремонт в самом разгаре. По стеклу текут капли. Некоторые из них обгоняют друг друга и не соединяются. Некоторые – соединяются и мчатся в два раза быстрее. Теперь они навсегда вместе.
Жаль, что с людьми это не работает. Люди не умеют бежать с одинаковой скоростью.
– Мы найдем ее, – раздается за моей спиной. – Не переживай.
Ди опускается рядом. На ней фиолетовые колготки и платье в горошек. Из всей одежды, что я ей предложил, она выбрала именно эту.
Дура.
Мы молчим, считая изредка проезжающие машины. Серая. Синяя. Черная. Вдруг кто-то из водителей видел Тору? И если да, догадался ли, что в ее жизни что-то пошло не так? Или, наоборот, порадовался, потому что она гуляла с мужем и дочкой?
Нет. Этого не может быть.
Она моя.
– Ты ее любишь?
Я ныряю лицом в ладони и киваю. В конце улицы смеется влюбленная парочка. Счастливые. Им хватило лестницы, чтобы добраться до звезд.
– Забудь ее, – продолжает Ди.
Я резко выпрямляю спину и поворачиваюсь к ней. Вот ниточки-косички. Вот глаза-божьи-коровки. Вот тонкие губы-проволочки. Неужели это она? Девочка-подросток не способна произносить такие слова. Не имеет права.
– О чем ты?
– Если бы Тора любила тебя, она бы не повела себя как типичная шлюха. Ты не достоин ее. Да и вообще, на что ты надеешься? Девять лет от нее ни слуху ни духу!
– Заткнись, – рычу я и вспоминаю поцелуй Ди. Мозг спрятал эту сцену далеко, закопал и проткнул крестом, а она выбралась и теперь хочет закопать меня.
Ди смотрит куда-то вдаль, сквозь машины, сквозь дома, сквозь поселок. В ее глазах больше нет божьих коровок. Они улетели, а на смену им приползли черные жуки с огромными клешнями.
И я вдруг отчетливо понимаю, что от дружбы Торы и Ди остались только странные имена.
– Какой же ты идиот. Иногда люди не здороваются, если плохо знакомы. А иногда не здороваются, если знакомы чересчур хорошо. Это о вас, Захар. Забудь о ней.
– Заткнись!..
Я вскакиваю и несусь в дом. Подальше от черных жуков. Подальше от фиолетовых колготок и от девочки без божьих коровок. Подальше.
Я запираюсь в спальне и раз десять проверяю замок. Не стучись ко мне. Иди к Лиде. К Пашке. К дьяволу.
Теперь мы знакомы чересчур хорошо.
* * *
Я дожидаюсь, когда Ди исчезнет в своей спальне и, надев куртку, выскальзываю из дома. Дождь прекратился, на улице – темно-темно, как под землей. Раз – и вечер умер. Поселок обезличился. Финал, занавес.
Я бреду к Ворону. Высокому, мускулистому Ворону. Косметологи поработали на славу.
Как и раньше, дом пустует. В нем никто не смеется и не плачет, я бы услышал. И лишь идеально подстриженная трава наталкивает на мысль, что здесь кто-то появляется.
Ночь давит на плечи. Я горблюсь и надеваю капюшон. Вцепляюсь в забор, а он вцепляется в меня, как дворовая собака.
Здравствуй, друг. Это я. Я.
Затерявшийся кирпич.
Я перелезаю через ограду. Мышцы дрожат – слишком давно Лида меня не гоняла. Слишком давно Лида заперлась в своем доме. Иногда я к ней заглядываю, но она не открывает. Так и стоим – по разные стороны, ждем, кто первый сдастся.
Я взбираюсь на холм. Старая земля по-новому стелется под ногами. По-новому дышит дом.
Ворон расправляет крылья, взлетает.
Я одними губами приветствую друга, но он не отвечает. Двери заперты. Окна – тоже. Ступеньки не скрипят. Ворон снова молод. Снова немой.
Тик-так.
– Живой… – шепчу я. – Пожалуйста, впусти меня, друг.
Но Ворон по-прежнему молчит. Дома преданы тем, кто в них живет.
Я обхожу его со всех сторон, а затем замечаю граммофон. На втором этаже, у окна.
Это она. Она! Больше некому.
Мы ведь мечтали сделать ремонт.
И я стучусь. Долго. Нестерпимо долго.
– Тора! Не прячься от меня!..
Внутри раздается шорох. Или… всхлип? Это длится всего миг, но я готов поклясться, что мне не померещилось.
Трясущимися руками я достаю из кармана мелок – к Ворону без мелков нельзя, – прислоняю ладонь к стене и обвожу ее. Это единственный способ понять, что здесь творится.
Она не сотрет ее. Не посмеет.
Прими меня, Тора. Я так по тебе соскучился.
* * *
На следующий день мы с Ди как ни в чем не бывало работаем вместе. Мы – Стая. Нам нельзя ругаться.
Я все время думаю о Вороне и граммофоне. Молюсь небесам, чтобы Тора меня пригласила – на пирог с яблоками. Но Ди… Будет лучше, если она узнает о произошедшем как можно позже. Я должен убедиться в Ториной нелюбви сам, без ее подсказок.
А потому – не бледнеть.
Не терять контроль.
И еще тысяча «не», о которых я забываю при виде Ворона.
Сославшись на головную боль, я мчусь домой раньше обычного и вновь лечу к холму. Вновь крадусь к огромной птице, к моему немногословному другу. Граммофон на месте. Тишина – тоже. Она живет здесь. Она – подруга Ворона.
Где-то там, за обнимающимися яблонями, белеет моя ладонь. И как же страшно, как, черт возьми, страшно ничего там не обнаружить.
Шаг.
Второй.
Я упираюсь взглядом в стену. Легкие будто кто-то постирал и повесил на ребра – сушиться. Аккуратно зажал прищепками.
Я скольжу пальцами по своему рисунку. А рядом… Рядом еще две ладони: моей Хлопушки – ее я не спутаю ни с какой другой – и совсем крохотная, детская. Чужой мини-девочки.
Или… мальчика?
Мы тебя любим.
Сейчас я ощущаю проклятое «мы» каждой клеточкой. До боли отчетливо.
Они были здесь, а я снова все прозевал. Я старался. Как же я старался не вспоминать о фразе Торы. Но сейчас она скручивает мои органы, оплетает позвоночник, охлаждает кровь.
Тора отняла у меня десять лет. Десять лет счастливого «мы». Глупая, глупая Хлопушка.
Я бы похоронил ее заживо, если бы не любил так сильно. Но – придется хоронить себя.
И я воплю:
– Ты ведь дома! Открывай!
Надо мной каркают вороны. Они недовольны, что я их потревожил.
– Открывай!..
Возможно, в каком-то доме вздрогнула старушка, услышав меня. Возможно, укуталась в одеяло, а возможно, задернула шторы. Никто сюда не прибежит. Чтобы выжить среди Zahnrad, нужен постельный режим.
Я молочу по двери, сбиваю костяшки в кровь, но мне отвечают лишь птицы.
От кого ты их прячешь, Ворон?
Где твое сердце?
Почему оно так слабо тикает?
Я пинаю дверь в последний раз и, спотыкаясь, ухожу прочь. Кулаки саднят. В легкие набивается холодный воздух, я задыхаюсь и проклинаю Хлопушку за дурацкое «мы».
Я бы выжег на ней эти десять лет – каждый год выгравировал бы на ее коже птицей, но я сдохну, если сделаю ей больно.
Не бойся Торы, пока она не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»
* * *
Я сбегаю от Торы, от Ворона, от нашего «мы» – к морю. Шум волн всегда отрезвляет меня, как бы паршиво ни было. Обычно вечером на пляже безлюдно, но сегодня я опять встречаю странную девочку.
И она тонет.
Барахтается мотыльком, не может взлететь – у нее намокли крылья. Кричит – громче моря, а волны вновь и вновь накрывают ее. Над макушкой летает чайка.
Конечно, я лезу в воду. Конечно, вытаскиваю ее. Делаю все, лишь бы ее спасти и заодно – загладить вину.
Лежа на берегу, она продолжает верещать, и в тон ей верещит чайка. Летает над нами, как привязанная.
– Тебя птицы любят.
Девочка умолкает и поворачивается ко мне, словно я сам – птица.
– Спасибо.
Я помогаю ей подняться.
– Пообещай мне кое-что. В следующий раз не лезь в море во время шторма. И научись плавать.
– Спа-си-бо, – повторяет она.
Я улыбаюсь – как же хорошо. Да, я не спас ворона, но – спас ее. Девочка машет мне ручкой и бредет в сторону поселка. За ней летит чайка. А я сижу на берегу и думаю, думаю, думаю о странных родинках.
О родинках еще одной мини-девочки.
* * *
Я в кухне. После вчерашнего я почти не спал – писал книгу и вырывал страницу за страницей, уж слишком жестокий, переполненный ненавистью получался текст – и сейчас едва не падаю. Пахнет жареными блинчиками. Матушка суетится у плиты и, зачерпнув в половник очередную порцию теста, шепчет:
– Ты не приболел, сынок?
И выливает тесто на сковороду. Я намазываю готовый блинчик смородиновым вареньем.
– Ты видела тот дом? Ну, в который я часто лазал в детстве… Его отстроили. Там кто-то живет.
Матушкино лицо серьезнеет. Блинчик разрывается, и она в сердцах бросает лопатку.
– В том доме поселился кто-то из них.
– Из кого? – недоумеваю я.
– Из поджигателей. Что-то мне холодно…
– Мам, они не поджигатели.
– Они рядом. Они убьют нас.
– Это неправда. – Я поднимаюсь и опираюсь кулаками на столешницу. – Если ты считаешь их вандалами, то я тоже вандал.
– Ну или там живут призраки.
– Почему?
Матушка заправляет прядь седых волос за ухо и закутывается в растянутую серую кофту, похожую на мешковатое платье.
– Люди часто слышат по ночам, как в том доме играет скрипка. Одна и та же мелодия. Одна и та же, – хрипит матушка. – Как же холодно…
Ее пробирает дрожь, и она прислоняет ладони к раскаленной сковороде.
– Мама!
Я отталкиваю ее от плиты и хватаю за запястье.
– Зачем? Зачем ты?..
– Мне холодно.
Теперь матушке всегда холодно. Будто в ней сломался внутренний термометр и ртуть навечно застыла на минус тридцати. С ней что-то творится, но она не позволяет мне вмешиваться. Частичка ее души сгорела вместе с Воробьем. Матушка все-таки его любила. Слепо и глухо, но любила.
Обработав ее ладони, я мою посуду и выбегаю из дому. Проветриться. Забыть себя. Перечеркнуть глупую матушкину болезнь, как ошибку в математических расчетах. И натыкаюсь на Пашку. Он со своей девчонкой – Илоной?.. – шагает в сторону моря и машет мне рукой.
– Здорово, Захар!
– И тебе того же, – через силу улыбаюсь я. – Как жизнь?
– Да отлично. Серфинг и дом. Дом и серфинг.
– Ясно… – Я кошусь на Илону, но она не обращает на меня внимания – пялится на куст, облепленный розами. – Как думаешь, кто в нем поселился?
Пашка фыркает:
– А хрен его знает. Может, секретная спецслужба по делам привидений. Так что не суйся туда, а то и тебя захапают. Выглядишь как полтергейст!
Я вымучиваю из себя смех, но получается что-то вроде скрипа несмазанной двери.
– Да девчонка там живет, – внезапно отвечает Илона, как ни в чем не бывало нюхая розочку.
– Какая девчонка? – холодею я.
– Махонькая такая. С длинными белыми волосами и родинками на лбу. Она на холме постоянно ошивается.
– А… взрослые?
– Без понятия, – отзывается она. – Ну, мы пошли. Пока-пока!
Мир плывет перед глазами. Пашка и Илона – две кляксы, два размытых пятна, две ошибки художника. И как же отвратительно чувствовать этим художником себя.
Пашка хлопает меня по плечу.
– Держись, друг.
Я моргаю и хватаю его за локоть.
– Не говори никому.
– Без проблем.
Они заворачивают на соседнюю улицу, и меня внезапно осеняет:
– Ты знал! Знал, что она ждет ребенка! – воплю я вслед Пашке. – Урод! Ненавижу тебя! Ненавижу!..
Тора снова доверилась ему. Ему, а не мне.
Я стою посреди дороги и вспоминаю странную девочку. Она умоляла меня спасти ворона. Плакала и тянула ко мне ручки, а я спешил. Преследовал призрачную цель, искал заветное «мы» рядом со звездами, пока оно пряталось здесь, в моем поселке.
Я была ближе некуда, а ты не нашел. Опять считай!
Идиот.
Мы тебя любим.
Мы тебя любим.
Мы тебя любим.
Шепот Торы заглушает уличные звуки и мои мысли.
Я бы превратился в яблоню и пророс бы во дворе Ворона, если бы только она разрешила.
Если бы только разрешила.
Я кручусь, ищу их, но – бесполезно.
Пространство складывается книжкой. Люди прячутся между строк. Они в курсе, как зовут девочку-вишенку, но не проболтаются мне. Я не из этой книги, а читателям нельзя рассказывать концовку.
Ворон возвышается над поселком, наблюдает за мной и молчит. И я лечу к нему, миную дорогу, забор, яблони. Дом не изменился со вчера, а я успел раскроить себя и заштопать по-новому.
Солнце плавит меня, плавит Ворона, плавит лес. Я добираюсь до нашего рисунка и застываю. Над ладонями нацарапано короткое «Приходи на чай. Сегодня вечером».
* * *
Ну что, Вячеслав? Не помер еще? Тогда ты или бог, или Zahnrad. Другие давно в отпуске. Поздравляю! Мы почти у финиша. Садись в угол и попытайся не дышать. Угарный газ убьет тебя раньше, чем щупальца люстры.
Сегодня у меня важный день. Я поговорю с ней – абсолютно точно. Она все-таки сделала ремонт, представляешь? Граммофон купила. И на пороге – тапочки с помпонами, не сомневаюсь.
Как же я надеюсь, что у нее есть пластинки с «Наутилусами»! Мы станцуем под них.
Запах яблок… Он повсюду. Тора повсюду, а я слепой дурак. Девочка-вишенка мне это доказала.
Моя история закончится через час. Допишу ли я ее? Исполнится ли нам тридцать четыре? Или нашего «мы» не станет?
Да к черту нас.
Спасайся, Вячеслав. Уверен, до звезд тебе не хватает всего двух ступенек.
А я пойду.
И… На всякий случай прощай. Выбей этому дому зубы. Прицелься хорошенько, не дрейфь.
И помни: иногда нужно просто закрыть глаза.
35 Анна [После]
Я возвращаюсь к нему, к этому несчастному крошечному ребенку. В нос бьет запах отвратительной могильной сырости. Но тот, кого я похоронила, жив. И плачет.
– Они нашли меня, – бормочет Темыч. – Какие же они злые!
Я опускаюсь на колени.
– Кто?
– Монстры.
Темыч жмурится и сжимает кулачки. Он всеми силами отгораживается от меня.
– Нет, что ты. Они… передумали на нас нападать и ушли в лес.
– Больно… Мне так больно!
Его бледная кожа будто светится в полумраке подвала. Или могилы?
Я глажу Темыча по макушке. Ну же, мальчик, открой глаза…
– Где больно?
– Везде… Они сожгли нас. Сломали и сожгли.
По лбу Темыча стекают капельки пота. Меня же бросает в холод. Сожгли. Темыч точно сросся с почерневшими стенами, забрал у обугленного скелета частичку ожогов.
На языке вертится вопрос, на который я уже знаю ответ:
– Как тебя зовут?
– Ворон.
Я отстраняюсь и мотаю головой. Мысли путаются. Что произошло, пока я воевала с Илоной? Кто этот маленький человек, называющий себя птицей? Что, если он всего лишь микрофон Ворона?
Нет… Темыч не заслуживает того, чтобы его нашли монстры.
– А меня? Как меня зовут – помнишь?
– Аня… Почему, почему ты сбежала? Мне было так страшно.
Я обнимаю Темыча за плечи. Сложно сказать, кто в нем говорит – маленький мальчик или Ворон, но это и неважно. Я бросила их обоих.
– Прости. – Я целую его в лоб – какой же он горячий! – Пойдем домой.
– Я дома. И я горю, – всхлипывает Темыч. – Где твой ворон? Ты научилась плавать? Захар обещал, что научит. А еще – что отвезет меня на море. Веришь? Море ведь холодное. Оно собьет мою температуру.
– Да очнись же ты!
Я в панике обыскиваю подвал. Ничего, кроме пыли, червей и тиканья. Проклятого тиканья. Взгляд цепляется за маленький пушистый комок под лестницей.
Да это же плюшевый кролик!
Я хватаю его и протягиваю Темычу.
– Открой глаза! Смотри. Он скучал по тебе.
Мальчишка отталкивает меня, и с его губ срывается крик.
Все затихает, даже тиканье приглушается. Мы молчим нестерпимо долго. Я теряю счет времени, но снова и снова прикасаюсь губами ко лбу Темыча и с облегчением чувствую, что температура падает.
– Аня.
Я вздрагиваю. Как странно… Совсем недавно я не могла различить интонации Темыча и Ворона, но теперь я ни за что их не спутаю. Маленький мальчик вернулся. Когда-то мне казалось, что Темыч сумасшедший, что как только он вырастет, то заменит жирафов и кроликов на людей, но… Он просто ребенок. Он просто защищается от монстров. Для обычных детей они вымышленные, а для него – огромные, с сердцами-шестеренками и скрипящим голосом. Ему не повезло. Он проиграл в лотерею.
– Прости, – повторяю я. – Как ты?
Темыч подтягивает колени к груди.
– Я не хочу слышать. Мне страшно. Что со мной? Почему я?
Я обнимаю его сильнее прежнего и шепчу:
– Не надевай больше на голову пакет, ладно? Я подарю тебе рыцарский шлем.
* * *
Теперь я плаваю каждый вечер. Когда кожа пляжа очищается и море – слава небесам! – выплевывает туристов, пахнет свободой. Я люблю блуждать по берегу в одиночестве и думать об акуле.
Пролетела неделя. Илона так же приветлива со мной, как и раньше. Она не возвращается к тому разговору, я – тоже. Он мне приснился. Я внушаю себе это изо дня в день. Мы с Темычем часто лечим его плюшевых друзей, читаем комиксы и спорим, кто лучше – DC или Marvel.
– DC крутые, – заявляет Темыч. – У них есть Флэш. Ты представляешь, как ему подфартило?! Этому парню не нужно платить за билеты в Прагу!
– Почему именно в Прагу?
– Это далеко, и там, наверное, нет живых домов. А еще там красиво. Я по телику видел.
Мы идем на пляж, и его лицо вытягивается, как только я достаю свое полотенце:
– Ничего себе! У меня такое же, но я его потерял…
Я стараюсь избегать Павла, ведь во мне по-прежнему бьется сердце дома. На днях я забрала Облако и постирала его, но Ворон уже проник в стеклянные глаза кота. Уже поклялся, что исполнит мое желание.
Порой меня охватывает страх. И тогда я запираюсь на ключ и не высовываюсь из номера. Разве что иногда прогуливаюсь в столовую. Лида постоянно на меня пялится. Если бы ее взгляд резал, я бы давно превратилась в бумажную снежинку.
Обычно страхи рассеиваются под вечер. Дом ослабляет тиски. Мы с солнцем свободны по очереди. Когда я прячусь, оно обнимается с раскаленной землей. Когда прячется оно, я бреду к морю и звоню Рите. Дарю ей шум волн через динамик телефона.
– Все нормально?
– Все нормально.
«Нормально» – мое любимое слово. Моя цель. Я отпросилась с работы еще на неделю – чувство, что подрывник вот-вот откроет свою тайну, не покидает меня. Когда-нибудь я забуду о домах, но сейчас прошлое непозволительно близко – за стеной. Пальцы провалились в нее, как в картон.
От мрачных мыслей меня отвлекает книга. Я пишу ее днями напролет. Если бы не Темыч, я бы вообще не выходила из номера. Мне до дрожи хочется проверить сюжет на достоверность. И опять я запираюсь, а ключ сую под подушку. Но чем дольше я противлюсь чарам дома, тем паршивее получается текст.
Однажды я едва не поддалась Ворону. Дверь в комнату видеонаблюдения кто-то открыл – должно быть, это Темыч искал кролика, – и я увидела фото Илоны и Павла-серфингиста. Голова раскалывалась от вопросов и сомнений. Что, если украсть его? Что, если похоронить фото в урне, среди шкурок бананов и помидоров? Что, если у Илоны забрать последнее напоминание о первом муже?
Стиснув зубы, я прошла мимо и в этот день не написала ни строчки. Думаю, дом был в ярости, но не желал сдаваться, потому что на следующее утро я вернулась к работе.
Я все отчетливее осознаю, что внутри меня живут две Ани: та, чьи родинки на лбу – рубцы от ампутированных рогов, и та, кого поцеловал Бог. Первая – зеркало, в котором отражается дом. Вторая – зеркало, в котором отражается старая Аня. А старая Аня пишет скучно.
Но я не вытаскиваю ключ из-под подушки. Я пишу книгу и не смотрю в зеркала.
Мне остается завершающая глава, и я отправляюсь на пляж – нужно развеяться. На часах – пять вечера. Море штормит, людей нет. Волны черные-черные, сплошная нефть. Ветер путается в волосах, а я – в нем. Я не надела купальник, решила, что холодно. Но сейчас, глядя на кипящую нефть, я не могу удержаться и снимаю обувь.
Когда идешь в гости – всегда снимай обувь.
Новая Аня меняет курс и разворачивается с юга на север. Теперь пальцы протыкают стену насквозь, а лицо застывает в бетоне. Если напрягусь, проломлю барьер. От прошлого меня отделяет миллиметр.
Здравствуй, акула. Я снова к тебе.
Волны не сбивают с ног. И все же море засасывает меня, тащит навстречу акуле, и я не сопротивляюсь. Разгадка близко.
Я ныряю. Вода щиплет глаза. Но это и к лучшему – боль неплохо отрезвляет.
Море выталкивает меня на поверхность. Я глотаю воздух. Шум волн заглушает тиканье. Видишь, Рита, я нормальная. Здоровая. Сильная.
Я гребу вдоль берега. Вода проглатывает мое тело, как мелкую рыбешку. Где-то там, по соседству с затонувшими кораблями, есть вентиляционная труба. Где-то там крутятся лопасти. Они зовут туристов к себе, им скучно без хруста костей. А я барахтаюсь и с ужасом понимаю, что не могу дотянуться до дна.
Буйков нигде нет.
Острые макушки хижин, пляж, мои ботинки – все это непозволительно далеко. До берега плыть целую вечность… Или даже больше.
Я задыхаюсь. Мои мышцы – ничто по сравнению с волнами. Я очередная гостья соленых вод, которую найдут к утру – посиневшую и мертвую. Море не пьет чай. Море пьет людей.
Илона учила на уроках йоги: «Зацепитесь взглядом за какую-нибудь крошечную деталь и замрите. Она вас удержит, не сомневайтесь».
Но мне не за что цепляться. Я одна.
Одна.
Рыдания стынут в горле ледяными колючками, и мое «помогите» сразу же тонет камнем. Волны смыкаются надо мной и вновь выталкивают.
Вдох.
Ледяная вода.
Тьма, кругом тьма…
Опять вдох.
Дурацкий камень «помогите».
Я в невесомости.
Вода.
На какой раз я сдамся? Я считаю секунды. Сердце клокочет в горле, рвется наружу. Ему страшно умирать, оно мечтает упорхнуть бабочкой и найти другого хозяина. Хозяина, ненавидящего волны и часы.
Море – огромная ванна с водой, и сейчас кто-то вытащил пробку. Меня уносит в канализацию, к таким же несчастным. Наверное, ванна забьется. Наверное, ее хозяева возьмут вантуз и достанут наши кости. Нечаянно перетрут их в пыль великанскими руками. Расчихаются и потащатся в аптеку за таблетками от аллергии.
Море вот-вот победит, и я что есть мочи взвизгиваю:
– Помогите!
На этот раз у камня вырастают крылья. Он расцарапывает мои горло и рот, но взлетает.
Я не дописала книгу. Мне нельзя тонуть. История еще не родилась.
Где-то близко кричит чайка – громче волн и моего сердцебиения. На уровне тиканья. Снова и снова, как заевшая пластинка. Мне больно от ее пения – мое тело покрыто запекшимися ранами, и чайка их выклевывает, сдирает; взламывает замок на двери запретной комнаты.
Волна.
Я уже не считаю и не всплываю – кипящая нефть расплавляет замок. Я проваливаюсь в комнату.
[До]
В лесу пахнет гарью. Здесь всегда так пахнет, но этой ночью – особенно. Дом рыдает – его сжигают без наркоза. Мы с мамой плачем. Мне стыдно, что я погналась за вороном, которого иногда подкармливала дохлыми мышами. Но… Что, если он как-то связан с домом?
Коленки саднят и ноют. Я ушибла их, когда падала, и теперь с трудом передвигаюсь.
У мамы ледяные пальцы. Она держит меня за локоть, впивается ногтями в кожу, тянет обратно к Ворону. Ей невдомек, что Ворон улетел.
– Где папа? – хнычу я.
– Он… погиб, детка.
Мне стыдно, что я рванула в лес, позабыв о нем. А ведь он меня спас. Я пришла домой и сразу побежала к себе в комнату – меня испугали громкие голоса в гостиной. Спряталась под кроватью…
Как же я боялась, когда папа врубил на полную громкость любимую песню! Думала, погибну. Маленькая эгоистка. Даже пошевелиться не смогла. Но музыка успокаивала. «Наутилусы». Песня – «Квадратные глаза». Мама тоже часто ее включала.
Из-под кровати я видела только пыльные сапоги, а за ними полыхал огонь. Дом разрушался, плавился, как свеча, и я бы превратилась в горстку угольков, если бы папины огромные руки с черными ногтями не усадили меня на подоконник. Странно: в тот миг я боялась их больше пламени.
Папа поцеловал меня в макушку. Огромный, мокрый, красный. Он был похож на вулкан перед извержением, весь дымился. Папа схватил со стола мамин проигрыватель – тот продолжал петь «Наутилусов» и пялился на нас квадратными глазами.
Я рассматривала папу, как редкий экспонат – хотя он и был им – а в шаге от нас огонь пожирал мой шкаф и стол. Пол вибрировал. С полки полетел граммофон. Как же больно наблюдать за его падением! Он для меня – член семьи.
Пластинки растворились в дыму, я успела взять лишь Облако.
Папа распахнул окно и погладил мои родинки. Чем быстрее распространялось пламя, тем сильнее он давил на рубцы от рожек, точно оттирал их. Проигрыватель выключился.
– Его зовут Вячеслав, – прокряхтел папа.
Дым отнял его у нас с мамой. Я так и не дотянулась до отца, и плевать, что он стоял в миллиметре от меня. Этот миллиметр разделил нас – на границе выстроилась чересчур строгая таможня.
Дым забился в мои уши, кусками ваты попал в организм. Пролез через поры, поломал наши голоса на позвонки.
Дым прожигал легкие. Вновь и вновь тушил об них сигареты, пока не выкурил десять пачек.
– Я рад, что мы познакомились, Аня. Тебя бог поцеловал, ты в курсе?
Папа втянул воздух так жадно, будто пахло не дымом, а яблоками. Кажется, я тоже слышала едва уловимый сладкий аромат. Нет, это не запах смерти. Это запах маминого пирога.
Ветер дул мне в спину. Я обернулась к нему, такому желанному, еще не раскаленному, и обняла Облако.
– Сделай одолжение: научись плавать, – произнес папа и толкнул меня.
Я упала в траву. Боли не было. Боль осталась на втором этаже, с папой и проигрывателем. Я уткнулась лицом в приправленный пеплом клевер.
Я осознавала, что это конец, и не поднималась. В стеклянных глазках Облака вспыхивали красные блики.
Огонь хуже воров. Он крадет абсолютно все, и ему плевать, что старенький граммофон никому не сдался. Плевать, что мама везде таскалась с проигрывателем. Плевать, что там, в моем крохотном мирке, напичканном пластинками, плавится мой папа.
Кто-то взял меня под мышки и помог мне встать. Подвесил, как елочную игрушку. Крутись, крутись, крутись… Чтобы пространство вокруг нас с Облаком смазалось в черную кляксу. Я стиснула лапу кота со всей силы, чтобы не отключиться.
Где-то близко-близко рыдала мама. Это она подняла меня и заключила в объятия. А Ворон, мой верный друг, внезапно взревел, перекосился, обезумел, оглушил нас. Я выронила Облако.
Там, где недавно были мы с папой, полыхал огонь. Жаркая вечеринка. Яркая вечеринка. Смертельная вечеринка.
И я заплакала. Зачем, зачем они расставались? Зачем жили друг без друга? И зачем тогда так отчаянно любили? В ту секунду я поняла, что самое прекрасное в мире – это смотреть, как дышит отец, и танцевать с мамой под «Наутилусов».
Как же я жалела, что мы с папой так и не побродили по пляжу! Он отправился на прогулку с огнем.
Я прислушалась к дому – объяснит ли он что-то, извинится ли. Но он молчал. Ему было стыдно превращаться гроб.
А потом надо мной черной полосой пронесся ворон. Обычная птица. И я устремилась за ним, в лес… Дома не отправляются на море в кирпичных одеждах. Они обнажаются до перьев и с наслаждением взмахивают крыльями. Клянусь.
Но я потеряла ворона – дуреха. Не успела за ним. Должно быть, он очень хотел в отпуск, и поэтому не подождал даже меня. Мама появилась быстро. Что-то тараторила, но… какая разница? Мой друг исчез. Папа – тоже.
И вот мама говорит:
– Он… погиб, детка.
Я почему-то злюсь на нее. «Погиб» – запрещенное слово. Убивающее заклинание. Что-то вроде «Авады Кедавры»[28].
Мама застывает, и я не сразу понимаю, что происходит. Она толкает меня за дерево, а сама не сдвигается с места.
Из темноты выныривает Ди.
– Где девчонка?
– Не твое дело.
Они ругаются, спорят – мучительно долго. Я бы вышла из укрытия и сообщила им, что замерзла, что после огня тяжело согреться; но ступни приросли к жухлой траве.
А мама и Ди… Они летают. Страшно летают, бескрыло. В воздухе плавает кровь. Идеально круглые капельки, как горчица, вымазанная в кетчуп.
Я убеждаю себя, что это нереально. Нельзя же вдавливать мою маму в землю. Нельзя же так жестоко ее колотить. А корни! Корни деревьев! Они же не могут быть заодно с Ди! Почему они не размягчаются, как печенье в чае? Почему не исчезают?
Я отворачиваюсь и облокачиваюсь на широкий ствол дуба. Шорох, чертыханье, хруст – нереальны. Они далеко, на поляне, в ином измерении, огражденном чересчур строгой таможней.
Это не моя мама.
Не моя, не моя, не моя…
Я не дышу и не моргаю. Не существую. По ногам ползают муравьи – я наступила на муравейник. В небе каркает наш ворон. Наш дом.
Кар, кар, кар.
Я исчезаю. Выключаюсь. Разряжаюсь до минус двадцати.
– А ты смелая, – цокает кто-то.
Я дергаюсь: надо мной замирает Ди. Сердце колотится, я зарываюсь пальцами в землю.
– Где мама?
– Не бойся.
И снова меня поднимают. И снова я – елочный шарик. Ветки, корни, земля – все смешивается в винегрет. Впереди, за редкими деревьями, ровной полосой тянется трасса.
Моргаю – мы на обочине.
Моргаю – я сижу на чем-то мягком, пахнет бензином, гудит двигатель…
Моргаю – меня наполняет темнота.
[После]
Я продолжаю барахтаться. Ложь. Дышу – часто-часто, лишь бы не думать о произошедшем. Ложь. Мышцы горят, но теперь я чувствую силу. Ложь. Тонкая нить по имени Ди не дает мне утонуть.
Ложь.
На берегу сереет силуэт. Чайки летят к нему. Они знают его куда лучше меня – широкие плечи, мускулистые руки. И – я уверена – мутные глаза.
Сделай одолжение: научись плавать.
Я гребу что есть мочи. Мне нужно победить море и нарисовать свою жизнь на песке заново.
Главное – не волноваться.
Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох.
Ноги тянут меня на дно. Тяжелые, каменные, они топят свою хозяйку.
Но… что это – мягкое, щекочущее ступни? Неужели водоросли?
И песок. О боги, песок!
Я научилась, папа.
– Научилась, – хриплю я скорее себе, чем тому, кто ждет меня на берегу.
Я выползаю из штормящего моря, трясусь от холода и страха, качаюсь маятником, спотыкаюсь, но не падаю. Ноги уходят под землю корнями, а я все выдергиваю их и бреду дальше.
Пляж – в черных полосках, как некачественный фильм.
Дальше, дальше, дальше…
Почему Ди? Почему моя мама? Почему часы?
Песок вновь меня засасывает. Голова кружится, и прежде чем я позволяю себе потерять сознание, сквозь зубы просачивается:
– Почему?
* * *
Мне снится, что я в ванной. Здесь чересчур ярко. Ди сидит на полу и почти не двигается.
Я пялюсь на красные ладони. Мы с Ди испачкались. Нужно отмыть эту чертову пленку, замаскировать гелем для душа запах железа. На животе Ди все больше и больше грязи. Ничего страшного – я ототру ее полотенцем.
Я открываю краны в душевой кабине, но воды нет. Вокруг нас с Ди – обои в красную полоску. Или… Нет, это кровь. Кровь Ди. Она везде – и на полу, и внутри меня.
Я хватаю полотенце и пытаюсь оттереть красное пятно на животе Ди. Не получается – грязь растекается.
Это не я, не я, не я…
Это Zahnrad. Они проткнули Ди стрелками. Оглушили ее тиканьем.
Но вот беда – я и есть Zahnrad. И мои стрелки – хорошо наточенные ножи.
Идеально ровные полоски обоев стремятся к Ди. Она – их центр. Кровавое солнце.
Я поворачиваюсь к зеркалу. Слезы рисуют на вымазанных щеках бежевые ветки. Сейчас, сейчас старая Аня во мне сдохнет и отстроится Ворон.
Спасибо, дом.
Ты – мое сердце.
Я поднимаю руки – это не мои руки. Они грязные.
Я ерошу волосы – это не мои волосы. Они грязные.
Я поджимаю губы – это не мои губы. Они грязные.
Теперь я знаю, каким будет финал.
Спасибо, дом; спасибо, дом; спасибо, дом…
Красные пятна тускнеют, в ванной из ниоткуда появляется сквозняк.
– Шоколадная или карамелька? – ухмыляется Ди.
Ответить я не успеваю. Кто-то зовет меня, но этого «кого-то» перекрикивает море. Я бросаю Ди и спешу к незнакомцу.
* * *
Я лежу на прохладном песке, промокшая одежда липнет к коже. В ушах шумит. Папа сидит рядом, смотрит на меня, хмурится, на лбу – сеточка морщин. Он понял, что мне снилось. Понял и до сих пор улыбается.
– Прости, я не мог тебе помочь.
– Знаю. Я научилась плавать.
– Поздравляю, дочка. Ты молодец.
– Ты привязан к Ворону? Он – твой дом? – хриплю я. Голос не слушается и будто существует отдельно от меня.
– Да. Ди… спрятала в часах листья яблони. Не разрешила мне уйти.
– А мама? Что насчет мамы?
Не обращая внимания на кружащийся каруселью мир, я приподнимаюсь на локтях. Папа прожигает меня взглядом, как чертову пепельницу.
– Это ты мне скажи, что насчет мамы.
Я холодею. Он не присутствовал там и даже не догадывается, что творилось в лесу. В то время, когда по мне ползали муравьи, он плавился.
– Упала с обрыва.
Он щурится и кивает. Подозревает что-то, сжимает кулаки, но не произносит ни слова. Я бы обняла его, да нельзя. Мы существуем по разные стороны.
– Твоя мать была удивительная.
– Если… я освобожу тебя, ты отправишься к ней?
– Да.
Чайки летают над нами и кричат, кричат, что скучали по нас. Слишком долго мы занимались не тем.
– Ты загадала желание. – Папа подается ко мне, но тут же отстраняется. – Хорошо, что принесла Облако, – это его дом. Плохо – что вместе с ним принесла часть себя. Сломай Zahnrad. Я буду тебе благодарен. Нам с Вороном давно пора на море.
– Вам с Вороном?
Папа не сдерживается и прикасается к моему плечу. Точнее – проскальзывает через меня.
– Дом не пожалеет тебя, будь уверена. Часы рано или поздно сломаются.
Папа прав – во всем до последней буквы. Я вытираю слезы рукавом промокшей рубашки. Пора прощаться.
Аккуратно, чтобы не пройти насквозь, папа гладит меня по запутанным соленым волосам, но я ничего не ощущаю. Как бы он близко ни был, нас разделяют миллионы километров – если путь на ту сторону можно посчитать в километрах.
Почему, почему я не обнимала папу тогда, десять лет назад?
– Все получится. Умоляю, не позволяй прошлому портить тебе жизнь. – Папин голос заглушают чайки. – Слышишь? Птицы любят тебя.
Зажмурившись, я хватаю руками воздух и представляю, что дотрагиваюсь до родной ладони.
Папа, папа, что со мной случилось?
Что с нами случилось?
– Передашь маме, что я по ней скучаю?
Мне отвечает лишь море.
– Папа?
Я открываю глаза: никого нет. Папа ушел в отпуск. И только чайки надо мной по-прежнему кружат.
* * *
Я проскальзываю к Лиде в кухню. Отдыхающие разбрелись по поселку, и у меня есть шанс порадовать бабушку и дедушку перед тем, как я допишу книгу. Вряд ли я смогу это сделать после.
Я купила пять килограммов яблок в местном магазине. Ди видела из окна номера, как я несу их в кухню. Но я лишь улыбалась в ответ. Смотри, смотри, какие они красные. Смотри, смотри, какое красное мое прошлое. Нет, ты его не отберешь. Настало время отбирать мне. К примеру, твое будущее.
Лида режет помидоры в салат и не замечает меня.
– Можно воспользоваться вашей духовкой?
Она вздрагивает и вытирает со лба капельки пота.
– Напугала! Пользуйся на здоровье, – разрешает Лида, пялясь на яблоки. – Она очень их любила.
– Я знаю. Вспомнила. У вас есть корица?
Лида кивает на шкафчик у мойки.
– Поищи там. И… Молодец, что не сдалась.
– Теперь нужно придумать финал.
– Для книги или…
– Для всего сразу, – перебиваю я.
– Удачи, – говорит Лида чересчур радостно.
– Вы мне поможете?
– Нет.
Она наклоняет доску и высыпает помидоры в миску. Несколько кусочков летят мимо, на пол.
– Вы ведь знаете, кто виноват, – щурюсь я, отодвигая миску. – Почему вы ее покрываете?
Лида фыркает и принимается резать капусту. Так и не дождавшись ответа, я замешиваю тесто, выкладываю на него яблоки и ставлю пирог в духовку. Все механически и четко. И вроде бы Лида здесь, со мной, но я чувствую, что разум она заперла в той самой клетке. Подальше от одержимости. Подальше от сомнений.
Аромат запеченных яблок и корицы преображает кухню и… нас. Он – машина времени. Над печкой висят часы – старые-старые. Что, если перевести стрелки на десять лет назад? Выйду ли я из этого дома маленькой девочкой? Найду ли папу?
Я вытаскиваю пирог из духовки и мою посуду.
– Для кого стараешься? – все же подает голос Лида.
– Для них. Спасибо, что не прогнали.
Переложив пирог на поднос, я устремляюсь к выходу.
– Ди не виновата, Аня, – летит мне вслед. – Убийца не она, а твоя мать!
Ложь. Глупости. Бред сумасшедшего.
– Идите к черту.
Лида заперлась в клетке. А в клетке можно наблюдать и, как бонус, жить вечно. На свободе – сажать цветы, танцевать контемпорари и сдохнуть, шагнув на красный. Тот, кому по душе первое, понимает плохо. Тот, кому по душе второе, понимает хорошо, но недолго.
И я бегу, бегу от нее, от этой свихнувшейся старухи, вцепившись в поднос с пирогом.
Мама любила скрипку и скучать по папе. Ее счастье горчило, и все же она радовалась, когда писала песни. А радостные люди не предают.
«Ты права. Не предают, – проносится в голове. – Привет, Аня. Меня зовут Ласточка».
Я выдыхаю.
Вот она, пестрит красками. Вот она, выделяется среди плеяды хижин, как западающая клавиша пианино.
«Все на работе», – скрипит Ласточка.
Я оглядываюсь – никого – и цепляюсь пальцами за забор. Мне не перелезть через ограду с пирогом. Я уже думаю оставить поднос на траве, как вдруг ворота распахиваются.
«Ты – своя».
Прокравшись в гостиную, я кладу пирог на стол.
Он с корицей, дедушка, как ты и хотел. Прости, что я так долго его делала.
Если бы можно было выжать этот дом, как кухонную губку, процедить воспоминания и проглотить их лекарством, я бы не пожалела Ласточку. Я бы сомкнула стены, клянусь.
И поэтому я готова танцевать контемпорари. Готова понимать недолго. Готова на красный.
36 Ди [До и после]
90-ые гг.
Ди кладет на колени потрепанный блокнот, пахнущий яблоками. Для других он – сборник пыли, для нее – жизнь.
Она украла его у Захара, а он так и не заметил. Не успел заметить.
Ди ненавидит яблоки. Как же она их ненавидит. Они забрали у нее все, а на прощание подарили блокнот.
Страницы исписаны мелким почерком. Еще немного – и без микроскопа она бы не прочла. Ди хранит блокнот в вещах, между фиолетовыми колготками и платьями.
Сегодня годовщина. Прошло десять лет с тех пор, как они расстались. Два бойца. Две раненых птицы.
А если быть точнее – три.
Нет, Ди не жалеет. Разве что самую малость. Просто… Она так слаба без него.
И так глуха.
Она мечтает прожить все заново, и блокнот помогает ей.
Через открытую форточку, с улицы, льется знакомая песня – «Крылья». Ди это раздражает. У нее давно нет ни крыльев, ни того, кто любил «Наутилусов».
Она захлопывает форточку. В комнате образовывается вакуумная тишина.
За каких-то четыре часа Ди дочитывает до последней строчки. Ей срочно нужна сигарета, чтобы заново научиться задыхаться. Жаль, что история не дописана. А ведь финал – самое главное. Финал – обязательное требование, чтобы ожил сюжет. Смерть – обязательное требование, чтобы ожил человек.
Ди выскальзывает из кресла, берет ручку и начинает писать на чистых страницах.
Записи Ди
Этот парень в сером растянутом свитере изо дня в день выбивал из меня дух. По вечерам я сворачивалась калачиком и рыдала. Под одеялом. Тряпка под тряпкой.
Тора, Тора, Тора… Мне казалось, что меня вот-вот вырвет. Тысячи «т», «о», «р» и «а» польются изо рта. Передозировка. До сих пор.
И наркотиков не надо.
Оживший дом оброс мускулами, словно Лида поработала и над его мышцами. Захар пялился на воскрешение друга с щенячьим восторгом. Разве что не лаял. А я едва сдерживалась, чтобы не прокричать ему в лицо: «Ты у меня в долгу!» Сейчас бы лежал в гробу со сломанной шеей и отпечатками мухобойки по всему телу, а Тора даже не приходила бы к нему на могилу.
Зато я бы посадила там маки. Я – верная. Она – шлюха.
Что, если девчонка с двумя родинками-рубцами от спиленных рогов не дочь Захара? А этот идиот повелся и добровольно позволил выколоть себе глаза. Он действовал вслепую и не принимал мою помощь. Плевал, что я всегда была рядом.
Он до одури любил «Наутилусов» вперемешку с Тартини. Воображал, будто они связывали его с девушкой, обожавшей «Квадратные глаза» и «Дьявольскую трель». У каждого есть свой сгоревший дом. Их домом была музыка.
Вечер баюкал поселок. Я спешила к Захару, чтобы встряхнуть его за плечи и сказать: «Я здесь. А ты?», докуривала сигарету. За разрисованным забором шумело море. Захар вышмыгнул из дому, так и не заметив меня. Силуэт удалялся, и я потащилась следом. Окурок остался тлеть у разрисованного забора.
Я наблюдала за Захаром и не могла понять, откуда в нем взялась эта нервозность. Тора умела его смягчать. Я – нет.
Ляпнешь лишнего – вспышка. Косо посмотришь – вспышка. Преградишь ему путь – вспышка. Захара точно накачали газом. Лишь хлопок – и мир взорвется.
Захар свернул направо. Конечно, к Ворону. Как по мне, дурацкое имя для огромного монстра.
Мы пересекли улицу и застыли у цели. Захар с легкостью перемахнул через забор. Как в сотый раз.
Засранец. Лазал туда.
Ты или со мной, или в гробу, дружочек.
Я сунула руки в карманы и сжала кулаки так сильно, как если бы сжимала ее шею. Перелезла через ограду и нырнула под яблони. Захар растворился в доме. Она… впустила его?
После «воскрешения» у меня в ушах начало тикать громче прежнего, а вот голос… Голос исчез. Возможно, дом разучился говорить, если такое вообще бывает.
А я устремилась на опушку леса. Как и раньше, под корнем дуба пряталась маленькая дверца – запасной выход. Рядом висели ключи. И это не странно, потому что… у нас не боятся людей. У нас боятся домов.
Я внезапно осознала, что зря спасла Захара в мухобойке. Этот парень ничему не научился. И не научится – я была уверена.
Лестница переливалась в лучах почти полной луны. Ворон по-прежнему молчал.
Я спустилась и оказалась в сыром коридоре. До меня донесся вопрос:
– Почему?
Глухой стук. Кулака по стене?.. Или кулака по голове Торы?
– С тобой я не написала ни строчки.
Голоса переместились в другую комнату. Передо мной тянулся круглый неровный тоннель, освещенный тусклыми лампочками. Его, наверное, прогрыз огромный червь, обожающий жрать не яблоки, а землю.
Пахло сыростью и корицей.
Тоннель выплюнул меня в тесную комнатушку. На полке оглушительно тикали Zahnrad. Потолок еще не оплела паутина, на полу стояли банки с консервированными помидорами. Новенький дощаной пол успел покрыться слоем земли.
– У нас есть дочь? – Стук.
– Да.
– Где она?
– Гуляет.
– Врешь!
– Клянусь. По вечерам она любит гулять. Ты же сам знаешь. Она на море побежала.
Знает, Тора. Я – тоже. Недавно мы встретили этого недочертика, а потом Захар весь следующий день был сам не свой. Интересно, он понял, на кого наткнулся? А она?
– Прости… – всхлипнула Тора. – Я все испортила.
Прозвучало глупо, будто она говорила не о ссоре длиной в десять лет, а о разбитой вазе.
– Я мечтала, чтобы и у тебя, и у нас появился шанс найти себя… Слышащие выпивают друг друга до дна, когда живут вместе. Как же я ненавидела себя за такое решение! Но я не могу без песен. А без тебя – могу, хоть и люблю до безумия…
Раздался всхлип. На этот раз Захара.
– Она знает, кто я?
– Да. Я рассказывала Ане о тебе.
– Ане… Ей нравится фиолетовый? А яблочный пирог? Она любит Тартини?
– Да, но больше – Паганини. Она спит с нашим проигрывателем, как с плюшевым медвежонком.
Я оперлась на гору хлама, прикрытого тряпкой. Слова Торы меня обессиливали.
– Подожди! – гаркнул Захар.
Тишина окутала подвал целлофаном. Я прижалась к стене, срослась с ней.
– Ворон. Он насторожился.
– Ты запер дверь?
Я скользнула взглядом по Zahnrad. Если я сломаю сердце дома, сломается и Тора. Все повторится. В деталях. В красках.
А Захар пусть не серчает.
Или со мной, или в гробу.
Во мне шевелилось что-то непозволительно слабое. Рыдало в ушах, заливало меня слезами. Тряпка под тряпкой внушила мне, что я не смогу предать Захара. Даже если этот ублюдок прямо сейчас трахнет Тору, я не смогу.
Дом не виноват. Он не болен.
И я закурила. А зажигалку бросила на новенький дощаной пол. Я не тронула сердце Ворона. Его хозяйка не заслужила такую красоту, а вот пепел – сполна.
Дым тонкими нитками расползался по углам.
Топот приближался. Тора и Захар спешили ко мне. Ворон заскрипел, но кто-то запретил ему нападать на меня. Должно быть, благородная хозяйка.
Как же тошно от ее доброты!
А вот и огонь.
Живые сгорают быстрее. Правило, касающееся не только домов.
Голубки вломились в подвал.
Тора изменилась с последней нашей встречи, обзавелась пауком, связавшим на ее лице сетку морщин. А еще она начала сутулиться. Она – покореженный фонарь, который скоро погаснет.
Пламя ползло к нам. Жарко. Нестерпимо жарко…
Наверное, я бы так и стояла, если бы Захар не взял нас с Торой под локти и не поволок в тоннель. Он часто сравнивал «мини-девочку» с конфетти взорвавшейся хлопушки. Теперь мы все были конфетти. В гигантской хлопушке. Через миг кто-то потянет за ниточку, и мы разлетимся. Осядем пеплом в ночном лесу.
Мы неслись по тоннелю. Воздух накалялся. Путь удлинился раз в пять.
Позади нас полыхал дом. Я воображала, что мы – друзья. Что мы сломали очередные часы. Что мы на задании.
Свежий ветер ударил в лицо. Мы выбрались. Выбрались! Тора захлопнула железные двери. Я прижалась к замку ладонью.
Твое сердечко не выскочит, Ворон.
– Нужно вызвать пожарных! – Тора помчалась к центральному входу.
Мы поспешили за ней, и – раздался дикий визг. Мир Хлопушки разбился, как фарфоровое блюдце. Она едва не рванула в горящий дом – Захар успел ее оттащить.
– Что с тобой? Туда нельзя! – пытался вразумить он ее.
– Аня! Велосипед! Она вернулась, а мы не услышали! – рыдала Тора.
Я наблюдала за ними со стороны. Они – продолжение огня, два маленьких язычка, которые вот-вот погаснут.
Огонь добрался до второго этажа. Обычный ребенок не выжил бы в этом аду. Но Аня… Аня была чертиком с отрубленными рогами.
Тряпка под тряпкой рыдала, силилась превратить меня в платок и подарить той, чей рай я разрушила.
Но я стиснула зубы и стояла, стояла, стояла…
Вокруг участка толпились люди. Кто-то звонил пожарным, кто-то причитал, кто-то молился.
Захар усадил Тору на валун у яблони и ринулся в проклятый дом.
Этот феникс по имени Ворон снова и снова обращался в пепел, а затем – начинал жизнь с чистого листа. Я знала: чистые листы рано или поздно закончатся, и Ворон сожжет поселок.
«Что ты творишь?» – слетело с моих губ, но Захар исчез в полыхающем доме. Тора набросилась на меня. Проклинала, давала пощечины, царапала. И, клянусь, с трудом сдерживалась, чтобы не сломать мне ребра.
А я терпела. Молчала. Ждала.
– Ты не заслуживаешь того, чем живешь сейчас, – прохрипела она.
Люди перешептывались, наблюдали за нами с ужасом. Пожар в тикающем доме? Не их дело. Они всего лишь зрители.
Окно на втором этаже распахнулось. Мы увидели Захара, граммофон и – девочку-чертика.
Тора вскочила, подняла руки, будто надеялась дотянуться. Аня цеплялась за подоконник, рыдала до хрипоты, но – тщетно. Захар толкнул ее. Девчонка приземлилась в траву и тут же подорвалась. От боли или от шока – не знаю.
А потом Ворон взревел – новыми лестницами, свежеокрашенной крышей и дверями. Огонь заменил Захара, перелистнул его, как прочитанную страницу книги. Махнул нам вместо него.
– НЕТ!
У каждого есть свой сгоревший дом. Моим домом был Захар.
Тора закрыла лицо, прижала к себе дочь.
Над нашими головами пролетел ворон. Птица испарилась во тьме леса – прочь, прочь от дома – и словно дернула за ниточку. Отстранившись от мамы, девочка побежала следом.
Тора устремилась за ней.
– Аня!
Ее любовь к Захару была ограничена этим домом. А он сгорел.
– Какого черта ты вернулась? – вопила я, но на меня не обращали внимания.
Я вдруг поняла, что не отпущу Тору.
Или со мной, или в гробу.
Наш общий смысл превратился в пепел. Она убила Бруно и растоптала Лиду. Она обещала не приезжать и – приехала. Она заставила Захара спасти Аню, и он погиб. Она не давала ему покоя целых десять лет и в итоге добилась своего. Теперь ее никто не будет искать. Кроме меня.
Я мечтала показать ей, как сильно люблю Захара и как сильно ненавижу ее.
Кусты царапали ноги. Накануне прошел ливень, поэтому даже мои маленькие каблуки застревали в грязи. Я сняла сандалии, затем – помчалась за Торой по лесу, спотыкалась, сбивала ступни острыми камнями и сухими палками. Плач обугленного дома затих.
Деревья танцевали во тьме, и я танцевала с ними.
Мой организм превратился в морской узел – ни вдохнуть, ни выдохнуть. Повсюду – запах гари. В ушах – голос Захара. Должно быть, прямиком из рая.
А я направлялась в ад – к маме чертика.
Я нашла ее на поляне, окруженной сухими деревьями. Тора смотрела на меня пристально, выжидающе. Ани с ней не было.
– Где девчонка?
– Не твое дело. – Тора не моргала. – Что ты вытворяешь, Ди?
– А ты? Зачем вернулась?
– Из-за Ворона. Я обещала его вылечить.
– Кому? Захару?
– Себе.
Мы помолчали. Мне нравилось наблюдать за ее метаниями – вот она смахивает слезы, а вот – сжимает кулаки. Птичка в клетке, которая проглотила ключик. Вспорет ли она себе брюшко, чтобы выбраться? Или сгниет в тюрьме?
– Злишься на меня, да? – процедила Тора. – Что тебе нужно? Что?
– Ты его не любила.
Плохая, плохая птичка. Я повыдергиваю тебе перышки, чтобы ты успокоилась.
Лес помутнел, расплылся, покрылся болотной пленкой.
Внутри у меня все горело. Я бы не удивилась, если бы через поры засочилась кровь. Тора пятилась – я шла за ней.
– Ты его не любила.
– А что знаешь о любви ты? Ничего. Зато в ненависти ты – профи!
Тора отступала все быстрее – такая хрупкая и высохшая, как осенний гербарий. Я бы спрятала ее в учебник по первой помощи, который Захар вечно таскал с собой.
– Ты его не любила.
Я настигла Тору в два прыжка и повалила на землю. Она попыталась оттолкнуть меня, но я вцепилась в ее волосы. Десять лет без занятий с Лидой убили в ней бойца.
Тора не птица – лишь ее кожица. Тонкая-тонкая. Погладишь гвоздем – вспорешь брюшко. Ключик выпадет, но освобождать будет уже некого.
– Что ты творишь? – кричала Тора. – Зачем?
Она отплевывалась от земли и крови, а потом опять спрашивала.
Зачем, зачем, зачем?..
А я снова и снова тыкала ее лицом в грязь.
Жри, тварь. Это единственное, чего ты заслуживаешь. Ты должна пахнуть сыростью и мхом, но никак не яблоками.
Захар говорил, что у меня в глазах божьи коровки. А я стеснялась ему сказать, что у него мотыльки. Белые мотыльки с черными крапинками на крылышках.
Тора задыхалась, но я держала ее волосы крепко – так держат Zahnrad перед тем, как сломать.
– Зажмурься. Ты же учила его отгораживаться от реальности, – рычу я. – Зажмурься и представь, что ты в аду!
Мне часто снилась наша с Захаром свадьба. И наша дочь. Ее левый глаз был похож на божью-коровку, правый – на мотылька. Захар учил с ней математику, а я пекла пироги. Без яблок.
Тора билась в судорогах.
– Аня… Как по-твоему, что будет с Аней, если я ее не догоню?
Я думала, что успокоюсь, когда умою тварь грязью. Думала, остановлюсь, когда она ослабеет и ее голос уйдет в отпуск. Но я ошиблась: лицо Торы утратило человеческие черты, а я по-прежнему прижимала ее к земле. И била, била о высохшие корни дуба…
Я ждала, когда Тора выплюнет легкие.
По вечерам я мысленно желала Захару спокойной ночи. Мысленно надевала самую красивую ночную рубашку и кромсала ржавыми ножницами фиолетовые колготки.
Но спокойной ночи теперь желать некому. Из-за нее.
Я разберу Тору на части. Сердце – отдельно. Печень – отдельно. Пальцы – отдельно.
– Зажмурься!
Я наградила ее градом ударов, замесила, как тесто. Приготовила из нее гребаный пирог с яблоками.
Когда я заплетала косички, то представляла, что Захар мне помогает. Что сейчас мы поедем в школу танцев и запишемся на танго. Или на вальс, неважно. Главное – вместе. Я бы делилась с ним сигаретами. Одеялом в горошек.
Тора стонала. Я подняла ее голову в последний раз и со всей силы ударила о корень.
Поздравляю, Ди. У тебя страйк.
Стон прекратился резко. Мгновенно. Где-то вдали каркнул ворон. Он потерял свою ворону.
Я сидела на ледяной земле, вся в крови и грязи, и била обмякшее тело. Но что за удовольствие, когда оно мертво?
По щекам текли слезы. Я вдруг опять почувствовала себя тряпкой под тряпкой. Злость выкипела, я – тоже.
Я взяла Тору на руки. Невдалеке земля раскололась на две части. Приоткрыла рот, не иначе. Великан голоден.
Доковыляв до пропасти, я замерла. Дул ветер. За ветками высохшего дуба колыхался мостик – потрепанный и хрупкий. По нему гуляли жители поселка, но я не сомневалась, что рано или поздно он не выдержит. Какой-нибудь сутулый парнишка полетит в гости к волкам – внизу находилось их логово.
Прощай, подруга. Надеюсь, тебя будут жрать медленно.
Тора исчезла во тьме пропасти. А потом я увидела с другой стороны обрыва Лиду. И она мне кивнула.
* * *
Дома пахло шоколадом. Мы с Пашей частенько пили по ночам какао с молоком. Сегодня он пил один.
Меня трясло. К коленям прилипла грязь, в волосах запутались листья. Я долго пялилась на Пашу. Он сидел в кухне, а я любовалась им. Какой же мой братец красивый. Какой же он молодец.
Он – не я. Он не крыса.
Увидев меня, Паша подскочил и вцепился в мои плечи. Его взгляд скользнул по царапинам. Я едва сдержала всхлип и повисла у него на шее.
Паша уткнулся носом в мою макушку.
– Я искал тебя всю ночь. Люди паникуют. Боятся. Очередной пожар… Ди. – Он отстранился. – Ты спасла Аню?
– Аню?
– Я не выдам тебя, не волнуйся. Мы же семья.
– Откуда ты…
Конечно, наш уже мертвый дом. Он рассказал ему. Вот о чем они побеседовали.
– Я не верил. Сначала думал, что ты так глупо пошутила и специально включила мне кассету с этим. Потом – что у больного дома разыгралась фантазия. Но оказалось, что у него была просто хорошая интуиция. – Паша прижал кулак к губам. – Я помню все до мельчайших подробностей. Каждую ночь мне снился лес и каждое утро я убеждал себя, что ничего не произойдет! Ди, сестренка, зачем? Зачем?
Я отпрянула и прислонилась лбом к ледяному кафелю. Тело отошло от шока, царапины начали ныть.
– Да, Паш. Я спасла Аню.
Мы стояли так еще долго. Не двигались. Боялись чересчур громко вздохнуть и чересчур тихо угаснуть.
Зачем?
У меня простое правило, брат. Или со мной, или в гробу.
Зачем?
Я – сильная. Я – боец.
Зачем?
А черт его знает, Паш. Зачем-то.
37 Анна [После]
На базе пусто. Помидоры собраны. Плюшевый кролик лежит на плетеном журнальном столике. Кругом – никого, точно поселок давно заброшен, и я, чокнутая истеричка, блуждаю по нему одна. Воюю с морем и собственными мыслями. Будто та ночь, когда все свершилось, поглотила старушек-садоводов, рыбаков в помятых рубашках, детей с пакетами на головах, вытеснила их под землю. Обычно в шесть вечера люди гуляют, но сегодня их нет. Они растворились в трупах хижин.
Я допишу книгу. На этот раз не сдамся. Ворон – мой друг.
Я поднимаюсь на второй этаж. В комнату, где самое большое окно и пахнет яблоками. В комнату, где играет скрипка. К черту «Дьявольскую трель», я перережу струны. Я украла в кухне нож и спрятала его за пояс бриджей.
На стук никто не отвечает. Я дергаю за ручку, и дверь поддается. Ди здесь нет. Шумит душ – должно быть, она в ванной. Я осматриваюсь: гора яблок уменьшилась, из шкафа выглядывают фиолетовые колготки, на кресле валяется блокнот. Помедлив, я хватаю его, как до ужаса горячий яблочный пирог, и открываю.
Страницы пожелтели, местами – потерлись, но все исписаны мелким почерком. Кто-то так давил на ручку, что иногда протыкал бумагу насквозь.
Я слышу их. Они – моя стая. Друзья с тикающими сердцами марки Zahnrad.
Я проглатываю каждое слово, каждое предложение. Сердце барабанит в горле, я вот-вот его выплюну.
Это он. Он! Отец не соврал о книге. Он заключил свою жизнь в буквы.
Я чертыхаюсь: страниц чересчур много, а Ди может выйти из ванной в любую минуту. Мне не остается ничего другого, кроме как сбежать отсюда и дочитать у себя в номере.
Это мой мир, Ди. Не смей к нему прикасаться.
Приземлившись на стул, я продолжаю читать и перемещаюсь в прошлое. Меняюсь, превращаюсь в кучку буковок и печатаю, печатаю себя заново.
Я смеюсь сквозь слезы. Надо же, он всегда пользовался учебником по первой медицинской помощи! Любил «Наутилусов» и побаивался Пашку, пока Воробей не заехал хулигану по лбу горшком с землей.
Слезы капают на страницы, растекаются блеклыми пятнышками.
Ты по-прежнему здесь? Дай угадаю: ты идиот. Нет? Тогда все хреново. Двери закрыты. Ключи похоронены. Окна заколочены. Поздравляю, ты попал в ловушку. Этот дом – могила. У него слишком прочные стены – ты не пробьешь их, и чересчур хрупкие потолки – пара булыжников проломят тебе череп.
Да, пап. Я по-прежнему здесь. И все хреново.
Только угрожает мне не ожившая люстра и не танцующий шкаф. Все это давно обуглилось. Внутри меня тикают часы, и, если я их сломаю, огонь не пощадит мое тело.
Отец писал неразборчиво, криво, словно куда-то спешил. А впрочем, так и было. Он спешил и постоянно опаздывал.
Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я перевернула последнюю страницу. Минута? День? Вечность?
Спасайся, Вячеслав. Уверен, до звезд тебе не хватает всего двух ступенек.
И помни: иногда нужно просто закрыть глаза.
Закрыть глаза. Я разучилась жмуриться в тот самый день, когда отнесла Облако на съедение дому. А сейчас вижу Ворона насквозь.
Ступеньки прогнили, пап. Ступенек к звездам нет. Есть разве что в преисподнюю.
В моих венах пульсируют две жизни сразу – моя и папы.
А мама, моя странная мама, училась в музыкальной школе, работала в городском оркестре и писала песни. Не расставалась со скрипкой ни на миг. Когда мне было пять, я заглянула к ней в комнату, чтобы убедиться: она не спит с инструментом в обнимку.
Мама не играла на скрипке. Она на ней колдовала. Мне нравилось, зрителям – тоже. Маме хорошо платили. Однажды она призналась, что может писать песни, только когда ей больно. И тогда я ее ущипнула и сказала: «Пиши».
Папа не догадывался. Мама всю жизнь питалась страданиями, и это делало ее счастливой. Конечно, она опомнилась, когда мне стукнуло десять. Мы отстроили Ворона и поселились в нем, чтобы я познакомилась с папой.
«Поздно», – вздыхала мама.
Я считала, что поздно – это когда ты лежишь в гробу, а она – когда написана сотая песня. Итог: музыка и две зубные щетки вместо трех.
Иногда дома меня звали. Иногда – нет. Мама радовалась, что я почти не дружу с ними, и не развивала мой дар.
А я… я ненавидела скрипку и Тартини, когда они заглушали голос Ворона.
Я откладываю дневник. Папа писал пронзительно и точно, потому что прожил свой сюжет – в прямом смысле слова. Настала моя очередь.
Сегодня важный день – меня ждет книга. Я закончу ее честно. Мой главный козырь – достоверность. Все произойдет на самом деле. Мы с Ди поменяемся ролями.
Не успеваю я подняться, как женщина по имени Достоверность проскальзывает ко мне в номер. Волосы мокрые, на щеках – румянец, по шее текут капельки. Она только из душа.
– Нашла записи? Я бы подарила тебе их, но позже…
– Когда?
– Когда ты пришла бы ко мне с ножом.
Я защелкиваю дверной замок. Ди пялится на него, как на портал, ведущий туда, где меня нет.
– А я и пришла.
– Значит, самое время.
Ди улыбается и гладит мои родинки-ро́жки.
Мы пристально смотрим друг на друга. Нет, эта женщина не похожа на воздушный шарик. Скорее, на горсть камней – вот-вот рассыплется.
Она подходит к окну.
– Что ж, поздравляю. Теперь допишешь книгу, да?
– Да. Но кое-чего не хватает, – сглатываю я и нащупываю пальцами-ледышками нож.
– Чего?
– Угадай. Зачем ты меня спасла?
Ди внезапно начинает смеяться. Ее голос неуверенно ощупывает комнату, словно боится, что она лопнет, а после – наполняет ее мерзким хохотом.
– Родинки понравились. Не хотела, чтобы чертенок подыхал, слишком много ангелов развелось.
– Уж не ты ли ангел?
– Не-е-ет. – Ди качает головой так интенсивно, что та скоро открутится и укатится в дальний угол комнаты. – Я обычная смертная. А Тора – да. Тора – ангел.
– Не боялась, что я тебя выдам?
– Мне было все равно.
– А сейчас? Тоже все равно?
– А сейчас я снова вижу чертика – взрослую, пока несломленную, слегка безумную, как и мать. По-твоему, я могла оставаться в стороне? Не удивляйся, что я тебя не тронула. В тебе течет его кровь. Его интересы. Его слух. Как жаль, что тебя нельзя отфильтровать от генов матери. Тора не заслуживала счастья, да и не стремилась к нему.
Я сглатываю слезы. В груди распускаются черные цветы – это дом просится наружу. Часы тикают громче обычного. Подрывник готов нажать на кнопку. Он связывает старую Аню и залепляет ей рот. Запирает ее там, где еще вчера жил сам, чтобы новая Аня о ней забыла и дописала книгу. Новая Аня талантлива.
– Я тебя не прощу.
– А я думала, поблагодаришь. Я ушла с завода сразу за Лидой. Разница в одном: она освободилась, а я заковала себя в цепи. Мы Стая. Нам без домов – никуда. Тебе было десять, ты этого не понимала. А я сделала все, чтобы и не поняла. – Ди опускает глаза, следит за моей рукой. Она знает, что я прячу за поясом. – Я бы не советовала.
– Почему же ты не прислушивалась к моим советам, когда размазывала ее по корням?
– Потому что ты молчала.
Я замахиваюсь, но Ди перехватывает мой кулак и толкает меня, пытается проломить мной стену. Я стискиваю зубы. Ди, кажется, нащупала нож. Мои пальцы всего в паре сантиметров от тумбочки, где горит светильник.
В паре миллиметров…
На лбу выступают капли пота.
Если я ничего не предприму, Ди выдавит мои органы через поры.
Есть.
Вцепившись в светильник, я бью Ди по голове. Она визжит и отскакивает. По ковру прыгает абажур.
Я наваливаюсь на нее всем телом. Мы катимся по полу, а между нами – нож. Главное – не проиграть. Главное – не закричать. Главное – дописать книгу.
Мы рушим все на своем пути. Я запускаю в Ди стопку книг. Она в меня – тарелку с недоеденной кашей.
Комната оживает, но не из-за Zahnrad. Она танцует, потому что танцуем мы.
Ди пригвождает меня к полу тонкими пальцами-иглами. Мне тяжело дышать, легкие уменьшаются раза в два. Я цепляюсь взглядом за нож, отгоняю паршивые мысли. Сегодня я допишу книгу. Нельзя сомневаться.
В эту секунду тонкое лезвие – моя вселенная, и я подарю ее Ди.
Мы обе дрожим, но держимся за нож и за свое безумие.
– Пошла к черту! – рычу я и со всей силы отталкиваю Ди.
Она падает в сантиметре от ножа, но тут же отползает к подоконнику.
– Ты так завуалированно приглашаешь меня на чай?
Не успеваю я опомниться, как Ди швыряет в меня горшок с фиалками.
А потом – темнота.
Всего на миг.
Я даже моргаю дольше.
И вот уже Ди возвышается надо мной черным радиоактивным облаком. Она улыбается. Губы у нее такие тонкие, что, должно быть, запросто нарежут сыр.
Ди вертит в руках нож. Я лежу среди книг, остатков овсянки и осколков горшка.
– Очухалась? Минута сна в сражении – это чересчур много для того, чтобы победить. Понимаешь меня? – Ди улыбается шире. Скоро ее губы потрескаются, и она разорвется на половинки. – Решила подождать, пока ты проснешься. Когда человек в отключке, его неинтересно убивать. Да и нечестно это.
– Что с тобой не так? – шепчу я.
– То же, что и с тобой. Со всеми нами. Мы слишком влюблены. На что ты готова ради книги?
Ди скользит ножом по мне, касается ледяным лезвием моих щек, подбородка, шеи.
– На что готова? – повторяет она.
Я тянусь к осколкам – медленно, чтобы Ди не заметила, – и когда нащупываю их, сердце замирает.
Нож дотрагивается до ключиц. По спине бегут мурашки.
Я аккуратно поднимаю свое новое оружие.
– На что готова?
– Гори в аду!
Сжав осколок, я что есть мочи бью Ди в ногу. Еще и еще. Кажется, несколько раз попадаю в живот. Нож падает и застревает в линолеуме.
Ди смотрит на меня огромными черным глазами, даже не моргает.
– На все готова, – отвечаю я. – А ты… нет?
Тошнота подкатывает к горлу – запах железа повсюду. Ди оседает на пол. По голени течет кровь. Я беру ее под локоть и тащу в ванную. Все закончится, как во сне – достоверно. Сюжет оживет. Я напишу бестселлер.
Постанывая, Ди опускается на ледяной кафель. Глядит на меня как на исчадие ада.
– Какая же ты дура, Рэу.
Ди пытается подняться, цепляется за полотенца, ругается. А я стискиваю осколок и медлю. Порезы саднят. Сейчас я проткну шею той, кого так давно искала. Сейчас…
– Поздравляю. Ты меня победила. Тора бы тобой гордилась.
Гордилась.
В ушах звенит мамин голос.
Шоколад или карамелька?
Я или дом?
Часы или сердце?
Я мотаю головой. Из ладони выскальзывает осколок. Нет. Это не я. Это Ворон.
– Что не так? – выкрикивает Ди. – Добей меня! Ты выиграла!
– Заткнись.
Я опираюсь на умывальник, чистый, белоснежный. Мне не нужно мыть руки, они не в крови. И плевать на достоверность. Этот текст не мой – его печатал Ворон. Но я все же включаю холодную воду и брызгаю на лицо.
– Не поддавайся мне! – разоряется Ди, силясь встать.
Я бреду в комнату и включаю ноутбук. На экране высвечивается файл с книгой. Все в тумане – в дыму, в молочной пенке – да черт его знает. Ясно одно: моя история не случится. В тысячный раз умрет, так и не родившись.
Страшно, когда писатель заканчивается вместе с пастой в ручке, но еще страшнее, когда он и не начинался.
– Твой дом в аду, Анна Рэу, – доносится из ванной.
– Значит, я уже дома.
Тик-так. Тик-так.
Я нажимаю на кнопку Delete. Маленький Армагеддон. Ядерный взрыв, таянье ледников, черная дыра… Моих персонажей больше нет, есть только я – крохотная точка. А во всем виноват дом. Я убью его, лишь бы он перестал красть мечты. Лишь бы научился плавать.
Я поднимаюсь и несусь к выходу. По пути бросаю Ди телефон, чтобы она вызвала скорую. Она кричит за моей спиной, но мне все равно. Я обещала папе открыть клетку. Обещала, что феникс сгорит. Настал момент, когда и ему нужна кнопка Delete. Иногда она эффективнее антибиотиков.
Я ничего не вижу. Поселок превратился в сплошное серое пятно. Я чувствую: невдалеке возвышается моя цель и мое спасение. Невдалеке – мой друг, болеющий анорексией. Я цепляюсь за деревья и фонарные столбы. Передо мной вырастает холм. И эти ворота… Они машут мне. Кто-то спилил надломленные ветки на яблонях, запретил им обниматься.
Добравшись до Ворона, я прислоняюсь лбом к стене.
– Прости, но я мечтала не об этом.
– Не об этом? Тогда о чем? – шелестит в голове.
– Мне хотелось создать свой мир, а вместо этого я едва не разрушила реальный.
С желаниями покончено. Падает звезда? Я буду наслаждаться ее последним мерцанием. Бьют куранты, а в центре комнаты мигает елка? Я выпью шампанского и угощу друзей мандаринами. Слева и справа от меня сидят две Илоны или два Паши? Я выпью с ними по чашке кофе. А насчет книги… Я напишу ее сама. Дома – никудышные писатели.
– Ты научишься плавать, Ворон.
Я проскальзываю внутрь и, стараясь не обращать внимания на искалеченный граммофон, шагаю к подвалу. В горле стоит ком. Я обрела прошлое, а теперь собираюсь его сжечь. Ди была права. Лучше бы я не приезжала.
Хотя нет. Не лучше.
Я медлю. Вот бы напоследок взглянуть на отца! Но его нет. Я откидываю прогнившие доски. Лестница. Темнота. Черви. Убежище Темыча ни капли не изменилось, внутри по-прежнему тикает сердце. Я шумно втягиваю воздух – пора. Но не успеваю я нагнуться, как вдруг мою шею обхватывает чья-то рука. Незнакомец тянет меня в угол, вдавливает в ледяной кирпич.
Я пытаюсь вдохнуть – не получается. Пытаюсь ударить недоброжелателя ногой – тщетно.
Опять Ди? Чушь…
– Не смей.
Мягкий, почти детский голосок… и почему-то всегда Артем, а не Темыч. Всегда полет, а не пробежки. Илона?..
Она позволяет мне сделать глубокий вдох и снова прижимает к стене.
– Опусти.
– Нет, девочка. Я и так слишком долго тебя отпускала.
Но как же…
Я мечтаю, чтобы Артем вылечился.
– Ты врала мне?
Ее звонкий смех пронизывает меня тысячами иголок. Я – почти кукла вуду. Только на этот раз проклинают меня саму.
– Какая догадливая! Ты даже не представляешь, сколько людей я предлагала Ворону в обмен на Пашу! А ему никто не нравился. Зато когда я принесла твое полотенце, он сразу ожил.
– А как же Темыч?
– Да, у вас и правда одинаковые. Но он не болен, идиотка. Это дар, его нельзя отнять. Я тоже их слышу. – Илона на миг умолкает, а затем шипит: – И не называй так Артема! Мой Паша никогда его так не называл.
Я чувствую каждой клеточкой тела: она достает из кармана что-то холодное и тяжелое.
– Ворон не предал бы меня.
Своим «не предал» я целу́ю стену.
– Он скучал.
– Зачем? Зачем ты это делаешь?
Я бы завизжала, но в легких почти не осталось воздуха. По щекам течет что-то теплое, и я надеюсь, что это слезы, а не кровь. Хотя судя по тому, как горят ссадины на лбу, возможно все. Дуло пистолета гладит мою шею.
– Зачем? Странный вопрос. Я мечтаю вернуть того, кого люблю больше жизни, – объясняет Илона и совсем другим, уставшим голосом добавляет: – Прости, Аня. Ты не виновата, что мой муж погиб. Но без тебя мне не обойтись.
Я жмурюсь. Сейчас свершится нечто. Я силюсь высвободиться, мысленно зову Ворона, спрашиваю у него: «За что?», а он отвечает: «Чтобы ты научила меня плавать».
– Как хорошо иметь соседку-майора. Всегда можно одолжить – ну ладно, украсть – травмат. Конечно, это не ружье… Если бы я выстрелила в тебя с порога, ты бы выжила, Аня. Но я выстрелю в упор.
Пистолет давит в шею. Я реву и уже не стыжусь этого. Какая глупая смерть… Я не успела написать книгу. Все зря. Я ведь могла отправиться в путешествие, а не в прошлое. Покорила бы Говерлу[29]. Погуляла бы в Париже. Покаталась бы на санях в Норвегии. Но я здесь. В этом дурацком доме.
– Прощай, Ан…
Договорить Илона не успевает: в миллиметре от нас падает каменная глыба – добрая часть потолка. Пробивает пол, грохочет где-то под нами.
Илона отпрыгивает и взвизгивает. Мне страшно оглядываться, долгий миг я не шевелюсь.
– Аня, беги! – раздается ледяной альт.
Я озираюсь. В комнате – никого, а в шаге от меня зияет дыра. Открытый подвал! Я падаю на колени и осматриваю его. Илона лежит без сознания, а в углу сидит Ди. Она тяжело дышит, скалится, покусывает губу, но при этом поглаживает мизинцем Zahnrad.
– Откуда ты здесь?
– Запасной вход.
Наверху что-то звякает. Я убеждаю себя, что это сквозняк, скрипящая дверь – да что угодно, лишь бы не Ворон.
– Ты пришла, чтобы спасти меня? – не унимаюсь я.
– Я пришла, чтобы отомстить.
Ди старается произносить слова четко и громко, но ей что-то мешает… и тут я замечаю в тени подвала ее ноги. Точнее – то, что на них лежит. Глыба. Та самая глыба.
– О боже…
Я подаюсь к лестнице, но она рушится, разбивается на гнилые обломки.
Опять что-то звякает. На этот раз рядом. Я оборачиваюсь: окно покрывается трещинами. Миг – и осколки разлетаются по комнате. Я падаю, и несколько из них впиваются в мое запястье.
Я спрашиваю у Ворона:
– Ты болен?
А он отвечает:
– Просто нажми на Delete.
Второй этаж начинает рушиться. У меня в голове тикает, словно я и есть взрывчатка. Тик-так, тик-так, тик-так…
Подрывник выиграл. В горле клокочет крик, и я не сдерживаю его – впервые за много лет. Он тянется из меня красной лентой с фрагментами перекосившихся лиц и с каплями моря, с перьями чаек и с крошками яблочного пирога. Где-то на грани сознания я слышу голос Ди:
– До встречи, чертенок. Не бойся огня – ты родом из ада.
Что-то щелкает, лязгает, ломается. Не только в подвале, но и во мне. Я разбиваюсь. Запах гари повсюду. Кожа жжется так сильно, что даже холодно.
Ворон рыдает всеми окнами и дверями, а я ползу, ползу к выходу, черчу запястьем на полу «Прощай». Как жаль: у фениксов тоже есть последняя жизнь.
Разодрав колени в кровь, вогнав осколки под кожу, задыхаясь, я вываливаюсь из дома. Пламя распространяется быстро. Еще немного – и даже чертенок сгорел бы.
У холма собираются люди. Кто-то оттаскивает меня к «расставшимся» яблоням. Спрашивает, что произошло. Дает пощечину.
А я сижу и смотрю на Ворона. Надеюсь, родители научат его плавать. Я замечаю папу в одном из окон. Он машет мне, как тогда, десять лет назад. А я машу в ответ.
Все случилось. Я вспомнила прошлое, чтобы обратить его в пепел, и теперь знаю точно: я умею играть на скрипке. Знаю точно: мама умела играть на ее щепках. Знаю точно: у каждого есть свой сгоревший дом. Моим домом были книги.
Подрывника звали Ди, и сегодня его не стало.
38 Ди [После]
Наше время
По ноге и животу льется море. Соленое-соленое. Если бросить туда отдыхающих-лилипутов, они всплывут, как дохлая рыба. Перед глазами мелькают полосы. Они такого же ярко-красного цвета, как и мое море.
Купайтесь, ребята. Сегодня я добрая.
Я вздрагиваю в ритм лязганью клавиатуры. Щелк-щелк-щелк. Я бы затолкала в глотку чертенку все кнопки по очереди.
– Твой дом в аду, Анна Рэу, – выплевываю я.
Щелканье прекращается.
Неужели дописала?..
Если бы можно было превратиться в кровавую лужицу и просочиться в спальню, я бы сделала это не раздумывая.
Через миг чертенок, бросив мне телефон, проносится мимо ванной – к выходу из номера.
Решила сжалиться. Какая благородность!
Чертенок хлопает дверью. Превозмогая боль, я выползаю из ванной. Я бы поднялась, но сейчас для меня любое движение – что-то вроде акробатического трюка.
За мной по полу тянется красная линия. Теперь все будет в едином стиле – и обои, и линолеум.
А вот и табуретка. Я карабкаюсь по ней, как по скале – без страховки, без права на ошибку. Море прибывает. Пара миллиметров – и оно будет мне по шею. Но чертенок не победит меня, нет. Я давно не тряпка под тряпкой. Я не позволю ей сжечь Ворона и того, кто в нем живет, пока мы не попрощаемся. Пока они оба не скажут мне, что хотят в отпуск.
Захар скрывается от меня, но его запах я чувствую всегда. Не яблок – пепла. Я говорю с ним. Знаю, что он дышит мне в затылок и молчит, упрямый идиот. Я не позволю ему исчезнуть.
Мы же созданы друг для друга.
Черт, да я даже на скрипке научилась играть только ради него! Он ведь бродит по зрительному залу. Бродит, засранец, слушает, как я пою.
А еще… Паша. Мой несносный братец. Он никогда не увлекался серфингом, и я должна выяснить, кто заставил его увлечься.
Р-р-р-раз – акробатический трюк удался. Я на ногах и снова собираюсь по частям. Аплодисменты, друзья!
Чертенка нет слишком долго. Я уверена: она не вернется. Уверена: в этот миг дьявол ведет ее в ад, чтобы выдать новые рога. И если я не потороплюсь, Захар сгорит во второй раз. Никто больше не будет создан для меня.
На кровати валяется кофта. Я хватаю ее и завязываю на талии. Не пугать же людей новым морем.
В коридоре пусто, на улице – тоже. Я не иду – скорее пикирую самолетом, перегораю, дымлюсь. Но – не обращаю внимания на боль. Пока я лечу, все хорошо.
Чертенка нигде нет. Я готова поклясться: подо мной плавится земля. Поселок вот-вот провалится в преисподнюю.
А я лечу и понимаю, что финал близко. Море расширяет границы, течет по голеням, заворачивает меня в соленую пленку. Акробатические трюки продолжаются. Я взбираюсь на холм, падаю, сбиваю колени в кровь, но это ничего. Главное – вперед. Главное – Ворон. Главное – Захар.
Нащупываю что-то шершавое. Ступеньки! Я опираюсь на них, выжимаю из себя последние капли моря, как из губки.
До меня доносятся знакомые голоса.
Все, как тогда. Абсолютно все.
Я хромаю ко входу в тоннель. Он не подвел нас десять лет назад, не подведет и сейчас. Я застану врасплох чертенка и дьявола. К счастью, дверь в подвал снята с петель. Тьма обволакивает меня, я проседаю в форме лестницы, стелюсь ковром.
Ворон говорит:
– Здравствуй.
А я отвечаю:
– Заткнись.
Я ползу по коридору. К моей шее привязана прозрачная нить. Ошейник. Кто-то тянет меня к пропасти, прямо в море. Я выкатываюсь в подвал и нащупываю заваленную камнями нишу – они всегда были здесь. Часы не любят солнце и людей. Но чертенок нашел их. Гадкий, гадкий чертенок.
Я жалею, что спасла ее. Жалею, что не побежала за Захаром. Жалею, что предала Ворона. Я вижу подвал вспышками, черными перьями – уликами птичьей войны.
– Сломай часы, – свистят сквозняки.
Слова исковерканы, размыты. Ворону выбили зубы, говорить по-другому у его не получается.
Zahnrad тикают громко-громко.
– Не позволяй мне отпускать тебя! – в отчаянии шепчу я.
Перья летают по подвалу. Я сама – перо. Где-то надо мной Илона тараторит невнятные извинения, но… Какая разница? Дела чертенка и дьявола меня не касаются.
Море штормит. Перья плавают на поверхности, и волны выглядят как вороны.
Я не отпущу тебя. Не отпущу, не отпущу, не отпущу…
Ни за что.
Мое тело распадается на атомы. Сначала – пальцы ног, затем – стопы. Совсем скоро я исчезну.
– Если бы я выстрелила в тебя с порога, ты бы выжила, Аня. Но я выстрелю в упор, – произносит Илона.
Чертенок всхлипывает.
Я глотаю воздух, и море поднимается до подбородка. В нем, как в кислоте, растворяются живот, плечи, руки. Зрение обостряется.
И почему я не надела фиолетовые колготки? Чтобы в последний раз он видел меня именно в них. А я не сомневаюсь, что он видит.
Перед тем как нырнуть в свое персональное море, я топлю ладонями перья. Топлю и млею от восторга: в шаге от меня – он. Мой Захар. Впервые за десять лет он не прячется. Наблюдает за мной, хмурый, измученный. И молчит. Должно быть, злится из-за того, что я не надела фиолетовые колготки.
«Прощай», – силюсь сказать я, но голос не слушается.
А потом на мои ноги, на мое бескрайнее море падает каменная глыба. Тяжелая. Огромная. Ледяная. И вслед за ней – Илона.
Ворон защищается. А ведь у него не было иммунитета против людей. Он единственный не охранял свои часы.
Море накрывает меня. Я погружаюсь в красный мир.
– Аня, беги! – взвизгиваю я.
Но эта дуреха медлит, пытается что-то выяснить, спасти нас. Она ни черта не смыслит в живых домах и сидит у подвала как ни в чем не бывало. Думает, что я приползла сюда ради нее. Идиотка.
Ненавижу, когда мне поддаются.
– До встречи, чертенок, – чеканю я, поглаживая часы. – Не бойся огня – ты родом из ада.
У каждого есть свой сгоревший дом. Моим домом был Захар.
39 Рита [После]
Поселок млеет в утренней дымке. Пахнет свежестью и кофе. На стенах хижин – рисунки, вышитые плесенью. Потертый автобус выплевывает щуплую девушку. У нее нет ни чемодана, ни сумки. Лишь телефон. Одно движение – и он вызовет психиатра.
Рита боится за Аню. До безумия. Да, эта девчонка чересчур упрямая. Да, дура последняя. Да, ей давно пора в психушку. Да. Но у мамы слабое сердце. Ей нельзя волноваться.
Аня изменилась. Она знала, что сорвется, и все равно поехала. Из-за нее Рита сбежала с работы. Только бы убедиться, что с сестрой все в порядке. А впрочем, ничего в порядке быть не может. Рита не верит во всю эту ахинею, в которую верят здешние. Для нее Деда Мороза не существует с восьми лет.
Раньше Аня боялась ездить в поселок, и когда Рита с мамой все же привезли ее сюда, у девчонки случилась паническая атака.
До трагедии они почти не общались – ни с Торой, ни с Аней. Разве что созванивались на Новый год. Рэу будто жили в другом измерении. Тора что-то делала с дочерью. Что-то, после чего Аня начинала говорить сама с собой. Поэтому Рита не удивилась, когда девчонка поселилась у них, – ведьмы всегда умирают рано. Тора же уверяла, что дружит с домами. Сейчас Рита понимает, какая это глупость.
И вчерашний Ритин сон – тоже глупость.
Она ступает по потрескавшейся земле. За ее спиной кряхтит автобус. Перед глазами – картинки из кошмара. Нет, чушь. Небылицы.
Коленки дрожат.
Странно, но в том сне Рита не боялась. В том сне она всегда шагала уверенно, даже если под ботинками хрустели кости. Она была в милицейской форме. На погонах – по звездочке.
Рита сжимала пистолет. Она не расставалась с ним ни на миг.
Дом проглотил ее, скрипнув половицами. Сквозь потолочное решето сочился утренний свет. По комнате летал ворон и каркал, каркал – проклинал весь мир. В углу чернел разбитый граммофон. На стене – следы ладоней. Они светились, словно нарисованные фосфором. Прикоснувшись к ним, Рита закрыла глаза. И превратилась в дом.
Она следила за поселком выбитыми окнами. Дотрагивалась до пальцев бродяг и скучающих подростков шершавыми перилами. Оглушала их сердцебиением.
Что, друзья, испугались? А как же ваша уверенность в том, что все здесь сумасшедшие? О, вы правы. Особенно дома. Когда-нибудь вы проснетесь в восемь тридцать и воскликните: «Проспал!», я буду вас ждать. Каждой пылинкой, каждой прогнившей половицей. Мое сердце будет стучать нестерпимо быстро. Но вы не узнаете, что руки мои прячутся в шкафах, а ноги – в подвале. Что голова катается по чердаку, и я больше не могу мечтать. Вы ни черта не узнаете.
Что-то хрустнуло. Рита ощутила дыхание дома чересчур отчетливо. Раз – и на нее упала люстра. Обняла ее хрустальными капельками, проткнула кожу металлическими щупальцами.
Рита лежала на каменном полу, а красное тепло вытекало из нее, сочилось сквозь половицы и капало прямо на ноги дома. Красило ему ногти.
Слушай, слушай, слушай…
Чувствуй, чувствуй, чувствуй…
Смотри, смотри, смотри…
Удали катаракту. Надень очки. Возьми микроскоп.
Я здесь.
Я – в твоей голове.
Ты – в моей.
Мы – друзья Ворона.
Мы – это он.
Птица села на люстру. Впервые за долгое время Рите стало страшно. Дому дарили драгоценности, фотографии, книги – да что угодно, но не живых людей.
Рита утонула в собственной крови и… проснулась.
Восемь тридцать.
«Проспала!» – воскликнула она.
Вскочила.
Взяла пистолет.
Вспомнила странный сон. Это же надо, какая ерунда!
Рита вышла из дому и запрыгнула в автобус. Полчаса – и вот оно, огромное разлагающееся чудовище. Вот оно, скрипящее дверями: «Прочь, прочь…» Но она не из слабонервных. Она не верит в слухи.
Zahnrad – не более чем дорогие часы.
Их изготовляли не более чем обычные люди.
Пожары – не более чем хулиганство.
Любое событие можно объяснить.
Можно.
Рита переступила порог дома и стиснула пистолет что есть мочи. Под потолком летал ворон.
Кар, кар, кар.
Бред. Она не выспалась – вот и вся магия.
На стене светились «фосфорные» ладони.
Бред. Шпана постаралась. Рита не из пугливых.
В углу валялся разбитый граммофон и надломленные пластинки.
Бред. Это просто заброшенный дом.
Сердце Риты отчаянно барабанило по ребрам, но она подавила желание сбежать. У нее же пистолет.
Дверь за спиной Риты захлопнулась.
Сквозняк?..
С потолка посыпались мелкие камушки. Рита не могла пошевелиться – она превратилась в восковую фигурку.
«Кар!» – выкрикнул ворон и сел на заросшую паутиной люстру.
Это «кар» отрезвило Риту. Позабыв о пистолете, она вскарабкалась на подоконник и выпрыгнула из тьмы. Плевать на погоны. Плевать на репутацию и на дом. Она не вернется сюда.
А ворон каркал и каркал. Проклинал и проклинал. Клевал даже на расстоянии.
Жители поселка наблюдали за тем, как Рита неслась вдоль дороги, как пачкала свою форму, когда падала, как ругалась, будто заядлый картежник. Как ей вслед летело проклятое «кар».
Я – в твоей голове.
Ты – в моей.
Мы – друзья Ворона.
Мы – это он.
Дом скандировал ее имя, проникал под кожу. Она не могла от него избавиться и продолжала бежать.
Дальше, дальше…
Домой, чтобы умыться и выпить. Чтобы уснуть и не слышать ее.
Девочку, чья голова катается по чердаку.
* * *
А после Рита проснулась по-настоящему. Собралась и укатила в поселок. И вот она, бледная и тощая, тонет в утренней дымке. Ей жутко. Во всем виноват сон, думает она. Проклятый сон.
Рита идет медленно, тянет время. От моря ее отделяет решетчатый забор. Она видит за ним троих: мальчишку в рыцарском шлеме, мускулистого мужчину и огромную овчарку. Они смотрят на море и не замечают ее.
– Я скучаю по маме, – говорит мальчишка.
– Уверен, она по тебе тоже. Запомни: она всегда рядом и наблюдает за тобой.
– Откуда?
– Из-за солнца.
Пару минут они молчат. Лишь собака рычит на чаек.
– Ты научишь меня кататься на доске? – нарушает тишину мальчишка.
– Обязательно.
– Спасибо. И… За Рекса тоже. Я давно мечтал о собаке.
– Мечты сбываются, – произносит мужчина таким тоном, словно эта фраза убивает. – Артем…
– Ты так изменился с последней нашей встречи. Не вини себя, пап. Дом забрал Ди и маму ради тебя. Чтобы ты радовался.
– Наверное, ты прав, сынок, – отвечает мужчина, гладя овчарку. – Что-то ветер холодный. Пошли д-д-д… Пошли д-д-домой, Артем.
Рита отпрыгивает от забора и бредет дальше – к Аниному дому. В ушах – голоса отца и сына. Нервное «д-д-домой» и едкое «мечты сбываются». Она делает с ними то же, что и с ночным кошмаром, – уничтожает.
А затем – сжимает телефон. Сейчас она убедится, что сестра обезумела. Сейчас взглянет на обгоревшую развалюху и вызовет доктора.
Холм появляется внезапно. Точно он все время был перед Ритой, а она не обращала на него внимания.
Аня уволилась с работы и забрала сбережения из банка. «Мне нужен ремонт», – сказала она и уехала в поселок. Немного пожила в доме, который упорно называла Воробьем, а потом и вовсе переселилась в Ворона. Умоляла Риту сохранить это в тайне (У Виталины Семеновны слабое сердце, я подготовлю ее и сама во всем признаюсь!), но та вскоре проболталась. Надоело ей прикрывать одержимость сестры.
Рита карабкается на холм, спотыкается, протыкает шпильками землю, но не сбавляет скорость. Пялится на дом, изучает каждую трещину и каждое пятнышко. Ничего странного, разве что стены еще не покрашены. А так – окна металлопластиковые, дверь – в стиле хай-тек.
Рита не спешит звонить, стучаться, звать сестру – где-то рядом раздается музыка. Тонкая, как капроновая нить, тревожная, колючая – она вполне бы сошла за проволоку на ограде.
Рита находит сестру у засохших яблонь. Аня играет на скрипке. Глаза закрыты, будто для нее не существует ничего, кроме музыки и дома с дверью в стиле хай-тек. Будто она сама – струна. Аня изменилась: черты лица обострились, обрели трагичную осмысленность, на лбу – морщины. Она в фиолетовых колготках и оранжевом платье, на ногах – шерстяные носки (зачем, зачем ей летом шерстяные носки?). Рита не узнает ее, эту диковатую девушку. Кто она? Зачем Рита вообще решила ее спасать?
Если Аня в чем-то и ошибалась, то эта музыка исправит ее промахи. Полностью. Без разводов.
Дрожа всем телом, Рита удаляет номер врача. Скрипка умолкает. Сестры смотрят друг на друга – хмуро, пристально. «Спасибо», – одними губами шепчет Аня. «Спасибо, спасибо, спасибо…»
– У тебя красивый дом, – выдавливает Рита и шагает прочь.
У засохших яблонь вновь начинает играть скрипка.
Утренняя дымка не исчезает. Наоборот: загустевает, наполняется синевой моря. Хижины окружают Риту. Девушка забыла, с какой стороны пришла и где остановка. Но ей все равно. Музыка разлилась в ней киселем. Прожгла формалином. Поразила вирусом. В тот миг, когда Рита услышала игру сестры, ночной кошмар превратился в нечто реалистичное и естественное. И чтобы не было восьми тридцати утра и проклятого «Проспала!», Рите нужно уехать. Немедленно.
– Куда идешь? – окликает ее кто-то.
Рита оборачивается. Возле покосившегося дома в кресле-качалке сидит старуха.
– Остановку ищу…
– Так вот же она.
– Где?
– Как где? Вот, в клетке, – улыбается старуха. Губы – в ранках, вместо помады на них пятна крови.
Рита замечает перед старухой пустую клетку.
– Вы о чем?
– Ну, конечная. Вот она.
– Простите…
Риту перебивает звонкий хохот. Так пожилые люди не смеются – смело, зло, свободно, словно ругаясь.
– Да шучу я, шучу. Но имей в виду: в клетке безопаснее всего.
Рита пятится. Этот умирающий поселок, странный, гнилой, напоминает ей картину Поля Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»
Откуда, мальчик с собакой?
Кто, Аня?
Куда, старуха?
Где-то поблизости ухает автобус. За редкими деревьями появляется его горбатый силуэт. Рита идет по траве аккуратно, медленно, чтобы шпильки не проваливались в землю. Чтобы все забыли, кто она и зачем приезжала. В клетку ей не хочется.
А старуха тем временем слушает свое особенное радио – тиканье часов. Она-то знает, что у каждого есть свой сгоревший дом. У каждого, но не у нее.
Примечания
1
Zahnrad – шестеренка (нем.). – Здесь и далее, если не указано иное, примечания автора.
(обратно)2
Алгоритм Дейкстры – алгоритм на графах (абстрактных объектах, представляющих собой множество вершин, соединенных линиями). Ищет кратчайшие пути от одной из вершин до всех остальных.
(обратно)3
Действие книги происходит ранее 2011 года, когда был принят закон о переименовании милиции. – Примеч. ред.
(обратно)4
Fly-йога – йога на гамаках.
(обратно)5
Мурал – живопись на архитектурных сооружениях.
(обратно)6
Здесь и далее цитирование песни «Удачи тем, кто ищет» группы «Аквариум».
(обратно)7
Здесь и далее цитирование песни «С той стороны зеркального стекла» группы «Аквариум».
(обратно)8
Джузеппе Тартини (1692–1770) – итальянский скрипач и композитор.
(обратно)9
Boney M – диско-группа, созданная в 1975 году известным западногерманским музыкальным продюсером Фрэнком Фарианом.
(обратно)10
Слэм – явление, встречающееся чаще всего на рок-концертах, при котором люди толкаются и врезаются друг в друга.
(обратно)11
Здесь и далее цитирование песни «Квадратные глаза» группы «Наутилус Помпилиус».
(обратно)12
Речь идет о вокалисте группы «Наутилус Помпилиус».
(обратно)13
Лиш – страховочный поводок, тянущийся от ноги к доске.
(обратно)14
Это герр Шульц (нем.).
(обратно)15
Кто это (нем.).
(обратно)16
До свидания (нем.).
(обратно)17
Это ужасно (нем.).
(обратно)18
Паскаль – единица измерения давления в Международной системе единиц. Кило- одна из приставок, используемых в Международной системе единиц, означает 103.
(обратно)19
Я горжусь тобой (нем.).
(обратно)20
Упрямство (нем.).
(обратно)21
Доброе утро (нем.).
(обратно)22
«Санта-Барбара» – сериал, в котором 2 137 эпизодов.
(обратно)23
Платина – основная часть и обычно самая большая деталь каркаса часового механизма, служащая для крепления мостов и опор часовых колес (шестеренок).
(обратно)24
«Чайка» – название ряда моделей легковых автомобилей, которые выпускались с 1959 по 1988 год.
(обратно)25
Платины, которые в диаметре менее двадцати двух миллиметров, считаются женскими. Те, что больше, – мужскими.
(обратно)26
«Времена года» – цикл концертов Вивальди.
(обратно)27
Симфония номер пять – музыкальное произведение Людвига ван Бетховена, известное также как «Аллегро с огнем».
(обратно)28
Авада Кедавра – убивающее заклинание в серии книг о Гарри Поттере.
(обратно)29
Говерла – самая высокая гора и наивысшая точка на территории Украины.
(обратно)
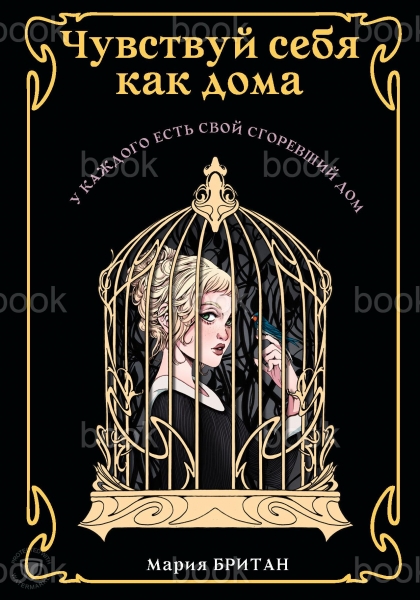

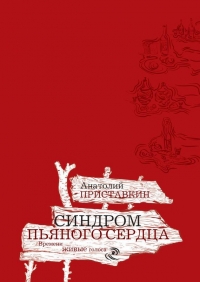



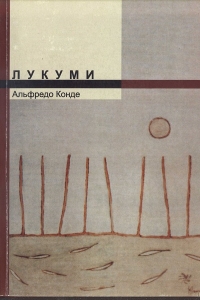

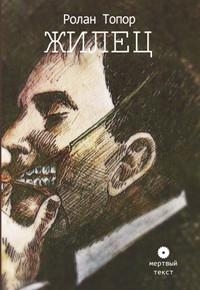
Комментарии к книге «Чувствуй себя как дома», Мария Британ
Всего 0 комментариев