Джеймс Фрей Миллион мелких осколков
James Frey
A million little pieces
© Климовицкая И., перевод на русский язык, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
* * *
Юноша пришел к Старцу за советом.
Старец, я что-то разбил.
Сильно разбил?
На миллион осколков.
Вряд ли я помогу тебе.
Почему?
С этим ничего нельзя поделать.
Почему?
Целое не восстановишь.
Почему?
Оно навсегда разбито. На миллион осколков.
Я просыпаюсь под жужжание самолетного двигателя, по подбородку сочится что-то теплое. Поднимаю руку, ощупываю лицо. На месте четырех передних зубов дыра, в щеке дыра, нос сломан, глаза заплыли так, что не открываются. Кое-как разлепляю веки, осматриваюсь – сижу в хвосте самолета, рядом никого. Осматриваю одежду – она в разноцветных пятнах слюней, соплей, мочи, блевотины и крови. Пытаюсь нащупать кнопку вызова персонала, нахожу ее, жму, жду, через тридцать секунд появляется стюардесса.
Чем могу вам помочь?
Куда мы летим?
Как, вы не знаете?
Нет.
В Чикаго, сэр.
Как я оказался в самолете?
Вас доставил доктор, с ним еще два джентльмена.
Что они сказали?
Они разговаривали с командиром, сэр. Нам велели не будить вас.
Когда посадка?
Через двадцать минут.
Спасибо.
Даже не глядя на нее, знаю, что она улыбается мне, сочувствует. Напрасно.
Чуть погодя самолет касается земли. Я ищу какие-нибудь вещи, но при мне ничего нет. Ни билета, ни сумки, ни плаща, ни бумажника. Сижу, жду, пытаюсь сообразить, что же произошло. В голове пустота.
Когда все пассажиры вышли, встаю и начинаю продвигаться к выходу. Делаю пять шагов, снова сажусь. Идти нет сил – ясно, как дважды два. Замечаю знакомую стюардессу, поднимаю руку.
У вас все в порядке?
Нет.
Что случилось?
Я вообще не могу идти.
Давайте дойдем до выхода, а туда я подкачу вам кресло.
Это очень далеко.
Вовсе нет.
Встаю. Колени подгибаются. Снова сажусь. Пялюсь в пол, делаю глубокий вдох.
Ничего, все будет хорошо.
Смотрю на нее, она улыбается.
Ну, давайте.
Она протягивает руку, я хватаюсь за нее. Встаю, наваливаюсь на стюардессу, и она тащит меня по проходу. Мы добираемся до выхода.
Подождите, я скоро.
Отпускаю ее руку, сажусь на пол металлического рукава, который соединяет самолет с гейтом.
Идти мне некуда.
Она смеется, я смотрю, как она удаляется, и закрываю глаза. Голова болит, горло болит, глаза болят, руки болят. Болят органы, которым даже не знаю названия.
Хватаюсь за живот. Подкатывает. Стремительный мощный поток обжигающей лавы. Его не удержать. Можно только закрыть глаза и пропустить. Меня выворачивает, я корчусь от боли и смрада. Ничего не могу поделать.
О господи.
Открываю глаза.
Ничего страшного.
Давайте я вызову врача.
Не надо, я в порядке. Мне бы только выбраться отсюда.
Вы можете встать?
Да, могу.
Я встаю, отряхиваюсь, вытираю ладони об пол, сажусь в кресло-каталку, которое она привезла для меня. Она встает мне за спину и толкает кресло.
Вас кто-нибудь встречает?
Надеюсь.
Точно не знаете?
Нет.
А если никто?
И такое возможно. Как-нибудь разберусь.
Мы выходим из рукава в зону прибытия. Не успеваю глазом моргнуть, как передо мной вырастают Отец и Мать.
О господи.
Не надо, Мама.
Боже мой, что с тобой стряслось?
Не надо об этом, Мама.
Боже правый, Джимми. Да что же такое стряслось?
Она наклоняется ко мне, пытается обнять. Я отталкиваю ее.
Давай скорее выберемся отсюда, Мама.
Отец обходит кресло-каталку. Я ищу взглядом стюардессу, но она испарилась. Благослови ее бог.
Ты в порядке, Джимми?
Я смотрю прямо перед собой.
Нет, папа, не в порядке.
Он начинает толкать каталку.
У тебя есть багаж?
Мама плачет.
Нет.
На нас смотрят.
Ты чего-нибудь хочешь?
Я хочу выбраться отсюда, папа. Давай уже, черт подери, рули отсюда.
Меня подвозят к машине. Я перебираюсь на заднее сиденье, снимаю рубашку и ложусь. Отец садится за руль, Мать продолжает плакать, я засыпаю.
Просыпаюсь часа через четыре. Голова ясная, но перед глазами все колышется. Сажусь и смотрю в окно. Мы стоим на заправке где-то в Висконсине. Снега на земле нет, но чувствуется, что холодно. Отец открывает свою дверцу, садится в машину, закрывает. Я дрожу.
Ты проснулся.
Да.
Как себя чувствуешь?
Дерьмово.
Мама пошла помыть руки и купить еды. Тебе взять что-нибудь?
Бутылку воды, пару бутылок вина и пачку сигарет.
Ты серьезно?
Да.
Не стоит, Джеймс.
Мне нужно.
Потерпеть не можешь?
Нет.
Мама расстроится.
И что из того? Мне нужно.
Он открывает дверцу, идет к заправке. Я снова ложусь и смотрю в потолок. Чувствую, как сердце начинает биться чаще, кладу на него руку и пытаюсь затормозить. Надеюсь, родители не застрянут там надолго.
Через двадцать минут бутылки прибывают. Сажусь, закуриваю, делаю глоток воды. Мама оборачивается.
Тебе лучше?
Если тебе так угодно.
Мы едем в наш загородный дом.
Догадался.
Там на месте решим, что делать.
Ладно.
А сам-то ты что думаешь?
Мне сейчас неохота думать.
Но ведь скоро придется.
Вот и подожду до скорого.
Мы едем на север, в загородный дом. По дороге узнаю, что родители, которые вообще-то живут в Токио, прилетели в Штаты на две недели по делам. В четыре утра им позвонил мой приятель, который был со мной в больнице, он разыскал их в гостинице, в Мичигане. Он сказал, что я упал с пожарной лестницы, разбил лицо и, ему кажется, мне требуется помощь. Он не знает, что именно я принимал, но, судя по всему, принял немало и меня хорошо накрыло. После этого звонка они всю ночь ехали до Чикаго.
Так что это было?
В смысле?
Что ты принимал?
Понятия не имею.
Как это понятия не имеешь?
Не помню.
А что ты помнишь?
Так, обрывки и осколки.
Например?
Не помню.
Мы едем еще несколько минут в тяжелом молчании и приезжаем на место. Выходим из машины, заходим в дом, я сразу иду в душ, потому что больше не могу терпеть. Выйдя из душа, нахожу на своей кровати чистую одежду. Одеваюсь и иду в комнату родителей. Они сидят, пьют кофе, но замолкают, едва я вхожу.
Привет.
Мама снова начинает плакать, отводит взгляд. Отец смотрит на меня.
Чувствуешь себя лучше?
Нет.
Тебе нужно поспать.
Я и собираюсь.
Вот и хорошо.
Смотрю на Маму. Она на меня не смотрит. Я вздыхаю.
Я просто.
Отвожу взгляд.
Я просто, в общем.
Смотрю в сторону. Не в состоянии я смотреть им в лицо.
Я просто, в общем, хотел сказать спасибо. За то, что встретили меня.
Папа улыбается. Берет Маму за руку, они поднимаются, подходят ко мне и обнимают. Мне не нравится, когда они прикасаются ко мне, поэтому я отстраняюсь.
Покойной ночи.
Покойной ночи, Джеймс. Мы любим тебя.
Я отворачиваюсь, выхожу из комнаты, закрываю дверь, иду на кухню. Обыскиваю шкафчики, нахожу нераспечатанную бутылку виски. От первого глотка желудок вздрагивает, но следующие идут хорошо. Иду к себе в комнату, пью, выкуриваю несколько сигарет и думаю о ней. Снова пью, курю и думаю о ней, и в какой-то момент наступает темнота и память отключается.
Я снова в машине, опять болит голова, изо рта несет. Мы едем по Миннесоте на северо-запад. Отец с кем-то созвонился, устроил меня в клинику, выбора у меня нет, поэтому я соглашаюсь, пока это меня устраивает. Холодает.
Лицо болит еще сильнее, жутко распухло. Трудно говорить, есть, пить, курить. В зеркало лучше не смотреть.
Заезжаем в Миннеаполис за моим старшим Братом. Он живет в этих краях после развода и знает дорогу до клиники. Он садится рядом со мной на заднее сиденье и берет меня за руку, это успокаивает меня, потому что я боюсь.
Заезжаем на стоянку, паркуемся, я допиваю бутылку, мы выходим из машины и направляемся ко входу в клинику. Я, Брат, Мать и Отец. Все семейство в полном составе. Шествуем в клинику.
Я останавливаюсь, родные тоже. Рассматриваю больничные корпуса. Низкие, длинные, с переходами. Функционально. Дешево. Сердито.
Хочется удрать, или сдохнуть, или обдолбаться. Ослепнуть, оглохнуть, не чувствовать ни хера. Заползти в нору и никогда не вылезать. Стереть следы своего существования с карты мира. С этой гребаной карты. Я делаю глубокий вдох.
Идемте.
Мы входим в маленькую приемную. За столом сидит женщина, читает журнал мод.
Поднимает глаза.
Чем могу помочь?
Отец делает шаг вперед и вступает в разговор, а мы с Братом и Матерью садимся на стулья.
Меня трясет с головы до ног. Ноги, руки, губы, грудь. Дрожат крупной дрожью. Бог его знает, почему.
Мать с Братом подвигаются ближе ко мне, берут каждый меня за руку, сжимают, они видят, что творится со мной. Мы смотрим в пол и молчим. Ждем, держимся за руки, дышим и думаем.
Отец заканчивает разговор с дежурной, отворачивается от нее, подходит к нам. У него довольный вид, дежурная звонит по телефону. Отец опускается на колено.
Тебя примут сегодня.
Ладно.
Все будет отлично. Это хорошая клиника. Самая лучшая.
Ясно.
Ты готов?
Наверное.
Мы встаем и идем в другую комнатку, там за столом перед компьютером сидит мужчина. Он поднимается при виде нас и встречает на пороге.
Простите, но вам следует уехать.
Отец кивает.
Мы обследуем его, а вы позвоните позже и узнаете, как дела.
Мать начинает плакать.
Он в хороших руках. Не волнуйтесь.
Брат отводит глаза в сторону.
Он в хороших руках.
Я поворачиваюсь, они обнимают меня. Каждый по очереди, очень крепко. Сжимают и держат. Как могу, показываю им, что я в порядке. Ни слова не говоря, переступаю порог комнаты, мужчина закрывает за мной дверь, они остаются за дверью.
Мужчина указывает мне на стул и возвращается за свой стол. Улыбается.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как себя чувствуете?
А как выгляжу?
Не очень.
Чувствую еще хуже.
Вас зовут Джеймс. Вам двадцать три года. Вы живете в Северной Каролине. Все правильно?
Пока правильно.
Вам что-нибудь известно о нашем заведении?
Нет.
Хотите что-нибудь узнать?
Все равно.
Он улыбается, пристально смотрит на меня. Потом говорит.
Наша клиника – старейшее в мире заведение по лечению наркотической и алкогольной зависимости. Мы открылись в 1949 году в старом здании, оно находилось на этом участке, а сейчас здесь тридцать два корпуса, которые соединены между собой. Мы вылечили больше двадцати тысяч пациентов. У нас самый высокий процент выздоровления в мире! У нас шесть отделений, три мужских и три женских, в них постоянно пребывают двести – двести пятьдесят пациентов. Мы считаем, что пациенты должны проводить у нас столько времени, сколько необходимо для их выздоровления, мы не выставляем пациентов после двадцативосьмидневного курса. Хотя пребывание здесь стоит дорого, но многим пациентам мы предоставляем финансовую помощь. У нас есть благотворительный фонд, в нем несколько сот миллионов долларов. Мы не только лечим. Мы занимаем ведущие позиции среди научных и учебных центров в области исследования зависимостей. Считайте, вам крупно повезло, что вы попали к нам. Радуйтесь тому, что вы на пороге новой жизни.
Я смотрю на него. Молчу. Он смотрит на меня и ждет, что я что-нибудь скажу. Неловкий момент. Он улыбается мне.
Вы готовы начать?
Я не улыбаюсь ему.
Да.
Он встает, и я встаю, мы выходим в коридор. Он говорит, я молчу.
Двери не запирают, так что всегда можно выйти, если захотите. Наркотики запрещены, если обнаружится, что вы их принимаете или храните, вас отправят домой. С женщинами, кроме врачей, медсестер и персонала, можно только здороваться, разговаривать запрещено. Если нарушите это правило, вас отправят домой. Есть и другие правила, но с ними вы ознакомитесь в свое время.
Мы входим в терапевтическое отделение. Кругом маленькие палаты, врачи, медсестры и лекарства. На шкафах большие металлические замки.
Он заводит меня в палату. Кровать, стол, стул, шкаф и окно. Все белое.
Он стоит у двери, я сажусь на кровать.
Через несколько минут придет медсестра, побеседует с вами.
Хорошо.
Вы хорошо себя чувствуете?
Нет, паршиво.
Скоро станет легче.
Хм.
Уж поверьте мне.
Хм.
Мужчина уходит, закрыв дверь, и я остаюсь один. Ноги дрожат. Дотрагиваюсь до лица, провожу языком по деснам. Мне холодно, все холоднее и холоднее. Слышен скрип.
Дверь открывается, в палату входит медсестра. Вся в белом, с папкой в руке. Садится на стул у стола.
Здравствуй, Джеймс.
Здравствуйте.
Я задам тебе несколько вопросов.
Хорошо.
Еще померяю тебе давление и пульс.
Хорошо.
Какие вещества ты обычно принимаешь?
Алкоголь.
Каждый день?
Да.
В какое время начинаешь пить?
Как проснусь.
Она записывает.
Сколько выпиваешь за день?
Сколько влезет.
Сколько влезает?
Столько, сколько надо, чтобы выглядеть таким красавчиком, как сейчас.
Она смотрит на меня. Записывает.
Еще что-нибудь принимаешь?
Кокаин.
Как часто?
Каждый день.
Она записывает.
В какой форме?
В последнее время крэк. Но за годы перепробовал все возможные формы.
Она записывает.
Еще что-нибудь?
Таблетки, кислоту, грибы, мет, ангельскую пыль и клей.
Записывает.
Как часто?
Как удастся раздобыть.
Как часто удается?
Несколько раз в неделю.
Записывает.
Она наклоняется ко мне со стетоскопом в руке.
Как себя чувствуешь?
Мерзко.
В каком смысле?
Во всех.
Она касается моей рубашки.
Ты не против?
Нет.
Она задирает рубашку и прикладывает стетоскоп к моей груди. Слушает.
Дыши глубоко.
Слушает.
Хорошо. Еще немного.
Она опускает рубашку, отодвигается и записывает.
Спасибо.
Я улыбаюсь.
Тебе холодно?
Да.
Она достает аппарат для измерения давления.
Тебя тошнит?
Да.
Она надевает манжету мне на руку, больно сдавливает.
Когда в последний раз что-нибудь принимал?
Недавно.
Что и сколько?
Выпил бутылку водки.
Это твоя обычная дневная доза?
Нет.
Она смотрит на табло, цифры мелькают, она записывает и снимает манжету.
Я ненадолго отлучусь, но скоро вернусь.
Я смотрю в стену.
Ты должен находиться под пристальным наблюдением. Возможно, мы назначим тебе лекарства для детоксикации.
Краем глаза замечаю тень. Мне кажется, она движется, но я не уверен.
Сейчас все нормально, но, думаю, тебе начнет что-то мерещиться.
Еще одна тень. Ненавижу.
Если я понадоблюсь, просто позвони.
Ненавижу.
Она встает, улыбается, задвигает стул и выходит. Я снимаю ботинки, ложусь поверх одеяла, закрываю глаза и засыпаю.
Просыпаюсь, начинаю дрожать, сворачиваюсь калачиком, сжимаю кулаки. По груди льет пот, и по рукам, и по бедрам. От пота щиплет лицо.
Я сажусь, слышу чей-то стон. Вижу клопа в углу, но знаю, что его там нет. Стены сжимаются и расширяются, сжимаются и расширяются, слышно, как они дышат. Я зажимаю уши, но это не помогает.
Встаю. Оглядываюсь кругом. Ничего не понимаю. Где я, почему, как здесь очутился и как отсюда выбраться. Как меня зовут, кто я.
Корчусь на полу, на меня обрушиваются образы и звуки. Я ничего подобного никогда не видел, не слышал и даже не подозревал, что такое существует. С потолка, из двери, из окна, со стола, со стула, с кровати, из шкафа. Из этого гребаного шкафа. Темные тени, яркие огни и вспышки синего, желтого и красного цвета, такие алые, как кровь. Они надвигаются на меня, визжат, я не знаю, чего они хотят, но догадываюсь, что они заодно с клопами. Они визжат на меня.
Меня начинает трясти. Трясет и трясет без остановки. Тело дрожит, сердце колотится как бешеное, я прямо вижу, как оно скачет в грудной клетке, обливаюсь потом, пот щиплет кожу. Клопы расползаются по моему телу, кусаются, я пытаюсь их давить. Стучу по бокам ладонями, рву волосы, начинаю кусать сам себя. У меня нет передних зубов, но я все равно кусаю себя, а кругом тени, огни, вспышки, визги и клопы, клопы, клопы. Мне конец. Полный пиздец.
Я ору.
Ссу под себя.
Накладываю в штаны.
Медсестра возвращается, зовет на помощь, вбегают мужчины в белом, укладывают меня на кровать и удерживают. Я хочу передавить клопов, но не могу шевельнуться, и клопы ползают. По мне. Во мне. Я чувствую, как ко мне прикасаются стетоскопом, потом измеряют давление, потом вводят иглу в вену и все время крепко держат.
Меня окутывает чернота.
Я отрубаюсь.
Сижу на стуле у окна и смотрю. Понятия не имею куда, и мне плевать. Уже поздно, темно, а спать я не в состоянии. Действие лекарств закончилось.
Входит медсестра.
Не спится?
Она проверяет давление и пульс.
Нет.
У нас есть холл.
Она протягивает мне таблетки.
Там можно посмотреть телевизор.
Она протягивает мне халат и тапки.
Можно покурить.
Я отворачиваюсь и смотрю в окно.
Переоденься и дай мне знать, когда будешь готов.
Хорошо.
Она выходит, я принимаю таблетки, одеваюсь, открываю дверь – она ждет меня. Улыбается и протягивает пачку сигарет.
Все в порядке?
Я улыбаюсь.
Спасибо.
Мы идем в холл. Телевизор, два дивана, стул, несколько торговых автоматов. Телевизор работает.
Хочешь содовой?
Я сажусь на стул.
Нет.
Все в порядке?
Киваю.
Да, спасибо.
Она выходит, а я чувствую, как таблетки растворяются в желудке. Смотрю в телевизор, но ничего не воспринимаю. Курю сигарету. Она обжигает.
Входит какой-то мужчина, идет ко мне и останавливается рядом.
Эй, парень.
Голос у него низкий и глуховатый.
Эй, парень.
Руки от плеч в шрамах.
Я вообще-то к тебе обращаюсь.
Шрамы идут до запястий.
Я вообще-то к тебе обращаюсь.
Я смотрю ему в глаза. Они пустые.
Что?
Он тычет пальцем.
Ты занял мой стул.
Я отворачиваюсь от него к телевизору.
Ты занял мой стул.
Таблетки растворяются в желудке.
Слышь, парень, это мой стул.
Меня не колышет.
Слышь, говнюк, это мой стул, черт тебя подери.
Я смотрю в телевизор, мужик тяжело дышит. Медсестра спешит к нам.
Что у вас случилось?
Этот говнюк сел на мой стул.
Тогда почему бы вам не сесть на диван?
Потому что я не хочу на диван. Хочу на свой стул.
На стуле сидит Джеймс. Можете сесть на диван, на пол или уйти. Выбирайте.
На хер Джеймса. Пусть сваливает со стула.
Вы добиваетесь, чтобы я вызвала охранника?
Нет.
Тогда выбирайте.
Он идет к дивану и садится. Медсестра наблюдает за ним.
Спасибо.
Он ухмыляется, она уходит, мы остаемся вдвоем. Я смотрю в телевизор, курю сигарету. Он смотрит на меня, грызет ногти и сплевывает огрызки в мою сторону, но таблетки растворяются у меня в желудке, клопы уползают, и мне все по барабану. Меня не колышет.
Смотрю в телевизор. Изображение замедляется. Замедляется до неузнаваемости. Картинка расплывается, голоса удаляются. Ни очертаний, ни слов, только вспышки огней и симфония гулов. Всматриваюсь в огни, вслушиваюсь в гул. Хочу, чтобы все исчезло, но оно не исчезает.
Мои веки опускаются. Пытаюсь их приподнять, но они не подчиняются. Тело опускается вслед за веками. Мышцы расслабляются, и я скольжу со стула на пол. Я не хочу на пол, мне не нравится на полу, но ничего не могу поделать. Пока я соскальзываю, халат цепляется за край стула, подол задирается до пояса. Я протягиваю руку, чтобы поправить халат, но она бессильно падает. Хочу приказать руке подняться и одернуть халат, но мой мозг меня не слушается. Мозг не слушается, и рука не слушается. Халат остается задранным.
Мужчина прекращает плеваться в меня огрызками ногтей, встает и идет ко мне. Сквозь щель опущенных век вижу, как он приближается. Понимаю, что он может сделать со мной все, что захочет, и я не в силах помешать ему. Понимаю, что он зол, и по его шрамам, царапинам, глазам ясно, что свою злость он обычно выражает через насилие. Мог бы я встать, уж ответил бы ему, но я не в состоянии даже пошевелиться. С каждым его шагом перспектива вырисовывается все яснее. Он сделает со мной все, что захочет, а я не в силах помешать ему. Не в силах помешать. Не в силах.
Он останавливается рядом и смотрит на меня сверху вниз. Наклоняется, смотрит прямо в лицо и смеется.
Ах ты, мерзкий ублюдок!
Я пытаюсь что-то ответить. Изо рта вырывается мычание.
Я мог бы надрать тебе задницу, если б захотел. Мог бы приготовить из тебя фарш.
Мое тело как вата.
Но все, что мне надо, это мой стул.
Мой мозг меня не слушается.
И я возьму его, черт подери.
Он берет меня за руки и волочит по полу. Оттаскивает подальше от стула, в угол, и там бросает лицом в пол. Наклоняется надо мной и приближает губы к моему уху.
Я мог бы надрать твою гребаную задницу. Запомни это.
Он удаляется. Я слышу, как он садится на стул перед телевизором и начинает переключать каналы. Сводка спортивных новостей, реклама средства для роста волос, вечернее ток-шоу. Он выбирает ток-шоу, смеется там, где велит звуковая дорожка с записанным смехом, бормочет себе под нос, что одной участнице охотно бы вдул. Я лежу мордой в пол.
Я в полном сознании, но пошевелиться не могу.
Сердце стучит, очень громко, и я вижу его стук.
Складки ковра впиваются мне в лицо, и я слышу их.
По телевизору звучит звуковая дорожка с записью смеха, и я чувствую его прикосновение.
Я в полном сознании, но пошевелиться не могу.
Отключаюсь.
Отключаюсь.
Отключаюсь.
Наступает утро. Просыпаюсь – уже могу двигаться. Встаю, оглядываюсь в поисках того типа. Он исчез, но воспоминание о нем застряло в голове и будет там храниться долго. Это мой недостаток. Я не умею избавляться от воспоминаний.
Иду в свою палату. Открываю дверь, вижу санитара, он ставит на стол поднос с едой. Смотрит на меня и улыбается.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я принес вам завтрак. Наверное, вы проголодались.
Спасибо.
Если что-нибудь понадобится, позвоните.
Спасибо.
Он выходит, я смотрю на еду. Яйца, ветчина, тосты, картофель. Стакан воды, стакан апельсинового сока. Есть не хочется, но знаю, что нужно, подхожу к столу, сажусь, смотрю на еду, вспоминаю про свое лицо. Оно по-прежнему распухшее. Касаюсь губ, они в коросте. Открываю рот, короста трескается. Выступает кровь. Закрываю рот, чувствую вкус крови.
Есть не хочется, но знаю, что нужно.
Беру стакан воды, делаю глоток, но вода холодная, и от нее ломит зубы.
Беру стакан апельсинового сока, делаю глоток, но сок кисловатый, и от него щиплет во рту.
Пытаюсь есть вилкой, но она колется.
Отламываю кусочек тоста и пальцами кладу в рот. Так же поступаю с картошкой, яйцом и ветчиной. Пью воду, не сок. Облизываю пальцы.
Доев все, иду в туалет, и там меня выворачивает. Пытаюсь сдержать рвоту, но напрасно. Почти половина съеденного вылетает, вместе с кровью и желчью. Я доволен, что удалось удержать хоть половину еды. Это больше, чем обычно.
Когда возвращаюсь в постель, в палату входит доктор. Он улыбается.
Здравствуйте.
У него на груди бейдж с именем, но я не могу его прочесть.
Меня зовут доктор Бейкер.
Мы пожимаем руки.
Сегодня вами буду заниматься я.
Сажусь на край кровати.
Все в порядке?
Он смотрит мне в лицо, но не в глаза.
Да.
Я смотрю ему в глаза.
Как себя чувствуете?
Глаза у него добрые.
Мне надоел этот вопрос.
Он смеется.
Еще бы, я думаю!
Я улыбаюсь.
Держите.
Он протягивает мне таблетки.
Это транквилизаторы.
Я беру.
Лекарства очистят ваш организм, а это очень важно с медицинской точки зрения, благодаря этому наладится работа сердца, нормализуется кровяное давление, адаптация пройдет легче. Без этого может случиться удар или сердечный приступ.
Он наклоняется, рассматривает мою щеку.
Вы будете получать таблетки каждые четыре часа, мы будем постепенно уменьшать дозу в течение следующих пяти дней.
Я смотрю ему в глаза.
Мы возьмем у вас анализы. И приступим к разработке программы для вас.
Хорошо.
Но сначала давайте немного приведем вас в порядок.
Мы идем в кабинет. Тут горит яркая флуоресцентная лампа, стоят шкафы с инструментами и функциональная кровать. Я сажусь на кровать, он надевает резиновые перчатки и исследует мою щеку. Убирает коросту. Открывает мне рот. Вводит палец в дыру.
Берет иглу с ниткой, велит мне сжать кулаки и закрыть глаза. Я не закрываю, смотрю, как движется игла. Туда-сюда. Щека, губа, рот. Сорок один стежок.
С этим покончено. Он звонит хирургу-стоматологу, а я сижу на кровати и дрожу от боли. Чувствую вкус горячей крови и ниток. Он договаривается о приеме со стоматологом, кладет трубку и моет руки.
Через пару дней отвезем вас в город, сделаем зубы.
Провожу языком по обломкам зубов.
Я знаю этого стоматолога, он мастер своего дела.
Вожу языком по обломкам.
Будете как новенький.
Оставляю свои обломки в покое.
Не бойтесь.
Он надевает новую пару перчаток и подходит ко мне.
Я должен обследовать ваш нос.
Делаю глубокий вдох. Он подходит вплотную, рассматривает мой нос. Прикасается к нему, я вздрагиваю. Щеки больше не чувствую.
Дело плохо.
Я знаю.
Нос придется сломать и потом вправить.
Я знаю.
Чем скорее, тем лучше. Но если хотите, можем подождать.
Чем скорее, тем лучше.
Хорошо.
Он расставляет ноги пошире, для устойчивости, и кладет обе ладони на мой нос. Я хватаюсь руками за край кровати, закрываю глаза и жду.
Готов?
Да.
Он резко бьет, раздается отчетливый хруст. Холодные белые молнии вспыхивают у меня перед глазами, пронзают от макушки до пяток и обратно. Из закрытых глаз льются слезы. Из носа хлещет кровь.
А сейчас я вправлю его.
Он сжимает мой нос с боков, я чувствую, как смещается хрящ. Он поправляет мне нос. Я чувствую это. Сжимает и распрямляет. Я все чувствую.
Ну, вот.
Я открываю глаза, он берет какую-то ленту. Накладывает мне на переносицу, лента жесткая и удерживает хрящ в нужном положении.
Он берет полотенце, вытирает кровь с моего лица, шеи, а я смотрю в стену. Лицо пульсирует, я стискиваю край кровати так, что рукам больно. Хочу встать, но не могу.
Вы в порядке?
Нет.
Обезболивающее вам не положено.
Ясное дело.
Транквилизаторы помогут, но все же придется потерпеть.
Знаю.
Я принесу вам чистый халат.
Спасибо.
Он отходит, выбрасывает полотенце в мусорную корзину и выходит. Я отпускаю кровать, вытягиваю руки перед лицом, смотрю на них. Они дрожат, я тоже.
Врач возвращается с медсестрой, они помогают мне переодеться, говорят, что нужно сдать анализы. Кровь, моча, кал. Нужно определить степень поражения внутренних органов. Эта мысль бесит меня.
Мы идем в другой кабинет, с туалетом. Я писаю в банку, сдаю дерьмо в пластмассовый контейнер, подставляю вену под иголку. Это просто, легко, не больно. Мы выходим, в отделении полно людей. Пациенты выстроились в очередь за таблетками, врачи снуют из палаты в палату, медсестры носят склянки и колбы. Суматоха, одним словом, но бесшумная. Я захожу к себе в палату вместе с доктором, сажусь на кровать, он на стул. Пишет что-то в медкарте. Закончив, смотрит на меня.
Если не считать стоматолога, худшее позади.
Хорошо.
Я назначу вам 250 миллиграммов амоксициллина три раза в день и 500 миллиграммов пенициллина внутримышечно раз в день. От инфекции.
Хорошо.
Таблетки получают на стойке раздачи. Если забудете подойти, медсестра вас позовет.
Ладно.
Вы держались молодцом, спасибо.
Не за что.
Удачи.
Спасибо.
Он встает, я тоже, мы жмем друг другу руки, и он уходит. Я иду к стойке раздачи, встаю в очередь. Передо мной девушка. Она оборачивается, смотрит на меня. Заговаривает.
Привет.
Улыбается.
Привет.
Она протягивает руку.
Меня зовут Лилли.
Пожимаю протянутую руку. Она теплая и мягкая.
Я Джеймс.
Не хочется выпускать ее руку, но нужно. Продвигаемся вперед.
Что с тобой стряслось?
Она бросает взгляд на медсестру за стойкой.
Не помню.
Она поворачивается ко мне.
Вырубился?
Да.
Она морщится.
Дерьмово.
Я смеюсь.
Ага.
Мы продвигаемся.
Когда поступил?
Я бросаю взгляд на медсестру за стойкой.
Вчера.
Медсестра пристально смотрит на нас.
Я тоже.
Делаю шаг вперед, Лилли отворачивается от меня, прекращает разговор, и мы то стоим на месте, то передвигаемся вперед. Медсестра наблюдает за нами, протягивает Лилли таблетки и стакан воды. Лилли глотает их, запивает и отходит от стойки. Проходя мимо меня, одними губами шепчет «пока». Я улыбаюсь и шагаю к стойке. Медсестра смотрит на меня, спрашивает, как зовут.
Джеймс Фрей.
Смотрит в карту, идет к шкафу, достает таблетки и протягивает мне со стаканом воды.
Глотаю таблетки.
Запиваю водой.
Иду к себе в палату, засыпаю. Весь день сплю, просыпаюсь, только чтобы закинуть в глотку еду, постоять в очереди за таблетками и проглотить их.
Тело будит меня, когда за окном еще темно. Нутро горит, как будто там пожар. Начинается приступ, подкатывает боль. Спазм, боль становится сильнее. Еще один спазм, тут меня парализует.
Я знаю, что происходит, нужно встать, но не могу, поэтому скатываюсь с кровати на пол. Лежу, скулю. На полу холодно и темно.
Боль убывает, я ползу в ванную, хватаюсь за края унитаза и жду. Покрываюсь потом, задыхаюсь, сердце колотится.
Тело сводит судорогой, я закрываю глаза и наклоняюсь над унитазом. Кровь вперемешку с желчью и ошметками желудка вылетает изо рта и ноздрей. Забивается в горло, в нос, между обломков зубов. И опять, и опять, и опять, и с каждым спазмом острая боль простреливает грудь, отдает в левую руку и в челюсть. Я с размаху ударяюсь лбом об унитаз, но ничего не чувствую. Ударяюсь еще раз, и опять ничего не чувствую.
Рвота прекращается, я откидываю голову назад, открываю глаза и смотрю в унитаз. Густые красные струи стекают по его стенкам, в воде плавают коричневые сгустки моих внутренностей. Пытаюсь замедлить дыхание и удары сердца, не получается, поэтому просто сижу и жду. Каждое утро одно и то же. Блюю, потом сижу и жду.
Через несколько минут встаю, плетусь в палату. Ночь отступает, стою у окна и смотрю. Синеву неба прорезают оранжево-красные мазки, на красном фоне восходящего солнца выделяются очертания больших птиц, медленно проплывают облака. Чувствую, как кровь капает из ран на лице, как стучит сердце, как жизнь всей тяжестью наваливается на плечи, и понимаю, почему слова «утро» и «траур» так перекликаются.
Вытираю лицо рукавом, снимаю халат, который заляпан кровью и всем тем, что я выблевал, бросаю его на пол и иду в ванную. Открываю душ, жду, пока пойдет горячая вода.
Смотрю на свое тело. Кожа землисто-бледная. Туловище в ссадинах и синяках. Тощий, мускулы обвисли. Вид у меня потрепанный, побитый, дряхлый, дохлый. Я не всегда был таким.
Протягиваю руку, пробую воду. Теплее, но еще не горячая. Встаю под душ, закрываю кран с холодной водой и жду, когда пойдет кипяток.
Вода ударяет в грудь, течет вниз. Беру кусок мыла, намыливаюсь, а вода становится все горячей. Струи обрушиваются на меня, обжигают кожу, она краснеет. Больно, но приятно. Вода, пар, мыло, ожог. Больно, но я заслужил.
Выключаю воду, выхожу из душа, вытираюсь. Залезаю в постель, закутываюсь в одеяло, закрываю глаза и пытаюсь вспомнить. Восемь дней назад я был в Северной Каролине. Помнится, разжился бутылкой, пайпом и решил прокатиться. Через два дня проснулся в Вашингтоне, округ Колумбия. На диване в доме сестры своего приятеля. Весь в моче и блевотине, она захотела, чтобы я убрался прочь, поэтому позаимствовал у нее блузку и ушел. Через двадцать четыре часа очнулся в Огайо. Помню какой-то дом, бар, немного крэка, немного клея. Крики. Плач.
Дверь открывается, я сажусь на кровати. Врач приносит стопку одежды и таблетки, кладет все на стол.
Здравствуйте.
Я тянусь за таблетками.
Здравствуйте.
Беру их.
Тут чистая одежда.
Спасибо.
Он садится к столу.
Сегодня мы переводим вас вниз, в отделение.
Хорошо.
Обычно, когда пациента переводят вниз, наши встречи становятся реже, но с вами мы продолжим встречаться.
Хорошо.
На следующей неделе вы будете подниматься сюда дважды в день, после завтрака и после обеда, чтобы получать антибиотики и седативы. Что касается транквилизаторов, то их прием закончен, я принес последние таблетки.
Глотаю их.
Он смотрит на мой рот.
Завтра отвезем вас к стоматологу.
Я еще не видел своего рта.
Он мастер своего дела и мой старый приятель. Все сделает наилучшим образом.
Мне страшно взглянуть на себя.
Держитесь, все будет хорошо.
Наверное, людей пугает мой вид.
Переоденьтесь и ждите в холле.
Хорошо.
За вами пришлют человека из отделения.
Жду с нетерпением.
Он смеется и встает.
Удачи, Джеймс.
Я тоже встаю.
Спасибо.
Мы пожимаем друг другу руки, он уходит. Одеваюсь в одежду, которую он принес. Брюки хаки, белая футболка, шлепанцы. Все мягкое, удобное. Чувствую себя почти человеком.
Выхожу из палаты, иду по терапевтическому отделению, здесь ничего не изменилось. Яркие лампы, белизна. Пациенты, врачи, очереди и таблетки. Стоны и вскрики. Печаль, безумие, катастрофа. Все это мне хорошо знакомо и больше на меня не действует.
Прохожу в холл, сажусь на диван. Я тут один, смотрю телевизор и перевариваю последнюю порцию таблеток.
Сердце бьется медленней.
Руки перестают дрожать.
Веки опускаются.
Тело обмякает.
Все становится по барабану.
Слышу, как произносят мое имя, открываю глаза – передо мной стоит Лилли. Она улыбается, садится рядом.
Помнишь меня?
Ты Лилли.
Она улыбается.
Я боялась, что не вспомнишь. Видок-то у тебя кислый.
Это транквилизаторы.
Да, сама от них клюю носом. Терпеть не могу это дерьмо.
Лучше это, чем ничего.
Она смеется.
Давай встретимся через пару дней.
Я улыбаюсь.
Вряд ли я продержусь тут пару дней.
Она кивает.
Знакомое чувство.
Я ничего не отвечаю. Она говорит.
Ты откуда?
Достаю сигареты.
Из Северной Каролины.
Вынимаю сигарету из пачки.
Не угостишь меня?
Протягиваю ей сигарету, прикуриваю, мы затягиваемся, и Лилли рассказывает о себе. Я слушаю. Ей двадцать два года, росла в Фениксе. Отец бросил, когда ей было четыре, мать героинщица, зарабатывала на дозу тем, что продавалась первому встречному. Когда Лилли исполнилось десять, мать подсадила ее на наркотики, а когда исполнилось тринадцать – стала ее продавать первому встречному. В семнадцать лет Лилли сбежала от матери к бабушке в Чикаго, там и живет с тех пор. Торчит на крэке и пилюлях любви.
В холл входит парень, и мы замолкаем. Он подходит ко мне. Худой, по виду из богатеньких, почти лысый. Глазки маленькие, беспокойные.
Джеймс?
Он улыбается.
Да.
Можно подумать, он очень обрадован.
Привет, а я Рой.
Он протягивает руку.
Привет.
Я встаю, пожимаю руку.
У тебя вещи есть?
Нет.
Одежда или, может, книги?
У меня ничего нет.
Телефон?
Ничего.
Он снова улыбается. Криво как-то.
Ну, пошли.
Я оборачиваюсь к Лилли, которая притворяется, будто смотрит телевизор.
Пока, Лилли.
Она оглядывается, улыбается мне.
Пока, Джеймс.
Мы с Роем выходим из холла, спускаемся по короткому, темному, покрытому ковром переходу. Пока идем, Рой сверлит меня взглядом.
Ты знаешь, что это против правил.
Я смотрю прямо перед собой.
Что?
Разговаривать с женщинами.
Прости.
Не извиняйся, просто больше не делай этого.
Хорошо.
Правила придуманы для твоего же блага. Советую тебе соблюдать их.
Постараюсь.
Не постарайся, а соблюдай, а то будут проблемы.
Постараюсь.
Мы подходим к большой двери, переступаем порог, и обстановка меняется. Длинные коридоры, вдоль них тянутся двери. Мягкие ковры, яркие стены. Светло, красочно, ощущение комфорта. Кругом прохаживаются люди, все улыбаются.
Мы проходим через вереницу коридоров. Рой смотрит на меня, я смотрю прямо перед собой. Он рассказывает мне про отделение и про правила поведения.
В отделении двадцать – двадцать пять пациентов, три наставника и начальник отделения. У каждого пациента есть свой наставник, который контролирует программу лечения, а начальник отделения контролирует наставников. Каждый пациент обязан каждый день посетить три лекции, три раза принять пищу, участвовать во всех мероприятиях.
Каждому пациенту назначается работа, которую он обязан выполнить утром.
Принимать препараты, влияющие на настроение, в отделении строго запрещено. Если обнаружится, что кто-то их принимает или хранит, то его выгонят из клиники.
Письма отправляют раз в день. Наставники имеют право вскрыть и прочесть любое письмо.
Посещения разрешены по воскресеньям с часу до четырех дня. Персонал имеет право проверять содержимое передач, которые приносят посетители. Женщины находятся в своих отделениях, контакты с ними запрещены. Если столкнешься с женщиной в коридоре, можно сказать «здравствуйте», но спрашивать «как дела» запрещено. Если нарушаешь это правило, могут выписать из клиники.
Рой пристально смотрит на меня.
Правила – дело серьезное. Если хочешь выздороветь, советую соблюдать их.
Я смотрю прямо перед собой.
Постараюсь.
Мы входим в дверь с табличкой «Сойер» и оказываемся в отделении. Идем по коридору, по обе стороны которого тянутся двери. Кое-где таблички с именами, некоторые двери открыты, и в палатах видны люди.
Из коридора попадаем в большой двухуровневый зал. На верхнем ярусе есть автомат с напитками, автомат со сладостями, большая кофеварка, кухня и большой стол со стульями вокруг. На нижнем ярусе стоят диваны и стулья полукругом, телевизор и небольшая школьная доска. У дальней стены находится телефонная кабинка, а в другие две стены встроены раздвижные стеклянные панели вместо дверей. За открытыми дверьми видны лужайки, деревья, вдалеке озеро. Мужчины сидят у стола, на диванах. Они читают, разговаривают, курят и пьют кофе. Когда я вхожу в зал, все поворачиваются ко мне и начинают рассматривать.
Рой улыбается.
Добро пожаловать в «Сойер».
Спасибо.
Здесь хорошо.
Мне хочется сбежать.
Ты здесь пойдешь на поправку.
Сбежать бы куда глаза глядят.
Уж поверь, я-то знаю.
Обдолбаться бы.
Да-да.
Или сдохнуть.
Пойдем, провожу тебя в твою палату.
Через верхний ярус проходим в дальний коридор. Вдоль него тоже расположены палаты, из них доносятся разговоры, смех, плач. Мы останавливаемся возле одной из дверей, Рой открывает ее, мы входим. Палата довольно большая, в ней четыре кровати – в каждом углу по кровати. Возле каждой кровати – тумбочка и маленький комод. Ванная сбоку. Двое мужчин сидят на кровати и играют в карты, они поднимают головы, когда мы входим.
Ларри, Уоррен, это Джеймс.
Оба встают, подходят ко мне, чтобы познакомиться. Ларри – коротышка крепкого сложения, комплекцией напоминает асфальтовый каток. У него длинные каштановые волосы, короткая бородка и южный акцент. На вид ему можно дать лет тридцать пять. Уоррену лет за пятьдесят, он высокий, худой, загорелый, с широкой улыбкой, одет хорошо. Мы пожимаем друг другу руки, они спрашивают, откуда я, я отвечаю. Они спрашивают, не хочу ли я сыграть с ними в карты, я отказываюсь. Говорю, что устал и хочу отдохнуть. Благодарю Роя, направляюсь к пустой кровати и ложусь. Рой выходит, Ларри с Уорреном возвращаются к своим картам.
Закрываю глаза, делаю глубокий вдох и думаю о том, как докатился до жизни такой. Как разрушил свою жизнь, превратил в груду обломков, какой ущерб причинил себе и другим. Думаю о той ненависти, которую питаю к себе, об отвращении. Думаю о том, как это все произошло и почему, и мысли приходят сами собой, но ответов в них нет.
Слышу шаги, ощущаю рядом чье-то присутствие. Открываю глаза, возле меня стоит мужчина. Лет под сорок. Среднего роста, худой, как щепка, с длинными костлявыми руками, тонкими пальцами. Аккуратно пострижен, чисто выбрит.
Ты новенький?
Он нервничает, возбужден.
Да.
А глаза у него пустые.
Как зовут?
Джеймс.
Я сажусь на кровати.
А я Джон.
Он присаживается на край моей кровати и протягивает мне карточку.
Вот моя визитка.
Читаю. Джон Эверетт. Секс-ниндзя. Сан-Франциско, далее везде.
Смеюсь.
Показать кое-что?
Он вытаскивает бумажник.
Давай.
Он открывает бумажник, вынимает выцветшую газетную вырезку и протягивает мне. Заметка из старой газеты, напечатанной в Сан-Франциско, раздел городской хроники. Фотография мужчины, который стоит посреди улицы и держит плакат. Подпись под фотографией: «Мужчина был арестован на Маркет-стрит через три часа после того, как освободился из тюрьмы Сан-Квентин. Он ходил с плакатом, рекламируя продажу кокаина».
Это я.
Снова смеюсь.
Это было три с чем-то года назад.
Я возвращаю ему вырезку.
Полная чушь.
Он прячет ее в карман.
Ты когда-нибудь трахался в задницу?
Чего?
В задницу трахался, спрашиваю?
В каком смысле?
А я в тюрьме попробовал и здорово пристрастился. Не могу без этого дела, и еще без кокаина. Думаю, тебе надо скорей попробовать, чего тянуть-то.
Я таращусь на него.
Тут у нас честность и открытость превыше всего. Это входит в программу лечения, так что я действую по программе. Захотел сказать тебе – и сказал. Ты как вообще?
Я таращусь на него.
Отлично.
Он, заторопившись, встает. Смотрит на часы.
Пора на обед. Хочешь, покажу тебе, где столовая?
Молча встаю. Только таращусь на него.
Выходим из палаты, идем через отделение, по лабиринту коридоров. По дороге Джон рассказывает о себе. Ему тридцать семь лет, он из Сиэтла. Вырос в богатой и влиятельной семье, которая отвернулась от него. У него есть дочь, которой двадцать лет, он не видел ее десять лет. Восемь лет просидел в тюрьме. Отец приставал к нему с пяти лет.
Входим в длинный коридор со стеклянными стенами. С одной стороны едят женщины, с другой – мужчины. В конце столовой общая зона – там салат-бар и два прилавка, за которыми выдают еду. Джон берет два подноса, один протягивает мне, и мы встаем в очередь.
Пока очередь движется, я изучаю обстановку. Мужчины, женщины. Поглощают еду. Некоторые разговаривает, никто не улыбается. Круглые столы, у каждого восемь стульев. Люди сидят за столами, на столах тарелки, чашки, подносы. В мужской половине расположились человек сто двадцать, всего мест человек на двести. В женской половине человек сто, а мест примерно сто пятьдесят. Я беру тарелку супа и стакан воды и, пока иду через зал, чувствую на себе множество взглядов. Представить страшно, какой у меня видок.
Нахожу пустой стол и сажусь. Отпиваю глоток воды, подношу ложку с супом ко рту. Он горячий, от каждой ложки волна боли разливается по губам, щекам, челюстям и зубам. Ем медленно, с усилием, не глядя по сторонам. Не хочу ни на кого смотреть и не хочу, чтобы смотрели на меня. Доедаю суп и на какое-то мгновение наконец ощущаю удовольствие. Желудок полон, становится тепло и приятно. Встаю, беру поднос, отношу его на конвейер, ставлю на стопку других грязных подносов и выхожу из столовой.
Возвращаюсь в отделение. Когда прохожу мимо открытой двери в одну из комнат, меня окликают. Останавливаюсь, немного возвращаюсь назад. Какой-то мужчина выходит из-за стола и направляется ко мне. Ему тридцать с небольшим. Очень высокий и очень худой. Темные волосы стянуты в хвостик, на глазах темные очки. Одет в черную футболку, черные брюки и черные кеды. Похож на человека, который провел детство за компьютером, скрываясь от своих обидчиков.
Ты Джеймс.
Он протягивает руку, я пожимаю ее.
Я Кен, твой наставник в отделении.
Приятно познакомиться.
Он поворачивается, идет к своему столу.
Проходи, садись.
Иду за ним, сажусь на стул напротив него и осматриваю кабинет.
Он маленький, кругом беспорядок, повсюду груды бумаг и папок. Стены покрыты схемами, картинками людей или пейзажей, в рамке за спиной у Кена – «Двенадцать шагов анонимных алкоголиков». Он берет папку, кладет перед собой, открывает и смотрит на меня.
Заселился нормально?
Да.
Есть какие-нибудь пожелания?
Нет.
Нужно уточнить кое-какие сведения, чтобы заполнить твою медкарту. Не против, если я задам несколько вопросов?
Не против.
Он берет ручку.
Когда начал принимать алкоголь и наркотики?
Выпивать в десять, наркотики в двенадцать.
А когда перешел на большие дозы?
С пятнадцати выпивал каждый день, с восемнадцати добавилась наркота каждый день. С тех пор стало еще хуже.
Сознание теряешь?
Да.
Как часто?
Каждый день.
И сколько времени такое продолжается?
Года четыре. Может, пять лет.
Тебя тошнит?
Каждый день.
Сколько раз в день?
После того как проснусь, и после того как выпью, и после того как поем, и еще может быть.
Сколько раз в день?
По-разному, от трех до семи.
Сколько времени это продолжается?
Года четыре. Может, пять лет.
Ты когда-нибудь подумывал о самоубийстве?
Да.
Попытку делал?
Нет.
Тебя арестовывали?
Да.
Сколько раз?
Раз двенадцать или тринадцать.
За что?
За разное.
Например?
Хранение. Хранение с целью распространения. Три раза «вождение под воздействием», несколько актов вандализма, несколько раз «причинение ущерба собственности», нападение, нападение с применением смертоносного оружия, нападение на офицера полиции, пребывание в общественном месте в состоянии явного опьянения, нарушение общественного спокойствия. Наверняка еще какая-то фигня была, всего не упомнишь.
Эти обвинения до сих пор в силе?
Да, почти все.
Где?
В Мичигане, в Огайо и в Северной Каролине.
К судебной ответственности привлекался?
Нет.
Освобождался под залог?
Да, и сбегал из-под залога.
Где?
Везде.
Почему?
Я побывал в тюрьме. Мне там не понравилось, и я не хочу обратно.
Тебе придется рано или поздно ответить по обвинениям.
Знаю.
Мы советуем разобраться с этим, пока ты здесь. Или хотя бы начать.
Я подумаю.
На какие средства ты живешь?
Торгую наркотиками.
Придется завязать.
Понимаю.
Ты раньше лечился?
Нет.
Почему?
Не хотел. Предкам сказал, что, если попробуют меня сдать в лечебницу, я убегу и вообще меня больше не увидят. Они поверили.
Он молчит, откладывает ручку. Смотрит мне в глаза, и я понимаю, что он испытывает меня, ждет, когда я отведу взгляд, но не тут-то было.
Ты хочешь выздороветь?
Вроде того.
Вроде?
Ну.
Это значит – хочешь?
Это значит, вроде того.
Почему ты хочешь выздороветь?
Потому что я в жопе, и уже давно. Если так пойдет и дальше, я сдохну. А мне вроде как пока неохота становиться трупаком.
Ты готов сделать все, чтобы поправиться?
Не знаю.
Спрашиваю еще раз. Ты готов сделать все, чтобы поправиться?
Не знаю.
Спрашиваю еще раз. Ты готов сделать все, чтобы поправиться?
Не знаю.
Он сверлит меня взглядом, злится, что я не даю ответа, который ему нужен. Я тоже смотрю на него.
Если ты не готов сделать все, что потребуется, тебе лучше уйти. Мне бы этого не хотелось, но мы не сможем помочь тебе, если ты не готов помочь себе сам. Подумай об этом, и мы еще раз поговорим. Если что-нибудь потребуется, заходи.
Хорошо.
Он поднимается, я тоже. Он выходит из-за стола, мы выходим из кабинета в коридор. Люди возвращаются с обеда, собираются кучками за столами, на диванах, на складных стульях, расставленных островками. Кен спрашивает, не хочу ли я пообщаться, я отвечаю нет, он отходит, а я смотрю, как он подходит к другому чуваку и заводит разговор с ним. Нахожу свободный стул, закуриваю, делаю длинную затяжку и рассматриваю людей вокруг. Среди них есть черные, белые, желтые и коричневые. У кого-то длинные волосы, у кого-то короткие, у кого-то борода, у кого-то усы. Кто-то хорошо одет, кто-то в лохмотьях. Есть худые, есть жирные. Есть крепкие, хилые, истощенные, изможденные. У кого-то пугающе бандитский вид, у кого-то невменяемый и безумный. Все они разные, но все похожи друг на друга, и вот я сижу, курю, смотрю на них и боюсь их до чертиков, того и гляди, наложу в штаны.
Кен закончил разговор и объявляет, что начинается лекция, народ встает и валит на лекцию. У меня закончились таблетки, нужно пополнить запас, так что я прогуливаю лекцию, иду в терапевтическое отделение и встаю в очередь. В очереди меня охватывают тревога, страх и злость. Чем ближе к стойке с лекарствами, тем они сильнее. Чувствую, что сердце бьется быстрее, смотрю на руки – они дрожат, и, когда подхожу к стойке, уже с трудом могу говорить. Мне чего-то хочется, чего-то требуется, сильно, позарез. Чего угодно. Просто вынь да положь. Медсестра узнает меня, берет карту, смотрит, поворачивается к шкафу и достает таблетки. Протягивает мне вместе с водой в пластиковом стаканчике, я заглатываю их мгновенно, отхожу от стойки и жду, чтоб подействовали. Почти сразу становится лучше. Сердцебиение успокаивается, руки перестают трястись, тревога, страх и злость стихают.
Я выхожу, возвращаюсь в свое отделение и иду в актовый зал на лекцию, сижу и слушаю, как мужик рассказывает про благотворное влияние здорового питания на ясность ума. Какое, к черту, здоровое питание, если человек сидит на наркотиках, наконец-то лекция заканчивается, я встаю, выхожу из зала, вместе со всеми возвращаюсь в отделение. Один из пациентов напоминает кинозвезду, я подумываю, не заговорить ли с ним, но не решаюсь. Остаток дня и начало вечера проскальзывают в полудреме, когда способность ясно размышлять исчезает, а минута кажется вечностью. Вскоре после ужина укладываюсь в кровать и впервые за несколько лет осознанно намереваюсь уснуть.
Открываю глаза. Соседи спят, в палате тихо, спокойно, темно. Я сажусь, провожу ладонью по волосам, смотрю на подушку – она залита кровью. Касаюсь лица и понимаю, что оно в крови.
Встаю, кое-как одолеваю десять шагов до ванной, открываю дверь, вхожу, включаю свет. Он слепит, зажмуриваю глаза, жду, когда они привыкнут, хватаюсь за край раковины, шагнув вперед. Открываю глаза, смотрю в зеркало и впервые за пять дней вижу собственное лицо.
Губы в порезах, в трещинах, распухли так, что стали в три раза больше. На левой щеке шов, покрытые засохшей кровью стежки соединяют края глубокой раны сантиметра в три длиной. Сломанный нос под повязкой распух, из ноздрей тянутся кровавые струйки. Под глазами черно-желтые синяки. Все лицо в крови, и в засохшей, и в свежей.
Отрываю кусок бумажного полотенца, смачиваю под краном и начинаю осторожно протирать лицо. Корка на царапинах, которыми испещрены щеки, трескается, я морщусь от боли, полотенце краснеет. Выбрасываю его, отматываю новый кусок. Все повторяется еще раз.
Еще раз.
Еще раз.
Заканчиваю, выбрасываю последний кусок полотенца, мою руки и смотрю, как красная вода стекает в раковину и потом в слив. Выключаю воду, приглаживаю волосы руками – они теплые, приятные, и делаю еще одну попытку посмотреть на себя. Хочу посмотреть себе в глаза. Хочу разглядеть, что под тонким слоем зеленой радужки, в глубине, внутри меня, что прячется там. Едва взглянув, отворачиваюсь от зеркала. Не могу заставить себя повернуться обратно.
Выхожу из ванной, возвращаюсь в палату. Ларри, Уоррен и Джон проснулись и одеваются. Говорят мне «привет», я отвечаю, подхожу к кровати и ложусь. Только начинаю задремывать, как ко мне подходит Джон.
Ты чего делаешь?
Разве не видно, что я делаю?
Собираешься еще поспать.
Именно.
Нельзя.
Почему?
Пора на работу.
Какая еще работа?
У каждого своя работа. Утром мы встаем и идем на работу.
Значит, надо встать?
Да.
Я вылезаю из постели, иду за Джоном в холл, на верхний ярус. Завидев меня, подходит Рой, подводит меня к расписанию работ и объясняет, как все устроено.
Вот название работы, вот твоя фамилия. Чем дольше находишься в отделении, тем легче работа. Ты только что поступил, поэтому тебе убирать общий сортир.
Спрашиваю, где чистящие средства, он показывает. Беру все необходимое, собираюсь в общий сортир, он тем временем говорит.
Отмой все как следует, на совесть.
Конечно.
На совесть.
Я понял.
Нахожу общий сортир – две туалетные комнаты, которыми пользуются пациенты, если лень идти в палату, наставники и посетители. Они маленькие, в каждой один унитаз, один писсуар, одна раковина. Вхожу, оттираю унитазы, писсуары, раковины. Выношу мусор, вешаю новые рулоны туалетной бумаги. Мою пол. Не то чтобы очень приятное занятие, но мне приходилось раньше мыть туалеты, так что ничего страшного.
Заканчиваю, ставлю инвентарь на место, возвращаюсь в палату, иду в ванную и блюю. Уже три дня я не напивался, пять дней не кокаинился, так что тошнит не так сильно, как обычно, но все же тошнит. Закрываю крышку унитаза, спускаю воду, сижу на толчке и смотрю в стену. Не понимаю, что со мной творится.
Встаю, хожу туда-сюда по ванной. Охватываю себя руками крест-накрест, сжимаю. Мне холодно, дрожь пробирает до костей. Хочется плакать, через секунду – прикончить кого-нибудь, еще через секунду – себя. Хочется бегать, но бегать негде, поэтому шагаю туда-сюда, дрожу от холода и растираю себя.
Ларри открывает дверь, зовет на завтрак, иду с ним, Уорреном и Джоном в столовую, занимаю очередь, беру еду. Отыскав пустой стол, сажусь, ем теплую сладкую овсянку и запиваю водой. Постепенно успокаиваюсь, но не вполне. Думаю, не схожу ли с ума. Доев кашу, откидываюсь на стул и оглядываю столовую. Замечаю Кена, который толкует с мужиком из нашего отделения. Мужик указывает на меня, Кен направляется к моему столу и садится напротив.
Ты в порядке?
В полном.
Ты обдумал наш вчерашний разговор?
Да.
Что-нибудь решил?
Нет.
Подумай еще.
Хорошо.
Сегодня поедешь к дантисту.
Хорошо.
Я отведу тебя в терапевтическое отделение, а после того, как получишь лекарства, провожу к машине. Водитель отвезет тебя к врачу, подождет, пока ты будешь там, и привезет обратно.
Хорошо.
После обеда мы хотим провести обследование, которое называется Миннесотский многофакторный личностный тест. Это стандартный психологический тест, который поможет нам понять, как тебе помочь.
Хорошо.
Он встает.
Ты готов?
Я беру поднос и тоже встаю.
Да.
Мы идем, я ставлю поднос на конвейер, и мы направляемся в терапевтическое отделение. Получаю свои таблетки, глотаю их, и мы идем к главному входу, у которого ждет белый фургон. Кен выдает мне куртку, чтобы я не замерз, мы выходим, он отодвигает дверцу фургона и разговаривает с водителем, пока я залезаю на переднее сиденье и усаживаюсь. Кен прощается, я говорю до свидания, он закрывает дверь, и водитель трогает с места. Погода испортилась. Черные тучи затягивают небо, на земле белые заплатки инея. Зеленое стало бурым. Покрытое листьями оголилось. Холод, зима, мир впадает в спячку.
Смотрю на мелькающий за окном замерзший пейзаж. Стекло запотевает от моего дыхания, начинаю дрожать. Съёживаюсь и смотрю на водителя, который тоже ёжится от холода, едет медленно, внимательно следит за дорогой.
А можно тут немножко подогреть?
Водитель оглядывается на меня.
Замерз?
Я отвечаю на его взгляд.
Еще как, до чертиков.
Он смеется.
Потерпи, малыш. Раз мотор работает, сейчас согреемся.
Останавливаемся на пустынном перекрестке, горит красный светофор, на дороге никого, ветер крутит в воздухе клочки бумаги и листья. Водитель кажется стариком. У него седые всклокоченные волосы, седая всклокоченная борода и ярко-синие глаза. Кожа, как на старом ботинке. Руки тонкие, но, видно, сильные, и вообще, несмотря на свой возраст, он выглядит крепышом. Протягивает мне руку.
Меня зовут Хэнк.
Пожимаем руки.
Я Джеймс.
Что с тобой случилось?
Плохо помню.
Попал в серьезную переделку?
Что, похоже?
Да, твой вид намекает.
Мой вид не обманывает.
Мы смеемся, загорается зеленый, Хэнк трогается, продолжаем разговор. Хэнк из Массачусетса, почти всю жизнь проработал капитаном торгового рыболовного судна. Всегда был не прочь выпить, а уж после выхода на пенсию совсем меру потерял. Лишился дома, жены, семьи, рассудка. Обратился в клинику за помощью, а после того как вылечился, решил остаться здесь, помогать другим. Мне нравится разговаривать с Хэнком, и к концу поездки начинаю считать его другом.
Въезжаем в маленький городок, на главную, судя по всему, улицу. На ней располагаются бакалейная лавка, скобяная лавка и полицейский участок. На фонарях висят украшения по случаю Хэллоуина, и люди, которые, похоже, все друг с другом знакомы, переходят из магазина в магазин. Хэнк паркуется на стоянке перед рыболовным магазином, мы выходим из фургона и подходим к небольшой двери, что у входа в магазин. Хэнк открывает ее, поднимаемся по лестнице, проходим через другую дверь и оказываемся в темной комнатке с двумя диванами и столиком, заваленным журналами и детскими книжками, а за раздвижными стеклянными дверьми находится приемная.
Хэнк проходит в приемную, я сажусь на диван и начинаю перебирать журналы. На другом диване сидит женщина с мальчиком, который рассматривает книжку про слоненка Бабара. Выбрав журнал, я откидываюсь на спинку дивана и начинаю читать, а сам замечаю, что женщина исподволь разглядывает меня. Потом подвигается ближе к ребенку, обнимает его, прижимает к себе и целует в лоб. Я понимаю, почему она делает это, и не осуждаю ее, гляжу в свой журнал, а сердце бьется все сильнее, и мне хочется верить, что этот мальчик вырастет не таким, как я.
Хэнк выходит из приемной.
Они примут тебя прямо сейчас.
Я откладываю журнал, встаю.
Хорошо.
Я трушу, и Хэнк это замечает.
Как ты, ничего?
Он кладет руку мне на плечо.
Ничего.
Он смотрит мне прямо в глаза.
Городишко, конечно, вшивый, но люди тут свое дело крепко знают. Все будет отлично, малыш.
Я отвожу глаза.
Медсестра вызывает меня по имени, Хэнк машет рукой, и я двигаюсь навстречу распахнутой двери, где поджидает меня медсестра. Перед тем как войти, оглядываюсь – женщина с мальчиком смотрят на меня. Перевожу взгляд на Хэнка, он кивает, я киваю в ответ и на долю секунды собираю свое мужество в кулак. По крайней мере, его хватает, чтобы переступить порог.
Переступаю порог, и медсестра провожает меня в чистую белую комнату, я сажусь в большое стоматологическое кресло в центре, медсестра выходит, а я остаюсь ждать. Через несколько секунд появляется врач. Ему за сорок, он высокий, с темными волосами, темными глазами и обветренным лицом. Если бы не белый халат и не бейдж, его можно было бы принять за лесоруба.
Вы Джеймс?
Он подвигает стул и садится рядом.
Да.
А я доктор Стивенс, приятно познакомиться.
Мы пожимаем руки.
Мне тоже.
Он надевает перчатки из тонкого латекса.
Мне немного рассказал о вас врач из реабилитационного центра.
Он вынимает из кармана маленький фонарик.
Но я должен осмотреть вас сам, чтобы оценить состояние.
Он наклоняется надо мной.
Можете открыть рот?
Я открываю, он зажигает фонарик и подносит к моему лицу.
Можно поднять вам верхнюю губу?
Я киваю, он кладет фонарик, приподымает мне губу и берет длинный тонкий металлический инструмент с острым концом.
Может быть больно.
Он касается концом инструмента обломков моих зубов, потом надавливает на раны в деснах. Боль резкая, острая, пронзающая все тело. Мне хочется закрыть рот, прекратить эту пытку, но я терплю. Закрываю глаза, сжимаю руки в кулаки, стискиваю их изо всех сил. Чувствую, как дрожат губы, во рту появляется вкус крови, когда врач касается моих зубов, они шатаются. Он заканчивает обследование и кладет инструмент на стол – слышен стук. Откидываюсь назад, открываю глаза.
Нужно еще сделать рентген, но даже на глаз ясно, что тут много работы.
Опять стискиваю кулаки. Крепко.
Два боковых зуба сломаны, но корни, похоже, живы.
Губы у меня дрожат.
Мы поставим коронки, и все будет в порядке.
Чувствую вкус крови.
А вот два передних зуба, увы, мертвые.
Провожу языком по верхней челюсти.
Мы залечим корневые каналы и сделаем мост.
Ощупываю обломки зубов. Острые короткие штырьки.
Это не самая приятная процедура, но без зубов еще хуже, так что другого выхода нет.
Я киваю.
Я назначу вам прием через несколько дней. Подождем, пока пройдет воспаление на губах, с ним приступать к работе нельзя.
Я киваю.
Приятно было познакомиться, Джеймс.
Мне тоже.
Он поднимается, пожимает мне руку и выходит. Входит другая медсестра, осматривает мой рот, набивает его ватными тампонами, делает рентген. Снимок готов, ватные тампоны пропитаны кровью, а во рту такое ощущение, будто все там натерли наждаком и отбили молотком. Медсестра говорит, что я свободен, встаю и выхожу в вестибюль. Хэнк сидит на диване, читает журнал про личную жизнь кинозвезд, я подхожу к нему, сажусь рядом, он откладывает журнал и смотрит на меня.
Как все прошло?
Прекрасно.
Они приведут тебя в порядок?
Обещают.
Пойду узнаю, когда приезжать в следующий раз.
Он встает, идет в приемную, разговаривает с администратором, возвращается, и мы выходим на улицу, садимся в фургон и отъезжаем от клиники. Хэнк продолжает разговаривать, но я говорю, что у меня рот сильно болит, и он оставляет меня в покое. Смотрю в окно.
Думаю о ней. Вспоминаю, как увидел ее в первый раз. Мне было восемнадцать, сидел как-то на школьном дворе под увядающим желто-оранжевым октябрьским деревом. В руках держал книгу, читал и вдруг почему-то оторвал взгляд от книги. Она шла через школьную лужайку с кипой бумаг. Оступилась, бумаги рассыпались. Она наклонилась, чтобы собрать их, озираясь исподтишка – не видит ли кто. Меня Она не заметила, а я смотрел, как она собирает бумажки. Она меня не видела, а я ее видел.
Фургон тормозит у входа в клинику, мы с Хэнком выходим, я подхожу к нему, благодарю за то, что отвез и поддержал. Он отвечает, что дружеское объятие мне не помешает, я смущенно смеюсь в ответ, он не обращает на это внимания, делает шаг навстречу, протягивает руки и обнимает меня. Удовольствие от простого человеческого прикосновения согревает меня, и впервые за долгое время мне становится действительно хорошо. Это пугает меня, я вырываюсь, говорю до свидания, еще раз благодарю и спешу к клинике. Администратор говорит, что обед уже начался, и я иду в столовую, становлюсь в очередь, беру тарелку супа, стакан воды, нахожу пустой стол, сижу один и стараюсь протолкнуть хоть немного еды через кровоточащие руины своего рта.
Привет, малыш.
Смотрю вверх. Напротив стоит мужчина лет пятидесяти. Среднего роста, среднего сложения. Густые каштановые волосы, лысеющие на макушке. Потрепанное лицо выглядит так, словно по нему несколько раз заехали кулаком. Яркая сине-желтая шелковая гавайка, очки в круглой серебристой оправе и огромный золотой «Ролекс». Он пристально смотрит на меня. Ставит свой поднос на стол. Вид у него злющий.
Не помнишь меня?
Нет.
Ты два проклятых дня называл меня Джином Хэкманом[1]. Теперь-то я знаю, что они напичкали тебя этим дерьмом для детокса, но заруби на носу, я не Джин Хэкман, никогда им не был и никогда не буду. А если еще хоть раз назовешь меня чертовым Джином Хэкманом, то огребешь по полной.
Я смеюсь.
Я сказал что-то смешное?
Я снова смеюсь. Он просто вылитый Джин Хэкман.
По-твоему, это смешно, мелкий ублюдок?
Я смотрю на него, улыбаюсь. Зубов у меня нет, и от этой мысли улыбаюсь еще шире.
Ты считаешь это смешным, ублюдок.
Я смотрю на него. Взгляд у него тяжелый, злобный, ожесточенный. Мне знаком такой взгляд, и я знаю, как вести себя в таких случаях. Хорошо знакомая территория.
Я встаю, убираю улыбку с лица. Смотрю на этого типа, в столовой становится тихо. Я говорю.
Я не знаю тебя. Не помню, чтобы раньше встречал тебя. Не помню, чтобы разговаривал с тобой. И уж точно не помню, чтобы называл тебя Джином Хэкманом. Но если называл, то да, по-моему, это смешно.
Почти все смотрят на нас, сердце начинает биться чаще, а тип буравит меня глазами, и взгляд у него тяжелый, злобный, ожесточенный. Я понимаю, что сейчас не в лучшей форме, но плевать. Привожу себя в состояние боевой готовности. Напружиниваюсь, сжимаю челюсти, запрокидываю голову, взгляд фокусирую, держу его под прицелом и не мигаю.
Если ты, старикашка, хочешь, чтобы я надрал тебе задницу, так и быть, уважу.
Он ошарашен. Не испуган, а именно ошарашен.
Я не свожу с него глаз.
Ты что сказал?
Фокусирую взгляд, держу его под прицелом и не мигаю.
Я сказал, если ты, старикашка, хочешь, чтобы я надрал тебе задницу, так и быть, уважу.
Как тебя зовут, малыш?
Джеймс.
А я Леонард.
Он улыбается.
Не знаю, то ли ты самый тупой говнюк из всех, кого я встречал, то ли самый храбрый, но я готов пропустить твои слова мимо ушей, если ответишь на один вопрос.
Что за вопрос, Леонард?
Ты псих, Джеймс?
Да, Леонард, я псих. Псих на всю голову.
Здорово, потому что я тоже псих. Мне нравятся психи, я стараюсь иметь дело только с психами. Почему бы нам не сесть, не пообедать вместе. Глядишь, мы позабудем о наших разногласиях и подружимся. Я не прочь обзавестись другом в этом месте.
Давай.
Мы садимся, едим, Леонард рассказывает, я слушаю. Леонард из Лас-Вегаса, в клинике неделю. Лечится от кокаиновой зависимости, планировал свой приезд сюда примерно за год. Последние двенадцать месяцев ничего не делал, только вкусно ел, сладко пил, играл в гольф и нюхал кокаин в обе ноздри. Он извел немало деликатесов и дорогих вин, не говоря про коку, но если так будет продолжаться, он отбросит копыта. Уж не знаю, чем он зарабатывает на свою красивую жизнь, ясно только, что бизнес этот нелегальный и процветает. Я вижу это в его глазах, слышу в его словах, угадываю в той легкости, с которой он упоминает о вещах, от которых большинство людей приходит в ужас. Мне спокойно с Леонардом. С ним спокойней, чем с кем-либо другим. Он запросто говорит о самом отвратительном. Он преступник, судя по всему, и мне спокойно с ним.
Мы заканчиваем обед, относим подносы, выходим из столовой и отправляемся в актовый зал. Женщины рассаживаются в одном конце зала, мужчины в другом, всего человек двести пятьдесят. Все кучкуются по отделениям, и мы с Леонардом присоединяемся к двадцати пациентам Сойера. Доктор на сцене заводит речь о том, что алкоголизм и наркозависимость – это болезнь. Меня начинает тошнить. Волны тошноты накатывают и пульсируют внутри. Начинаю мерзнуть. Закрываю глаза, открываю и снова закрываю. То быстро-быстро, то медленно. Начинаю дрожать, смотрю на стул перед собой – он подпрыгивает. Потом стул заговаривает со мной, я отвожу глаза в сторону и вижу вокруг синие и серебристые огоньки, они танцуют повсюду. Закрываю глаза, тогда огоньки танцуют в мозгу. Чувствую, как медленно проталкивается через сердце кровь, думаю, что сейчас потеряю сознание, поэтому вцепляюсь в щеку, щиплю ее. Чувствую боль, как раз боль-то мне и нужна, потому что делает кошмар реальным, не дает сойти с ума. Боль очень сильная, но она мне необходима, чтобы не сойти с ума. Доктор завершает свое выступление, пациенты аплодируют, я отпускаю щеку, перевожу дух, смотрю прямо перед собой. Леонард хлопает меня по плечу.
Ты как, в порядке?
Нет.
Помощь нужна?
Нет.
А судя по виду – нужна.
Кой-чего надо, но не помощь.
Пока доктор со сцены отвечает на вопросы, я встаю и выхожу из актового зала. Иду в отделение с одной мыслью – лечь в постель, и с надеждой, что тогда мне полегчает. Когда прохожу мимо кабинета Кена, он меня окликает, но я не обращаю внимания, ковыляю дальше. Он выходит в коридор и окликает меня еще раз.
Джеймс!
Я останавливаюсь.
Что?
Я прислоняюсь к стене.
Как ты себя чувствуешь?
Он подходит ко мне.
Паршиво, мне нужно полежать.
Он останавливается передо мной.
Потом полежишь. Сейчас у тебя по расписанию тестирование.
Какое тестирование?
Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Я утром предупреждал.
Я не хочу идти на тестирование.
Почему?
Потому что дерьмово себя чувствую и мне нужно лечь.
Ты еще долго будешь себя дерьмово чувствовать.
Может быть, но я не хочу идти на тестирование.
Это обязательно.
Тогда можно позже?
Нет, тест нужно пройти сейчас. Это поможет нам определить, как тебе помочь, а мы хотим начать тебе помогать как можно скорее.
Хорошо.
Мы идем мимо актового зала, через лабиринт покрытых коврами коридоров, входим в маленькую пустую комнату с белыми стенами, столом и двумя стульями. На один садится Кен, на другой я. На столе перед нами толстая брошюра, листы для ответов и ручка. Кен говорит.
Это очень простой тест. Против каждого утверждения нужно указать «правда» или «ложь», думать над ответом можно, сколько потребуется. Когда закончишь, принесешь ответы мне в кабинет. Если меня не будет, оставишь на столе. Штатный психолог проанализирует их, и через два дня мы обсудим результаты.
Хорошо.
Все понятно?
Да.
Кен выходит, я хватаю ручку, лист, открываю брошюру и начинаю читать. Страницы исписаны разными утверждениями, начинаю отвечать.
Я уравновешенный человек.
Ложь.
Я считаю, что мир настроен против меня.
Ложь.
Я считаю, что в моих проблемах виноваты другие.
Ложь.
Я никому не доверяю.
Ложь.
Я ненавижу себя.
Правда.
Самоубийство разумный выход из положения.
Правда.
Мои грехи не искупить.
Перечитываю.
Мои грехи не искупить.
Ничего не отвечаю.
Я отвечаю «правда» или «ложь» на пятьсот шестьдесят шесть из пятисот шестидесяти семи вопросов теста, закрываю брошюру, откладываю ручку и глубоко вздыхаю. Прошла уйма времени, я устал и хочу выпить. Водки, джина, рома, текилы, бурбона, скотча. Плевать, чего. Просто дайте мне выпить. Глоток хорошего крепкого спиртного. Я убеждаю себя, что хочу всего один глоток, но это неправда. Я знаю, черт подери, что одного глотка мне мало. Беру листы с ответами, встаю, выхожу из комнаты, иду в кабинет Кена, кладу ответы на его стол и возвращаюсь в отделение. С дневными обязанностями покончено, и пациенты рассредоточились небольшими группами по обоим ярусам. Они играют в карты, болтают чепуху, покуривают сигареты и попивают кофе. Телефон свободен, а я не говорил ни с родителями, ни с Братом, ни с друзьями, так что захожу в телефонную кабинку, она на нижнем ярусе, беру стул, сажусь, снимаю трубку и набираю номер за номером.
Я звоню подружке Эми. Подружке Люсинде. Подружке Кортни. Все они были ее подругами, но после нашего расставания перешли ко мне. Я люблю всех троих, но разговор с ними расстраивает меня. Я звоню, они берут трубку. Я говорю, что в плохом состоянии, что сейчас в больнице, что хочу поправиться. Говорю, не уверен, что получится. Они плачут, спрашивают, не нужно ли мне чего, я говорю нет. Спрашивают, что могут сделать для меня. Я говорю, что они и так много сделали для меня. Вешаю трубку.
Звоню Брату. Он спрашивает, как я, я отвечаю, что держусь. Он говорит, что переживает за меня, как я тут, и хочет приехать навестить. Я говорю, что не знаю, какой сегодня день, но посетителей пускают по воскресеньям, и я буду рад, если он приедет. Он говорит – будь молодцом, а я говорю, что стараюсь. Он говорит, что гордится мной, а я говорю спасибо. Я говорю, что мне нужно идти, а он говорит, чтобы я позвонил, если мне что-нибудь потребуется, и я благодарю его. Вешаю трубку. Звоню родителям в гостиницу в Чикаго, трубку берет Мама.
Алло.
Привет, мам.
Минутку, Джеймс.
Слышу, как она зовет отца. Отец берет трубку.
Привет, Джеймс.
Привет, пап.
Как ты?
Хорошо.
Как там?
Хорошо.
Что сделано?
Прошел детоксикацию, это была жуть, а вчера перевели в отделение, и тут хорошо.
Как тебе кажется, лечение помогает?
Не знаю.
Слышу, Мама глубоко вздыхает.
Мы можем чем-то помочь?
Слышу, Мама начинает плакать.
Нет.
Слышу, как она плачет.
Мне пора, пап.
Слышу, как она продолжает плакать.
Все будет хорошо, Джеймс. Главное, держись.
Слышу, как она плачет.
Мне пора.
Если что нужно, звони.
До свидания.
Мы тебя любим.
Я вешаю трубку, смотрю в пол, думаю о Матери и об Отце, представляю, как они сидят там у себя в гостинице в Чикаго, и ломаю голову, неужели они меня и правда до сих пор любят и что мне мешает любить их, и как получилось, что два нормальных разумных человека произвели на свет такого урода, как я, жили со мной и терпели меня. Смотрю в пол и не понимаю. Как они терпели меня.
Поднимаю глаза, все из отделения направляются на ужин, так что встаю и тоже иду по коридорам в столовую, занимаю очередь, беру суп, стакан воды, сажусь за пустой стол и ем. Суп вкусный, и, доев свою порцию, хочу еще. Организм алчет, жаждет, требует хоть чего-то, раз не может получить того, что обычно. Беру вторую тарелку, потом третью и четвертую. Съедаю все подчистую и хочу еще. Вечно одно и то же – мне нужно еще, еще, еще.
Заканчиваю есть, выхожу из столовой, иду в актовый зал, сажусь рядом с Леонардом и слушаю, как какая-то женщина рассказывает историю своей жизни. За последние десять лет она сменила семнадцать реабилитационных центров. Она рассталась с мужем, с детьми, потеряла все сбережения и провела два года в тюрьме. Она держится уже восемнадцать месяцев и говорит, что впервые за всю жизнь счастлива. Говорит, что посвятила свою жизнь Богу и Двенадцати принципам и что каждый новый день лучше предыдущего. Удачи тебе, леди. Гребаной тебе удачи.
Она завершает свой рассказ, все ей хлопают, а я встаю и выхожу из зала, иду к себе в палату. Хочется лечь, но не тут-то было, приходится играть в карты с Джоном, Ларри и Уорреном. У Ларри, которого дожидается в Техасе жена с новорожденными дочками-двойняшками, приступ тоски. Сегодня у него обнаружили ВИЧ, который он подцепил, надо полагать, закидываясь кристаллическим метом и трахая шлюх в течение десяти лет. Он хочет признаться жене, но боится звонить, поэтому сидит с нами, играет в карты и толкует о том, как любит своих детишек. Мне хочется утешить его, но я не знаю, что сказать, поэтому не говорю ничего, просто смеюсь, когда он пытается шутить, и называю его дочек красавицами, когда он показывает фотографию.
Наступает ночь, мы убираем карты и ложимся. Мой организм по-прежнему требует того, чего нельзя, поэтому я не могу заснуть, лежу на спине, пялюсь в потолок. Думаю о своей жизни, как до нее докатился и какого черта мне теперь делать, слушаю, как Ларри плачет и бьется в подушку, молит о прощении. Незаметно мои глаза слипаются, и незаметно я засыпаю.
Сижу один за столом. Темно, понятия не имею, где я и как тут очутился. Кругом бутылки спиртного, на столе передо мной – гора кокаина и огромный мешок с желтым крэком. Есть и спиртовка, и пайп, и тюбик с клеем, и открытая банка с бензином.
Я оглядываюсь кругом. Мрак, спиртное, наркотики. Всего в избытке. Я понимаю, что один и никто мне не помешает. Я понимаю, что могу делать все, что хочу и сколько хочу.
Тянусь за бутылкой, какой-то внутренний голос велит остановиться, говорит, что я поступаю неправильно, что хватит, что я убиваю себя. Все равно тянусь за бутылкой, подношу ее к губам, делаю большой глоток, который обжигает мне рот, глотку, желудок.
На какой-то миг становится хорошо. Боль, которую я ношу с собой, проходит. Чувствую покой, удовольствие, тепло, уверенность, безопасность, цельность. Мне хорошо. Черт подери, мне и правда хорошо, твою ж мать.
Но это состояние проходит так же быстро, как пришло, и мне хочется его вернуть. Ради этого я готов что угодно сделать, проглотить, мне плевать, к чему это приведет. Я согласен на все. Я просто хочу вернуть это состояние любой ценой.
Делаю еще глоток. Не помогает. Хватаю другую бутылку, делаю глоток побольше. Не помогает. Хватаю одну бутылку за другой, ничего не помогает. Становится не лучше, а все хуже и хуже. Так ужасно, что ни рассказать, ни описать. Единственный выход – убить. Убить эту муку. Убить.
Перехожу к наркотикам. Делаю глубокий вдох, зарываюсь лицом в гору кокаина, вдыхаю, ноздри горят огнем, а глотка раскаляется, как адская сковородка. Я вдыхаю, втягиваю поглубже, вдыхаю, втягиваю поглубже. Глубоко, быстро, из носа начинает течь кровь. Я вытираю ее, вдыхаю, втягиваю поглубже. Снова и снова. Я начал убивать, но до конца еще далеко.
Разрываю мешок с крэком, зачерпываю пригоршню желтых кристаллов. Снова вытираю кровь из носа, хватаю длинный пайп, запихиваю в него кристаллы. Запихнув, снова вытираю кровь, зажигаю спиртовку, подношу трубку к губам, прикладываю конец к языку белого пламени. Вдыхаю. Горячая смесь медовой мяты с напалмом прошибает тысячекрат сильнее, чем самый чистый порошок, тысячекрат опаснее. Я продолжаю, и приход набирает обороты, нарастает, усиливается и заполняет меня. Мне снова хорошо, великолепно, бесподобно, неописуемо, это лучше, чем все оргазмы, которые у меня когда-либо были и будут, вместе взятые. Боже мой, я кончаю. Боже мой, гребаный боже, я кончаю. Да будет так, да будет так, да будет так. Да будет, твою мать, так.
Как накатило, так и укатило. И знаю, что укатило навсегда, сменилось страхом, тоской, звериной яростью. И ни следа от пережитого блаженства. Хватаю кристаллы, пихаю в пайп, дышу. Хватаю, пихаю, дышу. Пламя белое, стекло розовое, кожа на пальцах покрывается волдырями, но мне плевать. Хватаю кристаллы, пихаю в пайп, дышу. И так пока мешок не опустеет. И тогда пихаю в пайп мешок и дышу полиэтиленом. Я чувствую звериную ярость, я должен ее убить. Убить свое сердце, свой разум, себя.
Еще есть клей и бензин, сгодятся оба. Беру клей, подношу тюбик к носу, провожу толстую полоску между ноздрями и губой. С каждым вдохом сильнее ощущаю трупное зловоние преисподней, с каждым вдохом сильнее хочется вдыхать еще. Сейчас убиваю себя быстрее, эффективнее, но все равно недостаточно быстро и эффективно. Я наклоняюсь, сую нос почти в самый бензин и смотрю в лицо химического самоистребления. Это лицо – мой друг, мой враг, мой единственный выход. Я выбираю его.
Вдох, выдох, быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Больше не чувствую ничего или же чувствую так сильно, что мой ум, мое тело не в состоянии эти чувства вместить. В этой зоне мне хорошо. Это то, чего я хочу, к чему стремлюсь, в чем нуждаюсь, здесь я провел последние несколько лет своей жизни.
Ощущаю холод, озноб, открываю глаза. В палате темно и тихо. Часы возле кровати Джона показывают шесть пятнадцать. Слышно, как Уоррен храпит. Сажусь, меня трясет, растираю тело. Руки покрылись гусиной кожей, волосы на затылке стоят дыбом, мне страшно. Я боюсь этого сна, этого утра, этого места, этих людей, боюсь жизни без наркотиков и алкоголя, боюсь себя, боюсь своих поступков, боюсь того, что готовит этот день, боюсь до усрачки, до полного отупения. Мне страшно, я один, еще совсем рано, все спят. Вылезаю из постели, иду в ванную, принимаю душ, вытираюсь, тут боль пронзает нутро, я падаю на колени, ползу к унитазу, блюю. Рвет сильней, чем обычно, и больнее. Рвота гуще, больше крови, больше сгустков. Каждый спазм выкручивает меня наизнанку, обжигает глотку, разрывает грудь, и мне кажется, что я задохнусь. В самом деле, такое чувство, будто я задыхаюсь, и мне этого даже хочется, потому что хотя бы все кончится. Я хочу, чтобы все кончилось.
Тошнота проходит, я сижу на полу, привалившись к унитазу. Чувства начинают оживать волнами, и слезы подступают к глазам. Все, что я помню, чем являюсь, что совершил, все вспыхивает у меня перед глазами. Мое прошлое, настоящее, будущее. Мои друзья, враги, друзья, ставшие врагами. Где я жил, что видел, что делал. Что испортил и разрушил.
Я начинаю плакать. Слезы катятся по лицу, тихие рыдания вырываются из груди. Не понимаю, что я тут делаю, не понимаю, почему я тут, не понимаю, как я до этого докатился. Пытаюсь найти ответы, но их нет как нет. Я затрахался искать ответы. Я вообще затрахался. Слезы текут сильнее, рыдания становятся громче, я сворачиваюсь на полу, как младенец, обнимаю себя. Обнимаю себя, вою, сейчас утро, я где-то в Миннесоте, не пил уже пять дней, не понимаю, что за херня творится со мной.
Слезы останавливаются, рыдания прекращаются, я сажусь и вытираю лицо. Слышны разговоры за дверью, я не хочу, чтобы меня застали в таком виде, поэтому встаю, делаю глубокий вдох, говорю себе, что все в порядке, и выхожу из ванной.
Захожу в палату. Уоррен с Джоном стоят возле кровати Ларри. Уоррен, заслышав, что я вхожу, смотрит на меня.
Ты не видел Ларри?
Нет.
И вещей его нет.
Я не видел его.
Наверное, он сбежал.
Не знаю, что вам сказать.
Мы хотим предупредить наставников. Если увидишь его, пошли к нам.
Хорошо.
Они уходят, а я иду к своей кровати, одеваюсь и думаю о Ларри. Он сбежал. Нет сомнений, что он сбежал, и нет сомнений, что он не вернется. Он там, снаружи, один, на холоде, стоит, может на обочине шоссе, со своими сумками и голосует, подняв палец. Думает о своей жене и чудесных дочках. Хочет увидеть их, обнять, поцеловать. Хочет сказать, что раскаивается, что исправился, что хочет быть мужем и отцом и сможет это. Умоляет их никогда не поступать, как он, потому что тогда они умрут. Может, не завтра, не через неделю, не через месяц и не через год, но рано или поздно умрут. Помоги тебе бог, Ларри, мысленно я с тобой. Пусть дома у тебя будет покой, пусть жена и дочери не болеют ВИЧ, пусть оставшиеся дни на этой земле ты будешь счастлив, как никогда. Помоги тебе Бог, Ларри. Помоги тебе Бог.
Одевшись, выхожу из палаты. Беру принадлежности для уборки, иду в общий сортир и, хоть он не такой уж грязный, опускаюсь на колени и начинаю намывать его.
Привет.
Оборачиваюсь. Рой стоит в дверях.
Ты вчера паршиво убрался.
Я откладываю губку.
Что?
Распрямляюсь.
Ты вчера паршиво убрался.
Рой делает шаг вперед.
А по-моему, хорошо.
Он делает еще шаг.
Паршиво. Сегодня уберись как следует, а то я расскажу про тебя.
Помещение маленькое.
Ты понял? Или ты убираешь эти туалеты на совесть, или я пожалуюсь.
Чувствую себя в западне.
Я уберусь хорошо. Обещаю.
Просто как крыса в клетке.
Ты уберешься не просто хорошо. Ты надраишь все до блеска, или я позабочусь, чтобы тебя отсюда вышвырнули.
Как крыса в клетке, которая хочет вырваться.
А НУ ВАЛИ ОТСЮДА НАФИГ
Он делает еще шаг вперед. Я чувствую его дыхание, брызги его слюны на своих щеках. Ярость закипает сильнее.
Я ПОЗАБОЧУСЬ, ЧТОБЫ ТЕБЯ ВЫШВЫРНУЛИ ОТСЮДА КВЕРХУ ЗАДНИЦЕЙ, МЕЛКИЙ ГОВНЮК!
Я протягиваю руку, хватаю Роя за глотку, сжимаю, швыряю об стену, он ударяется с глухим звуком и начинает вопить.
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
А теперь, ублюдок, что ты скажешь – чисто я вымыл туалеты или нет?
Мне хочется ударить его.
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
Мне хочется врезать ему прямо в мерзкую рожу.
А теперь, ублюдок, что ты скажешь – чисто я вымыл туалеты или нет?
Хочется оторвать ему ноги и запихнуть в глотку.
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
Хочется прикончить его на месте. Превратить в кровавое месиво из мяса и костей.
А ТЕПЕРЬ, УБЛЮДОК, ЧТО ТЫ СКАЖЕШЬ – ЧИСТО Я ВЫМЫЛ ТУАЛЕТЫ ИЛИ НЕТ?
Убить бы этого ублюдка.
ЧИСТО Я ВЫМЫЛ ИЛИ НЕТ?
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
Двое врываются в туалет, хватают меня и оттаскивают. Я отталкиваю их.
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ КО МНЕ, ЧЕРТ ПОДЕРИ
Появляются еще люди. Поднимают Роя на ноги, встают между нами, смотрят на меня, как на чудовище. Я смотрю сквозь них. Смотрю прямо на Роя.
Он напал на меня, он сумасшедший, уведите его от меня.
Кричит и плачет Рой. Слезы льются по его лицу, он дышит часто и тяжело. Его пытаются успокоить.
Я пришел, чтобы помочь ему убрать туалет, я только хотел помочь ему, а он набросился на меня. Я не сделал ему ничего плохого.
Все таращатся на меня. Как будто я чудовище.
Я поворачиваюсь, иду к себе в палату, в ней никого, начинаю шагать из угла в угол, меня трясет, пытаюсь взять себя в руки. Одна половина моего существа хочет вернуться в холл, сразиться с первым попавшимся, избить его или быть избитым, а другая половина хочет спрятаться. Все мое существо требует выпивки, и коки, и крэка, и клея с бензином, как в том сне.
Ярость растет. Я шагаю из угла в угол, меня трясет, пытаюсь взять себя в руки. Нужно успокоиться, но не знаю как. Все способы, к которым я привык, которые помогают мне выживать, без которых не могу обойтись, сейчас недоступны, вместо них доктора, медсестры и наставники, правила и распорядки, таблетки и лекции, кормежка по расписанию и обязательная работа по утрам, и ни хера из этого мне на хер не сдалось. Ни хера.
Перестаю шагать. Смотрю в пол. Сжимаю кулаки, сжимаю изо всех сил, каждая клетка тела напрягается, словно перед взрывом, а ярость вот-вот прорвется, и я не знаю, что делать, куда бежать, как остановить ее, а взрыв ближе, ближе, ближе. Взрыв. Я визжу. На глаза попадается кровать, хватаю ее, матрас летит на пол, а я размахиваю металлическим каркасом и все крушу, все, все, но мне этого мало, и я топчу каркас ногами, топчу, топчу, топчу, болты и шурупы разлетаются в разные стороны, железки скрипят и гнутся, я издаю вопль, становится легче, но это только начало. Бросаюсь к тумбочке, выдергиваю ящики, швыряю их, они отлетают на другой конец палаты, и теперь это просто груда дощечек. А корпус тумбочки все еще тут, хватаю его и швыряю как можно дальше, вот и он превратился в груду дощечек.
Кто-то появляется в дверях, что-то кричит, но я не слышу. Я вырвался туда, где ничего не слышишь, не видишь, не чувствуешь, не мыслишь. Я стал глухим, немым, слепым, бесчувственным, бессмысленным, неуправляемым.
Вот еще комод. А вот обломки комода. Еще одна кровать, и ее хватаю и ломаю. Еще один вопль, а потом налетают мужчины в белом, чьи-то руки держат меня, я кричу.
Игла.
Я в другой палате. Это простая белая комната без мебели, есть только кровать. Не знаю, как я здесь оказался и сколько времени провел и какой теперь день и час. Ясно только, что я по-прежнему в клинике. Ясно потому, что слышны вопли. Вопли наркоманов, лишенных наркотиков. Вопли мертвецов, лишенных смерти. Я лежу на спине и смотрю в потолок. Меня уже дважды вырвало сегодня, но не так сильно. Без крови, желчи и ошметков, только водой и кислотой. Меня это радует. Единственное, что меня радует в моем положении.
Жду, что сейчас войдут и скажут, чтобы я убирался из клиники. Пытаюсь сообразить, как быть дальше. Жить негде, идти некуда. Денег опять же нет. Ни имущества, ни работы. И никакой надежды обзавестись деньгами, имуществом, работой. У меня нет ни уверенности в себе, ни самооценки, ни чувства собственного достоинства. От чувства самосохранения ничего не осталось давным-давно. Я не стану обращаться к Родителям, к Брату или к немногим оставшимся друзьям. Они поставят на мне крест, как только меня вышвырнут отсюда. Я и сам поставлю на себе крест, как только меня вышвырнут отсюда.
Стук в дверь, не обращаю внимания. Снова стук, снова не обращаю. Не хочу никого видеть, разговаривать, вообще знать никого не хочу. Нужно решить, как жить дальше.
Дверь открывается, входит Кен, с ним мужчина и женщина, которые мне не знакомы, сажусь на кровати. Мужчина выше Кена и плотней, мускулистей, короткие черные волосы топорщатся. На нем массивные черные ботинки, выцветшие черные джинсы и черная футболка с принтом – под мотоциклом Харли подпись «Только вперед, только трезвый». Руки у него покрыты татуировками, на косточках пальцев – шрамы. Женщина маленького роста, полная, длинные седые волосы собраны в конский хвост, напоминает Мону Лизу. На ней грубая мешковатая одежда, шерстяные носки, походные ботинки, на пальцах серебряные кольца, на шее – кулон с бирюзой. Ни татуировок, ни шрамов не видно. Кен заговаривает.
Привет, Джеймс.
Привет.
Не против, если мы присядем?
Как хотите.
Кен садится на край кровати, женщина – на пол, скрестив ноги, а мужчина остается стоять.
Кен говорит.
Это Линкольн.
Он указывает на мужчину. Мужчина внимательно смотрит на меня.
Начальник отделения «Сойер».
Я тоже смотрю на него.
А это Джоанна.
Линкольн все смотрит на меня.
Наш штатный психолог.
Я смотрю на нее.
Мы хотели поговорить о вчерашнем происшествии.
Линкольн смотрит на меня, я на него.
Потом он открывает рот.
Линкольн говорит. Голос у него низкий, грубый, как скрежет ржавого железа.
Мы хотим послушать тебя. Узнать твою точку зрения.
Хотите вышвырнуть меня?
Кен смотрит на Линкольна, Линкольн на Джоанну. Джоанна говорит.
Пока мы хотим просто поговорить.
С чего начинать?
Линкольн отвечает.
А с чего все началось?
Мне приснился сон, ужасный сон, который меня совсем доконал. Думаю, с него все началось.
Кен говорит.
Какой сон?
Я сижу в комнате один, не знаю, где я, как там оказался, и я напился, накурился, надышался. Все было, как на самом деле, и я проснулся от страха.
Джоанна говорит.
Это сон употребления.
Что такое сон употребления?
Когда алкоголик или наркоман перестает употреблять, его подсознание требует дозы. Эта потребность иногда проявляется в снах, которые кажутся совершенно реальными, и в каком-то смысле они реальны. Хотя ты ничего не употреблял, какая-то часть твоего мозга получила свое. Вполне вероятно, такие сны будут тебе сниться еще в течение года.
Забавно.
Линкольн говорит.
Так что же было дальше?
Он смотрит на меня.
Я пошел в ванную, меня стошнило, стало хуже. Я решился посмотреть на себя в зеркало, и мне опять стало тошно – уже по другой причине. В общем, я чувствовал себя погано. Потом я пошел мыть туалеты.
Он все смотрит на меня.
А потом ты напал на Роя.
Я тоже смотрю на него.
Рой доставал меня. Я хотел отвязаться от него.
Кен говорит.
Почему он доставал тебя?
Понятия не имею.
Он правда доставал тебя?
Он цепляется ко мне все время, пока я здесь. Почему – понятия не имею.
Что он делает?
Говорит, что я все время нарушаю правила, что я все делаю плохо, что он добьется, чтобы меня вышвырнули отсюда.
Говорит Линкольн.
А тебе это не нравится, верно?
Я ничего такого не делаю. Он не имеет права поливать меня дерьмом.
А у тебя есть право нападать на него?
Он первый прицепился ко мне.
А что, если бы я прицепился к тебе?
Я бы послал вас.
Линкольн смотрит на меня.
Говорит Кен.
Рой сказал нам, что пришел помочь тебе, а ты без всякой причины набросился на него.
Рой врет, ублюдок.
Говорит Линкольн.
Выбирай выражения.
Пошел ты на…
Что ты сказал?
Я сказал – пошел ты на…
ВЫБИРАЙ ВЫРАЖЕНИЯ.
ПОШЕЛ ТЫ…
Говорит Кен.
Успокойся, Джеймс.
Ты, Кен, тоже пошел.
Джоанна говорит, глядя на Кена и Линкольна.
Пожалуйста, оставьте нас ненадолго вдвоем.
Линкольн говорит.
Мы еще не закончили.
Джоанна говорит.
Думаю, будет лучше, если вы оставите нас ненадолго вдвоем. А потом продолжим разговор все вместе.
Линкольн поворачивается, молча выходит из комнаты. Кен смотрит на меня и говорит.
Если захочешь что-то сказать, я у себя в кабинете.
Он выходит за Линкольном, закрыв дверь, и мы остаемся вдвоем с Джоанной. Она прислоняется спиной к стене, делает глубокий вдох, потом выдох, я сижу на кровати, смотрю на нее, а она сидит на полу и дышит, и мне надоедает молчание и звук ее дыхания. Мне хочется остаться одному и обдумать, как быть дальше. Я говорю.
Что вам надо?
Она открывает глаза.
Просто решила посидеть с тобой несколько минут. Вдруг ты захочешь что-нибудь рассказать.
Мне нечего рассказывать.
Хорошо.
Она встает.
У тебя есть какие-нибудь просьбы?
Да.
Какие?
Я не хочу больше принимать транквилизатор.
Почему?
От него мысли путаются и все как в дурном мерзком сне. Лучше ничего не принимать, чем это дерьмо.
Я скажу медсестре, чтобы отменила его.
Спасибо.
Это все?
Что у меня на сегодня назначено?
Все как в обычный день. Минут через десять завтрак, потом лекция. В десять тридцать – прием у стоматолога, в десять часов нужно подойти к машине. Делай все как обычно, а если захочешь что-нибудь обсудить, я в кабинете три-двенадцать.
Спасибо.
Она направляется к выходу.
Мы скоро увидимся?
Возможно.
Она выходит, я остаюсь один, мне не по себе от того, что я в клинике. Одна часть меня испытывает облегчение, другая часть – досаду, еще какая-то часть – растерянность, и, короче, я понятия не имею, как дальше быть. Уйти или остаться. Уйти или остаться. Уйти – значит опять впасть в наркозависимость, а дальше – тюрьма или смерть. Остаться – значит избавиться от зависимости, а дальше – неизвестность. Не знаю, что пугает меня больше. Встаю, открываю дверь, обнаруживаю, что нахожусь в терапевтическом отделении. Занимаю очередь за таблетками, начинается обычный день, повторяю про себя номер кабинета Джоанны. Три-двенадцать.
Беру свои антибиотики, они проскакивают легче, чем раньше, иду по чистым ярким коридорам в столовую. При входе в стеклянный коридор понимаю, что опоздал, все поднимают головы, смотрят на меня, я не обращаю внимания, беру тарелку серой овсяной размазни, сажусь. Я знаю, что все по-прежнему смотрят на меня, но не обращаю внимания. Леонард направляется ко мне, с ним еще двое. Один – толстый коротышка в черной бандане. Сзади из-под нее свисают черные космы. В джинсах, черной футболке, через всю щеку шрам. Другой – высокий, худой, в обтягивающих черных джинсах, черной рубашке, застегнутой на все пуговицы, и черных ковбойских сапогах. Лицо у него костлявое, вытянутое, на руках проступают вены. Вид у обоих спутников Леонарда агрессивный и злобный. Куда более устрашающий, чем у среднестатистического пациента клиники. Леонард ставит свой поднос на мой стол.
Привет, малыш.
Привет.
Это Эд.
Указывает на коротышку.
Это Тед.
Указывает на длинного.
Длинный кивает. Я тоже.
Не против, если мы присядем к тебе?
Как вам угодно.
Леонард садится.
Спасибо.
Эд и Тед следуют его примеру. Леонард говорит.
Слышал, ты вчера надрал задницу Рою.
Я смотрю в тарелку с кашей. Не отвечаю.
Терпеть не могу этого задрота, так что не бойся, дальше меня ничего не пойдет.
Я смотрю на Леонарда. Не отвечаю.
Тед говорит. У него сильный южный акцент.
Видел бы ты его вчера. Совсем офоршмачился. Плакал, кричал, визжал, полное дерьмо. Так струхнул, что обоссался.
Я смотрю на Теда. Не отвечаю.
Говорит Эд. У него низкий, хриплый голос. Голос работяги, синего воротничка.
А чего ты сделал-то с ним?
Я смотрю на Эда.
Мне не хочется разговаривать ни с кем, ни о чем.
Смотрю на шрам. Он глубокий, страшный.
Мне просто интересно, чего ты с ним сделал.
Я просто спросил – как ему кажется, чисто ли я вымыл туалет, и немножко поучил.
Леонард говорит.
И только?
Да, и только.
Я встаю, забираю свой поднос, перехожу к пустому столу, сажусь и ем кашу. Она серая, вязкая и противная, но сладкая, и поэтому мне нравится. Язык впитывает эту сладость – первый вкус, который я различаю после падения с пожарной лестницы, не считая вкуса виски, вина, курева и блевотины. Мне нравится сладость, ее вкус означает, что какие-то чувства восстанавливаются. Со временем восстановятся все, если останусь здесь. Я смогу воспринимать вкус, запах, ощущать все, что нормальные люди ощущают каждый день. Если останусь здесь.
Кладу последнюю ложку каши в рот и, пока глотаю, чувствую, что желудок пытается выпихнуть ее обратно. Сжимаю челюсти, задерживаю дыхание, напрягаю мышцы живота, чтобы остановить рвоту. Но срабатывает рвотный рефлекс, болезненные позывы следуют друг за другом, начинаю давиться. Чувствую комок каши в горле, она уже совсем не сладкая на вкус, я делаю вдох, глотаю, каша опускается по пищеводу. Но, едва опустившись, снова поднимается к горлу. Процесс повторяется. Сжимаю челюсти, напрягаюсь, вдыхаю, глотаю. Сжимаю челюсти, напрягаюсь, вдыхаю, глотаю. Мой организм всячески сопротивляется тому, что полезно. Я сопротивляюсь тому, что полезно.
Наконец, кашу удается утрясти, она распирает меня, я глубоко вздыхаю и откидываюсь на спинку стула. Живот набит так, что аж печет. Мой желудок не привык принимать столько пищи, да еще по расписанию. Такое впечатление, что он растянулся и забирает всю мою энергию. Простое переваривание тарелки каши забирает у меня всю энергию. Я проснулся всего час назад.
Пациенты выходят из столовой и направляются в актовый зал. Встаю и я, отношу поднос, иду за всеми по стеклянному коридору, через лабиринт коридоров, мимо рядов окон, открытых дверей и улыбающихся лиц персонала. Я ни на кого не смотрю, никого не узнаю. Я в своих мыслях, а в своих мыслях я одинок. Пытаюсь решить, как мне быть дальше.
Нахожу свободное место среди пациентов своего отделения и сажусь. Рядом ни справа, ни слева никого, и как раз это меня устраивает. Похоже, остальных это тоже устраивает. Все поглядывают на меня, но, когда я смотрю в ответ, отворачиваются. Отворачиваются быстро, а я смотрю на них долго, пристально, чтобы они почувствовали, что я смотрю на них, и поняли, что я хочу сообщить им этим взглядом, и больше на меня не смотрели. Они и не смотрят больше. Рой сидит впереди через два ряда, что-то шепчет чуваку, которого я не знаю, и тот зыркает на меня исподтишка краем глаза. Я смотрю на него. Его шепот становится возбужденнее, сопровождается сердитыми жестами. Мужик искоса смотрит на меня. Рой заканчивает фразу, и они смеются. У меня нет настроения смеяться.
Привет, Рой.
Рой замолкает, смотрит на меня.
Что-то не так?
Все наше отделение смотрит на меня.
Нет, ничего.
Если что не так, скажи мне в лицо.
Мне нечего сказать.
Тогда почему бы тебе с этим жирным поганцем не заткнуться на хер?
Рой ловит воздух ртом, мужик в растерянности. Слышу чей-то смех. Я не свожу глаз с Роя, пока они с мужиком не отворачиваются. Они смирно смотрят прямо перед собой и больше не перешептываются.
На сцену выходит женщина, начинает лекцию. Она заводит речь про секс и наркозависимость, про то, что у алкоголиков и наркоманов часто существует связь между предпочитаемым наркотиком и предпочитаемым видом секса. Она говорит, что эти предпочтения могут принять опасные и извращенные формы и завести крайне далеко. В прямом и переносном смысле. Так далеко, что оттуда нельзя найти выхода и невозможно вернуться.
Лекция заканчивается, а я сижу, жду, смотрю, как все выходят, потом встаю и тоже выхожу, а каша по-прежнему камнем лежит в желудке, да и транквилизатор, выпитый за последние дни, еще остаточно действует. Я чувствую себя тяжелым, неповоротливым, но исподволь зарождается новое ощущение – оно подталкивает, требует, теребит, расшатывает, вызывает тревогу, доводит до бешенства и отчаяния. Пока ощущение тяжести перевешивает тревогу, но это пока.
Я иду в терапевтическое отделение, разыскиваю медсестру, говорю ей, что мне нужно к стоматологу, она справляется в книге внешних назначений, делает пометку и посылает в приемную дожидаться. В приемной есть окна, и я могу смотреть на улицу. Хотя уже позднее утро, все еще темно. Гремит гром, идет дождь со снегом. Ветер взметает все, что ни попадется по дороге. У деревьев такой вид, словно они хотят в укрытие. Омерзительная погода, и дальше будет еще хуже.
В приемную входит Хэнк. Он упакован в толстую, теплую, непромокаемую куртку. Ботинки на меху.
Привет, малыш.
Привет, Хэнк.
Мы пожимаем руки.
Как дела?
Получше.
Я встаю.
Бьюсь об заклад, что не особо.
Я улыбаюсь.
Да, не особо.
Готов?
Да.
Идем.
Мы выходим из приемной через короткий коридор на улицу. Фургон стоит в двухстах футах от входа, я пускаюсь бегом. Дождь со снегом и ветром впивается в кожу, холод пробирает до костей.
Открываю переднюю дверь, запрыгиваю в фургон, внутри тепло. На спинке моего сиденья висит старая, потрепанная непогодой куртка вроде той, что на Хэнке. Беру, натягиваю ее, устраиваюсь поудобнее, обхватываю себя руками. Через несколько секунд появляется Хэнк, который мог и не бежать, открывает свою дверь и садится.
Ты нашел куртку.
Сложно было не найти.
Я носил ее, когда плавал на своем судне.
Да, можно догадаться по ее виду.
Это хорошая куртка.
Сейчас самое то, что надо.
Я слыхал, что у тебя нет ничего из вещей, вот и решил, что она тебе пригодится.
Спасибо, Хэнк, я тебе очень благодарен.
Не стоит.
Я правда очень благодарен. Спасибо тебе.
Не за что.
Хэнк заводит мотор, мы срываемся с места, едем в городишко. Хэнк сосредоточенно следит за дорогой, а я смотрю по сторонам и размышляю. Несколько дней назад природа начала замедлять движение соков, готовилась к зиме и смерти. И вот она замедлила соки, приготовилась и умерла. На деревьях ни листочка, на земле ни травинки, не видно ни птиц, ни насекомых, ни зверья. Громыхает все громче, ближе, снежный дождь становится сильнее и гуще, и ветер норовит опрокинуть фургон в канаву. Хэнк не отрывает глаз от дороги. Я смотрю в окно и размышляю. Я помню подробно весь тот месяц, когда начал наблюдать за ней. Она из Коннектикута, ее отец был крупным инвестиционным банкиром в Нью-Йорке, а мать играла в теннис и бридж и была президентом местной молодежной лиги. Она ходила в престижную женскую школу в Массачусетсе. У нее были старшие брат и сестра. Друга никогда не было.
Я познакомился с ней, когда мой приятель попросил продать ему немного дури. Сам он не курил, поэтому я спросил, для кого, он ответил – для девчонки по имени Люсинда, которая живет в моей общаге, я сказал, что должен сначала познакомиться с ней, он назвал мне номер комнаты, и я нашел ее, постучался, дверь открылась, за ней стояла она. Высокая, тонкая, с толстыми косами цвета льна, глаза – осколки арктической льдины. Я не был знаком с Люсиндой, не знал, что у нее есть соседка, и рта открыть не мог, а она стояла на пороге. Она стояла на пороге.
Привет.
Я все смотрел на нее.
Могу тебе чем-нибудь помочь?
Я попытался открыть рот, но он не слушался, а сердце колотилось, руки дрожали, голова кружилась, я испугался, разволновался и чувствовал себя полным ничтожеством. Она стояла передо мной. Прямо передо мной. Высокая, тонкая, с длинными светлыми волосами, как нити шелка, глаза – осколки арктической льдины.
Я развернулся и вышел, так и не проронив ни слова. Не оглядываясь, пошел к себе в комнату, достал бутылку хорошего спиртного и основательно набухался. Сердце все так же колотилось, руки дрожали, впервые в жизни не от алкоголя и наркотиков, и впервые в жизни алкоголь и наркотики не помогли успокоиться.
Въезжаем в город, на улицах пустынно. На стоянках нет автомобилей, в магазинах – покупателей, молодые мамы не гуляют с детьми, старики не сидят на скамейках, потягивая кофе и обмениваясь вековой мудростью. Магазины открыты, но простаивают зря. Только ветер, да гром, да дождь со снегом не теряют времени зря. Наяривают все сильнее.
Паркуемся на том же месте перед тем же домом, Хэнк нагибается, открывает ящик для перчаток, вынимает два старых желтых теннисных мячика. Протягивает мне.
Думаю, они тебе пригодятся.
Зачем?
Я мало в чем разбираюсь, разве что рыбу ловить умею да машину водить, но сдается мне, что тебе сегодня придется несладко.
Возможно.
Обезболивающее или анестетики тебе запрещены, пока ты в реабилитационном центре. Я открыл эту штуку для себя. Когда станет больно, сожми их покрепче.
Я беру мячики, сжимаю.
Спасибо.
Не за что.
Он выходит из фургона, я за ним, мы захлопываем двери и идем к дому, поднимаемся по лестнице в кабинет стоматолога. Дверь открыта, и мы входим внутрь, я сажусь на диван в вестибюле, а Хэнк идет в приемную, разговаривает с администратором. Прямо передо мной лежит книжка про слоненка Бабара. Беру, начинаю читать. Помню, как читал ее ребенком, упивался и воображал, что мы с Бабаром друзья, что я его постоянный спутник во всех приключениях. Он летит на луну, я с ним. Он сражается с разбойниками в Египте, я с ним. Он спасает свою подружку от охотников за слоновой костью в саванне, я руковожу операцией. Я любил этого треклятого слоненка, и мне нравилось дружить с ним. В моем несчастливом, безрадостном детстве Бабар – одно из немногих светлых воспоминаний. Мы с Бабаром вдвоем, мы всегда одолеем любых подонков. Хэнк возвращается, садится рядом.
Они готовы принять тебя.
Хорошо.
А ты готов?
Сжимаю теннисные мячики.
Да.
Интересно будет посмотреть на тебя с зубами.
Интересно будет жить с зубами.
Встаю.
Я скоро вернусь, Хэнк. Спасибо тебе за все.
Брось ты.
Иду к двери, возле которой ждет медсестра. Когда прохожу мимо, она вжимается в стену, чтобы не коснуться меня, это возвращает меня из сладостных воспоминаний про слоненка к действительности, напоминает, кто я такой. Я алкоголик, наркоман, преступник. У меня нет четырех передних зубов. У меня дырка в щеке, заштопанная сорок одним стежком. У меня сломан нос, черные синяки под глазами. Со мной сопровождающий, потому что я пациент реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов. На мне чужая одежда, потому что нет своей. Я сжимаю в руках два потертых желтых теннисных мяча, потому что мне запрещены анестетики и болеутоляющие. Я алкоголик. Я наркоман. Я преступник. Вот кто я такой, и нечего обижаться на медсестру, что она боится коснуться меня. На ее месте я бы тоже боялся. Она отводит меня в маленький кабинет. Как две капли воды похожий на кабинеты, в которых я бываю в последнее время, только еще чище и белее. Вдоль стен шкафы из нержавеющей стали, подносы с острыми блестящими инструментами, с потолка свисает большая галогеновая лампа. В центре – хирургическое кресло. Металлическое, с зелеными подушками, длинными зловещими подлокотниками, разными кнопками, рычажками и прочими приспособлениями. Похоже на средневековое пыточное устройство. Я знаю, что оно дожидается меня. Прохожу мимо медсестры, сажусь и пытаюсь устроиться поудобнее, но напрасно. Пыточные устройства не предназначены для удобства.
Доктор Стивенс скоро будет.
Хорошо.
Принести вам что-нибудь пока?
Книжку про Бабара.
Простите?
Если можно, книжку про слоненка Бабара. Лежит у вас в вестибюле.
Одну минутку.
Спасибо.
Она выходит, я остаюсь один, озираюсь вокруг, и меня охватывает ужас. Остатки транквилизатора почти выветрились, пища в желудке достигла стадии, когда ее невозможно удерживать в себе, все процессы ускоряются. В сердце, в голове, в крови. Руки дрожат, но это не крупная дрожь абстиненции. Это быстрая, мелкая дрожь, это дрожь страха. Страха перед этой комнатой, перед этим креслом, перед этими шкафами, перед этими инструментами, перед тем, что мне предстоит, перед болью, такой сильной, что нужно сжимать теннисные мячики, чтобы ее вытерпеть.
Медсестра возвращается с книжкой про Бабара, подает ее мне и уходит. Я кладу теннисные мячики на колени, открываю книжку и пытаюсь читать. Переворачиваю страницы, вижу слова, вижу картинки, но понять слова и картинки не могу. Все пустилось вскачь. Сердце, давление, мысли. Ни на чем не могу сосредоточиться. Даже на Бабаре.
Закрываю книгу, прижимаю ее к груди и жду. Все дрожит. Руки, ноги, каждый мускул в ноге, грудь, подбородок, оставшиеся зубы. Беру мячики, сжимаю их, стараюсь победить дрожь с помощью мячиков, и мячи тоже начинают дрожать. Все дрожит.
Дверь открывается, входит доктор Стивенс, стоматолог-лесоруб, а с ним еще один доктор и две медсестры. Доктор Стивенс придвигает табурет из нержавеющей стали и садится возле моего кресла. Другой стоматолог и медсестры выбирают инструменты, выдвигают ящики, открывают дверцы шкафов, закрывают дверцы. Эти звуки режут слух, я не понимаю, что они делают, но точно знаю, что скоро результат их приготовлений прочувствую своим ртом.
Привет, Джеймс.
Привет.
Прости, что заставил ждать. Мы обсуждали план действий на сегодня.
Нет проблем.
Второй стоматолог наклоняется и шепчет что-то доктору Стивенсу на ухо. Доктор Стивенс кивает. Скоро результат их переговоров я прочувствую своим ртом.
Начнем с того, что поставим коронки на два боковых зуба. Мы еще раз изучили рентгеновский снимок, корни не повреждены, опора надежная. Если сделать коронки, будут прекрасно стоять.
Хорошо.
После этого нужно залечить каналы в двух передних зубах. Корни расшатались, если мы не залечим их, они почернеют и умрут. А после этого выпадут. Думаю, ты этого не хочешь.
Не хочу.
Прости меня за прямоту.
Я благодарен вам за прямоту.
Я хочу, чтобы ты хорошо представлял, что мы будем делать и почему.
Я уже достаточно представляю.
Еще один момент.
Какой?
Будет очень больно. Поскольку ты лечишься в реабилитационном центре от наркомании, мы не можем применять наркоз, ни общий, ни местный, а когда закончим, не сможем дать обезболивающие таблетки.
Я слегка сжимаю мячики.
Знаю.
Как думаешь, ты выдержишь?
Бывало и хуже.
Правда?
Бывало.
Доктор Стивенс смотрит на меня, как будто мои слова находятся за гранью его понимания. Я сознаю, что мне предстоит ужасная пытка и вряд ли со мной случалось что-нибудь похуже, но чтобы выдержать, нужно верить. Я смотрю на доктора Стивенса.
Поехали, док. Приступайте.
Он встает, вполголоса переговаривается с другим врачом и медсестрами, помогает им подготовить хозяйство, разложить все эти инструменты, которыми будет орудовать у меня во рту. Я сижу, жду, тело мое замирает, ум замирает, я перестаю дрожать, стискивать мячики, успокаиваюсь. Я принял неизбежное, проникся мыслью о его необходимости, смирился с болью. Наступает безразличие, безразличие, которое осужденный испытывает перед казнью.
Доктор Стивенс подходит, нависает надо мной.
Я уложу тебя.
Хорошо.
Он наклоняется, нажимает на рукоятку и медленно, осторожно откидывает спинку кресла.
Галогеновая лампа оказывается ровнехонько над головой, ее свет слепит, и я зажмуриваюсь. В руках мячики, на груди книжка про слона Бабара, как раз напротив сердца.
Ты не возражаешь, если я уберу книгу?
Лучше не надо.
Хорошо. Пусть лежит.
Слышу шум шагов, звяканье контейнеров, кто-то приподымает мне голову, перекидывает за шею шнурок от нагрудника, пристегивает его клипсами, прикрывает нагрудником книгу. Кресло еще откидывается назад и опускается еще ниже, и под затылок мне подкладывают маленькую твердую подушку.
Женский голос. Больничная интонация.
Пожалуйста, откройте рот.
Открываю.
Если будет больно, скажите.
Хорошо.
Не двигайтесь.
Не двигаюсь, пока кто-то оттягивает мне нижнюю губу и запихивает между ней и десной вату. Швы расходятся, сочится кровь. То же самое проделывают с верхней губой, за щеки тоже запихивают вату, чувство такое, будто рот полон какого-то шершавого тряпья, во рту вмиг пересыхает. Брызгают из инжектора, не помогает. Во рту все равно сушь, и будет сушь, сколько бы воды ни впрыснули.
Вжимаюсь в спинку кресла, зажмуриваю глаза, шире открываю рот, кто-то подает мне теннисные мячики, прыскает в рот, слышу чей-то негромкий голос и пробное жужжание бормашины. Ее то включают, то выключают.
Проверь сандер.
Включают, выключают.
Проверь второй бор.
Включают, выключают.
Чувствую, что люди окружают меня. Чья-то рука берет мою челюсть, осторожно оттягивает нижнюю губу, обнажает десну. Из инжектора брызгают на остатки моих зубов.
Начинаем, Джеймс.
Продолжают брызгать в рот, включают бормашину, чем ближе ко рту, тем громче звук, внутри рта звук становится высоким, пронзительным, режет уши, я сжимаю мячи сильнее, бор набрасывается на обломок нижнего зуба. Насадка подрагивает, и боль, как белая молния, пронзает меня, он касается моего зуба, и боль разливается по всему телу с головы до ног, и каждый мускул извивается, я сжимаю мячи сильнее, из глаз льются слезы, волосы на ногах встают дыбом, боль такая, словно поганый зуб проткнули копьем, на хер. Проткнули копьем, на хер.
Насадка шлифует контуры обломка, я весь как пружина, боль бьет током, на языке вкус собственной кости, инжектор то брызгает водой, то отсасывает крошки кости, что-то попадает в горло, что-то под язык. И так без конца – насадка шлифует, инжектор брызгает воду, отсасывает крошки, боль бьет током, я весь как пружина. Сижу, сжимаю теннисные мячи, а сердце бьется ровно и сильно, словно решило под этой пыткой доказать свою благонадежность. Бормашину выключают, я расслабляюсь и делаю глубокий вдох. Рядом негромко переговариваются, перекладывают инструменты.
Я думаю, у тебя тут дупло, Джеймс. Нужно проверить.
Вата во рту умялась, так что я могу говорить довольно внятно.
Так проверяйте.
Будет больно.
Давайте уже.
Я был готов ко всему, но только не к этому. Тонкий острый инструмент тычется в зашлифованный зуб, находит крошечную дырочку и проникает в нее. Электрический разряд в триллион вольт подбрасывает меня, как будто в тело ударила молния, раскаленная добела молния. Или копье в двадцать раз длинней прежнего и еще раскаленное добела. Такой боли я ни разу в жизни не испытывал, такой боли я даже представить себе не мог. Боль заполняет каждый мускул, каждый нерв, каждую клетку тела, они визжат от боли. Я мычу от боли, инструмент вынимают, но боль остается.
Определенно, это дупло. Нужно его запломбировать, а то будет плохо.
Каждый мускул, каждый нерв, каждая клетка визжит.
Джеймс?
Каждый мускул, каждая клетка горит огнем.
Джеймс?
Такой боли я не мог себе представить.
Джеймс?
Я делаю глубокий вдох.
Делайте, что надо. Давайте уже.
Рядом негромко переговариваются, открывают и закрывают шкафы, заменяют инструменты. Включают бормашину. Сижу, жду.
Сверло приближается, вгрызается в зуб, я сжимаю мячи так, что вот-вот пальцы хрустнут к чертям, и начинаю выть. Вою на одной ноте, этот звук затыкает мне уши, и я не должен бы слышать бормашины, но все равно слышу, я концентрируюсь на своем вое, чтобы отвлечься от боли, но не могу. Острая пика. Пика, пика, пика, пика. Бор просверлил дырку вглубь и теперь обтачивает края, чтобы расширить ее. Крошки кости смешиваются с водой, попадают в горло, забиваются под язык. Пика, пика, пика. Дырка становится все больше и больше. Пика пика пика. Сверло это чертово никак не уберется из моего рта. Пика.
Бормашину выключают, боль остается. Продолжаю выть, сжимаю мячи. Доктор Стивенс велит второму врачу и медсестрам действовать быстрее, и они стараются. Заталкивают в дырку какую-то шпаклевку, подравнивают, снова заталкивают и подравнивают. Шпаклевка запечатывает боль в глубине раны, острота боли притупляется, остаются только приглушенные толчки, сердце начинает биться ровней и уверенней, пульсация боли совпадает с ритмом сердца, и я перестаю ее замечать. Я живу с болью столько времени, что не замечаю ее – если она совпадает с ритмом сердца.
Перестаю стонать, открываю глаза и сквозь густую завесу слез вижу какую-то лампу, которая светит синим светом прямо на шпаклевку. Шпаклевка твердеет, сплавляется с зубом, заделывает дыру. Слышу звук бора, насадка приближается к моему рту, я закрываю глаза, от шлифования больно, химический вкус сошлифованной пыли наполняет рот. Все повторяется. Шпаклевка, синий свет, бор. Шпаклевка, синий свет, бор. Перестаю что-либо чувствовать, и боль тоже, сжимаю теннисные мячи, жду, когда наступит конец, и он наступает. Один зуб готов, осталось три.
Теперь нужно поставить коронку на второй зуб справа.
Я согласно киваю.
Хочешь сделать перерыв?
Я отрицательно мотаю головой.
Пауза для подготовки, и бор опять приближается, я все выдерживаю без напряга. В зубе нет дыры, не нужно сверлить, шпаклевать и светить синим светом. Я держу мячи, но не сжимаю их, не стону, сердце бьется ровно. Ремонт бокового правого проходит легко и незаметно. Счет два-два.
Слышу шум шагов, звяканье инструментов, стук открываемых и закрываемых шкафов, открываю глаза. Доктор Стивенс разговаривает со вторым доктором, медсестры складывают использованные инструменты в тазик для стерилизации. Доктор Стивенс заканчивает разговор, второй доктор выходит.
Как дела?
Все в порядке.
Я сажусь.
Куда он пошел?
Доктор Стивенс поднимает стул вверх.
Я не говорил тебе раньше времени, но перед тем, как сверлить каналы, я хочу связать тебя.
Зачем?
Когда сверлим каналы, мы делаем анестезию пациентам не только для того, чтобы обезболить, но еще и для того, чтобы они не двигались. Тут нужна неподвижность, а я не уверен, что ты сумеешь ее сохранить, если тебя не связать.
Давайте.
Ты точно не против?
Нет, давайте.
Второй врач возвращается, держит два длинных нейлоновых ремня синего цвета с пряжками-защелками. Такими ремнями привязывают багаж к крыше автомобиля, пристегивают прицеп с лодкой к трейлеру, заматывают двери клеток для зверей. Судя по виду, ими уже не раз пользовались – единственный предмет в кабинете, кроме меня и теннисных мячей, который не сияет стерильной чистотой.
Я откидываюсь назад, врач подходит ко мне. Медсестры оставляют инструменты, смотрят на меня.
Вытяни, пожалуйста, руки по швам.
Вытягиваю руки по швам.
Врач перекидывает через меня ремни так, что застежка оказывается под сиденьем. Наклоняется, пропускает свободный конец через пряжку, затягивает, ремень начинает давить.
Дайте знать, когда хватит.
Он продолжает затягивать ремень, все туже и туже. Когда я уже не в состоянии шевельнуть рукой, когда ремень впивается в кожу, а книга про Бабара – в грудь, я даю доктору знать, что хватит. Он защелкивает пряжку, распрямляется, идет к раковине и моет руки. Доктор Стивенс и медсестры подходят ко мне.
Начнем. Постараемся все сделать как можно быстрей.
Главное, сделайте как можно лучше, чтобы не пришлось возвращаться.
В этом не сомневайся.
Начинайте.
Закрываю глаза, стараюсь устроиться поудобней и расслабиться. Во рту комья ваты, остатки пережитой боли, синий ремень врезается в тело и прижимает книгу к груди. Чьи-то пальцы приподымают мне верхнюю губу, оттягивают ее, струя холодной воды обрушивается на остатки двух передних зубов. В руках у меня по теннисному мячу, а в голове – мысль, что мне будут сверлить два корня без анестезии. Сердце бьется все чаще, его стук отдается в ушах. Напряжение. Страх. Как тут, к черту, расслабишься.
Бормашина снова включается, обрабатывает обломок левого переднего зуба. Кость здесь тоньше, поэтому дело подвигается быстрее. Сверло проделывает отверстие, проникает внутрь зуба. В этот момент тело пронзает удар тока, это похоже на боль, только гораздо сильнее. Перед глазами все белеет, не удается вздохнуть. Зажмуриваюсь изо всех сил, челюсти вот-вот треснут, впиваюсь пальцами в теннисные мячи, ногти ломаются, из-под них сочится кровь, поджимаю пальцы на ногах, ноги сводит судорогой, тело сжимается, мышцы на животе вот-вот взорвутся, ребра как будто впиваются друг в друга, больно, твою мать, так, что яйца втягиваются, а член встает, потому что кровь закипает, ищет выход, и члену адски больно, руки напрягаются, синий нейлоновый ремень врезается в мою плоть, это адская боль, лицо горит огнем, вены на шее вздуваются, мозг раскаляется добела, плавится, адская боль. Сверло у меня во рту. Мозг раскален добела, такое чувство, что плавится. Дышать невозможно. Адская боль. Сверло вынимают изо рта и начинают вакуумом отсасывать из канала мертвую плоть вокруг корня. Адская пытка продолжается. Вакуумный отсос убирают, остатки плоти выскребают заостренным инструментом. Адская пытка продолжается. Снова вакуумный отсос, снова заостренный скребок. Адская пытка продолжается. Корень нужно очистить, чтобы не было осложнений. Да скорей же уже очищайте, мать вашу за ногу. Умоляю, скорей, умоляю, скорей, умоляю, скорей. Адская пытка продолжается.
Начинаю проваливаться в белое безмолвие, теряю связь с происходящим. Мои руки больше не мои, мои ноги не мои, моя грудь не моя, мое лицо не мое, мои зубы больше не мои. Мое тело больше не мое. Ничего нет больше. Только белое безмолвие. Одно белое безмолвие. Еще есть адская мука. Она не пригрезилась. Я пытаюсь вернуться к реальности, к сверлам, вакуумным отсосам, блестящим инструментам, ватным тампонам, пульверизаторам, зубной крошке, стоматологам и медсестрам. К лечению своих зубов. Но не могу. Тело не пускает. Как будто оно оберегает мой разум, как умеет, и толкает меня туда, где хоть и ужасно, но все же не так. Я сдаюсь, поддаюсь, погружаюсь в белое безмолвие и адскую боль, нахожусь там целую вечность. Белизна и боль. Белизна и боль. Белизна и боль.
Меня возвращает обратно взвизг сверла. Я чувствую зуб в верхней челюсти слева спереди и знаю, что сверло нацеливается на него. Оно проникает внутрь зуба, я все чувствую, и все повторяется снова. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Зажмуриваюсь изо всех сил, вжимаюсь в кресло, сжимаю мячи, и каждая клетка тела готова взорваться от боли. Существуй Бог, я бы плюнул ему в лицо за то, что позволил так мучить меня. Существуй дьявол, я бы продал ему душу, чтобы положить этим мучениям конец. Существуй высшая сила, которая управляет людскими судьбами, я бы сказал – возьми мою судьбу и засунь себе в задницу. Давай, засунь поглубже, твою мать. Умоляю, скорей, умоляю, скорей, умоляю, скорей.
Вакуумом отсасывают, скребком выскребают, а я терплю. Канал сверлят и чистят, а я терплю. Канал заполняют заново, закрывают корень, а я терплю. Шпаклевка, синяя лампа, шлифовка, шпаклевка, синяя лампа, шлифовка, шпаклевка, синяя лампа, шлифовка. Я терплю. Торчу где-то в Миннесоте, пациент Центра реабилитации для алкоголиков и наркоманов, лечу передние зубы, привязан к креслу, потому что анестезия мне не полагается. Все, что мне остается, это терпеть.
Чувствую, как рот поливают водой, последняя порция зубной пыли попадает в горло. Вату вынимают из-за щек, слышу приглушенные голоса, звук воды в раковине, стук дверей, когда открывают и закрывают шкафы. Открываю глаза. Перед глазами белые вспышки, трудно сфокусировать взгляд. Галогеновая лампа все еще горит. Какое-то движение, лампа гаснет, что-то отодвигают, что-то придвигают. Слышу, как расстегивают ремни, их убирают, книжку про Бабара тоже, теперь я свободен и могу двигаться, как пожелаю, сразу же замерзаю и начинаю дрожать. Пытаюсь сесть, но не могу. Пытаюсь приподнять голову – не могу. Пытаюсь сосредоточить на чем-то взгляд – не могу. Мерзну все сильнее. Дрожу тоже. По-прежнему стискиваю теннисные мячи. Адская боль начинает убывать.
Меня приподымают, закутывают в одеяло. В одеяле тепло, от тепла начинает тошнить, тошнота подкатывает, не могу ее остановить. Меня выворачивает, становится легко, чувствую пустоту в желудке, в легких, во всем теле, и хотя взгляд по-прежнему не фокусируется, я вижу, что из меня лезет красное. Меня выворачивает снова и снова, снова и снова. Красным, красным, красным. Все залито красным, одеяло, кресло, пол, я сам. Выпускаю теннисные мячики из рук, пытаюсь поднять руки, чтобы вытереть лицо, но руки трясутся, лицо трясется, и я не могу попасть руками в лицо. Руки падают по бокам.
Принесите еще одеял и воды. Быстро.
Лежу в кресле.
Как ты, Джеймс?
Мычу в ответ.
Ты меня понимаешь?
Снова мычу, киваю в смысле «да».
Тебя нужно отправить в больницу. Я вызову «Скорую».
Я не хочу в больницу, поэтому собираю силы в кулак, приподымаюсь и открываю глаза. Доктор Стивенс стоит передо мной.
Не надо в больницу.
Тебе нужна медицинская помощь. Мы такой оказать не можем.
Кресло.
Что?
Поднимите кресло.
Доктор Стивенс поднимает кресло. Я ставлю ноги на пол. Мне холодно, я дрожу, все тело болит. Меня тошнит от докторов, стоматологов, медсестер, кресел, анализов, галогеновых ламп, блестящих инструментов, чисто вылизанных комнат и стерильных раковин, кровавых процедур, меня тошнит от помощи, которую оказывают убогим, искалеченным и больным, и я не хочу в больницу. С болью я привык справляться сам. И с этой справлюсь сам.
Позовите Хэнка, пусть отвезет меня обратно в клинику.
Тебе нужна медицинская помощь.
Я в порядке.
И все же настоятельно советую тебе поехать в больницу. Не делай глупостей.
Я все понимаю.
Сползаю с кресла. Мышцы на ногах подергиваются, ноги подгибаются. Делаю маленький шажок, останавливаюсь. Стягиваю с себя одеяло, бросаю на кресло и делаю еще один маленький шажок, останавливаюсь.
Ты справишься?
Да.
Помочь тебе?
Нет.
Глаза начинают отчетливо видеть, живот успокаивается. Мне все еще холодно и больно, и дрожь не прошла, но чем я дальше от кресла, тем лучше я себя чувствую. Смотрю на дверь. Если смогу добраться до двери, то до свободы рукой подать. Я хочу скорей вырваться отсюда. Делаю еще шаг. Ноги как ватные. Еще шаг. А от земли ногу не оторвать, словно сто тонн весит. Еще шаг. Больно. Еще шаг. Колени дрожат. Еще шаг. Каждое движение стоит титанических усилий. Еще шаг. После каждого шага я не уверен, смогу ли сделать следующий. Доктор Стивенс смотрит на меня, медсестры вернулись и тоже смотрят, а я одно осознаю четко – если споткнусь, загремлю в больницу. Еще шаг. Еще шаг.
Подхожу к двери и останавливаюсь. Справа зеркало. Бросаю взгляд в него, вижу свое отражение. Белое, как мел, лицо. Распухшее до безобразия. Вокруг рта кляксы запекшейся крови. Черный шов у нижней губы, черные круги под глазами. На носу повязка. Вместо тела кости да кожа, и та болтается на костях. Белая футболка в красно-бурых разводах рвоты. Коричневые штаны в красно-бурых разводах рвоты. Видок как у пещерного монстра.
Поворачиваюсь к доктору Стивенсу и медсестрам.
Медсестры отворачиваются. Доктор Стивенс нет. Я медленно говорю.
Спасибо за лечение.
Не за что. Моя обычная работа.
Сегодня не обычная работа. Со мной вы превзошли себя. Спасибо.
Доктор Стивенс улыбается.
Нет проблем.
Я тоже улыбаюсь ему. В первый раз новыми зубами. Мне становится весело, я улыбаюсь еще шире и указываю на свой рот. Доктор Стивенс смеется, подходит ко мне, протягивает руки и обнимает меня. Мы с ним сегодня выдержали нешуточное испытание. Хоть мне, конечно, досталось больше, но ему, я знаю, тоже пришлось нелегко. Наше объятие – как клятва, мы клянемся извлечь урок из пережитого, стать лучше и сильнее. Я уверен, он сдержит клятву, а вот сдержу ли я – не знаю. Я отстраняюсь.
Еще раз спасибо.
Береги себя, Джеймс.
Постараюсь.
Я поворачиваюсь, медленно иду прочь, не оглядываясь. Это моя всегдашняя ошибка, но таков уж я. Никогда не оглядываюсь. Никогда.
Ковыляю по коридору, хватаясь за стенку, чтобы не упасть. Каждый следующий шаг дается труднее, чем предыдущий, причиняет больше боли. Лицо мое кривится в такт шагам, сердце стучит уже не так ровно и мерно. Бьется то быстрей, то медленней, то громче, то тише, посылает колючие сигналы в левую руку и левую челюсть. Оно держалось, пока требовалось, а теперь недолго еще продержится. Я недолго еще продержусь.
Доползаю до двери, толкаю ее, переваливаюсь через порог в приемную. Хэнк сидит на кушетке, болтает с пожилой дамой, которая вскрикивает, увидев меня. Хэнк вскакивает, подбегает ко мне, я кладу руку ему на плечо. Не будь его плеча, я бы упал.
Господи Иисусе.
Выведи меня отсюда.
Ты в порядке?
Не совсем.
Чем помочь?
Да выведи же меня отсюда, черт подери.
Хэнк надевает на меня куртку, кладет мою руку себе на плечи, а свою – мне на плечи, и мы выходим из приемной, спускаемся по лестнице. На нижней ступеньке ноги отказывают мне, и Хэнк тащит меня к выходу, приваливает к стенке, распахивает дверь и вытаскивает меня на улицу.
Снежная буря, которая собиралась с силами, когда мы ехали сюда, сейчас свирепствует в полную силу. Ветер подхватывает льдины, которыми покрылись лужи, и носит их по воздуху. Небо черное. Слышатся раскаты грома, сверкают молнии. Хэнк тащит меня к фургону, мои ноги волокутся по застывшей и сырой земле, ботинки промокают. Добравшись до фургона, Хэнк приваливает меня к дверце.
Постоишь немного?
Он лезет в карман за ключами.
Да, только скорей давай.
Он вытаскивает ключи из кармана, отпирает фургон, отодвигает дверь-купе, помогает мне залезть, укладывает на трех сиденьях, закрывает дверь, обегает кругом, открывает свою дверь и залезает в фургон. Садится за руль, вставляет ключ зажигания, заводит двигатель и трогает с места.
Пока мы едем через этот городишко, я лежу на спине, мерзну и дрожу. Сердце бьется как попало и начинает болеть. Острые пики во рту, я измучился, совсем изнемог. Возвращаюсь в клинику, но не хочу возвращаться туда. Если сбегу из клиники, мне светит либо могила, либо тюрьма. Моя жизнь, какая она есть, мне не нравится, и сам я не нравлюсь себе, но ничего другого я не знаю. Я пробовал что-то изменить, и ни черта из этого не вышло. Пробовал еще раз, и снова ни черта. И еще раз, и снова ни черта. И так раз за разом. Если бы какой-то голос нашептал мне, что на этот раз все получится, уж я бы постарался, но нет, не шепчет. Забрезжи свет в конце тоннеля – уж я бы помчался навстречу. Но я в такой жопе, в какой еще не бывал. Забрезжи свет в коне тоннеля – и я бы помчался навстречу. Но я алкоголик, наркоман и преступник. И никакой свет в конце тоннеля мне не светит.
Через несколько минут в фургоне становится тепло, от тепла озноб и дрожь проходят, но адская усталость не проходит, и я закрываю глаза. Темнота. Я закрываю глаза. Никакой свет в конце тоннеля мне не светит. Я закрываю глаза. Темнота. Я закрываю глаза. Никакого света. Я закрываю глаза. Темнота.
Я закрываю глаза.
Я закрываю глаза.
Я закрываю глаза.
Другая белая комната, ненавижу ее. Другой белый халат, хочется порвать его в клочья. Другая кровать, другой стол, другой стул, хочется разнести их в щепки. Окно. Хочется выброситься из него.
Проделываю свой обычный утренний ритуал. Ползу в ванную. Блюю. Валяюсь на полу. Блюю. Валяюсь на полу. Блюю. Валяюсь на полу. Блевотина застревает в новых зубах, и выковыривать ее оттуда больно. После чистки зубов снова блюю, еще раз чищу зубы и ползу обратно в постель.
За окном все такая же темень, все такая же непогода. Мокрый снег валит, ветер воет и стучит в окно. Только и слышно – бум, бах, бац и вой. И так без конца, одно и то же. Терпеть не могу шума, хоть бы это уже прекратилось. Но нет – бум, бах, бац, вой, бум, бах, бац, вой. Терпеть нету мочи. Когда же это, черт, прекратится.
Вылезаю из кровати. Мою одежду выстирали и положили на стол. Беру шмотки, надеваю. Сегодня они болтаются на мне больше, чем вчера. Открываю дверь, выхожу, иду в терапевтическое отделение. Сейчас ночь, в отделении пусто. Только дежурная медсестра. Читает модный журнал и не замечает меня.
Выхожу из терапевтического отделения, иду по коридорам. За окнами черным-черно, потому что ночь и непогода, а коридоры залиты светом. Лампы над головой ярко горят, стены светлые, ковры на полу светлые, картины на стенах светлые, таблички на дверях светлые. Я неуютно себя чувствую на свету. Он слишком многое обнажает.
Вхожу в отделение «Сойер». Тихо, темно. Все лампы выключены, все двери в палаты закрыты, все люди спят. Иду в холл, сажусь на диван, включаю телевизор. Показывают шоу про похудение, потом рекламный ролик, в котором важный эксперт расхваливает товар, потом какая-то тетка несет всякую хрень про психологию, потом профессиональные борцы валтузят друг друга. По нескольким каналам идут помехи. Это самое интересное, что бывает в ящике. Смотрю, не отрываясь. Целый час. Помехи.
Выключаю телевизор, думаю, чем бы еще заняться. Усталости не чувствую, спать неохота, идти в терапевтическое отделение не хочется, бродить по коридорам тоже. В коридорах слишком светло, а на свету я неуютно себя чувствую.
Вдоль одной стены тянутся полки с книгами. Я научился читать очень рано и всегда читал запоем. Я только и делал всю жизнь, что читал, если не считать того, что торчал и впутывался в неприятности. Меня притягивают книги. Я стою возле полок, хожу вдоль полок, сижу перед полками.
Три полки, на каждой по сорок книг. Перебираю их, надеюсь найти что-нибудь, что унесет меня подальше отсюда. Я хочу, я должен хоть ненадолго вырваться отсюда, черт подери. Если не буквально, то хоть мысленно. Хоть ненадолго. Черт, да выпустите же меня отсюда.
Много книг из серии «помоги себе сам»: «Дай волю чувствам: лечение плачем», «Ангелы и наркомания: позволь божьим помощникам помочь тебе!!!» и «Папочка меня не любил: история моей болезни». Есть книжки по каждому из Двенадцати шагов Анонимных Алкоголиков. Шаг первый: Отсутствие контроля. Шаг третий: Прими решение и доверься Богу. Шаг шестой: Будь готов действовать. Шаг одиннадцатый: Установи контакт с Богом. Несколько замусоленных Евангелий. Я читал Евангелие. Нет смысла опять тратить на него время. Тяну руку за толстой потрепанной книгой в синем переплете. У нее нет ни обложки, ни заголовка, только эмблема на первой странице – треугольник, вписанный в круг. Мне такую книгу уже подсовывали. Знакомые и знакомые знакомых, люди, которые считали, что могут исправить меня. Называется она Большая книга Анонимных Алкоголиков, а эмблема на обложке – символ трезвости. Я никогда не читал ее, даже открыть не потрудился. Когда она попадала мне в руки, сразу швырял ее в сточную канаву или мусорный ящик. Я бывал на встречах Анонимных Алкоголиков, и они меня не затронули. По-моему, их философия ничем не лучше алкоголизма. Замена одной зависимости на другую. Вместо химии Бог и собрания. На этих собраниях меня тошнило. Жалобы, скулеж, нытье – и все с перебором. Горы дерьма собачьего про Высшую силу. Никакая Высшая сила, никакой Бог не отвечают за то, как я поступаю, поступал и во что превратился. Никакая Высшая сила и никакой Бог не спасут меня. От жалоб, скулежа и нытья на собраниях, хоть весь обжалуйся, мне не станет лучше.
Я алкоголик, наркоман и преступник. В такой жопе я за всю жизнь еще не бывал. Нахожусь в клинике где-то в Миннесоте. Если уйду отсюда, моя семья и мои друзья, какие еще остались, поставят на мне крест. Если уйду из клиники, мне светит только или могила, или тюрьма. Я совсем один, сейчас глухая ночь, возвращаться в терапевтическое отделение не хочется, заснуть не могу. Я хочу выпить. Пятьдесят порций сразу. Хочу пайп и крэка. Хорошо бы длинную жирную дорожку мета, да десяток доз кислоты, да тюбик хорошего промышленного клея. Дайте мне бутылку с пилюлями и горстку «ангельской пыли». Дайте мне уже что-нибудь. Что угодно. Мне нужно вырваться отсюда. Если не буквально, то хоть мысленно. Черт, да выпустите же меня отсюда.
Беру с полки книгу. Пялюсь на нее. Думаю, что хуже от нее не будет и терять мне нечего. Начинаю читать.
Предисловие врача, специалиста по зависимостям. Доктор считает, что тяжелый алкоголизм практически неизлечим. Доктор считает, что единственный способ обрести трезвость и удержать ее – присоединиться к Анонимным Алкоголикам.
Затем следует рассказ про Билла[2], основателя движения Анонимных Алкоголиков. Билл – Иисус Христос алкоголиков, спаситель и мессия, и хотя Билл не умер на кресте, он, без сомнений, жил на нем. Билл был пьяница горький, маялся, не вылезал из проблем. Он искал средство исцеления, все искал и искал, но не находил. И тогда, на последнем пределе отчаяния, он повстречался со старым приятелем – пьяницей, который обрел Бога и бросил пить. Исцеление приятеля напомнило Биллу о чувстве, однажды пережитом во французском соборе после Второй мировой войны, на которой он служил солдатом. Сидя на церковной скамье во время вечерни, Билли преисполнился тишины и покоя, которых не ведал ранее и даже не мыслил, что такое возможно. Он преисполнился Славы Божьей. Воспоминание об этом мгновении и трезвость его новообращенного друга произвели на Билла глубокое впечатление. Он уверовал, что если поручить себя Богу или все равно какой Высшей силе, то жизнь изменится. В ту минуту он принял решение полностью изменить свою жизнь, целиком доверить себя воле Божьей. Больше Билл никогда не пил, разработал Двенадцать шагов, придумал общество Анонимных Алкоголиков и посвятил свою жизнь распространению этого учения. Очень трогательная история, задача которой – вдохновить, а не открыть правду. Я не вдохновился. Вообще ни капли. Ничуть.
Читаю дальше, там подробнее про Двенадцать шагов. Главы называются «Принять решение», «Как это работает», «К действию», «Видение». Все очень просто. Если будешь поступать, как написано, исцелишься. Если шагнешь на этот праведный путь, он сам приведет тебя прямиком к спасению. Если вступишь в их клуб, ты счастливчик – лопай пожизненно большой ложкой дерьмо на их собраниях, где только жалобы, скулеж и нытье. Хвала тебе, Боже. Хочется пасть на колени и пропеть хвалу Господу. Аллилуйя.
В конце целый раздел – истории исцелившихся. История зубного врача, история пьяницы из Европы, история продавца, история образованного агностика. Все они были запойные пьяницы, но обрели Господа, проделали путь длиной в Двенадцать шагов и все, как один, исцелились. Все подобные истории, которые мне доводилось читать или слышать, всегда поражали меня глупостью, пошлостью и бессмысленностью. Пусть их герои перестали пить и принимать наркотики, но они не стали свободными людьми. Пусть они ведут трезвый образ жизни, но их жизнь состоит из ограничений, запретов и проклятий в адрес тех веществ, которые они так любили раньше. Пусть они живут, как нормальные люди, их жизнь полностью зависит от их Собраний, их Заповедей, их Бога. Отними у них эти их Собрания и Заповеди – и у них ничего не останется, они снова вернутся туда, с чего начинали. Так что ни черта не избавились они от зависимости.
Зависимость требует топлива. Не уверен, что Собрания, Заповеди и Бог – подходящее топливо для меня. Если Доктор в предисловии говорит правду и единственный путь спасения – присоединиться к Анонимным Алкоголикам, тогда я в полной жопе. В жопе, жопе, жопе.
Ставлю книгу обратно на полку. Иду к расписанию работ, смотрю – напротив моего имени по-прежнему значится мытье общего сортира. Беру моющие средства, иду к сортиру – его, похоже, несколько дней не мыли, такой у него омерзительный вид. В раковине – плевки, на полу – моча, в мусорном ведре – туалетная бумага с пятнами крови, в унитазах – присохшее дерьмо. Уверен, это Рой постарался, но у меня нет желания играть в эти игры, устраивать разборки, поэтому просто беру моющие средства и начинаю уборку. Отвратительная работа. Дважды меня вырвало, и пришлось оттирать свою собственную блевотину, а не только чужие плевки, мочу и дерьмо. Когда все убрано и стены, раковины, пол, мусорные ведра и унитазы сияют чистотой, я не испытываю ни радости, ни удовлетворения. Больше я не буду делать эту работу. Ни за что, черт подери.
Выхожу из общего сортира, ставлю моющие средства на место, иду к себе в палату. Открываю дверь, вхожу. Поломанную мебель заменили. Заменили и Ларри, чье местонахождение пока неизвестно. На его койке лежит лысый коротышка, и этот Лысый Коротышка храпит. Уоррен и Джон спят на своих кроватях. Джон во сне бормочет и дергается. Уоррен спит тихо. Моя кровать стоит нетронутая, на тумбочке возле нее лежат Библия и новенький экземпляр Большой книги. Подхожу к тумбочке, беру обе книги, иду к окну, открываю его и швыряю книги в заоконную тьму. Буря по-прежнему беснуется. Закрываю окно, иду в ванную, включаю душ, снимаю одежду и кидаю кучей на кафельный пол. Подхожу к зеркалу. Хочу взглянуть на себя. Хочу взглянуть в светло-зеленую глубину своих глаз и увидеть то, что под телесной оболочкой. Смотрю на губы. Немного припухшие, но в целом уже ничего. Смотрю на зашитую дырку в щеке. Рана начинает затягиваться, шов делает свое дело. Смотрю на свой нос. Снимаю повязку, кидаю в мусорное ведро. Нос прямой, если не считать шишки. Смотрю на синяки под глазами. Чернота бледнеет, переходит в желтизну, отеки почти прошли. Смотрю выше – в глаза. Хочу взглянуть в светло-зеленую глубину своих глаз. Хочу увидеть не телесную оболочку, а то, что под ней. Придвигаюсь ближе к зеркалу. Еще ближе. Хочу взглянуть в светло-зеленую глубину своих глаз. Хочу увидеть то, что прячется под телесной оболочкой. Ближе, ближе. Ничего не вижу. Ни хера.
Отворачиваюсь, иду к душу, встаю под воду, шок от горячей воды. Вода обжигает, кожа краснеет, чувствую боль, но стою под водой. Я заслужил эту боль, потому что мне не хватило мужества взглянуть в себя. Я заслужил эту боль и буду стоять так и терпеть ее, потому что мне не хватило мужества взглянуть себе в глаза. Когда тело теряет способность чувствовать, включаю холодную воду, сажусь на пол, остужаю ожог холодной водой. К горячей воде тело привыкает, к холодной привыкает еще быстрее. Закрываю глаза, предоставляю тело самому себе, а ум отпускаю в свободное странствие. Он блуждает где хочет и направляется в известное место. О котором не говорю вслух, существование которого не признаю. Там нет никого, кроме меня. Я ненавижу это место.
Я одинок. Здесь одинок, в целом мире одинок. Одинок в своем сердце и одинок в своих мыслях. Одинок везде и всегда, сколько себя помню. Одинок в семье, в кругу друзей, в любой комнате, пусть там даже полно людей. Одиноким я просыпаюсь, одиноким проживаю день, одиноким встречаю ночную темноту. Я одинок в своем ужасе. В своем ужасе.
Я не хочу быть одиноким. Никогда не хотел. Не хотел до зубовного скрежета. Ненавижу, что не с кем поговорить, ненавижу, что некому позвонить, ненавижу, что некому пожать руку, что не с кем обняться, что никто не скажет мне: все путем, старик. Ненавижу, что некому рассказать про свои надежды и желания, ненавижу, что у меня больше нет ни надежд, ни желаний, ненавижу, что никто не скажет мне: держись, старик, надежды и желания вернутся. Ненавижу, что мой крик, от которого кровь стынет в жилах, раздается в кромешной пустоте. Ненавижу, что никто не слышит моего крика, и никто не успокоит, чтобы я перестал кричать. Ненавижу, что в моем одиночестве ничего не осталось мне, кроме бутылки и крэка. Ненавижу, что все, что осталось мне в моем одиночестве, убивает меня, уже убило меня, ну, или скоро добьет. Ненавижу, что мне подыхать предстоит в одиночестве. В одиночестве, в полном ужасе. Больше всего я всегда хотел приблизиться к кому-нибудь, да по сути ничего другого и не хотел. Больше всего я всегда хотел почувствовать, что я не один, да по сути ничего другого и не хотел. Я пытался много раз, пытался покончить со своим одиночеством с помощью девушки или женщины, и всякий раз напрасно. Мы могли быть вместе, рядом друг с другом, но все равно я оставался один. Они угадывали мое одиночество и пытались стать ближе. Но чем больше пытались, тем быстрее я убегал или разрушал все, что нас объединяло. Я могу бежать быстро, когда хочу, и по части разрушения я большой мастак. Никто из моих бывших не захочет сегодня переброситься со мной даже парой слов.
Последняя была единственной, благодаря кому я почувствовал то, к чему всегда стремился. Благодаря ей я почувствовал себя человеком, о чем раньше не мог даже мечтать, и это чувство напугало меня, парализовало. Когда она отдалась мне, я потерпел фиаско. Этот провал стал началом конца. Я уничтожал ее, уничтожал себя, уничтожал нас обоих. Я уничтожал надежду на будущее. Сейчас она отказывается даже произносить мое имя, не то что признать мое существование. Я не виню ее.
Я начинаю разговор со старым другом, старым добрым другом. Говорю привет, как дела, как поживаешь, что новенького. Мой голос отдается эхом в душевой кабинке, и я чувствую себя идиотом, но продолжаю разговор. Говорю – я скучаю по тебе, хочу тебя видеть. Моего друга зовут Мишель, я не видел ее лет десять, даже больше. Говорю – в последнее время постоянно думаю о тебе. Говорю – может, скоро увидимся. Говорю – уж ты, пожалуйста, встреть меня там, когда я нагряну, очень хочется увидеть тебя. Ужас, сколько времени прошло. Десять лет, даже больше. Ужас, сколько времени.
Я встретил Мишель, когда мне было двенадцать лет, моя семья только что переехала в этот городишко. Всю жизнь я провел в большом городе, и приспосабливаться к новой обстановке оказалось нелегко. У меня не было ничего общего с местными ребятами, у них – со мной. Я не качался в спортзале, ненавидел хэви-метал, считал, что возиться с машинами – это тупо убивать время. Поначалу я делал попытки быть как все, но притворяться не умею, и через несколько недель бросил эти попытки. Я такой, как есть, а уж принимать меня или ненавидеть – это их право. Они возненавидели меня со зверским азартом.
Меня дразнили, толкали и били. Я дразнил в ответ, на каждую подножку отвечал подножкой, на каждый удар – ударом. За пару месяцев я сделал себе репутацию. Все обсуждали меня – учителя, родители, местные копы. Обсуждали без восхищения, разумеется.
В ответ я забрасывал их дома яйцами, взрывал их почтовые ящики, ломал их автомобили. В ответ я объявил войну всем, всему их городишке, и включился в эту войну целиком, с потрохами. Мне плевать было – выиграю я или проиграю, главное – не сдаваться. Бесить их, этих ублюдков. Я был готов к борьбе. Через шесть месяцев после приезда в этот городишко я познакомился с девочкой, которую звали Мишель. Она была популярна, умна и красива. Занималась спортом, входила в группу чирлидеров, училась на одни пятерки. Понятия не имею, почему ей вздумалось водить дружбу со мной, но это так. Все началось с того, что она послала мне записку на уроке английского. Она написала: по-моему, ты совсем не такое чудовище, как о тебе говорят. Я ответил: берегись, я такое чудовище, как обо мне говорят, только хуже. Она рассмеялась, и так у меня появился друг. Не подружка, нет, да я и не думал об этом, а именно друг, о котором можно только мечтать. Мы болтали по телефону, обменивались записочками на уроках, вместе ходили в столовую, рядом сидели в автобусе. Люди ломали голову, зачем она связалась со мной, понять не могли, что она во мне нашла, советовали бросить меня, но она никого не слушала. У нее была своя голова на плечах, и она не позволяла никому вмешиваться в нашу дружбу, так что все просто сделали вид, что этой дружбы не существует.
В середине восьмого класса один старшеклассник пригласил Мишель на свидание. Она знала, что родители ее не отпустят, и потому сказала им, что идет в кино со мной. Я никогда не делал им гадостей, вел себя прилично в их присутствии, так что они согласились и даже подвезли нас до кинотеатра. Я вошел в зал, отсидел до конца сеанса в компании пинты виски и один вернулся домой. Мишель забрал ее парень, и они уехали. Где-то посидели, попили пива, а потом он повез ее обратно к кинотеатру и попытался обогнать колонну грузовиков на переезде. Машину сбил поезд, и Мишель погибла. Она была популярна, умна и красива. Занималась спортом, входила в группу чирлидеров, училась на одни пятерки. Она была моим единственным другом. Ее сбил поезд, и она погибла. Ее сбил этот сраный поезд, и она погибла. Я узнал об этом на следующий день. Все винили меня – ее родители, друзья, весь этот паскудный городишко. Если бы я не прикрыл ее ложь, то ничего бы не случилось. Если бы нас не отвезли к кинотеатру, она бы не пошла на свидание. Старшеклассник остался цел и невредим, он был звездой местной футбольной команды, и все ему сочувствовали. Меня вызвали в полицейский участок и допрашивали. Таковы были нравы в этом городишке. Обвинить козла отпущения, пожалеть футбольную звезду. Если тебя назначили козлом отпущения, ты будешь им всю жизнь. Из-за этой истории меня много били, и на каждый удар я отвечал ударом, и каждым ударом я мстил за Мишель. Я бил, не щадя никого, и каждым ударом я мстил за Мишель.
Я до сих пор помню Мишель и тоскую по ней. Хочу услышать ее голос, ее смех, увидеть ее улыбку. Хочу сесть рядом с ней, позвонить ей или написать записочку. Хочу вдыхать ее запах, касаться ее волос, смотреть ей в глаза. Хочу услышать ее слова – не переживай, это пустяки. Хочу услышать ее слова – не переживай из-за них, не доставляй им этого удовольствия. Хочу услышать ее слова – все хорошо, Джимми, все будет хорошо. Хочу сказать ей, что люблю ее, потому что это правда и потому что никогда не говорил ей этого, пока она была жива. Она мой единственный друг. Ее сбил поезд, и она погибла.
Я не верю, что она пребывает на небесах или в лучшем мире. Она умерла, а после смерти мы исчезаем. Ни тебе яркого света, ни райской музыки, ни ангелов, спешащих навстречу. Святой Петр не стоит возле Жемчужных врат ни с толстой долбаной книжкой, ни с ключами, наши друзья и родные не придерживают для нас местечко за столом божественной трапезы, нас не ждет путевка на небеса. Мы просто умираем, и все. Ничего больше. Конец. Это не мешает мне, однако, беседовать с Мишель. Я разговариваю с ней, задаю ей вопросы, рассказываю про свое житье-бытье. Говорю, что тоскую без нее, говорю, что думаю о ней каждый день, говорю, что люблю ее. Говорю, что до сих пор каждым ударом мщу за нее. Я буду всегда мстить за нее. Всегда.
Я разговариваю с Мишель и говорю ей все эти слова, когда жить невмоготу. Я разговариваю с Мишель и говорю ей все эти слова, когда теряю надежду. Я разговариваю с Мишель и говорю ей все эти слова, когда готов умереть. Я знаю, что после смерти буду мертв, и знаю, что сейчас я очень близок к смерти. Умереть очень просто, а когда я умру, все исчезнет. Я знаю, что никогда не встречусь с Мишель на небесах или где-нибудь еще, но я все равно разговариваю с ней. В последнее время особенно часто.
Дверь душевой кабинки раздвигается, кто-то заходит, и я возвращаюсь из своих мыслей, из своего одиночества обратно в эту чертову кабинку. Открываю глаза – передо мной стоит Джон. Встаю, смотрю на него. Мы оба голые. Я говорю.
Какого черта ты тут делаешь?
Все еще спят.
Какого черта ты тут делаешь?
Я услышал, ты тут. Подумал, может, тебе грустно одному.
Вали немедленно отсюда.
Я никому не скажу. Клянусь.
ВАЛИ НЕМЕДЛЕННО ОТСЮДА.
Джон выходит из кабинки, закрывает дверь. Я выхожу следом, беру полотенце, обматываю вокруг бедер. В ванной стоит густой пар, по раковине и унитазу стекают капли конденсата. Джон сидит на батарее, полотенце на коленях. Вид у него жалкий, испуганный, как у щенка, который ожидает трепки.
Извини меня.
Не делай этого больше.
Многим здесь одиноко. Мне показалось, тебе тоже.
Мне нет.
Извини.
Не извиняйся, просто больше не делай этого.
Я тебе противен?
Нет, не противен. И мне все равно, чем ты там занимаешься с другими, просто ко мне больше не подкатывай.
Ты хочешь побить меня?
Нет, не хочу.
Иногда меня бьют.
Я не буду.
Можешь побить, если хочешь.
Я не хочу тебя бить.
Джон начинает плакать.
Извини меня. Извини.
Не извиняйся, просто больше не делай этого.
Я беру свою одежду, выхожу из ванной, иду на свое место, там вытираюсь и одеваюсь. Слышно, как Джон всхлипывает в ванной. Уоррен и Коротышка по-прежнему спят, буря за окном по-прежнему беснуется. Одевшись, ложусь на кровать поверх одеяла и удивляюсь – до чего ж я устал, закрываю глаза и засыпаю.
Сновидение не заставляет себя долго ждать. Снова я в той комнате, сижу за столом. Передо мной выпивка, кокс, крэк, клей и газ. Употребляю все подряд. Без разбора, как можно быстрее, сколько влезет. Ору, хохочу, ругаюсь. Грожу кулаком небесам, называю Бога куском собачьего дерьма, называю Бога подонком. Прыгаю, бегаю вокруг стола. Тут столько выпивки, кокса, крэка, клея и газа, хоть жопой ешь. Я натираюсь и поливаюсь всем подряд. Я по уши накачался. Я нажрался до потери смысла. Я сыт впервые за много дней.
Под большим мешком кокаина нахожу оружие. Беру, взвешиваю в руке. Револьвер тридцать восьмого калибра. Мне приходилось держать такой в руках, я умею им пользоваться. Сажусь на стул, открываю магазин. Магазин полон, пуля в каждом отсеке. Закрываю магазин, прокручиваю, пощелкивание вызывает у меня улыбку. Мне приходилось держать такой револьвер в руках, я умею им пользоваться. Револьвером тридцать восьмого калибра.
Вставляю дуло себе в рот. Дуло холодное, грязное, но вкус металла во рту ощущать приятно. Снова прокручиваю магазин. Щелк, щелк, щелк, щелк – этот звук вызывает у меня улыбку. Магазин полон, в каждом отсеке по пуле. Результат предопределен. Магазин перестает вращаться. Кладу палец на курок. Я под завязку накачался спиртным, коксом, крэком, клеем и газом. Я под завязку накачался. Я нажрался до потери сознания. Пальцы дрожат, дрожат, дрожат. Бум.
Я просыпаюсь, взгляд упирается в потолок, вздрагиваю, задыхаюсь. Касаюсь кончика носа, из ноздрей вытекает капля крови. Перед глазами все плывет, голова кружится. Желудок пылает огнем. Я нажрался до потери сознания.
Встаю с кровати, иду в ванную. Меня шатает, запинаюсь о порог и падаю. Уоррен стоит возле раковины и чистит зубы, кто-то моется в душе. У меня начинаются рвотные позывы, я ползу к унитазу, и, едва успеваю добраться до него, как меня выворачивает. В блевотине полно желчи и еще какого-то коричневого дерьма, которого раньше не видал. Это кровь. От этой рвоты у меня горит в желудке, в горле и во рту. Она разъедает мне губы и лицо. Она не прекращается. Я не могу остановиться. Я содрогаюсь, а разъедающая нутро рвота извергается из меня, извергается, извергается. Без конца. Не прекращается. Я хочу остановить ее, но она не прекращается.
Уоррен подходит, опускается на колени, обнимает меня, хочет поддержать. Лысый Коротышка выходит из душевой кабинки, смотрит на меня, он поражен этим нескончаемым извержением. Оно продолжается, продолжается, продолжается. Конца не видно.
Сердце бьется как попало, колотится, каждый его удар причиняет боль, каждый сбивчивый удар причиняет боль, и она отдается в левой руке и в челюсти слева. Кажется, в жилах у меня не осталось жидкости, но рвоту это не останавливает. Как будто желудок и рот отделились от тела или вот-вот отделятся. Как будто тело пытается избавиться от себя самого. Пытается избавиться от меня.
Я больше не в силах это терпеть. Так больше не может продолжаться. Я алкоголик, наркоман и преступник. Мое тело разваливается на куски, мой ум развалился на куски уже давно. Я хочу напиться и обдолбаться, даже если это прикончит меня. Я одинок. Мне не с кем поговорить и некому позвонить. Я ненавижу себя. Ненавижу себя настолько, что боюсь взглянуть себе в глаза. Ненавижу себя настолько, что самоубийство кажется мне наиболее разумным выходом. Моя семья готова поставить на мне крест, мои друзья готовы поставить на мне крест. Я разрушил все мало-мальски важные отношения, которые у меня случались. Я блюю уже седьмой раз за сегодня. Седьмой раз, черт подери. Я не могу больше так жить. Не могу больше так жить.
Извержение затихает, я начинаю дышать. Уоррен поддерживает меня, чтобы я не упал, а Лысый Коротышка смотрит на меня. Я поднимаю руку, делаю Уоррену знак отойти, он подымается, отходит, а я прислоняю голову к краю унитаза. Дышу. Втягиваю в себя побольше воздуха – сколько влезет в грудную клетку. Я знаю, что воздух успокоит и сердце и меня, так что дышу. Втягиваю в себя побольше воздуха, сколько влезет в грудную клетку. Лишь бы успокоиться. Лишь бы успокоиться.
Как ты, ничего?
Я киваю.
Помощь нужна?
Отрицательно трясу головой.
Пойду позову кого-нибудь.
Я говорю.
Не надо.
Тебе нужна помощь.
Нет.
Джеймс, тебе нужна помощь.
Встаю. Меня шатает.
Я сам буду решать, что мне нужно. Не решай за меня.
Делаю глубокий вдох, опираюсь на раковину, включаю воду, мою лицо, полощу рот. Закончив, выключаю воду и поворачиваюсь. Уоррен уставился на меня, и Лысый Коротышка уставился на меня. Прохожу мимо них, выхожу из ванной. Уоррен идет за мной, проходит к своему месту.
Возьми хоть мою рубашку, переоденься.
Я смотрю на свою рубашку: белая в красно-бурых кляксах. В разводах желчи и пятнах какого-то дерьма, которых я раньше не замечал, в кровоподтеках.
Вот, держи.
Уоррен кидает мне рубашку. Я ловлю. Белая накрахмаленная рубашка из «оксфорда». Смотрю на рубашку, потом на него. Он говорит.
У меня нет другой чистой рубашки, это последняя.
Смотрю на рубашку. Я таких вообще не ношу. Смеюсь и опять смотрю на Уоррена.
Спасибо.
Он смеется.
Не за что.
Стягиваю футболку, кидаю на пол у кровати, надеваю «оксфордку», которая мне велика. Она болтается на моих мощах, как чехол, и свисает до колен. Закатываю рукава по локоть, провожу руками по груди. Ткань жесткая от крахмала, но под ним мягкая. Хлопок дорогой, тонкого плетения, сделан, вероятно, не в наших краях. Это самая чистая, красивая вещь, которую мне доводилось надеть, сколько себя помню, и у меня такое чувство, что я со своим потрепанным телом ее не достоин. Уоррен присаживается на кровать, стрижет ногти на ногах, рядом с ним лежит пара черных носков. Я подхожу, останавливаюсь перед ним, поглаживаю рукой тонкий хлопок. Я говорю.
Очень красивая рубашка. Буду ее беречь.
Уоррен улыбается.
Не бери в голову.
Я возьму в голову. Я очень благодарен тебе за нее.
Не бери в голову.
Я буду ее беречь. Спасибо тебе.
Уоррен кивает, я поворачиваюсь, выхожу из палаты и иду по отделению. Кто-то выполняет свою утреннюю работу, кто-то занят другими утренними делами, кто-то собирается на завтрак. Рой стоит перед расписанием работ с приятелем. Я прохожу мимо них.
Джеймс.
Я иду дальше, не оглядываюсь.
Твоя обязанность по-прежнему мыть общий сортир.
Я иду дальше, не оглядываюсь, только показываю ему через плечо средний палец.
Джеймс.
Поднимаю палец повыше.
ДЖЕЙМС.
Иду своим путем по коридорам к столовой. С каждым шагом растет потребность выпить, или принять что-нибудь посильнее, или то и другое вместе. Ноги все труднее отрывать от пола, шаги замедляются. Голову заполняет одна-единственная мысль и крутится там, крутится, крутится. Мне позарез надо нажраться. Позарез надо нажраться. Позарез надо нажраться. Позарез надо нажраться.
Прохожу по стеклянному коридору, который отделяет мужчин от женщин, встаю в очередь. Пахнет едой, и по запаху ясно, что это утренняя еда. Яичница с беконом, сосиски, блинчики, французские тосты. Пахнет охренительно вкусно. В большом горшке чуть в стороне – овсянка. Черт бы подрал эту овсянку. Отвратно-серое говнистое месиво. Пахнет едой, и по запаху ясно, что это утренняя еда. Яичница с беконом, сосиски, блинчики, французские тосты.
Очередь продвигается. Я все ближе к раздаче, ближе и ближе. И все сильнее мое желание нажраться. Оно достигло таких размеров, что это не просто мысль, оно достигло таких размеров, что вытеснило все мысли. Это одержимость. Основной инстинкт. Дайте что-нибудь. Заполнить себя. Дайте что-нибудь. Заполнить себя.
Хватаю поднос, прошу раздатчицу, которая стоит за стеклянным прилавком, дать мне бекон, и сосиски, и блинчики, и французские тосты. Она дает всего понемногу, прошу еще. Она дает добавки, мне все равно мало. Прошу еще. Она говорит – нет, на тарелку больше не влезает.
Хватаю пачку салфеток, какие-то приборы, нахожу пустой стол, завешиваю салфетками рубашку Уоррена, сажусь, беру бутылку сиропа, поливаю яичницу, бекон, сосиски, блинчики и французские тосты сиропом и начинаю поглощать пищу. Запихиваю в рот все подряд, не глядя, не чувствуя вкуса, мне плевать, что я ем и какой у еды вкус. Неважно. Главное, набить себя чем-то, и я намерен запихнуть в себя как можно больше и как можно скорее. Дайте что-нибудь. Заполнить себя. Дайте что-нибудь. Заполнить себя.
Опустошаю тарелку. Щеки, пальцы, салфетки, прикрывающие рубашку Уоррена, испачканы яйцом, беконом, сосисками, блинчиками, французскими тостами и сиропом. Облизываю пальцы, вытираю щеки, срываю салфетки с рубашки, сминаю их и бросаю на поднос, снова облизываю пальцы. Хочется еще, но на какое-то время я утолил свой голод. Откидываюсь на спинку стула, оглядываюсь вокруг. Поток мужчин и женщин движется по стеклянному коридору. Они натыкаются друг на друга, переглядываются, идут рядом, но не заговаривают. Чувствуется напряженность.
В женской половине почти все места заняты. Одни женщины перед завтраком приняли душ и навели марафет, другие нет, между ними заметно расслоение по социально-экономическому статусу. Богатые сидят с богатыми, средний класс со средним классом, бедные с бедными. Богатых больше, чем средних, средних больше, чем нищеты. Богачки беседуют, смеются, к еде почти не притрагиваются, ведут себя, как на курорте. Средний класс менее оживлен, но вид имеет вполне довольный. Беднота пришла без макияжа, они почти не разговаривают. Налегают на еду, уплетают за обе щеки так, словно ничего вкуснее никогда не пробовали и вряд ли когда-нибудь попробуют.
Я сижу один, но почти все столы в мужской половине заняты. У мужчин расслоение происходит не по классовому принципу, а в зависимости от предпочитаемых веществ. Пьяницы сидят отдельно, кокаинщики отдельно, крэкеры отдельно, героинщики отдельно, амфетаминщики отдельно. Внутри каждой группы есть две категории. Первая категория – профессионалы. Они серьезно употребляли и вконец удолбали себя. Другая категория – любители. Они только баловались, и в принципе их организм сохранен. Профессионалы дразнят любителей, говорят, что им не место среди серьезных людей. Любители отвечают не словами, а только взглядом, который означает: «Слава тебе господи, что мне не место среди серьезных людей». Эд, Тед и Джон сидят среди профессионалов, Рой, его приятель, Уоррен и Коротышка – среди любителей.
Я сижу один, поглядываю на всех, пытаюсь понять, что я-то тут делаю, и отчаянно хочу раздобыть хоть что-нибудь, чтобы нажраться. Еда заглушила инстинкт на время, но я знаю, что скоро он снова проснется и будет еще сильней, чем раньше. Дайте что-нибудь. Дайте что-нибудь посильнее. Наполнить себя быстрее. Наполнить себя так, чтобы коньки отбросить. Леонард садится рядом со мной. На нем новый «Ролекс» и новая гавайка. На тарелке у него только сосиски и бекон, больше ничего.
Привет, малыш.
Он разворачивает салфетку, кладет на колени.
Привет.
Он берет другую салфетку, протирает нож, вилку и край стакана с апельсиновым соком.
Когда тебе починили зубы?
Вчера.
Что сделали?
Поставили две коронки и одну пломбу.
Я показываю слева.
А в этих заделали каналы.
Я тычу в два передних зуба. Стоят крепко.
Обезболили хорошо?
Вообще не обезболивали.
Не пизди.
Ей-богу.
Вообще ничего не вкололи?
Нет.
Сверлили каналы в передних зубах без наркоза?
Ну.
Леонард смотрит так, словно мои слова не укладываются у него в голове.
Впервые слышу о таком садизме.
Да, пришлось попотеть.
Попотеть – тут не самое подходящее слово.
Пришлось до хера попотеть.
Он смеется, откладывает вилку.
Где делают таких ребят, как ты, малыш?
Что ты имеешь в виду?
Откуда ты такой взялся?
Я много где жил.
Например?
А почему ты спрашиваешь?
Из интереса.
Брось интересоваться.
Почему?
Я не хочу заводить здесь друзей.
Почему?
Не люблю прощаться.
Ну, без этого не проживешь.
Проживешь.
Я встаю, беру поднос, снова встаю в очередь, беру еще еды, еще салфеток, направляюсь к пустому столу в углу, сажусь и ем. На этот раз медленнее. Чувствую, как с каждым проглоченным куском желудок растягивается. Ужасно неприятное чувство, но остановиться не могу. Глотаю кусок за куском, чувствую себя все хуже и хуже. Смотрю на еду, она больше не вызывает аппетита, но это не важно. Глотаю кусок за куском, чувствую себя все хуже и хуже. Дайте что-нибудь. Заполнить себя. Дайте что-нибудь. Заполнить себя.
Опустошив тарелку, встаю и медленно, медленно иду через столовую к конвейеру, ставлю на него поднос, и он уезжает в посудомойку. Оборачиваюсь – передо мной стоит Лилли. Хоть мы виделись совсем недавно, но я толком не разглядел ее, да особо и не смотрел на нее во время двух наших встреч. У нее черные волосы длиной до лопаток, синие глаза. Не голубые, как арктический лед, а синие, как глубокая вода. Кожа очень бледная, очень, очень, а губы пухлые и алые, как кровь, хотя она не пользуется помадой. Фигура хрупкая, исхудавшая. Джинсы старые, потертые, очень велики и висят на ней мешком. Она держит поднос и улыбается. Зубы у нее ровные и белые, сразу видно, что от рождения, без всяких брэкетов и без отбеливающей пасты. Я улыбаюсь в ответ. Она говорит.
Тебе сделали зубы.
Да.
Красиво вышло.
Спасибо.
Поживаешь хорошо?
Не очень. А ты?
Я в порядке.
Рад.
Я обхожу ее и иду к выходу. Знаю, что она смотрит мне вслед, но не оглядываюсь. Иду по коридорам, захожу в актовый зал, нахожу свободное место среди пациентов своего отделения и сажусь. Леонард садится рядом со мной, тогда я встаю и пересаживаюсь, чтобы нас разделяло пустое кресло. Он смотрит на меня и смеется. Я не обращаю на него внимания.
Начинается лекция. Тема – «Прими решение и доверься Богу». Мужик, который читает лекцию, вот уже десять лет как ведет трезвый образ жизни. Если случаются неприятности и что-то в жизни складывается не так, он доверяется Богу и идет на собрание Анонимных Алкоголиков. Бог решает его проблему на свое усмотрение, когда лучше, когда хуже, но сам мужик уже не заморачивается. Он просто ждет и надеется, ждет и ходит на собрания, и полагает – что бы ни случилось, это будет единственно правильным. Когда он разглагольствует про Бога и про свое доверие к этому альфа-самцу – всемогущему Богу, – его глаза сияют. Этот блеск мне хорошо знаком, видел его миллион раз – у тех, кто обдолбался до чертиков крепкой хорошей дурью. Этот Бог стал его наркотиком, который вставляет не по-детски, и мужик ловит от него полный кайф. Он парит высоко, как воздушный змей, возбужденно разглагольствует и неистовствует, мечется туда-сюда по сцене, Бог там и Бог сям, Бог здесь и везде, бла-бла-бла. Будь я поближе к нему, сумей дотянуться, врезал бы ему по хайлу, лишь бы заткнулся.
Он заканчивает, все под большим впечатлением, хлопают в ладоши. Я встаю, иду на выход. За дверью меня поджидает Кен.
Привет, Джеймс.
Привет.
Пройдем ко мне ненадолго.
Зачем?
Пришли результаты анализов, доктор Бейкер хочет поговорить с тобой.
Ладно.
Мы идем по ярко освещенным коридорам, которые напрягают меня, Кен пытается поддержать светский разговор, но мне не до Кена. Мне не до Кена, потому что потребность нажраться растет, внутри меня рождается крик, и думать ни о чем другом я не могу, ни на чем не могу сосредоточиться. Я готов убить сейчас ради выпивки. Убить. Выпить. Убить. Выпить. Убить.
Мы идем в терапевтическое отделение, Кен заводит меня в приемную и велит подождать. Сам уходит, я закуриваю и смотрю телевизор. Сигарета хороша на вкус, согревает мне горло, легкие, и хоть это самый слабенький из наркотиков, к которым я привык, но все же это наркотик, и зашел он охуенно. Плевать, как это скажется потом, главное, что сейчас мне хорошо.
В углу стоит кофемашина, я встаю и наливаю себе чашку кофе. Кладу сахара столько, что он больше не растворяется, делаю глоток, кофе такой горячий, что обжигает, и мне это нравится. Почти в тот же миг сердце начинает биться чаще, и хоть я равнодушен к кофе, но все же это наркотик, и зашел он охуенно. Я чувствую себя охуенно.
Возвращается Кен, говорит, что доктор ждет, я встаю, и Кен проводит меня через терапевтическое отделение в чистенькую беленькую лабораторию. Там три стула, окно, блестящие металлические стеллажи с инструментами, лабораторный стол вдоль стены и рентгеновский аппарат – висит возле двери. Доктор Бейкер сидит на стуле, в руках папка. Когда мы входим, он поднимается навстречу.
Здравствуй, Джеймс.
Он протягивает руку, я пожимаю.
Здравствуйте, доктор Бейкер.
Мы садимся.
Можно взглянуть на твои зубы?
Я улыбаюсь.
Прекрасно. Доктор Стивенс сказал, что ты держался как герой.
Доктор Стивенс очень добр ко мне. Поблагодарите его, когда будете говорить с ним в следующий раз.
Обязательно.
Скажите, зачем вы меня пригласили.
Доктор Бейкер открывает папку.
Я получил результаты анализов, которые мы брали несколько дней назад.
Очень плохо?
Он смотрит в папку, глубоко вздыхает. Откидывается назад и смотрит на меня.
Он говорит.
У тебя серьезно поражены нос, горло, легкие, желудок, мочевой пузырь, почки, печень и сердце. Я никогда не видел у человека столь молодого возраста такого сильного поражения внутренних органов. Нужно провести дополнительное обследование, чтобы уточнить характер заболеваний, и, если ты согласен, мы проведем его. А из тех данных, которые имеются, можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, ты счастливчик потому, что вообще еще жив. Во-вторых, если ты основательно напьешься или примешь любой сильнодействующий наркотик, то с большой вероятностью умрешь. В-третьих, если начнешь снова регулярно пить или принимать наркотики, то умрешь через несколько дней. Твой организм так пострадал от длительного и разнообразного издевательства, что больше не выдержит.
Кен смотрит на меня, доктор Бейкер смотрит на меня. Я смотрю в пространство, в окно, за которым по-прежнему беснуется буря. Теперь я знаю наверняка то, что давно подозревал. Я почти мертвец.
Сегодня чертовски приятный день.
Говорит доктор Бейкер.
Это не повод для шуток, Джеймс.
Я смотрю на него.
Я знаю, но что, черт подери, я могу сказать? Мне только что вынесли смертный приговор.
Говорит Кен.
Что ты имеешь в виду?
А как вы думаете, что я имею в виду?
Мы здесь для того, чтобы помочь тебе, Джеймс. Мы здесь, чтобы помочь тебе исправиться и научить, как перестать убивать себя. Если ты будешь выполнять наши рекомендации, следовать программе, которую мы составим, ты проживешь долго и счастливо.
Мне только что вынесли смертный приговор.
Это не значит, что он будет приведен в исполнение. Доверься нам.
Я смотрю на доктора Бейкера.
Вы хотите мне еще что-нибудь сказать?
Я надеюсь, что ты доверишься нам, дашь нам шанс помочь тебе. И я молю Бога, чтобы ты остался здесь.
Я смотрю на него. На глазах у него слезы, вид расстроенный. Ясно, что он огорчен и разочарован. Мне осточертело огорчать и разочаровывать людей, осточертело смотреть на их расстроенные лица. Все это я видел слишком часто. Этот доктор будет последним, кого я расстроил.
Спасибо, что уделили мне время и внимание. Я благодарен вам обоим. Спасибо.
Я встаю, открываю дверь, выхожу из лаборатории, закрываю за собой дверь и направляюсь в свою палату. Хотя мне только что сообщили, что дальнейшее употребление алкоголя и наркотиков убьет меня, и убьет очень быстро, все, чего я хочу сейчас, это хорошая выпивка или доза крэка. Дико хочу. Дайте мне что-нибудь. Дико хочу. Наполнить себя. Готов убить ради этого. Дайте что-нибудь. Готов убить ради этого. Наполнить себя. Я подыхаю.
Все люди вокруг меня, буквально все, заняты повседневными хлопотами. Пациенты идут на консультацию или на терапию, врачи и наставники лечат и наставляют. Одни получают помощь, другие ее оказывают, и все делают всё добровольно. Больные организмы восстанавливаются, мозги вправляются, люди налаживают свою жизнь, они следуют программе, они веруют в программу. Они перевернули новую страницу жизни, они полны веры в будущее, а как долго оно продлится, неважно. Сегодня они верят. Ума не приложу, как это им удается.
Вхожу в свою палату: кто-то подобрал Библию и Большую книгу, которые я выбросил, и положил обратно на тумбочку. Они промокли, страницы помялись, обложки порвались. От того, что книги на месте, что кто-то снова подсунул их мне, меня охватывает бешенство. Хватаю их, несу в ванную и запихиваю в мусорное ведро, к использованным лезвиям, ватным палочкам и сопливым платкам. Бросить бы их в унитаз да сверху насрать, но случится засор.
Возвращаюсь в палату, ложусь на кровать, закрываю глаза, последние слова доктора Бейкера проникают в сознание, проясняют ум, ослабляют инстинкт и замедляют сердцебиение. Я выслушал свой приговор. Несколько дней регулярного приема алкоголя или наркотиков – и мне конец. Я буду мертвецом, меня не станет, я исчезну. Перестану существовать в каком-либо виде, воплощении, форме. Наступит тьма, и она будет вечной. Вообще-то я всегда знал, что мой конец будет таким. Вообще-то я всегда понимал, что убиваю себя наркотиками и алкоголем. Понимал, когда напивался, понимал, когда качал по вене, понимал, когда втирал в десны, понимал, когда дышал в пакетик. Никто не виноват, только я сам. Я всегда все понимал. И не мог остановиться.
Воображаю себе мой некролог. Всю правду о моей жизни отбросят и заменят красивой ложью. Ни слова о том, как я жил, вместо этого – выражения типа «любимый сын», «любящий брат», «верный друг», «способный студент». Люди поменяют представление обо мне: из мерзкого подонка я превращусь в беспомощного страдальца, из опасного придурка – в бедную жертву, из обдолбанного наркомана – в несчастного ребенка. Будут говорить – боже мой, какая утрата. О, кем он мог бы стать! Перед ним открывались такие возможности, и что случилось? И все это будет вонючая ложь, все до последнего слова – ложь.
Я прекрасно понимаю, кто я такой, что натворил и почему стою на пороге смерти. Я смотрю правде в глаза, а правда очень проста. Я алкоголик, наркоман и преступник. Вот кто я такой, и только так обо мне и нужно вспоминать. Не надо розовой лжи, не надо выдумок, не надо притворного умиления и неискренних слез. Слез я не заслужил. Я заслужил, чтобы обо мне говорили правду, ничего другого я не заслуживаю, и я начинаю сочинять в уме правдивый некролог. Сочиняю некролог, который должен бы появиться, но никогда не появится. Начинаю с самого начала, придерживаюсь фактов, подхожу к финалу, каким я его представляю. Джеймс Фрей. Родился в Кливленде, штат Огайо, 12 сентября 1969 года. Стал тайком прихлебывать спиртное в семь лет. Впервые напился в десять. Впервые сблевал с перепоя в десять. Выкурил первый косяк в двенадцать. В тринадцать пил и курил регулярно. Впервые вырубился в четырнадцать. В пятнадцать три задержания. За управление автомобилем без прав, за вандализм и порчу частной собственности, за пребывание в состоянии опьянения в общественном месте и покупку алкоголя в несовершеннолетнем возрасте. Ночь провел в тюрьме. В пятнадцать впервые попробовал кокаин, кислоту и кристаллический мет. В шестнадцать еще три задержания. Стал употреблять алкоголь и наркотики перед занятиями в школе. Стал продавать алкоголь и наркотики одноклассникам. Стал вырубаться и блевать регулярно. В семнадцать еще три задержания. Впервые по статье Тридцать шестой «Вождение под воздействием алкоголя или наркотиков» был поставлен на учет. Отправился в тюрьму на неделю. Пил и кололся каждый день. В школе, дома, везде. Блевал и вырубался по семь раз в неделю. Впервые попытался завязать. Результат – делириум тременс, белая горячка. Выпил, чтобы прошла. В восемнадцать лет два задержания. Первый передоз, первое алкогольное отравление. Еще раз попытался завязать, продержался два дня. Впервые блевал кровью, первое носовое кровотечение, вызванное кокаином. Девятнадцать лет. Отрубался по пять раз в неделю. Первый раз обоссался в постели. Трясучка, если не выпить. Первый раз проснулся, не имея понятия, где нахожусь и как туда попал. Двадцать лет. Отрубался по семь раз в неделю. Блевал по семь раз на дню семь дней в неделю. Начал курить кокаин, амфетамин и «ангельскую пыль». Двадцать один. Три задержания. Нападение с оружием, нападение на офицера при исполнении служебных обязанностей, вождение под воздействием алкоголя или наркотиков, сопротивление при аресте, попытка подстрекательства к бунту, хранение наркотиков с целью распространения, нанесение увечья. Отпущен под залог. Впервые покурил крэк, стал курить крэк регулярно. Один передоз, три алкогольных отравления. Двадцать два года. Постоянное злоупотребление алкоголем, постоянное злоупотребление наркотиками. Принимал что придется, где придется, когда придется. Постоянная тошнота. Блевал и срал кровью каждый день. Четыре раза пробовал завязать. Дольше двенадцати часов ни разу не продержался. Двадцать три года. Злоупотребляю сильнее, здоровье быстро ухудшается. Сижу на системе. Два передоза, алкогольное отравление как норма. Редко понимаю, где нахожусь и как туда попал. Дважды пытался завязать, продержался в общей сложности шесть часов. Упал с пожарной лестницы, разбил лицо. Поступил в реабилитационный центр. Ушел из реабилитационного центра. Умер через два дня. В организме обнаружена смертельная доза алкоголя и кокаина. Смерть объясняется случайной передозировкой. Следовало бы считать самоубийством. Спланированным самоубийством. Покойный никого и ничего не оставил после себя. Семья поставила на нем крест, друзья поставили на нем крест.
Мой разум ясен, инстинктивный порыв прошел, сердце бьется медленно и ровно. Мысленный некролог завершен. Он завершен, к нему не придраться. Голая правда, пусть ужасная, но правда – это главное. Именно так обо мне нужно вспоминать, если вспоминать вообще. Вспоминать правду. Это главное.
Мой разум ясен, инстинктивный порыв прошел, сердце бьется медленно и ровно. Я принял решение, и это меня успокоило. Именно так я себе все и представлял, сейчас просто прояснились детали. Я уйду отсюда и прикончу себя. Уйду отсюда, раздобуду выпивки и крэка, сторчусь до смерти. Я уйду отсюда, уйду без оглядки, уйду, не попрощавшись. Я жил в одиночку, боролся в одиночку, терпел боль в одиночку. И умру в одиночестве.
Обдумываю, когда лучше уйти. Не хочу, чтобы меня засекли, хочу уйти быстро, незаметно, без сцен. Для этого нужна темнота. Темнота защищает, скрывает, утешает. Темнеть начинает ближе к обеду, но мое отсутствие на обеде бросится в глаза. Всем положено являться на обед, принимать пищу по расписанию, и, хотя у меня нет друзей, мое отсутствие все равно заметят. После обеда начинается лекция, это более подходящий момент. Во время лекции все снуют туда-сюда. Кто выходит в туалет, кто покурить, кто на встречу с наставником или мозгоправом, кто поблевать. Никто не забеспокоится, если я уйду с лекции, а когда хватятся, пройдет часа три-четыре, и я буду уже далеко, где меня не найдут. Я скроюсь в темноте. Останусь один. Останусь в покое. Никто не вернет меня назад.
Мой разум ясен, инстинктивный порыв прошел, сердце бьется медленно и ровно. Я уйду отсюда и прикончу себя. Эта мысль вызывает у меня улыбку. Эта мысль вызывает у меня улыбку, потому что она мрачная и ужасная. Эта мысль вызывает у меня улыбку, потому что в смерти больше нет загадки для меня, а без тайны нет страха. Эта мысль вызывает у меня улыбку, потому что я предпочитаю улыбаться, а не плакать. Эта мысль вызывает у меня улыбку, потому что скоро все закончится. Наконец-то все закончится. Наконец-то все закончится. Слава богу.
Я делаю глубокий вдох и думаю, сколько вдохов мне еще осталось. Чувствую, как бьется сердце, и думаю, сколько ударов еще осталось. Провожу руками вдоль тела – оно теплое и мягкое, а скоро станет холодным и твердым. Ощупываю волосы, глаза, нос, губы. Ощущаю, как пробиваются усы. Касаюсь кожи на шее, груди, руках. Скоро все это сгниет. Разложится на молекулы, рассыплется в прах. Исчезнет. Ни следа не останется. Пепел к пеплу, прах к праху. Обратимся в то, из чего возникли. Скоро я буду гнить, разлагаться, рассыпаться.
Услышав, как открывается дверь, сажусь. Входят Рой и Линкольн. Рой ухмыляется, Линкольн кривится. Линкольн говорит.
Чего делаешь?
Сижу.
Почему не в группе?
Охота побыть одному.
Надо общаться.
Не хочется общаться.
Тут не всегда делают то, что хочется.
Если вы пришли лаяться из-за группы, я сейчас пойду туда. Если пришли лаяться по другому поводу, отвалите.
Линкольн оборачивается к Рою.
Рой.
Рой делает шаг вперед.
Ты не вымыл общий сортир сегодня.
Я смеюсь. Рой смотрит на Линкольна. Линкольн говорит.
Не вижу ничего смешного.
Этот кретин наезжает на меня.
Рой говорит.
Я ни на кого не наезжаю. Ты не вымыл общий сортир сегодня.
Я снова смеюсь.
Отвали, Рой.
Рой смотрит на Линкольна. Линкольн смотрит на меня.
Там грязно, Джеймс. Он только что показывал мне.
Я смотрю на него.
Я вымыл его часа в четыре утра. Отполировал так, твою мать, что он блестел. Если сейчас там грязно, значит, кто-то гадит, скорее всего, он сам и гадит, чтобы докопаться до меня.
Рой говорит.
Неправда.
Я смеюсь.
Пошел ты, Рой.
Он оборачивается к Линкольну. Скулит, как шкодливый пацан.
Это неправда.
Линкольн говорит.
Неважно, было там чисто в четыре утра или нет. Твоя обязанность следить, чтобы там было чисто всегда, а сейчас там грязно, как в жопе. Ты должен пойти и снова вымыть.
Как бы не так.
Именно так.
Как бы не так, подавись ты.
Именно так.
Ты башкой трахнулся, если думаешь, что я хоть пальцем прикоснусь к этим туалетам. Я вымыл их утром, а Рой нагадил там, чтобы докопаться до меня. Пусть Рой и отмывает теперь, на хер.
Линкольн делает шаг вперед, я откидываюсь на спинку кровати. Он нависает надо мной, приближает свое взбешенное лицо.
Ты пойдешь и отмоешь их, нравится это тебе или нет, и пойдешь прямо сейчас, и посмей еще хоть слово возразить. Понял меня?
Я вскакиваю с кровати, стою, глядя ему глаза в глаза.
А то что? Ты заставишь меня?
Смотрю ему прямо в глаза.
Ты заставишь меня?
Смотрю ему прямо в глаза.
Ну, давай, Линкольн. Что ты сделаешь?
Мы смотрим друг на друга, дышим тяжело, челюсти сжаты, оба замерли в стойке, как перед прыжком. Я знаю, что он ничего не сделает, и это дает мне преимущество. Я знаю, что если он тронет меня, то лишится своей должности. Я знаю, что он слишком дорожит своей работой, чтобы рисковать ей из-за меня. Я понимаю, что он размяк за годы трезвости и что черная одежда, ботинки, стрижка – это все неспроста, а для создания имиджа крутого парня. Я знаю, что ничего он не сделает, и мне смешно от того, что он зашел так далеко. Я хохочу ему в лицо. Он говорит.
Не вижу ничего смешного.
Я снова хохочу.
Не буду я чистить твои сраные туалеты, Крутой мужик. На хер твои туалеты.
Я обхожу его стороной.
Джеймс.
Я не останавливаюсь.
Ни хера не буду.
Я прохожу мимо Роя и выхожу из палаты, иду на верхний ярус, выпиваю чашку кофе, выкуриваю парочку сигарет, и никотин с кофеином делают свое благое дело. Сердцебиение учащается, а мысли замедляются, вместо рук начинают подрагивать ноги. Никотин с кофеином достаточно крепки, чтобы подействовать, но недостаточно крепки, чтобы подбить меня на безобразия. Мне нравятся кофеин с никотином, особенно в сочетании. Один бодрит и возбуждает, другой успокаивает и замедляет. Они как прилив и отлив, так что я наслаждаюсь обоими полюсами спектра. То ускорение, то замедление, и все оттенки, что между ними. Приятно экспериментировать с дозами и степенями, приятно управлять своим кайфом. Все равно что стрелять по мишени. Я испытываю ощущения, получаю удовольствие и не подвергаюсь опасности. Я полностью контролирую свои действия и свои чувства. Но это как в перестрелке – едва начнется стрельба всерьез, а не по мишени, весь самоконтроль летит к чертям. К чертям собачьим. Тут уж набирай скорость, накручивай обороты, еще и еще. Пока не сдохнешь.
Групповые занятия заканчиваются, народ отправляется в столовую на обед. Я иду следом, ем за одним столом с Леонардом. Он задает кучу вопросов, я не отвечаю ни на один. Он находит это забавным, я тоже, в какой-то момент он сдается и начинает травить байки про наших коллег-пациентов. У всех одно и то же. Все имел, все просрал, остался без ничего. Теперь пытается все вернуть. Великая Американская Трагедия.
После обеда идем на лекцию про то, как важно прилагать усилия и вести здоровый образ жизни. Я не слушаю ни фига, мне вообще начхать, а Леонард кидает монетки в Лысого Коротышку, моего соседа по палате. Он целится в лысый череп и радуется, если попадает в самый центр лысины. Почему-то Коротышка это терпит. Лекция заканчивается, мы возвращаемся в отделение, и я иду на свой первый сеанс групповой терапии. Тема – искупление вины. Группу ведет Кен, все обсуждают, необходимо ли покаяние. Кен считает, что это обязательно, с ним почти все согласны. Покаяние позволяет начать жизнь с чистого листа, избавиться от пагубных пристрастий, освободиться от прежней жизни. Не важно, простят тебя или нет. Важно, что ты раскаиваешься, просишь о прощении и признаешь свою вину.
С этой точкой зрения не согласны только самые отпетые в группе. Они осознают: то, что они натворили, не подлежит прощению. Они не хотят предаваться раскаянию, потому что вспоминать о том, что натворили, и после этого быть отвергнутыми – слишком больно. Они хотят идти дальше и все забыть, даже если забыть невозможно. Я тоже среди таких. Я знаю, что меня простить нельзя, и не стану даже просить об этом. Моим искуплением будет моя смерть. Те, кого я мучил, больше не увидят меня, не услышат меня, не вспомнят обо мне. Я больше не смогу мучить их, отравлять им жизнь, причинять им боль, как раньше. Забудьте меня, если получится. Забудьте, что я существовал, забудьте все, что я сделал, что бы я ни сделал. Мое самоубийство – вот моя просьба о прощении. Если даже она будет отвергнута, забудьте обо мне. Прошу, забудьте.
После окончании группы все собираются на нижнем ярусе, и начинается церемония выписки. Рой и его дружок покидают клинику. Срок их пребывания закончился, они прошли свои программы и теперь готовы к возвращению в большой мир. Каждый получает Медаль и Камень. Медаль означает, что они обрели трезвость, Камень – что они полны решимости оставаться чистыми. Каждый произносит небольшую речь. Примерно половина присутствующих терпеть их не может и считает говном, но другая половина восхищается ими и желает удачи. Я сижу в заднем ряду с Леонардом, который читает спортивную страницу «Юэсэй тудей» и ругается шепотом.
Церемония заканчивается, все аплодируют, Рой обходит собравшихся, чтобы обняться и попрощаться. Меня он огибает стороной, его дружок тоже. Вид у обоих счастливый, в глазах блеск неофитов. Они сжимают Медаль и Камень, просят приятелей расписаться на обложке их экземпляров Большой книги. И все же в обоих можно заметить неуверенность и испуг. Кажется, будто они убегают и пытаются спрятаться от чего-то. Кажется, они понимают, что за ними кто-то охотится. Бьюсь об заклад, что они продержатся месяц, не больше. Месяц в лучшем случае.
Все расходятся по своим палатам и готовятся к ужину. Я тоже иду к себе и готовлюсь к побегу. Снимаю «оксфордку» Уоррена, надеваю свою футболку, пишу Уоррену записку с благодарностью, прячу в нагрудный карман «оксфордки» и кладу рубашку на его кровать. Возвращаюсь к своей кровати, пишу еще одну записку, в ней указываю адрес клиники, прошу вернуть куртку по этому адресу и отдать Хэнку, благодарю Хэнка за его доброту и дружбу. Записку кладу в нагрудный карман куртки, чтобы ее обнаружили, когда найдут мое тело, надеваю куртку, оглядываюсь вокруг – не оставил ли каких-нибудь своих вещей, но у меня нет своих вещей. Заглядываю в тумбочку, под кровать, под одеяло, в медицинский шкаф, в душ. Ничего. У меня ничего нет.
Иду в столовую, встаю в очередь, беру поднос, вдыхаю запах съестного, он расползается по организму, я чувствую голод. Я голоден, голоден, голоден, я хочу жрать, много-много. Сегодня на ужин рубленый бифштекс с картофельным пюре, подливой и брюссельской капустой и яблочный пирог. Все это я люблю, и хорошо, что именно это будет моей последней нормальной едой в жизни. Я беру столько, сколько женщина за прилавком согласна выдать, прихватываю приборы и салфетки, нахожу пустой стол, сажусь, расстилаю салфетку на коленях, делаю глубокий вдох. Возможно, это последняя нормальная еда в моей жизни.
Бифштекс отличный, сочный, мягкий, а пюре из настоящей картошки, и подливка теплая, густая, пропитанная вкусом говядины. Я ем медленно, смакую каждый кусочек, жую, пока он не растворится во рту. Мама готовила нам с Братом рубленый бифштекс, когда мы были маленькие, точь-в-точь такой же, один раз в неделю. Я ел такой бифштекс в детстве и ем сейчас, во время своей последней трапезы, и от этого накатывают воспоминания о детских ужинах, и не только о них. Отец пропадал на работе или разъезжал по командировкам, а мы с Братом были в школе или носились где-нибудь возле дома. Каждый вечер в шесть тридцать садились ужинать вместе с Мамой. Она вкусно готовила и любила этот обычай – ужинать с нами. После ужина мы смотрели телевизор или играли, или она нам читала. Когда Отец бывал дома, мы проводили время вместе, все вместе, пока не наступала пора нам с Братом ложиться спать. Мы были Семьей, счастливой семьей, и оставались ей, пока я не начал выделываться. Как здорово, если б моя семья оказалась сейчас здесь. Хоть наша связь и распалась за последние годы, но все равно было бы славно в последний раз поужинать с ними. Вряд ли у нас нашлись бы общие темы для разговора, но все равно было бы славно повидать их и попрощаться. Вряд ли у нас нашлись бы общие темы для разговора, но все равно было бы славно пожать им руку, сказать, что мне жаль, что все так вышло, что в том, кем я стал, нет их вины. Вряд ли у нас нашлись бы общие темы для разговора, но я хотел бы попросить их, чтобы они забыли меня.
Закончив есть, я откидываюсь на спинку стула и замечаю Леонарда, который направляется ко мне с подносом. Ставит поднос на стол, садится напротив, разворачивает салфетку и протирает свои серебряные приборы.
Как ты, малыш?
Хорошо.
Неужели хорошо?
Да, хорошо.
Впервые слышу от тебя такое.
Разобрался кой с каким дерьмом.
То есть?
Не твое дело.
Когда-нибудь мы потолкуем с тобой.
Не будет этого.
Тебе надоест ходить одиноким засранцем, захочется с кем-нибудь поговорить, и мы потолкуем с тобой.
Не будет этого.
Ничего, я терпеливый, своего дождусь.
Я смеюсь.
Да-да, терпеливый, своего дождусь. Попомни мои слова.
Я беру поднос, встаю.
Удачи тебе во всем, Леонард.
Это еще что значит?
Удачи тебе во всем.
Я отворачиваюсь, отношу поднос на конвейер и направляюсь к выходу из столовой. Проходя по стеклянному коридору, разделяющему мужчин и женщин, замечаю Лилли, которая сидит за столом одна. Взглянув на меня, она улыбается, наши глаза встречаются, и я улыбаюсь в ответ. Она опускает глаза, я останавливаюсь и смотрю на нее. Она поднимает глаза и снова улыбается. Кажется, девушки красивее я не видел. Глаза, губы, зубы, волосы, кожа. Черные тени под глазами, шрамы на запястьях, я их углядел. Она носит нелепую одежду, которая больше нее на десять размеров, она носит печаль и боль, которая больше нее на сто размеров. Я стою и смотрю на нее, все смотрю, смотрю, смотрю. Мужчины проходят мимо, другие женщины начинают обращать на меня внимание, а Лилли не понимает, что со мной, зачем я стою и смотрю, и на щеках у нее появляется румянец, и он прекрасен. Я стою и смотрю. Смотрю, потому что знаю – там, куда я ухожу, ничего красивого не увижу. Крэк продают не в сказочных дворцах и не в сувенирных лавках, курят его не в роскошных отелях и не в загородных клубах. Крышесносный дешевый алкоголь не подают в мишленовских ресторанах, в дорогих барах, в гурманских гастрономах или в винных бутиках. Я ухожу в мрачные закоулки жутких трущоб, где заправляют жуткие типы, которые толкают отраву отбросам общества. Там не увидишь никакой красоты, ничего даже отдаленно похожего на красоту. Там только барыги, наркоманы, преступники, шлюхи, сутенеры, убийцы и рабы. Там наркотики, бутылки, шприцы, колеса, дым, смрад, блевотина, кровь, гниль, разложение и распад человека. Я провел много времени в таких местах. Уйдя отсюда, я разыщу такой притон и останусь там, пока не сдохну. А пока не ушел туда, я хочу насмотреться на прекрасное. Насмотреться в последний раз, чтобы, умирая, вызвать в своем сознании этот образ, чтобы, испуская дух, представить себе лицо, от которого рождается улыбка, и посреди смертного ужаса найти хоть малое прибежище человечности.
Какая-то тетка подходит к Лилли, наклоняется и шепчет что-то ей на ухо, Лилли качает головой и пожимает плечами. У тетки такой вид, словно она наделена властью, я не хочу доставлять Лилли неприятности из-за своих причуд. Дожидаюсь, пока она снова взглянет на меня, улыбаюсь ей, она улыбается в ответ прекрасной, удивительной улыбкой, и в сознании у меня запечатлевается образ, о котором я мечтал. Прощай, Лилли. Я сохраню твой образ, милая. Прощай, благодарю тебя. Я иду на лекцию, нахожу место в заднем ряду, сажусь и смотрю прямо перед собой, не замечаю никого и ничего. Через пятнадцать минут меня здесь не будет, отправлюсь отсюда прямиком в ад. В принципе, исполнить то, что я задумал, проще простого. Встал, прошел к выходу, вышел. Но вдруг мой план начинает шататься. План дает трещину, решимость тает.
Я собираюсь умереть. После смерти я буду мертв, исчезну, перестану существовать. Не буду мыслить, дышать, чувствовать. Наступит чернота, и она будет всегда. Наступит тишина, и она будет всегда. Я собираюсь умереть. Я глубоко вздыхаю. Я поступаю правильно. Я поступаю правильно. Я поступаю правильно. Пора закончить этот спектакль, пора убраться со сцены. Мне невыносима моя жизнь, невыносим я сам. Я не в силах взглянуть себе в глаза, не в силах выдержать отражение своего лица в зеркале. Я пытался исправиться, но не смог. Пора умирать. Леонард садится рядом, смотрит на меня. Я смотрю прямо перед собой.
Зачем ты надел эту теплую куртку?
Не реагирую.
Замерз, что ли?
Не реагирую.
Зачем ты надел эту теплую куртку?
Не сводит с меня глаз.
Отвечай, мелкий засранец.
Смотрю прямо перед собой.
Зачем ты надел эту теплую куртку?
Не реагирую. Он протягивает руку, кладет мне на плечо, трясет меня.
Почему ты пожелал мне удачи во всем?
Я убираю его руку со своего плеча, кладу ему на колени, поворачиваюсь и смотрю ему прямо в глаза.
Отстань от меня, черт тебя подери.
Он тоже смотрит мне прямо в глаза.
Почему ты пожелал мне удачи во всем?
Отстань от меня, старина. Отстань, черт тебя подери.
Я отворачиваюсь от него, смотрю прямо перед собой. Чувствую, что он по-прежнему не сводит с меня глаз. Понятия не имею, чего ему надо, какое ему дело до меня и чего он добивается. Если хочет остановить меня, ему это не удастся, я по-любому уйду. Мне пора умирать.
Лекция начинается, он отворачивается от меня, смотрит на сцену. На сцене парень примерно моих лет начинает рассказывать свою историю. Пацаном он попивал пивко, покуривал травку, а в четырнадцать взялся за ум. Вступил в Анонимные Алкоголики, открыл для себя Высшую силу, и это изменило его жизнь. В школе стал круглым отличником, поступил в Гарвард. Сейчас он инвестиционный банкир, помолвлен и собирается жениться. Он по-прежнему ходит на собрания, полностью полагается на Высшую силу, каждый вечер встает на колени и молится перед сном. Когда рассказывает о своем нечестивом прошлом, называет пиво варевом, а траву косяком. Он говорит, как прятался за углом и отхлебывал из фляжки в школе во время танцев. Он говорит, что страдает от стыда и чувства вины за свои поступки.
Меня не колышет этот парень ни с какой стороны. Меня не колышет, что он пил варево и покуривал травку, прятался за углом и отхлебывал из фляжки. Я не считаю эти шалости мало-мальски серьезной наркозависимостью. Я не считаю, что подобные шалости требуют лечения. Я полагаю, этот парень вступил бы в группу «Двенадцати шагов» даже потому, что он много смотрит телевизор, обжирается хот-догами, подолгу играет в пришельцев или часто ковыряет в носу. Нашел бы повод. Я полагаю, что не попадись ему «Двенадцать шагов», он отыскал бы свидетелей Иеговы или христиан-пятидесятников, хасидов или группу спасения неопознанных летающих объектов. Я полагаю, что причина его вступления в общество Анонимных Алкоголиков не травка и не пивко, не пристрастие к ним, а просто потребность быть частью какой-то общности. Быть частью – меня это никогда особо не привлекало, за эту радость я и горсти дерьма не дам. Я всегда жил в одиночестве. И умру в одиночестве.
Встаю, пробираюсь между рядами к выходу. Когда прохожу мимо Леонарда, он хватает меня за руку. Я вырываю руку, продолжаю путь, иду мимо сидящих людей, выхожу из зала, выхожу из отделения, выхожу из корпуса. Оказываюсь на улице, кругом холод, дождь, ветер, слякоть и мрак, на меня набрасывается тьма и все то, что прячется в ней.
Наглухо застегиваю куртку, поднимаю воротник, делаю глубокий вдох и всматриваюсь во тьму. Там меня ждут. Алкоголь, наркотики, барыги, наркоманы, преступники, шлюхи, сутенеры, убийцы, рабы, бутылки, шприцы, колеса, дым, смрад, блевотина, кровь, гниль, разложение и распад человека. Все это прячется во тьме и ждет меня.
Я покидаю навес над крыльцом и пускаюсь в путь. Шаг за шагом, все дальше и дальше. Холод хватает и не отпускает, дождь хлещет, под ногами хлюпает слякоть, месиво из глины и воды, тьма такая, что хоть глаз выколи. Дальше, дальше и дальше, шаг за шагом, меня ждут, меня ждут. Я одолел метров десять, слышу, как открывается дверь, оглядываюсь – Леонард выходит на крыльцо. Он без куртки, вмиг промок насквозь, спешит ко мне.
Эй, малыш.
Я отворачиваюсь, продолжаю свой путь. Слышу, как хлюпают его шаги, как они ускоряются, Леонард приближается. Я знай иду своим путем.
Погоди секунду, малыш.
Не тормозить, не останавливаться, не оборачиваться.
Куда ты намылился?
Шаги ближе.
Куда ты намылился?
Рука на моем плече. Скидываю ее.
Погоди секунду, малыш.
Рука на моем плече. Скидываю ее. Две руки на моих плечах. Они сильнее, чем я ожидал. Останавливают меня, разворачивают. Леонард насквозь промок, с него капает вода. Он говорит.
Куда намылился?
Я скидываю его руки с себя.
Отстань от меня.
Делаю шаг прочь.
Куда намылился?
Он делает шаг за мной.
Подальше отсюда.
Чего хочешь?
Обдолбаться.
Только попробуй.
Уж не ты ли мне помешаешь?
Я.
Останавливаюсь, оборачиваюсь, беру его за горло, давлю на кадык. Я не хочу, чтобы он увязался за мной, помешал мне. Я во тьме, где хоть глаза выколи. Я на пути к Дому.
Отстань от меня, старина.
Я толкаю его на землю. Он хватается за горло, кашляет. Я продолжаю путь, свет из окон клиники меркнет, тьма плотнее окутывает меня. Слышу, как Леонард поднимается и направляется за мной, сжимаю кулаки и готовлюсь дать ему отпор посерьезнее.
Вижу я твои кулаки, малыш, вижу. Ничего ты кулаками не добьешься.
Продолжаю путь.
Даже если ты мне врежешь сейчас, все равно я разыщу тебя и верну сюда.
Он идет за мной.
И сколько раз ты сбежишь – столько раз я тебя разыщу. Пока наконец твоя дурацкая башка не встанет на место, и ты не возьмешься за ум.
Продолжаю путь.
Ты не знаешь, кто я, понятия не имеешь, кто я, но имей в виду, у меня есть кой-какие возможности, и я ими воспользуюсь, черт подери. Я буду тебя возвращать снова и снова.
Я останавливаюсь, оглядываюсь. Он в нескольких шагах от меня. Он тоже останавливается и смотрит на меня.
Снова и снова, малыш. Я от тебя не отступлюсь.
Сказано тебе – отвяжись.
Идем обратно.
Нет.
Куда ты намылился?
Надраться.
А потом?
Потом видно будет.
Потом смерть.
Может быть.
Смерть – это смерть. Это навсегда.
Знаю.
Обратной дороги нет.
Знаю.
Зачем тебе это надо?
Я так решил. Ничего другого не остается.
Неправда.
Он делает шаг навстречу.
Еще шаг – и я ударю тебя.
Я дам сдачи.
Не дашь.
Чего ты так боишься, малыш?
Пошел ты на хер.
Он делает шаг навстречу.
Чего ты боишься?
Сдай назад, старина.
Он смотрит на меня, я на него. Он отступает назад и говорит.
Сам-то я никого не боюсь, но куча людей тут обосралась со страху из-за тебя. Эд и Тэд больше не садятся ко мне за стол, потому что боятся – вдруг ты набросишься на них. Целый день только и разговоров о том, как ты опустил Линкольна и хохотал ему в лицо, когда он попробовал наехать на тебя. Хоть лично я от всех твоих выходок в полном восторге, все же не стоит так себя вести. Это нехорошо, малыш.
Уж такой я человек.
В душе ты не такой.
Пошел на хер.
Меня не проведешь.
Пошел на хер.
Меня не проведешь.
ПОШЕЛ НА ХЕР.
Ладно, посылай меня. Ступай, раздобудь еще дури или чего там тебе надо, обдолбайся и сдохни под забором в моче и говне. Это славный конец, малыш, достойный конец. Есть чем гордиться.
Я так решил.
Если думаешь, что ты сам так решил, сильно ошибаешься. Решает за тебя отрава, на которую ты подсел, она управляет тобой и не позволяет завязать. Когда уйдешь отсюда, отрава добьет тебя, а это неправильно, черт возьми.
Может, и неправильно. А может, правильно.
Неправильно, дуралей. Так что как насчет того, чтобы вернуться в клинику и вести себя как мужчина, черт возьми? Как насчет того, чтобы вернуться назад и побороться, черт возьми? Как насчет того, чтобы вернуться и вести себя разумно, и выказать чуток достоинства, совсем чуток достоинства, черт возьми?
Исключено.
Почему?
Потому.
У тебя хватает сил терпеть, когда сверлят зубы без наркоза, у тебя хватает сил запугать этих обдолбанных дебилов так, что они в штаны наложили, у тебя хватает сил жить так, чтобы сторчаться до этакого состояния, так неужели у тебя не хватит сил, чтобы вернуться в клинику и попробовать вылечиться?
Нет.
Почему.
Я уже пробовал. Не получилось.
Почему?
Трудно.
Жить вообще трудно, малыш. Нужно стать трудолюбивым. Нужно принять решение, бороться, вести себя как мужик, черт возьми. Если ты готов при мысли об этом наложить в штаны, тогда, может, и правда лучше уйти. Значит, ты и так уже умер.
Я смотрю на него, он на меня. Он смотрит на меня не так, как другие, – в его взгляде нет ни жалости, ни скорби, словно смотрят на конченого человека. В его взгляде злость, упрямство, решимость. В его взгляде правда, а только правда имеет значение. Правда. Не знаю, почему он пошел за мной, почему ему не все равно на меня, но по его глазам вижу: он думает то, что говорит. И он исполнит то, что говорит.
Какого хера тебе это надо, возиться со мной?
Затем, что надо.
Зачем?
Неважно, зачем. Важно, что я здесь, и я от тебя не отстану, говори что хочешь, делай что хочешь. Ты можешь упростить жизнь мне и себе – вернуться в клинику прямо сейчас, ты можешь все усложнить – тогда мне придется кликнуть своих ищеек. В любом случае ты пробудешь в клинике, пока не поправишься.
Не могу обещать, что поправлюсь.
Обещай только, что попытаешься.
Я смотрю на него.
Попытка не пытка, малыш.
В его глазах правда. А только правда имеет значение.
Попытки-то нечего бояться.
Правда.
Просто попытайся.
Я делаю глубокий вдох. Смотрю на него. Я в кромешной тьме, хоть глаза выколи, мне там привычно. Если не считать времени в клинике, я прожил не под кайфом четыре дня из последних шести лет. Мои попытки завязать были обречены. Среди спиртного, среди наркоты, среди людей, которые употребляют. Я сидел на системе. Я весь целиком, физиологически, эмоционально и умственно, подсел на два вещества. Я полностью, физиологически, эмоционально и умственно, подсел на свой образ жизни. Я ничего другого не знаю, ничего другого не помню, ничего другого не умею. Не знаю, смогу ли теперь стать другим. Не поздно ли. Мне страшно даже пытаться. До усрачки страшно. Я всегда считал, что у меня две возможности: тюрьма или смерть. Я никогда не рассматривал завязку как возможность, потому что не верил, что она возможна. Мне до усрачки страшно.
Я смотрю на Леонарда. Я не знаю его. Не знаю, кто он такой, чем занимается, как оказался в клинике. Не знаю, почему он следует за мной и возится со мной. Я знаю только его глаза. Я знаю только, что в его глазах злость, упрямство, решимость и правда. Я знаю только, что мне нравятся его глаза, я верю им. Я знаю только, что его глаза отличаются от тех глаз, которые смотрели на меня все эти годы – осуждали, жалели, вычеркивали. Я знаю только, что этим глазам можно верить, потому что мне знакомы чувства, которые вижу в них.
Двадцать четыре часа.
Что значит двадцать четыре часа?
Я останусь здесь еще на двадцать четыре часа. Если буду чувствовать себя так же, как сейчас, то уйду.
Тогда я пущу по твоему следу своих ищеек.
Давай. Я головы им поотрываю.
Он улыбается.
А ты грозный засранец, малыш.
Помни об этом, старина.
Он смеется.
Иди ко мне, я хочу тебя обнять.
Я не двигаюсь с места.
Я согласился остаться еще на двадцать четыре часа. Это не значит, что буду с тобой обниматься или что мы теперь друзья.
Он снова смеется, шагает ко мне, протягивает руки и обнимает.
Просто попытайся, и все.
Я вырываюсь, он машет туда, где еле видны освещенные окна клиники.
Чертовски холодно, я насквозь промок и не хочу подхватить простуду. Идем обратно.
Я не хочу снова слушать идиотскую лекцию.
Это твое дело – слушать или нет. Главное, чтоб ты находился в клинике – больше мне ничего не надо.
Мы идем обратно, я открываю дверь, вхожу. Свет горит ярко, я этого не выношу, мне до усрачки страшно.
Прямо до смерти.
Страшно.
До усрачки.
Я на улице. Сижу на деревянной скамейке позади главного здания клиники. Справа и слева от меня по пустой скамейке, передо мной маленькое озерцо. Мне холодно, я дрожу, а по лбу и груди течет пот, руки, ноги и сердце дрожат мелкой дрожью то быстрее, то медленнее, зуб на зуб не попадает, во рту пересохло, а куртка, брюки, рубашка, ботинки, носки – все кишит клопами. Я их вижу, слышу, чувствую и все же понимаю, что их на самом деле нет. Мне холодно. Я вижу клопов, слышу, чувствую клопов, но знаю, что их на самом деле нет. Мне холодно.
Я не спал и вряд ли смогу в ближайшее время уснуть. Я пытался заснуть, но Уоррен храпел, Лысый Коротышка храпел, а Джон стонал, ворочался, кричал во сне, и я думал о своем решении остаться здесь еще на двадцать четыре часа. Мой ум согласился с этим решением, и мое сердце согласилось, ум и сердце готовы его исполнить, но мое тело не согласно, категорически возражает и протестует. Организм требует алкоголя и наркотиков, требует в больших количествах. Я встал, шагал по палате под симфонию храпов, стонов и вскриков в надежде переубедить свое тело, уговорить его, но безрезультатно. Организм требует своего, и в гробу он видел эти двадцать четыре часа. Осталось еще восемнадцать часов. Я не ношу наручных часов, не смотрю на часы, но и без того знаю. Осталось еще восемнадцать часов.
Я вышел из палаты, вышел из отделения, пару раз обошел вокруг всех корпусов. Везде темно и тихо, кроме терапевтического отделения. Там горит свет, оттуда слышатся крики. Я постоял, послушал и тоже закричал в ответ. Кричал во всю глотку, но меня никто не услышал и никто мне не ответил. Я кричал во всю глотку, но меня никто не услышал.
Я отыскал скамейку, сел на нее и сижу, деревянные доски промокли, и мои штаны тоже. Смотрю на озеро. Поверхность воды черная, гладкая, между обломанных веток и мертвых листьев плавают тонкие, длинные, хрупкие льдинки. Ночь сгустилась, как бывает перед рассветом, буря затихла, ветер и дождь со снегом прекратились. Я смотрю на озеро, обливаюсь потом, зуб на зуб не попадает, сердце дрожит мелкой дрожью то быстрее, то медленнее и болит, и повсюду ползают эти чертовы клопы. И что ни делай – от них не избавиться.
Я думаю о ней. Я думаю о ней даже тогда, когда не хочу. Я думаю о ней, потому что не могу забыть ее, потому что все время оглядываюсь на прошлое, в котором была она. Ее невозможно заменить. Я не могу забыть то, что было и никогда не повторится. Я не могу примириться с тем, что ее нет, нет, нет. Я не могу примириться с тем, что это я довез ее до кинотеатра. Я был с ней. Я любил ее. Я отвез ее. Я думаю о ней даже тогда, когда не хочу.
Через два дня после того, как впервые побывал у нее, я снова отправился к ней в комнату. Перед этим выхлебал бутылку вина и выкурил пачку сигарет, отрепетировал, что скажу ей, когда она откроет дверь. Подошел к двери, замер и уставился перед собой. Сердце колотилось, руки дрожали, голова кружилась.
Я постучался, и другой голос, не ее, попросил подождать минутку. Я стоял, ждал, а сам трясся от страха, трясся от страха, и вот дверь открылась, на пороге стояла высокая Девушка с пухлыми красными губами, улыбкой до ушей, каштановыми волосами и карими глазами. Это была не она.
Я прям ждала, что ты зайдешь.
Ты кто?
Люсинда. Подруга Эд. Пройдешь?
Спасибо, да.
Я зашел в типичную общежитскую комнату: два стола, два окна, два старых кресла, груды тетрадей и книг, пара коробок из-под пиццы, несколько пустых банок из-под пива, ковры на стенах, стереопроигрыватель в углу, на нем стопка CD, антресоли с двумя кроватями. Оглядевшись, я заметил ее – она сидела на кровати и читала книгу. Свет падал из окна на ее лицо, за всю жизнь я не видел ничего прекрасней. Если б мое сердце в ту минуту остановилось, я бы умер счастливым, сознавая, что жизнь моя исполнилась до конца – я увидел все, что хотел и ради чего родился. Умереть. Дайте мне умереть.
Люсинда открыла маленький холодильник, вынула пару банок пива.
Хочешь?
Нет.
Не против, если я выпью?
Пей, если хочешь.
Люсинда открыла банку, она отложила книгу, и они обе стали смотреть, как я вынимаю из кармана пакет. Товар был качественный, лучший из того, что я мог раздобыть, и уж точно лучше всего, что продавали на кампусе. Зеленый, волокнистый, ядреный товар, запах такой, что даже через полиэтилен пробивается. Я бросил пакет Люсинде.
Берете?
Она открыла пакет.
Настоящий друг.
Сделала глубокий вдох.
Почем отдаешь?
Закрыла пакет.
Даром.
Брось.
Да.
С чего вдруг?
Настроение хорошее.
Спасибо.
Я дам тебе номер телефона. Если потребуется добавка, просто позвони и скажи, что от меня. Они подвезут.
Спасибо тебе.
Никому не давай этот номер. Обычно я так не поступаю, и они не любят, когда им звонят незнакомые люди.
Люсинда села в кресло, вытащила лист бумаги из пачки, расстелила на коленях и начала вытряхивать содержимое пакета.
Сам с нами покуришь?
Я чувствовал, что она смотрит на меня с антресолей. Я смутился.
Я не курю опий.
Честно?
Честно.
Я открыл дверь.
Пока.
Спасибо тебе.
Я кивнул и, закрывая дверь, бросил на нее взгляд – она смотрела на меня, и наши глаза встретились, она улыбнулась, и я понял: не только я нервничал и не только у меня руки тряслись. Я хотел бы умереть. Хотел бы умереть тогда.
Тьма рассеивается, восходит солнце. Красные, желтые и оранжевые краски расползаются по темно-синему фону, щебет проснувшихся птиц россыпью отражается от черного зеркала озера, вслед за ночью уходит пронизывающий холод. Я встаю, иду в отделение, роса на пожухшей траве пропитывает ботинки, я смотрю, как мои ноги уничтожают кристальное совершенство капель утренней росы – капли росы пополняют список того, что я разрушил, не сумел сберечь и сохранить, пополняют список красоты, которая исчезла по моей вине. Я не останавливаюсь. Уничтожаю, не останавливаясь, не меняя курса, не оглядываясь. Оглядываться больнее всего, поэтому иду вперед.
Открываю дверь, прислушиваюсь – внутри тихо, никто еще не проснулся. Прохожу к себе в палату, иду в ванную, снимаю одежду, шагаю под душ, включаю воду. Та же хрень, что и всегда. Вода обжигает, кожа краснеет, мне больно, больно, больно, я стою и терплю, потому что так мне и надо, потому что ничего другого не знаю и не умею. Больно – терпи, так тебе и надо. Обычная хрень, что и всегда. Выхожу из душа, вытираюсь, подхожу к запотевшему зеркалу, очищаю островок, смотрю на себя. Синяки под глазами проходят. Опухоль под носом прошла, хотя горбинка останется навсегда. Отек с губ сошел, вид у них почти нормальный. Поэтому шов на щеке стал заметнее. Он обветрился, почернел, засох, нитки напоминают колючую проволоку, рана затягивается, на ее месте образуется шрам. Оттопыриваю нижнюю губу, чтобы изучить рану изнутри. Черные нитки переплетаются, как зловещая изгородь. Проколы выделяются ярко-красными точками на бледно-розовом фоне. Они больше не кровоточат, не сочатся, рубцуются постепенно.
Перевожу взгляд выше. Хочу посмотреть себе в глаза. Хочу разглядеть, что там, под тонким слоем светло-зеленой радужки, в глубине, внутри меня, что там прячется. Едва взглянув, отворачиваюсь. Принуждаю себя повернуться обратно, но не могу. Много лет я не смотрел прямо себе в глаза. Хотел, но не хватало духу. Пытался себя заставить, но не мог. И сейчас не хватает духу, и я не уверен, что когда-либо хватит. Может, больше я никогда не увижу светло-зеленую радужку. Есть места, откуда не возвращаются. Есть потери, которые не восполняются.
Обматываюсь полотенцем вокруг бедер, иду в палату проверить, не проснулись ли соседи. Уоррен сидит, и Лысый Коротышка сидит, они разговаривают. Джон еще спит, свернувшись в позе зародыша, во сне засунул палец в рот и сосет. Я направляюсь к Уоррену.
Доброе утро.
Привет, Джеймс. Как ты?
Хорошо.
Вид у тебя усталый.
Плохо спал.
Он кивает.
Бывает.
Я хотел у тебя кое-что попросить.
Что именно?
Перочинный ножик, или маникюрные ножницы, или что-нибудь острое.
Зачем тебе что-нибудь острое?
Нужно.
Хочешь порезать себя?
Я улыбаюсь.
Если б я хотел порезать себя, раздобыл бы что-нибудь посерьезнее, чем перочинный ножик или маникюрные ножницы.
Он смотрит на меня, улыбается.
Да, пожалуй.
Он наклоняется, открывает тумбочку, достает пару маленьких блестящих маникюрных ножниц. Протягивает мне.
Спасибо, Уоррен.
Возвращаюсь в ванную. Пар рассеялся, зеркало отпотело. Подхожу к нему, рассматриваю шов на щеке. Он обветрился, почернел, засох, и нитки напоминают колючую проволоку. Хочу убрать их. Надоело выглядеть, как чудовище Франкенштейна. Если вытащить нитки, шрам потом будет больше, но я ничего не имею против шрамов, лишний шрам меня не волнует. Кладу ножницы на белый фарфор раковины, включаю горячую воду, отрываю кусок туалетной бумаги, смачиваю его и смываю засохшую кровь со стежков. Нитки нужно очистить перед тем, как вынимать, чтобы легко скользили сквозь кожу, не разрывали ее, и дырки не увеличились. Раньше я пренебрегал очисткой шва, и результаты оказались довольно плачевными, так что на эту процедуру не стоит жалеть времени. Снова смачиваю бумагу, прикладываю ко шву, выбрасываю. Смачиваю бумагу, прикладываю ко шву, выбрасываю. Смачиваю бумагу, прикладываю ко шву, выбрасываю. Нитки размокают, вода пропитывается кровью, стекает по щеке и подбородку. Лицо не вытираю, чтобы не тратить время напрасно.
Таким размачиванием очищаю шов от запекшейся крови. Беру ножницы и начинаю разрезать нитки. Снаружи двенадцать стежков, разрезаются они легко, никаких проблем. Разрезав, вытягиваю обрезки. Вынимаются тоже легко, крови в отверстиях появляется чуть-чуть. Шрам будет заметным, но не безобразным. Небольшой полукруг на щеке. Еще одна памятка в моей жизни. Но на этом работа не кончена.
Оттопыриваю нижнюю губу. Внутри все обстоит хуже, болячки зажили не так хорошо, потому что их постоянно раздражают слюна и пища. К тому же я задеваю их языком, да и стоматолог, когда орудовал во рту, сыграл свою роль. В принципе, от швов тут мало пользы.
Нахожу самый ближний шов. В левом нижнем углу рта, возле основания челюсти. Одной рукой оттягиваю губу, другой беру ножницы, засовываю их в рот, разрезаю стежок, вздрагиваю, появляется тонкая струйка крови. Я действую методично, разрезаю один за другим двадцать девять стежков на внутренней стороне щеки. Покончив с разрезанием, вытягиваю нитки, из отверстий идет кровь, заполняет рот, я включаю холодную воду, делаю глоток, полощу рот, выплевываю. Раковина становится ярко-розовой, на лице появляются красные разводы, обрезки ниток лежат с краю на раковине, ножницы сжимаю в руке. Больно, но не так, чтобы слишком.
Дверь в ванную открывается, оглядываюсь – входит Лысый Коротышка, видит меня, падает на колени и кричит: он кончает себя, он кончает себя; из палаты доносится шум, в ванную врывается Уоррен.
Что ты делаешь?
Снимаю швы.
Уоррен подходит ко мне. Лысый Коротышка ползет к унитазу.
Ты же сказал, что не будешь резать себя.
Я и не режу.
Что-то не похоже.
Я снимаю швы.
Швы снимать должен доктор.
Мне приходилось это делать раньше, невелика наука.
Лысый Коротышка начинает блевать. Уоррен подходит к нему, встает на колени рядом. Я отрываю кусок бумаги, смачиваю, вытираю лицо. Закончив, выбрасываю окровавленный кусок в мусорное ведро, подхожу к унитазу и смотрю, как Лысый Коротышка блюет. Мне смешно, но я удерживаюсь от смеха, не хочу его обижать, хватит и того, что напугал. Когда его перестает выворачивать, я говорю.
Мне очень жаль.
Он смотрит на меня, вытирает лицо.
Я не хотел тебя напугать.
Ты псих.
Я не отвечаю.
Ты псих, псих ненормальный.
Я не отвечаю, потому что он абсолютно прав. Я псих, псих ненормальный.
Не подходи ко мне.
Я не хотел тебя напугать.
Убирайся.
Я поворачиваюсь, выхожу из ванной, иду в свой угол. Джон проснулся, смотрит на меня.
Чего там?
Я одеваюсь.
Я снимал швы, а Лысый Коротышка вошел, увидел кровь, решил, что я совершил самоубийство, и перепугался.
Джон улыбается.
А я однажды совершил попытку самоубийства.
Какой ужас.
Никакой не ужас. Забавно.
В самоубийстве нет ничего забавного, Джон.
Я подвесил себя, когда мастурбировал, а после того, как кончил, вытолкнул стул из-под ног. Тут мама входит да как заорет.
Какой ужас.
Да никакой не ужас. Забавно.
Одевшись, оставляю Джона наедине с его забавными воспоминаниями, Лысого Коротышку – с унитазом и Уорреном, а сам иду в кладовку, беру швабру, ведро, бутылку моющего средства, бумажные полотенца и направляюсь в общий сортир. Мыть его мне совсем неохота, но я остался здесь, а пока я здесь, буду выполнять все свои обязанности. Ходить в столовую. Усиленно питаться. Посещать лекции. Делать свою работу. Буду прилежно соблюдать все правила, которые должен соблюдать. Никакого алкоголя, никаких наркотиков. Осталось пятнадцать часов.
Открываю дверь в сортир, ставлю причиндалы. Несколько пятен на писсуарах, обрывки туалетной бумаги на полу, в остальном порядок. Убрать это – раз плюнуть.
Начинаю с унитазов. Быстро оттираю пятна бумажным полотенцем, грязные куски спускаю в унитаз же. Бумага отправляется в путь по трубам, в канализацию, канализация со мной заодно. Расправится с бумажным полотенцем. Отмываю раковины, они сияют. Шваброй протираю пол, он блестит под тонким слоем мыльной воды. Мусор выношу в большой контейнер. Тут его скопилась целая тонна, с каждым днем становится больше.
Возвращаюсь в сортир. Оцениваю свою работу. На мой взгляд, я справился. Кругом чистота. Отношу ведро, швабру, бутылку с моющим средством на место, иду в столовую. Встаю в очередь, получаю завтрак, нахожу пустой стол, сажусь и приступаю к еде. Вот уже две недели, как я ем по расписанию. Каждый день, по три раза в день. Чувствую, что мое тело положительно отзывается на еду. Сил становится больше. Энергия понемногу прибывает. Начинаю набирать вес. Каждые несколько часов просыпается аппетит. Уже давно я не испытывал голода к пище. Я испытывал голод к другим веществам и набивал себя ими до отвала, но про еду вспоминал в последнюю очередь. Говорят, что человек нуждается прежде всего в пище, жилье и сексе. Говорят, что у человека три базовые потребности. У меня в жизни было время, когда я обходился без пищи, жилья и секса и вообще не искал ни того, ни другого, ни третьего. Не понимаю, как себя понимать. Замечаю Леонарда – он идет ко мне, кладу вилку, он улыбается с таким видом, будто не ожидал меня тут встретить, машет мне. Я поднимаю палец вверх, он садится и смеется.
Рад видеть тебя по-прежнему здесь.
Осталось еще четырнадцать часов.
Все-таки хочешь свалить?
Какая-то часть меня хочет.
Какая часть?
Та, которая накостыляет тебе по заднице, если помешаешь мне.
Ну, этим ты меня не запугаешь.
Почему?
Потому что я могу вынести сколько угодно костылей по заднице.
Какого хера тебе надо со мной возиться?
Потому что надо.
Зачем?
Тебя это пока не касается.
Ты тут командуешь мной, решаешь, что мне делать, что нет. По-моему, меня это очень даже касается.
Ты все неправильно воспринимаешь, малыш. Я не командую, просто хочу тебе помочь.
Зачем?
Леонард откидывается на спинку стула.
Мы с тобой друзья?
Нет.
Он усмехается.
А ты хочешь, чтобы я рассказал тебе историю, которую можно рассказать только другу?
Да, если она объясняет, почему ты возишься со мной.
Он снова усмехается, смотрит на меня мгновение и говорит.
Я вырос в Бронксе, недалеко от Артур-авеню, это район, где живут работяги итальянцы. Мой отец подстригал газоны и чистил обувь в шикарном загородном клубе в Вестчестере, чтобы содержать нас, а мать сидела дома со мной. Мы не катались как сыр в масле, зато любили друг друга, и нам было хорошо вместе. Когда мне исполнилось одиннадцать, отца на переходе насмерть сбил цементовоз. Мать потеряла рассудок от горя, а через два месяца попала под поезд в подземке. Следователь сказал, что это несчастный случай, она поскользнулась или что-то в этом роде, но мне лучше знать. Мать просто не могла жить без отца и последовала за ним. Меня отправили в приют, там был кошмар. Надо мной издевались, как над куском дерьма. Я стал прогуливать школу, связался с парнем из нашего района по имени Микеланджело, но все его звали Мики или Большой Нос. Я боготворил Мики. Он рассекал на «кадиллаке», на соседнем сиденье всегда сногсшибательная блондинка, а в карманах полно бабла. Он помогал всем в районе – смотря кто в чем нуждался. Если ты бездомный – заплатит за квартиру, разут-раздет – купит к зиме теплую одежду, голодаешь – пришлет еды. Я знал, что темными делами он тоже занимается, но по малости лет не понимал, что за этим стоит.
В один прекрасный день Микеланджело остановил машину, вышел из нее, подошел ко мне и спросил, какого черта я таскаюсь за ним по пятам. Я так перепугался, что язык проглотил. Он повторил вопрос и прибавил, что ничего мне не сделает, просто ему интересно. Я ответил – хочу понять, чем он занимается, чтобы тоже этим заняться, потому что жить в приюте мне совсем невмоготу. Он рассмеялся, спросил, как меня зовут, я ответил, он сказал – если хочешь понять, чем я занимаюсь, таскаться за мной бесполезно, лучше завтра поедешь со мной. На другой день вместо сногсшибательной блондинки рядом с ним сидел я, и так оно повелось: я ездил вместе с Микеланджело и узнавал, как он зарабатывает деньги.
Через пару месяцев я ушел из приюта и поселился у него. Не думаю, что кто-то заметил мое исчезновение. Через год Микеланджело женился на Джине – лучше нее я женщин не встречал. Я жил у них на правах сына, но понимал: когда у них появятся дети, мне придется уйти. Тут выяснилось, что Джина не может иметь детей, и они спросили – не останусь ли я у них навсегда. Я согласился, Микеланджело все организовал, и они с Джиной усыновили меня и всегда относились как к сыну. Они дали мне настоящую жизнь, дом, любовь, будущее. Главное – любовь, много любви. Леонард замолчал, глядя в стол. Я ждал, когда он снова заговорит, но он молчал. Тогда заговорил я.
Очень трогательная история, Леонард. Очень славная и добрая.
Он поднимает глаза на меня.
Но я не ребенок, не сирота, я не хочу участвовать в твоих замыслах. Понял?
Он улыбается.
Тебе нужна помощь, малыш.
Найди себе кого-нибудь вместо меня, Леонард.
Тебе нравится футбол?
Найди себе кого-нибудь вместо меня.
Я услышал тебя, понял тебя, теперь хочу сменить тему разговора. Тебе нравится футбол?
Да.
За кого болеешь?
За «Кливленд Браунз».
Правда?
Да.
Почему за «Браунз?
Я родился в Кливленде.
Он кивает.
Сегодня они играют в Питтсбурге, матч должен быть интересным. Может, посмотрим вместе?
Это часть твоего замысла? Тогда я не согласен.
Нет, конечно.
Тогда может быть.
У тебя другие планы на вечер?
Нет.
Тогда посмотрим вместе.
Может быть.
Замечаю Линкольна – он идет через столовую. Смотрит на меня, подноса в руках нет. Я смотрю на него. Леонард замечает, что я смотрю в сторону, и следит за моим взглядом.
Похоже, еще одна стычка намечается.
Пока не было ни одной.
Линкольн подходит. Смотрит на Леонарда.
Ты не против оставить нас с Джеймсом вдвоем на минуту?
Леонард смотрит на меня.
Ты не против, малыш?
Нет.
Он встает, забирает поднос.
Я буду рядом, если понадоблюсь.
Он указывает на соседний столик.
Ты не понадобишься, Леонард.
Леонард смеется, переходит к соседнему столику, усаживается за него и смотрит на нас. Все остальные тоже смотрят на нас. Линкольн выдвигает стул и садится.
Вы с Леонардом дружите?
Типа того.
Тебе о нем что-нибудь известно?
Немного.
Пожалуй, это не тот человек, с которым тебе следовало бы водить дружбу.
Ты за этим и пришел? Сообщить, с кем мне водить дружбу, а с кем нет?
Нет.
Тогда говори, зачем.
Эрик вчера приходил ко мне поговорить.
Кто такой Эрик?
Приятель Роя. Они вместе выписались вчера.
И что же он сказал?
Он сказал, что Рой помешался на мысли выдворить тебя отсюда, начал вредить тебе, пачкал туалеты после твоей уборки.
Очень интересная информация.
Я тоже счел ее интересной, поэтому хочу извиниться перед тобой. Рой был просто образцовым пациентом, и я не понимаю, почему он так вел себя. Я ошибся, когда поверил ему, а не тебе. Прости. Мне хотелось бы начать сначала и строить отношения с тобой с чистого листа. Посмотрим, может, тогда нам удастся прийти к взаимопониманию.
Я готов.
Он встает.
Итак, начнем сначала?
Хорошо.
Мы пожимаем друг другу руки, он выходит, а я сажусь обратно доедать свой завтрак. Не успеваю проглотить кусок, как Леонард подсаживается ко мне – интересуется, о чем мы говорили, а я отвечаю – ни о чем, но он не верит, допытывается, а я не реагирую, молча ем свой завтрак. Доев, встаю, забираю поднос, ставлю на конвейер и возвращаюсь в отделение. На нижнем ярусе народ подтягивается к телевизору, смотрит шоу про футбол перед матчем. Кто курит, кто пьет кофе, кто-то весел, кому-то все обрыдло. Но неважно, кто чем занят, кто в каком настроении – все, как один, пялятся в экран.
Наркоману требуется топливо. Любое, хоть какое, на худой конец сгодится даже обычная мура из идиотского ящика. Топливо. Осталось тринадцать с половиной часов. Беру чашку кофе, пристраиваюсь на диване, закуриваю сигарету и смотрю шоу про футбол. Понятия не имею, о чем толкуют люди на экране, и у них, похоже, понятия не больше моего, но вид такой многозначительный, что невольно прислушиваюсь. Через пару минут впадаю в ступор. Пялюсь в экран. Пью кофе. Курю сигарету. Даже не пытаюсь вникнуть в то, о чем говорят эти парни на экране.
Леонард входит вместе с Лысым Коротышкой, замечает меня, присутствующие заключают с ним пари на исход матча, а Лысый Коротышка записывает ставки на клочке бумаги, получает деньги и кладет в маленькую сумочку с большой молнией. В этот момент приходит Линкольн, и бурная деятельность замирает. Он уходит – все возобновляется. У кого нет денег, те спорят на сигареты или утренние работы, один тип ставит пару шлепанцев, другой – солнцезащитные очки. Наркоманам требуется топливо. Телевизора недостаточно. Когда начинается трансляция, все спорят, какой матч смотреть, но Леонард кладет конец спору, объявив, что смотреть будем Питтсбург – Кливленд. Никто не хочет смотреть этот матч, раздается недовольный ропот, но Леонард говорит, что решение окончательное, все затыкаются и переключают внимание на экран.
Когда я был ребенком, Отец часто покупал сезонный абонемент на матчи «Браунз». Он мог бы приглашать деловых партнеров, но никогда этого не делал. Каждое воскресенье осенью мы с Братом надевали фуфайки и кепки «Браунз», трамваем ехали на окраину города, а потом топали пешком до стадиона. Весь матч Отец держал нас за руки, а поскольку мест было только два, то меня он сажал себе на колени, и я смотрел матч оттуда. Мы свистели, кричали, ликовали, распевали кричалки, когда «Браунз» выигрывал, гудели, когда проигрывал. Когда я подрос и уже не помещался на коленях, Отец брал нас с Братом по очереди. В одно воскресенье на стадион ехал Брат, в другое я. Если Отец был в отъезде, нас водила Мать. Ребенком я обожал этих чертовых «Браунз», и, хоть уже сто лет не смотрю футбол, какая-то часть меня до сих пор их обожает. Ребенком я любил свою семью, и, хоть уже сто лет живу один, какая-то часть меня до сих пор ее любит – та же самая часть, которая до сих пор обожает «Браунз», сохраняет в себе остатки человечности и помнит, что такое любовь.
Я сижу, молча смотрю игру, в памяти всплывают матчи, на которые мы ходили с Матерью, Отцом и Братом. Рядом со мной люди кричат то радостно, то огорченно – в зависимости от того, на кого поставили. Какой-то тип ворчит, что приходится смотреть игру Кливленд – Питтсбург, называет Кливленд сплошным обломом, твердит, что не видал города дерьмовее, что жители его – дерьмо редкостное, хуже людишек не бывает, что достало его смотреть на эту поганую команду из этого поганого городишки, и так без конца. Примерно через полчаса у меня истощается запас воспоминаний и любви, я наклоняюсь, смотрю на него в упор, пока он не оборачивается в мою сторону, и говорю – заткни фонтан, не то сегодня главным твоим обломом станет то, что ты не сумел вовремя заткнуть свое вонючее хайло. Одна часть меня все еще способна любить. Но очень маленькая.
Наступает час ужина, большинство берут в столовой сэндвичи, приносят их с собой и продолжают смотреть футбол. Я тоже собираюсь за сэндвичем, но тут подходит Тед, говорит, что меня разыскивает кто-то из администрации, нужно подойти к стойке дежурного. Я спрашиваю, не знает ли он, в чем дело, он отвечает, что нет.
Я встаю, иду к стойке дежурного, называю свое имя. Дежурная улыбается, говорит, что ко мне приехали гости, и провожает меня по короткому коридору к двери.
Они ждут там.
Кто они?
Просили не говорить.
Спасибо.
Она уходит, а я стою и пялюсь на дверь, потом делаю глубокий вдох. Я не горю желанием встретиться с людьми из своей прошлой жизни. У них не найдется для меня даже пары добрых слов, и я своим поведением вполне заслужил их ненависть. Делаю глубокий вдох, открываю дверь и слышу смех. Смех замолкает, я вхожу в комнату – там за столом сидит мой Брат, с ним двое моих старых знакомых, они живут парочкой в Миннеаполисе. Брат встает.
Как дела, Братишка?
Я улыбаюсь.
Ничего.
Он обнимает меня, я его. Приятно.
А ты как тут оказался?
Мы разжимаем объятия.
Сегодня у вас приемный день. Я не захотел его пропускать.
Поворачиваюсь к своим знакомым. Их зовут Джули и Кирк.
А вы как тут оказались?
Джули улыбается.
Мы тоже не захотели пропускать приемный день.
Я улыбаюсь.
Спасибо.
Кирк подымается с места, обнимает меня, Джули следом за ним. На столе лежат несколько пакетов. Брат указывает на них.
А теперь разворачивай подарки.
Я сажусь.
Это все ты привез?
Кое-что я, кое-что они.
Я смотрю на Джули и Кирка.
Не думал, что ты захочешь со мной разговаривать после прошлого раза.
Кирк смеется.
Люди часто делают глупости, когда обдолбаются. Не стоит даже вспоминать об этом.
Спасибо тебе.
Он пододвигает мне коробку.
Открой лучше.
Коробка обернута красивой бумагой – яркой, разноцветной, с надписью «поправляйся». И перевязана ленточкой. Я разворачиваю ее медленно, осторожно, мне даже не хочется снимать ее. Так бы и любовался ей.
Под бумагой оказывается простая картонная коробка. Открываю – внутри еще три завернутые в бумагу коробки. Вынимаю их, смотрю на Кирка и Джули.
Зачем вы, не стоило.
Джули улыбается.
Нам захотелось.
Я тоже улыбаюсь, смотрю на коробки, открываю их, с трудом сдерживаю слезы. Я не заслужил такой доброты. Не заслужил.
В коробках лежат шерстяные тапки, два блока сигарет, упаковка шоколада. Смотрю на Джули и Кирка, благодарю их, мой голос дрожит, а они улыбаются, потом Брат подвигает свои коробки, они не так красиво обернуты, но тоже хороши.
Открываю их, а там две пары брюк хаки, две пары шерстяных носков, две белые футболки, две пары шорт, черный шерстяной свитер, пижама и черная кепка с эмблемой «Кливленд Браунз». Еще зубная щетка с зубной пастой, шампунь, мыло, крем для бритья и бритва. И несколько книг.
Я смотрю на все эти дары, пытаюсь вымолвить хоть слово, но не могу. Смотрю на Брата. Он улыбается.
Тебе все понравилось?
Ага.
Нужно что-нибудь еще?
Нет, все просто замечательно.
Я встаю, подхожу к Брату, наклоняюсь и обнимаю его, шепчу на ухо – «спасибо», потом проделываю то же с Джули и Кирком, собираю подарки и направляюсь к двери.
Они встают. Брат говорит.
Проводить тебя?
Было бы здорово.
Мы вместе выходим, идем по лабиринту ярко освещенных, чистых, неуютных коридоров, а Джули рассказывает, что она здесь уже бывала, потому что ее брат лечился в этой клинике пару лет назад. Ужасное было время, брат находился в ужасном состоянии, но он поправился и до сих пор держится. Так что воспоминания у нее смешанные – и плохие, и хорошие.
Мы доходим до моего отделения, я захожу в палату, чтобы оставить вещи, а Брат, Джули и Кирк ожидают меня на верхнем ярусе. В палате никого нет. Я прохожу в свой угол, складываю новое имущество на кровать, сажусь сам и смотрю на все это. Самые простые вещи. Повседневная необходимость для большинства людей. Одежда, туалетные принадлежности. Продукты. Несколько книг, чтобы занять ум. Простые вещи. Я прикасаюсь к ним, беру в руки, ощупываю. Самые прекрасные вещи, которые были у меня за последнее время.
Я понимаю, что Брат, Джули и Кирк ожидают меня, поэтому выхожу из палаты. Поднимаюсь на верхний ярус – но Брата, Джули и Кирка там нет. Эд и Тед сидят за столом, играют в карты, пьют кофе, курят, и я спрашиваю, не видали ли они моих гостей, а сам надеюсь, надеюсь, надеюсь, что они не бросили меня, не ушли, Тед говорит, что они смотрят футбол, я гляжу вниз через перила и вижу – они сидят на диване и смотрят окончание матча Кливленд – Питтсбург. Я спускаюсь, сажусь на пол у дивана и смотрю игру вместе с ними, Кливленд выигрывает, и победившие в пари забирают свой выигрыш, а проигравшие ругаются и жалуются и увеличивают ставки на следующую игру. Парень, который ставил свои тапки, проиграл. Теперь он ставит свой свитер.
Джули не хочет больше смотреть футбол, предлагает прогуляться. Все соглашаются, я иду за курткой Хэнка и за своей новой кепкой, надеваю их, мы выходим на улицу – погода ясная, выглянуло солнце, воздух свежий, земля влажная, день такой, что лучше в это время года в Миннесоте не бывает.
Клиника раскинулась на тысячу акров. Корпуса, соединенные переходами, занимают пять акров, а вся остальная территория предназначена для прогулок, размышлений, уединения. Дорожки, вдоль дорожек газоны, на газонах скамейки. Есть два лесных участка, два маленьких озера, несколько полян с высокой травой, болотце с мостиком через него. Джули ориентируется в дорожках и тропах, потому что бывала здесь раньше, и ведет нас. Мы почти не разговариваем, только изредка перебрасываемся замечаниями по поводу окрестностей. Под ногами шуршат листья и сучки. Солнце ярко светит и хорошо греет, небо синее, синее, синее. Звери и птицы хлопочут, заготавливают корм. Один порыв ветра приносит холодный воздух, а другой его уносит. Земля засыпает и будет спать до конца зимы, но сегодня она дышит и шевелится. Мы проходим мимо пациентов, мимо их посетителей, киваем им на ходу – и только. Земля дышит, дышит, и все вокруг это чувствует, ценит, помнит. Жизнь. Помнить о жизни.
Мы неспешно, мирно гуляем целый час и возвращаемся к терапевтическому отделению. Как только выходим из лесной чащи, до нас доносятся крики, долгие, громкие, пронзительные крики. Брат, Джули и Кирк смотрят на темные зарешеченные окна, Брат спрашивает, что там происходит, почему люди так кричат. Я говорю, любишь кататься – люби и саночки возить, и ускоряю шаг, чтобы скорее пройти мимо, но крики преследуют нас, теперь они звучат в голове.
Мы выходим к главному зданию, Джули предлагает посидеть на скамейке, там, где я сидел недавно. Когда подходим ближе, с одной из скамеек встает Лилли с маленькой хрупкой пожилой женщиной. Лилли держит ее за руку, они идут нам навстречу. Лилли улыбается мне.
Привет, Джеймс.
Привет, Лилли.
Это моя бабушка.
Я улыбаюсь бабушке, у нее длинные седые волосы и синие глаза, как у Лилли.
Привет.
Она тоже улыбается. Улыбка у нее добрая.
Привет, Джеймс.
Я показываю на Брата, Джули и Кирка…
Это мой Брат Боб, а это мои друзья Джули и Кирк. А это Лилли и ее бабушка.
Лилли улыбается.
Привет.
Боб, Джули и Кирк – все улыбаются, говорят привет. Бабушка говорит.
А что у тебя с лицом?
Ударился.
Сам?
Вроде того.
Зачем?
Я не нарочно. Любишь кататься – люби и саночки возить.
Бабушка улыбается, ласково касается моей щеки.
Надеюсь, ты больше не будешь кататься на этих саночках, Джеймс.
Я улыбаюсь, мне приятно от тепла ее ладони.
Посмотрим.
Она кивает. Она все поняла, такие раны для нее не новость. В ее взгляде нет ни осуждения, ни жалости. Только надежда.
Приятно было познакомиться с тобой.
Мне тоже.
Она смотрит на Лилли, улыбается.
Нам пора идти, милый.
Лилли смотрит на меня и мягко говорит.
Пока.
Я отвечаю таким же взглядом, таким же тоном.
Пока.
Она смотрит на Боба, Джули и Кирка.
Приятно было с вами познакомиться.
Боб, Джули и Кирк отвечают хором.
Нам тоже.
Лилли с бабушкой уходят, я смотрю им вслед – они, держась за руки, идут по направлению к Корпусу. Ни жалости, ни осуждения. Только надежда.
Когда они уходят так далеко, что не услышат, Джули игриво толкает меня в бок.
Кто такая?
Это Лилли.
Поняла, что Лилли. Кто она такая?
Девушка, которая лечится в клинике и гуляет с бабушкой.
Джули снова толкает меня.
Продолжай.
Я смеюсь.
Я встретил ее, когда поступил сюда. Ничего про нее не знаю.
Ты ей нравишься.
Я подхожу к средней скамейке, сажусь.
Не может быть.
Боб, Джули и Кирк подходят ко мне, тоже садятся.
Кирк говорит.
Ты знаешь что-нибудь про…
Я обрываю его.
Нет, и знать не хочу.
Говорит Джули.
Все так плохо?
Да, так плохо.
Боб достает сигарету, предлагает мне.
Куришь?
Я беру, закуриваю. Никотин доставляет удовольствие.
Братишка?
Я смотрю на озеро.
Не хочу приставать, но прав ли ты?
Не знаю.
Наступает неловкое молчание. Я не смотрю на них, но знаю, что Боб переглядывается с Джули и Кирком. Джули говорит.
Как ты себя чувствуешь?
Не знаю.
Говорит Кирк.
Тебе становится лучше?
Не знаю.
Брат шутливо хлопает меня по плечу.
Какого черта, Братишка. Поговори с нами.
Я поворачиваюсь к нему.
Я не знаю, что говорить.
Какие у тебя планы?
Не знаю.
Говорит Джули.
Ты поправишься, все будет хорошо.
Сомневаюсь, получится ли.
Говорит Боб.
Почему сомневаешься?
Потому что я обдолбанный урод, вконец обдолбанный. Не знаю, как уж я до этого докатился, но докатился, и у меня куча разных болячек, черт, и я не знаю, можно ли их вылечить. Не знаю, можно ли меня вылечить.
Говорит Джули.
Все на свете поправимо.
Сказать легко, сделать труднее.
Моему брату ведь удалось.
Я не твой брат.
Говорит Боб.
Надо попытаться, Братишка.
Посмотрим.
Нет, не посмотрим. Ты должен, черт возьми.
Я смотрю на озеро, делаю глубокий вдох.
Я больше не хочу об этом говорить.
Наступает неловкое молчание. Я не смотрю на них, но знаю, что Боб переглядывается с Джули и Кирком, понимаю, что они ищут выход из положения.
Говорит Боб.
Звонил родителям?
Я смеюсь.
Я больше не хочу говорить об этом.
Сделай мне одолжение, позвони им.
Где они сейчас?
Дома, в Мичигане. Завтра возвращаются в Токио.
Хорошо.
Говорит Джули.
Кому-нибудь звонил?
Люсинде, Кортни и Эми.
Как они?
Хорошо, наверное. Рады за меня, что я здесь.
Очень многие рады за тебя.
Сомневаюсь.
Говорит Кирк.
Куча людей нам звонила, все спрашивают о тебе.
Кто же это?
Мы составили список.
Кирк смотрит на Джули. Джули достает из сумки лист бумаги и протягивает мне. Я кладу его в карман. Джули говорит.
Ты даже не взглянешь?
Потом посмотрю. Не хочу тратить наше время на дурацкий список.
Она смеется, смотрит на часы.
Уже поздно.
Который час?
Четверть четвертого.
Когда заканчиваются часы приема?
Боб отвечает.
В четыре.
Я усмехаюсь.
Ты чего?
Осталось пять часов сорок пять минут.
Кирк говорит.
Ты о чем?
Ни о чем.
Я встаю.
Пойдемте в отделение.
Они тоже встают, мы идем к корпусу, Брат кладет руку мне на плечо и говорит, что гордится мной, я смеюсь в ответ, он повторяет свои слова, я благодарю его, и мы заходим внутрь, я показываю им свою палату, знакомлю с Уорреном, который читает детектив, сидя на кровати. Джули хочет в туалет, я объясняю, как найти общий сортир, и она выходит. Мы с Бобом и Кирком идем к телевизору, где договорились ждать Джули. Садимся на пустой диван, смотрим футбол. Я курю сигарету. Осталось пять часов пятнадцать минут. Подходит Джули, в руках у нее визитка. Она протягивает ее мне, спрашивает, не знаю ли я этого парня. Я смотрю. На визитке написано «Джон Эверетт, секс-ниндзя. Сан-Франциско, далее везде».
Я возвращаю ей визитку, спрашиваю, не оскорбил ли он ее какой-нибудь бестактной выходкой. Она смеется.
Он очень нервничал и все время пялился на мою задницу. Вел себя нелепо и смешно.
Кирк берет визитку, читает и смеется, потом передает Бобу, тот тоже читает и смеется. Кирк спрашивает, знаком ли я с этим Ниндзя, я отвечаю – он мой сосед по палате. Кирк, присвистнув, забирает визитку у Боба, еще раз смотрит на нее, свистит громче. Спрашивает, нельзя ли ему познакомиться с этим Ниндзя, я говорю – может, в другой раз, а Джули смотрит на свои часы и говорит – нам пора, мы проходим через лабиринт ярко освещенных неуютных коридоров к главному входу, и я выхожу с гостями на крыльцо, чтобы попрощаться.
Спасибо, что навестили. Для меня это очень много значит.
Говорит Джули.
Мы переживаем за тебя.
Я не хочу, чтобы вы переживали.
Говорит Кирк.
Все равно будем.
Не стоит.
Говорит Боб.
Мы хотим, чтобы ты поправился, Братишка.
Я знаю.
Эта клиника – единственный выход.
Есть и другой.
Какой?
Думаю, ты сам догадываешься.
Боб кладет руку мне на плечо, смотрит на меня.
Поправляйся. Пожалуйста, поправляйся.
Он вдруг начинает плакать, при виде его слез я тоже готов расплакаться, а я не хочу этого. Он делает шаг вперед, обнимает меня, сжимает крепко, я тоже обнимаю его, это хорошее, крепкое, глубокое, настоящее чувство. Ведь это мой Брат, моя кровь, единственное существо на свете, которое состоит из того же материала, что и я, тот человек, который знает меня лучше всех на свете, который будет скучать по мне больше всех на свете, если меня не станет. Разве это не причина, чтобы остаться в клинике, я же ему не безразличен – то, что он сейчас расплакался, имеет значение, в глубине души я понимаю, что для меня только это и имеет значение.
Мы размыкаем объятие, он толкает меня, как обычно делают братья.
Я не хочу, чтоб ты отбросил копыта, слышишь, упрямый засранец.
Я тоже толкаю его.
Я понял тебя. По рукам.
Он кивает, он знает меня слишком хорошо и понимает, что ничего другого от меня не добьешься. Я обнимаю Джули и Кирка, благодарю их за подарки и приезд, а они говорят, что на следующей неделе приедут опять, и чтобы я звонил им, если что-нибудь потребуется. Я снова благодарю их. Они идут к машине. Я захожу обратно в корпус. Иду по ярко освещенным неуютным коридорам. Возвращаюсь в отделение.
Когда вхожу, застаю всех на нижнем ярусе. Леонард стоит на диване, а Лысый коротышка на полу рядом и размахивает руками, они пытаются успокоить людей. Увидев меня, Леонард улыбается, смотрит на часы и поднимает руку.
Я думал, ты сбежал. Осталось четыре часа.
Я смеюсь.
Иди сюда, Малыш. Присоединяйся к нашей компании.
Подхожу, высматриваю местечко у стены, подальше от скопища людей, которых усмиряют Леонард и Лысый коротышка. Лысый прекращает размахивать руками, а Леонард вбирает полную грудь воздуха и обращается сверху к толпе.
Люди, у меня сегодня был прекрасный день.
Несколько человек усмехаются.
Я посмотрел отличный матч, черт подери, я выиграл кучу пари и загреб кучу ваших денег, и еще мне удалось одержать победу в одной ситуации, хотя на победу я не рассчитывал.
Несколько человек усмехаются, остальные неодобрительно фыркают. Леонард смеется.
Я понимаю ваше недовольство, но я хочу обратить ваше недовольство и ваше возмущение в радость. Я хочу поделиться с вами моим уловом, отпраздновать с вами мои победы. Я все уладил с администрацией, позвонил в Миннеаполис, в «Каджун Сэм» и заказал доставку еды. Так что сегодня пируем.
Все радостно галдят.
Еда прибудет в шесть. Если кто не любит индийскую кухню, пусть повеселится в чертовой столовке.
Все снова радостно галдят.
Я хочу немного вздремнуть перед разгулом. Увидимся в шесть.
Леонард слезает с дивана, все благодарят его, задают вопросы, облепляют со всех сторон, пока он идет в свою палату. Я захожу в телефонную кабинку, сажусь на холодный металлический стул, закрываю дверь и вынимаю из кармана список, который дали Джули и Кирк, читаю его. Удивляюсь тому, что подобный список возник – значит, люди интересовались мной. Удивляюсь именам, которые обнаруживаю в этом списке.
Беру телефонную трубку, набираю номер за номером. Адриенны нет дома, Эбена нет дома, Джоди нет дома, у Мэтта мой вызов отклонен. Дозваниваюсь до Энди и Кевина. Оба говорят, что были со мной в ту ночь, когда я упал, оба говорят, что я был вообще не в себе. Кевин говорит, что помнит мало, потому что сам вырубился, но помнит, что я был с ним. Говорит, что хочет навестить меня, а я говорю – будет славно, если получится, и благодарю его. Энди говорит, что нашел меня без сознания, у меня шла кровь, и он дотащил меня до машины и отвез в больницу. Упросил доктора не звонить в полицию, а помочь доставить меня к самолету. Позвонил моим родителям, довез до аэропорта и посадил в самолет. Я благодарю его, говорю, что если останусь жив, то в моем спасении будет его заслуга. Он говорит, что благодарить его не надо, что он готов спасать меня сколько угодно, но надеется, что этого не понадобится. Я спрашиваю, не в курсе ли он, что я принимал и что делал в Огайо, он отвечает, что нашел у меня в кармане пайп и крэк, неподалеку валялся окровавленный тюбик клея, а больше он ничего не знает. Говорят, что меня видели утром часов в десять, что я был пьян и невменяем, а потом куда-то пропал на весь день. Он сам меня впервые увидел, когда я уже валялся без сознания. Я еще раз благодарю его. Мы прощаемся. Я вешаю трубку.
Звоню родителям. Трубку снимает Мать, она отвечает.
Джеймс.
Ее голос звучит искренно.
Привет, Ма.
Сейчас я позову папу.
Она отводит трубку, кричит Отцу. Он берет трубку.
Как дела, Джеймс?
Хорошо, Папа.
Говорит Мать.
Тебе лучше?
Не знаю.
Ты сделал выводы?
Не знаю.
Она вздыхает, вздыхает разочарованно. Говорит Отец.
Джеймс.
Да.
Мы с мамой поговорили с наставниками, хотим приехать к тебе.
Не надо.
Почему?
Потому что я не хочу, чтобы вы сюда приезжали.
Почему?
Потому что не хочу.
Говорит Мать.
Нам сказали, в клинике есть Семейная программа – так ее называют, нам в течение трех дней будут рассказывать про твою болезнь и про то, как можно помочь тебе справиться с ней. Мы бы хотели приехать.
Про какую болезнь?
Алкоголизм и наркомания – это болезнь, Джеймс.
Кто тебе это сказал?
Во всех книгах написано.
Ясно. В книгах, значит.
Неловкая пауза. Говорит Отец.
Поверь, Джеймс, мы бы очень хотели участвовать в программе. Думаем, нам всем это будет полезно.
Я не хочу, чтобы вы приезжали сюда, если приедете, я разозлюсь, как последняя сволочь.
Говорит Мать.
Не ругайся, пожалуйста.
Постараюсь.
Снова неловкая пауза. Я говорю.
Возвращайтесь в Токио. Я позвоню вам на следующей неделе, расскажу, как дела.
Говорит Отец.
Мы очень переживаем за тебя, Джеймс.
Слышу, как Мать начинает плакать.
Я знаю.
Мы правда хотим приехать.
Плач.
Делайте, что хотите, но не думайте, что я буду в этом участвовать.
Тебе что-нибудь нужно?
Плач.
Мне нужно идти.
Мы любим тебя, Джеймс.
Я знаю.
Говорит Мать.
Я люблю тебя, Джеймс.
Звони нам, если что-нибудь понадобится.
Мне пора идти, Папа.
Пожалуйста, подумай, насчет Семейной программы.
Пока, Папа.
Пока, Джеймс.
Мать рыдает.
Пока, Джеймс.
Пока, Мама.
Мать рыдает.
Мы любим тебя.
Мне пора идти.
Вешаю трубку, делаю глубокий вдох, смотрю в пол. Мать с Отцом сидят в своем доме в Мичигане. Мать плачет, Отец старается ее успокоить, их сердца разбиты, они хотят приехать ко мне, хотят помочь мне, а я не хочу, чтобы они приезжали, и не хочу, чтобы они мне помогали. Мать плачет, потому что ее сын алкоголик, наркоман и преступник. Отец пытается успокоить ее. Я разбил им сердце. Смотрю в пол.
Возвращаюсь в палату, сажусь на кровать. Джон сидит в своем углу. Увидев меня, встает, подходит.
Не сердись на меня.
Я не сержусь.
Хорошо, если так.
Давай считать, что это было забавно.
Я придумал, как загладить свою вину.
Я не сержусь.
Позволь мне все загладить.
Хорошо.
Он садится на край моей кровати, честно смотрит мне в глаза.
Сколько тебе лет?
Двадцать три.
Такой молодой.
Я усмехаюсь.
Чего ты хочешь, Джон?
Он глубоко вздыхает.
Загладить свою вину.
Хорошо.
А если этого будет недостаточно, рассмотрим другие варианты.
Чего ты хочешь, Джон?
Он лезет в карман, достает фотографию, подает мне. На фото юная красавица в бикини.
Вот, девушка в бикини.
И что?
Это моя дочь.
Она у тебя красавица, но меня не интересуют фотографии твоей дочери.
Не в этом дело.
Тогда в чем?
Я хочу подарить ее тебе. Можешь делать с ней все, что хочешь.
Ты спятил, Джон.
Я возвращаю ему фотографию.
Она тебе не нравится?
Какое ты имеешь право дарить мне свою дочь, черт подери?
Моя семья содержит ее вместе с ее матерью, оплачивает все их счета.
И что?
Она сделает все, что я скажу.
Отвали, Джон.
Она сделает все, что я скажу.
Тогда скажи ей, чтобы не прогуливала школу, держалась подальше от наркотиков, а главное – от тебя.
Это хороший совет.
Отвали, Джон.
Я сожалею обо всем.
Не надо сожалеть, Джон. Просто отвали.
Он поднимается.
Ладно.
Он идет в свой угол, заползает на кровать, забивается под одеяла и подушки, мне слышно, как он клянет себя на чем свет стоит. Да, он несчастный, больной, конченый придурок, но ведь когда-то он был невинным ребенком. Ребенком, у которого есть будущее, вся жизнь впереди. Его отец был богат и влиятелен, и однажды, в один несчастный проклятый день он стал приставать к сыну. Я так и представляю маленького Джона, он один в комнате, играет в солдатиков или в Лего, и вот заходит отец, закрывает за собой дверь и говорит, что хочет побыть с Джоном наедине. После того как дело сделано – я так и вижу эту картину, – Джон заползает на кровать, забивается под одеяла и подушки и клянет себя на чем свет стоит.
Я сижу, слушаю стенания Джона и думаю – чем бы ему помочь. Сижу, слушаю, и мне хочется ему как-нибудь помочь. Но его положение безнадежно, он окончательно и непоправимо испорчен. Побывай он хоть в сотне клиник, проведи хоть десять лет, прорабатывая «Двенадцать шагов», это все равно что мертвому припарки. Он сломан окончательно и починке не подлежит, он ранен смертельно, раздавлен непоправимо. Ему никогда больше не быть счастливым и веселым, не почувствовать себя беззаботным, не стать нормальным. Ему не дано познать чистоты, веселья, радости, искренности, покоя, никакого подобия душевного здоровья. Несчастный, больной, конченый придурок, тебе этого не дано. Мне жаль тебя.
Из-за двери доносятся голоса, там оживление. Значит, наступило время ужина. Подхожу к Джону, сажусь на стул возле его кровати. Он все еще прячется под одеялами и подушками, все еще бормочет и плачет, поносит и проклинает себя.
Джон?
Он замолкает, лежит тихо.
Джон?
Тишина.
Джон?
Чего тебе?
Пора на ужин.
Я не хочу есть.
А чего ты хочешь?
Остаться здесь.
Это глупо.
Уходи.
Вылезай и пошли ужинать.
Уходи.
Не уйду, пока ты не вылезешь.
Нет. Уходи.
Он откидывает одеяла и насупившись смотрит на меня исподлобья. Я смеюсь.
Чего смешного?
Крутой мужик из тебя не очень-то.
Я круче, чем ты думаешь.
Может быть, но по виду не скажешь.
Он корчит нелепую гримасу и рычит. Я снова смеюсь.
Так не лучше.
Нет?
Нет.
Он расслабляет лицо, оно принимает обычное выражение.
Я хочу остаться один.
Сейчас тебе не следует оставаться одному, Джон.
Я хочу побыть один.
Лучше сейчас побыть среди людей. Станет легче.
Откуда ты знаешь?
Знаю.
Ничего ты не знаешь.
Поверь мне, знаю.
Джон смотрит вверх – на меня, потом вниз – на одеяло.
Вставай, пошли.
Он смотрит на меня.
Такая мука, Джеймс.
Я знаю.
Все б отдал, лишь бы полегчало.
Я знаю это чувство.
И как ты поступаешь?
Живу с ним и надеюсь, что когда-нибудь полегчает.
Он смотрит вниз.
Ага.
Он смотрит на меня, спускает ноги с кровати, встает, я тоже встаю, мы выходим из палаты. Идем в отделение, встаем в конец очереди. Еду уже доставили, разложили на столе верхнего яруса. Очередь тянется сверху вниз, через лестницу. По мере того как мы продвигаемся и приближаемся к еде, ее запах будоражит во мне аппетит. Хочется наброситься на еду, немедленно, сию секунду, и жрать, пока не лопну. Хочу, хочу, хочу. Топлива хочу. Сию секунду, черт подери.
Когда ступаю на лестницу, голод становится просто невыносимым. Руки дрожат, сердцебиение учащается, я возбужден, голоден, весь на взводе. Смотрю, не отрываясь, на еду. Ничего не вижу, не слышу, не замечаю. Каждая секунда кажется часом, каждый шаг – марафонской дистанцией. Хочу, хочу, хочу. Топлива хочу. Сию секунду, черт подери. Готов убить всякого, кто попытается отнять у меня еду. Готов убить всякого, кто попытается остановить меня. Голод, голод, голод, голод.
Наконец-то я у стола, беру тарелку, сую пластмассовый нож, пластмассовую вилку и бумажную салфетку в карман. Еда разложена на подносах, в горшках, и человек из ресторана раздает ее, а Леонард стоит рядом и наблюдает. Он спрашивает, чего мне положить, а я отвечаю – всего. Он спрашивает, какую часть турдакена я предпочитаю, а я отвечаю, что понятия не имею, что такое турдакен, сгодится любая часть, мне плевать, главное – побольше. Леонард смеется, когда я прошу добавки еще и еще. Плевать я хотел на его смех. Мне необходимо топливо.
Сажусь на диван рядом с Джоном, вытаскиваю вилку из кармана, но руки так трясутся, что не могу с ней управиться, запихиваю еду в рот прямо руками. Я не обращаю внимания, что ем, не чувствую вкуса и почти не жую – лишь бы кусок не застрял в горле. Вкус не имеет значения, смакование к черту. Главное – заполнить себя. Это все, что мне требуется сейчас. Побольше жратвы, чтобы заполнить себя.
Съедаю все, что набрал, и иду за добавкой. Съедаю ее и иду за добавкой. Съедаю ее и иду за добавкой. Съедаю ее. Наконец-то я полон, битком набит. Я утолил этот голод, справился с этой мукой, мне хорошо. Сердце не трепыхается, руки не дрожат, возвращается способность соображать и воспринимать, проходят раздражение, возбуждение, злость. Голода нет. Как хорошо, когда тебе хорошо. Как хорошо, когда ты у себя.
Делаю глубокий вдох. Чувствую, как желудок вздымается к глотке. Пока не дотянулся. Но продолжает вздыматься быстро, неотвратимо.
Встаю, Джон спрашивает, куда я, отвечаю – скоро вернусь, иду в палату. Поднимаюсь по лестнице, прохожу через верхний ярус в короткий коридор. Когда открываю дверь, желудок уже подкатывает к горлу. Быстро, неотвратимо. До унитаза метров десять. Подступает уже неумолимо, сжимаю губы, дышу через нос. Пока ел, я не чувствовал вкуса пищи, зато теперь чувствую. Рис с бобами, рыба и мясо. Острые специи, хлеб.
Дышу через нос, спешу к унитазу. Пытаюсь удержаться, но содержимое желудка рвется наружу. Начинаю давиться. Распахиваю дверь в ванную, приникаю к унитазу, откидываю крышку и блюю. Быстро, сильно. Сплошным потоком. Еще и еще, и еще. Лицо горит, горят губы и рот. Боль из сердца отдает в подреберье, в левую руку и в челюсть. Горло сжимают спазмы, желудок тоже. Еще, и еще, и еще. Еще, и еще, и еще.
Поток иссякает, делаю пару вдохов, разгибаюсь, спускаю воду в унитазе, перехожу к раковине, умываюсь, полощу рот, горло, промываю нос и делаю большой глоток холодной воды, он остужает нутро.
Футболка испачкана, поэтому снимаю ее, иду в свой угол палаты, надеваю новую, чистую – и тут дверь приоткрывается, Джон просовывает голову.
Джеймс?
Да.
Тебя к телефону.
Кто?
Не знаю, трубку снимал не я.
Скоро буду.
Переодевшись, иду в телефонную кабинку. Открываю дверь, сажусь, беру трубку.
Алло.
Женский голос.
Привет.
Голос мне знаком, но кто это – не могу сообразить.
С кем я говорю?
Не узнаешь?
Нет.
Обидно.
Не стоит на меня обижаться.
Как прошел день?
С кем я говорю?
Моя бабушка считает, что ты симпатичный.
Так вот чей это голос. Улыбаюсь.
Очень мило с ее стороны.
Сказала, у тебя красивые глаза.
Не подозревал.
Чего так?
Это длинная история.
Очень длинная?
В двадцать три года длиной.
И правда, длинная.
Да.
Пауза. Улыбка не сходит с моего лица.
Ладно, я позвонила просто так, передать тебе бабушкины слова.
Я рад, что ты позвонила.
Завтра увидимся?
Наверное.
Почему наверное?
Это длинная история.
Она смеется.
Надеюсь, все-таки увидимся.
Хорошо бы.
Пока.
Спасибо, что позвонила.
Пожалуйста.
Вешаю трубку, смотрю на нее, улыбка не сходит с моего лица. Встаю, открываю дверь, выхожу, а улыбка не сходит с моего лица, направляюсь в палату, прохожу мимо Джона, он спрашивает, не хочу ли поиграть в карты, отвечаю – не спал прошлую ночь, дико устал, но в другой раз обязательно поиграю, он говорит – ладно. Возвращаюсь к себе в палату, улыбка не сходит с моего лица, ложусь на кровать, беру книгу из тех, что привез Брат. «Война и мир», «Дон Кихот», «Дао дэ цзин» – это китайская философия. Открываю «Войну и мир». Улыбка не сходит с моего лица. Я читал «Войну и мир», но она стоит того, чтобы перечитать. Улыбка не сходит с моего лица. Начинаю читать. Не могу продраться через первое предложение. Улыбка не сходит с моего лица. Я не спал сорок часов кряду. Улыбка не сходит с моего лица. Осталось пятнадцать минут. Улыбка не сходит с моего лица.
Руки падают.
Глаза закрываются.
Улыбка не сходит с лица.
Просыпаюсь, иду в ванную, принимаю душ, мою голову, чищу зубы и бреюсь. Жду, что опять подступит тошнота, но все спокойно. Выходя из ванной, останавливаюсь возле унитаза, смотрю на него. Каждое утро, сколько себя помню, он был мне и другом, и врагом. Он принимал и поддерживал меня, только он да я знали, насколько я болен. Мне осточертел унитаз. Посылаю его на хер. Показываю ему средний палец и смеюсь. Выхожу из ванной, надеваю новую одежду. Надеваю новые тапки. Иду к расписанию работ. У меня новая обязанность – варить кофе. Наполняю стальную кофеварку промышленного размера, включаю, проверяю, все ли в порядке. Когда кофе готов, наливаю себе чашку. Пробую, получилось вкусно. Варить кофе куда легче и приятней, чем чистить общий сортир. Иду в столовую. Беру тарелку каши, стакан апельсинового сока, выискиваю место, чтобы сесть. Замечаю Леонарда, он сидит с Эдом и Тедом. Иду к их столу, сажусь рядом. Леонард смотрит на меня и говорит.
Не был уверен, что увижу тебя сегодня утром.
Я дико устал, поэтому вчера вечером остался.
Эд говорит.
А куда ты собирался?
В полет.
На чем?
На крэке с водкой.
Тед говорит.
Ты на крэке торчишь?
Да.
Я тоже.
Эд говорит.
Ужасное дерьмо.
Тед смотрит на Эда.
Сам ты ужасное, тупое, сталелитейное дерьмо.
Может, я и тупой…
Леонард говорит.
И еще урод.
Эд смотрит на Леонарда, показывает ему средний палец.
Может, я ужасное и тупое дерьмо.
Тед смеется, Эд продолжает.
Но все же я не настолько тупой, чтобы курить такую гадость. Это ж наркотик черных гетто.
Тед говорит.
Ага, то-то ты умник сидишь тут. Нажрешься водки, а потом разливаешь расплавленный металл на своем сталелитейном заводе.
У меня не было ни одной аварии.
А где волосня?
Это не из-за аварии. Из-за драки. Пробили башку.
У Эда на голове, как всегда, бандана. Я говорю.
А что случилось с твоими волосами?
Ничего.
Леонард говорит.
Он носит свою идиотскую бандану не потому, что ему нравится.
А что случилось-то?
Ничего.
Тед говорит.
Или ты сам расскажешь, или я расскажу.
Попробуй только расскажи.
Расскажу, если ты не расскажешь.
Эд смотрит на меня, говорит.
Я закрутил с одной замужней. Однажды сидим мы в баре, и тут входит ее муженек. Мы решили свалить, но он успел заехать мне бутылкой по голове. Я упал, он еще врезал мне по башке. Я почти вырубился. А он хвать меня за волосы – вот здесь.
Эд делает хватательное движение надо лбом.
Он как будто знал, гад такой, что я девять месяцев назад сделал пересадку волос, он рвал и рвал, пока все волосы не выдрал к чертям собачьим. И теперь у меня череп лысый, как жопа, и весь в шрамах.
Я моргаю.
Черт.
Тед говорит.
А ты спроси его, как он отомстил этому ублюдку.
Эд говорит.
Заткнись, Тед.
Расскажи, расскажи, как ты отомстил.
Сейчас я тебе начищу задницу.
Тед смотрит на меня.
Никак он ему не отомстил. Позволил этому ублюдку выдрать все свои пересаженные волосы подчистую и ничего ему не сделал. Я б отстрелил этому ублюдку яйца, сделал из них яичницу и послал его матушке.
Завтрак пролетает, как один миг. Я сижу, слушаю перепалку Эда и Теда, их рассказы, смеюсь, когда Леонард поддразнивает их.
Эд – алкоголик и дебошир, он попадал в рехаб уже четыре раза. За него платит профсоюз, у которого щедрая медицинская программа. Сейчас профсоюз платит в последний раз, вот и направил Эда в этот центр – потому что он самый лучший. Эд очень благодарен, говорит – если уж здесь мне мозги не вправят, то я конченый человек. Эд не женат, но у него четверо детей, все мальчики. Он говорит, что все такие же чокнутые придурки, как он сам. Говорит, в жизни он никого так не любил, как их.
Тед – наркобарыга и угонщик автомобилей, которого недавно арестовали за вступление в половую связь с несовершеннолетней дочерью шерифа из Луизианы. У Теда и без того на счету два обвинения в особо тяжких преступлениях, а за третье по Закону о трех штрафных карточках ему светит пожизненное заключение. Он вышел под залог и приехал сюда в надежде убить двух зайцев – подлечиться и заработать пару очков в глазах властей, потому что власти вообще-то благосклонно относятся к людям, которые прошли лечение. За свое лечение от крэка Тед платит деньгами, которые заработал на торговле крэком. Он не женат, и детей у него нет, зато есть целый выводок, как он выражается, шлюшек с первоклассными задницами.
Эд и Тед – хорошие парни, которые случайно стали плохими, они мне нравятся, и я могу с ними общаться. Хоть мы родом из разных концов страны, и возраст у нас разный, и проблемы тоже, но во многом мы похожи. Алкоголики. Наркоманы. Преступники.
Я доедаю завтрак, иду на лекцию, сижу и слушаю, как медсестра толкует о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков на состояние печени, и когда мне уже невмоготу это слушать, замечаю Леонарда – он кидает монеты в лысину Лысого Коротышки. Попадает примерно раз из трех.
Лекция заканчивается, я встаю и направляюсь к выходу, и тут замечаю Джоанну, которая стоит сбоку от двери. Она жестом подзывает меня, я подхожу.
Здравствуй, Джеймс. Помнишь меня?
Да.
Как меня зовут?
Джоанна.
Она улыбается.
Не против ненадолго зайти ко мне в кабинет?
Хорошо.
Идем по лабиринту коридоров, останавливаемся у двери. На двери табличка «Джоанна П., 312». Джоанна открывает дверь, заходим.
На стенах фотографии бейсбольных игроков, газетные вырезки про Кубок Чикаго, фотографии самой Джоанны, которая скачет верхом или стоит на вершинах гор, диплом Гарварда, диплом Нортвестерна и два чучела больших рыб. На столе разбросаны бумаги, полка завалена книгами. У одной стены два больших, удобных на вид кресла, у другой – потертый диван. В углу чучело утки.
Садись на стул или в кресло. Куда тебе хочется.
Сажусь в кресло. Она обходит стол, садится за него и подвигает мне пепельницу.
Здесь можно курить?
Я собираюсь. Хочешь кофе?
Да.
Какой ты пьешь?
Черный.
Она поворачивается к кофейнику, наливает две чашки кофе. Я зажигаю сигарету. Она поворачивается ко мне, подает чашку.
Спасибо.
Осторожней, он крепкий.
Я люблю покрепче.
Она смеется, закуривает.
Ты знаешь, зачем я тебя пригласила?
Сказать мне что-нибудь хотите.
Мы получили результаты психологического теста, который ты проходил на прошлой неделе. Хочу их с тобой обсудить.
Хорошо.
Есть у тебя какие-нибудь вопросы для начала?
Нет.
Она вынимает папку, открывает.
Тест, который ты выполнял, называется ММРI-2, это означает Миннесотский многоаспектный личностный опросник, вторая редакция. Он позволяет на основе эмпирических данных оценить психологические особенности личности, что помогает врачам при диагностике психических расстройств и при выборе лечения. Он также помогает врачу или другому специалисту составить общий психологический портрет любого индивида.
Она подносит сигарету ко рту и затягивается.
Ты меня слушаешь?
Да.
Она выпускает дым.
Он используется в школах, офисах, клиниках, больницах, судах, тюрьмах, в армии и в таких уважаемых организациях, как НАСА, ФБР и ЦРУ. Это высоко стандартизированный тест, который наиболее широко применяется и признан лучшим универсальным методом диагностики из ныне существующих.
Она снова затягивается.
Есть вопросы?
Почему он Миннесотский?
Она выпускает дым.
Его разработали два профессора из университета Миннесоты. И опубликован он в издательстве университета Миннесоты.
И что вы узнали из него?
У тебя сильно выраженная депрессия. Очень низкая самооценка. Ты склонен к конфронтации и агрессии и порой переходишь от конфронтации к агрессии. Демонстрируешь поведение, нацеленное на саморазрушение, у тебя низкая устойчивость к фрустрации и стрессу, ты обычно переживаешь стресс внутри себя и реагируешь на него саморазрушением. Ты безответственен, обидчив, склонен к манипуляциям и враждебности, имеешь психологическую предрасположенность к наркозависимости.
Я смеюсь.
Ничего смешного, Джеймс.
Продолжайте.
Это не шутки.
Когда смеешься, легче. Продолжайте, пожалуйста.
Она смотрит в папку.
Ты сильно озлоблен. Очень. Просто очень.
Она смотрит на меня.
Кроме того, у тебя очень высокий интеллект.
Я отпиваю глоток кофе.
Похоже на правду.
Вот как?
Все, кроме интеллекта, конечно.
Почему ты так считаешь?
Будь я и вправду такой умный, я бы так не обхерачился.
В принципе, у наркоманов интеллект часто бывает намного выше среднего уровня.
Почему?
Это уж ты мне объясни.
Ну, может, нам хватило ума сообразить, как дерьмово устроен этот мир, и мы считаем, что наркотики – единственный способ существовать в нем.
Значит, ты согласен с тем, что у тебя имеется наркозависимость.
Я снова смеюсь.
Да.
Я не была уверена, что ты согласишься.
Я согласен.
Отлично, это первый шаг к излечению.
Если это первый из «Двенадцати шагов», то дальше я не пойду.
Ты начинаешь злиться.
Да.
Почему?
Сейчас меня бесит мысль, что излечение невозможно.
Это все, что тебя бесит?
Нет.
Что еще?
Много дерьма кругом.
Она смеется.
То есть тебя бесит все?
Я улыбаюсь.
Звучит глупо, но это так. Меня бесит практически все.
И давно это так?
Всю жизнь.
А когда ты был маленьким?
Мои первые воспоминания – это злость и боль.
Очень плохо.
Уж как есть.
Я думаю, искать причины твоей злости – слишком длинный путь к решению твоих проблем. Единственный способ справиться со злостью – взять под контроль твою зависимость, и этот единственный способ – «Двенадцать шагов», поверь мне. Другого нет.
Только не «Двенадцать шагов».
Она глубоко вздыхает, откидывается назад. Я закуриваю вторую сигарету.
Ты знаешь, каков процент излечений в этой клинике?
Нет.
Около семнадцати процентов. Речь о пациентах, которые ведут трезвый образ жизни в течение года после выписки.
Отстой.
Это самый высокий процент излечения по всем реабилитационным центрам в мире.
Полный отстой.
Я работала в шести центрах, сама алкоголик и наркоман и сама убедилась – единственная штука, которая по-настоящему помогает, это «Двенадцать шагов».
Что-то вы не сильно похожи на алкоголика и наркомана.
Все, кто тут работает, – алкоголики и наркоманы, даже санитары и посудомойки. Так что если тебе нужна помощь, то куда ни глянь – люди, которые могут помочь.
Это утешает.
Безусловно.
Сколько времени вы чистая?
Шестнадцать лет.
Долго.
Ты тоже можешь прийти к такому результату, нужно только слушать, что мы говорим, даже если тебе это покажется смешным, и верить нам.
Если вы будете упоминать число «двенадцать», со мной этот номер не прокатит.
Это единственный путь, Джеймс. Единственный.
Я хочу признаться вам кое в чем.
Я буду тебе очень благодарна за откровенность.
Я собирался уйти отсюда позапрошлым вечером.
Куда ты хотел пойти?
Туда, где можно найти отраву. Чтобы добить себя.
Почему же не ушел?
Вы знаете Леонарда?
Знаю.
Леонард остановил меня.
Полная неожиданность для меня.
Почему?
Это отдельный разговор.
Почему?
Поговорим об этом в другой раз.
Может, другого раза не представится.
Ты серьезно?
Да.
Ты на самом деле хочешь умереть?
Я понимаю, что дальше так жить, как жил, невозможно, а в «Двенадцать шагов» не верю. Люди вроде вас твердят, что это единственный путь. Так что должен же я как-то избавить себя от этой убогой жизни, а своих родных от дальнейших мучений.
Ты на самом деле хочешь умереть?
Я ненавижу себя, меня все заебало.
Почему же ты до сих пор здесь?
Я пообещал Леонарду остаться еще на двадцать четыре часа. А тут в приемный день нагрянул мой Брат с парой старых друзей. И день получился офигенный, я такого не упомню за многие годы. И через двадцать четыре часа я был такой замотанный и довольный, что мысли о смерти куда-то подевались.
Но в твоей жизни может быть еще много таких офигенных дней.
Вряд ли, если я не завяжу.
Ты вполне способен завязать.
Нет, если путь только один.
Путь только один, и ты способен его пройти.
Я отрицательно трясу головой.
Нет.
Она откидывается на спинку стула, закуривает новую сигарету, внимательно смотрит на меня. Я смотрю на нее. Она говорит.
Ты должен ответить на два вопроса, Джеймс. Первый вопрос – хочешь ты жить или нет, и мне кажется, что хочешь. Мне кажется, в глубине души ты осознаешь, что убивать себя не следует. Мне кажется, есть два Джеймса – одного ты показываешь миру, а другого прячешь глубоко внутри. И ты понимаешь – Джеймс, спрятанный внутри, вполне заслуживает того, чтобы жить. Второй вопрос – готов ли ты сделать для излечения все, что требуется, все, что мы будем говорить тебе. Готов ли открыть свой разум навстречу тому, что неизведанно. Ступай и подумай над этим. Человек ты, как нам известно, очень умный. Если захочешь что-то обсудить, приходи ко мне. Если ответишь на эти два вопроса положительно, тоже приходи. Если ответишь отрицательно – что ж, мне очень жаль, но не стану удерживать тебя.
Она внимательно смотрит на меня, я на нее.
У меня вопрос.
Слушаю.
Почему вы не вышвырнули меня отсюда после моей стычки с Роем?
Она подносит сигарету ко рту и делает затяжку.
Линкольн с Кеном именно так и хотели поступить. Я с тобой не была знакома, но мы хорошие друзья с Хэнком. И когда Хэнк услыхал, что произошло, он пришел ко мне и сказал, что такой человек, как ты, не мог напасть на Роя. Хэнк сказал, что он знает доброго, славного, спокойного, скромного парня, и притом самого мужественного и волевого из всех, кого встречал. Я поверила Хэнку и сделала все, чтобы ты остался здесь, потому что Хэнк очень просил за тебя.
Мне нравится Хэнк.
А ты нравишься ему.
Так вы с Хэнком друзья?
Мы ходим на охоту и на рыбалку, играем в карты. Он вроде как мой бойфренд.
Я смеюсь.
Передайте ему привет от меня. Скажите, что я бережно обращаюсь с его курткой.
Ему будет приятно.
Мы закончили?
Надеюсь, нет.
Я встаю.
До встречи.
Она встает, протягивает мне визитку.
Здесь номер моего домашнего телефона. Если понадоблюсь, когда меня не окажется на работе, звони.
А что, если вы как раз окажетесь у Хэнка?
Он спит у меня.
Я смеюсь.
Спасибо.
Иду к двери, выхожу из кабинета, закрываю за собой дверь. Иду по ярко освещенным коридорам обратно в отделение. Поднимаюсь на верхний ярус и обнаруживаю, что все собрались на нижнем. Сидят на диванах, на стульях, а перед ними восседает на стуле Лысый Коротышка. Он говорит, а Линкольн стоит в сторонке и наблюдает за ним. Я спускаюсь, сажусь на пол. Не далеко, не близко, а на таком расстоянии, что все слышу, но при этом сам по себе.
Мой самый страшный опыт, которым хочу с вами поделиться, это тот случай, который и заставил меня приехать сюда.
Он смотрит в пол, глубоко вздыхает.
Я из Толедо. Два года тому назад на Хэллоуин девочку из нашего района похитил и убил мужчина в костюме льва. Всех это так потрясло, что наш районный совет принял решение перенести Хэллоуин на первое октября – думали, так будет проще следить за порядком и предотвратить другие убийства. У меня две дочки, Лауре – шесть, а Дженнифер – девять, они очень любят Хэллоуин. Очень артистичные девчушки, Хэллоуин – их любимый праздник, каждый год они наряжаются как принцесса Лея, а я – как Люк Скайуокер. Я сажаю их в свой фургон на заднее сиденье, мы разъезжаем по району от дома к дому и воображаем, будто мы в космическом корабле, а я пилот.
Он замолкает, смотрит на Линкольна. Линкольн кивает, поднимает сжатый кулак в знак поддержки. Лысый Коротышка кивает в ответ и переводит взгляд обратно на нас.
Пару месяцев тому назад я дал слово своей жене – ее зовут Терри, – что брошу пить. Мы заключили договор: если станет невтерпеж и потянет на выпивку, то выпью безалкогольного пива. Зная себя, я пошел и закупил двадцать ящиков этого пойла, девятнадцать убрал про запас, а один поставил в холодильник в гараже. У меня бессонница, без выпивки вообще не заснуть, но оказалось, если вечером выпить пятнадцать бутылок безалкогольного, то этого хватает, чтобы заснуть.
Он глубоко вздыхает.
Так что каждый вечер на протяжении шести недель я спускался в гараж, когда по телику крутили рекламу, и заливался безалкогольным пивом, чтобы потом заснуть. Звучит глупо, но что было, то было, ты всегда поступаешь только так, как можешь, так что пил я это пиво литрами.
Несколько человек смеются. Линкольн строго смотрит на них. Они замолкают.
У моего плана был один недостаток. Пока я пил ненастоящее пиво, мне всегда хотелось настоящего, и чем больше я пил это ненастоящее, тем больше мне хотелось настоящего.
Он замолкает, смотрит в пол. Когда снова открывает рот, его голос дрожит.
А теперь начинается страшное.
Говорит Линкольн.
Ты молодец. Продолжай.
Лысый Коротышка смотрит на него, потом снова на нас.
Однажды моя жена собралась в Нью-Джерси к своей племяннице Тине на Бат Мицву. Вообще-то обычно мы ездим всей семьей, но в тот раз Бат Мицва пришлась на наш районный Хэллоуин, и мы с Терри решили, что я с девочками останусь дома и отпраздную с ними Хэллоуин, а она слетает к Тине на Бат Мицву.
По его щеке катится слеза.
Я отвез Терри в аэропорт, пообещал ей, что не буду пить. Как только она села в самолет, я в аэропорту же помчался в бар и заказал водки с клюквенным сиропом.
Он замолкает, вытирает лицо.
Из бара я отправился в винный магазин, затарился там водкой и клюквенным сиропом и дома все вылакал.
Он вытирает лицо.
Потом я забрался в гараж к соседке Айре и украл две бутылки шардонэ и еще бутылку водки, спустился к себе в подвал и выпил обе бутылки шардонэ.
Слезы катятся ручьем по его лицу.
Потом я нарядился Люком Скайуокером, смешал водку с клюквенным сиропом в огромной фляжке и поехал с девочками. Они чувствовали, что со мной творится что-то неладное, но пытались веселиться.
Он вытирает лицо.
Уж не знаю точно, в какой момент, только я отрубился прямо за рулем, когда девочки вышли у какого-то дома.
Он рыдает.
Они вернулись, постарались меня поднять, но они же маленькие девочки, а я тяжелый.
Рыдает.
Они пошли к нашему соседу Лену за подмогой, а когда вернулись с Леном и с его женой Джинни, увидели, что я обоссался – в моче и костюм Люка Скайуокера, и фургон.
Рыдает.
Лен растолкал меня, а когда я очнулся, полез драться. Понимаете, у Лена огромная лохматая шевелюра, и мне с пьяных глаз показалось, что это человек в костюме льва, тот самый, который убил девочку два года назад.
Рыдает.
Боже мой.
Рыдает.
Боже мой.
Останавливается, вытирает лицо, глубоко вздыхает. Все молчат. Он поднимает глаза.
Лену пришлось связать меня поводком, чтобы утихомирить, и срочно вызвать мою жену из Нью-Джерси.
Он всхлипывает.
Я опозорил себя, своих девочек, свою жену.
Раздаются несколько смешков.
Я стал посмешищем для всего района.
Он едва не падает со стула, рыдая, всхлипывая, прячет лицо в ладонях. Несколько человек начинают смеяться. Линкольн смотрит на них и говорит.
Замолчите.
Смех становится громче, к нему присоединяются новые голоса. Лысый Коротышка поднимает глаза. Линкольн говорит.
Это не смешно.
Смех становится громче. К нему присоединяются новые голоса. Лысый Коротышка растерян. Линкольн говорит, уже более громким голосом, более властным.
Это не смешно.
Комната взрывается. Лысый Коротышка вскакивает, убегает с рыданьями, стонами и криками. Линкольн стоит перед опустевшим стулом.
Вы действительно считаете это смешным?
Взрыв смеха.
Ничего смешного.
Все понемногу успокаиваются.
Человек перед вами вывернул душу наизнанку. Душу, черт подери, наизнанку вывернул.
Тишина.
Открылся перед вами, рассказал о самом постыдном случае в жизни, о том случае, когда он достиг дна и понял, что нуждается в помощи.
Молчание.
Открыться очень тяжело, для этого нужна отвага, и он заслуживает уважения, а вы тут ржете, черт подери.
Линкольн качает головой, понижает голос.
Вы считаете себя такими крутыми парнями только потому, что торчали на сильных наркотиках и упали глубже, чем он. Но когда я спросил – кто готов рассказать о своем самом глубоком падении, добровольцев почему-то не нашлось. Никто не вызвался, все жопой к стулу приросли, как испуганные мальчишки.
Он указывает в ту сторону, куда убежал Лысый Коротышка.
Пусть этот человек послужит вам уроком, пусть его поступок послужит вам уроком. У него хватило отваги, он открылся, он был честен, он стал уязвим для вас, сидящих в этой комнате. Открытость – главное правило жизни в этом месте, он его принял, и это поможет ему излечиться.
Линкольн собирается уходить.
Подумайте над этим. Хорошенько подумайте.
Он оглядывается на ходу.
Хорошенько подумайте.
Он уходит. В холле полнейшая тишина. Все смотрят друг на друга, смущенные и пристыженные, ждут, чтобы кто-нибудь заговорил. Леонард встает.
Линкольн прав, нужно извиниться перед парнишкой, но все равно я нахожу эту историю дико смешной.
Все смеются. Леонард стоит, смотрит на часы.
Время ужина. Я в столовую.
Он выходит, остальные тоже встают, направляются в столовую. Я поднимаюсь, иду за всеми, занимаю очередь, набираю еды на поднос. Сажусь, слушаю перепалку Эда с Тедом, смеюсь, когда Леонард поддразнивает их, встаю после еды, отношу поднос на конвейер.
Иду на лекцию. Священник рассказывает о различных вероисповеданиях. Не люблю священников, не верю священникам, пропускаю мимо ушей все его слова. Сижу, буравлю взглядом пол, из головы не выходит Лысый Коротышка. Интересно, где он сейчас, о чем думает. Прокручиваю в голове его историю раз за разом, и с каждым разом она кажется мне безнадежней. Пусть он не скатился до ночлежки, гетто или притона, у него даже есть работа, семья, нормальная жизнь, но он потерял самое важное в жизни любого человека, чего терять нельзя, – человеческое достоинство.
Я знаю кое-что об утрате человеческого достоинства. Знаю, что, когда оно потеряно, остается дыра, глубокая черная дыра, на дне которой – отчаяние, унижение и ненависть к себе, и еще стыд и позор, и еще одиночество, изоляция, ад. Это глубокая, черная, жуткая дырища, и в этой дырище доживают такие, как я, свою просранную, мерзкую, жалкую, нечеловеческую жизнь, и в этой дырище мы подыхаем, одинокие, жалкие, ничтожные, никому не нужные и всеми забытые.
Лекция заканчивается, я выхожу, иду обратно в отделение и приступаю к занятию в группе рациональной терапии. Ее ведет Кен, он объясняет, что алкоголики и наркоманы имеют тенденцию реагировать на стрессовые ситуации иррационально. Рациональная терапия – это метод, который учит сознательно принимать решения вместо иррационального поведения. В любой ситуации оценить все варианты. Не спешить, сохранять спокойствие, выбрать наилучший вариант, наиболее эффективный. Такова философия рационализма.
После занятия начинается очередная церемония выписки. Выписываются трое, но я их не знаю. Срок лечения закончился, они выполнили свою программу, они готовы встретиться лицом к лицу с большим миром. Они радостно получают свои камни и медали, двое прослезились, когда произносили речи.
Церемония завершается, все аплодируют, потом кто-то затевает игру в карты, кто-то смотрит телевизор, кто-то переодевается и идет в спортзал – он в другом конце клиники. Выписавшиеся уходят. Я иду в палату, надеваю куртку Хэнка и выхожу на улицу.
Солнца не видать. Жизнь, которая вчера ощущалась повсюду, застыла. Замерзшая и твердая земля, гнетущий воздух, черное небо, деревья, согнувшиеся под тяжестью заледенелых веток. Курю на ходу, нахожу тропу, шагаю туда, куда она ведет. Под плотным древесным навесом темно и тихо, единственный звук – шорох моих шагов по опавшим листьям.
Прислушиваюсь к этому шороху. Смотрю под ноги. Пытаюсь потерять себя. Забыть, где я и почему, что меня ждет впереди. Забыть про смерть, про тюрьму, про лечение. Забыть тот мир, что за пределами моей головы, забыть тот мир, что внутри моей головы. Забыть все. Весь этот проклятый хлам.
Иду, смотрю, пытаюсь забыть, забыть, забыть. Шорох листьев сменяется хрустом гальки, галька приводит меня к длинному узкому озеру, затянутому хрупкими потрескавшимися пластинками льда. Смотрю на эти пластинки. В просветах между ними видно, как танцуют стаи рыбок, водоросли колышутся и цепляются за что попало. Ледяная скорлупа неподвижна, я останавливаюсь и смотрю на нее. Где-то под ней прячется жизнь. Однажды она избавится от ледяной скорлупы и возродится. Смотрю в просветы между тонкими скорлупками льда. Жизнь возродится. Хочу все забыть, но не выходит.
Снова иду, снова пытаюсь забыть, забыть, забыть. На берегу начинается широкая полоса густой высокой высохшей травы, шаги становятся бесшумными, потому что утопают в гуще черной грязи. Ноги несут меня через заросли травы, ладонями я касаюсь острых оледеневших концов травы, они колются, и звук моего смеха успокаивает меня. Забыться, потеряться, забыться, потеряться, во что бы то ни стало. Трава колется, я смеюсь.
Густая черная грязь превращается в болото, я шагаю по навесной дорожке из сухой сосны с высокими прочными перилами. Невыносимое болотное зловоние витает вокруг, его не в силах уничтожить даже мороз. Я наклоняюсь над перилами, вдыхаю эту вонь и смотрю на мутную коричневую жижу, которая простирается внизу, из нее кое-где высовываются обломки веток, куски торфа, колючие кусты. Посреди этого гнилья виднеется остров, большая круглая лепешка с уродливыми сучьями, которые торчат, как растопыренные ведьмины пальцы. Под лепешкой происходит какая-то возня, и толстая коричневая выдра с плоским, как будто бронированным хвостом вылезает на поверхность и смотрит на меня.
Привет, Толстуха.
Смотрит на меня.
Чего тебе надо?
Смотрит на меня.
Готов тебе все отдать.
Смотрит на меня.
В обмен на твой остров и хвост.
Смотрит.
А я тебе отдам весь свой треклятый хлам.
Смотрит.
О чем ты думаешь?
Она сидит и смотрит, что-то, видно, соображает, потом исчезает под лепешкой. Я жду, не вернется ли, но она не возвращается.
А ты сообразительная выдра. Сообразительная тварь.
Я смеюсь, отхожу от перил и иду дальше по мосткам. Они выводят к галечной дорожке, которая окружает еще одно озерцо, я пытаюсь разглядеть что-нибудь под слоем льда, но он толстый и без трещин. Если там и есть жизнь, то она скрыта под прочной ледяной коростой.
Думаю, забываюсь, ноги несут меня дальше в лес, дальше. Вокруг темнеет, слой листьев под ногами утолщается, их шорох гипнотизирует, и, хотя глаза у меня открыты, я ничего не вижу вокруг. Просто иду.
Выхожу из леса и темноты, но не из себя. Впереди холм, поросший коричневой травой, я взбираюсь на него, сверху видны корпуса, скамейки и озеро. Видны подвижные отблески, которые отбрасывают ярко освещенные окна идеально чистых неуютных коридоров. Сажусь на коричневую траву, она сырая, но я не обращаю на это внимания, мои глаза направлены в сторону терапевтического отделения, из-за темных зарешеченных окон которого доносятся крики. Крики растворяются в воздухе, подхваченные эхом, я ложусь на спину, куртка промокает, затылок тоже, закрываю глаза, слушаю, думаю. Отдаюсь своим чувствам целиком, они приносят мне яркие потоки мыслей и образов, эти потоки омывают меня со всех сторон. Накатывают, как прилив и отлив, как прилив и отлив.
Не могу завязать.
Нужно завязать.
Не могу.
Боль.
Канава.
Священник.
К черту Бога.
Она.
К черту ее.
Пайп.
Спиртовка.
Бутылка.
Не могу завязать.
Боль.
Прими ее.
Ярость.
Дикая ярость.
Неуправляемая.
Ярость.
Грехи, которым нет прощения.
Место, откуда нет возврата.
Горе, которое неизлечимо.
Слезы.
Борьба.
Мать.
Отец.
Брат.
Слезы.
Борьба.
Жизнь.
Спиртовка.
Пайп.
Бутылка.
Тошнота.
Тошнота.
Тошнота.
Излечение.
Невозможно.
Завязать.
Невозможно.
К черту Бога.
К черту ее.
К черту тебя.
Быть.
Жизнь.
Борьба.
Слезы.
Решение.
Усилие.
Принять.
Принять.
Решение.
Потоки пронизаны светом и ясностью, они накатывают, как прилив, омывают меня, накатывают снова и омывают, приносят чистоту, пустоту, забвение и еще что-то, что-то неведомое, совершенный покой. Ясность. Покой. Умиротворение.
Дикие порывы уходят. Сердце бьется медленно и ровно. Я все ведаю, я есмь, я видел, понял, почувствовал прошлое, настоящее, будущее, сегодня, вчера, завтра, видел, понял, почувствовал, исполнилась боль, ушла, смотрю поверх слов, поверх, поверх, и слышу. Слышу.
Остаться.
Быть.
Борьба.
Жизнь.
Принять.
Слезы.
Слезы.
Слезы.
Тошнота выдергивает меня из сна, выталкивает из кровати, швыряет на встречу с моим другом-врагом из белого фаянса. Тошнота опустошает меня, выворачивает наизнанку, скручивает узлом, не отпускает.
В унитазе сгустки внутренностей, желчь, остатки вчерашнего ужина. Я давлюсь кислотой, соплями и слюной. И кровью. Кровь льет ручьем.
Иду в душ, включаю кипяток, смываю рвотную слизь с лица и груди. Она забивает сток, я проталкиваю ее ногой. Меня тошнит от вечной тошноты. Когда это кончится. Проталкиваю ногой.
Чищу зубы. Новые не отличить от своих. Мне они нравятся, здорово, что мне их сделали.
На глаза вообще не обращаю внимания.
Одеваюсь, варю кофе, наливаю себе чашку и выпиваю. Он крепкий, у меня снова начинается рвота, так что я еще раз принимаю душ, опять чищу зубы. На глаза вообще не обращаю внимания.
Переодеваюсь, выпиваю еще чашку кофе, иду на завтрак, беру овсянку и засыпаю ее сахаром. Подсаживаюсь за стол к Леонарду, Эду с Тедом и худому чернокожему человеку маленького роста. Где-то я его видел, но не припомню, где. Леонард говорит.
Как поживаешь, малыш?
В порядке.
Он указывает на Чернокожего.
Ты знаком с Матти?
Нет.
Матти, это Джеймс. Джеймс, это Матти.
Мы тянемся через стол, пожимаем руки. Я говорю – приятно познакомиться. Он отвечает – приятно познакомиться, твою мать. Я смотрю на него пристальнее. Говорю.
Где-то я тебя раньше видел.
Он говорит. У него высокий голос, говорит очень быстро.
Где ж ты меня мог видеть, твою мать?
Не помню. Откуда ты?
Из Миннеаполиса.
Странно. Какая у тебя фамилия?
Какого хера тебе понадобилась моя гребаная фамилия в этом сраном месте?
У меня в голове вдруг щелкает. Ясно, откуда я его знаю.
Твоя фамилия Джексон.
Откуда ты знаешь, твою мать?
По телевизору тебя видел. Ты же чемпион мира в полулегком весе.
Он улыбается.
Да, черт подери, это я.
Я улыбаюсь.
У тебя, наверное, журналисты обычно не брали интервью, потому что ты все время сквернословишь.
Да, черт подери, ты прав. Они просто гребаные пидарасы, эти засранцы с телика.
Все смеются, завтрак побоку, мы сидим, пьем кофе, болтаем чушь, смеемся. Матти – обломок, оболочка того человека, каким он был два года назад, когда считался одним из лучших боксеров в мире. В ту пору он выиграл два чемпионата, был богат и знаменит, женат, двое сыновей. На одной из вечеринок, где праздновали его победу, он приложился к пайпу с травой – так ему сказали, а на самом деле там был крэк. Он подсел сразу, вышел на ринг еще раз, проиграл и исчез из поля зрения.
Странно это – находиться рядом с ним. Странно осознавать, что твой сосед – человек, которого ты видел по телевизору. На пике карьеры он был бойцовской машиной. Быстрый, умный, сильный, непобедимый в своем весе до 57 кг. Он был красавчик, с широкой улыбкой, на теле ни жиринки, одни мускулы под черной гладкой блестящей кожей. Его великолепная самоуверенность покоряла, он выходил на ринг как хозяин.
Ничего от этого не осталось. Худющий, меньше пятидесяти кило, вместо волос – спутанный пушок, вся кожа в язвах, зубы пожелтели и почернели. Хотя держится, казалось бы, с прежней самоуверенностью, я сильно сомневаюсь, что он способен выйти на ринг, тем более – провести бой, и уж тем более – отправить кого-либо в нокаут. Я не спрашиваю у него про жену и детей, потому что ничего не хочу знать, а он вряд ли хочет отвечать. Столовая пустеет. Мы ничего не замечаем, потому что увлечены болтовней вперемежку со смехом. После того как подходит санитар и просит освободить стол, мы дружно перебираемся в актовый зал, Матти что-то рассказывает, через слово чертыхается, мы смеемся. В актовом зале садимся вместе, подальше от остальных, перед началом лекции Леонард вытаскивает колоду карт, и мы играем в покер. Ставок не делаем, и, если не считать того, что Матти ругается шепотом, играем молча, подаем знаки друг другу жестами и кивками.
Лекция заканчивается, я прощаюсь со своими приятелями и пускаюсь в путь через коридоры, пока не нахожу кабинет с табличкой, на которой написано имя Джоанны, стучусь и переступаю порог.
Они с Хэнком сидят на диване, пьют кофе и курят. Хэнк, увидев меня, подымается, обнимает.
Как дела, малыш?
Мы размыкаем объятие.
Хорошо.
Дай-ка я полюбуюсь твоими зубами.
Я улыбаюсь.
Прекрасная работа.
Я тоже так думаю.
Ведь оно того стоило, правда?
В общем, я выжил.
Да, сам диву даюсь, как тебе это удалось, но факт есть факт.
Результат стоил всех мучений.
Он смеется, направляется к выходу.
Навести меня как-нибудь в моем кабинете.
Где твой кабинет?
В фургоне, он стоит перед клиникой.
Я смеюсь. Он открывает дверь.
Не надо, не уходи.
Я думаю, вам лучше поговорить с глазу на глаз.
Я хочу, чтобы ты остался.
Он останавливается, смотрит на меня, садится рядом с Джоанной. Я сажусь на стул напротив. Джоанна говорит.
Чем я могу тебе помочь?
Я обдумал наш вчерашний разговор.
И что ты надумал?
Пока я останусь здесь. А там посмотрим, как пойдут дела.
Пока?
Я не хочу ничего обещать.
Она улыбается.
Что ж, для начала неплохо.
Посмотрим, как пойдут дела.
Они оба улыбаются. Джоанна говорит.
Что на тебя так подействовало?
Не знаю.
Но ведь что-то было?
Не хочу говорить об этом.
Почему?
Потому что не хочу.
Потому что боишься стать уязвимым и беззащитным.
Возможно.
А ты не любишь этого, да?
Я киваю.
Не люблю.
Если хочешь излечиться, нужно научиться быть беззащитным.
Вы, наверное, правы.
Мы с Хэнком не сделаем тебе больно.
Я знаю.
Попробуй. Откройся. Стань беззащитным и уязвимым.
Я смотрю на них, набираю полную грудь воздуха. Говорю.
Вчера я видел, как человек плакал. Я и раньше видел, как люди плачут, но думал, что плачут от слабости или от сентиментальности. Но вчера человек плакал от силы, и я восхищался его силой. Я знаю, некоторые люди считают меня сильным, крутым, но на самом деле это не так. Я овца в волчьей шкуре.
Снова набираю полную грудь воздуха.
Я размышлял об этом и пошел прогуляться – мне хотелось забыть, где я нахожусь, забыть, в какое дерьмо я превратил свою жизнь. Я лег на траву и почувствовал покой, полный покой, и тогда решил остаться в клинике на какое-то время.
Что ты почувствовал?
Я уже сказал – покой.
Ты ощутил то, что называется Мгновением чистоты.
Это термин Анонимных Алкоголиков?
Да.
Тогда нет, никакое не Мгновение чистоты. Просто покой.
Они оба смеются. Джоанна говорит.
Ты открылся нам, и ничего страшного не произошло, правда?
В общем, нет.
Просто поступай так, и тебе станет лучше. Будь честным, будь уязвимым, рассказывай о себе.
Я думаю, все гораздо сложнее.
Сложнее, но ненамного.
Посмотрим.
Наступает молчание. Я встаю.
Ну, я пошел. Я просто подумал – нужно зайти, сказать вам о своем решении.
Джоанна говорит.
Мы рады, что ты зашел.
Направляюсь к двери.
Скоро увидимся.
Они говорят «до свидания», я выхожу, иду обратно по коридорам в отделение. Сажусь на пол перед телевизором и вместе с остальными досматриваю видео. Речь про известного футболиста, у которого были проблемы с алкоголем, он бросил пить благодаря «Двенадцати шагам», теперь работает в Верховном суде и очень счастлив. Во время рассказа он сидит в своем помпезном кабинете, на нем помпезная мантия. За спиной висят фотографии – он в футбольной форме, и все вообще идеально и вдохновляет так, что просто ужас. Напоминает встречу выпускников. Допустим, я попытаюсь практиковать открытость ума, хоть и считаю ее жуткой глупостью, все равно у меня есть большие сомнения насчет того, что открытость ума, пока я нахожусь здесь, чем-то отличается от пустоты ума. Открытый ум, пустой ум. Этот футболист, который стал судьей, как-то не убеждает меня, чтобы я начал действовать. Ни хера не убеждает.
Видеофильм заканчивается, все, кроме меня, аплодируют. Я хмыкаю и получаю залп возмущенных взглядов. От этих взглядов мне становится смешно, мой смех вызывает новый залп возмущенных взглядов, от которых мне становится еще смешнее. Какой-то незнакомый тип спрашивает, что меня так смешит, я отвечаю – это видео, он говорит, что я не дорос до него, а я отвечаю, что не намерен притворяться, будто тупой бред – это верх премудрости, и он уходит, покачивая головой. Открытый ум, пустой ум. Интересно, это одно и то же или нет.
Иду на обед, беру поднос, набираю еды, ем в обществе Эда, Теда, Матти и Леонарда. Матти с Леонардом несут на себе все бремя беседы, предоставляя остальным только смеяться. К концу обеда вокруг нашего стола толпится много людей, которые подрулили послушать болтовню Матти и Леонарда.
После обеда, как всегда, лекция, но я ее пропускаю мимо ушей.
После лекции Кен приглашает меня к себе. Иду за ним по коридорам, заходим в его кабинет, сажусь на стул напротив него.
Разговор не займет много времени.
Хорошо.
Ты обдумал то, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз?
Не помню, о чем мы говорили.
Готов ли ты сделать все необходимое, чтобы завязать с наркотиками и алкоголем и вести нормальный образ жизни?
Да, об этом я думал.
У тебя есть ответ?
Нет.
У тебя есть ответ?
Нет.
У тебя есть ответ?
Сверлит меня взглядом и повторяет, как идиот, один и тот же вопрос – меня этим не проймешь.
Он смотрит на меня.
У тебя есть ответ?
Я смеюсь.
Нет.
Надеюсь, рано или поздно он у тебя появится.
Посмотрим.
Он вздыхает, сокрушенно качает головой, просматривает бумаги на столе.
Я хочу приступить к работе по твоей программе.
Хорошо.
Он вытаскивает книжку – с виду как детская раскраска – и протягивает мне.
Начнем с этого.
Я смотрю на книжку.
Что это?
Рабочая тетрадь Первого шага.
Я смеюсь.
Черт, это же просто раскраска.
Да, это просто, но мы считаем, что простые методы дают наилучшие результаты.
Ты хочешь, чтобы я раскрасил эту книжку?
Да.
Я смеюсь.
Можно попросить у тебя цветные карандаши?
Они есть в отделении.
Надеюсь, офигенный розовый никто не спер.
Что это такое?
Мой любимый цвет. В наборе из шестидесяти четырех карандашей он есть.
Ты все?
Надоел тебе?
Твои шутки надоели.
Не кажутся тебе смешными?
Нет.
Постараюсь больше не шутить.
Вот и хорошо.
Сколько у меня времени на это задание?
Два дня.
Понял.
На верхнем ярусе висит Таблица жизненных целей. Пожалуйста, впиши туда свое имя и укажи цель, которую хотел бы достичь благодаря тому, что завяжешь.
Ладно.
У тебя есть какие-нибудь идеи на этот счет?
Новый комплект зубов каждый год.
Не смешно.
Стать президентом США.
Допустим, если только тебя допустят к голосованию с твоей биографией.
Тогда, может, задаться целью нарисовать самую красивую раскраску за всю историю «Двенадцати шагов»?
Ты все?
Надоел тебе?
Подумай о цели. Не пытайся шутить.
Постараюсь.
Еще мне кажется, что смена обстановки пойдет тебе на пользу. Сегодня переведу тебя в другую палату.
Куда?
В двухместную. Уоррен и Джон сегодня выписываются, и на их место, я думаю, разумно поселить новичков.
Другая палата – это здорово.
Я решу и позже скажу тебе номер палаты.
Круто.
Выглядишь ты лучше и вроде бы берешься за ум, но тебе нужно серьезнее относиться к тому, чем мы тут занимаемся. Главное – двигаться вперед. Ты уж постарайся.
Постараюсь.
Приходи, когда закончишь работу с книгой. Я буду рад обсудить ее с тобой.
Ладно.
Встаю, выхожу, возвращаюсь в отделение. Ищу Джона с Уорреном, их нигде нет, иду в палату. Джон стоит у окна, а Уоррен укладывает вещи. Сажусь на кровать.
Привет.
Уоррен говорит.
Привет.
Джон смотрит в окно.
Слышал, вы сегодня выписываетесь.
Уоррен говорит.
Да, верно.
Ты рад?
Да, но нервничаю. Я ведь всю свою жизнь пил, и требуется большая сила воли, чтоб не опрокинуть хороший стаканчик крепкого скотча в конце дня. Точнее, шесть-семь хороших стаканчиков.
Ты уж лучше держись.
Ты прав, конечно.
Я встаю, подхожу к нему. Он прекращает укладываться.
Удачи тебе, Уоррен.
Я протягиваю руку, он берет ее.
Спасибо, Джеймс.
Рукопожатие у нас получается крепкое. Я говорю.
Я никогда не забуду твоего доброго отношения ко мне.
Мне было приятно, Джеймс. И я снова поступил бы так же.
Подхожу к Джону. Его сумки уже уложены. Сам он стоит у окна, всматривается с серую пустоту.
Джон.
Он оборачивается. На его лице слезы.
Привет, Джеймс.
Что случилось?
Я боюсь.
Иди сюда.
Он делает шаг навстречу. Я показываю на кровать.
Сядь.
Он садится, смотрит на меня, как несчастный маленький мальчик. Я сажусь рядом.
Чего ты боишься, Джон?
Я же знаю, что я нисколько не исправился.
Почему ты так считаешь?
Чувствую сердцем.
Тогда почему бы тебе не остаться здесь, пока не исправишься?
Потому что я знаю, что не исправлюсь.
Почему ты так считаешь?
Потому что я никогда не исправлюсь. Я больше никогда не стану нормальным человеком, и эта мука никогда не оставит меня. Никогда, никогда, никогда.
Не нужно так думать, Джон.
Ты же так думаешь.
Стараюсь больше так не думать.
И как?
Не знаю, как. Просто стараюсь.
Он смотрит на меня, потом в пол и разражается слезами.
Здесь я хоть в безопасности. А там сделаю какую-нибудь глупость, точно знаю, и меня посадят в тюрьму, а в тюрьме – известно, что со мной будет, я не хочу, чтобы это повторилось.
Я беру его за руку, держу, не знаю, что сказать. Он плачет, плачет, всхлипывает, слезы бегут по лицу, грудь вздымается и опускается. Я выпускаю его ладонь, кладу обе руки ему на плечи, обнимаю его, а он все плачет, и мне нечего ему сказать.
Он прекращает плакать, успокаивается, я отпускаю его, он вытирает лицо.
Прости меня.
Не извиняйся, Джон. В слезах нет ничего плохого.
Я слишком много плачу.
Я знаю. Меня это восхищает.
Правда?
Да. Я считаю, что мужчина, который способен плакать, – сильный мужчина.
Так ты считаешь, я сильный?
Я считаю, ты сильнее, чем полагаешь.
Спасибо, Джеймс.
Он снова вытирает лицо.
Я буду скучать без вас.
А мы будем скучать без тебя.
Правда?
Да.
Ты не врешь?
Не вру.
Он смотрит на меня, лезет в одну из сумок, достает ручку и открытку.
Можешь сделать кое-что для меня, Джеймс?
Конечно.
Он что-то пишет на открытке.
Когда выйдешь отсюда, позвонишь моей дочери?
Опять ты за свое, Джон.
Нет, я не об этом.
Он протягивает мне открытку.
Позвони ей, скажи, что в клинике я сделал все, что мог, что я старался изо всех сил, что я хотел бы больше участвовать в ее жизни, что я не совсем уж такой плохой человек, как все ей говорят.
Я беру открытку, смотрю на Джона.
Сделаю с удовольствием, Джон.
А если вдруг окажешься поблизости, то, может, пригласишь ее на обед или там еще куда-нибудь, и…
Он замолкает, начинает плакать, пытается сдержать слезы.
И будь, пожалуйста, с ней поласковей, и…
Больше не может сдерживаться. Рыдает. Как несчастный маленький мальчик.
И скажи ей, что я прошу у нее прощения. Прошу прощения.
Я обнимаю его, держу в объятиях, пока он плачет, потом он отталкивает меня, говорит, что хочет побыть один, и я выхожу из палаты, на ходу оглядываюсь и вижу, как он зарывается лицом в подушку, до меня доносятся его всхлипывания, стоны и бормотание.
Нет.
Нет.
Нет.
Я оставляю его наедине с собой и его будущим, иду по отделению, проверяю, что открытка у меня в кармане. Я позвоню, когда выйду отсюда, и расскажу этой девушке, что ее отец – хороший человек. Может, она не поверит мне, и, может, я не найду нужных слов, чтобы переубедить ее, но я скажу это ей. Все толпятся в отделении, ждут, когда выйдут Уоррен и Джон и начнется церемония выписки. Я не хочу смотреть на это и участвовать в этом, я уже попрощался с ними, поэтому прохожу мимо собравшихся. Как и вчера, хочу я одного – забыться. Но сегодня ничего не получится. Я понимаю это, как только вхожу в лес. Ярость охватывает меня. Опутывает каждое ощущение, каждое чувство, каждую мысль. Я не могу справиться с ощущениями, чувствами, мыслями, поэтому позволяю ярости справиться с ними. Она поглощает их. Печаль превращается в ярость, умиротворение в неутолимый голод. Я хочу уничтожить все, что попадается на глаза. Что не в силах уничтожить, то проглотить. С каждым шагом ярость нарастает. Ярость и голод. Ярость и голод. Ярость. Голод.
Мне нужна выпивка. Много выпивки. Бутылка чистейшего, крепчайшего, самого сбивающего с ног, вырубающего алкоголя на свете. Пятьдесят бутылок. Мне нужен крэк, самый ядовитый, желтый, напичканный формальдегидами. Куча мета, пятьсот порций кислоты, помойное ведро грибов, туба клея размером с грузовик, цистерна газа, в которой можно утонуть. И еще что-нибудь, чего еще не пробовал, и как можно больше. Голод, голод такой, что я готов убить, уничтожить, мне нужно забыться, отупеть, притупить эту чертову муку, пошли мне темнейшую темноту, чернейшую черноту, низвергни меня в глубочайшую, глубочайшую, самую жуткую дыру. В ад, черт подери, низвергни меня в ад. В геенну, черт меня подери.
Я продираюсь через заросли вечнозеленого кустарника на маленькую круглую поляну. Останавливаюсь, замираю, затихаю, закрываю глаза, делаю глубокий вдох, надеюсь, что это успокоит меня, но нет, снова делаю вдох, и снова безрезультатно, и снова, снова, снова, снова. Я хочу успокоиться, но нет мне покоя. Как я тут оказался. Как я очутился в этом месте, в эту минуту, в этот день, меня преследует прошлое, полное проблем, преследует будущее, полное проблем, жизнь, которую я просрал, которую не вернешь. Пятнадцать минут назад я обнимал уголовника с пожизненным сроком, обнимал наркомана, который провел детство, отсасывая собственному отцу, обнимал, потому что он плакал от страха перед возвращением в большой мир. Я обедал в обществе зловещего типа, похожего на кинозвезду средних лет, уголовника, на счету у которого третье тяжкое преступление, рабочего-сталелитейщика с вырванными волосами и привидения весом не более пятидесяти кило, которое было когда-то чемпионом мира по боксу. Мне выдали книжку-раскраску и сказали, что она мне поможет. Я посмотрел тупое видео про судью, и мне сказали, что оно мне поможет. Мне двадцать три года, я уже десять лет как алкоголик и примерно столько же времени – наркоман и уголовник, меня разыскивают в трех штатах, а я болтаюсь в клинике на краю Миннесоты, и мне дико хочется одного – напиться и обдолбаться, и я ничего не могу с собой поделать. Мне двадцать три года.
Глубоко дышу, дрожу, чувствую, что подкатывает, злость и голод смешиваются с раскаянием, страхом, стыдом, ненавистью, их смесь превращается в совершенную ярость, огромную и прекрасную, разрушительную и великолепную ярость. Ярость, которую я не могу ни остановить, ни подавить. Ярость, которую я могу только выпустить, она приближается, приближается, приближается. Пусть же наконец она прорвется, черт подери. Наконец-то. Вижу деревце, набрасываюсь на него. Визжу, рву, царапаю, гну, бью, рву, крушу, визжу, ломаю, визжу, ломаю, визжу. Это маленькое дерево, совсем молоденькая сосенка, она мне по силам, и я отрываю ветки от ствола, ломаю их одну за другой, отрываю и ломаю, бросаю обломки на землю, топчу их, топчу, топчу и, когда ствол оголяется, слышу чей-то голос, но набрасываюсь на ствол, он тонкий, ломаю его пополам, снова голос, не обращаю внимания, бросаю сломанный ствол поверх груды веток, снова этот голос, хочу оттащить ствол подальше, хватаю его, а он ни с места, снова голос, не обращаю внимания, тащу, визжу, тащу это чертово дерево, хочу его уничтожить, снова голос, не обращаю внимания, пинаю, пинаю, пинаю ствол, а голос повторяет перестань, перестань, перестань. Перестань.
Я оборачиваюсь.
Длинные черные волосы, прозрачные синие глаза, бледное лицо, алые губы. Она маленькая, тоненькая, изможденная, настрадавшаяся. Стоит, смотрит.
Что ты тут делаешь?
Я пошла гулять, увидела тебя и подошла.
Чего тебе надо?
Чтобы ты перестал.
Я тяжело дышу, смотрю исподлобья тяжелым взглядом. Дерево не дает мне покоя, я должен стереть с лица земли – это чертово дерево. Она улыбается, делает шаг навстречу, ко мне, ко мне, а я дышу тяжело, смотрю исподлобья тяжелым взглядом, она кладет одну руку мне на плечо, другую – на голову, притягивает к себе, обнимает и говорит.
Все хорошо.
Я дышу тяжело, закрываю глаза, подчиняюсь ей.
Все хорошо.
Ее голос успокаивает меня, ее руки согревают меня, ее запах проникает в меня, я слышу, как бьется ее сердце, и мое начинает биться медленнее, я перестаю дрожать. Ярость тает от ее тепла и нежности, а она обнимает меня и говорит.
Все хорошо.
Все хорошо.
Все хорошо.
Подступает что-то другое, отчего я чувствую себя слабым, испуганным, беззащитным, я не хочу испытывать боль, а это чувство мне знакомо – оно означает, что будет больно, и эта боль сильнее, глубже любой физической боли, я всегда борюсь с ней, не допускаю, не подпускаю, но голос Лилли успокаивает, руки согревают, запах проникает в меня, я слышу, как бьется ее сердце, если сейчас она отпустит меня, я просто рухну, а голод и смесь страха, раскаяния, стыда, бессилия, беззащитности подчиняются ласковой силе ее раскрытых рук, ее простых слов «все хорошо», и я начинаю плакать. Плакать. Плакать.
Слезы накатывают волнами. Они приходят из глубины моего существа и уходят в глубину, я прижимаюсь к ней, она прижимается ко мне сильнее, я отдаюсь ей, отдаюсь слезам, я никогда не чувствовал ничего подобного, подобной беззащитности, не позволял себе такой беззащитности лет с десяти, не знаю, почему не позволял, не знаю, почему сейчас позволил, только знаю, что позволил, и это самое опасное, самое пугающее и самое прекрасное, что я когда-либо испытывал, плакать в ее объятиях, просто плакать в ее объятиях, просто плакать.
Она ведет меня за собой, не выпускает из рук. Клапан открылся, и тринадцать лет зависимости, насилия, ада и их спутников дают о себе знать в рыданиях, от которых содрогается тело, в слезах, которые ручьем катятся по лицу, в прерывистом дыхании, в глубоком чувстве всеобъемлющей утраты. Чувство утраты прорастает во мне, захватывает и переполняет. Это утрата детства, утрата нормального отрочества, утрата счастья, любви, смысла, Бога, семьи, друзей, будущего, достоинства, человечности, душевного здоровья, самого себя, всего, всего, всего.
Лилли баюкает меня, как набившего шишку ребенка. Мое лицо, ее плечо, куртка, волосы намокли от моих слез. Я постепенно успокаиваюсь, начинаю дышать медленней и глубже, ее волосы пахнут чистотой, я открываю глаза, потому что хочу увидеть ее волосы, это все, что мне видно. Они черные как смоль, даже с синеватым отливом, блестящие от влажности. Мне хочется дотронуться до них, и я протягиваю руку, провожу по ее шее и по спине, по гладким шелковистым волосам, перебираю их между пальцами, и мне все мало. Делаю это снова и снова, она разрешает мне, ничего не говорит, только баюкает меня, потому что я расшибся. Я расшибся. Расшибся. Разбился. Слышится шум, голоса, а Лилли прижимает меня все крепче и крепче, и я прижимаюсь к ней все крепче и крепче, слышу, как бьется ее сердце, и знаю, что ей слышно, как бьется мое, они переговариваются между собой, наши сердца, переговариваются без слов, на языке самом древнем и самом правдивом, мы прижимаемся друг к другу, не отпускаем друг друга, а шум приближается, голоса становятся громче, и Лилли шепчет.
Все хорошо.
Все хорошо.
Все хорошо.
Она разжимает руки, и я разжимаю руки, она стоит, и я стою, она смотрит на меня.
Мне нужно идти.
Я смотрю на нее.
Я позвоню тебе.
Я смотрю на нее.
Пока.
Я смотрю на нее, а она идет на другой конец поляны, оттуда оглядывается, а потом исчезает в зарослях вечнозеленого кустарника, я слышу ее шаги, они легки, я слышу ее голос, он легок, я сажусь, глубоко дышу, сижу и смотрю. Я один, брошен и разбит. Смотрю на вечнозеленые заросли. Один, брошен, разбит.
Солнце садится, холод крепчает, ночь опускается, я измучен, опустошен, совсем без сил. Заставляю себя подняться, пробираюсь сквозь заросли, пока не нахожу тропу, иду по ней, куда она ведет. Походка у меня тяжелая, тело уставшее, сердце бьется все медленнее, медленнее, медленнее. Пройти-то всего метров двести, а кажется, что на другой конец земли.
Чтобы открыть дверь, собираю все свои силы. Вхожу внутрь, прохожу по отделению, вхожу в свою палату. Вхожу и вижу – все мои вещи, прекрасные новые вещи, свалены в кучу на стул возле кровати. Я вспыхиваю мгновенно, и тут замечаю письмо, которое лежит поверх вещей. Беру, открываю, читаю – Кен пишет, что, как и обещал, меня переводят в другую палату, ее номер такой-то. Собираю одежду, книги – все имущество, которым обладаю на этом свете, и выхожу. Иду по коридорам, опоясывающим отделение, в поисках новой палаты. Нахожу, дверь закрыта, а мои руки заняты, поэтому открываю дверь ударом ноги. Вхожу. Эта палата меньше прежней, но в остальном такая же. Две кровати, сбоку вход в ванную. На одной кровати лежит чернокожий мужчина средних лет. Не видел его раньше. Он смотрит на меня и говорит.
Вообще-то люди стучатся перед тем, как войти.
Я не знал, что тут кто-то есть.
Направляюсь к пустой кровати.
Все равно мог бы постучаться.
Я сажусь.
Прости.
Начинаю раскладывать свои вещи.
Тебя поселили ко мне?
Да.
Как тебя зовут?
Джеймс.
Привет, Джеймс, меня зовут Майлз.
Как Майлза Дэвиса?
Точно так.
Точно?
Да.
Тебя зовут Майлз Дэвис?
Да, именно.
Я смеюсь.
Ты играешь на трубе?
Нет, на кларнете.
Он указывает на черный футляр, который стоит в изножье его кровати.
Я играл на трубе в молодости, но когда второй Майлз прославился, я бросил. Это был бы перебор.
Откуда ты?
Из Нового Орлеана. А ты?
Живу в Северной Каролине.
Где?
В Вилмингтоне.
Нравится тебе Вилмингтон?
Ничего город, но не для меня.
Он смеется.
А чем ты занимаешься в Новом Орлеане?
Судья.
Какой судья?
Судья Федерального окружного апелляционного суда.
Круто.
Он пожимает плечами.
Уж как есть.
Сажаешь людей за решетку?
Приходилось, когда работал в уголовном суде, теперь нет.
И как оно тебе?
Отправлять человека за решетку нелегко. В тюрьме его не ждет ничего хорошего, даже если он ее заслужил.
Я киваю.
А ты чем занимаешься в жизни?
Попадаю в неприятности.
Он смеется.
В какие?
Самые разные.
И сейчас у тебя неприятности?
Иначе бы я тут не оказался.
А еще какие у тебя неприятности?
Можно я сошлюсь на Пятую поправку к Конституции?[3]
Если хочешь.
Хочу.
Он смотрит на часы.
Ты уже ужинал?
Нет еще.
Может, поужинаем вместе?
Я встаю.
Давай.
Он встает с кровати, мы выходим из палаты. Идем по коридорам в столовую, занимаем очередь, берем еду. Мы садимся за стол, и я узнаю, что Майлз – алкоголик, что у него есть жена и двое детей, что сюда поступил сегодня. Он говорит спокойно, размеренно, тщательно подбирает слова и сопровождает их жестами, выражением глаз и движением головы. Когда говорю я, он слушает внимательно, реагирует деликатно – кивком головы, улыбкой или тихим возгласом. Я сразу воспринимаю его как друга, что мне совершенно не свойственно. Всю жизнь я ненавидел копов и судей, любых представителей власти независимо от ранга, и мне даже в голову не приходило, что я подружусь с судейским чином. Через несколько минут к нам присоединяются Леонард с Матти, Эдом и Тедом. В их компании ужин проходит как обычно. Они смеются, подкалывают друг друга, рассказывают истории из своего прошлого, сплетничают про клинику и про пациентов. Кроме Майлза в нашем отделении появились еще четверо новеньких, и Леонард, Матти, Эд и Тед оценивают их, говорят, кто им понравился, кто нет, и строят планы, как этих проучить. Среди новеньких есть жирный коротышка по имени Бобби, на которого они особенно взъелись, уж не знаю почему. Знаю только, что не хотел бы я оказаться на его месте.
После ужина мы всей компанией идем на лекцию. Садимся тоже вместе. Я сижу у прохода и высматриваю Лилли. Когда она появляется, мое сердце подпрыгивает в груди, руки начинают дрожать, я мысленно успокаиваю себя, успокаиваю, но чувство, для которого нет слов, зажглось и разгорается, разгорается, разгорается. Похоже, я влюбился в нее с первого взгляда, но не осознавал этого, и сейчас не осознаю, испытываю какое-то незнакомое изумление, из-за этого нервничаю, а ведь обычно я не нервничаю. Обычно я злюсь. Сейчас не злюсь. Странное чувство зажглось и разгорается.
На сцену выходит какой-то тип – и зал начинает аплодировать. Я узнаю рок-звезду – оказывается, он тоже был пациентом этой клиники. Он поднимает руки вверх в победном жесте, улыбается, сгибается в поклоне, его черная кожаная куртка блестит, засаленные длинные волосы свешиваются вниз, цветастая шелковая рубашка переливается, большие кольца в ушах звенят, все сходят с ума. Он жестом просит тишины, аплодисменты стихают, и он начинает театрально прохаживаться по сцене взад-вперед, взад-вперед.
Потом останавливается, вперяет взгляд в потолок на мгновение, как будто видит там что-то кроме панелей, снова смотрит в зал и начинает говорить глубоким торжественным голосом. Его первые слова – «когда вышел мой первый хит и я проснулся знаменитым, то стал по-черному зависать на всяческих вечеринках».
Здесь он начинает подробно расписывать свой успех. Перечисляет, сколько записей продал, сколько баб перетрахал, сколько наград получил. Он рассказывает про свою гастрольную жизнь на чемоданах – говорит, такая жизнь совсем не сахар, даже если останавливаешься в «Фор сизонс». Говорит, как сложно записывать альбомы и как трудно быть звездой. Говорит, что все балдеют – так он это называет – от его губ, его волос, его голоса, который так мелодично звучит. И наконец, спустя какое-то время, и очень долгое время, он приступает к рассказу о пьянстве и наркотиках. Когда говорит про героин, постукивает двумя пальцами по сгибу локтя, когда про коку – втягивает в себя воздух, когда про алкоголь – словно держит бутылку, а когда про таблетки – словно забрасывает их в рот. Заявляет, что на пике зависимости тратил по пять тысяч баксов в день на кокаин с героином, полировал их вечером пятью бутылками спиртного и еще закидывался снотворным – таблеточек сорок, чтобы наверняка. Все это он рассказывает с самым честным видом, на голубом глазу и на полном серьезе.
Мне надоело, я устал от этой болтовни. Я нервничаю и в то же время счастлив. Странное состояние. Будь я в своем обычном расположении, я бы вскочил, показал средний палец, крикнул «пиздеж», согнал этого говнюка со сцены и надавал ему пиздюлей. Будь я в своем обычном расположении, я бы после хорошей трепки загнал его обратно на сцену и потребовал извиниться перед людьми за то, что убил столько их драгоценного времени. А потом сказал бы: если еще раз услышу, как он впаривает людям всю эту чушь, то отрежу его драгоценные волосы, почикаю его драгоценные губы, соберу его сраные золотые диски и засуну ему в задницу.
Мне не нравится этот тип. Не нравится, что он говорит и как он говорит. Я не верю ни единому слову, и его статуса рок-звезды недостаточно, чтобы я купился на всю ту чушь, которую он пытается загнать. Четыре или пять тысяч долларов в день – это такая доза любого вещества, что хватит убить человека несколько раз. Пять бутылок крепкого алкоголя на ночь любого богатыря отправят в коматоз. Сорок таблеток сильного снотворного – и ты уснешь вечным сном. Выпей он сорок таблеток хоть раз, уже бы не вернулся на этот свет – может, и к лучшему.
Наркоман он и есть наркоман. Неважно, какого цвета у него кожа – белая, черная, желтая или зеленая, богач он, бедняк или посерединке, самый известный человек на планете или самый безвестный. Неважно, на что он подсел – на наркотики, на алкоголь, на преступления, на секс, на шопинг, на еду, на азартные игры, на телевизор или на «Семейство Флинтстоунов». Жизнь у всех наркоманов одинаковая. В ней нет радости, блеска, веселья. Нет удач, восторга, счастья. Нет будущего и нет выхода. Есть только одержимость. Все поглощающая, все объемлющая, полностью все заполняющая одержимость. Выставлять ее напоказ, чтобы хвастаться, извращенно упиваться славой – это путь в никуда, потому что никак не приближает к правде, а только правда имеет значение. И этот тип на сцене стоит передо мной, перед всеми нами, и врет. Несет сущую околесицу. Только правда имеет значение. А это гребаная околесица.
Лекция заканчивается, раздаются оглушительные овации и восторженные крики, Губы, Волосы, Кожа и Шелк расплываются в самодовольной улыбке, рок-звезда сияет, машет, посылает воздушные поцелуи своим обожателям. Мне надоело, я устал от этой болтовни. Я нервничаю и в то же время счастлив. Странное состояние. Будь я в своем обычном расположении, меня бы уже давно стошнило. Леонард что-то бормочет себе под нос, я переспрашиваю, он смеется и отвечает, что подумывает направить парочку своих дружков потолковать с этим парнишкой по душам. Я тоже смеюсь и говорю – было бы славно. Благослови тебя Бог, Леонард. Славное богоугодное дело.
Мы встаем, пробираемся к выходу, перед выходом оборачиваюсь взглянуть на Лилли – но не вижу ее, не хочу, чтобы мое намерение заметили, поэтому сразу же отворачиваюсь и выхожу. Так хотелось ее увидеть. Так хочется ее увидеть. Возвращаюсь в отделение, иду к себе в палату и ложусь на кровать.
Заходит Майлз, садится на кровать, берет футляр, вынимает кларнет, спрашивает, не возражаю ли я, если он поиграет, я отвечаю – нет, играй сколько хочешь, беру книгу из тех, что привез Брат, беру наугад, не глядя, потому что мне все равно – хочется просто почитать, чем-то занять свой ум. Ярость, голод снова тут как тут, они возвращаются, они живы, они до конца не исчезают, всегда подстерегают меня, пожирают меня. Необходимо чем-то занять свой ум. Не важно, чем. Лишь бы занять.
Беру китайскую книжку, «Дао дэ цзин», потому что она тоньше всех и единственная, которую я не читал раньше. Маленькая, тоненькая, как тетрадка. Название написано простыми белыми буквами на черном фоне. Пролистываю до конца, смотрю на заднюю обложку, там три цитаты, эти слова мне раньше не встречались, но напоминают один в один выдержки из дерьмовых хипповых журналов в духе нью-эйдж. В верхнем углу – код издательской классификации, книга относится к категории «религия».
Я вмиг настраиваюсь на скептический лад. Не только из-за цитат и категории «религия», но и потому, что подобные книги я всегда сваливал в ту же кучу, что книги про астрологию, ароматерапию, магические кристаллы, силу пирамид, целительство, фэн-шуй и прочий хлам, который в разные периоды моей жизни мне подсовывали как средство решения моих проблем. Тот, кто думает, что подобные средства могут решить его проблемы, – по-настоящему решить, а не отвлечь от них на время, в моих глазах все равно что сумасшедший. Но эту книгу мне принес Брат, поэтому я прочитаю ее. Принеси мне ее любой другой человек, она бы уже валялась в мусорном ведре. Когда открываю ее, Майлз начинает играть на кларнете. Он играет плавную медленную мелодию. Она звучит в низком регистре, и я удивляюсь, как ему удается извлекать звуки и дышать при этом. Мелодия очень медленная, и кажется, будто играть легко, но я понимаю, что это не так. Глубокие, спокойные, медленные, нежные звуки кларнета. Не знаю, что за мелодия, но мне нравится.
Предисловие пропускаю. Если книга – полная ерунда, то я своим умом до этого дойду, и ее не спасут разглагольствования какого-то сраного умника, который написал предисловие. Текст состоит из коротеньких глав с номерами от 1 до 81. В главе номер один говорится, что Дао не может быть выражено словами и находится по ту сторону слов. Говорится, что подлинное и вечное не нуждается в словах. Если мы свободны от страстей, то можем познать тайну, а если захвачены страстями, то нам доступны только ее проявления. Говорится, что у тайны и ее проявлений один и тот же источник – глубочайшая темнота. Говорится, что глубочайшая темнота – ключ ко всякому пониманию. Причин бросать книжку в мусорное ведро вроде не вижу, но и убедить меня окончательно ей пока не удалось. Продолжаю читать. Читаю и слушаю глубокие, спокойные, медленные, нежные звуки кларнета. Устраиваюсь в теплом гнезде под одеялом и читаю. Жду телефонного звонка и читаю. Когда Лилли позвонит, я услышу ее голос. Я хочу услышать голос Лилли.
Глава номер два. Если существует прекрасное, то существует и безобразное. Когда возникает добро, то возникает и зло. Бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга, высокое и низкое взаимно определяются, длинное и короткое взаимно соотносятся. Тот, кто живет по закону Дао, действует без деяния, учит без слов. Он все принимает и все отпускает, ничего не ожидает и ничем не обладает. Он не испытывает нужды, не зависит, не гордится. Он не различает прекрасного и безобразного, добра и зла. Он способен просто быть. Просто быть.
Глава номер три. Почитая сверх меры одних, мы порождаем зависть в других. Переоценивая вещи, мы порождаем воровство. Держи свой ум пустым, а сердце полным. Усмири свою гордость, умерь свои притязания. Расстанься со всем, что знаешь, со всем, чего желаешь, и не слушай того, кто скажет, что знает. Упражняйся в недеянии, нехотении, нестяжании, несуждении, неведении. Учись просто быть. Все встанет на свои места.
Глава номер четыре. Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. Извечная пустота, она полна бесконечных возможностей. Дао нигде и везде. Оно старше и могущественней всех богов. Дао нигде и везде. Оно старше и могущественней всех богов. Делаю паузу, потом перечитываю эти четыре главы еще раз. С первой по четвертую. Каждое слово по отдельности, все слова вместе, их значение и контекст – все очень просто, и в этой простоте – первооснова, и в этой первооснове – правда, а только правда имеет значение. Эти слова обращены ко мне, полны смысла для меня, отзываются во мне, успокаивают, утешают, расслабляют, даже умиротворяют меня. В них звучит правда, а только правда имеет значение. И хоть я не спец по части китайщины и вообще ни по какой части, кроме того разве, как лучше употребить, чтоб посильнее вперло, но я вроде как с ходу ловлю, о чем говорит мне эта книжка, эта странная, невероятная, дивная, мудрая книжка. Живи, давай жить, не суди, принимай жизнь как она есть, не отвергай жизнь, и все будет хорошо.
Я закрываю книжку, звуки кларнета подхватывают меня, обнимают, обнимают, обнимают. Глубокие, спокойные, медленные, нежные звуки кларнета, как и мысли в моей голове. Обнимают меня, обнимают меня, обнимают меня.
Живи и давай жить.
Не суди.
Принимай жизнь как она есть.
Не отвергай жизнь.
Все будет хорошо.
Вопль, долгий, пронзительный, леденящий кровь, словно кричит ребенок, которого зажаривают живьем.
Привстаю на кровати. Вокруг темно и тихо. Может, приснилось? Вопль повторяется. Вопль ребенка, которого зажаривают живьем.
Вылезаю из кровати, выхожу из палаты, иду в ту сторону, откуда доносится вопль. Он доносится из холла, и с каждым моим шагом становится громче, отчаяннее. Как будто ребенка, на хер, зажаривают живьем.
Мне страшно. Даже волосы на затылке встают дыбом, и волосы на руках тоже, сердце колотится, в ушах звенит, и вопль все громче, отчаяннее с каждым шагом. Подмывает остановиться, не идти дальше. Мне страшно. Бедный ребенок. Мне страшно. Бедный ребенок.
Поднимаюсь на верхний ярус. Там еще двое человек, с перекошенными лицами смотрят вниз на нижний ярус. Я смотрю туда же, куда они, откуда эхом разносятся душераздирающие вопли. На диване стоит Рой, в руке у него толстая деревянная палка устрашающего вида, вроде биты, с окровавленным концом. Он размахивает этой палкой, целится в невидимых врагов и орет во всю мощь легких. Одежда, потасканная и рваная, покрыта пятнами грязи и крови, лицо, волосы, руки – тоже, глаза расширены, взгляд невидящий, белки – красные, как раскаленный уголь, а зрачки черные-пречерные.
Подтягиваются еще люди, привлеченные жуткими воплями, выстраиваются на верхнем ярусе, смотрят на Роя в растерянности, не понимают, как реагировать, что делать, как успокоить его. Приступ безумия усиливается, Рой начинает скакать на диване, одной рукой молотит палкой по спине, а другой раздирает себе лицо. Изо рта вылетает пена, капли крови разлетаются по ковру и стенам, в штаны он то ли уже обмочился, то ли мочится сейчас. Похоже, он не замечает, что на него смотрят.
Приходит Линкольн с крупным мужчиной в серой униформе и с переносной рацией – видимо, с сотрудником службы безопасности. Они минуту стоят на верхней ступени лестницы, глядя на Роя и о чем-то тихо переговариваясь. Потом замолкают и спускаются по лестнице, а Рой прекращает визжать, смотрит на них, поднимает палку и начинает целиться в них.
Почему вы хотите убить меня?
Отвечает Линкольн. Тихо, спокойно.
Рой?
Почему вы хотите убить меня?
Мы не хотим убить тебя, Рой.
Они доходят до нижней ступеньки лестницы и останавливаются.
Кто тут Рой?
Линкольн делает шаг вперед, его спутник остается на месте.
Ты что-то принял, Рой?
Рой скачет вверх-вниз на диване. Размахивает палкой.
Я не Рой.
Линкольн делает еще шаг вперед.
А кто ты?
Меня зовут Джек, и я убью тебя. Я УБЬЮ ТЕБЯ, УБЛЮДОК!
Линкольн оглядывается, кивает спутнику, и тот что-то говорит по рации. Линкольн снова поворачивается к Рою.
Привет, Джек.
Я размозжу тебе башку, двуличный ты сукин сын!
Почему, Джек?
Потому что я убийца. Хладнокровный и безжалостный убийца.
Входят еще двое в сером. Первый хмыкает. Линкольн оборачивается, подзывает их кивком и делает шаг навстречу Рою. Трое в сером достают из карманов резиновые перчатки, надевают их.
Может, отдашь мне палку, Джек?
Рой размахивает палкой.
Это не палка, это дубина. Я человек-молот.
Трое приближаются.
Может, ты положишь дубину, Джек?
Ты ее получишь только через мой труп, ублюдок.
Трое окружают диван, Линкольн стоит перед Роем. Рой злобно озирается, рычит, крутится волчком, чтобы прикрыться.
Я размозжу вам черепа, сволочи!
Рой.
Я размажу ваши мозги по полу, ублюдки.
Рой.
Трое в сером смотрят на Линкольна, Линкольн – на Роя. Рой крутится на месте, размахивает палкой и визжит.
Я Джек, человек-молот. Я сделаю из вас из всех кровавое пюре, сволочи.
Линкольн кивает тому, который пришел с ним вместе, а тот кивает двум другим. Когда Рой поворачивается спиной, один набрасывается на него сзади, вырывает палку, швыряет и ее, и самого Роя на пол. Двое других в ту же секунду прыгают сверху, выкручивают ему руки, а он царапается и пытается их укусить. Поняв, что ему не вырваться, он начинает визжать, визжать, визжать. Как ребенок, которого зажаривают живьем.
Почти все отделение собралось на верхнем ярусе и смотрит, как скручивают Роя. Один человек держит его за ноги, другой за руки, третий за плечи. Они несут его вверх по лестнице, выносят из отделения, и его крики доносятся из лабиринта коридоров. Хотя Рою явно не предстоит ничего хорошего, я думаю, вряд ли ему будет хуже, чем сейчас. Хуже просто быть не может. Эти вопли. Нет, точно не будет хуже.
Линкольн, который молча смотрел им вслед, поворачивается к нам.
Шоу закончилось, ребята. По кроватям.
Все ни с места.
Ступайте спать.
Все ни с места. Говорит Тед.
А продолжения не будет?
Несколько смешков. Линкольн смотрит на Теда.
Ничего смешного, Тед.
Тед говорит.
А по-моему, смешно.
Линкольн не отвечает.
Ступайте спать. Поговорим завтра.
Он стоит, смотрит, пока люди не начинают расходиться. Тогда он поднимается по лестнице и уходит. У меня сна ни в одном глазу, не хочу спать. Даже если и лягу, все равно не засну. Эти вопли до сих пор звучат у меня в голове. Вид слюны и крови перед глазами. Слова «я не Рой» крутятся в уме. Пустота и безумие в глазах Роя преследуют меня. Не буду ложиться. Эти вопли, как будто ребенка зажаривают живьем.
Иду к кофемашине, готовлю кофе на завтра. Засыпаю в фильтр дешевый фабричный кофе, заливаю воду из-под крана, нажимаю кнопку «включено». Стою и жду, когда вода начнет просачиваться через коричневый слой и булькать. Но вот кофе сварился, я наливаю себе чашку, отпиваю глоток, кофе горячий, горький, самое то, что надо. Ни сахара, ни молока, просто горячий, горький, что надо. Не буду ложиться. Буду пить кофе. Буду пить кофе.
Направляюсь к ближнему столу. Несколько человек собрались за ним и обсуждают увиденное. Я говорю им – кофе готов, и кое-кто встает, идет за кофе, а я сажусь и слушаю разговор. В центре обсуждения вопрос – какие из известных веществ могут довести человека до такого состояния, в котором находится Рой, то есть чем конкретно он обдолбался. В принципе, крэк может дать такой эффект, мет может, ангельская пыль или основательная доза кислоты может, но больше, пожалуй, из доступных веществ ничего не обладает таким воздействием. Тед склоняется к тому, что это был крэк. Он сам несколько раз впадал от крэка в психоз, последний раз маршировал по улицам маленького городка в Миссисиппи в костюме Санты и с мешком дерьма, которым закидывал проезжие автомобили и прохожих. Незнакомый мне человек склоняется к тому, что это был мет, к тому же, по его мнению, Рой не спал несколько дней подряд и страдает от депривации сна. Остальные считают, что это ангельская пыль или кислота. И то, и другое, и порознь, и вместе взятое сильно воздействуют на сознание, порождают зрительные и слуховые глюки, вызывают помешательство. И то, и другое, и порознь, и вместе взятое могут привести к такому эффекту хоть после длительного, хоть после кратковременного применения. И то, и другое, и порознь, и вместе взятое могут вызвать такой эффект и при первом применении. Лысый Коротышка говорит, что вообще-то Рой – алкоголик, ненавидит наркотики и тех, кто их принимает, и сам никогда их не пробовал. Он думает, что Рой просто сошел с ума. Без повода и причины, просто сбой в работе мозга – и полный отвал башки. У меня нет своей версии. Сижу, слушаю, попиваю кофе и жду, когда эти вопли прекратятся.
Люди расходятся по палатам, один за другим, сонные и уставшие от разговоров. Расходятся все, я остаюсь один, бодрствую с дешевым кофе, в окружении белых неподвижных стен, и медленные, одинокие мгновения бытия утекают в темноту глубокой ночи. Я сижу за столом, курю сигарету за сигаретой, потягиваю кофе. Вслушиваюсь в тиканье невидимых часов, думаю, как сбой в работе мозга может закончиться полным отвалом башки, и вспоминаю. Сижу, смотрю, потягиваю кофе, тикают невидимые часы, вспоминаю. Сбой в работе мозга – и полный отвал башки. Полный отвал башки. Вспоминаю.
Вспоминаю ее. Тонкую, высокую фигуру, длинные светлые волосы, как дорогой шелк, голубые глаза, голубые, как осколки арктической льдины, вспоминаю ее. Вспоминаю, как она смотрела в тот день, когда я отдал пакет дури Люсинде. Вспоминаю, как встретился с ней на следующий день. Вспоминаю, как не заговорил с ней, хотя очень хотел, но не отважился. Вспоминаю, как смотрел на нее, безотрывно и откровенно, мой сосредоточенный и напряженный взгляд неизменно следовал за ней. Помню, что не знал, замечает она мой упорный взгляд или нет. Спустя некоторое время догадался, что замечает, но она не просила меня перестать. И я продолжал смотреть на нее.
Она исчезла через два года. Я не знал куда и ни у кого не спрашивал. Студенты часто прерывают учебу, чтобы поехать за границу или поработать, поэтому я надеялся, что она вернется. Если не вернется, то отправлюсь на ее поиски. Она исчезла, исчезла, исчезла, и если не вернется, то я обойду всю землю, но отыщу ее. Буду искать, пока не найду.
Я увидел ее снова в классе. В первый день занятий, осенью, через пятнадцать месяцев ее отсутствия. Пришел пьяный после загула, голова болела от обезвоживания и бессонной ночи, поэтому сел на задний ряд, подальше ото всех, положил голову на руки, закрыл глаза, виски сдавило, желудок сдавило, грудь сдавило, я старался прогнать сон и тошноту, уж больно не хотелось блевать в классе в первый день занятий. Услышав, как преподаватель поздоровался и поздравил с началом учебного года, поднял голову – и увидел ее, она сидела в первом ряду, рядом с Люсиндой и еще одной девушкой, которую я видел, но не знал по имени. Она снова здесь. Я не видел ее больше года. Я готов был обойти всю землю. Она снова здесь.
Я сидел, смотрел, не отрываясь, на нее. Забыл про похмелье, про тошноту, про занятия, про школу, про приятелей, про семью, про свою жизнь. Забыл свое имя, лицо, себя. Забыл все, забыл, забыл, забыл все, только смотрел на нее. Хоть я сидел за ней, но заметил, что она изменилась с тех пор, как я видел ее в последний раз. Ее фигура приобрела мягкость, она повзрослела, отрастила волосы, загорела, излучала тихую, спокойную уверенность, которой не было раньше. Она была одета в черное, от этого волосы казались светлее, а глаза голубее, хоть я и не видел их, но и так знал – голубее. Волосы светлее, глаза голубее. Я готов был обойти всю землю.
Когда занятия закончились, я расстроился, не хотел, чтобы они заканчивались, я хотел смотреть и смотреть на нее. Она встала. Оглянулась – как будто догадалась, что я там, что мои глаза прикованы к ней, она тоже посмотрела на меня, и арктическая голубизна погрузилась в светлую зелень. Она смотрела внимательно, и я не отводил взгляда, пока класс не опустел, тогда она отвернулась и вышла. Я сделал глубокий вдох и пошел за ней.
Она шла по коридорам. Это было здание гуманитарных факультетов, полное людей, звуков, оживления первого учебного дня. Она шла быстро, но замедляла шаг на поворотах и лестницах, этим помогала мне не потерять ее из виду и давала мне понять, что не хочет, чтобы я потерял ее из виду. Арктическая голубизна погрузилась в светлую зелень. Мы встретились. Мы оба понимали это.
Недалеко от главного входа я потерял ее из виду и запаниковал. Я не хотел терять ее, поспешил на улицу, озирался в поисках ее, хотел видеть ее, смотреть на нее, куда же она подевалась, арктическая голубизна, где ты, где ты, и тут я услышал голос, он окликал меня по имени, ясный, звонкий, чистый, как солнечный луч, который отражается от камня на дне ручья. Ясный, звонкий, чистый голос произнес мое имя – Джеймс.
Я остановился, оглянулся. Она стояла на широкой каменной ступеньке, первой из десяти. Она стояла и ждала меня.
Джеймс.
Что?
Почему ты смотришь на меня?
Что?
Ты все время смотришь на меня. Я спрашиваю, почему.
Ты ведь сама знаешь.
Не знаю.
Знаешь.
Нет, не знаю.
Ты знаешь, просто хочешь, чтобы я сказал вслух.
Скажи, почему ты смотришь на меня.
Я делаю глубокий вдох.
Когда я тебя увидел в первый раз, мое сердце оборвалось. Когда увидел во второй раз, мое сердце оборвалось. В третий раз, в четвертый раз, в пятый раз – то же самое. Каждый раз мое сердце обрывается.
Я не сводил с нее глаз.
Ты прекрасней всех девушек на свете. Твои волосы, твои глаза, твои губы, твоя фигура, твоя походка, твоя улыбка, твой смех, выражение лица, когда ты сердишься или когда огорчена, манера вытягивать ноги, когда ты устала. Каждая мелочь в тебе прекрасна.
Я не сводил с нее глаз.
Когда я вижу тебя, мир замирает. Он останавливается, и для меня существуешь только ты, и я не могу отвести от тебя глаз. Больше ничего нет. Ни звуков, ни людей, ни мыслей, ни тревог, ни прошлого, ни будущего. Мир просто замирает, он становится прекрасен – место, в котором есть только ты. Только ты, и мои глаза, которые смотрят на тебя.
Я не сводил с нее глаз.
Когда ты уходишь, мир снова приходит в движение, и мне он не очень-то по душе. Я могу в нем жить, но он мне не нравится. Я просто слоняюсь и жду, когда снова увижу тебя и мир снова замрет. Мне нравится, когда он замирает. Это самое лучшее, что со мной происходило в жизни, что я когда-либо испытывал, самое лучшее, и это происходит, когда я смотрю на тебя, а ты так прекрасна.
Мы стояли на расстоянии одного шага и не сводили друг с друга глаз, арктическая голубизна и светлая зелень, они сомкнулись, погрузились друг в друга. Мир замер, больше ничего не существовало. Только я и она, арктическая голубизна и светлая зелень, они сомкнулись, погрузились друг в друга.
Она улыбнулась.
Прекрасная улыбка.
В ней была правда.
Спасибо.
Не за что.
Что ты собираешься делать сейчас?
Занятия закончились. Так что собираюсь напиться.
Ты серьезно?
Да.
Значит, то, что про тебя говорят, это правда?
Не знаю, что про меня говорят, но скорее всего, это правда.
А я надеялась, что это вранье.
Не знаю, что ответить.
Я отступаю назад, на следующую ступеньку.
Мы еще увидимся?
Она улыбается, кивает.
ДА.
Я поворачиваюсь, иду прочь, ноги у меня дрожат, как желе, и подгибаются на каждой ступеньке. Я знаю, что она смотрит мне вслед и ждет, что я оглянусь, чтобы улыбнуться мне, и я мечтаю об этой улыбке, от которой мир снова замрет, но не оглядываюсь. Продолжаю идти, ее лицо перед мысленным взором, арктическая голубизна и светлая зелень, они сомкнулись, погрузились друг в друга, прекрасное, восхитительное, таинственное и удивительное мгновение. Оно в моем сознании. Я знаю, что оно не кончится никогда.
Я слушаю, как тикают невидимые часы, отмеряя мгновения давно прошедшего времени. Это тиканье меня завораживает, поглощает, гипнотизирует, как идиота медленное раскачивание маятника перед глазами. Мир словно замер, но не так, как раньше, не по-доброму. Он застрял на месте и пробуксовывает, не хочет двигаться вперед, как застряла на месте и пробуксовывает моя жизнь. Ни вперед, ни назад, вообще никуда, просто застряла. Застряла.
Часы уносят меня прочь, в никуда. Где нет ничего, кроме этого момента и погружения в глубину ночи. Я сижу один за столом, курю сигарету за сигаретой, потягиваю кофе, слушаю тиканье и продолжаю существовать. Хотя не заслуживаю существования. Недостоин того, чтобы дышать и жить. Не достоин того, чтобы получить в подарок ни это мгновение, ни следующее. Не достоин того, чтобы получить в подарок шанс начать жизнь сначала. Я не заслуживаю ничего этого, и все-таки я до сих пор здесь и до сих пор дышу. Это мгновение никогда не повторится. Это мгновение и этот шанс – одно и то же. Это мгновение и этот шанс – одно и то же, они принадлежат мне, если я выбираю их, а я выбираю их. Я хочу их. Отныне и до тех пор, пока они мои, они бесценны, но мимолетны, улетучиваются, едва моргнешь глазом, не потеряй же их. Это мгновение и этот шанс, и новая жизнь, все слилось в тиканье невидимых часов, которые уносят меня прочь, в никуда. Сердце стучит. Стены белые, неподвижные. Продолжаю существовать.
Темнота отступает, свет пробивается сквозь нее и одолевает. В отделении пусто, кроме меня ни души. Я встаю, хочу подышать полной грудью, подышать воздухом, подхожу к двери, открываю и выхожу на улицу. Иду к озеру, которое подернуто легким туманом из-за разницы температур над водой и под водой. Туман клубится над черной гладью воды, колышется, но не рассеивается, меняет форму, но остается неизменным. Мне нравится этот туман, мне хочется втянуть его в себя и уподобиться ему. Хочу его втянуть, как коктейль, и наполниться им. Хочу проглотить его и уподобиться ему. Вразуми меня, как уподобиться туману. Вразуми, как стать похожим на него.
Сажусь на среднюю скамейку. Ноги и спина мерзнут, но холод – это контрапункт к сигаретам, кофе и ночи. Сижу неподвижно, прямо, смотрю, пока не вспархивает какая-то птица, она мечется туда-сюда, прочерчивая свой путь, как льдинка, дрейфующая с севера на юг. Она мечется в тумане, находит наконец дерево, садится на ветку и смотрит вниз – не на меня, а туда, где что-то искала. И не находит, и остается на ветке, неподвижная и настоящая. Высматривает, ищет, ищет, ждет. Неподвижная и настоящая.
За спиной у меня раздается шум, оглядываюсь. За стеклянной дверью маячит чья-то фигура. Она одета в синий нейлон, в очках и в шапке. Она закрывает дверь, смотрит в мою сторону и направляется ко мне, осторожно шагает по густой блестящей росе. Мне не хочется, чтобы эта Фигура ко мне приближалась, неважно, чего ей надо, поэтому отворачиваюсь, сижу неподвижно, выпрямившись, и смотрю на воду. Птица все еще на ветке. Высматривает, ищет, ищет, ждет. Неподвижная и настоящая.
Шаги приближаются, и краем глаза я уже вижу синий нейлон совсем рядом. Делаю вид, что ничего не замечаю, но за спиной раздается.
Привет, малыш.
Узнаю голос.
Привет, Леонард.
Он встает передо мной.
Не против, если я присяду?
Я смотрю в туман.
Скамейки общие.
Он смеется и садится.
Еще рано, почему не спишь?
Смотрю на туман.
Не спится.
Из-за Роя?
В том числе.
А еще из-за чего?
Не хочу об этом говорить.
Точно?
Точно.
Леонард поднимается со скамейки.
Пойдем прогуляемся.
Я остаюсь сидеть.
Нет, спасибо.
Пойдем.
Нет.
Почему?
Я смотрю на него.
У тебя такой вид. Не для прогулок со мной.
Он оглядывает себя, потом смотрит на меня.
Что не так с моим видом?
Из чего сделан твой спортивный костюм?
Он потирает куртку, улыбается.
Смесь вискозы, нейлона и атласа.
Я смеюсь.
Вот тебе первый пункт.
Хорошо. А второй пункт?
Золотые часы.
И что? Они мне нравятся.
И эти идиотские очки.
Между прочим, Гуччи.
Пофиг, Гуччи или Дуччи. Они идиотские.
Он снимает очки, рассматривает их, засовывает в карман.
А так?
Так лучше.
Он улыбается, машет рукой.
Так пойдем погуляем, малыш.
Я встаю, мы идем, находим тропу, которая ведет через лес. Леонард спрашивает, как мои дела, я отвечаю – хорошо. Он опять спрашивает, и я опять отвечаю – хорошо. Он опять спрашивает, и я опять отвечаю – хорошо, черт подери, а он говорит, что ответ «хорошо» не устраивает его, когда он спрашивает, как мои дела, потому что он хочет знать, как на самом деле мои дела. Тогда я говорю, что не знаю. Он спрашивает, что значит «не знаю», и я говорю, что не знаю, как мои дела, потому что иногда чувствую себя хорошо, а иногда совсем, прямо совсем нехорошо. Он отвечает, что если на самом деле все обстоит так, как я говорю, то значит, дела у меня хорошо, нужно продолжать в том же духе, и я вылечусь, и моя жизнь наладится, и вообще все наладится, а я смеюсь в ответ. Он спрашивает, отчего я смеюсь, а я говорю – смеюсь, потому что не считаю, что кокаинщик со стажем, первостатейный торчок и почетный пациент имеет право раздавать мне тут советы. Он смеется и говорит – давай найдем, где можно присесть, малыш. Хочу рассказать тебе одну историю.
Мы идем, пока не замечаем скамейку возле озерца. Это простая деревянная скамья, словно вырубленная из одного бревна. Грубые края, неровная поверхность, холодная, как у всех скамеек сейчас. Солнце всходит и прожигает в тумане желтые просветы. Плавающие пластинки серого льда приходят в движение и трескаются со звуком, который напоминает выстрел, с сосулек, которые свешиваются с ветвей дубов и сосен, начинает капать, от этой капели подтаивает лед под деревьями. Хоть одет я легко, мне тепло. Сердце бьется, жизнь продолжается, мне тепло.
Леонард смотрит в даль озера. Таким расслабленным я его раньше не видел, куда-то исчезли апломб, властность, командирские манеры. Руки спокойно лежат на коленях, дышит глубоко и медленно, глаза устремлены куда-то вдаль, а на самом деле ничего не видят. Его взгляд направлен внутрь себя, глубоко внутрь, он что-то обдумывает, вспоминает, подыскивает слова. Не двигаясь, он начинает говорить.
Я рассказывал тебе, как погиб мой отец. Его сбил грузовик. Перед смертью он, лежа на больничной койке, взял меня за руку и признался, что всегда мечтал об одном – чтобы я добился успеха, стал членом гольф-клуба и играл на том самом поле, которое он подстригал пятнадцать лет. Я пообещал, что исполню его мечту.
Леонард глубоко вздыхает.
Я рассказывал тебе, что моя мать умерла, и Микеланджело с Джиной усыновили меня и воспитали как собственного ребенка. Пока я рос, Микеланджело вводил меня в свои дела. Что это за дела, тебе знать не обязательно. Тебе достаточно знать, что он меня всему научил и со всем познакомил. Я помогал ему, а он присматривал за мной и защищал. Однажды Микеланджело и Джине подвернулась возможность переехать в Лас-Вегас. Они переехали, и я с ними. Переезд прошел удачно, легко. Это были лучшие годы нашей жизни. Вегас в ту пору стремительно богател, и мы вместе с ним. У нас были деньги, дома, автомобили, все, что пожелаешь. Да, именно так, все, что пожелаешь.
Леонард замолкает, смотрит под ноги. Глубоко вздыхает, поднимает взгляд.
Потом Джина заболела раком. Плохим раком, раком костей, она болела тяжело и быстро умерла. За три каких-то месяца из самой красивой женщины планеты она превратилась в ходячий скелет, и этот рак убил не только ее, он убил, можно сказать, и нас с Микеланджело.
Он качает головой, смотрит в даль озера.
Все изменилось. Микеланджело потерял интерес к делам и полностью переложил их на меня. Виделись мы с ним нечасто. Думаю, мы с ним слишком напоминали друг другу о нашей потере. Это были чертовски печальные годы. Мы оба стали больше пить, больше увлекаться кокаином, но Микеланджело совсем слетел с катушек.
Однажды мне потребовалось встретиться с ним, обсудить какой-то вопрос, и я приехал к нему. Я не был у него несколько месяцев, и, когда переступил порог дома, меня чуть не стошнило. На подзеркальных столиках валяются скрученные купюры со следами кокаина, повсюду бутылки и банки, в каждой комнате груды мусора, блондинки с большими силиконовыми сиськами спят на диванах и возле бассейна. Я прошел к нему в комнату, он сидел там с парой девиц и кучей отравы. Я прогнал девиц, его вывел к бассейну, усадил, посмотрел ему в глаза и сказал – Мики, тебе должно быть чертовски стыдно за себя. За то, как ты живешь, ты ведь оскверняешь память своей жены. Джина уж точно не такой жизни желала тебе, и если сейчас она смотрит на тебя с небес, то наверняка заливается горючими слезами.
Он ни слова мне не ответил. Просто развернулся и ушел из дома. Я понятия не имел, куда он ушел, ничего вообще о нем не слышал, поэтому начал оплакивать его. Оплакивал его я примерно так же, как он Джину. Напивался, торчал, делал много всяких глупостей.
Примерно через год сплю я в своей кровати и слышу – в доме кто-то есть. У меня под подушкой на всякий случай всегда лежит пистолет, поэтому я достал его и пошел с обходом по комнатам. Слышу шум на кухне, захожу – там Микеланджело, похудел килограммов на двадцать, выглядит прекрасно, здоровее, чем когда-либо. Он посмотрел на меня и поинтересовался, почему в холодильнике шаром покати.
Я обнял его, спросил, где он пропадал, а он говорит, что был в этой самой клинике, где мы с тобой сейчас. Сказал, что после тех моих слов он решил поехать в пустыню и там вышибить себе мозги, но не смог. Он решил, что если умирать, то нужно это сделать так, как он прожил почти всю жизнь – то есть с честью и достоинством. Он слышал об этой клинике и решил отправиться сюда. Купил карту, приехал из Вегаса и оставался тут, пока не поправился. Потом сел в автомобиль и путешествовал несколько месяцев, повидал Белый дом, и Кей Уэст, и Бурбон-стрит, и Аляску. Повидал все, что мечтал повидать, но раньше не успел. Он приехал ко мне сказать, что собирается в отставку, а мне советует лечь в клинику. Сказал, что эта клиника изменила его жизнь. Сказал, что завязать было нелегко, труднее всего в жизни, но это и самое лучшее, что с ним случилось в жизни, если не считать встречи с Джиной. Он советовал мне последовать его примеру, сказал, что не отстанет от меня, пока я не соглашусь.
Мы провели остаток дня за игрой в гольф и разговорами об этой клинике. Он сказал, что в первый момент после приезда сюда ему показалось, что он совершил большую ошибку. Подумывал уехать, но остался. А через несколько дней ему стало лучше, и он понял – значит, работает. Через месяц он уже не сомневался, что придет в норму. Бывали, конечно, плохие дни и трудные времена, и порой ему казалось, что он сорвется, но время шло, и он справлялся. Он держался стойко, и дело пошло на лад. Перед выпиской он ясно осознавал, что больше не приложится ни к бутылке, ни к чему другому. Он сказал, что выписался с чувством гордости и радости.
В следующие дни мы еще не раз обсуждали то чудо, которое случилось с ним в этом месте, и планировали мою поездку сюда. Через неделю он зашел за мной и позвал на ужин в моем любимом ресторане. Не знаю, как ему удалось все организовать втайне от меня, но он закатил большой прием, на который созвал всех наших друзей, даже кое-кого из Нью-Йорка. Когда мы вошли, они нас уже ждали. Мы ели, пили, нюхали кокаин. Микеланджело сказал, что на следующий день посадит меня в самолет. Через пару часов он собрался уходить. Объяснил, что ему сложновато провести целый вечер в окружении такого количества алкоголя и наркотиков. Он обнял меня, пообещал днем заехать за мной и отвезти в аэропорт. Я тоже обнял его, сказал, что завтра буду готов, что он будет мной гордиться. Он сказал, что не сомневается и верит в меня.
Леонард глубоко вздыхает.
Он развернулся и вышел, пошел к стоянке. Я смотрел, как он ждет свою машину, надеялся, что он оглянется и я помашу ему. Тут подъехал черный «линкольн», окно опустилось. Я понял, что сейчас произойдет, хотел закричать, но не успел даже пикнуть, как раздались выстрелы. Один за другим, один за другим.
Микеланджело упал как подкошенный, и даже после того, как он упал, в него продолжали стрелять. Когда я подбежал, он был уже ранен насмерть, в него всадили шестнадцать пуль, две в грудь, четыре в живот, остальные попали в руки и ноги. Люди бросились врассыпную, все было залито кровью, а он лежал, пробитый шестнадцатью пулями, которые эти трусливые подонки выпустили на ходу из автомобиля.
Голос Леонарда дрожит, по щекам катятся слезы.
Я держал его, а он истекал кровью. Я держал его и говорил, как люблю его. Он был еще в сознании и даже мог говорить, но понимал, что убит. Перед тем как испустить дух, он приподнял залитую кровью руку и погладил меня по щеке. Посмотрел мне в глаза и сказал – живи с честью и достоинством, уважай память своих родителей. Он сказал – я хочу, чтобы ты исполнил мечту своего первого отца, стал членом того гольф-клуба и играл на том поле, которое подстригал твой отец, чтобы ты жил без наркотиков, как свободный человек. Сделай это ради меня, Леонард. Живи без наркотиков, живи как свободный человек. Будет трудно, мучительно, нестерпимо, но, если решишь, ты справишься. Главное, держись. И он умер, прямо у меня на руках, застреленный, как бешеная собака. Умер у меня на руках.
Леонард не в силах больше сдерживаться. Отчаянные, сильные рыдания сотрясают его, эти рыдания вырываются из раны, которая никогда не заживет. Я не мешаю ему плакать, оставляю с его воспоминаниями, горем, болью. Я мог бы начать его утешать, но это не поможет. Раны, которые невозможно залечить, можно только оплакивать в одиночестве.
Он берет себя в руки, к нему возвращаются апломб, властность, командирские манеры. Он смотрит на озеро, на клубящийся туман и трескающийся лед, но перед глазами у него стоит тот убитый человек.
Я не сел в самолет ни на следующий день, ни позже. Я похоронил Микеланджело рядом с Джиной, я плакал на их могилах, как плакал минуту назад, как плачу каждый раз, когда думаю о них. Потом я заперся на неделю у себя в доме и ебашил до полной потери сознания. Через неделю пришел в себя, но мог думать только об одном – о мести.
Я год потратил, чтобы разыскать подонков, которые убили Микеланджело. Я разыскал этих подонков и тех подонков, на которых они работали, и тех, на которых работали те. Не стану рассказывать, что я с ними сделал, скажу только, что их родня лишилась возможности предать их мерзкий прах земле. Следующий год я провел в пьянстве и на кумарах, да еще пытался пробиться на этот чертов турнир по гольфу в Вестчестере. Ни хера у меня не вышло, поэтому я решил взять паузу и приехал сюда. Если уж не могу исполнить мечту своего первого отца, то хотя бы уважу второго.
Находиться тут мне адски трудно, трудно выполнять все, что положено, гораздо труднее, чем я мог вообразить. Я был развалиной, когда поступил сюда. Не такой, конечно, как ты, но вполне себе развалиной. Каждая секунда казалась пыткой. Сейчас стало полегче, но все равно тот еще пиздец, и тяжелых дней пока больше, чем хороших, и мерзко себя чувствуешь чаще, чем сносно. Я не больно-то разбираюсь в этих Высших силах и Двенадцати шагах, во всем, о чем тут толкуют, но точно знаю – когда совсем невмоготу и кажется, даже еще минуты не протянешь, сдохнешь, нужно просто держаться, сцепить зубы и держаться, и станет, на хер, лучше. Старик был прав, как всегда, его последние слова – чистая правда. Главное, держаться. Главное, держаться.
Леонард поворачивается, смотрит на меня. Я на него.
Я рассказал тебе эту историю по нескольким причинам. Самая важная: когда кончаются силы и кажется, что сейчас сорвешься, просто держись и рано или поздно станет, на хер, лучше.
Мы смотрим друг на друга.
Я тебе уже сказал, малыш, если ты свалишь отсюда, я тебя разыщу и верну. Сколько раз свалишь – столько раз, на хер, верну. Если хочешь, можешь проверить разок, держу ли я свое слово, но я тебе не советую. Самое умное – просто послушаться моего совета. Может, я и кокаинщик со стажем, и первостатейный торчок, и почетный пациент, но я даю тебе дельный совет. Не будь дураком, будь сильным и гордым, живи с достоинством и, главное, держись.
Мы смотрим друг на друга. Я слушаю его, проникаюсь уважением к нему и к его словам. В его словах есть правда. Они пережиты и перечувствованы. Я верю в такие вещи. В правду, в пережитое, в перечувствованное. Вот в это я верю. Главное, держаться.
Как думаешь, ты справишься?
Я киваю.
Да, справлюсь.
Он улыбается.
Значит, драться со мной передумал.
Трясу головой.
Нет, я не буду драться с тобой.
Ты умнеешь на глазах, малыш.
Я усмехаюсь. Отворачиваюсь и смотрю на озеро. Туман разошелся, лед подтаял, сосульки роняют капли все быстрее, капли стали тяжелее. Солнце взошло, небо голубое, яркое, чистое, голубое, светлое, пустынное, голубое. Так и выпил бы его, если б мог, выпил и возликовал, наполнился им и уподобился ему. Мне становится лучше. Пустота, ясность, свет, синева. Мне становится лучше.
Леонард говорит.
Пора на завтрак.
Да.
Леонард поднимается со скамейки. Я смотрю на него.
Спасибо, Леонард.
Он улыбается.
Пожалуйста, малыш.
Я встаю. Думаю, чего бы еще сказать, но не нахожу слов, чтобы выразить то сильное, простое, глубокое впечатление, которое испытываю. Поднимаю руки, протягиваю к Леонарду и обнимаю его. Если нет слов, пусть говорит объятие. Сильное, простое, глубокое впечатление. Объятие выразит его.
Мы возвращаемся обратно в клинику. Пока идем по дорожке, навстречу попадаются другие пациенты, мы здороваемся, или киваем, или обмениваемся парой добрых слов. Многие вышли на разминку, идут с целенаправленным видом. Некоторые просто прогуливаются. У кого-то вид потерянный.
Мы заходим в столовую, берем подносы, выбираем еду, садимся за стол, где уже сидят Матти, Эд, Тед, Майлз и новенький по имени Бобби. Бобби – низкого роста, жирный, с розовой кожей и рыжими волосами, как у ирландца, перед ним стоит огромная тарелка, доверху наполненная едой. Он умудряется набивать рот и без умолку что-то говорить, Матти, Эд и Тед подкалывают его, Майлз молча слушает.
Когда мы садимся, Бобби не обращает на нас внимания. Он продолжает жевать и говорить, жирный второй подбородок ходит ходуном. Он рассказывает про каких-то гангстеров из Бруклина, говорит, что управлял их деньгами – инвестировал в акции на бирже, а те поставляли ему наркотики и женщин и все, чего он ни потребует. Когда он называет количество наркотиков, Матти смеется и отвечает, что он потребовал бы больше. Бобби тут же поправляется и заявляет, что на самом деле он и требовал больше. Когда он рассказывает про женщин, Эд говорит, что поиметь четверых за раз – не бог весть какой подвиг, тогда Бобби заявляет, что в следующий раз он и поимел восьмерых. Он рассказывает про крэк и сколько его выкурил, а Тэд спрашивает, каково оно по ощущениям, всегда, дескать, хотел попробовать. Бобби говорит, что вещь сильнейшая, валит с ног. На самом деле ничего подобного. Тед ржет, как конь, и повергает Бобби в смущение. Леонард сидит тихо, внимательно смотрит и слушает. Вдруг спрашивает у Бобби – кто эти его знакомцы из Бруклина и как он свел с ними знакомство. Уж не знаю, знает ли Леонард этих людей, о которых речь, но не сомневаюсь, что он прощупывает Бобби. Не думаю, что вся эта болтовня произвела на него впечатление.
Мне, наконец, надоел Бобби с его болтовней, и я фыркаю в ответ на его откровения про миллионы, которые он, по его словам, зарабатывал каждый год. Он замолкает, смотрит на меня и спрашивает – чего я тут нашел смешного, черт возьми. Я смотрю на него и отвечаю, что смешным нахожу его вранье, и тут Майлз впервые открывает рот и говорит, что это и правда крайне смешно. Бобби, как все разоблаченные вруны, тут же лезет в бутылку и начинает нападать. Он спрашивает меня, сам-то я, кто, на хер, такой, и кто мне, на хер, позволил оскорблять его. Я отвечаю, что сам-то я никто, а то, что считаю нужным, делаю без позволения. Он говорит, что я не на того напал, что он не из тех парней, которых можно оскорблять безнаказанно, что я должен забрать свои слова обратно, иначе пожалею, но мне при виде полутора центнеров жира, которые трясутся и наскакивают на меня в припадке праведного гнева, становится дико смешно. Я хохочу ему в лицо, он вскакивает и говорит – не хочешь ли выйти, поговорить, мелкий говнюк, я отвечаю – хочу, конечно, давай выйдем, поговорим. Он оглядывается на Линкольна и Кена, которые сидят через пару столиков от нас, и говорит – тебе повезло, что они тут, а то бы я надрал тебе задницу. Я смеюсь, забираю свой поднос и ухожу.
Ставлю поднос на конвейер. Поворачиваюсь и сталкиваюсь нос к носу с Лилли. Она роняет свой поднос, он падает на пол, все рассыпается, она наклоняется, чтобы собрать, а я, чтобы ей помочь. Когда тянусь за опрокинутой чашкой, она задевает рукой мою руку, и я ощущаю в ее ладони свернутый листок. Когда она отводит руку, листок остается в моей ладони. Так барыги передают клиенту наркоту на перекрестке. Пакетик переходит из руки в руку, со стороны все выглядит совершенно невинно. Ее рука скользнула по моей руке. Бумажный листочек остался у меня.
Мы подбираем тарелку, пустую миску из-под каши, вилку, нож, ложку, она ставит поднос на конвейер, и я ухожу. Как и на перекрестке, все мысли только об этом конвертике в руке, не терпится его развернуть. Как и на перекрестке, я понимаю, что спешить нельзя, нужно уйти в безопасное место, где никого нет. Как и на перекрестке, я понимаю, что совершил недозволенное.
Кладу листок в карман брюк, иду на лекцию в зал, выбираю место в заднем ряду. Еще рано, в зале почти никого. Лезу в карман, достаю листок. Как и на перекрестке, руки дрожат, сердце колотится, перед глазами все расплывается, нужно усилие, чтобы сконцентрировать взгляд, хочу как можно скорее узнать, что там у меня, иначе сойду с ума. Руки дрожат. Разворачиваю листок. Внутри ничего. Не могу сказать наверняка, чего я ожидал. Не могу сказать наверняка, как бы поступил, окажись внутри отрава. Одна часть меня немедленно употребила бы ее, а другая часть немедленно помчалась бы в ближайший туалет и выбросила. Не знаю, как бы я поступил.
Переворачиваю листок, вижу слова. Я вижу их, но чтобы прочитать, нужно сконцентрироваться, а чтобы сконцентрироваться, нужно успокоиться. Читаю. Там написано – приходи в 4.00 на наше место. Перечитываю еще раз. Приходи в 4.00 на наше место. Перечитываю снова и снова, слова не меняются. Приходи в 4.00 на наше место. Руки дрожат, дрожат, сердце колотится, колотится, перед глазами все расплывается, нужно усилие, чтобы сконцентрировать взгляд. Приходи в 4.00 на наше место. Снова и снова. Снова и снова.
Зал постепенно заполняется. Я бережно сворачиваю листок и кладу в карман. Сижу, гляжу прямо перед собой и думаю про четыре часа, подходят Леонард, Эд, Тед, Матти и Майлз. Они смеются, настроение у них прекрасное, обсуждают Бобби, вспоминают, как потешались над ним. Рассказывают, что после моего ухода Тед сказал Бобби, что я инструктор по йоге из Сан-Франциско, что подсел на редкий индийский наркотик, который называется шампунь, – произносится, как средство для мытья волос, а пишется «чампу». Бобби с ходу заявил, что однажды уложил на обе лопатки одного инструктора по йоге и не сомневается, что сделает это снова.
Лекция начинается, она посвящена Пятому шагу из всемогущей Дюжины. Ее читает католический священник. Я не слышу ни слова. Сижу, смотрю на сцену. Смотрю, а вижу Лилли.
Лекция заканчивается. Я встаю, пристраиваюсь за всеми, меня подхватывает поток пациентов и выносит из зала, меня подхватывает поток воспоминаний. На пороге, как обычно, поджидает Кен; такое впечатление, что он вечно тут стоит и поджидает меня.
Джеймс!
Что случилось, Кен?
Хотел узнать, закончил ли ты работу с тетрадью Первого шага.
Нет еще.
Ты открывал ее?
Нет еще.
Я бы хотел, чтобы ты сегодня поработал над ней.
Хорошо.
Не спеши, но если закончишь, то принеси ко мне в кабинет. Если меня не будет, просто оставь на столе.
Будет сделано.
Заполнил Таблицу целей?
Нет еще.
Подумай и над этим тоже.
Хорошо.
Надеюсь, до встречи сегодня.
Жду ее с нетерпением.
Кен усмехается и уходит. Я иду в противоположную сторону, возвращаюсь в отделение. На нижнем ярусе нахожу коробку с цветными карандашами, ищу среди них офигенный розовый. Нахожу-таки его среди шестидесяти четырех прекрасных карандашей. Поднимаюсь по лестнице, подхожу к Таблице целей, которая висит на верхнем ярусе. Стою перед ней, смотрю. Это большой кусок ламинированного картона, расчерченный на графы вертикальными и горизонтальными линиями. В каждой графе стираемым маркером написано имя, а напротив – цель. Есть цели понятные, например, «найти работу и удержаться на ней», «не употреблять вещества 60 дней», «быть полезным членом общества». Есть цели, которые наводят грусть, например, «добиться, чтобы моя жена заговорила со мной», «вернуть уважение своих детей», «не попадать в тюрьму в течение шести месяцев». Много целей расплывчатых: «улучшить отношения с друзьями и Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом», «прилагать все силы к выполнению программы и каждую минуту проживать, как учат Двенадцать шагов», «держать себя в форме: здоровый ум, здоровый дух, здоровое тело». Напротив имени Матти читаю «Перестать сквернословить, на хер», не могу удержаться от смеха. Напротив имени Леонарда читаю «Держаться», не могу удержаться от улыбки. Напротив имени Майлза читаю «Жить»; это заставляет меня задуматься. Строка напротив моего имени пуста.
Не могу придумать никакой цели, которая бы что-то значила для меня, разве только продолжать существование. Я мог бы написать просто «быть», но лучше начертаю это слово в своем сердце, чем на какой-то гребаной доске. Когда я смеялся, например, над историей про инструктора йоги, который курит чампу, мне было хорошо. И всегда, когда я смеялся, а такое нечасто со мной случалось, мне было хорошо. Можно написать на доске «смеяться», но лучше напишу слова, над которыми буду смеяться каждый раз, читая их, поэтому беру маркер и пишу напротив своего имени «поехать в Голливуд и сыграть Деву озера». Дописав, хохочу. Делаю шаг назад, перечитываю и снова смеюсь. Спускаюсь с верхнего яруса и смеюсь по дороге в палату. От смеха мне становится хорошо. Я мало смеялся в жизни, не насмеялся досыта и хочу посмеяться еще. Поехать в Голливуд и сыграть Деву озера, черт подери!
Захожу к себе в палату, сажусь на кровать, открываю коробку с карандашами, открываю рабочую тетрадь, читаю. В первой части описывается история некоего Джо. Джо – пьяница, который лишился жены, работы, денег и оказался на улице, где пьет дешевое вино прямо из бутылки. Несмотря на все это, Джо отказывается признать, что у него есть какие-то проблемы и он потерял самоконтроль. Эта история излагается простым языком и сопровождается простыми картинками – только контуры фигур и предметов, их нужно закрасить самому. Смысл в том, полагаю я, что, пока раскрашиваешь картинки, проникаешься тем, как ужасна жизнь Джо, и переносишь эти ужасы на собственную жизнь. Джо не способен контролировать себя – я осознаю, что тоже не способен. Джо закончит жизнь под забором – я должен принять меры, чтобы не последовать за ним. На задней обложке, после окончания истории про Джо – а у нее счастливый конец, потому что он признал, что утратил самоконтроль, и присоединился к Анонимным Алкоголикам, – напечатаны 27 вопросов, уточняющих степень твоей зависимости. Вопросы простые, почти все требуют простого ответа – да или нет. Случалось ли, что, проснувшись утром после злоупотребления, ты помнишь не все события, которые происходили накануне вечером? Да. Бывают ли ситуации, с которыми ты не можешь справиться, если не примешь алкоголя? Да. Бывает ли, что в трезвом состоянии ты сожалеешь о поступках, которые совершил в состоянии опьянения? Да. Дрожат ли у тебя конечности наутро после того, как накануне выпил? Да. Случалось ли тебе пребывать в состоянии опьянения несколько дней подряд? Да. Да, да, да, да, да. Я отвечаю «да» на каждый вопрос, на каждый из двадцати семи, это согласно ключу в конце теста означает, что у меня поздняя стадия тяжелого и запущенного алкоголизма, опасная для жизни. Удивили, черт подери. А то я без них не знал.
Я кладу офигенный розовый карандаш обратно в коробку и достаю черный. В отличие от других карандашей этим, похоже, редко пользуются. Люди избегают черного цвета, потому что он ассоциируется с несчастьем, а в этом месте все домогаются счастья во что бы то ни стало, хотя бы в виде карандаша. Я же, напротив, люблю черный цвет. Этот цвет внушает мне спокойствие, с этим цветом связана большая часть моих переживаний. В глубочайшей темноте все имеет этот цвет. В провалах моей утраченной памяти все имеет этот цвет. Я люблю черный цвет, черт подери, и намерен воздать ему должное.
Я листаю страницы в обратном порядке, пока не добираюсь до первой. Прекрасным черным карандашом я пишу большую печатную букву Я размером в страницу, перечеркивая все здесь нарисованное. На следующей странице пишу огромными буквами НЕ. И дальше, страница за страницей, пишу: НУЖДАЮСЬ В ЭТОМ ДЕРЬМЕ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО Я УТРАТИЛ САМОКОНТРОЛЬ. Закончив, оцениваю свою работу. Все страницы выглядят прекрасно, мне нравится. Закрываю раскраску. Ты справился с заданием, Джеймс. Я не нуждаюсь в этом дерьме, чтобы понять, что я утратил самоконтроль. Справился с заданием.
Остался час до обеда, поэтому кидаю раскраску на пол, где ей самое место, и беру «Дао дэ цзин». Смотрю на эту книжицу, перелистываю взад-вперед, тупые изречения, идиотские буквы, смешное название. Может, на меня нашло помрачение рассудка, когда я в прошлый раз читал ее. Или, может, это Майлз своим кларнетом загипнотизировал меня. Я смотрю на книгу и не понимаю, как ей удалось произвести на меня такое впечатление в прошлый раз. Я и прочитал-то всего четыре страницы.
Открываю главу пять на странице пять. Позволяю глазам пробежаться по словам. Позволяю мозгу вникнуть в них. Позволяю сердцу почувствовать их. Глава пять не отличается от прочих. Не существует ни добра, ни зла, ни грешника, ни святого. Существует только то, что существует, и оно таково, каково есть. Предоставь ему быть, и этого достаточно. Не говори, не вопрошай. Просто позволь быть. Просто быть.
И вновь эти слова производят на меня впечатление и наполняются смыслом. Снова находят отклик во мне и звучат как правда. Правда. Это и есть правда. Я чувствую это.
Глава шесть. Дао – Великая мать, Великий отец, Великое ничто. Оно пусто и неисчерпаемо, оно просто существует. Оно всегда присутствует, используешь ты его или нет. Это и есть правда.
Глава семь. Бесконечное и вечное. Оно никогда не рождалось и никогда не умрет. Оно просто существует. Ничего не требует, ни в чем не нуждается, просто существует. Пребывает позади, но оказывается впереди. Удаляется, но приближается. Опустошает, но наполняет. Опустошает, но наполняет.
Глава восемь и глава девять. В них говорится, что добродетель подобна воде, которая приносит пользу всем существам и не борется с ними. Говорится, в мыслях будь прост, в споре справедлив. Говорится, не сравнивай и не соревнуйся, просто будь собой. Говорится, наполнишь сосуд до краев – и он расплещется, наточишь нож – и он затупится. Говорится, погонишься за деньгами – и никогда не узнаешь покоя. Озаботишься мнением других людей – и станешь навек их заложником.
Эти мысли, эти главы, эти слова наполняются смыслом для меня. Они не велят мне – поступай так-то, становись тем-то или верь в это. Они не судят меня и не пытаются убедить. В них нет притязаний на истинность и правоту. Они не спорят со мной, не обвиняют, не говорят, что я ошибаюсь. Они не утверждают никакой власти и не навязывают никаких правил. Это просто слова, которые собраны вместе на странице и терпеливо ждут, приму я их или отвергну. Им все равно, приму я их, или отвергну, или вовсе пройду мимо. Они никогда не скажут мне, что я ошибся. Они никогда не скажут мне, что я прав. Они просто находятся на странице. Я не перечитываю их. Закрываю книгу, оставляю их на странице. А сам сижу на кровати, мне нравится моя постель. Она мягкая и теплая, а сам я не мягкий и не теплый, но, думаю, приятно быть таким. Я никогда не пробовал. Я знаю только холодную, твердую ярость внутри себя, и я устал от нее. Я устал от этого чувства, я хочу умереть, чтобы не испытывать его больше. Я хочу стать теплым и мягким. Но мне страшно. Вдруг будет больно, если я стану теплым и мягким. Тогда мне смогут причинить боль другие, а не только я сам. Быть мягким труднее, чем быть твердым. Тогда мне смогут причинить боль другие, а не только я сам.
Скоро полдень. Слышу голоса – люди переговариваются за стенкой. Они идут в столовую, смеются над чем-то, интересно, что они почувствуют, когда перестанут смеяться. Здесь смех – единственный наркотик. Смех или любовь. И то, и другое наркотик. Я встаю с кровати, несу раскраску в кабинет Кена. Там пусто, я кладу книжку на стол. Иду в столовую, беру макароны с говядиной, сажусь за столик к тем же людям, с которыми обычно сижу. Матти, Эд, Тед, Леонард, Майлз. Все, как обычно. Рассказы, сквернословие, перемежающиеся смехом. В конце обеда подходит Линкольн и говорит, что лекции не будет, вместо лекции сегодня общее собрание. Эд спрашивает – в честь чего, тот отвечает, не волнуйся, просто приходи.
Я доедаю обед, ставлю поднос на конвейер. Возвращаюсь в отделение, присоединяюсь к остальным, все собрались на нижнем ярусе. Сидят на диванах, курят и пьют кофе. Предмет обсуждения – Рой. Последняя версия, которая пущена в оборот: он был пьян. Алкоголь может оказать очень сильное воздействие на личность, однако сторонники наркотической версии возражают – у Роя не было ни спутанной речи, ни замедленных реакций, которые характерны для глубокой стадии алкогольного опьянения. Они сходятся во мнении, что Рой все же принял наркотик, но расходятся во мнениях, какой именно. Бобби, который отсутствовал, когда разыгралась сцена с Роем, вставляет свое веское слово – он считает, что Рой нажрался мощных пилюль для похудения, которые не раз попадались ему на Уолл-стрит. Матти отвечает – какие, бля, пилюли, сам ты, бля, пилюля недоделанная, никакие пилюли не могут превратить человека в такого отморозка, бля. Бобби говорит – а ты вообще знаешь, что такое Уолл-стрит и где она находится. Матти говорит – а мне вообще срать, что такое твоя гребаная Уолл-стрит и где она, бля, находится, я твою жирную задницу спроважу туда одной левой, твою мать. Бобби смеется и говорит – ну, давай, давай, карапуз, это будет последняя ошибка в твоей жизни. Матти поднимается, делает шаг вперед, но Леонард велит ему сесть, потому что Бобби не стоит того, чтобы из-за него навлекать на себя неприятности. Матти садится.
Линкольн входит, берет стул, садится перед собравшимися. Все замолкают, ждут, чего он скажет. Он сидит, смотрит в пол с минуту, поднимает глаза. Говорит.
Многие из вас знают Роя и были свидетелями его поведения прошлой ночью. Для тех, кто не знаком с Роем и не знает, о чем речь, поясню суть дела. Рой лечился у нас. Был, можно сказать, образцовым пациентом. Упорно работал над собой, неукоснительно выполнял свою программу, строго следовал всем нашим правилам. Он выписался с неделю тому назад, и я, как почти весь персонал, не сомневался в его устойчивом восстановлении. Прошлой ночью, примерно в три тридцать, он прорвался через пост охраны в клинику и ворвался в отделение. Он размахивал дубиной, вскочил на диван.
Линкольн указывает на один из диванов.
При этом непрерывно визжал. Я дежурил в ночную смену, вызвал охрану, мы подошли к нему. Он кричал, что его зовут Джек, и угрожал убить нас своей дубиной. Его обезвредили, доставили в терапевтическое отделение и обследовали. После этого его отправили в местную психиатрическую больницу. На данный момент мы полагаем, с большой долей вероятности, что Рой страдает множественным расстройством личности. Для тех, кто не знает, что это такое, поясню. Множественное расстройство личности – такое психическое состояние, когда внутри одного человека существуют две различные личности или даже больше, каждая со своим собственным способом восприятия, мышления, отношения к себе и окружающим. Порой эти личности догадываются о существовании друг друга, но чаще всего – нет, они могут существовать совершенно независимо в течение длительного времени. Прошлой ночью мы наблюдали четыре, а то и пять различных личностей, которые существуют внутри Роя. Одна из них – тот парень, с которым мы познакомились, когда он лечился в клинике. Прошлая ночь очень огорчила, расстроила нас. Я был наставником Роя, очень гордился его успехами и той работой, которую мы проделали вместе. Я надеюсь, каждый из вас помолится за него как умеет, главное – чтобы молитва шла от души. Есть вопросы?
Говорит Лысый Коротышка.
А как вы прозевали его, у вас же тут разные тесты, наблюдения всякие?
Если не считать пары случаев, которые я припомнил задним числом, ведущей и доминантной личностью Роя является та, которую он проявлял в клинике. Если тесты и задания выполняла эта личность, у нас не было возможности получить информацию о других личностях.
Говорит один из новеньких. Высокий, тощий, в темных дизайнерских очках.
Это часто встречается?
Нет. Я с таким столкнулся впервые, и, насколько мне известно, все наши сотрудники тоже.
Говорит Майлз.
Это поддается лечению?
Длительное психиатрическое наблюдение, группы поддержки, интенсивная терапия. В основном те же методы, которые применяются при глубоких и неизлечимых психических расстройствах.
Говорит Тед.
У меня вопрос.
Задавай.
Тед говорит.
Мне никогда не нравился Рой. Может, вы вернете его сюда ненадолго, и я надеру задницу этой его сволочной личности.
Все смеются. Линкольн строго смотрит на нас, говорит.
Это не повод для шуток, Тед.
Так я и не шучу. Я и правда хочу надрать задницу этому ублюдку.
Смех громче. Линкольн качает головой, не глядя на Теда.
Еще есть вопросы?
Все молчат. Линкольн встает.
Переходим к дневным занятиям. Группа Четвертого шага остается здесь, группа Третьего шага поднимается наверх, остальные делают индивидуальные задания. Джеймс, пройдем со мной к Джоанне в кабинет.
Все расходятся по группам или сами по себе. Я встаю, иду с Линкольном в кабинет Джоанны. Он не разговаривает со мной, я с ним. Мы не смотрим друг на друга. У кабинета он стучится в дверь. Голос Джоанны отзывается.
Входите.
Линкольн открывает дверь, мы заходим. Джоанна сидит за столом, жестом приглашает нас сесть. Линкольн садится на диван. Я сажусь на стул между диваном и столом. Джоанна говорит.
Привет, Джеймс. Как дела?
Прекрасно. А у вас?
Тоже.
Она берет мою рабочую тетрадь Первого шага.
Можешь дать пояснения?
Я смеюсь.
Думаю, я уже все тут пояснил.
Линкольн говорит, с трудом сдерживая ярость.
Это совершенно недопустимо. Твоя тетрадь и цель, которую ты указал, это не что иное, как насмешка над нашими попытками помочь тебе.
А я думаю, что эта дебильная книжка – насмешка надо мной, а насчет цели – я просто пошутил. Я написал то, что смешит меня, а когда мне смешно, мне хорошо, а моя единственная цель – чувствовать себя хорошо. Когда я чувствую себя хорошо, мне кажется, что я излечиваюсь.
Говорит Джоанна.
Я понимаю твои мотивы, Джеймс, но не уверена, что они уместны.
Говорит Линкольн.
Абсолютно неуместны.
Говорит Джоанна.
Мы пытаемся составить для пациента программу восстановления с прицелом на будущее, чтобы он мог по ней жить и работать после выписки из клиники и соблюдать то, чему мы его здесь научили. На данный момент ты не очень-то продвинулся в желательном направлении. Можно сказать, ты застрял на Первом шаге.
Я смеюсь.
Чему ты смеешься?
Я говорю.
На Первом шаге, насколько я помню, требуется осознать свое бессилие перед алкоголем и наркотиками и признать, что ты потерял контроль над своей жизнью. Я это целиком и полностью осознаю и признаю.
Говорит Линкольн.
Ты уверен в этом?
Меня разыскивают в трех штатах. Я торчу на алкоголе и крэке. У меня нет работы, я нетрудоспособен, практически я развалина. Я вырубался каждый вечер, сколько помню, я перестал принимать наркотики только здесь, и за последние десять лет – это самый долгий период воздержания. Конечно, я утратил самоконтроль. Если вы хотите, чтобы я это произнес вслух, я произнесу. Я потерял на хер самоконтроль. Я не управляю своей жизнью.
Говорит Джоанна.
Мы не враги тебе, Джеймс.
Я знаю.
Говорит Линкольн.
Тогда не относись к нам так, словно мы тебе враги.
А вы не относитесь ко мне так, словно я дебил. Не разговаривайте со мной, словно я гребаный младенец, не заставляйте раскрашивать книжки. Тогда и я не буду относиться к вам, как к врагам.
Линкольн качает головой. Джоанна говорит.
Давай вернемся к теме разговора. Пока ты продвинулся меньше, чем нам хотелось бы. Ты сопротивляешься всему, что мы говорим. Мы не видим пока оснований считать, что после выписки ты сможешь вести нормальный образ жизни. Поскольку тебе грозит тюрьма, мы бы хотели начать с решения этой проблемы, связаться с властями штатов, где тебя арестовывали, а также включить тебя в лист ожидания на получение места в «Доме на полпути»[4].
И что я буду делать в этом доме?
Во многом это заведение похоже на нашу клинику, только днем там полагается работать.
Не хочу туда.
Говорит Линкольн.
Почему?
В моем случае это не поможет.
Почему?
Да потому, что я буду все время это иметь в виду, пока нахожусь здесь. Буду иметь в виду, что отсюда попаду не в реальный мир, не туда, где можно испытать себя. Что вместо настоящей жизни я попаду в безопасное место, в какой-то «Дом на полпути».
Джоанна говорит.
Не бывает безопасного места, когда страдаешь глубокой трудноизлечимой зависимостью. «Дом на полпути» предлагает поддержку, а тебе, похоже, пригодится любая помощь, какая только возможна. Поддержка тебе будет нужна и после того, как ты выпишешься отсюда, и через месяц, и через год, и, весьма вероятно, всю оставшуюся жизнь.
Я не хочу ни безопасности, ни поддержки. Я хочу сам справиться со всеми проблемами, какие есть в моей жизни, будь то алкоголь, наркотики или что другое. Я хочу сам бороться, потому что знаю, что такое борьба. И в этой борьбе должен быть победитель. Если победителем окажусь я, то уйду отсюда свободным человеком, который одолел эту отраву, хоть даже и не мечтал об этом, и буду дальше жить своей жизнью. Если не выйду победителем, то хотя бы положу конец этой жизни.
Говорит Линкольн.
Если ты хотя бы на самую малость развяжешь, ты умрешь. Этого ты добиваешься, умереть?
Если не смогу завязать, то да, лучше умереть.
Ты не сможешь завязать, если будешь продолжать в том же духе.
Ты думаешь?
Я не думаю, я знаю. Знаю, потому что каждый раз кто-то из здешних пациентов считает, что он совсем вылечился, выписывается, срывается и погибает.
Может, ты и прав, но по крайней мере я умру с мыслью, что сделал все, что в моих силах, и то, во что верил.
Говорит Джоанна.
Мне не нравится эта идея – испытать себя. Я нахожу ее опасной, глупой, бессмысленной. Я полагаю, что ставка слишком велика, а проигрыш обойдется тебе слишком дорого. Советую тебе обдумать это. Подумай, что сопротивление нашим рекомендациям может стоить тебе жизни. Зайди ко мне завтра после утренней лекции, мы обсудим этот вопрос и, надеюсь, сдвинемся с мертвой точки.
Я встаю.
Есть еще какое-нибудь задание на сегодня?
Только подумать.
До завтра.
Я иду к двери, выхожу, возвращаюсь в отделение. Захожу в палату, смотрю на часы рядом с кроватью Майлза, они показывают 3:42. Через пятнадцать минут встреча с Лилли.
Достаю куртку Хэнка. Надеваю, иду через отделение. Раздвигаю створки стеклянных дверей, выхожу на улицу. Иду по траве, росы на этот раз нет, нахожу тропу, вхожу в лес, сквозь ветви деревьев пробивается солнце, лучи переплетаются над головой, словно балки. Иду по дорожке. Вижу сломанные ветки, осыпавшиеся листья, они усыпают тропу, словно крошки, и приводят меня к цели. Следы моего недавнего бесчинства указывают мне путь, как Мальчику-с-пальчику.
Протискиваюсь сквозь заросли и оказываюсь на поляне. Никого. Сажусь на землю, потом ложусь и закрываю глаза. Я не выспался, тянет в сон. Нужно поспать, устал. Устал. Я устал.
Чувствую прикосновение руки на лице. Мягкая и теплая, она лежит на моей щеке и ласкает ее, не двигаясь. Другой щеки касаются губы, влажные и пухлые, теплые и мягкие. Легкое дыхание. Потом и рука, и губы отделяются, а мне этого так не хочется. Открываю глаза, медленно сажусь. Лилли сидит рядом, на ней огромная армейская куртка цвета хаки, черные волосы заплетены в косички, от бледной кожи отражаются лучи света. Она улыбается и говорит.
Привет.
Который час?
Она смотрит на дешевые пластмассовые часы. Под ними я замечаю шрамы.
Четыре десять.
Тру лицо.
Я заснул.
Она снова улыбается.
Я тебя разбудила.
Я улыбаюсь.
Я рад.
Она наклоняется вперед, целует меня в щеку. Ее губы прижимаются, влажные и пухлые, теплые и мягкие. Инстинкт приказывает мне отстраниться, но я не слушаюсь его. Когда она убирает губы, остается след ее легкого дыхания.
Ответь на один вопрос.
Хорошо.
У тебя есть девушка?
Я отвечаю не сразу, перед глазами мелькает образ, белокурые волосы, глаза, как осколки арктической льдины.
Нет.
Почему ты не сразу ответил?
Была, но больше нет. На секунду она вспомнилась.
Где она?
Понятия не имею.
Когда ты с ней разговаривал в последний раз?
С год тому назад.
Ты влюблен в нее?
Нет.
Лилли улыбается, наклоняется и целует меня в губы.
Очень плохо.
Я улыбаюсь. Не нахожу слов. Да если бы и нашел, какой в них смысл.
Хочешь закурить?
Она лезет в один из многочисленных карманов своей куртки, достает пачку сигарет.
Да.
Беру сигарету.
У тебя есть зажигалка?
Лезу в карман своей куртки, достаю зажигалку.
Да.
Щелкаю, даю ей прикурить, прикуриваю сам.
Как прошел день?
Затягиваюсь. Никотин действует мгновенно. Но ощущение не столь приятное, как от поцелуя Лилли.
По крайней мере, быстро.
Она затягивается, смотрит на меня.
Тут вообще дни проходят быстро.
Инстинкт приказывает мне отвернуться, но я не слушаюсь его.
Да.
Скажи мне одну вещь.
Хорошо.
Почему ты здесь?
Здесь в клинике или здесь с тобой?
И то, и другое.
Не знаю.
Она улыбается.
Хороший ответ.
Инстинкт приказывает мне отвернуться, но я не слушаюсь его. Я говорю.
А ты почему здесь?
Она улыбается.
Здесь в клинике или здесь с тобой?
Я улыбаюсь.
И то, и другое.
В клинике из-за бабушки.
Она тебя привезла?
Она меня уговорила, приехала я сама.
Как ей это удалось?
Она любила меня и заботилась обо мне, хоть я и пошла вразнос, и, когда я делала очередную глупость, а это считай каждый день, она говорила – придешь, когда будешь готова услышать про свободу. И вот однажды со мной случился полный пиздец. Это сильно встряхнуло меня, я пришла к ней и спросила, что она имеет в виду. Она сказала, что я жертва своей матери, у которой много проблем, и еще сказала, что я жертва своего отца, которого даже не помню, и еще сказала, что я в плену у наркотиков и секса и у самой себя. Она сказала, что проживать свою жизнь как пленница – это значит тратить ее зря, и что свобода, даже одна секунда свободы, стоит целой жизни, прожитой в плену. Она велела прийти на другой день, если хочу узнать больше. Я пришла, и она повторила то же самое. Даже одна секунда свободы стоит целой жизни, прожитой в плену. Потом она велела прийти на другой день. Я пришла, она дала мне карту и велела сесть за руль автомобиля. Через восемь часов мы оказались здесь. Она сказала, что три года копила деньги, и если я хочу свободы, то должна войти в дверь этой клиники, она за все заплатит. Она сказала – если откажешься, мы вместе вернемся домой. Мне осточертела моя жизнь. Не хотелось возвращаться к прежнему, а тут появился шанс все изменить. Я слышала про эту клинику, что она лучшая и дико дорогая, понимала, что бабушка специально копила для меня деньги, хотела, чтобы я лечилась здесь, и я тоже этого захотела. Стать свободной, хотя бы на секунду. Поэтому я вошла в эту дверь, и вот я здесь.
Ты уже свободна?
Нет, но стремлюсь к этому.
Она улыбается.
А теперь ты расскажи свою историю.
О чем?
О своей девушке.
Я не люблю говорить о ней.
Почему?
Потому что очень больно.
Тогда не надо. Расскажи о чем-нибудь еще.
Выбери, о чем, и я расскажу.
Как ты лишился девственности?
Почему тебя это интересует?
Это многое говорит о человеке.
Обо мне это не говорит ничего хорошего.
Я пришла не для того, чтобы судить тебя.
А для чего ты пришла?
Чтобы понять тебя. Или хотя бы попытаться.
Я смотрю на нее. Смотрю в ее глаза, прозрачные и синие, смотрю на ее волосы, заплетенные в косички. Смотрю на ее лицо, бледное, белоснежное, и на ее губы ярко-алые, смотрю на фигуру, такую хрупкую под огромной курткой. Смотрю на ее запястье с пластмассовыми часами «Супервумен», на вертикальный шрам под ремешком. Как будто смотрю на себя, хоть это не я. Я вижу страдание и боль многих тяжелых лет. Вижу пустоту и отчаяние жизни без надежды. Вижу молодую жизнь, которая кажется слишком длинной. Как будто вижу себя, хоть это не я. Я верю себе. Я могу доверять ей.
Я никогда никому не рассказывал об этом.
И мне не обязан рассказывать, если не хочешь.
Нет, хочу.
Можешь остановиться в любой момент.
Я смотрю на нее. Как будто вижу себя, хоть это не я. Я могу доверять ей. Делаю глубокий вдох и говорю.
Мне было шестнадцать, я учился в десятом классе. У нас намечалась большая вечеринка, с футбольным матчем и с танцами. Я терпеть не мог город, в котором мы жили, родители знали это и переживали. Мама все время расспрашивала насчет друзей и подружек, надеялась, что у меня появится компания и мне станет повеселее. Я всегда врал, чтобы не огорчать ее, отвечал, что у меня куча друзей, что девушки от меня без ума. На самом деле я был самым непопулярным парнем в школе. Накануне вечеринки мама допытывалась, пойду ли я. Я отвечал, что пока не решил, две девушки зовут меня, но я никак не могу выбрать, какая мне нравится больше, и надеялся, что она отвяжется от меня. Но не тут-то было. Каждый день повторялось одно и то же. Кого ты пригласишь, определяйся поскорее, нужно дать девушке время подготовиться, это особенный вечер, нельзя к нему относиться несерьезно. Она была сама не своя от волнения, отправилась в магазин, купила мне костюм, да еще розу, чтобы приколоть к лацкану, помыла свою машину и дала мне, и снабдила деньгами на ужин перед матчем. Все это дико бесило меня, вся эта хренотень, потому что я все наврал и ни одна девушка не согласилась бы пойти со мной.
Когда наступил день вечеринки, я напялил костюм, Мать с Отцом нащелкали уйму фоток, я помахал им из окна автомобиля и отбыл. Припарковался возле школьного стадиона, сидел в машине и смотрел, как приезжают остальные, парочками, как они прогуливаются между трибунами в своих костюмах и платьях, я видел, как в перерыве награждают короля и королеву вечера, как все им рукоплещут и поздравляют, я видел, как все веселятся. Мне было совсем не весело, ни капли. Когда матч закончился, я не знал, куда деваться, одно понимал – идти на танцы одному уж точно не следует, и поехал в гетто, туда, где можно раздобыть наркоты, потому что чувствовал себя дерьмово – я обманул мать, у меня нет друзей, и хотелось как-то заглушить тоску. Когда приехал, заметил проститутку недалеко от того дома, где надеялся разжиться отравой. Она взяла меня на примету, помахала мне, когда я проходил мимо. Я не нашел того, что искал, и вернулся с пустыми руками. Она подошла к машине и спросила, не хочу ли я приятно провести время, я спросил – сколько, она назвала цену, как раз столько, сколько Мама дала мне на ужин, даже чуть меньше, и я согласился. Не знаю, почему. Наверное, потому, что мне было одиноко, тоскливо и я надеялся получить хоть какое-то подобие любви, чтобы на душе полегчало. То, что последовало за этим, было чудовищно, мерзко, убого. От проститутки воняло, она говорила этим притворным грязным голосом с придыханием, и через несколько секунд все было кончено. Я отвез ее обратно на ту же улицу и еще пару часов колесил по городу, хотелось на полной скорости врезаться в дерево, но я отговаривал себя. Когда вернулся домой, наплел родителям с три короба – какой прекрасный был вечер, как я благодарен им за все, что они сделали, и прошел к себе в комнату. Когда они легли спать, украл у них из бара бутылку спиртного, выхлестал ее и плакал, пока не заснул.
Я делаю глубокий вдох, смотрю в землю.
Ужасная история, и, если честно, мне хочется убить себя, когда вспоминаю об этом. Ненавижу ее, как и все свое прошлое. Оно не имеет ничего общего с тем, о чем я мечтал.
Смотрю в землю. Найдись бездонная нора, я бы забился в нее. Найдись отрава, которая отшибает память, я нажрался бы до полного беспамятства. Хочется убить себя прямо сейчас при одном воспоминании обо всем этом.
Перевожу взгляд наверх. По щекам Лилли катятся слезы, она улыбается мне. Ее улыбка идет из глубины души, это не улыбка минутной радости, а та редкая улыбка, которая случается, когда в душе расшевелится что-то спящее и оживет. Даже когда эта улыбка сойдет с лица, она, я знаю, надолго станется у нее в душе. Что-то расшевелилось и ожило.
Я протягиваю руку, ласково вытираю ее слезы. Кожа у нее нежная, мокрая, теплая под моими пальцами. Когда они скользят по ее щеке, она берет их в руку и сжимает. Она смотрит на меня глазами прозрачными, синими, наполненными слезами. Улыбка не сходит с ее лица, когда она говорит.
Это прекрасно.
Она сжимает мою руку.
Вовсе нет.
Если она отпустит мою руку, я развалюсь на куски.
Это прекрасно. Это прекрасно потому, что честно, и потому, что больно, и потому, что ты не обязан был мне это рассказывать.
Я чувствую себя полным дерьмом.
А что, если я скажу тебе, что потеряла девственность как шлюха, за деньги?
Я отвечу – мне очень жаль.
Это правда, так было.
Мне очень жаль.
Она улыбается.
Спасибо.
Она смотрит на часы, потом на меня.
Нам пора.
Она встает и тянет меня вверх за собой. Мы смотрим друг на друга мгновение, потом она кладет свободную ладонь мне на щеку. В другой руке она держит мою ладонь, не отпускает, и я этому рад. Если она отпустит меня, я развалюсь на куски.
Созвонимся сегодня вечером.
Отлично.
Ты не обязан, но мне было бы приятно, если бы сегодня позвонил ты.
Я улыбаюсь.
Прошлым вечером я заснул.
Спи, если захочешь. Но надеюсь, сегодня ты не проспишь.
Не просплю.
Она наклоняется, целует меня. Поцелуй вроде такой же, как в прошлый раз, но совсем другой. Он полнее, крепче, нежнее, бережнее, сильнее, разительней. Он полнее, уязвимей, незащищенней, безопасней, опасней. Полнее, доверчивей, глубже, откровеннее, проще, правдивей. Поцелуй вобрал в себя все. Как правда.
Она отстраняется, отводит губы. Молча идем рука в руке через заросли. На границе возле тропы она останавливается, указывает мне, чтобы я шел вперед, наши руки медленно скользят, и вот только наши указательные пальцы слегка соприкасаются, не желая окончательно расставаться. Мы смотрим друг на друга. Улыбка не покидает ее лица, моего тоже. И даже когда покинет лицо, она все равно останется в душе, останется все равно. Улыбка, поцелуй, касание указательных пальцев. Соприкосновение.
Она кивает, я понимаю, это означает – пора, и делаю шаг. Ступаю на тропинку и шагаю прочь. Я знаю, что она смотрит мне вслед, улыбается и хочет, чтобы я оглянулся. Я оглядываюсь. Оглядываюсь и вижу ее, она улыбается. Я улыбаюсь в ответ, и это больше, чем просто улыбка. Полнее. Я возвращаюсь в отделение. Вхожу, иду по коридорам на обед. Все обеды сейчас проходят одинаково, как повелось.
После обеда лекция. Какой-то чувак рассказывает историю своей жизни. Жил он плохо, но потом вступил в общество Анонимных Алкоголиков, и жизнь наладилась. Слышал я эту лабуду много раз.
Возвращаюсь в отделение, сижу, смотрю телевизор. Показывают ситком про каких-то умников из Нью-Йорка, которые проводят жизнь, не вылезая из квартиры. Один мужик хвалит сериал, говорит – ну прямо как в жизни. На моей памяти столько времени отсиживался в квартире только один мой знакомый, так он обычно держал черные жалюзи на окнах опущенными, а в туалете – пушки, еще у него были следы ожогов на лице и ладонях, а на дверях – огромные замки, которые не вырвешь и тягачом. Никакие эти сериальные ньюйоркцы не умники, а просто параноики, хотя и паранойя может быть забавной. Я не вижу в этом сериале ничего такого, чтобы «прямо как в жизни». Может, я просто плохо знаю жизнь.
Звонит телефон, вообще-то он звонит весь вечер. Но именно этот звонок привлекает мое внимание. Почему-то я догадываюсь, что это Лилли, хотя у меня нет никаких оснований так думать. Я встаю, иду к телефону, не дожидаясь, пока тот, кто снял трубку, выкрикнет мое имя. Он выкрикивает, я благодарю его, беру трубку, прикладываю к уху, говорю.
Привет
Привет.
Как ты?
Хорошо. А ты?
Хорошо.
Я скучаю по тебе.
Я смеюсь.
Скучаешь по мне?
Да, скучаю. Что в этом смешного?
До сих пор никто по мне не скучал. Люди обычно радуются, когда меня нет.
Она смеется.
Только не я.
Хорошо. Мне приятно, что ты скучаешь по мне.
Мне тоже.
Я улыбаюсь.
Что делала вечером?
Сидела тут, смотрела на часы и думала, когда позвонить тебе, чтобы не показаться идиоткой.
Я смеюсь.
А ты что делал?
Сидел тут, ждал твоего звонка, и думал, что сказать тебе, чтобы не показаться идиотом.
Она смеется и говорит.
Кажется, мы свихнулись.
Может быть, немного.
На чем?
На свободе. На том, как ее найти.
А тебе не кажется, что мы свихнулись еще и друг на друге?
Может быть.
Вот уж на что я совсем не рассчитывала, когда ехала сюда.
И теперь не надо ни на что рассчитывать. Просто подождем и посмотрим, что из этого получится.
Верно сказано.
Спасибо.
Хочешь завтра снова встретиться?
Конечно.
И ты мне еще что-нибудь расскажешь.
По-моему, сейчас твоя очередь.
Пожалуй, ты прав.
Уже знаешь, о чем рассказать?
Задай вопрос, как я тебе задала, а я на него отвечу.
Что бы ты ни ответила, я тебя не осужу.
Спасибо.
До встречи завтра.
Я скучаю по тебе.
Мне приятно, что ты скучаешь по мне.
Мне приятно, что тебе приятно.
Пока.
Пока.
Я кладу трубку, смотрю на телефон и улыбаюсь. Это улыбка идет из глубины души, это не улыбка минутной радости. Даже когда она сойдет с моего лица, она останется в душе.
Я поворачиваюсь, иду через отделение, по коридору, к своей палате. Приближаюсь, из-за двери доносятся глубокие звуки кларнета – Майлз играет. Стою снаружи и слушаю. Он играет, как всегда, негромко. Каждую ноту тянет дольше, чем, казалось бы, возможно. Он повторяет мелодию каждый раз с новыми вариациями. Это немудреная музыка, которую создает один-единственный человек с помощью своих легких и куска металла с дырочками, касаясь дырочек пальцами. Звуки то низкие, то повыше, то более медленные, то более быстрые, потом снова медленные и низкие, они повторяются с вариациями. Ни слов, ни пения, но у музыки есть голос. Глубокий голос человека старого, как окурок хорошей сигары или дырявый ботинок. Это голос человека, который пожил на свете и чего только не познал: печаль и восторг, стыд и блаженство, радость и боль, искупление и проклятье. Любовь и отсутствие любви. Мне нравится этот голос, и хоть я не могу поговорить с ним, мне нравится, как он говорит со мной. Он говорит, что все едино, юноша. Прими все и позволь ему быть.
Музыка заканчивается, низкая и медленная мелодия старого голоса замолкает. Она замолкает, в коридоре наступает тишина. Я открываю дверь, вхожу в палату. Майлз сидит на кровати, все еще сжимая губами кларнет. Он кивает мне, я киваю в ответ. Подхожу к своей кровати. Снимаю одежду, ныряю под одеяло, там тепло и уютно, я закрываю глаза, сворачиваюсь калачиком, прижимаюсь головой к подушке, и мелодия снова начинает звучать. Печаль и стыд, восторг и блаженство, радость и боль, искупление и проклятье. Любовь и отсутствие любви.
Все едино, Юноша.
Прими все и позволь ему быть.
В одной руке у меня пустая бутылка, в другой – пустой пайп. Стою на углу улицы, повсюду валяется мусор. На телеграфном проводе висят ботинки. Беснуются крэкеры. Барыги толкают свои запасы. У меня в одной руке пустая бутылка, в другой – пустой пайп. Мне нужна добавка.
Просыпаюсь, дрожу от ужаса. Я понимаю, что это сон, но все равно. Спиртное было реальным. Крэк был реальным. Крэкеры были реальными, и барыги тоже. Все было реальным. Я дрожу от ужаса.
Охватываю себя руками. Сворачиваюсь калачиком. Думаю о том, что есть в моей жизни хорошего. Стараюсь занять свой ум. Несколько недель я живу трезвым. У меня есть друзья. Матти, Эд и Тед. Майлз, Леонард и Лилли. У меня есть Брат Боб. Есть кой-какая одежда и несколько книг. Этого более чем достаточно.
Рычащие питбули рвутся на цепях. Двор с пожухлой травой. Крысы шныряют по полу, кусают спящих за лица. В доме нет мебели, вообще нет вещей. Только людей навалом. Крэкеры. В воздухе дым смешивается с газом и формальдегидом. Я визжу. Визжу, умоляю, требую добавки. Дайте еще, дайте еще, дайте еще. Мне нужно еще, необходимо до зарезу, требуется. Дайте еще, взамен я все отдам. Дайте мне еще, и я для вас сделаю все, что пожелаете. Дайте еще. Дайте еще. Дайте еще.
Я просыпаюсь, дрожу от ужаса. Понимаю, что это сон, но все равно. Собаки были реальными, крысы, дом и люди. Крепчайший убойный крэк. Он был реальным, и я курил его. Я дрожу от ужаса.
Сворачиваюсь плотнее, пытаюсь думать о хорошем. У меня есть больше, чем необходимо для жизни, больше, чем достаточно. Сворачиваюсь еще плотнее. Думаю о хорошем. Думаю о хорошем.
Опять сон.
Опять сон.
Стоит только заснуть.
Опять снится сон.
Он реален.
Реален.
Опять сон.
Я дрожу от ужаса. За окном светает. Встаю, иду в ванную, пошатываясь. Открываю дверь, падаю на колени, ползу к унитазу, меня выворачивает. Снова и снова. Дикая рвота. Напоминание о той жизни, которую я вел. В унитазе кровь, желчь, куски пищи.
Поднимаюсь с колен, встаю под душ, включаю кипяток. Стою под струей воды, она обливает меня с головы до ног. Сдерживаю очередной рвотный спазм. Я чертовски устал блевать. Ведь это всего лишь сны. С чего бы такие последствия. После снов-то.
Выхожу из-под душа, беру полотенце, обматываю вокруг бедер, иду к раковине, чищу зубы. Привкус рвоты смешивается со вкусом зубной пасты. Чищу изо всех сил, но противный привкус не проходит. Чищу еще раз – не помогает. И еще раз – не помогает.
Заканчиваю с зубами, бреюсь. Стоя перед зеркалом с бритвой в руках, рассматриваю свое тело. Меня становится больше. Обрастаю мясом. Вены на руках пока синие, но уже посветлее. Скулы не так выпирают, челюсть не так выдается, синяки под глазами прошли. Под кожей образуется слой жирка, и наметился живот. Я меньше похож на себя, больше на человеческую особь. Я превращаюсь в человеческую особь.
Заканчиваю бритье, умываю лицо. Делаю глубокий вдох, медленно скольжу взглядом снизу вверх. Вижу грудь, ключицы, основание шеи. Хочу добраться до глаз. Вот горло, кадык, подбородок. Хочу добраться до глаз. Вот губы, они зажили, вот щека, на ней шрам. Вот нос, он больше не распухший. Вот подглазья, под глазами мешки, но это серые мешки от усталости, а не черные мешки от синяков. Потом начинается зеленая радужка, светло-зеленая. Дойдя до нее, я делаю глубокий вдох. Смотрю в эту светлую зелень. Различаю ресницы. Различаю белки. Дышу глубоко. Вот она. Я смотрю, вот она. Светлая зелень.
Отворачиваюсь, выхожу из ванной. Майлз все еще спит, стараюсь не шуметь. Одеваюсь, выхожу из палаты в коридор, отделение спит. Поднимаюсь на верхний ярус, готовлю кофе. Жду, когда заварится. Наливаю себе высокий стакан черного кофе, над которым поднимается пар. Сажусь за стол, закуриваю. Я один. Сижу, пью, курю. Не думаю о том, что делаю и почему. Просто сижу. Пью и курю.
Раздвигаются двери-купе. Смотрю вниз, Леонард появляется на нижнем ярусе отделения. В спортивном костюме, лицо раскраснелось, по нему катится пот. Похоже, сейчас он в лучшей физической форме, чем в день нашего знакомства. Он похудел, черты лица обозначились четче, щеки сдулись. Выглядит, как здоровый житель пригорода, который возвращается с пробежки. Заметив меня, направляется ко мне.
Как дела, Леонард?
Бегал.
И как?
Упарился.
Он наливает чашку кофе, присаживается к столу.
Закурить не дашь?
Не знал, что ты куришь.
Я только что причинил пользу своему здоровью. Теперь можно причинить вред.
Я смеюсь, протягиваю ему сигарету и зажигалку. Он делает глубокую затяжку, смотрит на меня.
Говорят, ты встречаешься с красивой брюнеткой.
С какой брюнеткой?
С крэкершей.
Кто говорит?
Я никогда не сдаю свои источники.
Мы с тобой друзья, но это не помешает мне надрать тебе задницу, если не признаешься, кто тебе сказал.
Он смеется.
Тед мне сказал.
А он откуда знает?
А он каждую ночь тайком встречается с какой-то девчонкой. Я думаю, его девчонка из того же отделения, что твоя. А девушки обычно делятся друг с другом секретами, если ты до сих пор не в курсе.
Там пока и делиться-то особо нечем.
Особо нечем, а чем-нибудь всегда найдется.
Мы с ней встречались пару раз. Разговаривали. Подумаешь, велика важность.
Она тебе нравится?
Да.
Хорошо к тебе относится?
Ни хорошо, ни плохо. Мы просто разговариваем.
Ты изменился. Это добрый знак.
Я улыбаюсь.
Ты делаешь из мухи слона, Леонард.
Мне просто важно знать, что у тебя все хорошо, малыш. Если ты доволен, я тоже доволен.
Нельзя сказать, что я счастлив. Но и не несчастлив.
Ничего, счастье не за горами. Главное, держись.
Посмотрим.
Он отводит в сторону руку с сигаретой, смотрит на нее.
Редкостная гадость.
Я смеюсь.
Ничего другого мне не осталось.
Он выбрасывает ее, встает.
Приму душ. Подожди меня, вместе пойдем на завтрак.
Он уходит. Я сижу, жду, курю сигарету за сигаретой, пью кофе. Смотрю, как люди начинают сновать по отделению. Кто-то выполняет утренние работы, кто-то пьет кофе, кто-то покупает сладости и напитки в автомате. Я ни с кем не заговариваю. Сижу, смотрю в окно. Не замечаю, что там, за окном, происходит, да меня это и не интересует. Нужно же куда-то смотреть, пока пьешь кофе и куришь. Пью кофе и курю.
Леонард возвращается после душа. Он помылся, волосы влажные. Говорит – я голодный как волк, пошли скорее, я встаю, мы идем в столовую. Занимаем очередь, я беру яичницу с беконом, а он блины, садимся за стол. К нам присоединяются наши приятели. За едой обсуждаем предстоящий чемпионат мира по боксу в тяжелом весе. Матти знает участников, говорит о боксе с большим воодушевлением, ругается и тут же ругает себя за то, что ругается, подпрыгивает и жестикулирует, как будто на ринге. Мы сидим, смеемся, вскоре замолкаем и только слушаем Матти. Он говорит за всех.
После завтрака очередная лекция. Мы своей компанией играем в карты на заднем ряду. После лекции меня на выходе из зала поджидает Джоанна. Говорит, что на это утро я поступаю в ее распоряжение, мы идем по коридорам в ее кабинет. В коридорах яркий свет, но я не обращаю на него внимания. В кабинете она садится в кресло, а я на диван. Она закуривает, и я тоже. Она откидывается назад, устраивается поудобнее и говорит.
Ты подумал над нашим вчерашним разговором?
Нет.
Почему?
Потому что для меня это вопрос решенный, и я не передумаю, а какой смысл думать, если все равно не передумаешь.
Джеймс, у тебя крайне тяжелая форма зависимости. Опытные доктора говорят тебе, что малейшая доза алкоголя или наркотиков будет для тебя смертельной. За всю мою практику я не встречала ни одного человека, которому удалось бы избавиться от зависимости и долго прожить без помощи Анонимных Алкоголиков и Двенадцати шагов. Может, кому-то и удавалось без поддержки протянуть неделю, месяц, максимум год, но потом они все равно срывались и почти все умерли. Ты правда этого хочешь?
Меньше всего я хочу провести остаток жизни в церковном подвале среди людей, которые хнычут, ноют и жалуются. Такая перспектива меня не греет, и с моей точки зрения в этом нет победы. Это просто замена одной зависимости на другую. А если зависеть от чего-то, то уж лучше от того, что доставляет удовольствие.
Анонимные Алкоголики – это не замена одной зависимости на другую. Это группа поддержки, основанная на методе Двенадцати шагов.
Вы можете называть это как угодно, но если человек, чтобы не делать изо дня в день одно, должен изо дня в день делать другое, то, на мой взгляд, это и есть замена одной зависимости другой зависимостью.
Она глубоко и огорченно вздыхает.
Тогда, может, есть смысл выбрать другую зависимость, если она помогает вылечиться и жить нормальной жизнью, вместо той, которая убивает тебя?
Можете использовать любые уловки – соглашаться со мной, выворачивать мои слова наизнанку или что там еще имеется на вашем психологическом складе, все равно я не поверю в Анонимных Алкоголиков и в Двенадцать шагов. Там все завязано на вере в Бога. У меня этой веры нет и никогда не будет.
Там все завязано на вере в Высшую силу, а не в Бога.
Один черт.
Бог в нашей культуре – старик с длинной бородой, восседающий на троне среди облаков. Ты не обязан в него верить. Высшую силу ты можешь представить сам, как тебе угодно, мыслить ее просто как то, что помогает тебе изо дня в день. Может, это Дух, может, Будда. Может, волшебный луч из «Звездных войн». Анонимные Алкоголики не навязывают тебе никакого конкретного бога или религии, от тебя не требуется никакой определенной веры.
Давайте сперва кое-что уточним, чтобы не запутаться.
Что?
Когда вы говорите про Высшую силу, вы имеете в виду Бога, а это одно и то же. Мне кажется, это неправомерное обобщение. Оно противоречит многообразию представлений о духовном мире.
С моей точки зрения, религия и представления о духовном мире – одно и то же. У них одна цель – помогать людям справляться с жизнью, давать им моральные заповеди, готовить к смерти и утешать перед смертью, обещая лучшую участь, если они соблюдали заповеди. Что плохого в такой цели?
По-моему, это не цель, а дерьмо собачье. Мне не нужно, чтобы кто-то учил меня жить, тем более что его самого вообще не существует.
Откуда у тебя такая уверенность, что не существует чего-то Высшего, более могущественного, чем мы?
Просто я верю в это.
А я нет.
Помолчав, она глубоко вздыхает и продолжает.
Что такое вера, по-твоему?
Я задумываюсь на мгновение и отвечаю.
Вера – уверенность в том, существование чего нельзя доказать.
Ты размышлял об этом?
Да.
И почему у тебя нет веры?
Я считаю, что люди выдумывают Бога, чтобы спрятаться от реальности. Я считаю, что вера позволяет людям отрицать, что все, что у нас было, есть и будет, это наш мир, то есть наша жизнь, наше существование, наше сознание, назови как хочешь. Я считаю, что люди выбирают веру из нужды, из потребности верить хоть во что-то, потому что жизнь без этого тяжела, жестока, безжалостна.
Может, ты и прав, но почему бы не примириться с тем, что вера делает твою жизнь лучше. Я знаю, что моя вера делает мою жизнь лучше, и совсем неважно, существует то, во что я верю, или нет. Пока я верю, я получаю выгоду от своей веры.
Все равно я никогда не поверю в Бога или во что-то вроде.
Ты веришь в любовь?
В каком смысле?
Ты веришь в любовь?
Да.
Ты веришь, что она может сделать твою жизнь лучше?
Да.
Во что еще ты веришь?
В дружбу.
Ты веришь в дружбу?
В общем, да.
А еще во что?
К чему вы клоните?
Нельзя доказать, что любовь и дружба существуют, но ты все равно веришь в них. Я прошу тебя применить этот же подход к чему-то Высшему, превосходящему тебя.
Любовь и дружбу я могу почувствовать. Я могу видеть, слышать, касаться людей, которых люблю или с которыми дружу. Идея Бога не вызывает у меня никаких чувств, я не могу его видеть, касаться, говорить с ним.
Ты пытался когда-нибудь открыть себя для веры?
Я читал Библию. Написанное в ней не кажется мне правдой. Я знаю людей, которые считают, что близки к Богу, но я никогда не понимал их чувств. Я бывал в церквях, могу оценить их красоту и величие, но со мной ничего хорошего там не происходило.
Что ты хочешь этим сказать?
Ровно то, что я сказал.
Есть ли что-то, о чем ты умолчал?
Ничего такого, что относится к теме нашего разговора.
Она смотрит на меня, я на нее. Она говорит.
И все же я хочу, чтобы ты попробовал еще раз. Перестань мудрствовать и открой свою душу.
Я никогда не верил в Бога, даже ребенком. Не собираюсь и сейчас.
И все же попробуй.
Хорошо.
Она подымается, я тоже, мы подходим к двери, она открывает ее.
В твою программу внесены кое-какие изменения, о них тебе расскажет Кен сегодня днем. Когда созреешь, приходи ко мне поговорить.
Я выхожу, иду по коридорам. На подходе к отделению вижу Леонарда, который направляется ко мне. Говорит – пора на обед, мы идем в столовую, находим стол. К нам подсаживаются Эд, Тед, Матти, Майлз и Бобби.
Бобби треплется, заваливает нас всякой чушью. У меня есть и то, и се, я знаком с тем-то, все должны мне кучу денег, и так без конца. В какой-то момент он заговаривает про Лас-Вегас, как ездил туда встречаться с Мики про прозвищу Большой Нос. Леонард, который весь обед игнорировал Бобби, начинает прислушиваться. Он ничего не говорит, со стороны и незаметно, что он заинтересовался, но я-то понимаю, что он прислушивается. Бобби говорит, что Мики был жирной пьяной свиньей, полным кретином, и когда этого ушлепка прикончили, весь Нью-Йорк сошел с ума от радости и устраивал вечеринки. Бобби говорит, что он ссудил Мики довольно большую сумму и после его смерти этот должок так и пропал. Бобби говорит, что во время последнего приезда в Лас-Вегас он отыскал могилу Мики и нассал на нее. Я смотрю на Леонарда, когда Бобби произносит эти слова. Я вижу, что его лицо сохраняет маску невозмутимости, руки лежат на коленях под столом. Я знаю, что скажи Бобби нечто подобное про человека, которого я люблю, я бы через стол придушил его. Леонард просто сидит и слушает. Просто сидит и смотрит.
Мы заканчиваем обед, встаем, идем всей компанией на лекцию. Сидим в заднем ряду и играем в карты. Впервые за все время нашего знакомства Леонард теряет сноровку. Тед выигрывает трижды, Эд и Матти по два раза, мы с Майлзом ни разу. После лекции все возвращают Леонарду его деньги. Выходим из зала.
Идем по коридорам в отделение, встречаем Кена, который вышел из кабинета и зовет меня на разговор. Захожу в кабинет, сажусь. Он тоже садится.
Сегодня мы должны обсудить несколько тем.
Он берет лист бумаги и протягивает мне.
Это анкета. Мы можем обратиться через адвоката, который работает в клинике, к властям штатов, где у тебя есть судимости, чтобы разобраться с ними. Ты должен прочитать этот документ, указать названия штатов и городов, а также какие нарушения ты там совершил, и подписать. Ты не обязан это делать, но мы тебе очень советуем.
Ручка есть?
Конечно.
Он берет ручку, подает мне. Я беру, начинаю читать документ.
Кстати, мы заметили, что ты сблизился с Леонардом. Это нас несколько беспокоит.
Я смотрю на него.
Почему?
Ты – молодой человек, у которого сложные отношения с законом. Мы не думаем, что влияние Леонарда будет тебе полезно.
Это еще почему?
Ты имеешь какое-нибудь представление о том, чем Леонард зарабатывает?
У него какой-то бизнес.
Кен смеется.
А какой бизнес?
Я не спрашивал.
Ты замечал, что люди боятся Леонарда?
Да.
Почему, как ты думаешь?
Потому что он сам никого не боится. Это обычно пугает людей.
Причина не в этом, Джеймс.
А в чем причина, Кен?
Полагаю, на самом деле ты знаешь больше, чем хочешь показать. Но я все равно скажу тебе. Леонард связан с организованной преступностью. Он очень большая фигура в криминальном мире. Мы попросили его не афишировать, чем он занимается. Мы разрешили ему здесь остаться, потому что у него действительно тяжелая форма наркозависимости, но мы держим его на особом контроле.
Я пожимаю плечами.
Каждый зарабатывает как может.
Ты так считаешь?
Я так считаю.
Мы полагаем, тебе не следует проводить так много времени в его обществе. Мы полагаем, это отрицательно скажется на твоем восстановлении.
Мы с Леонардом друзья. Он мне нравится, я доверяю ему и уважаю его. Я не понимаю, как подобный друг может мне повредить.
Он никогда не просил тебя сделать что-либо противозаконное?
Я смеюсь.
Нет.
Он никогда не рассказывал тебе, чем занимается?
Он сказал, что занимается бизнесом, без подробностей.
Я мог бы добавить подробностей.
Я не хочу больше говорить на эту тему, Кен.
Это для твоего же блага, Джеймс.
Давай перейдем к следующей теме.
Он глубоко вздыхает, смотрит на стопку бумаг на столе. Потом поднимает взгляд на меня.
Приезжают твои родители. Они записались на Семейную программу.
Что?
Мы регулярно общались с ними после того, как ты поступил к нам, и они приняли решение пройти Семейную программу. Все считают, что это хорошая идея.
А со мной посоветоваться никому не пришло в голову?
Мы предполагали, какой будет твоя реакция.
Когда они приезжают?
Завтра.
Прилетают из Японии?
Да.
Я трясу головой, смотрю в пол. Я даю волю своим чувствам, и они не заставляют долго ждать. Гнев, злость, ненависть, стыд, страх смешались, породив Ярость, великолепную, совершенную, ужасную Ярость. Я ничего не могу с ней поделать, и я не смогу ничего с ней поделать, пока не обдолбаюсь так, что либо она сдохнет, либо я. Я стискиваю челюсти, сжимаю кулаки, борюсь с собой. Я хочу обдолаться и отрубиться.
Ты в порядке?
Нет.
Что ты чувствуешь?
Злость.
А еще?
Хочу выпить.
А еще?
Обкуриться.
А еще?
Перепрыгнуть через твой гребаный стол и забить твои зубы тебе в глотку.
Мне вызвать охрану?
Я делаю глубокий вдох.
Что я должен делать, когда они приедут?
Я стискиваю челюсти.
Вечера проводишь в отделении, как обычно, ешь в столовой, как обычно, а днем находишься в Семейном центре.
Я сжимаю кулаки.
А там что будет происходить?
Групповая терапия с участием других пациентов и их родственников, часть времени будешь проводить со своими родителями.
Я с трудом сдерживаюсь.
Звучит заманчиво, обосраться можно.
Почему ты не хочешь, чтобы родители приезжали?
Потому что не хочу.
Почему?
Я не буду больше обсуждать с тобой эту тему.
Я изучаю анкету, которую он мне дал, вписываю названия городов и штатов, возвращаю ему.
Что-нибудь еще?
Я думаю, пора начать работу с твоими приступами злости, добраться до их причины.
Я смотрю на него и смеюсь, встаю и выхожу из кабинета. Коридоры залиты светом, Ярость внутри меня клокочет, хочет превратить все вокруг в руины. Ненавижу эти проклятые коридоры, хочу уничтожить их, себя, все. Дышу глубоко, держу себя в руках, иду в отделение. Хочется выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха. Мне нужен другой воздух, а не воздух клиники, мне нужно вырваться из этого места. Туда, где нет стен, коридоров, отделений, наставников, нет никаких правил, никакого Бога, никаких Высших сил, никаких шагов, никаких групп, никаких лекций, никаких столовых, где не надо ни с кем встречаться, разговаривать, общаться. Мне нужно подышать. Свежим чистым воздухом.
Прохожу через Верхний ярус, спускаюсь на Нижний, прохожу мимо групповой сессии, которую ведет Линкольн, он спрашивает, что со мной, я не отвечаю, раздвигаю стеклянную дверь, выхожу на улицу и дышу, дышу, дышу воздухом свободы.
Иду куда глаза глядят. Понятия не имею куда, просто иду. Выхожу на тропинку, иду по ней, она приводит меня к навесу из вечнозеленых растений. Тут темно, и я чувствую себя не таким уязвимым, более защищенным. Дышу глубоко, так глубоко, как только позволяют легкие, и воздух меня успокаивает. Ярость гаснет, остается небольшой огонек злости, который легко контролировать и потушить, пока он не натворил бед. Солнце высоко, его лучи пробиваются через ветви деревьев, освещают землю под ногами, мертвые листья, гниющие растения, убитые зимними холодами. В тени поблескивает иней, он вот-вот растает. Через час от него не останется и следа. Через десять часов он появится снова. На следующий день все повторится: растает – появится, растает – появится. Мне холодно. На солнце теплее, но я сторонюсь солнца. На ходу согреюсь. Мне некуда спешить.
Иду по тропинке, она приводит меня к озеру. Озеро все такое же, оно не меняется. Пластины льда, под ними жизнь, над ними птицы. Звуки нарушают тишину, тишина поглощает звуки. Отражения медленно скользят по воде, превращая предметы в образы. И предметы реальны, и образы реальны. Жизнь протекает передо мной, за мной, надо мной, она окружает меня. Я могу видеть ее, чувствовать, слышать, касаться. Жизнь вокруг и внутри меня. В это мгновение.
На скамейке никого. Сажусь, закрываю глаза, открываю себя. Не знаю, чему навстречу. Богу ли, Высшим силам ли. Во мне ли это, вокруг ли. Мне нужно понять, что это такое. Нужно, потому что благодаря этому я собираю себя в единое целое. Открыться – чтобы собрать осколки разбитой жизни. Мне нужно поверить во что-то, чтобы дальше верить в себя. Мне нужно понять, что это такое. Чему я открываюсь. Я встаю, иду вдоль кромки воды, пока не упираюсь в поле желтой травы. Трава умерла, но она оживет весной, так устроен мир. Все умирает и возрождается. Что это – биология, Бог или нечто Высшее? Что такое человек – биология, Бог или нечто Высшее? Знаю, что сердце бьется, прислушиваюсь к его ударам. Сердцебиение – это биология, но откуда берется мелодия? Продлится ли она после того, как сердце остановится? Останется ли человек после того, как умрет? Может ли мелодия существовать без биологии? Имеет ли это значение? Имеет. Должен же я верить во что-то. Без этого не собрать себя.
Поднимаюсь на холм к соснам, минуя запустение вязкого болота, где жизнь гниет и продолжается за счет смерти. Спускаюсь обратно к дубовой роще и вечнозеленым зарослям. Солнце по-прежнему стоит высоко, греет сильно, лучи рассыпаются, пляшут под ногами, шагается легко. Ярость прошла, ее вытеснили свежий воздух, тишина и покой уединения. Я спокоен и пуст. Спокоен.
Если к чему-то я и стремлюсь, то к этому. К покою. Если Бог или нечто Высшее существуют, то для меня это Покой. Покой. Если что-то способно меня поддержать, когда требуется поддержка, то это Покой. В нем нет злости, гнева, Ярости. Нет желаний, потребностей, страстей. Нет ненависти, стыда, раскаяния. Нет печали, скорби, тоски. Нет страха. Совсем нет страха. Когда человек живет без страха, его нельзя разрушить. Когда человек живет в страхе, он, считай, разрушен еще до того, как начал жить. В это мгновение я чувствую Покой. Это главное.
Я заблудился в лесу, но с тропинки не сошел. Я ищу то, чем обладаю в это мгновение, но потом утрачу. Я отыскал свое средство от недуга под названием «я сам». В церкви ребенком я ничего подобного не чувствовал. Я держал родителей за руки и ничего не чувствовал. Любовь принесла мне только одиночество и страдание. В бутылках и пайпах я нашел опустошение и боль. В двадцать два года после тюрьмы я снова пошел в церковь, искал там покой. Там Покоя я не нашел. А теперь его обрел. Без Бога. Теперь он есть.
Деревья сменяются сухой коричневой травой, подъем выводит меня к месту, откуда видно все вокруг. Я вижу деревья, заросли, болота, озера, птиц, зверей, мужчин, женщин, корпуса клиники, небо и то, что за небом. Я слышу звуки ветра и воды, крики пролетающих птиц и вопли пациентов, запертых на детоксикацию. Я чувствую их и чувствую себя. Я ощущаю жизнь в себе и жизнь вне себя. Я ощущаю жизнь в спокойном биении своего сердца. Это не Бог или что-то Высшее. Это чувство Покоя внутри и вне меня, созданное мной. Это не Бог, не что-то Высшее. Я сажусь, смотрю на мир. Я вижу его, слышу его, касаюсь его и чувствую его. Он таков, каков есть, земля, камни, вода, солнце, воздух, волны света и волны звуков, состоящие из определенных частиц. Они могут быть созданы или воссозданы человеком по своей воле. Наука дает нам такую возможность. Тайна тут ни при чем. Мы можем все создать в лаборатории. В этом больше нет ничего таинственного, как считали на заре человеческой истории, когда никто не понимал, что, как и почему. Теперь на все вопросы найдены ответы. Ответы открывают правду. Нет ни Бога, ни чего-то Высшего. Бога нет. Высшей силы нет.
Я погружаюсь в глубину своего Покоя. Там нет Бога. Нет Высшей силы. Я погружаюсь в самый центр своего существа, которое состоит из биологии, энергии и ударов сердца, сердце выводит свою мелодию на языке, который знаю только я. Я отпускаю ее, и она смешивается с Покоем, больше ничего нет. Больше я не буду бороться с Богом. С Высшей силой. Бороться с ними значит признавать их существование. Я не собираюсь бороться и признавать существование того, что, как я знаю, не существует. Мне есть с чем бороться, и я буду бороться, но только отбросив прочь слепую веру, не притворяясь, будто верю в то, что не существовало, не существует, не будет существовать, как этот Бог или Высшая сила. Я буду бороться, опираясь только на себя, на свое сердце, на свою волю, на свою мелодию. Может, я одержу победу, а может, проиграю. Это не имеет значения. Значение имеет только мое усилие. Бога не существует, Высших сил не существует. Я буду бороться сам. Буду бороться в одиночку.
Подходит время встречи с Лилли. Я встаю, спускаюсь с холма, прохожу мимо корпусов, мимо криков. Выхожу на тропинку, иду по ней, потом схожу и иду к нашей поляне под защиту вечнозеленых зарослей. Лилли уже ждет меня. Ждет, подбегает ко мне, целует меня, целует, целует. Потом отстраняется и улыбается.
Привет.
Я улыбаюсь.
Привет.
Давай сядем.
Давай.
Мы садимся.
Я скучала без тебя.
Я улыбаюсь.
Это хорошо.
Она улыбается. Это нежная, милая, ласковая улыбка. Такая улыбка, которая может разбить сердце, если смотреть на нее слишком долго. Она по-прежнему держит меня за руку, а я по-прежнему спокоен, и еще балдею. Балдею от себя, балдею от нее. Она говорит.
Можно снова поцеловать тебя?
Да.
Она наклоняется. Целует меня, целует, а я балдею. Она целует меня. Отстраняется, говорит.
Расскажи мне историю.
Сейчас твоя очередь.
Я хочу, чтобы ты начал.
Почему?
Потому что ты смелее, чем я.
Почему ты так думаешь?
Просто расскажи мне историю.
Что ты хочешь услышать?
Расскажи мне историю про любовь.
Я не специалист по части любви, но попробую.
Спасибо.
Я смотрю ей в глаза. Они синие, прозрачные, как родник. Они утоляют мою жажду. Я говорю.
С этой девушкой я вместе учился. Три года смотрел на нее, думал о ней и надеялся, что она заговорит со мной. Я знал, что она знает, что я смотрю на нее, но, если первым заговорю я, вдруг она решит, что я чокнутый, поэтому ждал, чтобы заговорила она. В последний год у нас в расписании появились общие занятия, и вот после каникул в первый учебный день она дождалась меня, у нас произошел короткий разговор. Она спросила, почему я смотрю на нее, а я сказал слова, которые мечтал сказать с тех пор, как впервые увидел ее – что она самая красивая девушка на свете. Она спросила, правду ли обо мне болтают, а я ответил, что, скорее всего, правду. После этого мы какое-то время не разговаривали, и я перестал смотреть на нее, но знал, что ей не хватает моего взгляда и что рано или поздно она подойдет ко мне. Я оказался прав. Через два месяца она спросила, не хочу ли я вместе с ней готовиться к промежуточным экзаменам. Мы позанимались, а потом вышли выпить с ее друзьями. Наркотиков при мне не было, и пил я в меру, чтобы обошлось без трясучки.
Мы стали постоянно общаться, в классе, по дороге в школу, на обеде, пили кофе и пиво, курили сигареты, проводили вместе время и очень подружились. Я стал меньше пить – выпивал только по вечерам – и перестал торговать наркотой.
Я делаю глубокий вдох, смотрю в землю, вспоминаю. Среди моих воспоминаний есть и хорошие, их совсем немного, но есть. Я снова поднимаю взгляд на Лилли.
Наступило Рождество, она уехала к себе в Коннектикут, а я в Бразилию, там в ту пору жили мои родители. Она дала мне номер телефона своих родителей и попросила звонить, и мне ужасно хотелось позвонить, но я так и не позвонил. Я подумал – пусть она лучше хорошенько соскучится. Я вообразил, что если она поскучает без меня, то это как-то повлияет на наши отношения. Мне было мало того, что есть. Я хотел больше, много больше. Я мечтал, чтобы она полюбила меня, вот было бы счастье. Я думал, ее любовь поможет мне решить мои проблемы, а главное – я любил ее и хотел, чтобы она чувствовала то же самое.
Лилли улыбается, качает головой, говорит.
Это ошибка.
Что именно?
Думать, что любовь поможет решить твои проблемы.
Я киваю.
Верно.
Ты рассердился на мои слова?
Я отрицательно мотаю головой.
Это правда. Глупо сердиться на правду.
Она улыбается.
Я хочу знать, что было дальше.
Я усмехаюсь.
После каникул мы встретились в школе, и она спросила, почему я не звонил. Я сказал – думал, что она проводит все время со своими родственниками, и не хотел ей мешать. Она улыбнулась и ответила, чтобы я мешал ей всякий раз, когда мне вздумается. Я улыбнулся как ни в чем не бывало, хотя чуть с ума не сошел от радости. Сердце бешено колотилось, руки дрожали. Она не сказала этого прямо, но я все понял. Она скучала по мне.
Через пару дней мы пошли в бар поболтать с ее знакомыми. Она села чуть ближе ко мне, чем обычно, смеялась над моими идиотскими шутками чуть громче, чем обычно, касалась довольно страстно моей ноги, плеча, шеи, руки. Она касалась меня и вела себя так, будто я ее бойфренд, и мне это дико нравилось.
Где-то через час ввалились копы, и среди них новый мужик, которого я раньше не видал. Это были такие копы, какими бывают копы в маленьком городе, жирные тупые сволочи с усами и пивными животами, пистолетами и значками. Я знал их, они знали меня. Все годы, что я прожил в этом городишке, я открыто дразнил их – они пытались подловить меня на чем-нибудь, но им так ни разу и не удалось. И вот сейчас, вместе с этим новым мужиком, они подгребли ко мне, их прямо распирало от этой коповской дерьмовой важности, они показали мне ордер и сказали, что я должен пройти с ними в участок, ответить на несколько вопросов. Они сказали, что как раз в это время другая бригада с собаками проводит обыск у меня дома. Я рассмеялся и сказал, чтобы отвалили, тогда новый мужик вытащил свой значок и сказал – сынок, я из ФБР, теперь тебе крышка, схватил меня и выволок из бара. Прямо на глазах у нее и ее друзей. Он просто втоптал меня в грязь, сволочь. Я столько лет любил эту девушку, я был уверен, что после этого она меня больше знать не захочет.
По дороге в участок я устроил балаган. Распевал во всю глотку американский гимн, а в паузах между куплетами спрашивал копов, когда же они будут брать с меня взятку. Допрос прошел еще смешнее. Агент ФБР спрашивал меня про поездку в Бразилию, хотя наркотики тут были вообще ни при чем, и про людей, с которыми я встречался в Южной Америке, а я знай себе твердил: то не буду отвечать, пока не позовете адвоката, то с этими усами вы похожи на идиота. Наконец, следственная бригада вернулась с обыска, они ничего не нашли у меня дома, потому что там ничего и не было, и меня отпустили. Пока шел к выходу, я всех встречных копов посылал на хер.
Лилли смеется.
А они что?
Некоторые не обращали внимания, некоторые посылали в ответ, а один запустил в меня чашку с кофе.
Попал?
Нет.
А со своей девушкой как ты встретился?
Когда я вышел на улицу, она сидела на бампере своего автомобиля и ждала меня.
Расстроенная?
Я киваю.
Да. Плакала.
Что ты сделал?
Она курила, смотрела в землю, поэтому не заметила меня. Я подошел к ней, спросил – девушка, вы кого-то ждете. Она подняла глаза, улыбнулась, вскинула руки, обняла меня и заплакала у меня на плече. Поплакав, она спросила – не влип ли я в историю, я ответил – нет, она спросила – значит, все в порядке, я ответил – да. Потом она посмотрела мне в глаза, взяла меня за руку и сказала – если мы собираемся быть вместе, я хочу общаться с тем человеком, которого я знаю, а не с тем, про которого болтают разное. Она сказала, я не хочу иметь дела с полицией, наркотиками, пьянством и с тем, в чем ты там еще замешан, так что прими решение прямо сейчас – каким человеком ты намерен быть. Я улыбнулся и ответил, что намерен быть человеком, которым она сможет гордиться. Я хочу сделать все, чтобы стать таким человеком. Если ты согласна общаться с таким человеком, просто кивни. Если нет, тогда разойдемся. Если ты кивнешь, имей в виду, что я тебя поцелую – прямо здесь и сейчас, и прямо в губы, и мой поцелуй будет вместо клятвы, что я исправлюсь.
Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и кивнула, я сжал ее лицо в ладонях и поцеловал ее, и этот поцелуй, пусть ненадолго, изменил меня, и мы с ней, пусть недолго, любили друг друга.
А потом ты все просрал?
Да.
Как именно?
Не хочу говорить об этом сейчас.
А чего ты хочешь?
Поцеловать тебя еще раз.
Потому что думаешь о ней?
Нет, потому что думаю о тебе.
Лилли улыбается, обнимает меня, прижимает к себе, нежно целует в шею. Я чувствую себя защищенным в ее руках, таким защищенным я себя никогда не чувствовал, Покой и сила Покоя опять со мной. Она медленно поднимает голову, медленно поднимает голову и целует меня в губы, прижимает меня крепче, никогда я не испытывал такой защищенности и такого покоя. Как в ее руках. Во время поцелуя.
Она разжимает объятие. Улыбается мне, проводит рукой по моей щеке.
Мне хочется быть на месте той девушки.
Почему?
Здорово, когда тебя так любят.
Ты никогда не любила?
Вообще нет.
А тебя кто-нибудь любил?
Мужчины всегда хотели трахнуть меня, но любить никто не любил.
Я не верю.
Это правда.
Я не верю.
Она смотрит на меня.
Но это правда.
Я тоже смотрю на нее.
Если это имеет значение, я не хочу тебя трахнуть.
Она смеется.
Спасибо.
Я считаю тебя красавицей, но не хочу тебя трахать, потому что не хочу, чтобы ты думала, будто тебя трахают. Я хочу любить тебя, и пусть я выгляжу нелепо и смешно, но, если это произойдет, я хочу, чтобы ты чувствовала, что тебя любят, а не трахают.
Она улыбается.
Я благодарна тебе, Джеймс.
Я улыбаюсь.
Я благодарен тебе, Лилли.
Мы улыбаемся друг другу, смотрим друг другу в глаза, разговариваем друг с другом молча, не нарушая тишины между нами. Тишина полна силы, безопасности и покоя. Тишина между нами. Лилли смотрит на часы.
Уже поздно.
Да.
Встретимся завтра?
Не знаю.
Почему?
Не уверен, что смогу.
Ты испугался?
Немного, но дело не в этом.
А в чем?
Завтра приезжают мои родители. Мне придется вместе с ними участвовать в Семейной программе, и я не знаю, когда освобожусь.
Ты рад их приезду?
Нет.
Почему?
Я не очень-то лажу с родителями и не хочу, чтобы они приезжали.
Пересмотри свою позицию, мальчик.
Я смеюсь.
Чего?
Я говорю – пересмотри свою позицию, мальчик.
О чем ты?
Тебе дико повезло в жизни – у тебя есть родители. Еще больше тебе повезло, потому что они любят тебя. Если они готовы приехать сюда и тратить свою жизнь, чтобы разобраться, почему ты такой псих ненормальный, и узнать, как помочь тебе, то, считай, тебе выпал джекпот. Обращайся с ними по-человечески, ты только представь, как нелегко им приехать сюда к тебе, как они переживают из-за тебя.
Они слишком переживают из-за меня. В этом-то и проблема.
Судя по тому, что мне известно, ты дал им уйму поводов для переживаний.
Может быть.
Может быть – это фигня, а не ответ. Пересмотри свою идиотскую позицию, относись к ним по-человечески и помни, как тебе повезло, что они вообще есть.
Я опускаю взгляд, пялюсь в землю, киваю. Она берет меня за подбородок, поднимает мое лицо.
Скажи – слушаюсь, дорогая Лилли, я постараюсь вести себя с родителями хорошо.
Я улыбаюсь.
Ты давишь на меня?
Она кивает.
Слушаюсь, дорогая Лилли, я постараюсь вести себя с родителями хорошо.
Она смеется.
Спасибо.
Я смотрю на нее, улыбка сходит с моего лица, но остается в душе. Никогда я не ощущал такой безопасности и покоя. Эта больная, обдолбанная, отмороженная наркоманка, которая сидит передо мной, со своими черными волосами, заплетенными в косички, со своими синими прозрачными, как родник, глазами, со своими шрамами на запястьях, заметными из-под ремешка пластмассовых часов, она дает мне это чувство безопасности и покоя.
Я хотел бы встретиться с тобой завтра, но не знаю, как все сложится с родителями. Когда придешь на обед, взгляни на мужскую половину. Если я сижу спиной, значит, не смогу прийти. Если сижу лицом, значит, приду. А число тарелок на подносе означает, в котором часу.
А если ты сможешь только в полночь?
Тогда я со своим подносом буду выглядеть, как круглый дурак.
Она смеется.
Поцелуй меня на прощание.
Я наклоняюсь, целую ее, целую в губы, мягкие, влажные, теплые. Обнимаю, прижимаю к себе свою маленькую непутевую подружку.
Она высвобождается, мы стоим. Она говорит.
Хорошего вечера.
Спасибо.
Она поворачивается и уходит. Я говорю.
Лилли.
Она останавливается и оглядывается.
Что?
Я буду скучать по тебе.
Она улыбается.
Это хорошо.
Она снова поворачивается и исчезает в вечнозеленых зарослях. Я иду в противоположную сторону, пробираюсь через заросли, выхожу на тропинку и медленно, медленно, медленно иду к корпусам. Я чувствую защищенность и покой и хочу продлить это ощущение как можно дольше. Останавливаюсь перед входом в отделение. Наблюдаю через стеклянные двери за людьми, которые не чувствуют защищенности и покоя. Они смотрят телевизор, играют в карты, курят сигареты и пьют кофе. Болтают чушь, рассказывают случаи из жизни. Они не ощущают ни безопасности, ни покоя. Зависимость требует топлива. Они подбрасывают его.
Я понимаю, что не смогу удержать это состояние навсегда, рано или поздно оно пройдет. Смиряюсь с неизбежным, открываю дверь и вхожу в отделение. Иду к себе в палату. Дверь закрыта, деликатно стучу, ответа нет. Открываю дверь, вхожу, Майлз сидит на кровати. Уткнулся лицом в ладони и плачет. Я уверен – он слышит, что я вошел, но не обращает на меня внимания. Лицом уткнулся в ладони и плачет.
Я выхожу из палаты и закрываю за собой дверь. Иду по коридору, он залит светом, стены белые, а мне хочется, чтоб они были синие, как прозрачная родниковая вода.
Иду в столовую. Еще рано, никого нет. Беру поднос, кладу в тарелку рыбные палочки под соусом тартар, выбираю стол и сажусь. Начинаю есть. Ем медленно. Рыбные палочки теплые, сыроватые внутри, панировочные сухари по вкусу напоминают мокрый песок. С каждым куском мой голод разгорается, требует еще, еще, хочет заглатывать палочки целиком, визжит и требует пятьсот таких палочек в хрустящем песке, и разом. Неважно, что у них отвратительный вкус, я хочу их, черт подери. Сижу, дышу, стискиваю челюсти. Смотрю прямо перед собой. Кусаю, глотаю по одному куску. Держись. По одному куску. Это не так уж трудно. Один кусок, потом другой. Чертовы рыбные палочки. Главное, держись.
Заканчиваю еду. Народ подтягивается, за мой стол никто не садится. Я хочу еще жрачки, много жрачки, но не встаю из-за стола. Сижу и креплюсь, сижу и креплюсь, сижу и креплюсь. Я прекрасно понимаю, что эта борьба – сущий пустяк, но я также понимаю, чтобы выиграть большую битву, нужно начать с маленькой. Зависимость есть зависимость, а борьба есть борьба. Правило одно. Главное, держись.
Вижу, что Леонард выходит из очереди. Он выбрал не рыбные палочки, а говядину с лапшой. Улыбается мне, кивает, подходит к моему столу и садится. Он только что принял душ, волосы влажные, лицо раскрасневшееся.
Как дела, малыш?
Хорошо. А у тебя?
У меня выдался очень хороший день.
С чего бы это?
Не твое дело.
С чего бы это?
Вот заладил – с чего бы это, с чего бы это. Мне надоел этот вопрос.
Можно задать другой вопрос?
Попробуй.
Чем ты зарабатываешь на жизнь, Леонард?
Он смеется.
Ты и сам знаешь, малыш.
Я хочу услышать от тебя.
Кое-кто насвистел тебе кое-что?
Да.
Со мной они тоже говорили.
И что сказали?
Не хотят, чтобы я дурно влиял на тебя.
Я же сказал им, что это не так.
Спасибо тебе.
Так чем же ты зарабатываешь на жизнь, Леонард?
Ты и сам знаешь, Малыш.
Я хочу услышать от тебя.
Леонард кладет в рот кусок говядины с лапшой. Улыбается, пока жует.
Я Директор Западного побережья в одной большой итальянской финансовой конторе.
Я смеюсь.
Еще вопросы есть?
Нет.
Так-то лучше.
Да.
Видался сегодня со своей девушкой?
Да.
Хорошая она?
Да.
Нравится тебе?
Да.
Любишь ее?
Вроде.
Будь осторожней, малыш. Меня спрашивали про нее.
Откуда они, на хер, узнали?
Они знают все.
Но как?
Узнать что угодно не сложно, было бы желание.
Пожалуй.
Знаешь, что я думаю?
Что?
Я думаю, любовь очень редкая штука на этом свете. Если тебе кажется, что с этой девушкой у тебя всерьез, пошли к черту всех, кто вздумает помешать тебе, со всеми их правилами. Рискуй, поступай, как считаешь нужным, но постарайся не попасться. А если попадешься, не сдавайся.
Я смеюсь.
Ты дурно влияешь на меня, Леонард.
Он улыбается.
Ничего подобного, малыш.
Я улыбаюсь. Леонард улыбается. Мы молча едим, никто к нам не подсаживается. Закончив обед, идем на лекцию, садимся с Эдом, Тедом и Матти на наши обычные места. Играем в карты, на этот раз все идет как положено. Леонард выигрывает, остальные проигрывают. Ставки мизерные, поэтому всем наплевать, время здесь тянется медленно, игра помогает его скоротать. Мы знаем, что после игры Леонард поделит свой выигрыш поровну между нами. Пару баксов выиграл, пару баксов проиграл. Какая разница. Я даже больше не слежу за результатом.
Лекция заканчивается, мы возвращаемся в отделение. Я наливаю себе чашку кофе, отыскиваю свободное место на диване, смотрю с остальными телевизор. Показывают сериал про докторов, которые работают в городской больнице, в отделении скорой помощи. Один эпизод – про героиновую наркоманку, которая поступила в больницу после передоза. Такая вся из себя красотка, на теле ни синячка, ни шрама, ни дорожки. Лохмотья живописные и чистенькие, как из прачечной. Когда к ней обращаются, она плачет, под глазами большие черные синяки, но плач звучит ужасно фальшиво, а синяки в каждом кадре другого размера. Она начала курить траву просто для забавы, потом влюбилась в мужика, который оказался продавцом героина и подсадил ее на свой товар. Она никак не может соскочить, и вот после очень большой дозы очнулась в отделении скорой помощи – единственная часть истории, которая похожа на правду. Признавать свою вину отказывается. Я ни в чем не виновата, кричит она снова и снова.
Когда героиня появляется на экране, кто-то свистит, кто-то хлопает и хохочет, кто-то ворчит, а один запустил в телевизор тапком, потом подобрал его и держит наготове до следующего появления героини в кадре. Будь у него пистолет, он, похоже, разнес бы телевизор.
Сюжет развивается, девушка разрешает свои проблемы с помощью молодого красивого доктора скорой помощи. Он отваживает ее от наркотиков, он приводит ее к Анонимным Алкоголикам. Он поселяет ее у себя в квартире, утешает, когда она плачет, приносит ей каждый вечер после работы особенные витаминные соки. У них начинается роман, и торжественный ужин при свечах завершается фантастическим романтическим сексом с миллионом оргазмов. К концу серии она уже в полном порядке. Полностью победила вредную привычку и начала новую жизнь. Заключительный кадр показывает, как они с доктором прогуливаются в обнимку, а рядом резвится щенок золотистого ретривера.
Мог бы, отловил бы авторов этой невыносимо фальшивой мерзотной сказочки, посадил под замок и пичкал наркотой, пока не станут кончеными хрониками. А потом устроил бы им передоз, отвез к ближайшей больнице скорой помощи и бросил в подворотне, где тусуются бездомные с ножами, наркоманы с ВИЧем, а водители «Скорой» перекуривают с копами. А через пару дней зашел бы проведать. И окажись они чудом живы, что маловероятно, спросил бы – как им такое кино и сильно ли оно похоже на ту бурду, которую они втюхивают людям. Спросил бы, как прошла детоксикация, как вообще самочувствие. Сколько собраний Анонимных Алкоголиков они посетили, какую работу нашли, переехали ли в новую квартиру. Как прошел ужин при свечах и что там насчет секса мечты. И как поживает золотистый ретривер. И выслушав их ответы – нет, нет, пожалуйста, не надо, ты чего, издеваешься, это ж полный пиздец, помоги, пожалуйста, помоги, я спросил бы их – ну, как вы теперь будете рассказывать о наркомании. Спросил бы – будете по-прежнему романтизировать и приукрашивать и рисовать портрет наркомана, который не имеет ничего общего с реальностью. Нет, нет, нет, пожалуйста, не надо, ты чего, издеваешься, это ж полный пиздец, помоги, пожалуйста, помоги, нет, нет, нет. И знаете, что я бы ответил им, этим ублюдкам. Я бы ответил «нет» и послал их.
После сериала встаю, иду к своей палате. Останавливаюсь у двери, прикладываю ухо. Слышу плач, тихие всхлипывания, бормотание, удары кулаком о подушку. Мне очень хочется лечь на свою кровать, забраться в тепло мягкой постели, но я не смею беспокоить Майлза, поэтому отхожу от двери и возвращаюсь в отделение.
Наливаю еще одну чашку кофе, снова сажусь на диван. На нижнем ярусе никого, кроме меня и еще двух чуваков. Я с ними не знаком и не заговариваю. Показывают ток-шоу – популярный актер рассказывает, как он обожает автогонки, а ведущий делает вид, что ему дико интересно. Он улыбается, кивает, когда положено, подает остроумные реплики, когда положено. Зрители завороженно слушают, и я тоже, хотя понимаю, что передача идиотская. Я наркоман и алкоголик. Мне нужно топливо. Беру, что дают.
Выпиваю еще одну чашку кофе, смотрю еще одно ток-шоу, то погружаюсь в дрему, то просыпаюсь, раскачиваюсь туда-сюда. Кофе больше не действует, а телевизор вполне сойдет за наркотик. Тупое мелькание перед глазами питает меня, наполняет меня, убивает меня, удерживает меня здесь и отвлекает. Двое чуваков рядом громко храпят. Один дергается во сне и стонет, вскрикивает, повторяет одно всем знакомое слово – хватит, хватит, хватит. Второй иногда всхрапнет и тут же затихнет. Его можно принять за мертвого, если б не храп. Я то погружаюсь в дрему, то просыпаюсь, раскачиваюсь туда-сюда.
Телевизор – наркотик.
Туда-сюда.
Туда.
Сюда.
Туда.
Сюда.
Человек, который продает средство для роста волос, орет – купите, купите, купите, волшебный эффект, волшебный эффект. Копна волос, о которой вы всегда мечтали. Я гарантирую вам ее, только купите, купите, купите, волшебный эффект, волшебный эффект. Он стоит на пляже. По обе стороны сногсшибательные блондинки. На нем дешевый костюм.
Выключаю телевизор. Иду к себе в палату, открываю дверь. Вхожу. Майлз не спит, сидит на кровати. Читает Библию. Он кивает мне, я киваю ему. Ныряю в постель, устраиваюсь под одеялами, сворачиваюсь калачиком.
Просыпаюсь. За окном серый рассвет, зажмуриваю глаза, чтобы не видеть его. Вспоминаю про родителей. Сразу охватывает злость.
Вылезаю из кровати, принимаю душ, бреюсь, чищу зубы. Зеркало, смотрю на себя, но в глаза взглянуть даже не пытаюсь. В другой раз.
Когда одеваюсь, входит Майлз с двумя чашками кофе. Одну протягивает мне.
Я принес тебе кофе.
Спасибо.
Ты ведь любишь черный, верно?
Да.
Делаю глоток, ставлю чашку на тумбочку у кровати, продолжаю одеваться. Майлз направляется к своей кровати, садится и говорит.
Спасибо тебе за то, что дал мне побыть одному вчера.
Не стоит.
Меня кое-что выбило из колеи.
Сейчас ты как?
Лучше.
Наступает молчание. С минуту Майлз смотрит в пол, потом снова на меня.
Это из-за стыда, Джеймс.
Что?
Я испытываю адский стыд, Джеймс. Вот почему я просидел вчера весь день здесь. Это стыд.
Если тебе нужно с кем-то поговорить, я всегда к твоим услугам.
Спасибо, Джеймс. Буду иметь в виду.
Я заканчиваю одеваться, сажусь на кровать. Майлз смотрит в пол.
Ты как, ничего?
Он кивает – да. Хотя выглядит совсем неважно.
Я встаю, подхожу к нему, сажусь рядом на кровать, обнимаю его. Он тоже обнимает меня, крепко, и даже через его руки я ощущаю стыд, который он испытывает. Я преступник, а он судья, я белый, а он черный, но в эту минуту все не имеет значения. Он человек, которому нужен друг, и я могу стать этим другом. Я жду, когда он отпустит меня, когда ему станет полегче, и через пару минут это происходит. Я встаю и говорю.
Когда захочется поговорить, можешь поговорить со мной. Я, конечно, не бог весть что, но лучше, чем ничего.
Он кивает.
Спасибо тебе, Джеймс.
Выхожу из палаты, иду по коридору, и в коридоре опять просыпается злость. Злюсь из-за того, что родители сюда приперлись. Злюсь из-за того, что не хочу их видеть. В отделении хочу налить кофе, но кофейная машина пуста. Смотрю расписание работ. В графе напротив моей фамилии значится «Семья».
Выхожу из отделения, иду в столовую. Беру поднос, тарелку, буррито. Сажусь за пустой стол. Я очень зол, хочу побыть один.
Ем быстро. У буррито начинка из яиц, бекона, сыра и мелких кусочков неизвестных овощей. Гадость на вкус, но все равно ем. Мог бы съесть и сотню таких. Злость превращается в ярость. Ярость нарастает.
Заканчиваю еду, выхожу, иду в актовый зал. Впереди люди, позади люди. Ни на кого не обращаю внимания. Просто иду себе. Джоанна ожидает меня у входа актовый зал. Просит зайти к ней. Мы идем по коридорам бок о бок.
Как себя чувствуешь сегодня, Джеймс?
Прекрасно.
Судя по виду, ты сердишься.
Так и есть.
Почему?
Потому.
Подходим к кабинету. Заходим. Она садится на стул, я на диван.
Твои родители приехали сегодня утром. Они остановились в Семейном центре. Через пять минут у нас назначена встреча.
Здорово.
Тебя это не радует, так ведь?
Не радует.
Почему?
Потому что я не хочу с ними общаться.
Почему?
Они меня бесят.
Почему?
Откуда я знаю, почему.
Должны же быть какие-то причины.
Какая разница, какие причины. Дерьмо собачье, а не причины. Достают они меня, переживают из-за меня, вся эта дребедень, короче, я сам виноват.
Как ты думаешь, твои чувства имеют под собой почву?
Не знаю.
Сколько времени ты живешь с этими чувствами?
Родители меня бесят все время, сколько себя помню.
Вдруг, пока они здесь, мы сможем разобраться, почему это происходит.
Сомневаюсь.
Главное, помни, что они здесь, потому что любят тебя и хотят помочь. Им это нелегко дается.
Уж постараюсь.
Обычно мы начинаем с совместной беседы с родственниками. Твои родители хотят понять твое состояние и помочь тебе, для этого они должны знать, какой образ жизни ты вел и как далеко зашел. Нам хотелось бы, чтоб ты сам все им рассказал.
О, какого черта, это будет кошмар.
Почему ты так думаешь?
Родители знают, что я пью и принимаю наркотики, но понятия не имеют, в каких количествах, и насчет проблем с законом тоже не слышали.
Как такое возможно?
Очень просто, я не рассказывал им.
Ты думаешь, их реакция будет острой?
Я смеюсь.
Острой – не то слово!
Ну, какой бы ни была их реакция, нам всем это нужно пережить. Для этого они здесь, для этого мы здесь.
Допустим.
Я думаю, нас ждут сюрпризы.
Вряд ли.
Она смотрит на часы.
Пора идти.
Она встает. Я тоже.
Пошли.
Она открывает дверь, мы выходим из кабинета, попадаем в коридоры. Они залиты светом, пробуждают во мне злость, и с каждым шагом она становится сильнее. Не хочу видеть родителей. Не хочу находиться с ними в одной комнате. Не хочу разговаривать с ними, не хочу слышать их. Это мое всегдашнее чувство. Они же мои родители. А я не хочу находиться с ними в одной комнате.
Руки начинают дрожать, сердце бухает, как канонада перед боем. Джоанна замечает это, берет меня за руку, пожимает ее и улыбается. Я пытаюсь выдавить ответную улыбку, но не могу. Ярость нарастает. Я не хочу видеть родителей.
Подходим к двери. Джоанна стучит, чей-то голос приглашает войти. Джоанна смотрит на меня, крепче сжимает мою руку. Я смотрю в пол. Дрожу, а что с моим сердцем, что с ним, что с ним. Поднимаю взгляд, делаю глубокий вдох, киваю. Джоанна открывает дверь. Заходим. Отец с Матерью сидят в дальнем конце комнаты за столом для заседаний. Я дрожу. Рядом с ними совершенно лысый мужчина лет за тридцать в черном свитере и черных джинсах. Что с моим сердцем, что с ним, что с ним. Когда мужчина оборачивается, чтобы посмотреть на меня, Мать подымается. На ней брюки хаки, белая блузка, синий блейзер, шелковый узорный платок, идеальная прическа, идеальный макияж, бриллианты на пальцах, бриллианты в ушах. Она спешит мне навстречу. Ярость нарастает. Свалить бы отсюда, куда глаза глядя. Вон отсюда. Вон. Вон.
Джеймс.
Она обнимает меня. Терпеть не могу, когда она прикасается ко мне, и стою, опустив руки по швам. Она разжимает объятие, но оставляет руки на моих плечах.
Выглядишь прекрасно.
Скорей бы она убрала свои руки с меня.
Прибавил в весе.
Скорей бы она отвела свои глаза от меня.
Лицо заживает, зубы на месте. Ты выглядишь гораздо лучше.
Она снова обнимает меня. Скорей бы уже отделаться от нее. Отвяжись ты уже, черт возьми.
О, Джеймс.
Она отпускает меня, продолжает смотреть. Подходит Отец. Брюки хаки, синяя рубашка-оксфордка, синий блейзер. Большущие дорогущие часы. Обнимает меня. Скорей бы уже отделаться от него.
Как ты, Джеймс?
Он отпускает меня.
Все хорошо.
Да, выглядишь гораздо лучше.
Еще бы.
Подходит Джоанна.
Мистер Фрей?
Она протягивает ему руку для пожатия. Он пожимает.
Зовите меня Боб.
Джоанна кивает.
Боб, меня зовут Джоанна. Я психолог, работаю с вашим сыном.
Отец улыбается.
Он выглядит лучше.
Джоанна улыбается.
Ему лучше, и он делает все, чтобы стало еще лучше.
Отец улыбается.
Он молодец, мы очень гордимся им.
Джоанна улыбается.
И правильно делаете.
Он кивает, смотрит на меня. Я отвожу взгляд. Джоанна говорит.
Давайте начнем. Садитесь.
Мать улыбается, кивает. Отец говорит – конечно. Они занимают прежние места за столом. Я сажусь на другой конец стола, как можно дальше от них. Руки дрожат, кладу их на колени, под стол. Смотрю прямо перед собой, сверлю взглядом белоснежную стену. Джоанна садится между нами, смотрит на мужчину в черном и кивает. Тот говорит.
Здравствуй, Джеймс. Меня зовут Даниэль, я наставник Семейного центра.
Сверлю взглядом стену.
Я буду работать с тобой и с твоими родителями, пока они здесь.
Мои руки дрожат.
Как ты, наверное, знаешь, работу по Семейной программе с лицами, которые страдают зависимостью от наркотических веществ, мы начинаем с того, что они рассказывают родственникам о своих привычках, о том, что они употребляли и как часто.
Что творится с моим сердцем, что с ним, что с ним. Как канонада перед боем.
Рассказывай как можно честнее, во времени ты не ограничен.
Я киваю.
Начинай, когда будешь готов.
Я смотрю перед собой поверх стола. Мать с Отцом ждут, когда я начну.
Прежде чем все рассказать, я хочу сказать, что совсем не хочу рассказывать, и лучше бы вы сюда не приезжали, и еще простите, что вам придется все это услышать.
Отец кивает, сжимает руку Матери.
Я пью столько времени, сколько себя помню. Ребенком я тайком допивал пиво из банок на футбольных матчах, куда мы ходили вместе, и остатки вина из бокалов после ваших вечеринок. Не знаю, зачем я это делал, просто делал, и все. Почему-то после этого чувствовал себя лучше, мне понравилось, и нравилось больше всего остального. Я делал это всякий раз, когда удавалось, то есть довольно часто. На футбол мы ходили часто, а вечеринки вы устраивали еще чаще. Впервые напился пьяным я в десять лет. Вы ушли то ли на симфонический концерт, то ли на благотворительный прием, а я выскользнул из дома так, что приходящая няня не заметила, и отправился на вечеринку, которую устроили старшеклассники. Они обрадовались мне и напоили допьяна. Я кое-как добрался до дома, нянька спала, и я тоже лег спать.
Мать вытирает глаза, Отец сжимает ее руку.
Лет в двенадцать я вовсю курил травку. Началось так же. Я пришел на вечеринку к старшим, и они угостили меня. Вообще-то сначала мне не понравилось, но приятно было, что они считают меня ровней. Стал курить как можно чаще, это несложно было, потому что вы вечно где-то пропадали. Приходящим нянькам насрать было, чем я занимаюсь, а иногда они сами составляли мне компанию.
Мать прижимает ладони к лицу, Отец смотрит в стол.
Впервые вырубился я в четырнадцать лет. Выпивал и курил в подвале какого-то дома, потом провал – и вот уже утро, я дома. В это время я обкуривался три-четыре раза в неделю, а в пятнадцать перешел на продукты покрепче, кокс, кислота, кристаллический мет. Они понравились мне больше травы, так что курить я перестал, единственный раз, когда мне удалось с чем-то завязать. В пятнадцать лет я стал продавать спиртное и наркотики. Я ходил в гетто, что возле порта, и встречался там с парнем по имени Фредди. Он был мелкий барыга, я давал ему пару баксов, он мне нужную дозу. Ребята узнали, что я могу достать отравы, стали просить купить и для них. Иногда я брал ваш автомобиль. Когда не было денег, Фредди отпускал в долг. Он хорошо относился ко мне, называл белый мальчик Джеймс, и все меня в округе знали. Ужасно глупо, к тому же опасно, но мне нравилось, что я известен, казалось – это круто, к тому же я мог получить все, что хотел и когда хотел. А хотел я постоянно.
Мать начинает плакать, Отец смотрит на меня.
В шестнадцать и в семнадцать лет продолжалось все то же самое. Покупал и продавал спиртное и наркотики, принимал все, что мог раздобыть. Я загружался перед школой, в школе, после школы. Каждый божий день. Пил и принимал, в основном мет, а иногда мет с алкоголем, и тогда случались передозы. Не знаю точно, сколько раз, потому что вырубался. Вы ни о чем не догадывались, потому что я обходился без докторов. Я понимаю, вы сейчас сидите и думаете – надо было интересоваться мной больше, надо было повлиять на меня. Но я успешно шифровался, а вы и так старались остановить меня. Если помните, вы сто раз грозились отправить меня в рехаб, а я отвечал – только попробуйте, я оттуда сбегу, и вы меня больше никогда не увидите. И в ту пору я бы сдержал слово. Так что ничего не смогли бы вы со мной поделать. Все равно я бы не завязал.
Я делаю глубокий вдох. Мать придвигается ближе к Отцу, плачет, утыкается лицом в ладони. Сквозь ее пальцы видно, как потекла косметика. Отец смотрит на меня, глаза у него на мокром месте. Никогда не видел его слез, даже намека на слезы.
Восемнадцать лет. Ебашил по нарастающей. Осенью прогуливал школу. Наплевал на приличия и, пока вас не было, устроил себе каникулы на месяц. Парил в небесах. Вырубался каждый вечер, постоянно нюхал кокаин, от этого из носа постоянно шла кровь, мочился в постель, потому что был так пьян, что не мог дойти до туалета. В девятнадцать лет сидел на системе, стало еще хуже. В двадцать я начал курить кокс. Все деньги, которые вы мне давали, тратил на его покупку, потом перепродавал. Мной заинтересовалось ФБР, меня допрашивали в местном отделении раз пять или шесть. Ни разу им не удалось меня подловить. Двадцать один год. Плохое время. Попробовал крэк и сразу подсел на него. Курил его так часто, как только мог, то есть почти каждый день. Крэк – плохой наркотик, он сильно подорвал мое здоровье. Начались кровотечения, кровь в моче, кровь в кале. Тошнило постоянно. Сам не понимаю, как мне удалось закончить учебу. Вы устроили меня на работу и послали в Европу. Я понимаю – вы считали, что работа пойдет мне на пользу и отъезд тоже пойдет на пользу, но вы ошиблись. Я почти не работал, все время был под кайфом и постоянно вляпывался в истории. Крэка там не достать, зато кокаина вдоволь, и я отводил душу.
Мать рыдает, закрыв лицо руками, по щекам Отца катятся слезы. Он их не вытирает, смотрит на меня.
Из Европы я приезжал повидаться со своей девушкой, она училась в колледже. Вы ее, конечно, помните, потому что она вам очень нравилась и вы надеялись, что у нас с ней что-то получится. Мы с ней поссорились в конце учебы, а потом помирились и общались в письмах и по телефону, и она решила переехать в Европу, чтобы жить со мной. Я дико обрадовался, к тому же считал, что ее приезд даст мне шанс исправиться. Я понимал, что должен буду взяться за ум, потому что она терпеть не может все это дерьмо, в котором я увяз. Я здорово на это надеялся, и радовался, и был в таком восторге, что нарушил свое правило – никогда не звонить ей пьяным. Три вечера подряд я названивал, не помню, что я нес, потому что каждый раз вырубался. Когда позвонил в четвертый раз, трубку взяла ее мать и сказала, чтобы больше я никогда не звонил, ее дочь не желает меня знать. Я психанул, ушел в запой, а потом решил приехать в Штаты, чтобы повидаться с ней, – она собиралась в школу на встречу с друзьями.
Больше я не в силах смотреть на родителей, поэтому смотрю в стол.
Я вылетел из Парижа в Чикаго, из Чикаго доехал до Огайо. Выждал время, чтобы полностью протрезветь, а когда протрезвел, пошел к ней, но она не стала со мной говорить. Сказала, чтобы я убирался, она не хочет ни видеть меня, ни разговаривать со мной, вообще знать меня не желает. Я был в отчаянии. Пошел, напился, обкурился до чертиков, а когда нагрузился так, что полегчало, решил отыскать ее и поговорить еще раз. Я подъехал к бару, где обычно мы зависали, я знал, что она должна быть там. Подъезжая, увидел, что она перед баром разговаривает с друзьями. Я смотрел на нее, на дорогу не обращал внимания, съехал на обочину и задел полицейского, который стоял там. Я не сильно ударил его, потому что ехал со скоростью всего пять миль в час, но задел его. Она видела, как это произошло, и другие тоже видели. Коп вызвал подкрепление, а я сидел в машине, смотрел на нее и ждал. Подкрепление приехало, они подошли ко мне и попросили выйти, я сказал – я вам нужен, так сами потрудитесь, вонючие свиньи. Они открыли дверь, я упирался, тогда они отмутузили меня дубинками и вытащили из машины. Они с криками волокли меня, избивая на ходу, а я призывал толпу напасть на копов и освободить меня, но напрасно. Она стояла и плакала, и я, уже в полицейской машине, спросил, придет ли она поручиться за меня, и она кивнула и сказала – да, приду. Ночь я провел в тюрьме, а наутро мне предъявили обвинение по статьям «Нападение с применением смертоносного оружия», «Нападение на представителя закона», «Управление автомобилем под воздействием алкоголя или наркотических средств», «Нарушение общественного порядка», «Сопротивление при аресте», «Управление автомобилем без прав», «Подстрекательство к насилию», «Хранение наркотических веществ с целью распространения», «Нанесение увечья». Из всей этой чуши правда только одно – у меня нашли наркоту, но я затарился для себя, а не на продажу. Моя подруга не появилась, так что залог заплатил с кредитки один приятель, и я улетел обратно в Париж. Насколько я знаю, меня до сих пор разыскивают по этим обвинениям.
Поднимаю глаза. Родители молчат и плачут, оба. Слезы текут по щекам, Мать тяжело дышит. Не выдерживает и начинает рыдать навзрыд. Я жду, когда она успокоится, но нет. Она все рыдает, рыдает, рыдает. Отец кладет руки ей на плечи, что-то шепчет на ухо, но это не помогает. Мать рыдает. Я смотрю на нее, жду, когда она успокоится. Это тянется целую вечность. Целую вечность, черт возьми. Когда она затихает, я продолжаю.
Я прилетел в Париж и обдолбался, понимал, что убиваю себя, но мне было плевать. Оттуда полетел в Лондон, там продолжил. Когда вернулся в Штаты и приехал в Северную Каролину, снова стал курить крэк. Крэк – очень вредный, опасный наркотик, а я курил столько, сколько мог достать. Заодно выпивал, сколько влезало, а влезает в меня не так уж мало. Плохо помню, что происходило в то время, потому что вечно ходил обдолбанный, но знаю, что меня не раз арестовывали. Один раз, помнится, в Мичигане, хотя понятия не имею, что меня занесло в Мичиган. Меня отпустили под залог и, думаю, до сих пор разыскивают. Последние шесть месяцев просто пил, курил и ждал, когда наступит смерть.
Мать рыдает, Отец приобнимает ее. На этот раз я не жду, когда она успокоится, а продолжаю говорить, мне хочется поскорее закончить.
Я ни в чем вас не обвиняю и не думаю, что вы могли бы остановить меня. Я такой, какой есть, алкоголик, наркоман и преступник, и таким я стал по своей вине. Вы делали для меня все, что могли, вы любили меня, как могли, о большем нельзя и мечтать. Мне нечем оправдаться за то, как я жил, кем стал, как мучил вас все эти годы.
Мать снова принимается рыдать. Еще громче, еще надрывней. Косметика размазалась по лицу, рукам и одежде, дыхание прерывистое. Она прильнула к Отцу, который держит ее и смотрит в пол. Слезы бегут по его щекам, капают на брюки, его губы дрожат. Он трясет головой, пытается взглянуть на меня, но не решается.
Я сижу, смотрю на них. Ярость тут как тут, быстро достигает своего пика. Не понимаю, почему, но каждый раз, когда я оказываюсь рядом с ними, повторяется одно и то же. Они хотят любить меня, а я мучаю их. Они хотят поступать прилично и разумно, а я против приличий и разумности. Они хотят помочь мне, а я злюсь на них за это. Не понимаю, почему. Они же мои родители. Они делают все, что в их силах.
Вечно со мной повторяется одна и та же история. Дай мне что-нибудь хорошее, и я все испорчу. Полюби меня, и я тебя втопчу в грязь. Мне всегда казалось, что я не заслуживаю ничего хорошего в жизни. Даже того убогого пространства, которое занимаю. Это чувство сидит во мне, что бы я ни делал, чем бы ни занимался, оно отравляло все мои отношения с людьми. Не понимаю. Не понимаю, откуда оно взялось, я ненавижу это чувство, как ненавижу и себя, и по какой-то причине это чувство всегда обостряется в присутствии родителей. От их стремления любить меня мне всегда делается совсем хреново.
Джоанна встает, подходит ко мне, наклоняется к моему уху.
Думаю, нам лучше уйти.
Я смотрю на родителей. Они все еще плачут. Слезы катятся по отцовскому лицу, Мать задыхается. Мне хочется как-то помочь им, но что я могу. Я слишком ненавижу себя, это парализует меня.
Я встаю, выхожу из комнаты. Джоанна придерживает дверь и закрывает ее за мной. Как только дверь закрывается и я больше не могу видеть, слышать, терзать и мучить своих родителей, мне становится легче.
Мы идем по коридорам. Джоанна молчит, я тоже. Мы просто шагаем по коридорам. Пока идем до кабинета Джоанны, я представляю, как родители сидят там, плачут из-за меня. Подходим, Джоанна открывает дверь. Заходим, я сажусь на диван, она напротив.
Как ты себя чувствуешь?
Лучше убиться.
В смысле?
По-моему, у этого слова только одно значение.
Ты хочешь убить себя?
Вообще нет, но в данный момент не вижу другого выхода.
Почему?
Они же мои родители. А когда я с ними, то чувствую такую злость, что с трудом контролирую себя. Из-за этой злости еще больше ненавижу себя, так что нет сил терпеть, поэтому самоубийство кажется единственным выходом.
Может, к тебе приставить наблюдателя?
Нет, я слабак, так что на самом деле ничего с собой не сделаю.
Ты считаешь, что самоубийство – проявление мужества?
Нет, я считаю его трусостью, да и наркомания, по-моему, тоже вид трусости. Но думаю, что все же и для того, и для другого требуется определенная сила.
Сила?
Нужен какой-то внутренний ресурс, чтобы испытывать сильную ненависть, в том числе к себе. Самоубийство и наркомания не для слабаков.
По-моему, это смешно.
Смешно не значит ошибочно.
Почему родители вызывают у тебя такую злость?
Не знаю.
Ты подвергался в детстве насилию?
Не было такого.
Может, забыл?
Исключено.
Почему?
Я рос в атмосфере заботы. Родители всегда любили меня, старались защитить, из кожи вон лезли ради меня. Да, они зверски бесят меня, но насилие с их стороны исключено.
Может, было что-то странное?
Нет.
Ты уверен?
Да.
Я достаю из кармана сигареты, закуриваю, делаю затяжку. Никотин успокаивает меня, сердце перестает колотиться.
Что мне делать дальше?
Пойдешь на обед, потом вернешься в Семейный центр. Там состоится групповая сессия с участием других семей. Потом ужин. После ужина опять беседа с твоими родителями.
Зачем?
Обсудим прошедший день.
Представляю себе.
Сегодня ты вел себя молодцом. Говорил честно и прямо, хоть это и нелегко. У твоих родителей совершенно нормальная, естественная реакция, и, если бы они отреагировали иначе, я бы сильно сомневалась в успехе нашей совместной работы. Теперь, когда они знают все, что должны знать, мы можем заняться твоими прошлыми травмами и планами на будущее.
Во сколько мы закончим вечером?
Зависит от того, как все пойдет.
Хотя бы примерно?
Ты хочешь встретиться с Лилли?
Что?
Ты прекрасно слышал, что я сказала.
Да. Я хочу встретиться с Лилли.
Не надо.
Почему?
Если об этом узнают, у тебя будут серьезные неприятности.
Похоже, об этом уже узнали.
Пока это только слух. Тебя не поймали с поличным.
Кто пустил этот слух?
Не могу с тобой поделиться.
Вы хотите, чтобы я с вами тут всем делился, а сами делиться со мной отказываетесь. Ерунда какая-то, черт возьми, Джоанна.
Ты так считаешь?
Да, я так считаю. Если я с вами откровенен, тогда и вы со мной будьте откровенны. Так дела делаются, черт возьми. Если не так, пошли вы к черту.
Я не враг тебе.
Враг, если не хотите говорить откровенно.
Лилли без ума от тебя. Одна из наставниц ее отделения слышала, как она рассказывает подружке про тебя. И причем не один раз. Похоже, ты – единственная тема, которая ее занимает, больше Лилли ни о чем не хочет говорить.
Я улыбаюсь.
Почему ты улыбаешься?
Приятно, что она без ума от меня.
В этом нет ничего хорошего, Джеймс.
Почему?
Тебе нужно сосредоточиться на той цели, ради которой ты здесь, это избавление от зависимости и возвращение к нормальной жизни. Лилли отвлекает тебя от этой цели, уводит в сторону. Вы оба сейчас находитесь в очень неустойчивом, уязвимом состоянии, и если вдруг что-то пойдет не так в ваших отношениях, ты можешь сорваться.
Я справлюсь.
Самоуверенность многих погубила.
С ней я чувствую себя прекрасно, никогда так себя не чувствовал.
Я не сомневаюсь, но это не повод отступать от наших правил.
Я не расстанусь с ней.
Это в ваших с ней общих интересах.
Хорошо, я обдумаю ваш совет.
Лучше прими его.
Я встаю.
Мне пора на обед.
Она кивает.
Увидимся позже.
Я поворачиваюсь, открываю дверь, выхожу из кабинета Джоанны. Иду в столовую. Проходя по стеклянному коридору, который отделяет женскую половину от мужской, вижу Лилли, она сидит за столом. Она смотрит на меня, я на нее, не подаю никаких признаков, что заметил ее. Мне трудно смотреть на нее, трудно, потому что больше она не посторонняя девушка, которая улыбается мне. Теперь она много значит для меня, больше, чем я мог предположить. Она заняла место, которое я отводил той, с глазами, как арктический лед, место человека, который любит меня. Любит просто, искренно, таким, какой я есть. Мне трудно смотреть на нее, потому что я понимаю – она начинает любить меня, я начинаю любить ее. Мне не важно, как она жила раньше и с кем, и какие демоны прячутся у нее в шкафу. Мне важно только то, что я чувствую благодаря ей, а я чувствую силу, защищенность, покой, тепло, искренность. Мне трудно смотреть на нее, потому что меня заставляют порвать с ней. Мне трудно смотреть на нее, но я все равно смотрю.
Беру поднос, встаю в очередь, беру запеканку из тунца с лапшой. Прошу десять тарелок, но раздатчица с сеткой для волос на голове говорит – нет. Я подхожу к салат-бару и беру пять тарелок. На одну кладу латук, на другую деревенский сыр, на третью свеклу, на четвертую сухарики, на пятую крутоны. На подносе не остается свободного места, поэтому беру еще один. На него ставлю четыре тарелки с пудингом, персиками, яблочным пирогом и морковным тортом. Медленно шествую через зал с двумя подносами. Они тяжелые, вслед мне кто-то хихикает, кто-то смеется. Чей-то незнакомый голос произносит – подумать только, пищевая зависимость, тяжелый случай. Я посмеиваюсь про себя. Отыскиваю своих приятелей – Эда, Теда, Леонарда, Матти и Майлза, сажусь к ним. Леонард говорит.
Где ты пропадал весь день?
Родители приехали.
Говорит Майлз.
Они участвуют в Семейной программе?
Да.
Как все прошло?
Дерьмово.
Почему?
Меня заставили признаваться в своих грехах, и я все утро рассказывал, какое я дерьмо.
Эд говорит.
А что, разве они не знали?
Многого не знали.
Например?
Не знали про крэк, про судимости в трех штатах.
Говорит Леонард.
По каким статьям?
Много там всякого дерьма.
Говорит Майлз.
Выписаны ордера на твой арест, Джеймс?
Да.
Где именно?
В Мичигане, в Огайо и в Северной Каролине.
Ты делаешь что-нибудь, чтобы разобраться с этим?
Тут, в клинике, пытаются что-то сделать.
Говорит Тед.
Когда я сказал мамуле, что курю крэк, она попросила ее угостить.
Все смеются.
Правда. Она сказала, что столько слышала про эту штуку – крэк, крэк, охота самой попробовать. Я притаранил пятьдесят пакетов, и мы курили с ней, пока у нее глаза на макушку не повылазили. С тех пор больше не просит.
Все снова смеются, хотя образ матушки Теда с глазами на макушке не кажется мне смешным. Смеемся до конца обеда, смеемся в основном над Матти, который по-прежнему борется со своей привычкой к сквернословию. Каждое третье или четвертое слово, которое он произносит, это «бля» или «на хер», а за ними следует серия проклятий, адресованных уже самому себе. В конце концов он вообще умолкает. К концу обеда приятели опустошили все мои тарелки, не осталось ни крошки. Когда мы встаем из-за стола, я ищу взглядом по ту сторону стеклянной перегородки Лилли. Она улыбается мне, ее улыбка пронзает меня. Я не могу, не хочу, не собираюсь предавать эту улыбку. Я не предам ее. Ни за что, черт вас подери.
Мы выходим из столовой. Мои приятели отправляются на лекцию, я иду по коридорам в незнакомую зону, следуя указателям с надписью «Семейный центр». Подхожу к двери. На табличке написано «Добро пожаловать домой». Открываю дверь, вхожу.
Белые стены еще белее, лампочки еще ярче, картинки веселее. На них изображены семейные сценки на пикнике, среди полей с цветами, под ясным небом. Семьи на картинках улыбаются, жуют багеты, режут фрукты и играют в нарды. Такими картинками увешаны все стены. Я прохожу вдоль них и оказываюсь в большой открытой комнате. Одна стена целиком стеклянная, выходит на озеро. В комнате повсюду стулья, много стульев. Большие плюшевые стулья с веселенькой обивкой, очень удобные с виду. На них сидят люди, они разговаривают, курят, пьют кофе и ждут. Ждут, когда придут их родственники и излечатся.
Нетрудно отличить тех, кто здесь по Семейной программе, от тех, кто здесь по Индивидуальной программе. У первых одежда свежее, прически лучше, хорошие часы, блестящие украшения. Кожа у них розовее, тела ловчее, на костях есть мясо. В глазах видна жизнь. У вторых руки трясутся, мешки под глазами. Мы курим или пьем кофе. Двигаемся медленно, а в глазах у нас не видно ничего, кроме страха.
Я обвожу взглядом комнату. Мои родители сидят в углу, тихо переговариваются друг с другом. Замечают меня. Я приподнимаю палец, Отец кивает мне, и я иду к кофемашине. Наливаю чашку черного дымящегося кофе, иду к ним.
Они встают мне навстречу. Они улыбаются, привели себя в порядок и переоделись, но в такую же одежду. Мать заново уложила волосы, сделала макияж, опять выглядит идеально. На Отце отглаженный блейзер. Я чувствую напряженность за их улыбками, и с каждым шагом мне сильнее хочется развернуться и удрать. Отец говорит.
Как ты, Джеймс?
Получше. А вы?
Тоже получше.
Молчание, улыбки. Сколько можно улыбаться, хватит уже. Мать говорит.
Хочешь сесть с нами?
Я киваю, мы садимся. Они рядом, я напротив. Между нами стол, на нем пепельница. Достаю из кармана пачку сигарет, вынимаю одну. Мать хмурится.
Не мог ты бы не курить, будь так добр.
Почему?
Я только что переоделась, не хочу, чтобы одежда пропахла.
Хорошо.
Прячу сигареты в карман. Мать смотрит на меня.
А ты не хочешь бросить эти глупости, пока здесь?
Нет.
Почему?
Потому что не хочу бросать эти глупости.
Почему?
Я предлагаю тебе выбор, мама. Либо я курю крэк, либо я курю сигареты. Выбирай, что ты предпочитаешь.
Она съеживается, видно, что обиделась. Я знал, что так и будет, и все равно не сдержался. Говорит Отец.
Не думаю, что тебе следует так разговаривать с Матерью, Джеймс. Конечно, мы предпочитаем, чтобы ты курил сигареты, а не крэк.
Тогда не приставайте ко мне больше с этим, черт возьми.
Не разговаривай с нами подобным образом.
Я беру чашку с кофе, от него идет пар, и выпиваю залпом. Кофе обжигает рот, но я не обращаю внимания. Ставлю чашку и говорю.
Пойду налью еще кофе. Вам принести?
Отец смотрит на Мать. Мать отрицательно качает головой, по выражению лица ясно, что она все еще обижается. Сейчас жалею, что я вспылил. Отец снова смотрит на меня.
Нет, спасибо.
Я встаю, подхожу к кофемашине. Пока наливаю чашку, высокий и худой мужчина, одетый, как мой Отец, звонит в звонок, который висит у двери. Все поворачиваются к нему. Он говорит, что сейчас мы разобьемся на группы, и группы разойдутся по разным комнатам. Он указывает в сторону дверей на противоположной стене и начинает зачитывать фамилии. Услышав свою фамилию, человек встает и выходит в дверь. Пока я иду в угол, где сидят мои родители, человек называет мою фамилию. Я подхожу к родителям, говорю.
Меня вызвали, нужно идти.
Отец кивает, у Матери такой вид, словно вот-вот заплачет. Я разворачиваюсь и собираюсь уйти. Отец окликает.
Джеймс.
Я оглядываюсь.
Прости нас, нам не стоило делать тебе замечаний по поводу курения.
Мать кивает. По ее щекам начинают течь слезы.
Мы понимаем, у тебя сейчас и без того много проблем, и ты делаешь все, чтобы их решить. Так что если хочешь, кури при нас.
Я улыбаюсь. Этот простой поступок трогает меня до глубины сердца.
Спасибо.
Отец улыбается, и Мать тоже – сквозь слезы. От ее улыбки у меня на душе становится чуть легче.
Еще увидимся.
Я отворачиваюсь, иду к своей двери. Прохожу, за ней еще одна большая комната. Белая, светлая, радостная. На стенах воодушевляющие картинки с надписями типа: «Живи сегодняшним днем!», «Доверься Богу!», «Просто делай!», «Не усложняй!». На полу лежит толстый ковер, складные стулья расставлены в круг. На стульях сидят люди. Я сажусь, вскоре справа от меня садится беременная женщина, а слева седой мужчина. Комната заполняется людьми, на каждого пациента приходятся примерно три родственника. Все нервничают.
Входит женщина лет тридцати, на ней брюки хаки, сандалии, шерстяные носки, свитер в резинку. Волосы каштановые, глаза зеленые, ее можно принять за фотомодель. Садится в круг на единственный свободный стул и улыбается.
Добро пожаловать на вашу первую групповую сессию по Семейной программе.
Все кивают, некоторые говорят спасибо.
На первой сессии мы познакомимся и зададим друг другу вопросы. Родственники часто спрашивают нас, наркоманов, почему мы так поступаем, почему принимаем наркотики и что при этом чувствуем, а мы спрашиваем у родственников, как они воспринимают наше поведение, что они чувствуют, когда общаются с нами, почему они общаются с нами так, а не иначе, и почему общаются вообще. Смело задавайте любые вопросы, если только они не задевают чьих-то чувств. Сначала представлюсь я.
Она улыбается.
Меня зовут Софи, я алкоголичка и наркозависимая.
Все говорят – привет, Софи. Человек, который сидит рядом с ней, улыбается и говорит.
Меня зовут Тони, я муж алкоголички.
Все говорят – привет, Тони, и знакомство продолжается по кругу. Мать героинового наркомана, метамфетаминовый наркоман, жена крэкового наркомана, алкоголик, сын и дочь алкоголички, викодиновый наркоман, беременная жена крэкового наркомана. Полный набор родственных связей и видов зависимости. После знакомства нам предлагают перейти к вопросам. Поначалу все молчат. Смотрят в пол, разглядывают собственные ногти, поглядывают друг на друга, растерянно вздыхают. На лицах смущенные улыбки. Через несколько минут человек, который представился как метамфетаминовый наркоман, спрашивает, сколько времени будет продолжаться сессия. Все смеются. Женщина, которая представилась как жена алкоголика, задает тот же самый вопрос. Сколько времени это будет продолжаться? Софи улыбается и спрашивает – о чем она, об алкоголизме? Женщина кивает и говорит – да. Софи отвечает, что зависимость продолжается до конца жизни. До конца жизни.
После этого вопросы сыплются один за другим. Каково это – впасть в такую ужасную зависимость. Что чувствуешь при этом. Ведь человек понимает, что он причиняет вред себе и другим, и все же не может остановиться. Что чувствуешь, когда хочется принять дозу. Потребность, голод, всеобъемлющий голод, неуправляемый голод, невообразимый голод. Что чувствуешь, когда примешь дозу. После кошмара наступает облегчение, а потом голод усиливается. Почему не удается завязать. Не знаю. Почему не удается завязать. Не знаю. Почему не удается завязать. Не знаю. Встречаются вопросы попроще, технического характера. Что такое крэк, как его употребляют. Крэк – это смесь солей кокаина с пищевой содой, выглядит как белые неровные кристаллы. Мы его курим через пайп – изогнутую металлическую трубку. Где вы берете героин и сколько он стоит. Героин покупают у барыги, стоит очень дорого. Что такое мет и как его делают. Мет – это стимулятор, его делают из противоастматического лекарства под названием эфедрин, из формальдегида и пищевой соды, иногда с добавкой удобрения. Как он действует. Похищает душу, убивает желание и потребность есть, спать, соблюдать правила гигиены. Наркоманы и алкоголики отвечают на вопросы честно, прямо. Никаких вопросов мы не задаем. Нам заранее известно, что ответят наши родственники. Мы отравили им жизнь. Мы испортили им каждый божий день. Мы их самый страшный ночной кошмар. Они не знают, что с нами поделать. Мы камнем висим у них на шее. Они не знают, что с нами поделать. Мы камнем висим у них на шее. Они не знают, что с нами поделать.
В конце сессии Софи просит всех взяться за руки. Между нами уже наметилось взаимное доверие, и мы охотно откликаемся. Вместе с ней мы декламируем стихотворение, которое она называет Молитвой о ясности ума. Она произносит строку – мы повторяем. Боже, пошли мне ясность ума, чтобы принимать то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость, чтобы отличать одно от другого. Она улыбается, мы улыбаемся, все улыбаются. После того как заканчиваем произносить молитву, она просит нас повторить ее. Боже, пошли мне ясность ума, чтобы принимать то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость, чтобы отличать одно от другого. Она просит нас повторять снова и снова.
Софи встает, все тоже. Она говорит нам, что сессия завершилась, и все начинают обниматься. Объятия укрепляют связь, врачуют раны, выражают признательность, заражают пониманием и передают сочувствие. После объятий Софи открывает дверь, и мы расходимся, улыбаясь и смеясь, самочувствие у всех стало гораздо лучше, чем до сессии. Все говорят – до свидания, спасибо, до свидания, спасибо.
Пациенты направляются через коридоры в столовую. Мы идем все вместе, компанией. Мужчины разговаривают с мужчинами, женщины с женщинами. Это светская болтовня, обычный разговор вроде – откуда вы, сколько времени здесь, какой наркотик принимаете. Разговор продолжается и в стеклянном коридоре, и в очереди за едой, и когда мы выбираем еду.
Прерывается разговор, только когда наступает момент решать, куда сесть. Почти все выискивают пустой стол. Остальные пациенты пока не пришли, так что выбрать есть из чего. Я выбираю стол так, чтоб даже соседние пустовали, и сажусь. Ем медленно. Жую тщательно. Не обращаю внимания на то, что во рту. После нескольких проглоченных кусков это не имеет значения. Все едино на вкус. Вилкой в тарелку, вилкой в рот. Прожевать. Все едино на вкус. Моя тарелка пуста. Подтягиваются остальные пациенты, столовая наполняется людьми. Я поднимаюсь с подносом, ставлю его на конвейер, выхожу. Возвращаюсь в отделение, захожу в палату. Нужно привести себя в порядок перед встречей с родителями. Подготовиться. Максимально успокоиться, чтобы потом контролировать Ярость, которая появится, я знаю. Меня успокаивает Лилли, но сейчас ее нет со мной. Еще меня успокаивает свежий воздух. Маленькая книжечка про Дао тоже успокаивает, и она лежит рядом с кроватью. Сажусь на кровать, открываю книжку наугад, начинаю читать.
Глава пятнадцать. Будь осторожен, словно идешь по тонкому льду, будь бдителен, как воин на вражеской земле. Будь почтителен, словно гость, и текуч, как поток. Сохраняй форму, как деревянный брус, и будь податлив, как стекло. Ничего не ищи и не требуй. Будь терпелив, дождись, пока вся грязь осядет и вода станет прозрачной. Будь терпелив и жди. Вся грязь осядет. Твоя вода станет прозрачной.
Глава шестьдесят три. Действуй через недеяние, работай без усилия, думай о великом как о малом. Многое состоит из немногого. Преодоление трудного начинается с легкого, великое образуется из малого. Не хватай, и обретешь, относись к любому делу, как к трудному, и не испытаешь трудности. Не цени удобство, и будешь всегда пребывать в удобстве.
Глава семьдесят девять. Поражение – это новая возможность. Если порицаешь других, конца порицанию не будет. Исполняй свои обязательства, исправляй свои ошибки. Делай, что должно, и двигайся вперед. Не требуй ничего, отдавай все. Не требуй ничего, отдавай все.
Глава двадцать четыре. Кто поднялся на цыпочки, тот не устоит. Кто быстро бежит, тот не продвинется далеко. Кто сам выставляет себя на свет, тот не блестит. Кто себя хвалит, тот не добудет славы. Кто себя ищет, тот себя потеряет. Не пытайся управлять другими. Просто будь и позволь им быть.
Чтение этой книги успокаивает меня само собой, заполняет пробелы в понимании, как жить дальше. Управляй, отказавшись от давления, решай проблемы, не считая их проблемами. Относись к ним, к себе и к миру с терпением, простотой, состраданием. Позволь всему быть, позволь себе быть, позволь миру быть и все принимай как есть. Вот и все. Не больше. Не меньше. Не больше. Не меньше.
Я готов. Я спокоен. Я все приму, что мне предстоит. Выхожу из палаты. Родители ждут меня в другом конце клиники.
Иду через коридоры. Взгляд направлен вперед, но ни на чем не задерживается. Каждый шаг – только шаг и ничего больше, способ попасть из одного места в другое. Из-за поворотов до меня доносятся звуки. Каждый звук только звук и ничего больше. Книжка про Дао сказала мне то, в чем я нуждался, и я услышал ее. Книжка про Дао научила меня тому, в чем я нуждался, и я усвоил урок. Каждый звук только звук.
Останавливаюсь перед дверью в кабинет Джоанны. Стучусь. Ее голос отвечает – войдите, и я вхожу. Мать с Отцом сидят на диване. Они опять переоделись, держатся за руки. Глаза у них сухие, губы крепко сжаты. Они встают, чтобы поприветствовать меня, но не пытаются обнять. Я говорю им – привет, и тоже не лезу с объятиями. Сажусь на стул напротив них, а они садятся обратно на диван. Джоанна за своим столом. Она курит.
Твои родители сказали мне, что они больше не возражают против твоего курения, и распространили свою новую политику и на меня. Надеюсь, ты тоже не возражаешь.
Я достаю сигарету.
Вовсе нет.
Подвигаю к себе пепельницу.
Мы обсуждали утреннюю встречу. У твоих родителей она вызвала много чувств и мыслей, но давай начнем с тебя.
Я зажигаю сигарету, делаю глубокую затяжку. Выдыхаю.
Ужасное утро.
Джоанна смотрит на меня.
Выразись, пожалуйста, чуть яснее и обращайся к родителям, а не ко мне.
Я смотрю на родителей. Они держатся за руки, смотрят на меня.
Мне очень жаль, что утром пришлось все это рассказать. Представляю, как тяжело вам было все это услышать. Когда рассказывал, я испытывал несколько чувств. Во-первых, злость. Сильную злость. Во-вторых, ужас. Пока смотрел на себя со стороны, я осознал, какое же я чудовище. Я все же постарался скрыть от вас, что только возможно, и я даже не представляю, что было бы с вами, узнай вы все подробности моей чудовищной жизни.
Я снова делаю затяжку. Мать чуть теснее прижимается к Отцу, Отец обнимает ее чуть крепче.
Я испытываю стыд, жуткий стыд. Мне стыдно за себя, за свои поступки, за жизнь, которой я жил, за преступления, которые совершил. Мне стыдно, потому что вы хорошие люди и заслуживаете другого сына, не такого, как я. Мне стыдно, потому что я причиняю вам страдания сейчас и причинял раньше, я все это прекрасно осознаю.
Делаю еще одну затяжку.
Я раскаиваюсь, причины у моего раскаяния те же самые, что у стыда. Я испортил жизнь вам и себе, поэтому больше так продолжаться не может. Я не знаю, что будет дальше, смогу ли я измениться, но точно знаю, что жил неправильно. И знаю, что это целиком и полностью моя вина.
Делаю еще одну затяжку.
Мне дико захотелось напиться. Мне дико захотелось двинуться. Дико захотелось и того и другого в диких количествах. Но это случается часто, так что наш разговор тут ни при чем. Что еще я чувствую. Чувствую себя униженным, подлым, растерянным, жалким, изъеденным угрызениями совести.
Я умолкаю, делаю последнюю затяжку и кладу сигарету в пепельницу. Отец обнимает Мать, она плачет. Слезы текут у нее по щекам, но дыхание ровное, без всхлипываний. Джоанна смотрит на родителей.
Вы готовы?
Говорит Отец.
Да.
Расскажите Джеймсу, что вы чувствуете.
Отец глубоко вздыхает, смотрит на меня. Я бы предпочел, чтобы он смотрел в сторону. Он говорит.
Мы выбиты из колеи. Это ясно. Сначала я удивился, а за удивлением последовал шок. Я знаю, что очень много работаю, всегда много работал, дома редко бывал, но мне и в голову не приходило, чем ты занимаешься и как далеко зашел. Я считал, что крэк – это такой жуткий трущобный наркотик, который употребляют бездомные, шизофреники или бандиты. Я понятия не имел, что ты тоже его куришь, это пугает меня и огорчает. Что касается алкоголя. Я знал, что у тебя проблемы с выпивкой, и давно, но если ты начал страдать похмельем и терять сознание так давно, как говоришь, то значит, ты алкоголик с серьезным стажем. Меня поразило, что ты торговал наркотиками. Поразило, испугало, огорчило. Если б ты попался, то сел бы в тюрьму, и надолго, но это еще не худший вариант, если б ты попался. А ведь тебя могли и убить, так что, считай, ты чудом остался жив. Что касается твоих проблем с законом на сегодня, то тут я не знаю, что сказать. Конечно, мы с мамой не хотим, чтобы ты попал в тюрьму, и сделаем все, что в наших силах, чтобы этого не допустить. Кроме удивления и шока я чувствую разочарование, горечь, жалость. Я разочарован в тебе, в себе, в твоей матери. Значит, мы неправильно жили, если дела приняли такой оборот. Мне горько, потому что нелегко узнавать такую правду, какую узнали мы. Мне горько потому, что у меня такое чувство, словно меня обманывали и дурачили много лет, и потому, что обманывал и дурачил нас не кто-либо, а ты. Мне очень жаль тебя. Мне жаль тебя, потому что тебе пришлось пройти через ужасные вещи, а ни один родитель, особенно мать, не пожелает такого своему ребенку.
Он опускает глаза, глубоко вздыхает, потом снова смотрит на меня.
С одной стороны, мне хотелось намылить тебе шею сегодня утром и до сих пор хочется. С другой стороны, мне хочется обнять тебя и сказать, что все будет хорошо, но я сдерживаюсь. С третьей стороны, мне хочется махнуть на все рукой и сказать тебе – делай что хочешь.
Отец смотрит на меня, я отвожу взгляд в сторону. Он поворачивается к Матери, которая смотрит в пол. Он притягивает ее к себе, крепко обнимает, приободряя. Я говорю.
Папа.
Он смотрит на меня.
Прости меня.
И ты меня, Джеймс. Ты меня тоже прости.
Он смотрит снова на Мать. Она перестала плакать, на лице дорожки от слез.
Линн.
Мать кивает.
Ты в порядке?
Мать снова кивает, хотя вид у нее такой, что вот-вот опять расплачется.
Твоя очередь.
Она немного отодвигается от Отца, выпрямляется. Вытирает лицо платком и делает глубокий вдох.
Если не считать тех дней, когда умерли мои родители, сестра и брат, это утро было самым ужасным в моей жизни. Это было невыносимо. Невыносимо слушать весь этот ужас. Невыносимо от мысли, что ты все это совершил. Невыносимо узнать, сколько было лжи и обмана. Невыносимо узнать про наркотики, про неприятности с полицией, про алкоголь. Невыносимо от мысли, что все это продолжалось столько времени. Все, что я узнала этим утром, невыносимо.
Она снова начинает плакать. Снова вытирает лицо платком, снова делает глубокий вдох и продолжает.
Не понимаю, почему ты так поступаешь. Не понимаю, что тебя заставляет совершать все эти ужасные вещи. Начинаю думать, что я чудовищно плохая мать и чудовищно плохой человек и что я все в жизни делала неправильно. Из-за этого я ненавижу себя.
Ее дыхание становится более прерывистым. Она снова вытирает лицо.
Я потрясена, раздавлена, напугана. У меня такое чувство, словно я не знаю, кто ты такой, и это страшно. Ты ведь мой сын. Мой сын.
Она прерывисто дышит, плачет, вытирает лицо.
Я злюсь на тебя из-за всего этого. Это такая грязь. Крэк, отключки, продажа наркотиков, стычки с полицией, тюрьма. Ужасная грязь. Это самый жуткий кошмар, такое и во сне не приснится.
Плач переходит в рыдания. Слезы катятся ручьем.
Я чувствую себя полной дурой, потому что допустила все это, да еще защищала тебя все эти годы. Когда люди говорили про тебя что-то плохое, я кидалась в бой, говорила, что они ошибаются. Оказывается, это я ошибалась.
Больше она не заботится о том, чтобы вытирать слезы.
У меня было столько планов на тебя, столько надежд.
Она рыдает.
Ты мог бы стать кем пожелаешь. Кем угодно.
Рыдает.
А ты вот кем стал.
Рыдает.
Вот кем, подумать только.
Отец обнимает ее. Она утыкается лицом ему в грудь. Она воет, вскрикивает, ее плечи вздымаются, она комкает рукава отцовской рубашки. Я сижу, смотрю, жду, что будет дальше. Не понимаю, что мне делать. Мне хочется обнять родителей, попросить у них прощения, но я не смею. Мне хочется умолять их, чтобы простили меня, но они не простят. Мне хочется взять их за руки и сказать, что все будет хорошо, но я не вправе давать таких обещаний. Сижу, смотрю, жду, что будет дальше. Не понимаю, что мне делать. Хочу прикоснуться к ним, но не смею.
Мать продолжает плакать. Она не может, не хочет, не в состоянии успокоиться. Отец сжимает ее в объятиях и смотрит в пол через ее плечо. Джоанна встает, подходит ко мне, склоняется к моему уху.
Тебе лучше уйти.
Я встаю.
Завтра утром ты встречаешься с Даниэлем и родителями. В той же комнате, где мы были сегодня.
Иду к двери. Перед тем как выйти, на пороге оборачиваюсь, смотрю на Мать с Отцом. Мать плачет, Отец глядит в пол. Джоанна присела на корточки возле них и что-то шепчет им, но что – мне не слышно.
Открываю дверь, выхожу. Возвращаюсь в отделение. Наступил вечер, в коридорах стемнело. Их освещают только лампы на потолке. Ненавижу эти лампы так, что разбил бы их. Пусть в коридорах наступит темнота. Я жажду темноты, глубочайшей темноты, глубокой, как бездонная нора. Хочу, чтобы в коридорах был мрак. У меня в голове мрак, у меня в душе мрак, пусть в коридорах будет мрак. Так и разбил бы эти чертовы лампы палкой. Чтобы разлетелись на множество осколков. Пусть в коридорах будет мрак.
Открываю дверь в свою палату. Прохожу, сажусь на кровать. Майлза нет, я один. В голове мрак, в душе мрак, я один.
Снимаю ботинки, снимаю носки. Кладу правую ногу на левое колено. Разглядываю свои пальцы. Они грязные, заскорузлые, потные. Я в палате один, в душе Ярость. Она не дикая, не на пике, но она есть. Она проникает в мою кровь, как медленный ленивый вирус, и побуждает меня разрушать. Я хочу прогнать ее. Я хочу избавиться от нее.
Когда Ярость достигает пика, я пасую перед ней, но не сейчас. Я знаю, что делать, чтобы прогнать ее, чтобы она прошла. Накорми ее болью, и она отвяжется. Накорми ее болью, и она отвяжется.
Большим и указательным пальцами правой руки я тяну ноготь второго пальца левой ноги. Я знаю, что это ненормально, что это чертов симптом помешательства, но я все равно это делаю. Я тяну. Я тяну ноготь. Всегда именно этот палец, всегда этот ноготь. После нашей последней схватки он отрос так, что с ним легко это повторить. По сравнению с остальными ногтями он слегка выступает вверх и больше искривлен. У него есть края, за которые можно зацепиться и использовать как рычаг. Я тяну. Я тяну ноготь. Он начинает отрываться. Появляется боль. Ярость внутри меня изнемогает от наслаждения. Хочу еще. Хочу еще. Я тяну, и ноготь отрывается дальше. Он разрывает кожу, которая удерживает его на месте, разрывает сосуды, которые питают его. Начинает течь кровь. Начинает распространяться боль. Боль такая же красная, как кровь. Боль спускается с пальца в ступню, она танцует вокруг лодыжки. Я чувствую, как Ярость питается ей. Хочу еще. Хочу еще. Я смотрю вниз. Нога и пальцы покрыты кровью. Сквозь кровь я вижу ноготь, вижу, что он висит на своем основании. Я знаю, что Ярость видит это, потому что я чувствую это. Она похожа на голодного демона. Накорми меня. Накорми меня. Накорми меня этим чертовым ногтем. Накорми меня, Ублюдок, или я погублю тебя. Накорми меня этим чертовым ногтем. Я кладу большой палец на ноготь, а указательный – между ногтем и обнаженной розовой плотью пальца. Палец касается плоти, боль раскаляется добела и взлетает в ногу и живот. Она поглощается мгновенно, и в тот же миг рождается новый позыв.
Накорми меня, Ублюдок, или я убью тебя. Накорми меня этим чертовым ногтем. Я тяну. Я тяну за ноготь. Половина отрывается от основания. Я закрываю глаза, моя рука в крови, я сжимаю челюсти и тихо вскрикиваю. Всепоглощающая боль заполняет меня. От самых кончиков волос и вниз, вдоль и поперек всего моего тела, боль повсюду. Ярость пожирает ее. Демон упивается ей. Еще усилие, и все будет кончено. Я тяну. Я тяну за ноготь. Он отрывается, я кричу, и на этот раз мой крик куда громче. Боль повсюду, белая, пылающая и ледяная, как ад. Каждая клетка моего тела пульсирует и искрит, полна ненависти и благодарности за облегчение. Ярость поднимается ненадолго, поднимается с улыбкой и благодарит кровавого убийцу. Она ест боль. Она пьет боль. Она впитывает ее в себя всеми возможными способами. Теперь она может уходить, уходить сразу. Я дал тебе все, что ты хотела, убирайся. Я глубоко вздыхаю. Я делаю глубокий, очень глубокий вдох, как после экстаза, как после того, как жизнь промелькнет перед глазами. Я смотрю на ногу. Она вся в крови, как и моя рука. Я встаю и иду в ванную. Когда я ступаю поврежденной ногой, я ставлю на пол только пятку. При каждом прикосновении меня пронзает электрическая красно-белая молния. И каждый раз эта молния становится кормом. Я открываю дверь. Я подхожу к раковине, осторожно избегая зеркала. Когда я добираюсь до раковины, я открываю холодную воду. Я жду, пока она остынет, как только возможно. Когда она становится совсем ледяной, я поднимаю ногу и переношу ее под кран. Капли крови падают на пол, и я наклоняюсь, чтобы вытереть их чистой рукой.
Вода льется на голое мясо и окрашивается в розовый цвет. Розовый поток хлынул в слив, за ним другой. Холод воды умеряет боль, Ярость доедает ее остатки, облизывается и убирается восвояси. Я стою, жду. Мою руки. Все вокруг ярко-розовое. Кровь течет.
Через несколько минут рана затягивается, сосуды перестают кровоточить. Палец дергается. Все не так уж плохо. Лучше пусть палец дергается, чем накатывает приступ Ярости. Лучше уж кормить Ярость болью, чем выпускать дикого зверя на волю.
Закрываю воду, достаю ногу из раковины, возвращаюсь к своей кровати. Надеваю носок, надеваю ботинок. Выхожу из комнаты.
Скоро десять, мне пора. Прохожу через отделение. Все высыпали из палат. Смотрят телевизор, играют в карты, курят сигареты, болтают, ждут телефонных звонков. Леонард стоит в телефонной кабинке, слышу, как он жалуется на здешнюю жизнь. Жалуется, но правил не нарушает. В отличие от многих тут.
Наливаю чашку кофе. На нижнем ярусе стоит человек в черных тренировочных штанах и черной футболке, прислонился к стене. Ему лет двадцать пять, и, несмотря на худобу, выглядит он крепким. Курит и рассматривает меня. Этот тип кажется мне знакомым, хотя не понимаю, откуда, и еще угрожающим, хотя не понимаю, почему. Он просто стоит и смотрит на меня. Я принимаю вызов, начинаю смотреть в ответ. В его взгляде нет особого интереса, он думает о чем-то своем. Почему-то его облик кажется мне знакомым и угрожающим. Не понимаю, почему.
Он усмехается, отходит от стены, отводит взгляд в сторону, направляется к дивану перед телевизором и садится. Я наблюдаю за тем, как он это проделывает. Я принимаю вызов, у меня такое чувство, что это только начало.
Возвращаюсь в палату с чашкой кофе. Майлз сидит на кровати, протирает кларнет. Поднимает голову, когда я вхожу.
Как ты, Майлз?
В порядке. А ты?
Тоже.
Сажусь на кровать, натягиваю верхнюю одежду.
Как прошла вечерняя встреча с родителями?
Прекрасно, можно сказать.
Как они себя чувствуют?
Не так ужасно, как я опасался, но вообще-то плохо.
Как ты себя чувствуешь?
Примерно так же, как они.
Но сильнее всего стыд, наверное?
Пожалуй.
Стыд – ужасная штука. Неизбежная и ужасная.
Ты еще не справился с ним?
Думаю, еще не скоро справлюсь.
Почему?
Я дурной человек, Джеймс.
Ты же судья. Ты не можешь быть дурным человеком.
Я судья, но в душе понимаю, что не имею права судить кого-либо.
Ты очень суров к себе.
Он трясет головой.
Я никому не говорил, об этом знает только персонал. Но я ведь здесь уже был раньше. Я в этой клинике второй раз.
А когда был в первый?
Несколько лет тому назад. Я приехал, потому что сильно пил. Из-за пьянства потерял семью. Жена не хочет разговаривать со мной, исключила меня из своей жизни.
Ты пытался завязать?
Он откладывает кларнет.
Пытался, Джеймс. И мне это удалось, насколько это вообще возможно, то есть не до конца. Однако для этого потребовались годы. Годы одиноких ночей, когда я вглядывался в свое отражение в зеркале, годы усилий, когда удерживал себя в трезвости, годы попыток наверстать упущенное. И вот, пройдя через все это, я снова сорвался.
В чем причина, как ты думаешь?
Я упоминал про жену. Прекрасная женщина. Умная, красивая, смелая, независимая, успешная в своем деле. В ней есть все, что я искал в спутнице жизни. Когда впервые встретил ее, я сразу понял, что хочу жениться на ней. На нашем первом свидании я рассказал ей о себе. Я хотел быть честным с ней, надеялся, что если буду честен, то прошлое не повторится. Она выслушала меня, улыбнулась и сказала – Майлз, ты замечательный человек, с первой секунды, когда увидела тебя, я поняла, что мы будем вместе, но если ты повторишь все это безобразие при мне, то я набью тебе морду и выброшу, как вчерашний мусор.
Я смеюсь, он улыбается.
Мне понравились ее слова, особенно потому, что я знал – это не просто слова, она так и поступит. Я решил – это мне только на пользу, меня будет удерживать мысль, что, если сорвусь, сразу буду наказан за свои грехи. Мы поженились, прожили несколько лет душа в душу, решили обзавестись детьми, и она забеременела. В это самое время я познакомился с молодой адвокатессой, которая вела дело в моем суде. Она была очень симпатичной, и нас потянуло друг к другу. Чем больше мы узнавали друг друга – исключительно в рабочей обстановке, тем сильнее нас тянуло друг к другу. Как-то раз сидел я вечером у себя в кабинете, работал, и тут зашла она. Она выиграла дело, по которому я ее консультировал. Принесла бутылку шампанского и два бокала. Я сознавал, что мне не следует пить, но был настолько уверен в себе, что решил – от бокала шампанского беды не будет, и выпил бокал. Потом еще несколько бокалов. Потом мы занялись любовью на моем рабочем столе. Потом я пошел домой к своей беременной жене. На следующий день все повторилось, и на следующий, и на следующий. Вскоре оказалось, что пью я каждый день, а каждый вечер провожу со своей подружкой. Я, можно сказать, предал свою жену и нашего будущего ребенка. Завел бутылку бурбона, которую прятал под креслом. Мог во время заседания плеснуть в стакан и выпить. Делал вид, что это вода, и пил залпом, как воду. Допускал в работе много ошибок, выносил неправильные приговоры. Пытался завязать, но не мог. Однажды во время заседания я вырубился, а очнулся уже в своем кабинете. Коллега сообщил мне, что, пока я был в алкогольном беспамятстве, моя жена родила. Я немедленно поехал к ней, сказал, что простудился. Она все поняла, но позволила мне солгать. Когда она оправилась после родов, я забрал их с ребенком домой и там рассказал ей правду. Умолчал только про подружку. Потом собрал вещи и поехал сюда.
Он глубоко вздыхает.
Моя жена приедет на следующей неделе, чтобы участвовать в Семейной программе. Я собираюсь рассказать ей всю правду о себе. Я готов к самому худшему и считаю, что заслужил это. Я второй раз опустился, и это ужасно, я считаю это худшим преступлением, которое мужчина может совершить по отношению к своей семье. Я проклинаю себя, мне стыдно, очень, очень стыдно. Мне доводилось приговаривать людей к смертной казни. Я считаю, что сам заслуживаю смертного приговора. Понимаю, это звучит мелодраматично, но я действительно так считаю.
Он качает головой.
Мне так стыдно, что я не уверен, смогу ли жить дальше. Я не очень хорошо знаю тебя, но мне кажется, что у тебя похожие проблемы. Я вижу, как ты меняешься на глазах, значит, находишь какой-то способ справляться с ними. Если я спрашиваю тебя, как ты это делаешь, то лишь потому, что хочу вернуть себе надежду. Я верю в Бога, но, похоже, Бог больше не верит в меня. Если ты можешь чем-то помочь мне, то, прошу тебя, поделись.
Я улыбаюсь.
Чему ты улыбаешься?
Смешно, что ты, федеральный судья, просишь совета у меня.
Здесь мы все равны. Что судья, что преступник, что пьяница, что наркоман.
Да, пожалуй.
Можешь ты мне что-нибудь посоветовать, Джеймс?
Мне помогли две вещи.
Какие?
Пункт первый – Леонард.
Финансовый директор Западного побережья?
Я смеюсь.
Да, он самый. Тебе стоит поговорить с ним. Скажи, что тебя послал я и попросил рассказать о том, что надо держаться.
Держаться за что?
Вот его и расспроси.
Хорошо. А второй пункт?
Ты видел, как я читаю эту книжку?
Я указываю на «Дао дэ цзин». Она лежит на тумбочке.
Да.
Секунд через тридцать я смоюсь через это окно, что возле твоей кровати.
Майлз смеется.
Когда останешься один, возьми эту книжку и почитай. Может, тебе покажется, что это чепуха, может, это и в самом деле чепуха, но, на мой взгляд, ничего лучше я не читал.
Почему ты так считаешь?
Просто я улавливаю в ней смысл.
Попробую.
Я встаю, направляюсь к его кровати.
Не пропустишь меня?
Он отодвигается в сторону.
Я не спрашиваю, куда ты собрался и зачем.
И правильно.
Будь осторожен, чтобы тебя не поймали.
Я открываю окно, шагаю на подоконник, закрываю окно. Сразу охватывает холод. Пронизывающий, острый, злой. Он кусает меня в лицо, впивается в руки, как сотня рассерженных муравьев.
Я пускаюсь в путь. Иду быстро, держусь подальше от фонарей и окон. Мрак дает мне чувство защищенности, силы, неуязвимости. Знаю, что во мраке меня не поймают.
Нахожу нужную тропинку, она приводит меня к укрытию. Сворачиваю, продираюсь, как обычно, через гущу ветвей, через вечнозеленые заросли.
Спешу. Ум рисует картинки ближайшего будущего, когда я окажусь в объятиях Лилли. Какая-то ветка когтями, как ястреб, впивается мне в щеку. Царапает кожу, не очень глубоко, но чувствительно.
Я оказываюсь в укрытии, она уже там. Сидит на мерзлой земле, закутавшись в одеяло, бледная кожа светится. Она улыбается, встает, ничего не говорит, делает шаг навстречу, распахивает одеяло, укутывает меня одеялом, окутывает меня собой. Целует меня в щеку, в ту, которая целая, крепко обнимает. Руки у нее тонкие, но сильные. Она шепчет мне на ухо.
Я так рада, что ты пришел.
Я тоже.
Я скучала.
Я тоже.
Она немного отодвигается.
Давай сядем.
Она тянет меня вниз. Мы садимся на замерзшую землю, покрытую хрупкими листьями и ломкими прутьями. Протянув руку, она нежно касается моей поцарапанной щеки.
Что с тобой?
Напоролся на сук.
Как же ты его не заметил?
Я не глядел по сторонам.
Хочешь, я вылечу?
Каким образом?
У меня есть дар.
Правда?
Показать?
Да.
Она наклоняется и целует, целует меня в щеку. Я отстраняюсь.
Что ты делаешь?
Заживляю царапину.
Она же свежая.
Вижу.
Там же кровь.
Вижу.
Заразиться хочешь?
Она наклоняется.
Хочу.
Я не останавливаю ее. Приоткрытыми губами она касается моей щеки. Ее язык скользит по моему лицу, я закрываю глаза. Такое сладкое чувство, как талое, мягкое мороженое. Чувство свободы, я парю, словно перо на ветру. Чувство близости, как будто она это я. Целует меня, касается языком. Теплое, нежное касание. Мои глаза закрыты.
Она прижимается ко мне, ее руки обнимают меня, тонкие, сильные. Я прижимаюсь к ней, мои руки раскинуты. Она целует меня в щеку, в губы, они отвечают. Они говорят – иди ко мне, и она откликается. Наши открытые рты смыкаются. То быстро, то медленно, то страстно, то нежно, то наступая, то подчиняясь. Любить и быть любимым. Мы под одеялом. Больше не холодно. Она прижимается ко мне, я к ней, тесно-тесно, ее руки бродят по моему телу, мои по ее. Наши руки встречаются. Объятие. Руки сцепляются. По цепи идет ток. Ее рука выскальзывает из моей, скользит по моей груди, животу, опускается ниже, еще ниже. Мне нравится чувствовать ее руку там, между ног, но страх заполняет меня, дикий страх. Я боюсь. Я отталкиваю ее руку, осторожно, но отталкиваю. Мы все еще прижимаемся друг к другу, наши губы сомкнуты, она снова кладет руку мне между ног, я отталкиваю ее. Мне страшно. Дикий всепоглощающий страх. Страх, близкий к панике. Она отодвигает свое лицо, говорит.
Что-то не так?
Не могу дальше.
Ты весь дрожишь.
Знаю.
Почему?
Я боюсь.
Чего?
Всего.
Что ты хочешь сказать?
Просто боюсь, и все.
Меня?
Нет.
Она притягивает меня ближе.
Я не сделаю тебе больно.
Знаю.
Я не брошу тебя.
Знаю.
Скажи мне, чего ты боишься?
Я смотрю в ее лицо, оно совсем близко. В ее глаза, ясные, синие. Даже в темноте видно, что они прозрачные, как родниковая вода.
Я никогда не делал этого.
Чего?
Того, что мы, насколько я понимаю, собираемся сделать.
Что ты хочешь сказать?
Я никогда не делал этого.
Ты никогда не занимался сексом?
Занимался, но не так.
Что ты хочешь сказать?
Я никогда не занимался сексом в трезвом состоянии.
А с любимой девушкой?
Никогда.
Почему?
Не знаю.
Я не сделаю тебе больно.
Я знаю.
Так что же у тебя с ней произошло?
Я делаю глубокий вдох. Мне страшно. Я говорю.
Она была девственницей, когда мы познакомились. Берегла себя для настоящей любви. Через пару месяцев она решила, что готова. Мы все обсудили, назначили день и устроили романтический ужин в ресторане. Я сильно нервничал, поэтому выпил лишнего, для храбрости. Когда мы пришли к ней в комнату, она зажгла свечи, включила классическую музыку, постель была усыпана цветами, все это походило на какой-то идиотский фильм. Мы начали, а когда наступил решающий момент, у меня не встало. Я хотел ее больше всего на свете, но ничего не смог сделать, потому что нервничал и напился.
Я еще раз набираю воздуха, дрожь становится сильнее, страх тоже. Мне невыносимо вспоминать об этом, и я ненавижу себя за это прошлое.
Мы попробовали еще раз, и еще раз, и еще. Пробовали каждую ночь в течение двух недель, и у меня ничего не получалось. С каждым провалом страх становился сильнее, я чувствовал себя все более униженным и раздавленным. Она предлагала мне себя, а я не мог ее взять, потому что оказался импотентом. Каждый раз я оказывался грёбаным импотентом.
Наши отношения продолжались еще какое-то время, но скорее по привычке. Для нее это была вредная привычка, для меня полезная. Когда мы в последний раз попытались заняться сексом, я решил признаться, что люблю ее. Я подумал, если признаюсь, мой страх пройдет и у меня все получится. Мы лежали в постели, голые, я был трезвый, смотрел ей в глаза. У нее такие глаза, знаешь, голубые, не как у тебя, а светлее, напоминают лед, и вот я посмотрел ей в глаза и сказал – я люблю тебя. Она ничего не ответила. Она взглянула на меня этими своими глазами, они были холодные, пустые, далекие, и я прочитал в них отвращение. Я повторил свое признание еще раз, и тогда она оттолкнула меня, выскочила из кровати и побежала в ванную. Вернулась, уже улыбаясь, и сказала – знаешь, ты странный человек, поцеловала меня в щеку, легла, отвернулась и заснула.
Я делаю глубокий вдох.
Долгое время я считал, что, если буду с ней, она поможет мне сохранять трезвость и моя жизнь наладится. Долгое время я считал, что она каким-то образом спасет меня. А когда я оказался импотентом, я понял, что это вообще полный крах, все кончено. Я понял, что до конца жизни быть мне всего лишь пьяным обдолбанным импотентом, отвратительным ублюдком, и мне остается только одно – целенаправленно добивать себя с помощью алкоголя и наркотиков. Так я и поступал, и куда бы ни пошел, везде мне мерещились ее глаза, и стоило мне подумать о ней, как сразу представлялись эти глаза в тот момент, когда я признался, что люблю ее, и увидел в них отвращение.
Я всматриваюсь в темноту. Там нет ничего. Меня переполняют чувства, которые я пережил тогда, и сейчас они вернулись с той же силой. Униженность, стыд, растерянность, бессилие, импотенция.
Лилли обнимает меня, но не мешает думать о своем. Я смотрю в темноту и дышу. Невозможно изменить прошлое, невозможно и забыть его. Что было, то было, и я сам во всем виноват. Хотелось бы, чтобы жизнь сложилась иначе, но ничего не поделаешь. Прошлое прошло. Пора принять его и отпустить. Принять и отпустить.
Лилли смотрит на меня и говорит.
Ты перестал дрожать.
Да, только что.
Давай не будем спешить.
Да, давай.
Все произойдет, когда ты сам захочешь.
Спасибо.
И для меня так тоже будет лучше.
Почему?
Мы с тобой вроде эту тему уже обсуждали.
Немного.
Хочешь больше?
Я хочу столько, сколько ты можешь мне доверить.
Я могу тебе доверить все.
Тогда расскажи мне все.
Она не сразу отвечает, улыбается.
Это страшно.
Я понимаю.
По-настоящему страшно.
Я не сделаю тебе больно.
Она снова улыбается.
Знаю.
И не брошу тебя.
Знаю.
И не осужу тебя.
Спасибо.
Она улыбается, на мгновение отводит глаза, оглядывается кругом. Улыбка сходит с ее лица, блестящие глаза тускнеют, она говорит. Она рассказывает про свою мать-наркоманку, про безобразия, которые та творила. Говорит, что мать сама была проституткой и продала ее. Лилли тогда было тринадцать. Мужчина, который заплатил, видел Лилли раньше и хотел именно ее. Матери не на что было купить наркотики. И она продала Лилли этому типу за двести долларов. Продала на час, а вышло, что на всю жизнь. Продала за полный шприц. Двести долларов за полный шприц. Лилли рассказывает мне, что за этим мужчиной последовали другие. Мать стала продавать ее постоянно, а сама перестала работать. Лилли рассказывает про боль, унижение, ужас. Мужчина за мужчиной. День за днем. Надругательство за надругательством. И множество полных шприцов. Шприцов, оплаченных ее телом. Лилли рассказывает, как сама стала колоться. Как ненавидела эти шприцы, но они помогали забыться. Мужчина за мужчиной. День за днем. Надругательство за надругательством. И только шприцы помогали забыться.
Лилли рассказывает, как ушла от матери. После четырех лет кошмара. Клиент избил ее, а потом изнасиловал пистолетом, и, когда он отключился, она убежала. У нее не было ни денег, ни вещей, ни машины. Она просто шла куда глаза глядят, на попутных грузовиках добралась до Чикаго, расплачивалась с дальнобойщиками, которым требовалась минутная разрядка, своим единственным товаром. В Чикаго она обратилась в справочный стол и разыскала свою бабушку. Раньше она ее никогда не видела. Лилли постучала в дверь, бабушка открыла, и они обе расплакались. Ничего не говорили, только плакали. Они с бабушкой стояли и плакали.
Лилли говорит, что снова пошла в школу. Мальчикам она нравилась, а девочки ее ненавидели. В школе Лилли поняла, как она отстала. Трудно было прилично вести себя, оставаться трезвой и чистой, не принимать наркотиков. Трудно было все забыть. Невозможно забыть. Лилли встретила парня, полюбила его, и они стали встречаться. Лилли витала в мечтах и надеждах, разыгрывала в воображении их будущую жизнь. Парень начал курить крэк, закидываться колесами, а она хотела быть с ним и тоже стала. Стала курить крэк и закидываться колесами. Он угощал ею своих друзей. Его друзья употребляли ее. Ее разбитое сердце еще не успело зажить, как снова было разбито. Она курила крэк, глотала колеса. Ее парень и его друзья употребляли ее.
И тут случилось это. Заговорив об этом, Лилли начинает плакать. Это случилось как раз перед тем, как она приехала сюда. Как раз перед тем, как бабушка убедила ее поехать за свободой. Лилли замолкает и плачет. Тяжелыми, надрывными слезами. Она рыдает. Ее всю трясет, и я чувствую, как бьется ее сердце под слоями одежды. Под слоями боли. Я обнимаю ее, она плачет, и больше мы ничего не говорим, ни она, ни я. Все слова бессильны описать то, как она жила. То, что она пережила. Я обнимаю ее, она плачет. Я никуда не спешу. Я не сделаю ей больно. Я не брошу ее. Я не осужу ее. Я обнимаю ее, она плачет.
Кто-то зовет меня по имени. Кто-то толкает меня. Не понимаю, во сне или наяву, не понимаю, что делать. Слышу свое имя. Шаги. Кто-то зовет меня. Кто-то толкает меня.
Открываю глаза. Еще темно, но уже светает. Примерно час до рассвета. Видны силуэты деревьев, я держу Лилли. Кто-то зовет меня. Кто-то толкает меня.
Смотрю вверх. Тед стоит с блондинкой лет двадцати. Вид у них усталый, волосы взъерошены. Тед говорит.
Я думал, ты копыта отбросил, мелкий засранец.
Что ты здесь делаешь?
Прикрываю твою задницу.
Который час?
Время возвращаться на место, черт тебя подери.
Я осторожно трясу Лилли. Она открывает глаза.
Что?
Нам надо идти.
Кто это?
Приятель. Его зовут Тед.
Который час?
Не знаю.
Мы встаем. Я проснулся, но не до конца. Лилли вообще сонная. Она знакома с девушкой Теда, и они здороваются. Я целую Лилли на прощанье, говорю, что буду скучать. Она спрашивает, когда мы увидимся, и я отвечаю – сегодня.
Мы с Тедом идем через лес к дорожке. Я спрашиваю, чем они занимались, и он отвечает: трахались. Он спрашивает, чем мы занимались, и я отвечаю: разговаривали. Он смеется. Я спрашиваю, уходил ли он раньше из отделения, и он отвечает, да, каждую ночь, черт возьми. Он спрашивает у меня, уходил ли я раньше, и я отвечаю, нет, в первый раз.
Выходим на дорожку. Он говорит, будь готов – может, придется бегом бежать, если нас застукают тут, будет полная жопа. Мне не приходилось бегать подолгу. Не хватает дыхалки. Дорожка исчезает в траве вокруг здания клиники. Мы крадучись заходим внутрь, я иду в свою палату и забираюсь в кровать. Мне хочется, чтобы Лилли была рядом. Проваливаюсь в сон. И во сне мне хочется, чтобы Лилли была рядом.
Когда просыпаюсь, Майлза в палате нет, на моей тумбочке лежит записка. Поверх книги «Дао дэ цзин». Написано «Спасибо, Джеймс. Что-то в этом есть». Прочитав, улыбаюсь. Внутренние часы подсказывают мне, что я проспал, поэтому наскоро принимаю душ, чищу зубы, вытираюсь и одеваюсь. Выхожу.
Я спешу через коридоры в столовую. Когда прихожу, там почти никого. Беру пончик, чашку кофе и выхожу.
Опять коридоры. Тороплюсь. Опаздываю на встречу с родителями. Ярость шевелится внутри, но пока робко. Она сыта после кормежки. Нахожу нужную комнату, открываю дверь.
Родители сидят за столом для совещаний, рядом с ними Даниэль, а напротив незнакомый мужчина, одет, как мой Отец, но помоложе. Мать плачет.
Что случилось?
Она трясет головой. Я смотрю на Отца.
Что случилось?
Он встает и говорит.
Джеймс, это Рэндалл.
Он указывает на незнакомого мужчину, который тоже встает.
Он адвокат, который сотрудничает с клиникой.
Я смотрю на мужчину.
Он тянется ко мне через стол.
Здравствуй, Джеймс.
Мы пожимаем руки. Отец говорит.
Он пообщался с администрацией в Мичигане, Северной Каролине и Огайо.
И что там сказали?
Почему бы нам не присесть?
Сажусь. У меня поджилки трясутся, так мне страшно. Они тоже садятся.
Так что там сказали?
Отец смотрит на Рэндалла, Рэндалл смотрит в папку. Мать плачет и смотрит в пол. Даниэль смотрит на меня. У меня поджилки трясутся, так мне страшно, всем телом начинаю дрожать. День Страшного суда настал. День Страшного суда. Рэндалл поднимает глаза.
У меня две новости – хорошая и плохая. С какой начнем?
С хорошей.
В Мичигане и Северной Каролине твои действия подпадают под категорию мелких уголовных преступлений[5]. То, что ты находишься на лечении, также учитывается в твою пользу. Нужно будет заплатить несколько штрафов, по паре тысяч долларов в каждом штате, и через три года судимость будет с тебя снята. Суды в обоих штатах перегружены, и они будут рады закрыть дело. Я бы советовал принять их предложение.
Говорит Отец.
Я с этим согласен, Джеймс.
Я киваю.
Да. А плохая новость?
Говорит Рэндалл.
В Огайо у тебя большие неприятности. Это маленький городок, и они не привыкли к таким выкрутасам, которые ты там вытворял. Они говорят, что ты устроил там большие беспорядки и нажил врагов в местной полиции. Они очень разозлились и хотят тебя проучить. Им совершенно безразлично, что ты сейчас лечишься и пытаешься наладить свою жизнь. Они говорят, что дело готово к передаче в суд и они с большим удовольствием доведут его до приговора.
Он переводит дыхание. У меня поджилки трясутся, так мне страшно. Страшно так, что можно обосраться. День Страшного суда для меня настал.
Если ты признаешь себя виновным по всем пунктам, они согласятся, чтобы ты провел три года в тюрьме штата с последующим испытательным сроком в пять лет. Если ты совершишь нарушение во время испытательного срока, то будешь возвращен в тюрьму еще на пять лет. Кроме того, ты должен уплатить пятнадцать тысяч долларов штрафа и после освобождения провести тысячу часов на общественных работах. Твои водительские права в этом штате будут бессрочно аннулированы. Запись о судимости также будет бессрочной. Если ты будешь настаивать на передаче дела в суд, они потребуют максимального наказания, а это восемь с половиной лет тюрьмы. Что касается исхода дела, то они утверждают, что у них есть тридцать свидетелей, анализ крови, который зарегистрировал уровень алкоголя в крови в 0,29 промилле, и пакет с крэком. Если они говорят правду, то приговор тебе обеспечен.
Страх проходит, он сменяется ужасом. Отец смотрит на меня, Мать плачет. Даниэль смотрит в стену, Рэндалл ждет ответа.
Вот дерьмо.
Мать поднимает глаза.
Не мог бы ты обойтись без подобных словечек, Джеймс?
Я смотрю на нее.
Мама, меня только что приговорили к трем годам как минимум. Какое словечко я, по-твоему, должен использовать?
Ее губы дрожат.
Прошу тебя.
Я сжимаю челюсти.
Хорошо.
Говорит Отец.
Есть какие-нибудь соображения?
Нет.
Как ты думаешь, у них действительно имеются все эти доказательства?
Да.
Что ты намерен делать?
Я смотрю на Рэндалла.
Что мне делать?
Тот пожимает плечами.
Я могу с ними поторговаться, но не слишком верю в успех.
В смысле?
В смысле, они будут стоять на своем.
Я качаю головой, думаю о перспективе провести три года в тюрьме штата Огайо. Минуту назад страх сменился ужасом, сейчас он вернулся, но и ужас никуда не делся. Три года в тюрьме штата Огайо. Три года в жутких условиях, в борьбе за жизнь, когда каждую секунду находишься под угрозой. И так три гребаных года.
А если пуститься в бега?
Говорит Отец.
Больше никаких побегов.
Я смотрю на него.
Мне одному решать, папа.
Нет, не тебе одному.
Мне одному.
Расплачиваться же будешь ты не один.
Ты, что ли, будешь сидеть со мной в камере?
Нет, не буду.
Тогда расплачиваться буду я один.
Я смотрю на Рэндалла.
Что, если я сбегу?
Говорит Отец.
Я этого не допущу.
Я не обращаю на него внимания.
Что, если я сбегу, Рэндалл?
Существует закон о семилетнем сроке давности. Если ты в течение этого срока не совершаешь никаких нарушений, то будешь свободен от обвинений. Но если в течение этого срока тебя на чем-то поймают, хоть на пустяке вроде проезда в транспорте без билета, тебя посадят в тюрьму, подвергнут экстрадиции, отдадут под суд, приговорят к максимальному сроку. Я категорически, категорически, категорически возражаю против этого варианта.
Я утыкаюсь лицом в ладони, говорю сам себе.
Вот дерьмо.
Мать говорит.
Джеймс.
Я смотрю на Мать.
Прости.
Она плачет, губы у нее дрожат. Говорит Отец.
К чему ты склоняешься?
Не знаю.
Хочешь нанять адвоката?
Пустая трата времени и денег.
Почему?
Потому что я виновен по всем статьям.
Мы с мамой заплатим за адвоката.
Вы и так уже платите достаточно. Не хочу втягивать вас в новые расходы.
Что же ты намерен делать?
Мне нужно подумать.
Я пялюсь в пол. Я виновен по всем статьям. Три года в тюрьме штата Огайо – это вечность, гребаная вечность, и скорее всего меня отправят в тюрьму строгого режима. Сам я там не бывал, но знаю людей, которые побывали. Тюрьма их сильно исправила, они вышли оттуда совершенно другими людьми. Наркоманы стали ворами. Воры барыгами. Барыги убийцами. Убийцы серийными убийцами. Я смотрю на Рэндалла.
Передайте им, что я признаю себя виновным по всем пунктам.
Мать вмешивается.
Но тогда тебя осудят как преступника.
Не похоже, чтобы у меня был выбор, мама.
Я смотрю на Рэндалла.
Я признаю себя виновным, но передайте им, что я сбегу, если меня отправят в тюрьму строгого режима. Постарайтесь сократить срок, насколько возможно. А если есть выбор, хотя, конечно, это вряд ли, то лучше пусть срок будет больше, чем строгий режим. Пока так.
Рэндалл кивает, говорит.
Ты сказал «пока», а что дальше?
Не знаю.
Он смотрит на Отца.
Вы согласны с этим?
Отец говорит.
Давайте посмотрим, что из этого выйдет.
Рэндалл смотрит на часы, закрывает папку, подымается из-за стола.
Мне пора идти. Я позвоню в Северную Каролину и Мичиган и скажу, что мы согласны. Потом позвоню в Огайо и попытаюсь что-нибудь сделать. Но ничего не обещаю.
Я встаю, протягиваю ему руку.
Спасибо.
Он пожимает мою руку.
Пожалуйста.
Отец тоже пожимает ему руку, и Рэндалл уходит. Мать смотрит в пол. Вид у нее такой, словно хочет заплакать, но слез не осталось. Говорит Даниэль.
Вы хотите поговорить наедине?
Отец кивает.
Да, пожалуйста.
Даниэль встает.
Если понадоблюсь, я в Семейном центре.
Спасибо.
Даниэль выходит. Отец смотрит в стол, Мать в пол. Я смотрю в стену. Тяжелое неловкое молчание. Такое молчание, которое наступает после того, как бомба взорвалась, перед тем, как начнут голосить. Мы сидим на стульях. Дышим, думаем, смотрим. Ужасно неловко. Бомба уже взорвалась. А мы сидим и смотрим.
На стене я не нахожу ответов. Передо мной просто чистая белая стена. Перевожу взгляд, смотрю на Отца, который тяжело дышит и смотрит на меня.
Да, день насыщенный и информативный.
Прости.
Он сокрушенно качает головой.
Джеймс, все гораздо хуже, чем я полагал.
Я понимаю. Прости.
Даже не знаю, сможем ли мы тебе помочь.
Вряд ли сможете.
Мы же твои родители. У нас инстинкт защищать и спасать тебя.
Не думаю, что на этот раз вы можете что-то сделать, папа.
Он качает головой. Мать говорит.
Прости, Джеймс.
Тебе не за что просить прощения, Мама.
И все-таки прости. Я все время думаю, что мы делали неправильно.
Вы все делали правильно, Мама.
Нет, наверняка мы что-то делали неправильно.
Она срывается, плачет. Отец встает и подходит к ней. Садится на соседний стул, обнимает ее. Она прячет лицо у него на груди. Плачет. Я смотрю, как она плачет. Я больше не могу этого выносить. Не могу выносить ее плач, не могу выносить чувство своей вины. Я не могу позволить ей винить себя за то, кем я стал. Я не могу позволить ей хоть в чем-то винить себя. Я сам создал эту ситуацию, сделал шаги, которые привели меня туда, где я нахожусь сейчас. Все эти гребаные шаги. Это не ее вина, не чья-либо еще, а моя собственная. Я больше не в силах это выносить. Отодвигаю свой стул. Встаю. Отец обнимает Мать, она плачет. Плачет из-за меня. Делаю шаг им навстречу. Еще один. Нас разделяют еще два шага. Делаю шаг. Нас разделяет один шаг. Они не обращают внимания на меня. Они заблудились в своем горе. Которого ничем не заслужили. Которое я обрушил на них. Делаю еще шаг. Нас ничего не разделяет. Стою рядом с ними. Рядом.
Ярость подает голос, говорит – нет. Ярость говорит – развернись и убеги прочь. Ярость говорит – да пошли ты их на хер, сами пусть разбираются. Ярость говорит – ты у меня попляшешь. Я говорю – пошла ты на хер, Ярость. Моя Мать плачет. Пошла ты на хер, гребаная Ярость.
Я опускаюсь на колено. Я так близко, что чувствую запах ее слез. Я протягиваю руку, касаюсь материнского плеча. В первый раз на своей памяти я сам приблизился к Матери и к Отцу. Я крепко прижимаю руку к ее плечу, чтобы она почувствовала мое прикосновение. В первый раз на своей памяти я сам приблизился к Матери и к Отцу. Впервые в жизни. Она поднимает голову, поворачивается ко мне. Я говорю.
Мама.
Она смотрит на меня.
Прости меня, прошу.
Она потрясена.
Очень, очень прошу.
Потрясена моими словами.
Я испортил, к черту, жизнь и вам, и себе, всем нам, прости меня, очень тебя прошу.
Она улыбается улыбкой радости и горечи, радость – из-за моего порыва, горечь – из-за моей жизни, и она снимает одну руку с широкой груди Отца и обнимает меня. Притягивает к себе. Обнимает меня одной рукой, и я позволяю себя обнять, и тоже обнимаю ее. Я никогда не делал этого раньше. Не обнимал свою Мать. За всю жизнь ни разу. Отец протягивает руку и тоже обнимает меня, а я его. Мать все еще плачет, она не может не плакать, ведь ее младшего сына только что приговорили к трем годам тюрьмы, мы с Отцом обнимаем ее. Обнимаем друг друга. Мы семья. Хоть я их сын уже двадцать три года, мы никогда не были семьей. А сейчас мы семья. Когда обнимаем друг друга. Когда Мать плачет над моей пропащей жизнью. Когда Отец обдумывает, как спасти меня. Когда я пытаюсь примириться с необходимостью провести три года в камере.
Мать прекращает плакать. Лицо у нее в подтеках и пятнах, но ей все равно. Руку с отцовского плеча она убирает, а на моем оставляет, вытирает лицо свободной рукой. Сморкается, глубоко вздыхает. Пытается совладать с собой. Она говорит.
Так что же нам делать?
Поживем – увидим, мама.
Но я не хочу, чтобы ты сидел в тюрьме.
Я тоже не хочу.
Так что же нам делать?
Поживем – увидим.
Она кивает, ее кивок – словно сигнал, который мы все понимаем. Мы садимся, но не так, как прежде. Мы садимся вместе. Маленьким полукругом. Мы все понимаем – что-то изменилось, мы даже обессилели. Эта перемена потребовала от нас много сил. Мы сидим вместе. Мы семья.
Отец смотрит на часы.
Кажется, время обеда.
Мы с Матерью встаем. Идем к двери, открываем ее, выходим из комнаты. Отец говорит.
Увидимся завтра.
Да.
Мать говорит.
Можешь еще раз меня обнять?
Я улыбаюсь.
Конечно.
Она подходит ко мне. Я обнимаю ее. В тот же миг мне становится неловко, чувствую себя, как чужак в незнакомой стране. Нежно сжимаю ее. Неловкость усиливается, чувствую себя, как в чужой тарелке. Она обнимает меня, а мне хочется убежать. Это же моя Мать. Я обнимаю ее. Не хочу обнимать, но хочу попытаться. Я держу ее в своих руках, обнимаю. Это невеликая плата за все, что я натворил. Она отпускает меня, я отступаю. Мне становится лучше.
Увидимся.
Я разворачиваюсь, ухожу, иду через коридоры в столовую. Я проголодался. Проголодался после вчерашней ночи на морозе, после переживаний сегодняшнего утра, проголодался просто потому, что проголодался. Проголодался.
Иду по коридорам. Смотрю через стекло на женскую половину. Вижу Лилли, она сидит за столом. Делает вид, что не заметила меня, но я-то знаю, что заметила. Я делаю вид, что не заметил ее, но она-то знает, что заметил. Прошлой ночью в объятиях друг друга. Она плакала, а потом прижалась ко мне, как несчастный ребенок. Обнимала меня крепко своими тонкими руками, сказала, что вообще не хочет со мной расставаться. Сказала, что никому никогда не доверялась так, без утайки, и что это чувство дико пугает ее. Сказала, что вообще не хочет со мной расставаться. Спросила, какие у меня планы на будущее, а я ответил, что никаких, я не строю планы на будущее. Она сказала, что хочет пожить в Доме на полпути, в Чикаго, что не уверена в своих силах и боится, что без поддержки не справится. К тому же там она будет ближе к бабушке, а близость бабушки помогает ей. Да и проще найти работу и начать нормальную жизнь в городе, где она освоилась. Сказав это, она опять спросила про мои планы. Я снова ответил, что не знаю. Она спросила, бывал ли я в Чикаго, и я ответил – да, в этом городе выросли мои родители. Она спросила, остались ли у меня родственники там, и я ответил – да. Она спросила, не подумываю ли я поселиться в Чикаго, и я ответил – да. Она спросила – я согласился потому, что она будет в Чикаго? Я улыбнулся, задумался на секунду и ответил – да.
Я беру поднос, занимаю очередь. Беру себе тарелку с гуляшом, тарелку с куриными палочками и рисом, тарелку с паштетом. Иду с подносом в зал. Мои товарищи расположились в дальнем углу. Направляюсь к ним.
Сажусь так, чтобы видеть Лилли, а она видела меня. Леонард, Эд, Тед, Матти и Майлз обсуждают предстоящий матч в тяжелом весе. Они спрашивают, что у меня новенького, я рассказываю про приговор, который мне светит. Все ошарашены. Они и представить не могли, что все настолько серьезно. Леонард спрашивает, что я натворил, я рассказываю. Эд и Тед в один голос говорят – чистая работа, три года за то, что навалял копам, оно того стоит. Матти говорит, что знает несколько славных приемов, которые пригодятся, если я окажусь в тюрьме, и он меня им обязательно научит. Майлз спрашивает, в чьей юрисдикции находится дело. Едим. Я поглядываю на Лилли. Беседуем. Тюрьма – главная тема разговора. Все там уже побывали, кроме меня и Майлза. Леонард отсидел в легкую, как он выражается, четверочку в федеральной тюрьме Левенворта, в Канзасе. Матти провел шесть лет в исправительной колонии для несовершеннолетних, где и освоил бокс. Эд отбыл два года в Джексоне, в Мичигане за нападение с целью причинения тяжких телесных повреждений. Теда дважды отправляли в Анголу[6], в болота Луизианы. Майлз говорит, что приговаривал людей к Анголе, но никогда ее не посещал. Говорит, что, судя по рассказам, Ангола это сущий ад. Ее еще называют фермой. Расположена посреди болот, климат жаркий и влажный, ближайший город в пятидесяти милях. Камеры часто оставляют открытыми, охраны во дворе нет, банды заключенных, сформированные по расовому признаку, постоянно воюют между собой. В морге всегда свежее пополнение. Помимо того, что заключенные дерутся, прячутся и пытаются уцелеть, они работают по четырнадцать часов в день на государственных полях – роют ирригационные каналы и выращивают овощи.
Тед смеется и говорит, что не так страшен черт, как его малюют. Майлз отвечает – если ты и правда так считаешь, то либо ты больной, либо сам себя обманываешь. Тед перестает смеяться и говорит, что ему маячит пожизненное без права досрочного освобождения по закону о третьем тяжком преступлении, и он на всякий случай настраивает себя. Майлз спрашивает, что у него за статьи, а Тед отвечает – вооруженное ограбление в девятнадцать лет, за что он получил четыре года, хранение запрещенных веществ с целью распространения и ношение автоматического оружия в двадцать пять, за что он получил три года, и совсем недавно, в тридцать лет, половая связь с лицом, не достигшим совершеннолетия, его поймали на заднем сиденье гоночного авто с пятнадцатилетней дочерью шерифа из маленького городка. Майлз спрашивает, почему окружной прокурор впаял ему половую связь с лицом, не достигшим совершеннолетия, если знал, что тому светит пожизненное без права досрочного освобождения. Тед смеется и говорит, что он проделал то же самое с двумя дочками окружного прокурора, но они втрескались в него и не захотели писать заявления. Майлз недоверчиво качает головой и спрашивает, не хочет ли Тед, чтобы тот помог ему. Тед говорит – конечно, хочу, черт возьми, как-никак на карту поставлена моя жизнь. Майлз говорит – посмотрим, что можно сделать. Мы заканчиваем обед, встаем из-за стола. Выходя из столовой, я замечаю Бобби – он сидит за столом с тем самым типом зловещего вида, который почему-то мне кажется знакомым. Бобби таращится на меня. Тот парень тоже. Я смотрю на них. Я принимаю вызов.
Выходим из столовой. Мои друзья отправляются на лекцию, а я иду в Семейный центр. Войдя в холл, вижу родителей, они сидят на тех же местах, что вчера. Когда подхожу к ним, они встают, приветствуют меня. Папа говорит.
Как прошел обед?
Хорошо.
Мама говорит.
С кем ты обычно сидишь?
Да завелись у меня тут друзья.
Кто они?
Ты правда хочешь знать?
Говорит Папа.
Конечно, мы хотим знать.
Мой самый лучший друг – какой-то мафиози. Сосед по палате – федеральный судья. Остальные – крэковые наркоманы и пьяницы. Еще у меня есть вроде как девушка, она проститутка, торчала на крэке и колесах.
Мать поеживается, но пытается это скрыть. Она говорит.
Они хорошие люди?
Я киваю, улыбаюсь.
Да, хорошие, и, как ни странно, лучших друзей у меня никогда не бывало.
По-настоящему важно только это – что они хорошие люди и нравятся тебе.
Да, нравятся. Очень.
Говорит Папа.
А разве отношения между мужчинами и женщинами здесь не запрещены?
Запрещены.
Значит, ты нарушаешь правила?
Здесь чертова куча правил. Я стараюсь все соблюдать. Но эта девушка, ее зовут Лилли, она так добра ко мне. Она классная, умная, она выслушивает меня, я выслушиваю ее, мы понимаем друг друга. Мы разные, приехали из разных мест, но во многом мы похожи. Оба поломали себе жизнь, оба пытаемся ее поправить. Обоим нужна помощь, и мы стараемся помочь друг другу.
Мама говорит.
А мне она бы понравилась?
Если бы ты смогла закрыть глаза на ее прошлое.
Я думаю, что смогла бы.
Тогда да, она тебе понравилась бы. Очень.
Ты любишь ее?
Ты же знаешь, мама, мне не нравится обсуждать такие вещи с тобой.
Может, ты попробуешь?
Я улыбаюсь, смотрю под ноги. Всю жизнь я скрывал от Отца с Матерью все, что мог. Больше я не хочу скрывать, поэтому поднимаю взгляд, смотрю на Мать и говорю.
Ей я не признавался, но да, я ее люблю.
Мать с Отцом улыбаются. Это искренние, радостные улыбки, самые лучшие улыбки, которые я видел. Мать говорит.
Мне хотелось бы познакомиться с ней.
Как-нибудь.
Говорит Отец.
Передай ей привет от нас, когда увидишь.
Я улыбаюсь.
Передам.
Звенит звонок.
Мужчина, который стоит возле звонка, приглашает нас пройти в те же комнаты, что и вчера. Я встаю, прощаюсь с родителями, обнимаю их. Чувствую себя не совсем в своей тарелке, но все равно обнимаю.
Иду в комнату. Стулья снова расставлены в круг. Сажусь, с одной стороны от меня молодая женщина, с другой – мужчина средних лет. Мы киваем друг другу, здороваемся. Входит Софи, садится на пустой стул в середине круга, представляется. Следом за ней и мы. По кругу называем себя.
Знакомство завершается. Софи встает, делает пару шагов назад. На стене у нее за спиной висит большая белая ламинированная доска, на полочке под ней – разноцветные маркеры. Софи берет один из них, синий, пишет на доске. Закончив, отходит в сторону. На доске написано: наркомания = болезнь, алкоголизм = болезнь.
Софи начинает говорить. Она говорит – у нас уже есть общее представление о том, что такое зависимое поведение и как оно влияет на тех, кто им страдает, и на их близких, теперь нам нужно понять причину подобного поведения. Она говорит, что зависимость – это болезнь. Неважно, какая зависимость – от алкоголя, от наркотиков, от пищи, от азартных игр, от секса или от чего другого – все равно это болезнь. Хроническая и прогрессирующая болезнь. Такова точка зрения большинства врачей и организаций, в том числе Американской медицинской ассоциации и Всемирной организации здравоохранения. Эту болезнь можно приостановить или вывести в стадию ремиссии, но в принципе она неизлечима. Несмотря на все наши старания, на все усилия, которые мы прикладываем, зависимость, говорит Софи, неизлечима. Абсолютно неизлечима.
Она переходит к причинам этой болезни. Полагают, что, как и большинство болезней, зависимость имеет генетические причины. Софи говорит, у алкоголиков и наркоманов имеется ген или комплекс генов, пока до конца не установленный, который и вызывает проявления этой болезни, если его активировать. Если это произошло, а пока мы не знаем, как это происходит и почему, то человек оказывается во власти болезни. Болезнью нельзя управлять, ее невозможно сдержать или подавить усилием воли, приняв решение не пить, не курить или не колоться, потому что не человек решает, а болезнь все решает за него. Больной всегда будет пить, курить, колоться, закидываться, всегда. Больной всегда хочет, всегда испытывает потребность, всегда голоден, и это желание, эта потребность, этот голод всегда ищут удовлетворения. Неспособность контролировать эту потребность, отсутствие свободы выбора как раз и есть симптом болезни. Опасный, страшный симптом, но все же только симптом. Болезнь неизлечима. Если она сорвалась с цепи, остановить ее нельзя.
Софи говорит о роли окружающей среды в развитии болезни. Обстановка в семье, наличие пьющих родственников, влияние друзей, доступность наркотиков и алкоголя, фактор стресса, потребность в социальном признании, прием лекарственных препаратов. Она говорит о роли окружения и его влиянии на тех, у кого болезнь находится в активной стадии. Она говорит, что необходимо по возможности удалить из окружающей среды все факторы, которые служат спусковым крючком и могут вызвать рецидив, – это, например, бутылки с вином дома или друзья, которые злоупотребляют веществами, она говорит, что это важная часть программы восстановления здорового образа жизни.
Закончив свою речь, Софи приглашает всех задавать вопросы. Вопросы есть почти у всех. Молодая мать спрашивает, какова вероятность передачи гена зависимости от ее мужа к детям. Вероятность очень высока. Она спрашивает, что же с этим делать. Когда дети подрастут, поговорите с ними, чтобы они осознавали опасность, и постарайтесь исключить как можно больше факторов риска. Мой сосед спрашивает насчет лекарств. Нет ли таких лекарств, которые лечат зависимость подобно тому, как другие болезни лечатся лекарствами. Было одно такое, называется антабьюз[7]. Если его принять, оно вызывает у алкоголика рвоту на спиртное. Но оно доказало свою неэффективность, потому что всегда можно перехитрить самого себя, не приняв это лекарство. Женщина средних лет спрашивает, существуют ли категории людей, у которых имеется особая генетическая предрасположенность к развитию зависимостей. Нет, риск для всех людей одинаков. Этот недуг настигает с равной вероятностью белых, черных, желтых, в любой стране мира. Мужчина, у которого жена в четвертый раз попадает в реабилитационный центр, спрашивает, почему с каждым рецидивом болезнь проявляется сильнее. Софи говорит – болезнь имеет неизлечимый и прогрессирующий характер, поэтому после периода ремиссии возвращается на тот уровень, где была заторможена. Он спрашивает, можно ли уменьшить силу рецидивов. Ответ отрицательный. Если болезнь возвращается вновь, то с большей силой.
Есть несколько вопросов насчет видов реабилитации. Молодой человек спрашивает, есть ли какая-то альтернатива тому, чем обычно занимаются в реабилитационных центрах, то есть Анонимным Алкоголикам и Двенадцати шагам. Да, конечно, есть и другие пути. А они помогают? Нет, не помогают. Почему? Не знаю почему, но не помогают. Анонимные Алкоголики и Двенадцать шагов – единственно работающий метод. Насколько он эффективен? Пятнадцать процентов тех, кто прошел через этот метод, остаются чистыми более года. Пятнадцать процентов – это ведь не так уж много. Верно, не так уж много. Почему не больше? Болезнь неизлечима. А чем мы можем помочь своим близким? Любить их и стараться поддерживать, больше ничем. Можно ли как-то повысить шансы на восстановление? Пятнадцать процентов – это максимум, который мы можем обещать вам.
Я сижу и слушаю. Сижу и думаю. Я не задаю вопросов, не говорю ни слова. Мне хочется вскочить и крикнуть – дерьмо это все, просто дерьмо собачье, но я сижу и молчу. Я не считаю, что зависимость это болезнь. Рак – вот это болезнь. Он захватывает тело и разрушает его. Паркинсон это болезнь. Он захватывает тело и мозг, сокрушает и разрушает их. Зависимость не болезнь. Нисколько не болезнь. Болезнь – это разрушительный физиологический процесс, который человек не в состоянии контролировать. Человек не может выбирать, какой болезнью заболеть и когда, сколько раз в сутки ему принимать свою болезнь, а также в какой форме – закидывать через глотку или качать по вене. Болезнь – это физиологический процесс, на который воздействуют медицинскими средствами. Болезни не лечат тем, что люди рассаживаются в кружок и обсуждают Двенадцать шагов. Болезни не лечат тем, что родственники собираются на трехдневные семинары, читают книжки с голубыми обложками и повторяют молитвы. Болезни не лечат душеспасительными разговорами о Высшей силе.
Конечно, генетику и роль генетики нельзя отрицать, но с генетикой так или иначе связано все в нас, наши физические тела предопределены генетикой. Однако, если человек разжирел до безобразия, это не генетическое заболевание. Если пьяница допился до чертиков, это не генетическое заболевание. Если человек отупел до идиотизма, это не генетическое заболевание. Любая зависимость – это личное решение. Человеку хочется чего-то, неважно чего, и он решает заполучить то, чего хочется. Заполучив, решает употребить. Если употреблять слишком часто, то процесс принятия решения постепенно вырывается из-под контроля, пока не вырвется окончательно, и тогда возникает зависимость. На этой стадии свое решение трудно контролировать, но все равно это личное решение. Употребить или не употребить. Принять дозу или не принять. Оставаться несчастным обдолбанным наркоманом и переводить свою жизнь на дерьмо или сказать нет, стать чистым и начать нормальную жизнь. Это решение. Каждый раз. Решение. Прими ряд таких решений, и ты задашь направление своей жизни, определишь свой образ жизни. Кто ты – наркоман или человек. И генетика тут вообще ни при чем. Пустая отговорка. Которая позволяет человеку говорить – я не виноват, у меня, видите ли, генетическая предрасположенность. Я не виноват, так запрограммировано с момента моего рождения. Я не виноват, меня даже никто не спрашивал, все решено без меня. Дерьмо собачье. На хер это дерьмо. Это всегда твое личное решение. Возьми ответственность на себя. Наркоман ты или человек. Это, черт подери, каждый раз только твое личное решение. Каждый раз.
Софи заканчивает отвечать на вопросы. Настроение у всех мрачное. Слова «генетика», «болезнь», «неизлечимая», «пятнадцать процентов успеха» повисают в воздухе и отравляют атмосферу, как радиоактивное излучение. Все озираются кругом. Поглядывают друг на друга. Мы понимаем – значит, после выписки отсюда восемьдесят пять процентов из нас столкнутся с теми же проблемами, которые привели их сюда. Мы осознаем, что корень наших проблем находится вне нашей власти, мы обречены.
Беремся за руки. Сжимаем руки крепче, чем вчера. Мы хотим зарядиться друг от друга надеждой, заручиться круговой порукой, как будто круговая порука способна изменить реальность. Ни фига не способна. Восемьдесят пять процентов из нас в заднице.
Заканчиваем, встаем, выходим из комнаты, расходимся. Пациенты в одну сторону, родственники в другую. Я возвращаюсь обратно в отделение, наливаю себе чашку кофе. Сажусь за стол. Утренние занятия как раз закончились, началась церемония выписки. Лысый Коротышка стоит, толкает речь перед людьми. Говорит, что все, чему он научился здесь, спасло ему жизнь. Говорит, если б не это, никогда б он не бросил пить, допился бы до смерти, потому что не раз пытался бросить, но не знал, как. Говорит, что теперь он знает, как. Говорит, что Анонимные Алкоголики, Двенадцать шагов и Высшая сила указали ему путь. Говорит, что пошел по этому пути и вернул себе жену и детей, а это главная награда в его жизни. Величайшая награда за всю жизнь. Он начинает плакать. Ему дают поплакать. Сквозь слезы он выговаривает – благодарю вас. Благодарю, что вы были рядом со мной все это время, что вы рядом со мной сейчас. Благодарю за жизнь. За семью. Она значит для меня все. Благодарю за все. Благодарю.
Пока он плачет, те, кто сидит в первом ряду, переглядываются, они не понимают, что делать и как реагировать. Кто-то хлопает. Одинокий резкий удар ладони об ладонь. Громкий, он пронзает сердца тех, кто растерянно переглядывается, как слова священника пронзают сердца верующих. Раздается еще один хлопок. За ним еще один. И еще. Аплодисменты в разных концах зала выражают всеобщее восхищение и уважение. Лысый Коротышка плачет. Зал аплодирует ему.
Он встает и улыбается. Вытирает лицо. Аплодисменты продолжаются. Леонард поднимается, салютует ему, остальные следуют его примеру. Все встают, машут, аплодируют, выражают одобрение. Лысый Коротышка улыбается шире, его лицо, его лысый череп светятся от радости – радость этой минуты смешивается с радостью от предвкушения счастливого будущего в кругу семьи. Эта радость освещает мрак его прошлого, в котором полно разных неблаговидных поступков. Я тоже встаю, хлопаю, радостно кричу. Волоски у меня на шее встают дыбом, по спине бегут мурашки. Удачи тебе, Лысый Коротышка. Я не был с тобой близко знаком, но ты показал мне, что значит плакать по-человечески. Ты смелее, чем я, чем остальные тут, чем все мы вместе взятые, удачи тебе. Возвращайся домой, будь счастлив, будь трезвым и свободным, живи той жизнью, о которой мечтаешь! Люби свою жену и детей, и пусть они любят тебя! Удачи тебе, Лысый Коротышка!
Он выбегает из комнаты. Вроде как раньше, да не так. Он улыбается, а не плачет, все смеются, но смеются не так, как раньше, совсем не так. Он выбегает свободным и трезвым. Перед ним простирается прекрасное, светлое будущее.
Аплодисменты и одобрительные возгласы стихают, все радуются и смеются, начинают потихоньку расходиться. Я вижу, как Майлз подходит к Леонарду, хлопает его по плечу, и они вместе направляются к двери. Я беру свой кофе, иду к телефону, захожу в кабинку и закрываю дверь. Поднимаю трубку и начинаю делать звонки. Звоню Брату. Он спрашивает, как мы поладили с Матерью и Отцом. Я отвечаю – лучше, чем ожидал. Он говорит – вот и хорошо, будь молодцом, они приехали, потому что любят тебя. Я говорю – стараюсь, а он говорит – вот-вот, старайся. Я говорю – конечно. Прошу его передать привет Кирку и Джулии, он говорит – конечно. Вешаю трубку.
Звоню Кевину. Кевин живет в Чикаго. Он что-то вопит в трубку, ручаюсь, что он пьян. Мне и противно, и завидно. Он свободен. Он выпивает. Воображаю стакан в его руке, спиртное на его губах, его ощущения, ощущения, ощущения. Спрашиваю – ну, как там Чикаго. Он отвечает – сейчас холодно. Спрашиваю – а мне бы понравилось в Чикаго, как он считает. Он отвечает – еще бы, тут куча темных закоулков и укромных мест, где можно спрятаться. Я отвечаю – не собираюсь я прятаться, собираюсь сесть в тюрьму. Он говорит – ты спятил, старик, на хер тебе тюрьма, не к ночи будь помянута. Я говорю – нужно отсидеть, а когда выйду из тюрьмы, приеду к вам в Чикаго. Он говорит – ну ладно, круто, если чего надо, я всегда помогу, и остановиться можешь у меня, когда приедешь к нам в Чикаго. Я говорю – спасибо, мы прощаемся. Он пьяный. Мне и противно, и завидно.
Звоню ее подругам. Они стали и моими тоже. Эми, Люсинда, Кортни. Разговор со всеми строится под копирку. Как ты – я хорошо. Я как раз вспоминала о тебе – спасибо, очень приятно. Тебе чего-нибудь надо – спасибо, ничего. Говорят сдержанно, напряженно. Словно им известно что-то, о чем не упоминают при мне. Они это чувствуют, я это чувствую. Лучше этой темы не касаться, я и не касаюсь, они тоже. Теперь это не мое дело. Все трое говорят, что любят меня. Не в романтическом смысле, а просто как люди любят тех, с кем вместе многое пережили и перестрадали. Они пережили и перестрадали вместе со мной. Я отвечаю, что тоже люблю их, и это правда. После разговора с ними с тремя я чувствую себя лучше. Не из-за их отношения к ней, а из-за их отношения ко мне.
Со звонками покончено. Я сделал достаточно звонков, теперь весть обо мне разлетится среди тех, кому интересно. Выхожу из отделения, иду по коридорам, вдоль стеклянного коридора, который разделяет мужскую и женскую половину столовой. Высматриваю Лилли, она сидит за столом, с приятельницами. Смотрит на меня. Глаза у нее красные, опухшие. На щеках свежие следы от слез, только что вытертых. Ее руки дрожат. Смотрит на меня так, словно желает мне смерти.
Я не подаю вида, чтобы не рисковать и не выдавать нас еще больше, и так мы себя уже выдали. Но она не отрываясь смотрит на меня. Смотрит на меня так, словно желает мне смерти. Я тоже смотрю на нее, поднимаю руки, опускаю голову и безмолвно спрашиваю – что стряслось, спрашиваю только выражением лица и жестом. Она все так же смотрит на меня. Словно желает мне смерти. Я повторяю свой безмолвный вопрос. Я знаю, что это могут заметить, но мне плевать. Она все так же смотрит на меня.
Беру поднос, встаю в очередь, выбираю запеченную курицу. К ней хрустящая китайская лапша и какие-то овощи. Пока иду к столу, смотрю за стекло. Она все так же глядит на меня. Ее соседки глядят на меня. Весь стол пялится на меня.
Сажусь к Эду, Теду и Матти. Предмет разговора – Эд, который сегодня утром узнал, что завтра его выписывают. Он намерен вернуться в Детройт, снова поступить на свой сталелитейный завод. Он рад и полон надежд. Он знает, что больше профсоюз не будет платить за его лечение, но ему кажется, что в этот раз ему действительно помогло и он сможет вернуться к работе. Ему не терпится поскорее увидеть своих сыновей. Их у него четверо. Он знает, что подавал им ужасный пример, и хочет, чтобы они увидели, как он исправился. Ему кажется, что благодаря этому изменится к лучшему и жизнь сыновей, они не повторят тех ошибок, которые совершил он. Эд настоящий мужчина. Большой, сильный, прочный, как сталь, которую он варит, и я никогда не видел, чтобы он в чем-то давал слабину, но, когда он говорит про своих сыновей, глаза у него увлажняются и тают. Он желает сыновьям хорошей жизни, лучшей, чем у него. Он хочет, чтобы они закончили школу, не попали в тюрьму, поступили в колледж, стали белыми воротничками. Он хочет, чтобы они обзавелись семьями, а потом стали образцовыми отцами семейств. Он хочет им всего того, чего сам был лишен, и хочет оставаться трезвым, чтобы обеспечить им все это. Он говорит – для этого потребуется всего одна вещь – обходить стороной бары. Если только он заглянет в бар, то наверняка напьется. А если напьется, то наверняка затеет драку. А если затеет драку, то наверняка попадет в полицию. Профсоюз не окажет ему поддержки, если он снова попадет в полицию. Эд хочет стать хорошим примером для своих сыновей, чтобы они не закончили, как он. Он понимает, что это его последний шанс. Он рад и полон надежд. Мы доедаем обед. Выходя из столовой, я смотрю сквозь стекло на женскую половину. Лилли там нет. За столом пусто. Не понимаю, почему она глядела на меня так, словно желала мне смерти.
Все вместе мы идем по коридорам. Матти, Эд и Тед обсуждают, куда подевались Леонард с Майлзом. Смеются – какие общие дела у них завелись. У гангстера с судьей. Эд говорит, что видел их на скамейке перед озером, увлеченно о чем-то беседовали. Тед говорит – наверное, Леонард советуется с Майлзом, как не загреметь под суд, учитывая кой-какие его делишки. Матти говорит – их дела нас не касаются, нечего туда нос совать. Мы расходимся в разные стороны, они идут в зал на лекцию, а я в кабинет Джоанны.
Джоанна сидит за столом. Я говорю ей – привет, она отвечает – привет. Мать сидит на диване. Она встает, здоровается, обнимает меня. Я тоже обнимаю ее. Я по-прежнему испытываю неловкость, когда она прикасается ко мне, а я к ней, но понимаю, что это необходимо, так будет лучше. Она обнимает меня очень крепко. Я жду, пока она отпустит меня. Она отпускает, мне становится легче.
А где Папа?
Мать говорит.
Его вызвали по делам. Он приедет, как только освободится.
Все в порядке?
Надеюсь.
Я смотрю на Джоанну.
Чем займемся?
Поговорим о причинах твоей зависимости, каковы ее корни.
Отца ждать будем?
Да.
А что будем делать, пока ждем?
Твоя мама сейчас рассказывала мне кое-что.
Что именно?
Как она впервые заподозрила, что с тобой не все ладно.
Я смотрю на Мать.
Когда же?
Помнишь, я нашла у тебя пакет марихуаны в кармане пальто?
Я усмехаюсь.
Еще бы.
Почему ты смеешься?
Не знаю.
Это не смешно, Джеймс.
Я знаю, Мама.
Джоанна говорит.
Тебе это кажется смешным, Джеймс?
Вроде того.
Может, ты расскажешь нам свою версию этого события.
Я смотрю на Мать, она смотрит на меня. Выжидаю с минуту, собираюсь с мыслями, потом говорю.
Мне было четырнадцать лет. Накануне я провел лето в футбольном лагере. Там познакомился с девочкой, ее звали, кажется, Кэти, и мы с ней все время убегали и курили траву. После лагеря, когда разъехались, стали писать друг другу. Она была моим двойником, только в женском обличье, а это значит, что в письмах много говорилось о наркотиках и выпивке. Однажды я вернулся из школы, вошел к себе в комнату и обнаружил, что все мое барахло, которое я прятал, и среди прочего письма Кэти, вывалено на комод. Я понял, что дела мои плохи, и дико разозлился на Маму за то, что рылась в моем барахле, поэтому сбежал вниз по лестнице, чтобы найти ее и все ей высказать. Когда вошел на кухню, она стояла там с пакетом марихуаны, который нашла у меня в кармане пальто. Она спросила, что это такое, а я спросил, где она это взяла, а она сказала – не смейте задавать мне вопросов, молодой человек, а я сказал – сначала ответь, где ты это взяла, тогда я отвечу, что это такое, а она сказала – прекратите хамить, молодой человек, и тут я рассмеялся.
Я посмотрел на Мать. Ее лицо под слоем косметики побледнело. Я перевел взгляд на Джоанну.
Она трясла у меня перед носом травой и орала – что это такое где ты это взял отвечай немедленно. Я смеялся, а она продолжала орать. У меня уши заложило от ее крика, и еще я взбесился из-за того, что она вторглась в мое личное пространство, поэтому протянул руку и выхватил у нее пакет. Она была вне себя и ринулась ко мне, хотела ударить. Я следил за ней и, когда она замахнулась, поймал ее руку. Тогда она замахнулась другой рукой, но ту я тоже перехватил. Я держал ее за обе руки, она вырывалась и кричала, а я смеялся. Смеялся я, наверное, потому, что в моих глазах пакетик марихуаны был сущим пустяком, и меня смешило, что из-за него разыгралась такая драма. Ударить меня Мама не могла, потому что я сжимал ее руки, поэтому попыталась лягнуть меня. Когда она сделала это, я отпустил ее руки, она потеряла равновесие, упала на пол и расплакалась. Я повернулся и вышел из дома. Я слышал, как она плачет, но не хотел с этим разбираться, поэтому просто ушел. Домой вернулся через несколько часов, Отец наорал на меня и запер на месяц.
Я смотрю на Мать. Она смотрит в пол. Джоанна говорит.
Ужасная история, Джеймс.
Знаю.
Что ты чувствовал, когда рассказывал ее?
Какая-то часть внутри меня по-прежнему находит ее смешной. Но по большому счету мне стыдно.
Как ты думаешь, что чувствует твоя Мать?
Я смотрю на Мать. Она смотрит в пол, сдерживает слезы.
Я думаю, ей очень плохо.
Почему?
Потому что это очень унизительно. Хочешь отчитать своего ребенка за наркотики, а он смеется, хочешь наказать его, а в результате летишь вверх тормашками на пол.
Джоанна смотрит на Мать.
Это так, Линн?
Мать поднимает голову, ее губы дрожат.
Да, так.
Ты считаешь, что эта история на самом деле про наркотики и наказание?
Я говорю.
Нет.
А про что тогда?
Про желание контролировать.
Почему ты так считаешь?
Она рылась в моих вещах, читала мои письма, потому что хотела знать, что я делаю, значит, хотела контролировать меня. Заставляла меня сказать, что в пакете, хотя прекрасно знала, что в нем, это тоже из желания управлять мной. А когда она упала после того, как ударила меня ногой, она расстроилась не из-за того, что упала, а из-за того, что поняла – она не может мной управлять.
Джоанна смотрит на мою Мать.
Вы считаете это толкование правильным?
Мать смотрит в пол, думает. Поднимает голову.
Я расстроилась из-за наркотиков. Конечно, тяжело было прочитать эти письма и узнать, чем он занимался в лагере, особенно если учесть, что мы отправили его в лагерь, чтобы отвлечь как раз от этого. Когда я нашла пакет у него в пальто, я испугалась, пришла в ужас. Ему только четырнадцать лет. У мальчика четырнадцати лет не должно быть пакетов с наркотиками. В какой-то мере он прав, когда говорит о контроле. Мы с мужем всегда пытались контролировать его, прежде всего потому, что он всегда очень плохо поддавался контролю.
Стук в дверь. Джоанна говорит – войдите, дверь открывается, в кабинет входит мой Отец.
Мать встает ему навстречу, обнимает его. Я тоже. Отец садится рядом с Матерью. Он берет ее за руку и смотрит на Джоанну.
Простите, что опоздал.
Мы говорили об одном эпизоде, который произошел, когда Джеймсу было четырнадцать лет, и в ходе разговора вышли на проблему контроля. Цель нашей сегодняшней встречи – разобраться, в чем причина зависимости, которой страдает Джеймс. Мне кажется, что может существовать какая-то связь между этой причиной и проблемой контроля.
О каком эпизоде вы говорили?
Говорит Мать.
Мы говорили о том, как я нашла пакет с марихуаной у него в пальто.
В который раз?
В тот раз, когда хотела ударить его.
Отец кивает.
Да, ничего хорошего. А при чем здесь контроль?
Говорит Джоанна.
Джеймс сказал, что, по его мнению, этот случай связан не столько с наркотиками, сколько с желанием контролировать его.
Отец поворачивается ко мне. Вид у него недоумевающий, немного недовольный.
Это звучит несколько смешно, Джеймс.
Я говорю.
Только не для меня. Рыться в моих вещах, читать мои письма, обыскивать мои карманы – это попытка влезть в мою жизнь, чтобы контролировать меня.
Но у тебя оказались наркотики. Твоя мать имела полное право проверить твои карманы. Тебе было всего лишь четырнадцать лет.
Хорошо, допустим так. Но шпионить за мной, копаться в моих личных вещах, это все от желания контролировать меня, именно это вы всегда пытались делать.
Отец повышает голос.
Ты всю жизнь ускользал из-под контроля. Что нам, твоим родителям, оставалось делать?
Предоставить меня самому себе. Позволить жить своей жизнью.
В четырнадцать лет? И где бы ты оказался, дай мы тебе свободу?
А где я, черт подери, оказался теперь? Вряд ли могло быть хуже.
Родители не предоставляют детей самим себе, Джеймс. Они воспитывают детей. Именно это мы с твоей матерью и пытались делать.
Вы пытались управлять каждым моим шагом, отслеживать каждую секунду моей жизни изо дня в день, чтобы заставить меня поступать, как вам угодно.
Отец сжимает челюсти – так же, как это делаю я. Он зол, очень зол, и хочет что-то сказать. Джоанна прерывает его.
Погодите минутку, мистер Фрей.
Он делает глубокий вдох и кивает. Она смотрит на меня.
По какой причине этот метод не сработал, как ты считаешь?
По той же причине, почему собака, если ее держать на коротком поводке, становится более агрессивной. По той же причине, почему заключенный, если его долго держать в одиночке, становится опасен. По той же причине, почему диктатура обычно приводит к революции.
Это интересные примеры, но в чем причина?
Я не хотел, чтобы меня контролировали, поэтому делал все, что в моих силах, чтобы вырваться за рамки контроля, а это вызывало у них желание усилить контроль.
Джоанна смотрит на моих родителей.
Как вам кажется, в его словах есть смысл?
Говорит Отец.
Нет.
Говорит Мать.
Есть.
Отец смотрит на Мать.
Почему ты так думаешь?
Ты знаешь, я всегда беспокоилась за него, даже когда он был совсем маленьким, я беспокоилась. Я, может, старалась держать его чересчур близко к себе, потому что боялась, что его обидят.
Говорит Джоанна.
У вас есть еще один сын, верно?
Мать кивает, Отец говорит – да.
Его вы воспитывали так же?
Отец кивает и говорит.
Да.
Мать говорит.
Нет.
В чем была разница?
Джеймсу я уделяла гораздо больше внимания, чем Бобу. Я знала, что других детей у нас не будет, поэтому хотела дать Джеймсу все, чтобы он был счастлив и здоров, оградить его от всех опасностей. Не знаю, как точнее сказать. Я старалась оградить его от всех опасностей.
Это вполне естественное желание, но не кажется ли вам, что вы перестарались?
Говорит Отец.
Разве можно в этом перестараться? Речь ведь идет о ребенке.
Джоанна кивает.
Да, можно.
Мать говорит.
Каким образом?
У каждого человека есть личное пространство. У всех оно по-разному устроено, но у каждого человека есть границы. Когда эти границы нарушают, происходит вторжение в личное пространство, такое вторжение всегда причиняет обиду. Если границы нарушаются регулярно, особенно в отношении ребенка, который не способен защитить себя и свои границы, это приводит к негативному поведению. Самый простой способ – бунт против авторитетов.
Говорит Отец.
Мне это кажется абсурдным. Для детей границы устанавливают их родители, в результате ребенок учится уважать родителей, а никак не наоборот.
Говорит Джоанна.
Не всегда.
Что вы имеете в виду?
В течение первых двух лет жизни человек узнает больше, чем за всю последующую жизнь, даже если проживет до ста лет. Основные модели поведения, включая личные границы, формируются в первые два года. Иногда нормальный процесс развития нарушается.
Почему?
Обычно в результате насилия.
Отец вспыхивает.
На что вы намекаете.
Джоанна поднимает руку.
Я ни на что не намекаю. Когда я затронула тему насилия в разговоре с Джеймсом, он категорически заявил, что никогда не подвергался ничему подобному. Я просто сказала, как это порой бывает.
Говорит Мать.
Мы действительно опекали Джеймса больше, чем второго сына, но у нас были самые добрые намерения, и я не думаю, что мы куда-то насильно вторгались.
Джоанна смотрит на нее, ждет, что она продолжит.
Боб на три года старше Джеймса. Как раз после того, как Боб родился, мой отец вышел на пенсию и начал сильно пить. Нам с мамой, братом и сестрой приходилось нелегко. Мы пытались остановить его, но он требовал оставить его в покое, говорил, что он и так всю жизнь потратил на нас и теперь вправе делать что хочет. Я слышала, что алкоголизм передается по наследству, и до смерти испугалась такой возможности, когда родился Джеймс. Уж не знаю, была ли это женская интуиция или что-то еще, но почему-то я не переживала за Боба, а вот за Джеймса очень боялась.
Я говорю.
Так дедушка был алкоголик?
Отец смотрит на Мать, та кивает.
Не знаю, был ли он алкоголиком в строгом смысле, но выпивал очень сильно.
Говорит Джоанна.
А ты не знал этого, Джеймс?
Говорит Отец.
Мы никогда не говорили на эту тему.
Почему?
Эта ситуация очень огорчала всех. Мы старались помнить отца Линн таким, каким он был большую часть жизни – добрым, благородным и щедрым, а не таким, каким стал к концу.
Говорит Джоанна.
Как Линн упомянула, доказана связь между таким заболеванием, как алкоголизм, и генетикой. Не кажется ли вам, что Джеймсу было бы полезно узнать – а лично я так и считаю, – что у него имеется генетическая предрасположенность к развитию зависимости?
Говорю я.
Я не думаю, что, узнай я правду про дедушку, это сыграло бы какую-то роль. Я пил и принимал наркотики не из-за плохих генов.
Говорит Джоанна.
Почему ты запросто отрицаешь факт, который доказан наукой?
Я считаю, что это дерьмо собачье, а не факт. Люди не хотят сами отвечать за свою слабость, поэтому сваливают вину на болезнь или на гены, за которые они не отвечают. Что касается науки, то я докажу вам что угодно – например, что я родом с Марса, дайте мне только время и деньги.
Говорит Мать.
Конечно, это нам помогает многое понять.
Занятно, что у дедушки были проблемы с выпивкой. Я очень удивился, когда узнал, потому что всегда слышал в его адрес одни восторги. Думаю, он достал всех и общаться с ним было то еще удовольствие, не лучше, чем со мной, но все равно, я не виню ни его, ни его гены в своем поведении.
Говорит Отец.
Как же ты объясняешь свое поведение?
Я был слабый, безвольный, не мог совладать с собой. Но, каким ни будь объяснение, сути дела это не меняет. Мне необходимо измениться, я должен измениться, а изменение – это только мой собственный выбор, мое собственное решение, если я не хочу умереть. Значение имеет только то, что я сам решаю и делаю для своего будущего.
Говорит Джоанна.
А ты не считаешь, что понимание причины твоего поведения помогло бы тебе его изменить?
Мне кажется, я понимаю причину.
Не поделишься с нами своими мыслями?
Нет, пожалуй.
Почему?
Потому что это причинит боль родителям и огорчит их, а мне кажется, с них и так уже довольно.
Говорит Мать.
Мы предпочли бы все узнать, Джеймс.
Говорит Отец.
Безусловно.
Я смотрю на них, глубоко вздыхаю, говорю.
У меня всегда было такое чувство. Не знаю подходящих слов, чтобы описать его точно, какая-то смесь обиды, гнева, злости, сильной боли. Эту смесь я называю Яростью. Я испытываю эту Ярость с тех пор, как начал себя помнить. Это чувство, которое сопровождает меня всю мою жизнь. Я научился справляться с ним, но до недавних пор не знал другого способа, кроме алкоголя и наркотиков. Я употреблял то, что было под рукой, и если дозы хватало, то Ярость отпускала. Проблема в том, что она всегда возвращалась и с каждым разом делалась сильнее, и требовались вещества сильнее и дозы больше, чтобы убить ее, а цель у меня всегда была одна – убить ее. После того как я в первый раз напился, я узнал, что алкоголь убивает ее. После того как я в первый раз принял наркотики, я узнал, что наркотики убивают ее. Я стал принимать их часто не потому, что у меня генетическая предрасположенность или какая-то болезнь, а потому что знал – они убивают эту проклятую Ярость. Я понимал, что заодно убиваю и себя, но убить Ярость было важнее.
Я смотрю на родителей.
Не знаю, почему, не знаю, важно ли это, но всякий раз, когда вы находитесь рядом, эта Ярость усиливается. Каждый раз, когда вы пытались меня воспитывать, поучать или баловать, как-то заботиться обо мне, Ярость становилась невыносимой. Когда мы говорим по телефону и я слышу ваши голоса, Ярость растет. Я рассказываю об этом не для того, чтобы обвинить вас, я правда считаю, что вас не в чем винить. Я знаю, что вы делали для меня все, что в ваших силах, считаю, что мне повезло с вами, и не думаю, что какие-то ваши поступки могли вызывать у меня Ярость. Может, у моей Ярости есть генетические причины, но я сильно сомневаюсь в этом и на хер посылаю эту вашу генетику, я ни фига не считаю генетику или болезнь причиной. А то бы уж слишком легко было увильнуть от ответственности за свое поведение. Все, что я делал, я делал с полным сознанием того, что делаю. Каждый раз я прекрасно сознавал, что делаю, когда собирался двинуться, закинуться, качнуть по вене, подышать в трубку или нахамить полицейским. Каждый раз я принимал сознательное решение. Чаще всего я хотел убить свою Ярость, иногда хотел убить себя, порой не понимал разницы между первым и вторым. Но я понимал, что моя цель – убить, что эта цель приближается с каждым глотком, с каждой дозой, и моя смерть, может, будет благом для всех. Как бы то ни было, я чувствую то же самое и сейчас, сидя тут рядом с вами, и буду чувствовать завтра утром, когда увижу вас. Я буду чувствовать эту Ярость во время нашего разговора и некоторое время после, и если есть какое-то объяснение тому, почему я таким стал и почему так себя веду, то это моя Ярость, с которой я не умею справиться без алкоголя и без наркотиков. Как мне исправиться? Я принимаю ответственность на себя, учусь контролировать себя и справляться со своей Яростью. Для этого потребуется немало времени, но если я продержусь достаточно долго, если не поддамся слабости и не сверну с пути, что бывает, то все получится.
Отец и Мать смотрят на меня. У Матери такой вид, словно она сейчас расплачется, Отец побледнел, словно увидел жуткую катастрофу. Мать хочет что-то сказать, открывает рот, закрывает, вытирает слезы. Отец смотрит перед собой. Говорит Джоанна.
Не вдаваясь в детали, я сказала бы, что твоя теория не лишена смысла. Скажи только, откуда, по-твоему, берется эта Ярость?
Не знаю.
Она смотрит на родителей. У Матери на лице слезы, Отец так же неподвижно смотрит в одну точку. Мать глядит на меня, говорит.
Почему ты никогда не рассказывал нам об этом раньше?
Как ты себе представляешь такой разговор?
Ты ненавидишь нас?
Я отрицательно трясу головой.
Что мы сделали не так?
Ничего, Мама. Тут нет вашей вины.
Она вытирает лицо. Отец неподвижно смотрит перед собой.
Прости, Джеймс.
Не извиняйся, Мама. Это я должен просить прощения.
Следует долгое молчание. Отец смотрит на Джоанну и говорит.
Может ли это чувство, или комплекс чувств, корениться в проблемах со здоровьем?
У Джеймса были проблемы со здоровьем в детстве?
Да, у него болели уши.
Какой диагноз ему поставили и какое лечение назначили?
Говорит Мать.
Мы не знаем.
Как это вы не знаете?
Мать смотрит на Отца, берет его за руку и говорит.
Когда мальчики родились один за другим, у нас было плоховато с деньгами. Боб работал адвокатом, но почти весь его заработок уходил на погашение кредита, который он взял на учебу в университете. Боб-младший родился здоровым ребенком, очень жизнерадостным. Вел себя спокойно, уравновешенно. Джеймс – полная противоположность. После рождения все время кричал, целыми днями кричал, и, что ни делай, успокоить его не удавалось. Это был жуткий крик, нескончаемый, громкий, пронзительный, он до сих пор звучит в моей памяти. Мы обратились к врачу, к такому, какого могли себе позволить.
Врач сказал, что ничего страшного, просто Джеймс, видимо, голосистый ребенок. Мы вернулись домой, крик продолжался. Я носила Джеймса на руках, Боб носил его на руках, мы его забавляли погремушками, кормили как можно чаще, но ничего не помогало. Он продолжал кричать.
По щекам Матери начинают течь слезы. Она с силой сжимает руку Отца, Отец смотрит на нее, пока она рассказывает. Я сижу и слушаю. Хоть я впервые слышу эту историю, она меня не удивляет. Я кричу много лет подряд. Жуткий, пронзительный, убийственный, леденящий кровь вопль. Мать продолжает сквозь слезы.
Так продолжалось почти два года. Джеймс все кричал и кричал. У Боба дела в фирме пошли на лад, он получил повышение, и как только у нас завелись деньги, я отвезла Джеймса к очень хорошему доктору. Едва взглянув на Джеймса, доктор сказал, что у ребенка оба уха сильно поражены инфекцией, которая пожирает барабанные перепонки. Он сказал – Джеймс все это время кричал от боли и просил нас о помощи. Доктор сказал, что требуется хирургическое вмешательство, и первую операцию, на обоих ушах, сделали, когда Джеймсу еще не исполнилось двух лет, потом еще шесть. Конечно, это ужасно, но мы ведь не знали, в чем дело.
Слезы переходят в рыдание.
Если б мы знали, мы бы что-то сделали.
Рыдания.
Но мы ведь не знали.
Отец обнимает ее.
Он просто кричал, кричал все время, а мы не знали, что он кричит от боли.
Мать падает Отцу на грудь, утыкается лицом в его плечо, ее сотрясают рыдания. Отец обнимает ее, терпеливо ждет, когда она успокоится, поглаживает по волосам и спине. Я сижу и смотрю на них, и, хотя не помню событий, о которых она рассказывает, боль я все-таки помню. Она осталась на всю жизнь. Боль.
Мать прекращает плакать, чуть-чуть, совсем чуть-чуть отстраняется от Отца. Она смотрит на меня.
Прости нас, Джеймс. Мы ведь не знали. Мы правда не знали.
Я протягиваю ладонь, кладу на руку Матери.
Тебе не за что просить прощения, Мама. Вы сделали все, что могли.
Она отходит от Отца, делает два шага навстречу мне, кладет руки мне на плечи, обнимает меня. Она обнимает меня сильно, крепко, я отвечаю на ее объятие, я понимаю, что так она хочет выразить раскаяние и сочувствие. В каком-то смысле этим объятием она просит у меня прощения, хотя ни в чем не виновата.
Она отходит от меня, снова садится рядом с Отцом. Джоанна ждет момента, когда кто-либо из нас возобновит разговор. Не дождавшись, она говорит сама.
А ты что-нибудь помнишь об этом, Джеймс?
Я помню какие-то операции, но только потому, что они продолжались до двенадцати лет. Самых первых лет, конечно, не помню.
Что сейчас у тебя со слухом?
Я потерял тридцать процентов слуха на левом ухе и двадцать процентов на правом.
Почему ты не рассказал мне об этом раньше?
Я не думал, что это имеет значение.
Это помогает понять или даже целиком объясняет, почему самые первые твои воспоминания связаны с обидой, гневом и болью.
Почему?
Ребенок после рождения нуждается в пище, защите и чувстве безопасности или комфорта. Если он кричит, у его крика обычно есть причина, что касается тебя, то ты кричал, потому что страдал от боли и звал на помощь. Если крик ребенка оставляют без внимания, специально или нет, то у него возникает весьма глубокое чувство гнева, которое может перерасти в длительную обиду. Гнев и обида объясняют, откуда у тебя берется чувство, которое ты называешь Яростью. Становится также понятно, почему это чувство усиливается в присутствии родителей, а также когда они пытаются контролировать тебя.
Я сижу, размышляю. Пытаюсь решить, согласен ли я принять генетику и ушную инфекцию как объяснение всего этого кошмара моей жизни, который длится двадцать три года. Конечно, это самое простое. Водрузить себя на пьедестал как страдальца, а все свои безобразия списать на дедушкины гены и глупость врача. И в итоге двадцать три года кошмара. Двадцать три года в аду. Я мог бы согласиться с этой нехитрой схемой, которую предложили мне. Просто согласиться, и все.
Я поднимаю голову. Родители смотрят на меня, Джоанна смотрит на меня. Они ждут моего ответа. Я делаю вдох и говорю.
Интересная теория. Может, в ней есть свой резон. Я могу согласиться с тем, что она в какой-то мере объясняет, откуда взялись мои чувства. Но я не могу согласиться с тем, что она объясняет мои поступки, потому что считаю это простой отговоркой. Что толку искать причину своей слабости не в себе, а в чем-то другом. Я сам совершил то, что совершил. Никто меня не заставлял. Я сам принимал все решения. И единственный путь исправиться – принять решение либо быть наркоманом, либо не быть. Для меня другого пути нет. Я знаю, все вы будете убеждать меня в обратном, но не тратьте силы напрасно.
Джоанна улыбается, Мать с Отцом смотрят на меня. Я смотрю на Джоанну, говорю.
Почему вы улыбаетесь?
Она улыбается.
Потому что ты самый упрямый тип, которого я когда-либо встречала.
Я просто не хочу делать из себя жертву.
Что ты имеешь в виду?
И здесь в клинике, и где угодно люди хотят решить свои проблемы, те самые, которые обычно своими руками создали, переложив их на кого-то другого. Я знаю, что Мать с Отцом сделали для меня все, что могли, дали мне все, что могли, и любили меня изо всех сил, и если уж искать среди нас жертву, то это они, причем по моей вине. Я мог бы сказать – у меня сбой в генетическом коде и моя наркомания – следствие, я, видите ли, болен, но я считаю, что это куча дерьма. Если я стал жертвой, то только по собственной вине, и думаю, что все люди с такой же болезнью, как вы это называете, тоже жертвы по собственной вине. Если вам угодно называть эту точку зрения упрямством, ради бога. Я называю ее философией ответственности. Я называю это – нести свои проблемы и свою слабость с честью и достоинством. Я называю это излечением.
Джоанна улыбается.
Хоть я не могу до конца принять твою философию, ты меня начинаешь убеждать.
Я улыбаюсь.
Спасибо.
Говорит Отец.
Джеймс.
Я поворачиваюсь к нему с Матерью. Они улыбаются мне.
Я никогда не гордился тобой так, как сейчас.
Я улыбаюсь.
Спасибо, Папа.
Говорит Мать.
Я тоже, Джеймс.
Спасибо, Мама.
Джоанна смотрит на часы.
Я думаю, мы славно поработали сегодня, уже поздно.
Я встаю.
Позвольте уйти.
Родители встают. Мать говорит.
Давай напоследок еще раз обнимемся.
Я делаю шаг к ним, кладу руку каждому на плечо, они обнимают меня. Мы обнимаемся все втроем, крепко, непринужденно, с особым чувством, может, с любовью. Ярость вспыхивает в тот же миг, я чувствую напряжение, но сила нашего объятия уничтожает Ярость. Быстро, легко. Сила объятия уничтожает ее.
Мы отпускаем друг друга. Родители все еще улыбаются. Я говорю Джоанне – до свидания, она отвечает – до свидания. Открываю дверь, жду. Родители говорят Джоанне – до свидания и спасибо, она улыбается и отвечает – не за что. Они выходят, я за ними. Мы прощаемся за дверью, они идут в одну сторону, я в другую.
Возвращаюсь в отделение. Проделываю этот путь на автопилоте. Я устал, охота поскорее в постель. Не хочу ни с кем общаться. Не хочу думать ни про тюрьму, ни про генетику, ни про ушную инфекцию. Про тюрьму я ничего не знаю, а генетика и ушная инфекция не имеют значения. Скорее закрыть глаза и уснуть.
Подхожу к своей палате, открываю дверь, вхожу. Майлз в постели, уже спит. На тумбочке возле моей постели горит настольная лампа, я выключаю ее и ныряю под одеяло. Там тепло. Подушка мягкая.
Я устал.
Засыпаю.
Чьи-то руки трясут меня, трясут осторожно, не грубо. Слышу, как меня зовут по имени – Джеймс, Джеймс, Джеймс. Меня зовут по имени. Джеймс.
Открываю глаза. Темно, в темноте различаю смутные очертания того, кто трясет меня и зовет по имени. Моргаю раз, другой. Темно. Всматриваюсь в темноту.
Майлз стоит надо мной. Смотрит мне в глаза, мне видны его глаза. Он отпускает меня. Я сажусь на постели.
Там девушка под окном, хочет тебя видеть.
Что?
Девушка под окном. Просит тебя подойти.
Я наклоняюсь, вглядываюсь в окно за его спиной. Вижу фигуру за стеклом.
Черт.
Майлз улыбается.
С женщинами непросто. Если не обращать на них внимания, они становятся настойчивей. Я бы советовал поговорить с ней.
Черт.
Я откидываю одеяло. Майлз сторонится. Вылезаю из кровати, иду к окну, открываю его. Порыв холодного воздуха ударяет в лицо. Высовываю голову на улицу. Лилли стоит в тени. Она говорит.
Мне нужно поговорить с тобой.
Прямо сейчас?
Да.
А до утра отложить нельзя?
Мне нужно поговорить с тобой.
Погоди минуту.
Закрываю окно. Оглядываюсь, Майлз улыбается мне.
Ясно же, что до утра отложить не удастся, если она разбудила нас посреди ночи.
Мало ли, попытка не пытка.
Натягиваю штаны.
С ними и пытаться не стоит. Делай, что говорят.
Надеваю ботинки.
Буду придерживаться такой линии поведения в будущем.
Натягиваю куртку Хэнка.
Это самая лучшая линия.
Снова подхожу к окну.
Прости, что разбудила.
Майлз улыбается мне.
Смотри, не простудись.
Улыбаюсь я.
Не простужусь.
Снова открываю окно, холод ударяет в лицо, холод, холод. Вылезаю из окна, закрываю его. Лилли стоит в тени. Иду к ней.
Привет.
Это все, что ты хочешь сказать?
А что я должен сказать?
Ты думаешь – достаточно сказать привет и все будет в порядке?
О чем ты, не понимаю.
Я подхожу, останавливаюсь перед ней. Вижу ее опухшие глаза, лицо в подтеках слез. Она покачивается взад-вперед. Того и гляди упадет.
Да что стряслось-то, черт возьми?
Она делает шаг вперед и толкает меня.
Сам пошел к черту.
Я смеюсь. Она снова толкает меня.
Тебе смешно?
Она снова толкает меня.
Пошел к черту.
Ее голос становится громче. Она снова толкает меня.
Пошел к черту.
Она отступает назад.
ПОШЕЛ К ЧЕРТУ.
Она замахивается. Ловлю ее руку. Она замахивается другой рукой. Ловлю другую руку. Она вырывается, сжимает зубы, но я крепко держу ее и увожу подальше от клиники, не причиняя боли, но властно, чтобы она шла за мной. Она твердит – пусти меня, пусти меня, ты, сволочь, пусти меня. Я не обращаю внимания. Медленно отхожу в глубину двора, держу ее за руки и осторожно тащу за собой, в темноту.
На расстоянии метров двадцати от клиники мы уже в безопасности. Я продолжаю вести ее за собой, она продолжает вырываться, ругаться и обзывать меня. На расстоянии пятидесяти метров еще безопаснее. Темнота тут гуще. Звуки глуше. Я останавливаюсь, перестаю тащить ее, но не отпускаю. Она вырывается. Я обнимаю ее, крепко сжимаю.
Успокойся.
Нет.
Я не отпущу тебя.
Сейчас получишь.
Она вырывается сильнее. Я сжимаю крепче. Упирается телом в меня, руками пытается меня оттолкнуть. Я держу, она вырывается. Я жду, она ругается. Она успокаивается, через несколько минут она успокаивается, но я продолжаю ее держать. Она громко дышит. Дышит тяжело, глубоко. Вокруг тишина ночи. Темнота ночи, которая означает безопасность.
Ее дыхание постепенно выравнивается. Я кладу голову ей на плечо. Когда ее дыхание приходит в норму, я говорю.
Все в порядке?
Нет.
Что случилось?
Ты сволочь.
Почему я сволочь?
Ты поговорил с ним.
О чем ты?
Ты поговорил с этим подонком из отделения.
Я не понимаю, о чем ты.
Где ты был сегодня?
Когда?
В три часа.
На занятии в Семейном центре.
А должен был встретиться со мной.
Я этого не знал.
У тебя же на подносе за обедом стояло три тарелки. Значит, в три часа.
Так мы вроде не договаривались на сегодня.
А почему, как ты думаешь, я смотрела на тебя весь ужин?
Не знаю. Я заметил, что вид у тебя расстроенный, но не понял, почему.
Почему ты не позвонил мне?
Обычно звонишь ты.
И что из этого?
Я не знаю твоего номера.
Врешь!
Нет.
Пустая отговорка. Ты должен был позвонить мне.
Дай мне номер, и я позвоню.
Она слегка отстраняется, совсем чуть-чуть, но руками по-прежнему обхватывает меня. Смотрит в землю, в черноту под ногами. Потом поднимает голову. Прозрачная синева встречается со светлой зеленью. Она улыбается, хотя вряд ли это улыбка, в ней нет радости, только печаль. И раскаяние. Признание своей вины и ошибки. Она говорит.
Прости меня.
За что?
Я испугалась.
Чего?
Испугалась, что ты меня бросил.
У меня и в мыслях нет бросать тебя.
Я испугалась, что после всего, что я рассказала тебе, ты не захочешь меня видеть. Потом я подумала – а вдруг кто-то в отделении наплел тебе еще что-нибудь про меня. Мне-то на это плевать. Плевать я на болтовню хотела. Но мне пришло в голову – вдруг тебе что-то наплели про меня, а когда ты не пришел в три часа, я уже не сомневалась – точно, тебе что-то наплели.
Единственное, в чем ты не должна сомневаться, – я буду с тобой.
Она улыбается. На этот раз по-настоящему.
Навсегда?
Навсегда.
Точно?
Точно.
Я больше не хочу быть одна, Джеймс.
Ты не будешь одна.
Я весь день проплакала.
Больше не плачь. Лучше вспоминай слово «навсегда».
Ее улыбка становится радостной, светлой, прекрасной и напоминает саму Лилли. Лилли прекрасна и внешне, и внутренне. И ее улыбка прекрасна. Лилли наклоняется вперед, приподымается на цыпочки, закрывает глаза и целует меня. Долгим, медленным, сладким поцелуем. Я мог бы целоваться с ней целую вечность. Мы разжимаем объятие. Я говорю, нам лучше пройти. Не обратно, в клинику, а вперед, в темноту. Мы шагаем медленно, рука в руке, не спешим. Ночью лес оживает. Сучья хрустят, листья шуршат, ветки раскачиваются. Луна неподвижна, облака плывут. Тени пляшут, то надвигаются угрожающе, то отступают. Мелкие зверьки шныряют в поисках еды, верещат, прячутся. Лес живет.
На ходу мы разговариваем. Лилли необходимо рассказать о своих чувствах, переживаниях, страхах. Я даю ей выговориться. Утешаю ее. Слушаю. Хотя следов слез не осталось на ее нежных щеках, причина слез по-прежнему гнездится в душе, никуда не делась, пока не исчезла. Лилли говорит спокойно, тихо, сразу подбирает нужные слова. Рассказывает, что всегда в жизни чувствовала себя покинутой. Всегда все бросали ее – отец, парень из Чикаго и вообще все, к кому она привязывалась. Уходили, никогда не звонили, не присылали писем, не выражали любви и не возвращались. Ни разу. Никогда.
Она говорит о расставаниях. Каждый раз расставание разбивало ей сердце. С каждым разом становилось труднее залечить разбитое сердце. С каждым разом становилось труднее отважиться на новые отношения. Каждый раз надежда оборачивалась предательством. Одиночеством и отчаянием. Самообвинениями и ненавистью к себе. В начале была надежда. Она погибала. И в конце не оставалось ничего.
Она говорит о том, какую роль играю в ее жизни я. Она ищет свободы. Это все, чего она хочет, к чему стремится, чего надеется достичь. Освобождение. Она хочет освободиться не только от наркомании, но вырваться из порочного круга любви и потерь, надежд и неудач, не возвращаться в прошлое, которое ненавистно. Сегодня она подумала, что потеряла меня. И тогда ей показалось, что она потеряла себя. Как будто захлопнулась дверь, и она осталась одна в тюрьме, где возможно только саморазрушение. Хочет сопротивляться, но не на что опереться. Только наркотики, одинокое мрачное прошлое позади и одинокое мрачное будущее впереди. Тогда ее охватил голод. Он требовал крэка. Требовал таблеток. Требовал того, что убьет боль. Она задумала сбежать и уже была готова сделать это. Уже представляла, как все произойдет. Она доберется до автовокзала в Миннеаполисе, там будет попрошайничать, чтобы купить билет до Чикаго. Попрошайничать или чего похуже. В Чикаго сходит к бабушке повидаться и попрощаться. Попрощаться с единственным человеком в жизни, который любил ее. Сказать ей прощай. Есть другой путь к освобождению. Прощай.
Мы останавливаемся. Садимся на скамейку, резную деревянную скамейку. Озеро перед нами, оно самое маленькое, покрылось льдом. Подо льдом неподвижная безмолвная тьма. Сидим на скамейке, я держу ладони Лилли в своих. Согреваю их. Говорю, как рад, что она не сбежала. Больше, чем рад. Говорю, если б она сбежала, я бы тоже сбежал. Разыскал бы ее, не дал ей проститься ни со мной, ни с бабушкой, ни с жизнью. Жизнь – это все, что у нас есть, ей нужно дорожить. И без того мы уже испортили немалый кусок своей жизни, и я, и она, и такие, как мы. Очень даже большой кусок. Нужно дорожить тем, что осталось. Бороться за эту жизнь. Ценить ее. Постараться прожить по-человечески. Постараться полюбить. Я все равно разыскал бы Лилли, убеги она. Я никуда не отпущу ее. Буду бороться за нее. Опекать ее. Сам буду жить. Буду жить, чтобы любить ее. Я держу ее ладони в своих. Согреваю их.
Мы встаем со скамейки, продолжаем путь. Рука в руке, мы идем и разговариваем, как обычные люди, которые живут по-человечески, любят друг друга и гуляют. Дорожка ведет нас вдоль берега, покрытого льдом, сквозь заросли желтой травы и приводит к деревянным мосткам. Мы стоим на мостках, курим. Смотрим в темноту, вдаль, на болото. На этот раз выдра не показывается. Мы смотрим на воду. Держимся за руки. Молчим. В словах нет необходимости.
Докурив, идем обратно в сторону леса. Тропинка, которая опоясывает клинику, принадлежит нам, больше на ней ни души. Мы просто гуляем. Совсем как обычные люди. Поднявшись на холм, садимся на холодную землю, смотрим сверху на корпуса из бетона и стали, которые напоминают нам о прошлом. Там слишком белые, слишком освещенные коридоры, для кого-то – Ад, для кого-то – Чистилище, для кого-то – искупление грехов. Корпуса стоят тихие, солидные. Я не хочу возвращаться туда. Вернуться туда – значит расстаться с ее руками, телом, глазами, губами, бледной кожей, длинными черными волосами, длинными и черными волосами. Вернуться туда – значит расстаться с ней. Я не хочу возвращаться.
Мы опускаемся на землю, держась за руки, наши ноги сплетаются. Мы смотрим друг на друга. Она улыбается, я тоже. Я говорю.
Я рад, что ты постучала мне в окно.
Я тоже.
Хорошо бы провести здесь всю ночь.
Кто нам может помешать?
Нужно быть осторожней.
Они нас не поймают.
Они что-то подозревают.
Все равно они нас не поймают.
Надеюсь.
Как там твои родители?
Они замечательные.
Как у вас все складывается?
Замечательно.
Вы поладили?
Впервые в жизни.
Они держатся хорошо?
Лучше, чем я мог мечтать.
Кто твой отец?
Бизнесмен. Работает по восемнадцать часов в сутки, много ездит по делам.
А Мама чем занимается?
Ездит вместе с ним.
Сколько лет они женаты?
Двадцать восемь.
Они любят друг друга?
Да, очень.
Фантастика.
Представь себе.
Хотела бы с ними познакомиться.
А они с тобой.
Ты сказал им обо мне?
Да.
Что ты им сказал?
Что у меня есть девушка.
А еще что?
Что она красавица и понимает меня.
А еще что?
Я улыбаюсь, молчу.
Почему ты улыбаешься?
Просто так.
А еще что ты им сказал?
Сказал, что люблю тебя.
Она улыбается.
Что-что?
Я сказал своим родителям, что люблю тебя.
Она улыбается шире.
Не может быть.
Я улыбаюсь шире.
Может.
Ты сказал им, что любишь меня?
Да.
Скажи и мне.
Ты правда хочешь?
Скажи.
Я улыбаюсь. Смотрю на нее. Держу ее руку, наши ноги сплелись, между нашими глазами пара сантиметров. Пара сантиметров отделяет в темноте прозрачную синеву от светлой зелени. Даже в темноте видно, как сияют ее глаза. Я смотрю в них, улыбаюсь и говорю.
Я люблю тебя.
Она улыбается. Губами, глазами, дрогнувшей рукой. Она улыбается, и я повторяю.
Я люблю тебя.
Повторяю снова.
Я люблю тебя.
Повторяю снова.
Я люблю тебя.
И это правда. Я люблю ее. Эту девушку, которая сказала мне «привет» в очереди за таблетками. Эту девушку, которая торчала на крэке и колесах. Эту девушку, которая спала со всеми подряд за деньги и отрабатывала автостоп, лежа на спине. Эту девушку, которая пережила такое, о чем не смеет рассказать. Эту девушку, у которой за душой нет ничего. Ничего, кроме самой души, и воли, и желания стать свободной. Ничего, кроме живого сердца, которое до смерти боится одиночества. Ничего, кроме прозрачных синих глаз, которые глядят в меня и понимают меня. Ничего, кроме открытых рук, готовых обнять меня. Ничего, кроме желания быть со мной. Идти со мной. Любить меня. Я люблю ее. Лилли. Девушку, у которой нет ничего, у которой есть все. Лилли. Я люблю ее.
Слезы подступают. Она улыбается. Наклоняется, нежно целует меня в губы, целует, едва касаясь моих губ, и шепчет.
Я тоже люблю тебя, Джеймс.
Наши губы едва касаются, она шепчет.
Я люблю тебя.
Шепчет.
Я люблю тебя.
Мы лежим рядом. Улыбаемся, удерживаем как можно дольше друг друга, эту ночь, эту минуту. Смотрим в глаза друг другу, целуемся, переговариваемся не словами, а прикосновением губ и кончиков пальцев, они говорят больше, чем слова. Слова не могут выразить всего. Одного слова «любовь» недостаточно. Оно обозначает все, но не передает ничего. Даже части того, что испытываешь. Любовь. Этого слова недостаточно. Любовь. Любовь.
Солнце начинает всходить. За спиной у нас струится свет белыми, желтыми, розовыми полосами. Я не хочу уходить. Вечно лежал бы тут и умер счастливым. Я мог бы умереть от этой любви совершенно счастливым, не требуя ничего больше. Я не хочу уходить. По тому, как Лилли сжимает меня с каждой минутой все крепче, я понимаю, что она тоже не хочет уходить. Но выбора у нас нет. Пора возвращаться.
Я отстраняюсь, говорю – нам пора идти, она говорит – знаю, мы целуемся в последний раз, медленно, глубоко, часы тикают. Мы разнимаем объятия, проходит сто лет и одна секунда, мы встаем. Я держу ее руку в своей руке, смотрю в ее глаза, пристально вглядываюсь в них. В ее глазах нет того, что я увидел в тех, голубых, как арктический лед, когда в последний раз потерпел фиаско. В них нет и намека на «убирайся прочь, я не хочу тебя». В глазах Лилли, в ее прекрасных и прозрачных, как родник, глазах я нахожу то, что всегда искал, к чему всегда стремился, на что всегда надеялся и никогда не находил. Любовь.
Делаю шаг назад, чтобы уйти. Наши глаза все еще прикованы друг к другу, руки соприкасаются. Отступаю еще на шаг. Только кончики пальцев все еще касаются друг друга. Я снова улыбаюсь и говорю.
Навсегда.
Она улыбается.
Вспоминай это, если станет страшно, грустно и покажется, что все идет наперекосяк.
Она улыбается шире.
Навсегда.
Еще один шаг назад, и наши пальцы больше не касаются друг друга. Я поворачиваюсь и спускаюсь с холма. Мне хочется оглянуться, но, если оглянусь, я не смогу уйти. А мне нужно вернуться в клинику. Я не до конца восстановился, требуется еще какое-то время. Если я решил жить дальше и любить, мне нужно еще какое-то время провести в клинике, какое-то время. Если оглянусь, я вернусь к Лилли. К ее рукам, в защищенность и покой ее объятий. Но пока еще рано. Пока.
Достигаю подножия холма. Иду через поле мертвой травы к корпусам. Открываю раздвижную стеклянную дверь, вхожу в отделение. Леонард делает зарядку посреди нижнего яруса. Не обращаю на него внимания. Оглядываюсь, смотрю сквозь стекло на холм. Лилли все еще там. Сидит на земле, курит. Смотрит в мою сторону. Дым от сигареты вьется, она поднимает руку. Наверное, видит меня. Я поднимаю руку и прижимаю ее к стеклу. Держу так. Мы смотрим друг на друга, но на таком расстоянии различимы только силуэты. Неважно.
Опускаю руку. Она опускает свою. Стою еще мгновение. Слышу, что Леонард у меня за спиной закончил приседать. Отхожу от окна, поворачиваюсь.
Леонард сидит на корточках, руки на коленях. На нем ярко-красный спортивный костюм, на лбу капли пота. Он смотрит на меня и говорит.
Привет, малыш.
Привет, Леонард.
Как твоя девушка?
Я улыбаюсь.
Хорошо.
Как провел ночь?
Хорошо.
Ты любишь ее?
Да.
Признался ей?
Да.
Он улыбается. Широко, от уха до уха.
Прекрасно.
Я тоже улыбаюсь. Широко, от уха до уха.
Да.
Он убирает руки с коленей, распрямляется.
А как дела с родителями?
Хорошо.
Нашли общий язык?
Да.
Он улыбается.
Вот и хорошо, а то бы потом жалел, если б опять пересрался с ними. Семья – самое главное, что есть у человека.
Согласен.
Я горжусь тобой, малыш. Похоже, твои дела идут на поправку.
Я стараюсь.
Продолжай в том же духе, и мне не придется больше присматривать за тобой.
Не помню, чтобы я просил тебя присматривать за мной.
Неважно, просил ты или нет. Важно, что я делал это без спроса.
Я смеюсь.
Я в душ и привести себя в порядок. Встретимся здесь же через двадцать минут. Выпьем кофе и пойдем на завтрак.
Хорошо.
Он уходит. Я иду к себе в палату. Открываю дверь, нет ни Майлза, ни его кларнета, ни книжки про Дао. Раздеваюсь, прохожу в ванную, включаю душ, встаю под струю, моюсь. Вода горячая, но не кипяток. В меру. Приятная.
Выключаю душ, подхожу к раковине, чищу зубы и бреюсь. Смотрю на шрам, который образовался на месте дыры. Он розовый, светлее, чем кожа вокруг, заживает. Смотрю на свой нос, видна небольшая шишка, тоже заживает. Смотрю на свои глаза, отек прошел, желтый подтек тоже. Есть темные полукружья под глазами, но они от недосыпа, а не от ударов. С глазами все в порядке. Снаружи.
Я всматриваюсь в них. Белки белые, с тонкими розовыми прожилками. Вдоль этих прожилок подбираюсь к краю радужки. Она светло-зеленого цвета, как увядшая оливка, с коричневыми крапинками, разбросанными кое-где. Останавливаюсь на границе зелени и белка, задерживаюсь здесь. Я способен взглянуть себе в глаза, и меня устраивает то, что я вижу. Я не погружаюсь в глубину. В глубине обитает реальное. А на границе видны его отблески. Я двигаюсь дальше, открывается больше. Двигаться все труднее, граница исчезает в черноте зрачка. В этой черноте приоткрывается все. На одну секунду бросаю взгляд в черную глубину зрачка, окруженного светлой зеленью, и отвожу взгляд.
Выхожу из ванной. Одевшись, выхожу из палаты. Бобби и тот тип, который мне откуда-то знаком, сидят за столом на верхнем ярусе. Они следят за мной. Не обращаю на них внимания. Наливаю чашку кофе, делаю глоток. Кофе крепкий и горячий, обжигает губы. Действует мгновенно. Бодрит, как рукой снимает усталость после бессонной ночи. Сердце начинает биться чаще. Даже такой слабый наркотик снимает усталость после бессонной ночи.
Оглядываюсь. Бобби и тот тип по-прежнему не сводят с меня глаз. Когда я прохожу мимо них, тот тип говорит.
Ты, похоже, не помнишь меня?
Я останавливаюсь, смотрю на него. Он опять в черном. Черные спортивные штаны с белыми лампасами, черная футболка. Короткая стрижка, волосы грязные и топорщатся, на лице следы от угрей. Глаза карие, взгляд тупой, на руках черно-красные шрамы.
Нет, не помню.
А должен бы. Даже обидно.
Прости.
Говорят, ты закрутил с Лилли.
Кто говорит?
А что, это имеет значение?
Никакого.
Тогда не спрашивай.
Откуда ты?
Мы встречались месяц-другой назад.
Месяц-другой назад я был здесь.
Так и я тоже.
Подхожу ближе, всматриваюсь в него, роюсь в памяти. Воспоминание, смутное и неясное, все же всплывает со дна. Я смотрю телевизор. Он набрасывается на меня. Шепчет что-то мне на ухо. Говорит, что мог бы изуродовать меня. Я был в дурмане, абсолютно беспомощный. Он мог бы изуродовать меня.
Я вспомнил тебя.
Он улыбается.
Славный мальчик.
Не называй меня так.
А то ты мне покажешь?
Вероятно.
После твоего прошлого выступления я в штаны наложил от страха.
Я подхожу ближе.
Хочешь проверить?
Он улыбается.
Я не хочу с тобой драться.
А чего же ты хочешь?
Рассказать кое-что про Лилли.
И что же ты хочешь мне рассказать?
То, что тебе знать не помешает.
И что же?
Он откидывается назад, улыбается, зажигает сигарету. Я стою, жду. Бобби не сводит с меня глаз и улыбается, как маньяк-душитель, который нащупал шею. Я чувствую чье-то присутствие рядом, краем глаза замечаю Леонарда, который стоит в нескольких шагах от меня. Хоть он и не слышит нашего разговора, по его лицу ясно, что ничего хорошего он от него не ждет. Тип в черном смотрит на меня и говорит.
Я знаю Лилли давно, мы земляки. Она крутила с моим лучшим дружком, а он приторговывал ей. Приведет на вечеринку, напоит, затолкнет в комнату и позволяет своим друзьям ее трахать в обмен на дозу. Ей нравилось, потому что она получала на халяву кокаин, горсть таблеток и в придачу дюжину хуев, которые, как тебе уже, наверное, известно, она любит больше всего.
Он смотрит на меня. Ржет и продолжает.
Я и сам поимел ее несколько раз. Красивое тельце и большие толстые губы, она умеет ими пользоваться и тебе позволяет делать все, что твоей душе угодно. У ее парня, у этого моего дружка, случились терки с барыгой. Скажем так, он превысил свой кредит. Барыга согласился списать ему должок, если он отдаст ему Лилли. Дружок мой и согласился. Он за нее и горсть говна не дал бы, сам понимаешь, разве можно шлюху уважать, так что он, не сказав ей, что к чему, привел ее к этому барыге. Там она накурилась крэка, закинулась снотворным, обдолбалась, короче, всем этим дерьмом. Тут и подоспели дружки барыги.
Бобби смеется. Тип улыбается, делает затяжку, смотрит на меня, я на него. Чувствую, как закипает Ярость. Но только сейчас она направлена не против меня, а против этого типа. Уничтожить его. Я прямо чувствую, как Ярость во мне нарастает.
И вот тогда начался настоящий адище. Пятнадцать парней выстроились в ряд, растянули Лилли на полу мордой вниз и начали трахать. Трахали в задницу, в рот, в пизду, во все дырки, всеми способами, так что и вообразить трудно. Все пятнадцать парней трахали ее, и не по разу, и все без резинок. Кончали прямо на нее, на спину, на живот, на лицо, в волосы, во все дырки, какие есть.
Бобби снова смеется.
Сперва она пыталась вырваться и убежать, но ее не пустили. Они крепко держали ее, хохотали и трахали. Один за другим, раз за разом, и она ни хера не могла поделать, пока им не надоело, тогда они от нее отстали, она плакала, кричала так, словно у нее крыша поехала, хотела собрать свою одежду, но ей не дали. Они взяли мешок для мусора, такой большой черный полиэтиленовый мешок, прорезали дырки для рук и натянули на нее. А потом барыга открыл дверь, схватил ее за волосы и вышвырнул на хер, как мешок с дерьмом.
Бобби смеется громче, хлопает ладонями по столу. Тип смотрит на него, улыбается, снова поворачивается ко мне.
Насколько мне известно, она прибыла сюда как раз после этой истории. Прыгнула в машину вместе со своей чокнутой бабулькой и примчала на всех парах. А через несколько дней, как я понимаю, подцепила тебя. Будь я на твоем месте, я бы поостерегся. У этой девки какой только заразы не сыщется, уж она наградит тебя так, что член отвалится на хер, если уже не наградила.
Тип улыбается мне. Выкидывает окурок в пепельницу. Я слышу, как Бобби смеется, и краем глаза вижу, как он поднимает руку, словно в знак благодарности за этот рассказ. Тип ухмыляется и ударяет того по руке, словно принимает благодарность. Я сжимаю челюсти. Смотрю на этого типа. Ярость внутри меня набухла и готова прорваться. Я хочу убивать, убивать, убивать. Мне все равно, чем там раньше занималась Лилли. Не мне судить ее грехи, если они за ней и водятся. Но меня бесит, что этот тип оскорбил Лилли. Не делом, а словом. Меня бесит, что он говорил о ней, как о куске мяса, словно она не человек, словно ему и этим подонкам дано право издеваться над ней. Ярость набухла и готова прорваться. Я хочу убивать, убивать, убивать. Подхожу ближе.
Зачем ты рассказал мне эту историю?
Захотелось – вот и рассказал.
Ах, захотелось?
Да.
У Лилли была адская жизнь. Но это не значит, что ты имеешь право обмазывать ее дерьмом.
Хочешь прочитать мне лекцию, черт тебя подери?
Может, тебе полегчало после твоего рассказа?
Чего?
Может, теперь ты чувствуешь себя настоящим самцом, наслаждаешься властью над ней и надо мной?
Да пошел ты.
Может, теперь тебе кажется, что ты лучше ее, хотя сам понимаешь, что ни фига. Может, теперь ты считаешь себя человеком, хотя в глубине души понимаешь, что ты кусок дерьма?
Да пошел ты.
Я прав?
Да пошел ты.
Я подхожу еще ближе.
В прошлый раз ты дал мне шанс. В этот раз я даю тебе шанс. Но если ты еще хоть слово скажешь про нее, я отыщу тебя хоть на краю земли и закопаю.
Ты мне угрожаешь?
Предупреждаю.
Я в штаны наложил от страха.
Хочешь проверить?
Пошел ты на хер со своей помойной шлюхой. Пошли вы оба на хер.
Бобби смеется. Тип смотрит на меня в упор, я на него. Бросаю на пол чашку с кофе, которую держал в руке, она падает, это отвлекает его, и в тот момент, когда он отводит глаза, кидаюсь на него. Хватаю за волосы, запрокидываю голову, давлю пальцем на шейную ямку под кадыком. Давлю сильно. Мягкая плоть глубоко утопает под моим пальцем, тип начинает ртом хватать воздух, хрипеть, задыхаться. Краем глаза вижу, как Бобби встает из-за стола и приближается к нам, как Леонард подходит и отталкивает его, слышу какой-то шум, но слов не разбираю. Леонард говорит что-то Бобби, тот мгновенно застывает на месте. Леонард наклоняется к Бобби, его губы шевелятся, он еще что-то говорит, и Бобби снова садится за стол.
Я давлю. Палец утопает в мягкой плоти. Смотрю в глаза этого типа. Хочу, чтобы он понял – его жизнь в моих руках, я могу убить его. Он хватает воздух ртом. Хрипит. Задыхается. Он беспомощен. Он понимает это, и я понимаю это. Его жизнь в моих руках. Я смотрю ему в глаза. Говорю.
Если ты еще хоть слово скажешь про нее, я убью тебя.
Давлю сильнее.
Я убью тебя на хер.
Давлю еще сильнее.
Я убью тебя на хер.
Отпускаю его. Отхожу. Он начинает кашлять. Хватается за горло. Дышит глубоко и часто, старается набрать как можно больше воздуха. Кашляет, плюется, давится. Я мог бы убить его. Я хотел убить его. Делаю пару шагов в сторону Бобби, который сидит за столом. Он одновременно побледнел, посерел и позеленел, как будто ему явилась Смерть с косой и сообщила, что за ним. Плюю ему в лицо. Жду реакции, но ее нет. Он просто смотрит перед собой. Не знаю, что Леонард нашептал ему, но понимаю, что теперь он будет тише воды ниже травы, как и его дружок. Оба они будут тише воды ниже травы.
Выхожу из отделения, иду по коридорам. Дрожу от злости и перегоревшего страха. От бешенства и вспышки насилия. От выброшенного в кровь адреналина. Я дрожу от Ярости, которую вроде бы чувствовал и раньше. Но на этот раз Ярость поднялась, чтобы защитить человека, которого я люблю. И была сильнее, чем раньше.
Ищу дверь. Подхожу к ней, распахиваю ногой, и вот я на улице. Холодное хмурое утро. Сырой тяжелый воздух. Сжимаю челюсти, кулаки, напрягаю мускулы на груди. Весь напрягаюсь. Вдыхаю через нос, как можно глубже. Сырой, тяжелый воздух. Он проникает в мои клетки, они пропитываются им. Пропитываюсь этим воздухом.
Дверь открывается, выходит Леонард. Ничего не говорит, не мешает мне дышать. Дыхание успокаивает меня, уже можно разжать челюсти и кулаки. Ярость угасает. Я сделал то, что мог, что хотел и что считал правильным. Насилие – это зло, но иногда оно необходимо. У некоторых черепа толстые. У некоторых сердца пустые. Иногда слова не доходят. Насилие было необходимо.
Я делаю еще один вдох, последний, самый глубокий, и выдыхаю. Смотрю на Леонарда, он говорит.
Ты в порядке?
Да.
Болтовня не имеет значения.
Знаю.
К тому же вряд ли все это правда.
Это правда.
Откуда ты знаешь?
Знаю, и все.
В любом случае, болтовня не имеет значения.
Я знаю.
Только любовь имеет значение.
Да.
Помни это, малыш. Только любовь имеет значение.
Я киваю.
Да.
Он кладет руку мне на плечо.
Я горжусь тобой – ты красиво поступил.
Вот как.
Сначала ты дал ему шанс, а потом отпустил. Я никогда не делаю ни того, ни другого. Ты преподал мне урок, славный урок, черт подери.
Я улыбаюсь.
А что ты сказал Бобби?
Назвал свою фамилию.
Я смеюсь.
Только и всего?
Леонард кивает.
Только и всего. Хотя это не так мало, как тебе кажется.
Спасибо, что помог.
Всегда готов.
Я твой должник.
Нисколько, брось.
Нет, должник.
Он трясет головой.
Брось, брось.
Я указываю на дверь.
Пошли на завтрак.
Мы идем по бесчисленным коридорам. Проходя по стеклянному коридору, я высматриваю Лилли, но ее нет. Встаем в очередь, берем яйца и фасоль, находим своих друзей. Они уже слышали про мою стычку. Я не хочу обсуждать ее. Говорим об отъезде Эда. Тед чуть не плачет. Записываем наши имена, адреса, телефоны на клочке бумаги. Только у Майлза с Леонардом есть постоянный адрес. Остальные пишут примерно в надежде, что так с ними можно будет связаться. Нам хочется верить, что у Эда жизнь наладится и он позвонит. Мы желаем ему счастья. Мы говорим ему – все будет хорошо.
Завтрак подходит к концу. Я высматриваю Лилли, но она так и не появляется. Мои друзья идут на лекцию, а я в кабинет Джоанны. Дверь приоткрыта, оттуда слышны голоса. Вхожу, родители сидят на диване, поднимаются мне навстречу. Мы обнимаемся, садимся. Я здороваюсь с Джоанной, она говорит.
В наших планах произошли изменения.
Какие?
Говорит Отец.
Мы вынуждены уехать.
Почему?
Проблемы на работе.
Продолжение вчерашних?
Да.
Я отвожу взгляд, Ярость закипает. Всю жизнь одна и та же история, всегда отцовская работа превыше всего на свете. Смотрю в стену, белая стена, она мне не нравится, но с ней ничего не поделаешь. Белая стена и есть белая стена. Ничего не поделаешь и с Отцом, и с его характером, он всегда делал для своей семьи все, что в его силах. Для меня, для Брата, для нашей Матери. Он до сих пор делает для нас все, что в его силах, он столько всего нам дал. Отец он и есть отец, он поступает, как поступает. Его не переделаешь, да и после всего, что он сделал для меня, после того, как он простил меня, я тоже способен простить его и смириться с досрочным отъездом. Говорит Мать.
Нам очень жаль, Джеймс. Прости.
Не извиняйся, Мама.
Мы бы хотели остаться до конца программы.
Мне повезло, что у меня такие родители, которые вообще захотели сюда приехать.
Она улыбается. Это неискренняя улыбка, больше похожая на извинение.
Это правда?
Я киваю.
Давайте продолжим, пока есть время.
Говорит Джоанна.
Обычно мы говорим об этом позже, но твои родители выразили желание перед отъездом обсудить твои перспективы, и я с ними согласна.
Мои перспективы – они просто блестящие.
Это шутка?
И да, и нет.
Уточни, в чем шутка.
Мне ведь предстоит тюрьма.
Пока не точно, но допустим. Теперь уточни, что всерьез?
Я начинаю с чистого листа и благодарен за эту возможность.
А что ты будешь делать, когда выйдешь из клиники?
Сяду в тюрьму, отсижу свой срок, буду оставаться чистым. Постараюсь там выжить и остаться человеком. Когда выйду из тюрьмы, найду работу, а там посмотрим.
Как тебе удастся сохранять чистоту?
Я же буду сидеть взаперти и без денег. В таких условиях нетрудно оставаться чистым.
В тюрьме тоже можно раздобыть наркотики.
Может быть, но я не стану.
Думаешь, это будет так просто?
Я думаю, что у меня там будут проблемы и посерьезнее, чем оставаться трезвым.
Джоанна говорит.
А если тюрьмы удастся избежать?
Я поеду в Чикаго, найду работу и постараюсь стать счастливым.
А как ты относишься к «Дому на полпути»?
Отрицательно.
Почему.
Мы уже говорили об этом.
Джоанна смотрит на моих родителей. Они переглядываются. Отец говорит.
Тебе не кажется, что подобное окружение было бы тебе полезно?
Я не верю ни в Высшие силы, ни в Двенадцать шагов, ни во что, связанное с ними, и ни во что, чему учат в домах на полпути. Пустая трата времени.
Говорит Мать.
Если ты не веришь во все это, как же ты сумеешь сохранить трезвость?
Каждый раз, когда у меня возникнет желание принять алкоголь или наркотики, я должен буду решить, принимать или нет. Я буду делать выбор каждый раз, пока он не перестанет быть выбором, а превратится в образ жизни.
А если у тебя не получится?
Как только выйду отсюда, найду способ испытать себя алкоголем или наркотиками или тем и другим, и станет ясно, получится у меня или нет.
Джоанна глубоко вздыхает, качает головой.
Я уже пыталась разубедить Джеймса. Это очень рискованный план, вероятность провала астрономически велика. А ставки крайне высоки.
Говорит Отец.
Мне тоже не нравится эта идея, Джеймс.
Говорит Мать.
И мне.
Не хочу вас обижать, но решать мне самому.
Говорит Отец.
А если ты сорвешься?
Не сорвусь.
А если?
Не сорвусь.
Откуда такая уверенность?
Просто верю, и все, и не хочу тратить время, которое у нас осталось, чтобы переубеждать вас. Вопрос будущего оставим на будущее, а сейчас давайте займемся настоящим.
Мать смотрит на Отца, Отец смотрит на Джоанну. Отец кивает, и Джоанна говорит.
Давайте поговорим об отношениях между вами.
Я смотрю на родителей, они на меня.
Что вы сейчас чувствуете?
Говорит Отец.
Наши отношения стали лучше.
Говорит Мать.
Намного лучше.
Говорю я.
Мы двигаемся вперед.
Джоанна улыбается. Широко, искренне. Смотрит на Отца.
Поясните.
Мне кажется, я уже давно перестал понимать Джеймса, если вообще когда-либо его понимал. Очень трудно быть отцом человека, с которым по сути незнаком. Я не мог объяснить, почему он поступает так, а не иначе, почему создает все эти проблемы. Не понимал, почему он не впускает нас, родителей, в свою жизнь и почему он, судя по всему, злится на нас. Для меня самое лучшее в опыте этих дней – чувство, что мой сын вернулся ко мне, а я начал его понимать, понимать его поступки, и я начинаю примиряться с нашим прошлым. Надеюсь, что прошлое осталось позади.
Джоанна кивает, смотрит на Мать. Мать улыбается.
Я согласна с Бобом – у меня тоже было чувство, что я не знаю Джеймса, и многое из того, что он делает, мне непонятно. Я рада, что хотя бы сейчас мы это узнали. Мне кажется, он стал меньше сердиться в последнее время. Из-за его злости с ним очень трудно было общаться, мы понимали, что он сердится на нас, но не понимали, почему. У меня такое ощущение, что между нами установилась какая-то связь сейчас, что мы стали настоящей семьей, этого ощущения не было уже давно.
На ее глазах показались слезы. Она смотрит на меня.
Я горжусь тобой, Джеймс. Хочу одного – чтобы ты жил и был счастлив. Какой бы путь ты ни выбрал, главное, живи и будь счастлив.
Спасибо, Мама.
Джоанна смотрит на меня.
Джеймс.
Набираю воздуха в грудь.
Я, честно говоря, не хотел, чтобы вы приезжали. Не хотел, чтобы видели меня в этом состоянии, потому что в каком-то смысле мне стыдно, что я здесь. Я знаю, что приносил вам сплошные разочарования. А скрывал все от вас, потому что понимал – правда вас огорчит, да и только. Я понимал, что поступаю неправильно, и если вы узнаете об этом, то постараетесь повлиять на меня, а я не хотел меняться. Наконец-то я рассказал вам про весь этот кошмар, и это хорошо. Я считаю, что вы после приезда сюда вели себя потрясающе все это время. Я ожидал, что начнутся упреки, жалобы и нотации, что вы будете грузить меня назиданиями и поучениями, которые я не стал бы слушать. Хорошо, что ничего этого не было, и я рад, что вы приехали.
Родители улыбаются. Джоанна тоже.
Как, по-твоему, ваши отношения должны складываться теперь?
Я говорю.
Важно, чтобы родители предоставили меня самому себе. Под этим я не имею в виду, что хочу исключить их из своей жизни, потому что я этого вовсе не хочу. Я имею в виду, что моя жизнь – это моя жизнь, и ответственность за нее целиком и полностью несу я сам, что бы ни происходило.
Я смотрю на родителей.
Я обещаю ничего скрывать от вас, но, если скажу, что не хочу обсуждать какую-то тему, вы не должны настаивать. Если я делаю ошибки, не надо читать мне лекций. Я не хочу больше брать у вас деньги. Хочу сам себя обеспечивать и обходиться тем, что сам заработал. И последнее, но самое важное. Если я сорвусь, больше не спасайте меня. Это мой последний шанс. Я должен это понимать, потому что если буду знать, что у меня есть подстраховка, то воспользуюсь ей. А если буду знать, что подстраховки нет, скорее приму правильное решение – от сознания, что если оступлюсь, то уже без возврата.
Родители внимательно смотрят на меня. Джоанна тоже. Отец говорит.
Пожалуй, предоставить тебя самому себе нам будет нелегко, потому что именно сейчас мы почувствовали, что ты возвращаешься к нам. Однако мы постараемся, обещаю. Думаю, прежде чем мы уедем, важно определиться, что значит предоставить тебя самому себе. Если это означает не разговаривать и не общаться с тобой, то я против. Если это означает разговаривать и честно обсуждать, что с тобой происходит, но воздерживаться от суждений и осуждений и позволять тебе учиться на собственных ошибках, то я согласен. Если ты больше не хочешь брать у нас деньги, это хорошо, но идея оставить тебя без поддержки в трудную минуту, случись она, пугает меня. Мы узнали здесь, что люди часто спотыкаются и оступаются, и поэтому я против того, чтобы оставить тебя без помощи, если с тобой такое произойдет. Мы хотим, чтобы ты жил полноценной жизнью. Если для этого тебе придется пятьдесят раз побывать в таком месте, как это, мы не сочтем это большой ценой.
Говорит Мать.
Я, главное, не хочу, чтобы ты от нас что-то впредь скрывал и думал, что с нами не всем можно поделиться. Мы с Отцом хотим тебе добра и счастья и для этого готовы сделать все, что от нас зависит. Я хочу одного – быть частью твоей жизни, чтобы ты включил нас в свою жизнь. Я хочу сказать, что, если ты сорвешься, мы попытаемся помочь тебе. Как сказал твой Отец, если потребуется пятьдесят попыток, значит, пусть будет пятьдесят. Я приеду к тебе пятьдесят раз.
Говорит Джоанна.
Что ты предпримешь после тюрьмы, если будешь предоставлен сам себе?
Я собираюсь переехать в Чикаго. Найти работу. Буду жить и попытаюсь стать счастливым. Это все, чего я хочу, жить и быть счастливым.
Говорит Отец.
Почему в Чикаго?
Я киваю в сторону Джоанны.
Не знаю, можно ли об этом говорить при ней.
Джоанна смеется.
Ладно уж, говори, мы с тобой уже столько правил нарушили.
Я улыбаюсь.
Я хочу переехать в Чикаго, потому что Лилли, та девушка, о которой вам рассказывал, будет жить в Чикаго. Я хочу быть рядом с ней.
Говорит Отец.
А что она собирается делать в Чикаго?
Жить в «Доме на полпути».
Говорит Мать.
А ты не хочешь поселиться там вместе с ней?
Нет.
Говорит Отец.
А что она будет делать, если ты сядешь в тюрьму?
Я пока с ней не обсуждал это, но надеюсь, что тот из нас, кто освободится раньше, подыщет жилье для двоих.
Говорит Джоанна.
А что потом?
Будем жить вместе, помогать друг другу. Сделаем друг для друга все, что можно.
Говорит Мать.
Звучит хорошо.
Надеюсь, так и будет.
Вы собираетесь пожениться?
Не торопи события, Мама.
Она улыбается, смеется, Отец сжимает ее руку. Джоанна тоже улыбается после неудавшейся попытки сдержать улыбку.
Смотрит на часы и говорит.
Ну что же, пора прощаться.
Отец смотрит на свои часы, кивает.
Да, похоже на то.
Он подымается, Мать тоже. Отец смотрит на Джоанну.
Перед отъездом мы хотим вас поблагодарить. Без вас ничего бы не получилось, и мы, вся наша семья, перед вами с огромном долгу. Если вдруг вам понадобится наша помощь, смело обращайтесь.
Джоанна улыбается.
Ваше самочувствие сегодня отличается от того, что было несколько дней назад, это лучшая благодарность для меня.
Говорит Мать. На глазах у нее наворачиваются слезы.
Спасибо вам, Джоанна.
Ну что вы, Линн.
Мать обходит вокруг стола Джоанны, та встает. Они обнимают друг друга, крепко и от души, как умеют только женщины. Их не отдаляют друг от друга ни сомнения, ни дистанция – эмоциональная, физическая или какая-то еще.
Отец пожимает Джоанне руку, еще раз благодарит ее, я тоже благодарю, и мы с родителями идем в ту комнату, где они спали. Упаковываем чемоданы, они надевают пальто.
Проходим по коридорам к главному входу. Выходим на крыльцо, возле него ожидает автомобиль. Длинный черный автомобиль с затемненными окнами. Укладываем в него чемоданы. Отец говорит.
Это был очень важный опыт. Я горжусь тобой – ты здесь, ты стараешься изо всех сил. Конечно, не все проблемы еще решены, есть над чем поработать, но я верю в тебя. Пожалуйста, позвони нам, когда получишь известия от адвоката, звони всегда, когда потребуется наша помощь, и звони просто так, сказать привет и рассказать, как у тебя дела.
Хорошо.
Я люблю тебя, Джеймс.
Я тебя тоже, Папа.
В уголке отцовского глаза мелькает слеза. Он не вытирает ее, и она бежит по щеке. Он подходит ко мне, обнимает меня, а я его. Я чувствую неловкость и Ярость, но не обращаю на них внимания.
Мы отпускаем друг друга, и ко мне подходит Мать. В глазах у нее опять слезы, я терпеть не могу ее слез, уж не знаю почему. Она переживает, она плачет. Это заслуживает восхищения. Она кладет руки мне на плечи. Мы обнимаем друг друга, она баюкает меня, словно малыша. Я давно уже не малыш, и все же.
Мы обнимаем друг друга, а я борюсь с Яростью. Не позволю ей одолеть меня и управлять мной. Моя Мать обнимает меня так, словно говорит, что она меня простила, что хочет, чтобы я жил и был счастлив. Я обнимаю ее так, словно говорю – я пытаюсь измениться и победить свою злость. Мы стараемся простить друг друга.
Мы отпускаем друг друга, она смотрит на меня, хочет что-то сказать, но не может. Отец открывает дверь автомобиля, она садится на черное кожаное сиденье. Она и плачет, и улыбается сквозь слезы. Поднимает руку, машет на прощание. Я тоже. Отец, который стоит у двери автомобиля, смотрит на меня и говорит.
Будь и дальше молодцом.
Хорошо.
Он садится в машину рядом с Матерью, закрывает дверь. Автомобиль трогается по дорожке, которая ведет к клинике. Через затемненные стекла ничего не видно, но я знаю, что родители смотрят на меня, пока я стою и смотрю на них. Мы родные люди, которые прощаются друг с другом. На время прощаются.
Когда машина теряется из вида, я поворачиваюсь и иду обратно в клинику. Уже время обеда, поэтому направляюсь в столовую. Беру поднос, ставлю на него тарелку с пиццей на французском хлебе, стакан красного фруктового пунша, вижу своих друзей, которые устроились в углу. Подсаживаюсь к ним.
Они ведут мужской разговор о драках. О моей утренней драке и о матче по боксу в тяжелом весе, который состоится через несколько дней. Спрашивают меня, что случилось утром, я отвечаю, что это была, собственно, и не драка, а скорее дискуссия, которая приняла слишком горячий оборот. Леонард смеется. Меня спрашивают, что тот тип сказал мне, я отвечаю, что не хочу это обсуждать. Меня спрашивают, собираюсь ли я проучить его еще разок, я отвечаю – надеюсь, что дискуссия исчерпана.
Мы переходим к настоящей драке. Леонард и Матти лучше всех разбираются в боксе, поэтому говорят в основном они. Матти болеет за того из тяжеловесов, который полегче, хоть все равно он, конечно, гигант. Леонард предпочитает того, кто потяжелее, этот вообще гора мускулов. Они уже дважды встречались на ринге, каждый одержал по одной победе, друг друга они терпеть не могут, и оба поклялись на этот раз победить. Всем хочется увидеть этот матч. Мы сгораем от желания, потому что любим спорт и любим бокс, потому что во всех газетах и спортивных передачах по телевизору рассказывают об этом матче, потому что нам будет о чем поговорить после матча, а главное, потому что на какое-то время, пусть на пару часов, мы почувствуем себя нормальными людьми. Все, что мало-мальски напоминает о нормальности, в этом месте на вес золота. Телефонная кабинка всегда занята, потому что люди хотят соприкоснуться с нормальным миром за пределами клиники. Писем ждут не дождутся и вскрывают их лихорадочно, потому что они осязаемая связь с большим миром. Телевизор смотрят и читают газеты, как ненормальные, а журналы зачитывают до дыр, пока они не распадутся на страницы, потому что это тоже лазейки в большой мир. Наша работа в клинике, даже самая тупая и черная, помогает нам притвориться, пусть на несколько минут в день, нормальными людьми. Вот почему все задания всегда выполняются. Не потому, что нам приказали, а потому, что благодаря работе мы чувствуем себя нормальными. У нормального человека должна быть работа. И на несколько минут в день мы становимся нормальными людьми. Родились-то мы все нормальными. Поначалу мы все были полноценными человеческими существами, которые способны выполнять разную работу, но в какой-то момент сбились с пути. И хоть сейчас мы находимся в этой клинике, чтобы вернуться на свой жизненный путь, мы осознаем, что большинству из нас это не удастся. А такие события, как этот матч, помогают нам грезить, переносят отсюда в большой мир, помогают представить, каков он, нормальный мир, и как живут в нем нормальные люди. Нормальные люди договариваются с друзьями посмотреть вместе матч. Они выбирают место, где всем удобно и есть большой экран. Они приходят туда, заказывают какую-то выпивку и закуску перед матчем, они способны прекратить пить прежде, чем передерутся или вырубятся. У них есть любимый спортсмен. Они в состоянии пообщаться друг с другом и обсудить его сильные и слабые стороны. Они пребывают в своем уме, когда смотрят матч, и реагируют на него одобрительными или огорченными возгласами в зависимости от исхода. После матча они расходятся по домам, куда в состоянии добраться на своих двоих или за рулем автомобиля, и если им уж совсем повезло, то дома их ждет жена, которая поцелует, и спящие дети, которых можно поцеловать, и они ложатся спать в постель. Проснувшись утром, они прекрасно помнят все, что происходило накануне, и продолжают свою жизнь с этой точки. Свою прекрасную нормальную жизнь. Каждый из нас в этой клинике, неважно, алкоголик ли он, крэковый наркоман или героиновый, мужчина или женщина, богатый или бедный, белый или черный, отдал бы все, чтобы стать нормальным человеком. События вроде этого матча, идиотского, дурацкого матча, о котором скоро забудут, дают нам такую возможность. Поэтому нам так хочется его увидеть. Мы сгораем от желания его увидеть. Готовы отдать все, чтобы его увидеть. Но по нашему телевизору его не покажут. Для его трансляции требуется специальная кабельная система со специальной коробкой. Это возможно только в большом мире.
Мы заканчиваем обедать. Встаем, уносим подносы. Идем на лекцию, садимся в задний ряд. Я взглядом ищу Лилли, но ее нет в зале. Очень жаль, будь она тут, я мог бы смотреть на нее во время лекции. Я смотрел бы на нее, и время летело бы незаметно. А она смотрела бы на меня, и я снова почувствовал бы ее любовь. Которую чувствовал в ее объятиях. В ее глазах. В ее словах. Я снова хочу чувствовать ее любовь.
Доктор в очках, брюках-хаки и белом халате выходит на сцену и начинает доклад. Тема доклада – понятие перекрестной зависимости. Говоря проще, перекрестная зависимость означает, что если вы пристрастились к какому-либо веществу или типу поведения, например к героину или к азартным играм, то считайте, что вы зависимы и от других веществ и типов поведения. Если хотите избавиться от своей зависимости, нужно воздерживаться от всех подобных веществ и типов поведения. Если вы замените предпочитаемое вещество или избранный тип поведения другими, то у вас с большой вероятностью разовьется зависимость и от них, и в конце концов вы вернетесь к исходной форме зависимости. Доктор говорит о необходимости постоянно и непрерывно сохранять осознанность, чтобы противостоять угрозе перекрестной зависимости. Он говорит, что курить сигареты и пить кофе не возбраняется, потому что это скорее привычка, чем зависимость, но насчет всего остального нужно соблюдать осторожность, будь то еда, секс, игры или шопинг, следует избегать людей, которые этим увлекаются, а также мест, где этим занимаются. Необходимо все время быть начеку. До конца жизни. Все время быть начеку.
Хотя в теории это выглядит очень научно, на практике слова этого доктора оборачиваются глупостью, которая не заслуживает серьезного отношения. Любой идиот, тем более наркоман, знает, что если в то время, когда пытаешься оставаться чистым, принять какое-либо вещество, даже не из числа предпочитаемых, то почти наверняка подсядешь на него. Любой идиот, тем более наркоман, знает, что если ты перешел границу между употреблением и злоупотреблением, а потом между злоупотреблением и зависимостью, то обратной дороги нет. Полагать, что занятие сексом или еда представляют опасность и их нужно контролировать, просто смешно. Полагать, что покупки и трата денег заставят меня снова курить кокаин, просто глупо. Заявлять, что я всегда и везде до конца жизни должен ждать атаки со стороны потенциальных зависимостей, просто убожество. Я не собираюсь так жить. Это убожество, черт подери.
Лекция заканчивается, пациенты аплодируют. Я встаю, вслед за всеми иду к выходу из зала. Мы возвращаемся в отделение. Проходя мимо своей палаты, замечаю записку на двери: «Джеймс, срочно позвони» и телефонный номер. Номер мне незнаком, я никогда по нему не звонил, но по коду понимаю, что он местный. Беру записку, иду к телефону. Пациенты готовятся к дневным мероприятиям, так что очереди нет.
Открываю дверь кабинки, сажусь и набираю номер. Один гудок, два гудка, три гудка. После четвертого гудка отвечает женский голос, называет номер отделения Лилли. Прошу позвать Лилли. Женщина спрашивает, кто это, я отвечаю – знакомый. Слышу, как она кладет трубку. Жду, проходит несколько минут. В трубке раздается голос Лилли. Она совершенно подавлена. Совершенно.
Что случилось?
Где ты был?
На лекции.
Я пыталась дозвониться до тебя.
Я только что обнаружил записку.
Мне нужно встретиться с тобой.
Что случилось?
Мне нужно встретиться с тобой.
Скажи, что случилось.
Она начинает плакать.
Бабушка.
Что с ней случилось.
Бабушка.
Что с ней случилось.
Она срывается и начинает рыдать. Это тяжелые, ужасные рыдания, которые сотрясают тело, которые подступают, когда сердце разбито. Я буквально представляю, как она сидит на скамейке, глаза опухли, тело содрогается, слезы текут по лицу.
Что случилось?
Моя бабушка.
Ее голос прерывается.
Бабушка умирает.
Что?
Она снова начинает рыдать.
Мне нужно с тобой встретиться.
Но сейчас невозможно.
Почему?
Нас поймают.
Мне нужно с тобой встретиться.
Подождем, когда стемнеет.
Мне нужно с тобой встретиться немедленно.
Что с ней случилось?
Умоляю.
Она рыдает. Рыдает во весь голос. Я понимаю, что этого делать нельзя, но звук ее рыданий надрывает мне душу, убивает меня. Я знаю, что нужен ей. Неважно, где мы находимся, какие тут правила, все неважно, кроме нее. Я нужен ей. Я обещал, что сделаю для нее все. Сейчас она плачет и зовет меня.
Встретимся на поляне.
Когда?
Выйду, как только повешу трубку.
Хорошо.
Если придешь раньше меня, жди. Но я потороплюсь.
Хорошо.
Все будет хорошо.
Не будет.
Будет.
Она умирает, Джеймс.
Мы справимся с этим. Все будет хорошо.
Я люблю тебя.
Я тоже тебя люблю.
Она вешает трубку, я тоже. Открываю дверь телефонной кабинки, выхожу. На нижнем ярусе собрался народ, стулья расставлены полукругом, Линкольн готов начать дневную сессию. Он смотрит на меня и говорит.
Присоединишься к нам?
Мне нужно выйти, прогуляться.
Ты думаешь, можешь пропускать занятия, когда хочешь?
Я не хочу. Мне очень нужно.
Почему?
Потому что нужно.
Не слышу ответа на свой вопрос.
Мне нужно выйти. Это не ваше дело.
Это мое дело, потому что я руковожу отделением.
Вот и руководите тут. Я иду на улицу.
Открываю раздвижную дверь, выхожу из корпуса, иду вперед. Не глядя по сторонам. Быстро шагаю знакомым путем. Я не хочу, чтобы ей пришлось ждать меня. Я нужен ей.
Когда подхожу к поляне, она уже там. Глаза опухли. На щеках следы слез. Руки дрожат. Она так долго плачет, что даже не осознает, что плачет. Продолжает плакать и сейчас. Шагает ко мне навстречу, я к ней, и вот она уже в моих руках, я держу ее. Она кладет голову мне на плечо и плачет. Содрогается всем телом. Держится за меня, сжимает меня, прижимается ко мне, словно я могу вобрать ее горе, освободить ее от него. Я могу. Я могу вобрать все горе, которое она отдает мне, сделать его своим и отпустить. Я могу. Я приму твое горе и сделаю своим. Отдай мне его. Я отпущу его. Я смогу отпустить его.
Усаживаю ее на землю, обнимаю, даю выплакаться. Шепчу ей на ухо «все хорошо», «все хорошо». Эти слова ничего не значат, это только слова, но они успокаивают ее, потому что никто никогда не говорил ей «все хорошо» и она никогда не верила в это. Все хорошо, все хорошо. Я обнимаю ее, и она верит мне. Все будет хорошо.
Она успокаивается, перестает плакать, но по-прежнему сидит, уткнувшись лицом мне в плечо. Я говорю.
Что случилось?
У нее рак. В костях, в крови. Это неизлечимо.
Ты узнала сегодня утром?
Да.
Сколько времени она болеет?
Обнаружили на прошлой неделе. Она плохо себя чувствовала, но думала, что все пройдет. Она потеряла сознание на работе.
Почему она не сказала тебе раньше?
Не хотела волновать.
Почему сказала сегодня утром?
Все оказалось серьезней, чем она думала. Она решила, что нужно сказать.
Сколько ей осталось?
От двух недель до полугода.
Я крепче обнимаю Лилли.
Мне жаль.
Она крепче прижимается ко мне.
Кроме нее, у меня никого нет.
У тебя есть я.
Мне страшно.
Не бойся.
Что мы будем делать?
Мы справимся.
Как?
Когда я приеду в Чикаго, мы снимем квартиру, все будет хорошо.
Она немного отстраняется и смотрит на меня.
Ты точно приедешь?
Как только смогу.
Когда выпишешься отсюда?
Нет.
Почему?
Мне придется сесть в тюрьму.
Что?
У меня есть судимость. Придется какое-то время отсидеть. Пока не знаю точно, сколько. Но как только освобожусь, я приеду в Чикаго.
Что ты натворил?
Драка с копами в пьяном виде, да еще у меня нашли наркотик.
Почему ты мне ничего не рассказал?
Не хотел волновать, пока все не выяснится.
Все равно надо было рассказать.
Знаю. Прости.
Надолго тебя посадят?
Пока не знаю.
Надо было рассказать мне.
Я рассказываю сейчас. Я приеду к тебе, как только смогу.
Кроме тебя, у меня никого нет, Джеймс. Во всем этом проклятом мире никого, кроме тебя.
Еще у тебя есть ты.
Оказывается, этого недостаточно для счастья.
Ты можешь удивить себя.
Всю жизнь я была одна. Больше не могу.
Больше ты не будешь одна.
Она умирает, Джеймс.
Все будет хорошо.
Слышу какой-то шум. Поворачиваюсь в сторону зарослей. Шум ближе и громче. Мы встаем. Шорох листьев, хруст поломанных веток становится громче, шаги приближаются. Я смотрю на Лилли. Шаги еще ближе, она берет меня за руку. Шаги совсем рядом с поляной. Она целует меня. Кто-то выходит на поляну. Она смотрит мне в глаза. Говорит – кроме тебя у меня никого нет.
Шум стихает. Я оборачиваюсь. Линкольн стоит в нескольких шагах от нас. Он говорит.
Кен подменил меня. А я решил посмотреть, как у тебя дела.
Дела у меня прекрасно.
Вовсе нет. Далеко не прекрасно.
Смотря с какой точки зрения посмотреть.
Я смотрю с точки зрения правил нашего учреждения. А ты, видимо, с другой.
Да, с другой.
Ну что ж, идем в клинику. А по дороге попрошу держать рот на замке.
Я поворачиваюсь к Лилли, которая смотрит на Линкольна. В ее взгляде смешались протест, страх и ненависть. Линкольн тоже смотрит на нее, пытается встать между нами. Мы все еще держимся за руки, и она отталкивает его. Он хватает ее запястье, но она не отпускает моей руки, смотрит на него и говорит.
Я буду держать рот на замке, но его руки не отпущу.
Ты не вправе диктовать мне свои условия.
Это не условие. Просто говорю, как оно будет.
Вы нарушили правила, за это нужно держать ответ.
Трахни себя своими правилами, вот тебе мой ответ.
Она смотрит на него, он на нее. Я смотрю на нее, горжусь ею, она разрывает мне сердце, я люблю ее. Они буравят друг друга взглядами. Ее взгляд сильнее, чем она подозревает. Линкольн понимает, что я понимаю, что она не отпустит моей руки. Он хоть весь день может распинаться, требовать, чтобы мы разняли руки, она все равно не отпустит моей руки.
Идите за мной.
Он поворачивается, начинает пробираться сквозь заросли, мы за ним. Держимся за руки, смотрим прямо перед собой. Линкольн идет очень быстро. Выходит на дорожку, останавливается и ждет нас. Когда между нами остается несколько шагов, он возобновляет путь. Дорожка выводит нас к зеленому газону, который отделяет лес от корпусов клиники. На подходе к корпусам мы с Лилли поворачиваем головы и смотрим друг на друга. Без слов, просто смотрим, и с каждой секундой взгляд Лилли теплеет. На ее глазах появляются слезы. Я не хочу, чтобы она плакала, не хочу, чтобы она уходила, не хочу, чтобы у нее были неприятности. Я возьму всю вину на себя, если потребуется, пусть меня выгоняют, я дождусь ее, я не пропаду. Она плачет. Молча, просто слезы текут по щекам ручьем. Я хотел бы забрать их, сделать своими, не хочу, чтобы она плакала, ни сейчас, ни потом, никогда. Она плачет.
Мы подходим ко входу в клинику. Линкольн открывает дверь, мы заходим внутрь. Все головы обращаются к нам, все на нас смотрят. Линкольн закрывает дверь, шагает вперед и говорит.
Я отведу ее в отделение. А ты ступай к себе в палату и жди меня. Пока я не приду.
Я киваю.
Пошли.
Я смотрю на Лилли, она на меня. Отнимаю свою ладонь, обнимаю ее. Шепчу ей на ухо.
Я люблю тебя. Помни это. Я люблю тебя.
Она не отпускает меня, пока Линкольн не кладет руку ей на плечо. Она отходит от меня, поднимается вслед за ним по лестнице, а я иду за ними. Все смотрят на нас. И Кен, и пациенты. Смотрят, не отрываясь.
Мы идем по коридору, который я ненавижу, они впереди меня, глаза бы мои на это не смотрели, но гляжу им вслед. Останавливаюсь у двери своей палаты, стою и гляжу им вслед. Лилли чуть впереди Линкольна. Она идет, глядя в одну точку перед собой. Он смотрит ей в спину. Все молчат. В холле тишина.
Дойдя до конца коридора, Лилли оборачивается и смотрит на меня. Я вижу только ее глаза, прозрачные, как родник, синие и дерзкие, несчастные и потерянные, они смотрят на меня. Они полны слез. Я не хочу расставаться с ними. Линкольн с Лилли заворачивают за угол, исчезают из вида. Я стою у своей двери, надеюсь, вдруг она вернется, надеюсь, вдруг этот кошмар рассеется, надеюсь без всякой надежды. Смотрю на беспощадные белые стены коридора. Она не возвращается. Открываю дверь, вхожу в свою палату. В ней тихо и пусто, как и утром, когда я из нее выходил. Смотрю на свою кровать и думаю, сесть, что ли, на нее. Заглядываю в ванную и думаю, душ, что ли, принять. Выглядываю в окно и думаю, выпрыгнуть, что ли. Смотрю на стены и думаю, проломить их, что ли. Мне остается только ждать. Ждать, когда Линкольн придет, когда моя судьба решится. Остается только ждать.
Смысл происшедшего вдруг доходит до меня. Не постепенно, а враз. Я нарушил наиглавнейшее правило этого заведения. Нарушил нагло. Я полюбил девушку, прекрасную и очень несчастную, которая одна на всем белом свете, которая призналась, что не может жить без меня. Я не хочу оставаться здесь без нее, а уйди я отсюда, мне некуда податься. Ей тоже. Можно, конечно, поехать к ее бабушке, но бабушка скоро умрет. К моим родителям нельзя, я и так помучил их достаточно. Мы могли бы отсюда сбежать, но нам некуда бежать. Меня разыскивает полиция и рано или поздно найдет. Тогда меня засадят, и уже надолго, а не на три года. Мы оба наркоманы. Нам обоим нужно пробыть еще какое-то время в клинике. Но, судя по всему, нас из клиники вышвырнут. Обоих. Вышвырнут.
Я снова и снова размышляю над тем, что произошло. Пытаюсь понять, где допустил ошибку. Прокручиваю мысленно свои поступки и ищу путь, который позволил бы не попасть в эту ситуацию. Я мог бы пройти мимо Лилли в первый день. Мог бы выбросить записку, которую она вручила мне. Мог бы не разговаривать с ней. Мог бы не звонить ей сегодня, или не уходить из отделения, или не сидеть так долго с ней на поляне. Допустим, я бы ничего этого не сделал. Тогда не оказался бы в этой ситуации, перед этой угрозой. Я не согласен с тем, что случилось. Хочу вернуться назад. Все исправить. Черт меня подери. Теперь нам крышка.
Сижу на кровати, закуриваю сигарету, затягиваюсь во всю глубину легких. Пялюсь в пол. Мысли еле ворочаются. Я понимаю, что нельзя изменить того, что случилось, но больше не жалею об этом. Что сделал, то сделал, и снова поступил бы так же. Я люблю ее, а любовь важнее правил и распорядков. Любовь дала мне больше, чем правила. Я стал лучше благодаря ей. К черту правила и распорядки.
Делаю еще одну затяжку. Мысли совсем замедляются. Делятся на два потока и текут параллельно. Алкоголь. Лилли. Наркотики. Лилли. Обдолбаться. Лилли. Эти два потока не зависят друг от друга и в то же время как-то связаны. За одним потоком стоит дикая потребность в саморазрушении, дикое желание убить свои чувства с помощью знакомых веществ. За другим потоком стоит образ Лилли, где она, что с ней, что делает, о чем думает, в порядке ли. Кто с ней сейчас, о чем они говорят. Эти потоки пересекаются, текут вместе, потому что я тоскую по Лилли, к моей боли прибавляется боль, которую, я знаю, чувствует она, и отсюда рождается желание убить свои чувства.
Я встаю. Снова сажусь. Встаю. Снова сажусь. Ум говорит рукам – пора, действуйте, надо уже ускорить расставание с этим местом, ум говорит рукам – ну же, пора. Я подсовываю руки под себя. Сажусь на них, прижимаю своим весом. Чувствую себя полным мудаком, слабым жалким уродом. Ум говорит рукам – ну же, действуйте, сломайте что-нибудь к чертям, давайте. Я сижу на руках. Сижу на руках. Слабый, жалкий, говнистый мудак.
Сердце велит – ни с места. Сиди. Жди. Крепись. Собери силу воли. Сиди, прижимай задницей свои чертовы руки и плюй на всех. Сила приходит вопреки. Наплюй на свой ум, на свои чувства, на свою наркоманию. Наплюй на все, ублюдок, наплюй на все.
Я сижу на кровати, прижимаю задницей руки, закрываю глаза, дышу, отпускаю чувства. Испытываю волю. Способен ли я усидеть на месте. Сдержаться. Хватит ли силы воли. Какого черта я тут делаю. Когда же наступит конец. Скоро. Пожалуйста, держись на хер. Конец уже скоро.
Я сижу, время останавливается, исчезает, ускоряется, замедляется, каждая секунда то длиннее, то короче. Руки подо мной начинают дрожать. Глаза закрыты, дышу медленно. Мимо проплывают мысли, чувства, среди них страх, жажда самоуничтожения, терпение, самообладание.
Сидеть.
Не двигаться.
Сбежать прочь.
Нет.
Напиться.
Обдолбаться.
Паника.
Паника.
Сбежать прочь.
Остаться.
На хер.
На хер.
Бежать.
Бежать.
Поймают.
Восемь лет.
Строгого режима.
Лилли.
Где ты.
Лилли.
Где ты.
Обдолбаться.
Отрава.
Напиться.
Выпивка.
Прикончить.
Себя.
Немедленно.
Нет.
Невесть сколько времени. Сидя на руках. Сражаясь с собой. Мысли мелькают.
Закинуться.
На хер.
Отрава.
Напиться.
Немедленно.
Ты.
Ублюдок.
Мы.
Все.
Сильнее.
Чем.
Ты.
Так.
Будет.
Всегда.
Снова и снова. Снова и снова. Время исчезло. Прижимаю задницей свои руки. Борюсь с собой. Снова и снова. Борюсь с собой. Снова и снова.
Начинаю плакать. Не навзрыд, а просто слезы из-под сжатых век бегут по лицу. От напряжения, от внутренней борьбы и от страха, это какой-то жуткий кошмар. Хуже, чем кошмар. Плачу из-за попытки сдержать себя, из-за борьбы с самим собой, из-за страха перед перспективой сдохнуть или вернуться к прежней жизни. Плачу от любви. От благодарности к Лилли, к друзьям, к родителям. Плачу, потому что Ярость, Страх, Наркомания ополчились против меня и хотят добить, но я не поддамся им. Они хотят добить меня, но я не поддамся им.
Время идет.
Я плачу.
Это какой-то жуткий кошмар.
Скорее бы конец.
Скорее бы конец.
Скорее бы конец.
Скрип двери. Открываю глаза. Сумерки сгустились, стало темно. Простой звук выводит меня из круговорота мыслей. Простой скрип двери. Майлз включает свет, видит меня на кровати, удивляется.
Все в порядке, Джеймс?
Нет.
Я могу тебе чем-то помочь?
Нет.
Давно сидишь?
Да.
Почему ты сидишь на ладонях?
Не доверяю им.
Понимаю тебя. У меня тоже такое бывает.
Правда?
Да, только я не сижу на ладонях. Я сжимаю их.
Я улыбаюсь, достаю руки из-под себя, вытираю лицо и кладу ладони на колени. Они онемели и посинели от того, что в них не поступала кровь. Я трясу ладонями в воздухе, чувствую боль. Начинается покалывание и пощипывание.
Как руки?
Я смотрю на Майлза.
Болят.
Подержи в теплой воде.
Поможет?
Еще как.
Я киваю, встаю. Майлз подходит к своей кровати, садится на нее. Я иду в ванную, включаю теплую воду, сую руки под струю, она обжигает их. Не потому, что вода горячая, а потому, что руки холодные. Она буквально ошпаривает. Ладони колет так, словно в них воткнули тысячу иголок. Я держу их под водой, они постепенно согреваются. Из синих становятся белыми, потом розовыми, желтыми, и наконец к ним возвращается нормальный цвет. Я сгибаю пальцы – они сгибаются, как положено. Боль проходит. Я сгибаю и разгибаю пальцы, все в порядке.
Выхожу из ванной. Майлз сидит на краю кровати, ждет меня.
На ужин идешь?
Мне велено сидеть здесь.
Как долго?
Не знаю.
Принести тебе что-нибудь поесть?
Да, спасибо.
Что ты хочешь?
Что-нибудь легкое.
Хорошо.
Спасибо.
Чем еще могу тебе помочь?
Не скажешь, который час?
Он смотрит на часы.
Четверть седьмого.
Спасибо.
Я иду к своей кровати. Он встает со своей и направляется к двери.
Если тебя не будет, когда вернусь, оставлю еду на твоей тумбочке.
Спасибо, Майлз.
Он выходит, закрывает дверь за собой. Я ложусь на кровать, мне холодно, начинаю дрожать, залезаю под одеяло. Сворачиваюсь калачиком, закрываю глаза, утыкаюсь лицом в подушку. То ли сплю, то ли нет. Нахожусь на границе между сознанием и бессознательным, между сном и явью. Тело расслабляется, успокаивается, отдыхает. Ум замедляется, перебирает образы, желания, ошибки, воспоминания. Они напоминают мутные сюрреалистические фотографии. Я мысленно рассматриваю их, они скользят передо мной. Сплю и не сплю. Бодрствую и грежу.
Снова скрип двери. Открываю глаза. Приподымаю голову, вижу Линкольна, он стоит в дверном проеме. Из-за его спины падает свет, он говорит.
Подъем.
Хорошо.
Приходи ко мне в кабинет, когда будешь готов.
Хорошо.
Он разворачивается, выходит, закрывает дверь. Я вылезаю из постели, иду в ванную, включаю воду, плещу в лицо. Вода стекает по щекам в рот, она очень вкусная. Наклоняюсь, пью из крана. Глоток за глотком. Прямо из крана. Вкусно.
Выхожу из палаты, иду по безмолвным коридорам. В отделении пусто, все ушли в столовую. Я подхожу к кофемашине, наливаю чашку кофе, делаю глоток, который меня мгновенно бодрит. Пока спускаюсь по лестнице, меня охватывает страх. Кофе согрел нутро, я чувствую, как кровь течет по венам. Ноги не слушаются, и чтобы сделать шаг, требуется дать команду. Правая вперед. Левая вперед.
Одолеваю нижний ярус, выхожу в короткий коридор, который ведет к кабинету Линкольна. В коридоре темно, а в конце виден свет, в проеме открытой двери. Я с трудом шагаю. Входя в кабинет, продолжаю давать команды ногам. Линкольн сидит за столом.
Закрой дверь.
Я поворачиваюсь, закрываю. Он указывает на стул с другой стороны стола. Я сажусь, он откидывается на спинку стула и смотрит на меня. Я на него.
Если б все зависело от меня, тебя бы здесь не было. Мне не нравится твое отношение, я думаю, что ты прикладываешь недостаточно усилий, считаю, что ты по-прежнему оказываешь сопротивление нашей работе, а наша работа – помогать людям, и твое поведение вредит как отделению, так и тебе самому.
Он смотрит на меня. Я на него.
Короче говоря, тебе дается еще один шанс. Если будешь стараться, вести себя как положено, соблюдать правила, то тебе разрешат находиться здесь до окончания твоего курса. Но если ты еще хоть раз допустишь нарушение, даже самое незначительное, например, не выполнишь утреннее задание или вступишь в разговор с пациенткой, то тебя попросят убраться восвояси. Как считаешь, ты справишься?
Я улыбаюсь. Словно камень с души упал.
Да, конечно. Спасибо тебе.
Меня не надо благодарить. Я хотел тебя выгнать. Благодари Джоанну. Ты остался только благодаря ей. Она снова спасла тебя.
Все равно спасибо тебе.
Можешь идти.
Он перебирает какие-то бумаги на столе. Когда поднимает голову, я говорю.
А Лилли остается?
Нет.
Радости как не бывало.
Вы ее выгнали?
Паника возвращается.
Когда мы сказали, что ей не позволят встречаться с тобой, она ушла.
И вы не остановили ее?
Когда люди хотят уйти, мы не удерживаем их. Наша задача помогать тем, кто хочет остаться и получить помощь.
А что, если я скажу, что знаю, куда она отправилась?
Это не имеет значения.
Я знаю, куда она отправилась. Я мог бы найти ее и привезти обратно.
Он усмехается, и тут моя паника проходит. Вместо паники приходит Ярость.
Смешного-то что я сказал?
Мы не поощряем романы между пациентами, потому что они всегда заканчиваются подобным образом. Люди воображают, что могут решить проблемы друг друга, а это не так. Надеюсь, этот случай послужит тебе уроком.
Как это прикажете понимать?
Мы знаем свое дело. И правила взяты не с потолка. Может, теперь ты прислушаешься к ним.
Пошел ты на хер.
Что ты сказал?
Она живой человек, а не учебное пособие, чтобы служить мне уроком.
Что ты только что сказал мне?
Я сказал – пошел ты, чертов мудак. А она ни хера не учебное пособие, а живой человек.
Еще одно такое высказывание, и ты вылетишь отсюда.
А ты думаешь, теперь я захочу здесь остаться?
Думаю да, если хочешь сохранить трезвость.
Я не собираюсь оставаться в таком месте, где мудаки вроде тебя твердят, что их задача помогать людям, но как только кому-то больше всех нужна помощь, вы его выгоняете, потому что он верит не в то, во что вы, или помощь ему нужна не такая, которую вы считается правильной.
Поступай, как считаешь нужным.
И поступлю, и останусь чистым без вас, хотя бы для того, чтобы доказать такому самодовольному мудаку, как ты, что твой путь не единственный.
Желаю удачи.
Пошел ты.
Я встаю, выхожу. Иду через отделение в свою палату. Беру книжечку про Дао, одеваюсь потеплее, надеваю свитер, одну пару носков на ноги, другую на руки. Видно, что за окном холодно. Выхожу из палаты, прощай, прощай, прощай. Иду по коридорам, которых больше никогда не увижу, будь они прокляты, прощайте, коридоры. Прохожу через приемную, распахиваю входную дверь, выхожу из клиники. Будь она проклята, прощай. Я ушел.
Выхожу на дорогу. Темно, холодно, ни луны, ни фонарей. Ухожу все дальше и дальше. Видны только силуэты деревьев да пар от моего дыхания. Слышен только хруст гравия под ногами.
Не помню, как я сюда ехал, давно это было, но знаю, что эта дорога упирается в автостраду. По ней ездят автомобили. Попытаюсь поймать попутку. Местные догадаются, откуда я, и не посадят, но дальнобойщик на грузовике может подобрать или водитель, который едет издалека. Лицо у меня зажило. С виду я больше не похож на алкаша, наркомана или преступника. Выгляжу вполне нормальным человеком, хоть им и не являюсь. Дальнобойщик запросто может меня подобрать или еще кто-нибудь. Не из местных, конечно. Они-то сразу смекнут, откуда я такой взялся.
Дорога делает поворот, и последние огни клиники исчезают из вида. Вокруг темно, как в шахте, и тихо. Мне нравится это. Слишком давно я не погружался в ночь, в темноту. Я с ними хорошо знаком, чувствую себя, как дома, ко мне возвращается чувство, что я дома, и обычная Ярость. Все возвращается.
Слышу шум позади и шум впереди. Сзади догоняет, судя по звуку, фургон. Впереди, судя по звуку, мчатся по длинной ровной дороге на большой скорости автомобили. Звук впереди мне нравится больше. Как раз то, что мне нужно. Будь она проклята, эта клиника. Прощай.
Перехожу на бег. Моя спортивная форма ни к черту, к тому же холодный воздух обжигает легкие. Бегу по обочине асфальта, вдоль деревьев, бегу из последних сил. Моя цель не так уж далеко. Совсем недалеко, но мне и это расстояние дается с трудом. Каждый глубокий вдох холодного воздуха отдается болью в легких. Мне двадцать три. А я едва способен бежать.
Моя цель – автострада. Огни проезжающих автомобилей рассекают бескрайние поля. Я знаю, что ближайший город находится на западе. В этом городе Лилли, а запад слева. Делаю последний рывок, поворачиваю налево, шагаю. Высматриваю автомобиль, чтобы поднять большой палец.
Белый фургон тормозит в конце дороги, ведущей к клинике, и мигает фарами. Кто там, в этом фургоне, пошел он на хер. Фургон трогается с места, поворачивает налево, едет ко мне.
Окно с пассажирской стороны опускается. Фургон приближается, кто-то высовывается из окна, ждет, пока я его признаю. Я не гляжу по сторонам. Иду, глядя вперед. Там, впереди, город, в котором Лилли. Сквозь урчанье двигателя слышится голос.
Привет, малыш. Ты кое-что забыл.
Я узнаю этот голос, он нравится мне, внушает доверие, этот голос ободрял меня в трудные минуты. Я смотрю на фургон, в опущенное окно. Линкольн сидит на пассажирском сиденье, смотрит на меня. Хэнк сидит за рулем. Держит свою куртку. Куртку, которую одолжил мне когда-то, которую я оставил в палате. Он улыбается мне.
Ты себе задницу отморозишь без куртки.
Я улыбаюсь.
Как твои дела, старина?
Хорошо. А твои как?
Я очень спешу.
Куда?
Нужно найти одного человека.
Садись в машину, погрейся чуток.
Я не боюсь холода.
Садись уже.
Нет, спасибо.
Говорит Линкольн.
Садись.
Я останавливаюсь, Хэнк останавливает фургон. Я смотрю на Линкольна, тот на меня.
Я не вернусь в клинику.
Садись в машину.
Пошел ты.
Ты хочешь найти ее?
Да.
Тогда садись в машину, черт возьми.
Я смотрю на него, он на меня. Глаза у него темные, холодные, жесткие, но в них есть правда. Я подхожу к двери, он тянется через плечо, нажимает на кнопку. Я открываю дверь, сажусь в фургон. Из обогревателей дует теплый воздух. Хэнк бросает мне свою куртку, я надеваю ее. Он говорит.
Куда едем?
В Миннеаполис, на автовокзал.
Надо спешить?
Я гляжу на Линкольна. Он смотрит перед собой.
Когда она ушла?
Он отвечает ровным голосом.
С час тому назад.
Я смотрю на Хэнка.
Да, нужно спешить.
Он улыбается, нажимает на газ, фургон срывается с места. Поля за окном сливаются в сплошное бесформенное пятно, дорога превращается в мелькание огней и желтых полос, мы мчимся вперед, на поиски Лилли. Сижу, смотрю в окно, курю. Линкольн смотрит перед собой, глубоко вздыхает и иногда похрустывает костяшками пальцев. Хэнк настраивает радио на местную волну и подпевает каждой песне. Если не знает слов, придумывает свои, что-нибудь про хоккей или рыбалку. Друг с другом мы не разговариваем.
Показываются огни города. Мы сворачиваем с автострады, спускаемся по съезду в многолюдный центр, где возвышаются башни из стали и стекла. Люди спешат по улицам, рестораны и бары переполнены. Автомобили гудят, грузовики ожидают погрузки, таксисты выискивают пассажиров. Хэнк поворачивает, мы проезжаем мимо огромной спортивной арены с мигающим экраном, который оповещает о вечернем матче. Объезжаем забитую автомобилями парковку и на противоположной стороне рядом с заброшенным зданием и мотелем видим автовокзал. Последняя четверть мили тянется час, неделю, год, вечность. Я понимаю, что мы едем быстро, но хочется еще быстрее. Мои ноги подпрыгивают вверх-вниз, вверх-вниз, я весь на нервах от тревоги и страха. Чувствую себя примерно как в девять лет, когда без спроса взял отцовские часы, потерял их на пляже, а пропажу обнаружил, уже возвращаясь домой на велосипеде. Я вернулся на пляж, час за часом перекапывал песок, ползал на четвереньках. Или как в тот раз, когда в моей комнате пропала унция кокаина. Я обшарил все, перетряхнул постель, вывернул наизнанку одежду, вывалил содержимое комода. Короче, перерыл все. Часы я так и не нашел. А кокаин нашел.
Мы подъезжаем ко входу на автовокзал, я открываю дверь еще до того, как фургон затормозил. Выпрыгиваю и бегу. Проскакиваю мимо людей, которые просят милостыню. Не обращаю внимания на запах мочи и курева. Распахиваю двери, старые и тяжелые, и вот я в здании автовокзала.
Типичный городской автовокзал. Гигантский зал, тусклые флуоресцентные лампы свисают с проводов, билетные кассы тянутся вдоль стен, множество выходов ведут к автобусам, потертые деревянные скамьи привинчены болтами к полу. Народу немного, но он есть. Тут и торговцы наркотиками, и сутенеры, и бродяги, и беглецы, и бездомные обоего пола – они спят на скамейках. Я чувствую себя среди них как среди своих.
Начинаю обследовать скамейки. Главное найти ее, все равно где, лишь бы найти. Обхожу ряд за рядом, откидываю рваные одеяла, переворачиваю тела, чтобы увидеть лицо. Заглядываю в спальные мешки, предлагаю сигарету, чтобы получить ответ на свой вопрос. Ее нигде нет. Никто ничего не может сказать. Она исчезла.
Обхожу все билетные кассы, одну за другой. Кассиры скучают и раздражаются, я мешаю им смотреть телевизор с размытым черно-белым изображением на экране. Я описываю ее, спрашиваю, не видели ли. Они говорят, что нет. Я не отступаюсь, но им важнее не пропустить матч или сериал, чем помочь мне. Они твердят – да не видели мы никаких девушек. Отвечают, даже не взглянув на меня.
Возвращаюсь к главному входу. Я точно знаю, что она была здесь или до сих пор здесь. Я точно знаю, что кто-то видел ее. Я вглядываюсь в каждого, вглядываюсь пристально. Скорее всего, она обошла стороной сутенеров, потому что способна заработать свои деньги и без них. Барыги, которых я встретил, не торгуют тем, что она употребляет, они предлагали мне травку, мет или низкокачественный героин. Ее цель – словить кайф или добраться до дома. Я точно знаю, что она была здесь или до сих пор здесь. Я точно знаю, что кто-то видел ее. Я знаю. И пристально вглядываюсь в каждого.
Я продолжаю искать, упорно, последовательно. Мое внимание привлекают два пацана, которые сидят на скамейке. Им лет по двенадцать. На них большие мешковатые джинсы, пуховики, в которых утонули тела, шапки надвинуты на лоб. Скамья находится напротив туалета, с нее открывается обзор на весь зал. Я наблюдаю за ними. Догадываюсь, кто они такие. Догадываюсь, чем промышляют.
Направляюсь через зал прямиком к ним. Они делают вид, что не замечают меня, хотя не сомневаюсь, что они так же внимательно следят за мной, как я за ними. Останавливаюсь перед входом в туалет. Один бросает быстрый взгляд на другого. Другой едва заметно кивает. Я не ошибся. Их взгляды подтверждают, что я не ошибся.
Открываю дверь в туалет. В нос шибает запах мочи, дерьма и человеческих отбросов. Два шага по короткому грязному коридору, затем еще одна дверь. Открываю ее, вонь становится сильнее. Вхожу в грязную комнату. На полу потрескавшаяся грязная кафельная плитка. Когда-то была белой, сейчас коричневая. Разбитые зеркала над раковинами, в которых застоялась грязная вода. Вдоль другой стены ряд писсуаров. Во всех желтая моча, в одном плавает полусгнивший ботинок. Смотрю на кабинки. Все без дверей, кое-где на старых деревянных стенах рисунки. Из-под крайней кабинки торчит пара кроссовок. Новые, дорогие баскетбольные кроссовки. Я говорю.
Привет.
Мне отвечает голос низкий и грубый, как кувалда, с акцентом негритянского гетто.
А тебе чего?
Нужно поговорить.
Слышен смешок. Какое-то шевеление. Кроссовки выдвигаются вперед, из-за перегородки появляется парень. Ему лет двадцать. Бритая голова, редкая бородка. Одет так же, как мальчишки на скамье. Он смотрит на меня сверху вниз, оценивает и говорит.
Чего надо?
Я ищу одного человека. Может, поможешь мне.
Кого ищешь?
Девушку. Молодая, белая. Волосы длинные черные, глаза синие. В военной куртке.
Выражение его лица не меняется, но глаза быстро и непроизвольно скользят влево и вверх.
Не видел такую.
Я смотрю на него.
Ты видел ее.
Он надвигается на меня.
Хочешь обозвать меня вруном?
Я не двигаюсь с места.
По-моему, я тебя никак не обзывал.
Так ты хочешь обозвать меня вруном, сукин сын?
Где она?
Он делает еще шаг. Его взгляд быстро скользит влево, потом на меня.
Не знаю.
Мы стоим лицом к лицу, почти вплотную. Я чувствую его дыхание на своей щеке. Я готов отразить удар, но руки держу по швам.
Скажи мне, где она.
Он улыбается. Улыбка у него совсем не дружелюбная.
А зачем тебе понадобилась эта девчонка?
Она в беде. Ей нужна помощь.
А что я получу, если скажу тебе что-нибудь?
Удовлетворение от того, что сделал доброе дело.
Он ухмыляется.
Мне этого мало.
Больше ничего не могу добавить.
Надо добавить что-нибудь.
Например?
Деньги есть?
Нету.
Оружие?
Нет.
Может, машина есть?
Я смеюсь.
Ни хера у меня нет, парень.
Он смеется, смотрит в сторону. Потом поворачивается ко мне, окидывает взглядом с головы до ног, впивается мне в глаза. Я отвечаю на его взгляд, но без агрессии. Смотрю спокойно, прямо, без напряжения и без страха.
Как ты додумался искать меня тут?
Я сам курил крэк и торговал им.
А теперь, значит, хочешь вытащить эту девчонку, чтобы она завязала?
Да.
Я из-за этой отравы потерял сестру.
Мне жаль.
Кто б знал, как ее отвадить от этой отравы.
Надо было попробовать.
Никто не может завязать. Эта отрава сильнее человека.
Это не значит, что не надо пытаться.
Делай что хошь, хоть тресни, но эта отрава никого не отпускает.
Скажи мне, где она.
Его зрачки сужаются, словно он готов ударить. Я жду, смотрю на него.
Если выдашь меня, проболтаешься или еще как нагадишь, я найду тебя и придушу.
Договорились.
Я придушу тебя на хер.
Согласен.
Она была здесь пару часов назад с каким-то белым старикашкой. Он не походил на обкуренного, а она аж вся тряслась, и глаза голодные, как у крэкеров. Старикашка купил две дозы, и они ушли. Я думаю, они в старом доме на той стороне улицы. Там сзади разбитая дверь, а на третьем этаже кучкуются крэкеры, обделывает свои делишки. Если их там нет, ну тогда уж не знаю.
Я киваю.
Спасибо.
Он смотрит на меня.
Больше не приходи сюда.
Не приду.
Я поворачиваюсь, выхожу, иду через автовокзал к выходу. Хэнк ждет меня.
Похоже, я знаю, где она.
Где?
Вон в том заброшенном доме, через улицу.
Как ты узнал?
Один барыга сказал.
Идем к фургону, который ждет у тротуара. Хэнк садится за руль, я на заднее сиденье. Линкольн смотрит в окно. Хэнк заводит двигатель, мы с ревом направляемся в сторону заброшенного здания. Похоже, когда-то это был жилой дом. Пять этажей, окна расположены ровными рядами по всей высоте. Сейчас все окна заколочены досками. Сломанные ступени ведут к парадному входу, он тоже заколочен. Все стены покрыты граффити, по большей части выцветшим. Куча мусора там, где некогда был газон.
Я снова выпрыгиваю из фургона на ходу. Бегаю вокруг здания в поисках черного входа, или окна с плохо прибитой доской, или чего угодно. Несколько ступенек ведут вниз, там дверь. Она забита доской, но доска болтается, видно, что ее можно отодвинуть. Спускаюсь по ступенькам, перешагиваю через битое стекло, грязные банки, пустые бутылки, обрывки фольги с обожженными краями, использованные шприцы, обгоревшие спички и сломанные зажигалки. Подхожу к двери, отодвигаю в сторону доску. Вхожу внутрь. Это просто руины, кругом полная разруха, на хер. Всюду горы мусора, посреди него валяются грязные матрасы. Из заляпанных труб капает ржавая вода. Слышно, как где-то шныряют крысы, по углам кучи крысиного помета, воздух пропитан запахом тухлых яиц и смерти, я вздрагиваю от него, съеживаюсь, пытаюсь задержать дыхание. Очень быстро, подталкиваемый зловонием и дерьмом вокруг, прохожу через первый этаж к лестнице и поднимаюсь по ней. На лестничной клетке темно, поэтому шагаю с большой осторожностью. Наступаю на консервную банку, она сплющивается под ногой. Слышно, как крысы шарахаются и бегут прочь, повизгивая. Кладу руку на перила, но они покрыты толстым слоем чего-то липкого и холодного, поэтому сразу отдергиваю ее. В конце первого пролета пустая мусорная корзина, которую поджигали, видны следы сажи и пепла. Огибаю ее. Продолжаю подъем.
Чем выше, тем немного почище, хотя все равно омерзительно. В конце второго пролета слышатся звуки, которые свидетельствуют о человеческом присутствии. Шаги, приглушенные голоса, глубокие вдохи, глубокие выдохи. Шипение бутановой горелки. Иногда смешки. Это не радостный смех, нет, а высокое, визгливое хихиканье, как будто смех ведьмы. Отголоски, отголоски, отголоски разных звуков.
Добираюсь до третьего этажа. Вхожу в коридор, который тянется и направо, и налево от меня. Слева доносится громкий мужской голос, он кричит – кто там, черт возьми, слышь, ублюдок, кто там. Я иду на голос. Снова крик – да кто там, скажи лучше, кто там, на хер. Я не говорю ни слова. Напрягся и иду, готовый к драке. Снова крик – я тебя за ноги подвешу, сука. Подхожу ближе, готовый ко всему.
Становится тихо, если не считать шипения бутановой горелки. Понимаю, что голос исходит из комнаты, от которой меня отделяют еще две. Сжимаю кулаки, стискиваю челюсть, напрягаю мускулы.
Огибаю угол, вхожу в эту комнату. У дальней стены стоит изможденный старик, похожий на привидение. Волосы спутаны, кожа серая, так что не понять, какой он расы, такой цвет появляется, если несколько месяцев не мыться. Он скалится беззубым ртом, сжимает пайп, длинную, тонкую трубку, раскаленную докрасна. Я вижу, как трубка обжигает ему руку. Бутановую горелку он держит в другой руке и направляет на меня, как пистолет. По комнате плывет запах крэка, горьковато-сладкая смесь бензина с мятой. Этот запах дразнит меня, я не прочь затянуться, и это бесит меня, но желание найти Лилли сильнее, чем эта могучая и ужасная отрава. Я смотрю на старика, он говорит.
У меня нет крэка. Нет ни капли.
Я отступаю.
У меня нет ничего, нет ничего, не забирай у меня мой крэк, не трогай его.
Я выхожу из комнаты.
У меня ничего нет, слышишь, ублюдок, для тебя ничего нет, грязная белая свинья.
Обратно тем же путем. Примерно на полпути к лестнице опять начинается крик – кто там, твою мать, кто там, черт возьми. Я не обращаю внимания. Кто там, твою мать, кто там, черт возьми.
Прохожу в другую комнату. Сквозь крик слышатся другие звуки. Шипение, хриплый смех, скрип половиц, вдохи и выдохи. Распахиваю дверь. Трое женщин и мужчина сидят на полу в центре комнаты. Пустые глаза широко раскрыты. Одна женщина дышит через пайп. Затягивается так глубоко, что щеки западают. Закончив, передает пайп соседке, та берет, подносит к его концу горелку, вдыхает. Я ничего не говорю им, они мне. Лишь бы только подальше от этого пайпа, за который я готов душу продать. Закрывая за собой дверь, слышу хихиканье. Выхожу в коридор, иду дальше. Становится тихо. Крики прекращаются. Единственный звук – шорох моих шагов по старым доскам, мятым газетам и осколкам стекла. Заглядываю во все комнаты, но в них никого.
Борюсь с желанием вернуться за крэком, это желание крепнет с каждой секундой. Из дальнего конца коридора слышен мужской голос, он повторяет – да, детка, соси, детка, соси этот большой толстый член. Сквозь его слова пробивается ритмичное хлюпанье. Ярость разгорается в полную силу, но я напоминаю себе – я здесь, чтобы спасти Лилли. Я здесь, чтобы найти ее и увести. Найти и увести. Как можно скорее, черт подери.
Дойдя до конца коридора, останавливаюсь перед дверью. Из-за нее доносится – да, маленькая шлюшка, вот так, вот так, проглоти его целиком, маленькая шлюшка. Открываю дверь, вхожу в комнату, она там, стоит на коленях, лицом уткнулась старику между ног. Рядом с ней на полу пайп и горелка.
Он видит меня, говорит – что такое, черт возьми, она поднимает лицо, задыхается. В глазах у нее дикий голод, совершенное безумие, ужасный стыд и полная одержимость крэком. Она шарахается прочь от старика, чьи брюки спущены до лодыжек, он визжит мне – что ты, черт возьми, делаешь тут. Я не обращаю на него внимания, подхожу к ней, я здесь ради нее. Он тянется за бутылкой, я замечаю это краем глаза, останавливаюсь, разворачиваюсь, делаю шаг к нему. Он на расстоянии удара, и у него в руке бутылка. Я с размаху бью его по щеке. Он ошарашен, я подхожу ближе. Он вжимается в стену, я смотрю на него.
Я не собираюсь бить тебя.
Он смотрит на меня, вытаращив глаза. Боится.
Собирайся и вали отсюда.
Он начинает натягивать брюки, озираясь кругом. Я снова поворачиваюсь к Лилли, которая схватила пакет крэка, пайп и отползает в угол. Я машу ей рукой.
Пойдем отсюда, Лилли.
Она ползет в угол и отрицательно трясет головой.
Пойдем, Лилли. Нам нужно домой.
Она сидит в углу, вцепившись в свое богатство. Отрицательно трясет головой.
Брось это дерьмо и пойдем домой.
Она сжимает пакет, трясет головой, глаза бессмысленные, она далеко. Она говорит.
Не пойду.
Я подхожу к ней ближе.
Пойдем.
Слышу за спиной шаги старика. Она трясет головой.
Отстань от меня, уходи.
Я не уйду без тебя.
Она визжит.
Вали отсюда на хер.
Подхожу еще ближе.
Нет.
Она глубже забивается в угол, крепче сжимает пакет и пайп.
Вали отсюда на хер.
Подхожу к ней, наклоняюсь, кладу руки ей на плечи. Она отбивается, отталкивает меня, сопротивляется. Я крепко держу ее, поднимаю с пола, тащу за собой.
Идем.
Она кричит, рычит, вырывается, дерется. Я понимаю, это не она борется со мной, это чертов крэк. Я знаю, если наберусь терпения, то одолею его.
Идем. Нам нужно домой.
Она пытается ударить меня.
Ты можешь драться сколько угодно, но мы поедем домой.
Она бьет все сильнее и сильнее.
Я повышаю голос.
Хватит драться, черт подери. Мы едем домой.
Последняя вспышка злости, страха, последняя серия ударов, и она смиряется, идет за мной, спотыкаясь. Пайп и пакет падают, ударяются об пол. Меня так и подмывает подобрать их, желание настолько сильное, что еле терплю. Обнимаю Лилли и терплю, пока оно не проходит. Главное, держись.
Она начинает плакать на моем плече, всхлипывает. Она сдалась, наркотик тоже сдался, выжидаю еще минуту, чтобы убедиться в своей победе. Поворачиваюсь к двери, вывожу в коридор. Мы идем к лестнице. Возобновляются вопли привидения и хихиканье. Я держу Лилли, она плачет, мы спускаемся по лестнице медленно, осторожно, если я отпущу ее, она упадет. Она сломлена, растеряна, под кайфом, не понимает, что происходит. Если я отпущу ее, она упадет.
Мы спускаемся в подвал, идем сквозь вонищу, выходим на улицу, в ночь. Обходим вокруг здания. Фургон стоит у фасада.
Хэнк выходит, идет навстречу нам.
Она в порядке?
Нет.
Он открывает дверь.
Ничего, мы быстро домчимся.
Я усаживаю ее.
Спасибо тебе.
Он закрывает дверь. Я сажусь, обнимаю Лилли, она плачет у меня на плече.
Линкольн оглядывается, смотрит на нас.
Крэк?
Да.
Он кивает, больше ничего не говорит, отворачивается. Хэнк открывает свою дверь, садится за руль, и мы отъезжаем от заброшенного дома. Хэнк разгоняется до предела, в рамках дозволенного, конечно. У Лилли начинается отходняк. Она дрожит, покрывается испариной, то теряет сознание, то приходит в сознание. Когда она в сознании, глаза широко раскрыты, в них тревога. Она не может ни на чем сосредоточить взгляд, мигает, мигает без остановки, лицо искажается. Она что-то бормочет про свой пакет с крэком, про огонь, про человека из Атланты, который придет за ней. Если не бормочет, то плачет. В бессознательном состоянии она стонет и дергается, как будто по телу пробегают слабые разряды тока. Ноги дрожат и вытягиваются, руки сводит судорогой, она сжимает мою рубашку так сильно, что того и гляди порвет. Иногда она выкрикивает разные непотребства, словно у нее синдром Туретта, вроде – трахнуть тебя, ублюдок, эта чертова сука, на хер твою мать. Я сижу, держу ее. Разговариваю с ней, хотя знаю, что она не слышит. Даже придя в сознание, она ничего не понимает, кроме того, что был кайф – и больше нет. Отходняк продолжается. Я держу ее. Я просто хочу вернуть ее.
Мы съезжаем с автострады на дорогу, которая ведет к клинике. Тут у Лилли проскакивает проблеск понимания, она осознает, где мы находимся. Вцепляется в мою руку, ее ногти впиваются мне в кожу, она смотрит в мои глаза, ее глаза наполняются страхом, и впервые за всю дорогу она говорит нечто осмысленное.
Я боюсь.
Тебе нечего бояться.
Я боюсь, Джеймс.
Все будет хорошо.
Я не хотела этого делать.
Я знаю.
Просто не смогла удержаться.
Все позади.
Я боюсь.
Мы уже дома. Все будет хорошо.
Мы подъезжаем к главному входу. Фургон останавливается. Хэнк и Линкольн выходят, Линкольн открывает заднюю дверь, я помогаю Лилли выйти.
Линкольн говорит.
Мы поместим ее в другое отделение.
Зачем?
На детокс.
Надолго?
Наверное, на сутки.
Вы уж там позаботьтесь о ней.
Постараемся.
Он подходит к нам, Лилли вцепляется в меня сильнее. Я говорю ей, что все будет хорошо, ей нужно идти, говорю, что люблю ее. Она начинает плакать. Я ласково подталкиваю ее к Линкольну, он придерживает ее с одной стороны, Хэнк с другой. Передав ее им с рук на руки, я смотрю на Линкольна.
Спасибо.
Он кивает.
Ложись спать. Спи сколько хочешь, а как выспишься, приходи ко мне в кабинет.
Хорошо.
Говорит Хэнк.
И не переживай за нее, все будет в порядке.
Меня прорывает.
Спасибо вам обоим, не знаю, как вас благодарить, спасибо за все.
Линкольн кивает, Хэнк говорит – брось. Они поворачиваются в сторону терапевтического отделения, ведут Лилли, которая шатается, снова что-то бормочет. Я смотрю им вслед, слезы текут из глаз, пытаюсь подавить рыдания. Я знаю, что она в хороших руках, я знаю, что с ней все будет в порядке, но видеть, как она идет этим путем, мне невыносимо, сердце разрывается, я готов умереть, чтобы она жила нормально. Я смотрю им вслед и плачу.
Они исчезают за дверьми терапевтического отделения. Я стою в одиночестве перед входом, уткнулся лицом в ладони и плачу. Холодно, темно, глубокая ночь, и мне ничего не остается, только плакать. Даю волю слезам. Оплакиваю ее и ее страдания. Я готов отдать жизнь, лишь бы она вылечилась. Готов был сегодня вечером, готов и в будущем. Если бы это ей помогло, я отдал бы жизнь за нее. Но я знаю, что это ей не поможет. Я плачу.
Перестаю плакать, захожу внутрь. За стойкой регистрации сидит женщина, мы здороваемся, я прохожу в отделение. В коридорах пусто и тихо, все спят. Дойдя до своей палаты, осторожно открываю дверь, бесшумно вхожу. Майлз спит, свет погашен. Я раздеваюсь, залезаю под одеяло.
Снова начинаю плакать.
Совсем тихо.
Думаю о Лилли и плачу.
Это все, что я могу.
Плакать.
Я сижу в комнате, Лилли тут же. У меня загруженный пайп в одной руке, бутылка в другой. Горелка стоит на полу между ногами. Курю, пью, жду, когда наступит забвение. Мне и хорошо, и гадко.
Старикашка тоже тут. Лилли ублажает его. Я сижу и наблюдаю за ними. Сижу и курю. Сижу и пью. Меня волнует только пайп. И еще бутылка. Перед ними я бессилен. Мне и хорошо, и гадко.
Сны похожи на реальность, как бывают похожи сны, во снах я вижу, слышу, обоняю, осязаю. Образы мелькают, как в кино со стереозвуком. Крэк и алкоголь в моем теле реальны, крэк и алкоголь в моем мозгу реальны. Я балансирую на грани между сознанием и бессознательным, туда, сюда, между рассудком и безумием. Мне и хорошо, и гадко. И хорошо, и гадко.
Я просыпаюсь от этого сна. Вылезаю из постели. Иду в ванную. Встаю под душ, смываю с себя вчерашнюю грязь. Долго стою под водой.
Одеваюсь, выхожу из палаты, наливаю чашку кофе, спускаюсь по лестнице в кабинет Линкольна. На нижнем ярусе групповое занятие, и, проходя мимо, чувствую на себе взгляды всех присутствующих. Я не смотрю ни на кого. Не здороваюсь. Прохожу мимо телефонной кабинки, потом через короткий коридор. Дверь открыта, Линкольн сидит за столом, читает Синюю книгу, Великую книгу, библию Анонимных Алкоголиков. Он смотрит на меня, пока я приближаюсь, и говорит.
Садись.
Сажусь напротив.
Хорошо спал?
Нет.
Кошмары снятся?
Да.
Я так и думал.
Почему?
Потому что так бывает.
Что бывает?
Мне до сих пор снятся, хотя прошло уже четырнадцать лет.
Наверное, это цена, которую приходится платить.
Наверное.
Линкольн смотрит на меня мгновение. В отличие от всех предыдущих наших встреч, в его взгляде нет ни раздражения, ни осуждения. Он приподымает книгу, говорит.
Ты читал ее?
Да.
Что думаешь?
Мне не нравится. Не вижу в этом правды.
Прошлый вечер заставил меня о многом задуматься.
Почему?
Потому что я не предполагал, что ты в состоянии совершить то, что совершил. Это просто исключено.
Потому что книжка так говорит?
Нет, потому что моя вера в эту книгу так говорит.
Я не верю в эту книжку, поэтому не обязан соблюдать ее правила.
Какие же правила ты соблюдаешь?
Свои собственные.
Что это за правила?
Собственно, правило только одно: не употребляй. Не важно, что происходит, не важно, как сильно хочется, просто не употребляй, и все.
И это, по-твоему, работает?
Да.
И этого надолго хватит?
Да.
Я испробовал этот способ.
И как?
Три раза срывался.
Как?
Я торчал на амфетамине. Меня привезли в реабилитационный центр, я провел несколько дней, связанный ремнем, отказывался слушать, что мне говорят. Думал, что я сильнее своей зависимости. Когда вышел, то при первом же удобном случае сорвался.
Как ты стал чистым?
Наконец, я сдался. Приехал сюда, стал слушаться, делал все, что мне велят, доверил свою волю Господу, как его понимал, проработал Двенадцать шагов. Это спасло меня.
Что ж, хорошо.
Да, конечно.
Он улыбается, смотрит на меня мгновение. Переводит взгляд на свою книгу, потом снова на меня.
Я не верил, что ты справишься вчера вечером.
Нет?
Мне здесь приходится слышать много хвастливой болтовни, и чаще всего болтовня так и остается болтовней.
Я не смог бы жить дальше, если бы ничего не сделал.
Не знаю, имеет ли это для тебя значение, учитывая наши отношения – вряд ли, но я тебя уважаю.
Спасибо.
Я не способен на такое. Я не поехал бы за ней, я не пошел бы на этот автовокзал, и уж точно меня и черт не затащил бы в тот притон.
Почему ты это говоришь?
Ты рисковал своей жизнью вчера вечером, и гораздо больше, чем сам догадываешься, ради того, чтобы спасти человека. Я спасаю людей, по крайней мере пытаюсь, но делаю это в специальных условиях, под защитой системы, которая исключает какой-либо риск для меня. Я не знаю, что ты видел прошлой ночью, с кем общался, но могу себе представить, на что это похоже, и понимаю, как это было непросто. Не думаю, что я способен на это.
Я полагаю, ты рисковал своим местом, когда поехал за мной.
Может быть, но ты рисковал жизнью, по сравнению с этим рискнуть работой – не такой уж большой риск.
Это большой риск, и я тебе благодарен за это. Я перед тобой в долгу.
У меня к тебе две просьбы.
Какие?
Я все же не хотел бы вылететь с работы из-за тебя. Я знаю, что для этого мне придется приложить усилия, но и ты постарайся, прошу тебя.
Я улыбаюсь.
Нет проблем. А еще что?
Вчера вечером ты сказал, что докажешь мою неправоту.
И?
Так сделай это. Докажи, что я не прав.
Я улыбаюсь.
Уж постараюсь, будь спокоен.
Он смотрит мне в глаза.
Мало постараться. Сделай.
Я тоже смотрю ему в глаза, киваю.
Хорошо.
Он поднимается.
Так по рукам.
Я поднимаюсь.
По рукам.
Мы протягиваем друг другу руки, крепко пожимаем их, глядя друг другу в глаза, это признание взаимного уважения. Я говорю.
Можно спросить, как она себя чувствует?
Все в порядке.
А дальше что?
Сегодняшний день она проведет в терапевтическом отделении. Потом вернется к своей программе, будет проходить ее сначала. Мы пытаемся связаться с ее бабушкой, потому что по нашему Уставу, если пациент сбегает, а потом возвращается, следующий срок пребывания нужно оплачивать заново. Тебе по-прежнему запрещено общаться с ней, но, если хочешь, я буду давать тебе сводки о ее самочувствии.
Хочу.
Считай, что это первая сводка.
Если увидишь ее, скажи, что я люблю ее.
Он улыбается.
Хорошо.
Спасибо.
Тебе пора в отделение.
Хорошо.
Если что-нибудь понадобится, обращайся.
Хорошо. Спасибо.
Он кивает.
И тебе спасибо.
Я выхожу из кабинета. Иду по короткому коридору, возвращаюсь в отделение. Групповая сессия закончена, все направляются в столовую на обед. Я догоняю Леонарда с Майлзом, и мы идем в столовую вместе. По дороге они спрашивают меня, где я пропадал, я рассказываю, они ошеломлены. И поведением Лилли, и моим поведением, и поведением Линкольна с Хэнком. Их поражает все – что она сбежала, что я ее нашел, что Линкольн с Хэнком мне помогали. Спрашивают меня, трудно ли было, я говорю – да. Спрашивают, поступил бы я так же снова, и я говорю – да, и ради вас обоих тоже поступил бы так же. Пока мы выбираем еду – сегодня главное блюдо рис по-испански со свиной котлетой, – они расспрашивают, как дела у Лилли, что ее дальше ждет. Я рассказываю, умалчиваю только про деньги, потому что это не к месту. Они говорят, чтобы я дал им знать, если потребуется помощь. Я благодарю их.
Мы садимся за стол в углу зала с Тедом и Матти. Перед Матти лежит стопка газет, он ищет в них статьи о сегодняшнем матче. Большинство газет предрекают победу более тяжелому боксеру, а Матти по-прежнему считает, что он проиграет. Чтение статей он сопровождает комментариями об авторах, почти все ему знакомы по тем временам, когда он сам выступал на ринге, а тех журналистов, с кем не согласен, он называет «давнюками на букву г», «чудаками на букву м» и «фуесосами на букву х». Мы понимаем, что это часть объявленной им борьбы с привычкой сквернословить, и смеемся. Леонард спрашивает, почему бы ему не выражаться по-человечески, и Матти говорит, что он уже три дня как не осквернял свой язык этими богомерзкими словами и не собирается это делать из-за какого-то фуевого матча.
После обеда идем на лекцию. Играем в карты на заднем ряду. Леонард выигрывает все деньги, но после игры раздает их нам обратно.
Когда мы расходимся после лекции, я замечаю Кена, он стоит у двери с Рэндаллом, адвокатом, который занимается моими делами. Я смотрю на Рэндалла, говорю.
Есть новости?
Мы можем поговорить в кабинете у Кена?
Да, отвечаю я, и мы идем в кабинет Кена. С каждым шагом мои ноги наливаются свинцом, дурное предчувствие овладевает мной. Я вглядываюсь в лица Кена и Рэндалла в надежде отыскать хоть какой-то намек на уготованную мне судьбу, но напрасно. Мы идем, ноги мои все тяжелее, предчувствие все сильнее. Такое состояние, будто меня ведут не в кабинет Кена, а прямо в тюремную камеру. Кен открывает дверь, садится за стол, мы с Рэндаллом напротив. Рэндалл держит на коленях папку с бумагами, открывает ее, смотрит на меня и улыбается. Я жду самого худшего, поэтому его улыбка раздражает меня. Он говорит.
Я, конечно, не рассчитываю на ответ, но буду всю жизнь жалеть, если не задам этот вопрос.
Он делает паузу словно в ожидании ответа, я смотрю на него со страхом и раздражением, мне хочется, чтобы он скорее разогнал туман неопределенности. Он снова улыбается.
Кто они, твои друзья?
Чего?
Кто тебе помог?
Понятия не имею, о чем вы.
Он смеется.
Скажи по секрету.
Я начинаю не на шутку злиться.
Понятия не имею, о чем вы, черт подери.
Говорит Кен.
Успокойся, Джеймс.
Да объясните уже, в чем дело, черт подери.
Рэндалл смотрит на меня.
Сегодня утром мы получили предложение из Огайо. От трех до шести месяцев в окружной тюрьме с последующим трехлетним испытательным сроком. Уголовные преступления заменены на административные правонарушения, а если ты выдержишь испытательный срок, то судимость будет снята.
Я улыбаюсь.
Очуметь можно!
Он кивает.
Ты совершенно прав. Очуметь можно.
Я смеюсь.
Как это вышло?
Прокурор сообщил, что у них возник ряд проблем с доказательной базой, по некоторым пунктам обвинения недостает доказательств, к тому же им кое-кто позвонил и поручился за тебя. Я надавил, чтобы узнать подробности, но он ушел от разговора.
Я снова смеюсь. Радость переполняет меня через край.
Когда нужно отправиться туда?
Значит, ты принимаешь это предложение?
Разумеется, черт возьми.
Учитывая такой неожиданный поворот, ты можешь попытать счастья и в суде.
Я хочу поскорее с этим покончить.
Понимаю тебя. Тогда я оформлю все бумаги.
Так когда я должен отправиться туда?
Настраивайся на ближайшие дней десять, так я полагаю.
Я улыбаюсь.
Ну, просто очуметь.
Говорит Кен.
Не могу понять, почему ты так радуешься тюремному сроку.
Я радуюсь тому, что несколько месяцев в окружной тюрьме – это, считай, загородная поездка.
Но тюрьма есть тюрьма. Ты будешь сидеть в камере.
Окружная тюрьма это же не тюрьма строгого режима. Там я буду в компании тех, кто пьяным сел за руль, поколачивал жену или толкал травку. С ними у меня не возникнет никаких проблем.
И все же это тюрьма.
Загородная поездка.
Говорит Рэндалл.
Ты можешь как-нибудь объяснить то, что произошло?
Я улыбаюсь.
Есть у меня одна догадка.
Не поделишься со мной?
Вряд ли тем людям, о которых я думаю, это понравится.
Понятно.
Он закрывает папку, встает.
Я принесу бумаги, как только оформлю.
Я встаю.
Благодарю вас за помощь.
Благодарить следует не меня, а тех людей.
Их тоже поблагодарю, но и вам спасибо.
Пожалуйста.
Мы пожимаем руки, Рэндалл уходит, а я снова сажусь. Кен на минуту заглядывает в свои бумаги, потом смотрит на меня.
Мы с Джоанной обсудили сегодня утром твою программу и пришли к выводу, что ты готов приступить к последним двум шагам, которые проходят в клинике. Это Шаг четвертый и Шаг пятый.
Это ничего, что предыдущие шаги я не проходил?
Хочешь их пройти?
Нет.
Тогда давай приступим к Четвертому и Пятому.
Хорошо.
На Четвертом шаге мы должны глубоко и бесстрашно оценить себя и свою жизнь с нравственной точки зрения, это называется инвентаризацией внутреннего мира. На Пятом шаге мы признаем перед Богом, перед собой и перед другим человеком свои заблуждения.
Ага, вроде исповеди.
Да.
Если исключить Бога, то согласен.
Советую тебе во время инвентаризации все подробно записывать.
Хорошо.
Еще советую признание делать в присутствии священника.
Почему?
У священников есть необходимый опыт. Они воздерживаются от суждений и способны сохранять объективность. Многие считают, это самый лучший способ.
Я смотрю в пол, думаю, вспоминаю. Глубоко вздыхаю. Говорит Кен.
Я мог бы найти кого-нибудь еще.
Не надо. Когда это будет?
Зависит от того, сколько времени потребует у тебя инвентаризация.
Завтра закончу.
Обычно людям требуется дня три-четыре.
Я примерно представляю, что от меня требуется.
Пожалуйста, не превращай все в балаган, Джеймс.
Не буду. Даю слово.
Значит, тебя устроит, если мы назначим Пятый шаг на послезавтра?
Более чем.
Я забронирую комнату для тебя. Подумай, нужен тебе священник или нет.
Священник годится.
Если будут вопросы, обращайся.
Хорошо.
Я встаю, благодарю его, выхожу. Возвращаюсь в свое отделение, где Линкольн проводит занятие на тему «Предотвращение рецидивов и распознавание факторов риска». Он стоит возле черной доски и говорит. Перед ним на диванах и стульях сидят слушатели.
Я ищу свободное место. На одном из диванов сидит человек, по обе стороны от него пусто. Это новенький, я его раньше не видел. Длинные густые волосы выкрашены в черный цвет. Одет в черные кожаные штаны и черную футболку, на которой изображен скелет. Левой руки нет, правая недавно ампутирована чуть выше локтя. Обрубок забинтован и покоится на пластмассовой шине, которая торчит из-под футболки. Она поддерживает руку на уровне груди параллельно земле. На шее татуировка в виде красной змеи, на веках видна черная татуировка. Сами глаза невыразительные, карие. Они неподвижны, смотрят прямо перед собой. В них пустота.
Я высматриваю другое место, но не нахожу. Сажусь рядом с этим человеком и стараюсь внимательно слушать, что говорит Линкольн, но не могу сосредоточиться. Мне неуютно рядом с соседом, я невольно кошусь на него исподтишка. Рассматриваю обрубок его правой руки. Бинты чистые, но синеватая кожа под ними с краю покрыта зелено-черными пятнами. Перевожу взгляд на его шею, рассматриваю змею, которая обвивает ее. Голова змеи с широко раскрытой пастью приходится на кадык, хвост исчезает на спине. Смотрю на его лицо. Кожа бледно-желтая, признак леченой желтухи, на щеках мелкие шрамы, словно он порезал себя осколком стекла или лезвием бритвы, на бровях, губах, ушах и носу видны незаросшие отверстия, как от пирсинга.
Но хуже всего не его вид, а его запах. От этого человека воняет так, словно он гниет заживо, словно нутро у него умирает или умерло, причем давно. Запах такой густой, что почти висит в воздухе, а когда этот человек выдыхает и его дух отделяется от тела, добавляется другой, не менее отвратительный. Прокисший и слегка химический, застоявшийся и невероятно противный. Как будто он прополоскал рот сточной водой из канализации, добавив машинного масла. И сделал это год назад.
Не я один ощущаю этот запах. Не я один изучаю этого человека. Все присутствующие, включая Линкольна, проявляют внимание к новичку. Некоторые, как я, наблюдают исподтишка. Другие делают это открыто. Те, кто сидит поближе к нему, морщатся от запаха или помахивают перед носом, чтобы отогнать его. Те, кто сидит дальше, наклоняются вперед и, наоборот, втягивают воздух носом, будто проверяют – не померещилось ли. Нет, не померещилось. Вонь такая, что просто жуть. Словно нутро умерло в человеке и медленно разлагается.
В конце занятия Линкольн объявляет, что до конца дня мы свободны, а ужин состоится в самом отделении в шесть тридцать. Кто-то спрашивает – почему, он отвечает – потерпите, скоро все узнаете, и отпускает нас. Всех как ветром сдувает – кто-то выскакивает из зала, кто-то переходит в угол, где запах не так ощутим. Я встаю и подхожу к Леонарду с Майлзом, которые сидят рядом возле стены. Пока иду, они смотрят на меня. Я улыбаюсь и говорю.
Я очень благодарен вам обоим.
Они переглядываются, вид у них слегка смущенный. Потом опять смотрят на меня, Леонард говорит.
За что?
Я только что разговаривал с адвокатом, который возится с моими делами.
Говорит Майлз.
И что из этого?
Я снова улыбаюсь.
От трех до шести месяцев в окружной тюрьме.
Леонард улыбается, Майлз говорит.
Ты доволен этим?
Я киваю.
Да, очень.
Майлз кивает.
Вот и хорошо.
Я подозреваю, что вы оба приложили к этому руку, поэтому хочу поблагодарить вас.
Леонард смотрит на Майлза, Майлз на Леонарда. Леонард спрашивает Майлза.
Ты что-нибудь делал?
Майлз трясет головой.
Нет. А ты?
Леонард трясет головой.
Нет, я тоже ничего.
Майлз улыбается.
А если б ты чего и делал, то вряд ли обсуждал бы это со мной, учитывая, что мы с тобой находимся на противоположных полюсах юридического спектра.
Леонард улыбается.
Да уж это точно. Мне и погоду-то с тобой обсуждать боязно, того и гляди обосрусь со страха.
Майлз хохочет. Я говорю.
Это мы так шутки шутим, да?
Они дружно смотрят на меня в четыре глаза. Дружно улыбаются. Майлз говорит.
Просто считай, что ты в рубашке родился, счастливчик Джеймс.
Леонард кивает.
Да, чертовский ты счастливчик.
Я улыбаюсь.
Спасибо.
Майлз подымается и говорит, что ему нужно срочно сделать несколько телефонных звонков, Леонард подымается и говорит, что ему нужно срочно уладить несколько дел. Я спускаюсь по лестнице, захожу в палату, открываю дверь, сажусь на кровать и беру свою книжку. Я соскучился по ней, по своей маленькой китайской книжице.
Глава сорок четыре. Что важнее – слава или честность. Что ценнее – деньги или счастье. Что опаснее – победа или поражение. Если ты ждешь, что другие наполнят тебя, ты никогда не будешь полон. Если твое счастье зависит от денег, ты никогда не будешь счастлив. Будь доволен тем, что имеешь, и наслаждайся тем, что есть. Когда ты поймешь, что у тебя есть все, что тебе требуется, весь мир будет принадлежать тебе.
Глава тридцать шесть. Чтобы нечто сжать, сначала его необходимо расширить. Чтобы нечто уничтожить, нужно прежде позволить ему расцвести. Чтобы нечто отнять, нужно прежде это дать. Медленный побеждает быстрого. Мягкое и слабое побеждает твердое и сильное. Не показывай людям путь, покажи им цель.
Глава семьдесят четыре. Если ты поймешь, что все вещи постоянно меняются, ты ни за что не будешь держаться, ибо все меняется. Если ты не боишься смерти, для тебя не существует невозможного. Кто пытается управлять будущим – тот пытается занять место великого мастера. Кто, заменяя великого мастера, рубит его топором, тот повредит себе руку.
Глава тридцать три. Знание других людей – это ум, знание себя – это мудрость. Побеждать других людей – это сила, побеждать себя – это могущество. Понимающий, что имеет достаточно, богат, по-настоящему богат. Будь в центре и прими в себя мир, простоту, терпение и сострадание. Прими возможность смерти, и будешь собой. Прими возможность жизни, и будешь собой.
Эта книжица подпитывает меня. Дает мне пищу, о которой я не подозревал, дает мне пищу, в которой я нуждался, эта пища насыщает меня, наполняет, поддерживает во мне жизнь. Я читаю эту книжицу, а она питает меня. Объясняет простыми словами мне мою жизнь, как она есть, и позволяет справиться с ней. Это не сложно, если я понимаю все, как есть. Это не трудно, если я позволяю этому быть. Секунда просто секунда, минута просто минута, день просто день. Они проходят. Все вещи проходят, как проходит время. Не пугай и не бойся, не контролируй и не теряй контроль, не борись и не сдавайся. Принимай все, и будешь собой. Если примешь все, станешь собой.
Я откладываю книгу и закрываю глаза. Я не чувствую ни покоя, ни волнения. Ни надежды, ни безнадежности. Ни тревоги, ни спешки. То, что я чувствую, это не время, которое ускользает, а время, которое просто проходит и должно пройти. Чему суждено случиться, то случится. Это просто жизнь и события, которые происходят в течение жизни. Так же, как я сейчас принимаю то, что лежу неподвижно на своей кровати с закрытыми глазами, я приму и события моей жизни, когда они наступят. Я с ними разберусь. Хорошие ли, плохие ли, они наступят. Я приму их так, как принимаю себя в этот момент. Пусть они наступают.
Я открываю глаза, беру книгу, читаю дальше. Читаю слова – гармония, удовлетворение, смирение, понимание, интуиция, питание. Я читаю слова – открытый, жидкий, восприимчивый, уравновешенный, сердцевина. Я читаю – если ты закрыл свой ум суждениями и погоней за желанием, твое сердце будет пребывать в тревоге. Я читаю – если ты избавляешься от суждений и не руководствуешься чувствами, твое сердце обретает покой. Я читаю – закрой рот, отключи чувства, притупи резкость. Я читаю – развяжи узлы, смягчи взгляд. Я читаю – если хочешь познать мир, взгляни в свое сердце. Я закрываю книгу, кладу себе на грудь. Я закрываю глаза, мягкая постель согревает спину. Я не шевелюсь, просто лежу там, где мягко и тепло. Тихо дышу.
Думаю.
Не думая.
О себе.
О мире.
Как он есть.
Постель мягкая и греет спину.
Я лежу на ней.
Дверь открывается, я слышу. Не знаю, сколько времени прошло. Слышу, как дверь открывается, открываю глаза, входит Майлз с опухшими веками. Я сажусь.
Что случилось?
Он подходит к своей кровати, садится.
Я полтора часа проговорил по телефону с женой.
И что?
Я рассказал ей все.
И как, ничего?
Он смотрит в пол, отрицательно мотает головой. Я встаю, подхожу к нему, наклоняюсь и обнимаю его. Он обнимает меня в ответ и начинает плакать. Я не знаю, что сказать, поэтому не говорю ничего. Просто обнимаю его, позволяю ему обнимать меня и надеюсь, что так или иначе помогаю ему. Не знаю, что сказала его жена, но ясно, что ему нужна помощь. Его плач переходит в рыдания, рыдания становятся сильнее. Он крепко сжимает меня. Я обнимаю его, мои руки – единственное оружие против его горя. Мы сидим, он плачет, я держу его. Что случилось, то случилось, если захочет рассказать – расскажет; мои руки – мое единственное оружие. Мы сидим, и Майлз плачет.
Сильные рыдания переходят в рыдания, рыдания в плач. Он успокаивается. В палате тихо. Темнеет, солнце заходит, последние полоски угасающего света проскальзывают в окно. Он отстраняется и говорит, что хотел бы побыть один. Я встаю, выхожу из палаты. Закрываю дверь за собой.
Прохожу в отделение, там творится сумасшедший дом. Мужчина в синем комбинезоне устанавливает на телевизор кабельную коробку. Другие мужчины, в белых брюках, белых рубашках и белых туфлях, накрывают банкетные столы. Пациенты нашего отделения стоят небольшими группками, обсуждают происходящее. Кто-то спрашивает у кабельщика, почему он здесь, и тот отвечает, что ему не разрешено говорить. Еще кто-то задает тот же вопрос официанту, тот тоже отвечает, что ему не разрешено говорить.
Я наливаю себе чашку кофе, прикуриваю сигарету и смотрю, куда сесть. Я хочу побыть один. В этот момент из телефонной кабинки выходит человек и зовет меня к телефону. Я спрашиваю, кто звонит, он отвечает, что не знает.
Подхожу к телефонной кабинке, захожу, беру трубку.
Здравствуйте.
Привет, Джеймс.
Говорит моя Мать.
Мы хотим извиниться, Джеймс.
За что?
За то, что уехали раньше времени. Мы очень переживаем из-за этого.
Не переживайте, все в порядке.
Правда?
Да. Я благодарен вам за то, что вы вообще приехали.
Говорит Отец.
Спасибо, Джеймс.
Не за что.
У тебя есть новости?
Я разговаривал с Рэндаллом.
Говорит моя Мать.
И что он сказал?
От трех до шести месяцев окружной тюрьмы в Огайо. Испытательный срок три года. Если не будет нарушений, то судимость снимут.
Говорит Отец.
Отличные новости. Как это удалось устроить?
Я смеюсь.
Сам не знаю.
Говорит Мать.
Почему ты смеешься?
От радости. У меня просто камень с души свалился.
Говорит Отец.
Когда ты отправляешься туда?
Точно не знаю, но скоро.
Наступает молчание. Я понимаю, что родители представляют, как я, их младший сын, сижу в тюрьме. Молчание сгущается, оно перемежается глубокими вздохами и шумом шагов. Мать начинает плакать, ее плач удваивается эхом, Отец стоит рядом с ней. Он спрашивает, можно ли перезвонить попозже, я говорю «да», он говорит, что любит меня, я отвечаю, что люблю его, и вешаю трубку.
Открываю дверь телефонной кабинки, возвращаюсь в отделение. Банкетные столы уже установлены, на белых скатертях белые тарелки, стаканы, ножи и вилки. Официантов не видно, но по густому запаху вкусной горячей еды я догадываюсь, что они недалеко. От запаха во мне мгновенно пробуждается аппетит, просто зверский. Сил нет терпеть. Немедленно давайте мне тарелок десять с горкой, чего там у вас, черт возьми.
Поднимаюсь на верхний ярус. Подхожу к Матти с Тедом. Спрашиваю, не в курсе ли они, что тут происходит. Матти говорит – без понятия, но жрать хочется зверски, если сейчас ему не дадут этой фуевой жрачки, то он с ума сойдет. Тед просто пожимает плечами и говорит, что ничего не знает.
Входит Линкольн, оглядывает собравшихся и говорит.
Все здесь?
Все смотрят по сторонам. Незнакомый голос отвечает.
Майлза нет.
И другой голос.
Леонарда тоже нет.
Линкольн говорит.
А кто-нибудь знает, где Майлз?
Я говорю.
В палате. Лучше его не беспокоить.
Линкольн кивает и говорит.
Кто-нибудь видел Леонарда?
Все переглядываются.
Никто?
Все мотают головами.
Никто?
Линкольн улыбается, повышает голос.
Леонард.
Он повторяет еще раз, громче.
Леонард.
Он кричит.
ЛЕОНАРД.
Из коридора доносится музыка. Тема песни из знаменитого фильма о безвестном боксере из Филадельфии, который чуть не выиграл чемпионат в тяжелом весе. Все улыбаются, кто-то смеется. Музыка приближается, становится громче, все поворачивают головы в сторону прохода, там появляется Леонард в белоснежном костюме. В одной руке у него маленький плеер, другая сжата в кулак и поднята над головой.
Смех, ликование, несколько человек бросают в него конфетные фантики, кусочки бумаги. Он встает рядом с Линкольном, выключает плейер, жестом просит тишины. Когда все смолкают, он говорит.
У нас есть повод для праздника, друзья мои.
Снова ликование. Леонард ждет, пока аплодисменты затихнут, он снова говорит.
Вчера вечером наш друг Линкольн сказал мне, что завтра меня выписывают. В честь этого события, а также в честь всех вас и в честь этого заведения сегодня вечером мы устраиваем праздник.
Еще больше ликования. Леонард с Линкольном улыбаются. Когда радостный шум стихает, Леонард говорит.
Я заказал стейки и лобстеров из Миннеаполиса, на десерт будет яблочный пирог и мороженое, а между едой мы посмотрим матч на звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Народ сходит с ума, радуется, кричит, хлопает в ладоши. Все бросаются к Леонарду и Линкольну, чтобы поблагодарить, пожать им руки. В этот момент раздвижные двери открываются, и официанты начинают вносить блюда со стейками, вареными лобстерами, запеченным картофелем, огромные миски салата. Расставляют все на банкетных столах ровными рядами.
Я стою на верхнем ярусе и наблюдаю за этим сумасшествием. Смотрю, как все накладывают себе груды еды, как Леонард снует по залу и потчует всех, говорит – угощайтесь, не стесняйтесь, веселитесь от души, это же праздник. Смотрю, как Линкольн наблюдает за всеми с видом гордого отца. Смотрю, как все уплетают угощение, словно год не ели. Все они наркоманы и алкоголики, и еда для них то же топливо. Смотрю, как некоторые подходят за добавкой второй и третий раз. Я тоже голоден, но смотреть на это пиршество любо-дорого, глаз не оторвать.
Впервые за все время, что я здесь, а мне кажется, что я здесь лет пятьдесят как минимум, на всех без исключения лицах улыбки, все без исключения радуются. Люди болтают, смеются, общаются друг с другом. И в разговорах ни одним словом не касаются ни наркотиков, ни пьянства, ни потери работы или семьи. Все общаются друг с другом, ломают барьеры между сложившимися компаниями, на которые мы поделились, между группами, которые существуют внутри отделения, и общее оживление не имеет никакой иной цели, кроме веселья. Прошлого не существует, будущее внушает тревогу. Все забыто – обиды, ненависть, поражения, стыд, раскаяние, страхи, унижения, которые сопровождают нашу жизнь. Неважно, что среди нас нет ни одного человека, здорового в физическом, душевном или еще каком-то смысле. Сейчас мы просто люди как люди, мы, как люди по всей стране, по всему миру, едим и веселимся, и готовимся смотреть матч. Мы не в реабилитационном центре, мы не обдолбанные дурики. Мы просто люди, которые едят, веселятся и готовятся смотреть матч. Я и сам жутко голоден, но смотреть на это пиршество любо-дорого. Глаз не оторвать.
Кто-то окликает меня по имени раз, другой. Смотрю в сторону диванов – на одном сидит Леонард и зовет меня. Он указывает на свободное место рядом с собой, говорит, что занял его для меня, чтобы я тоже угощался и веселился. Я улыбаюсь, иду к столам. За столом возле лестницы сидит Человек без рук. Рядом с ним никого. Он сидит один.
Привет.
Он смотрит на меня. Глаза у него мертвые.
Положить тебе чего-нибудь?
Он смотрит на меня.
Я принесу тебе, чего ты хочешь. Помогу, если нужна помощь.
Он смеется.
Пошел ты на хер, чувак.
Что?
Это все херня, чувак. Полная херня.
Как тебя понимать?
Это все обман, притворство. Считай, все эти ублюдки снова начнут торчать и передохнут, не пройдет и полгода. Это все дурацкая шутка.
Так ты хочешь есть или нет? Что тебе принести?
Я хочу ширнуться. Принесешь?
Увы.
Я отхожу от него.
Я хочу ширнуться, ублюдок, черт тебя подери. Принесешь?
Спускаюсь по лестнице, не обращаю внимания на его слова. Встаю в очередь за едой и слышу, что он с шумом отодвигает свой стул, говорит – пошли вы все на хер, на хер. Беру огромный стейк, ярко-красный лобстер, печеный картофель. Разрезаю картофель, кладу сверху ломтики масла и ложку сметаны. С салатом не заморачиваюсь. В конце стола стоит кулер с газировкой, беру еще банку безалкогольного пива. Это то, что надо. Сажусь рядом с Леонардом, приступаю к еде. Пока ем, слушаю, как он обсуждает матч с Матти, с педиатром, который сидел на ксанаксе, и с корпоративным юристом, который сидел на крэке. Матти все так же болеет за менее тяжелого боксера, а Леонард за более тяжелого. Доктор говорит об ударах по голове, которые получали они оба, и о пагубности этих ударов для здоровья, особенно – с учетом веса. Он предсказывает победу более тяжелому. Адвокат ставит на менее тяжелого. Он кишкой чует, что тот победит.
Я ем медленно. Начинаю со стейка, разрезаю его на куски, потом куски на кусочки. Кладу в рот по кусочку, затем беру кусочек картошки, иногда макаю в масло и сметану. Медленно жую все до полного растворения. Мой язык пропитывается вкусом отборного красного мяса, рот наполняется соками. Борюсь с собой, чтобы не пихать в рот по три-четыре куска зараз, чтобы не умять пять или десять стейков, или сколько влезет, выигрываю этот бой без особого труда. Еда, которую ем сейчас, вкуснее всего, что я пробовал. У меня есть все, что необходимо. Я доволен этим.
Покончив со стейком, приступаю к лобстеру. Снимаю верхний панцирь, отделяю шейку от брюшка. Вынимаю большой кусок мяса. Беру его в руку и окунаю в остатки масла. Откусываю. Держу мясо во рту, жду, пока растает, и глотаю. Повторяю это снова и снова. Разделавшись с шейкой, принимаюсь за клешни. Высасываю мясо и съедаю. Вкусно, не хуже, чем шейка.
Доев все, чувствую себя сытым и довольным. Встаю с тарелкой в руках, оглядываю банкетные столы, на которых еще много еды. Я больше ничего не возьму. Буду сопротивляться желанию съесть все, что видят глаза, обожраться до потери сознания, до полного бесчувствия.
Я скидываю объедки в мусорное ведро. Беру чистую тарелку, снова кладу в нее стейк, лобстера и картофель. Я хочу, хочу, хочу их съесть. Иду в свою палату. Стучу в дверь, ответа нет. Открываю дверь, вхожу. Майлз лежит на кровати, лицом в подушку. Я не хочу беспокоить его. Ставлю тарелку на тумбочку у кровати и выхожу. Закрываю дверь и возвращаюсь на свое место.
Смотрю вокруг. Смотрю, как почти все продолжают есть. У многих лица и рубашки перепачканы едой, многие едят руками, забыв про вилки и ножи. Разрывают стейки и запихивают куски в рот, а картошку сжимают в пальцах и кусают, как яблоко. Жуют с открытым ртом и, не успев прожевать, набивают еще еды. Изредка вытираются рукавом рубашки, тыльной стороной ладони или бумажной салфеткой, такой грязной, что разваливается. Облизывают пальцы, ладони, губы, обсасывают косточки и скорлупки лобстеров.
Мне смешно на это смотреть. Напоминает оргию в Древнем Риме. Изобилие еды, апофеоз обжорства. Оргия чревоугодия и неутолимого голода. Всем наплевать на свой вид, на свое поведение, всем просто хочется еще, еще, еще. Всем наплевать, что они здесь для того, чтобы научиться контролировать себя и свои пагубные пристрастия. Пристрастия выпущены на свободу. Пища – такой же наркотик, как кокаин, алкоголь, другие вещества. Всем наплевать, что они хотят больше, чем необходимо, что их голод больше их потребностей. Если б могли, они бы проглотили мебель, книжные полки, тарелки, салфетки, банкетные столы и кофемашину в придачу. Они бы рвали на куски ковер, глотали клей и гвозди. Если бы не трансляция матча, то съели б и телевизор. Всем плевать, что именно они глотают. Просто хотят заглотить как можно больше. Леонард смотрит на часы. Он встает – его белый костюм покрылся пятнами – и объявляет, что матч скоро начнется. Кто-то бросается занимать места поближе к телевизору, а кто-то, напротив, набрасывается на еду в последнем пароксизме безумия. Линкольн подходит к Леонарду и говорит, что ему пора домой. Леонард встает, благодарит Линкольна за то, что позволил устроить праздник, и объявляет всем, что Линкольн уходит. Линкольн покидает отделение, провожаемый хором благодарственных возгласов.
Как только он уходит, Леонард вынимает пачку денег, записную книжку и объявляет, что лавочка открыта. Все кидаются делать ставки, желающих так много, что Леонард не успевает записывать. Пятьдесят баксов, десять, пара ботинок ценой в пятнадцать баксов, часы, золотая цепочка, браслет, оргия продолжается. Находится желающий поставить обручальное кольцо, но Леонард отказывает ему.
Я переключаю внимание на телевизор. Разные эксперты делают прогнозы об исходе матча. Матти, который сидит сбоку от Леонарда, обращается к экспертам на своем недавно изобретенном языке, который заменяет ему нецензурную брань. Кто-то говорит – Матти, брось валять дурака, лучше уж ругайся, как прежде, а он отвечает – ни за что, ни за что, не буду я больше так фуево выражаться, как прежде. Комментаторы объявляют начало матча, в зале становится тихо, все впиваются глазами в экран. Противники выходят на ринг. Первым появляется претендент – он тяжелее. Рост метр девяносто пять, вес сто восемь килограммов, фигура как у медведя, но такого, который состоит почти из одних мускулов, жира чуть-чуть. Вторым выходит нынешний чемпион, он поменьше, рост шесть метр девяносто, вес сто один килограмм. В отличие от претендента в его теле жира нет вообще, темная кожа блестит, словно полированная сталь. Оба покрыты капельками пота, это значит, что оба хорошо разогрелись и готовы к бою. Вечерок обещает быть нескучным.
После национального гимна и представления участников раздается удар гонга, начинается первый раунд. Раунд в боксе продолжается три минуты, всего их двенадцать, между раундами перерыв одна минута. Как правило, первые два раунда боксеры прощупывают сильные и слабые стороны друг друга. Затем они вступают в настоящий бой, избегая сильных сторон противника и используя его слабости. В этом матче не наблюдается подобной фигни. Боксеры с ходу набрасываются друг на друга и начинают беспощадно молотить друг друга. Очевидно, что у каждого одна стратегия – как можно скорее уничтожить противника. Примерно на тридцатой секунде более легкий боксер наносит удар правой прямо в челюсть соперника. У того подкашиваются ноги, он пятится назад. Тот, что полегче, преследует его, настигает у канатов и в течение следующей минуты безжалостно бьет противника по ребрам, животу, плечам и челюсти. Когда у него устают руки и он не может больше наносить удары, второй боксер переходит к контратаку. Он отдавливает более легкого боксера назад и начинает лупить его так же, как только что лупили его. В конце раунда оба боксера отступают к своим углам. Я весь раунд простоял на ногах, кричал и свистел, как и остальные.
Следующие четыре раунда проходят по тому же сценарию. Удар гонга, борцы сходятся и пытаются нокаутировать друг друга. Тут нет ни защиты, ни стратегии. Лица у обоих распухают, рты, носы и ссадины вокруг глаз кровоточат, на груди, спине и плечах множатся рубцы от веревок ринга и от перчаток. Никто в отделении даже не присел, все болеют стоя.
Признаются они или нет, но все мужчины обожают драки. И в зрителях, и в участниках драка пробуждает исконное мужское «я», которое было ослаблено тысячелетиями культуры и воспитания, ту сущность, которую нас учат постоянно подавлять во имя всеобщего блага. Сразиться лицом к лицу с другим мужчиной и победить его или быть побежденным, вот ради чего создан мужчина. Бокс позволяет нам прийти в согласие с этим инстинктом и почувствовать, что такое сражение.
Начинается шестой раунд. Оба боксера выглядят изможденными, как будто тело больше не желает драться, но ум и сердце приказывают телу. Они неспешно выходят в центр ринга и медленно кружат друг возле друга. Наносят по паре безобидных ударов, бьют более слабой рукой, просто чтобы удержать противника на дистанции, а не сокрушить. И тут более легкий боксер наносит удар. Хук левой, с большим замахом, точно в челюсть. Более тяжелый боксер падает, как подкошенный, на спину, вперив взгляд в потолок. Наше отделение приходит в неистовство. Все визжат, трясут кулаками, кто-то кричит – лежи, кто-то кричит – вставай, а громче всех кричит Матти – мой парень сделает его, он его сделает.
Упавший садится, трясет головой и на счет девять встает. Рефери спрашивает, как он себя чувствует, и тот говорит – нормально, хотя видно, что это неправда, что он с трудом ориентируется. Рефери дает знак продолжить борьбу, и соперники настороженно сближаются. Матти кричит, обращаясь к своему фавориту, – бей его, нокаутируй, один удар – и готово, ты же можешь. Но тот больше ничего не может – последний удар, этот великолепный хук, похоже, обессилил не только его противника, но и его самого. До конца раунда соперники просто лапают друг друга, оба слишком измотаны, чтобы бить по-настоящему. В перерыве Матти бегает туда-сюда. Леонард велит ему сесть, но Матти не способен усидеть на месте. Он трясет головой, пинает пол, умоляет своего любимца выйти и уложить соперника на лопатки. Когда раздается гонг, он кричит – давай, сукин сын, вперед!
Раунд раскачивается медленно, но секунд через тридцать, когда боксеры стоят в центре ринга, более тяжелый выбрасывает вперед правую руку и попадает прямо в нос противнику. Нос сломан, кровь ручьем, более легкий падает на колени, а потом лицом на ковер.
Зал взрывается. Большинство кричит – вставай, вставай, несколько человек поднимают вверх ладонь и говорят – все кончено. На счет восемь поверженный подымается на ноги. Рефери спрашивает, готов ли он продолжать, и тот, с залитым кровью лицом, отвечает ртом, полным крови, – да. Тогда рефери отходит в сторону, более тяжелый боксер выходит вперед и зафигачивает правой еще один идеальный удар противнику в нос. Тот летит назад, через веревки ограждения. Его глаза закрыты, он не шевелится. Бой окончен.
Все орут, ругаются, швыряют пустые бутылки из-под содовой в телевизор, кричат – вставай. Посреди этого бедлама я различаю один голос – это Матти кричит – сукин сын, сукин сын, сукин сын. Он смотрит на экран с полным недоумением, просто смотрит и кричит – сукин сын, сукин сын, сукин сын. Леонард встает, кладет руку ему на плечо и говорит – это же просто матч, он не имеет большого значения, и Матти прекращает кричать и говорит – я понимаю, но когда парень, за которого я болею, проигрывает на хер, это же до хера как обидно. Леонард говорит, что ему знакомо это чувство, и обнимает Матти. Матти еще разок обращается к телевизору – пошел ты на хер, и Леонард приступает к раздаче выигрышей. Сам он почти все деньги поставил на более тяжелого, но в знак доброй воли отказывается от всех ставок, которые выиграл, и оплачивает все ставки, которые проиграл.
Я допоздна разговариваю с Матти, Тедом, Леонардом и другими, люди подходят и уходят. Мы обсуждаем бой, даем высказаться Матти, который говорит больше всех. О своем намерении покончить с нецензурной бранью он напрочь забыл. Мы едим яблочный пирог и мороженое, курим сигареты, пьем кофе. Смотрим в новостях репортажи о матче, переживаем его снова и снова. Никто не уходит спать. Два часа ночи, а в отделении полно народу. Завтра мы вернемся к реальности. А пока все бодрствуют, потому что не хотят, чтобы эта ночь кончалась.
Около четырех часов утра я встаю с дивана и иду к себе в палату. Открываю дверь, внутри темно и тихо, Майлз спит. Я забираюсь в постель, кладу голову на подушку и думаю о Лилли. Представляю, как она спит сейчас в терапевтическом отделении, думаю, как она близко и в то же время далеко, как далеко. Она в терапевтическом отделении, она рядом, но в то же время будто на другом конце Вселенной. Я скучаю по ней. Я скучаю по ней.
Сегодняшний вечер был одним из лучших в моей жизни. Еда, друзья, матч. То, что мне нравится, вместе с людьми, которые мне нравятся. Это было почти идеально.
Почти.
Я скучаю по Лилли.
Я скучаю по Лилли.
Я скучаю по Лилли.
Просыпаюсь.
Не помню, как я заснул, как спал. Снов не видел. Вообще никаких.
Вылезаю из постели. В окно светит солнце. Ярко светит. Не помню в последнее время такого яркого солнца.
Иду в ванную, принимаю душ, чищу зубы и бреюсь. Зеркала избегаю. Стараюсь не смотреть на себя и в свои глаза. Просто принимаю душ, чищу зубы, бреюсь. Одеваюсь и выхожу из палаты. Прохожу в отделение, где все выполняют свои поручения. Смотрю на доску с расписанием работ, чтобы узнать, что поручено мне. Увидев напротив своего имени слово «встречать», смеюсь. Я теперь Встречающий, моя работа приветствовать новеньких. Не могу удержаться от смеха.
Иду на завтрак, коридоры залиты светом, который меня больше не раздражает. Как есть, так есть, я ничего не могу изменить.
Беру поднос, тарелку вафель, чашку кофе и пончик с повидлом. Вхожу в столовую. Вижу своих друзей за столом в углу. Они всегда садятся в углу.
Сажусь с Майлзом, Леонардом, Матти и Эдом. В дальнем конце стола, поодаль от нас, сидит новенький. Я взглядом спрашиваю у Леонарда – кто такой, Леонард недоуменно пожимает плечами. Я же теперь Встречающий. Решаю поприветствовать человека.
Подвигаюсь на край стола, сажусь напротив новенького. Старик, лет под семьдесят. Седые волосы, густые для его возраста, коротко подстрижены и взлохмачены, но их легко привести в порядок одним движением расчески. Очень худой, даже истощенный. Кожа покрыта желтыми пятнами, вены на руках выпирают. Он смотрит в свою тарелку. Медленно ест влажную груду из омлета с сыром. Я говорю.
Привет.
Он поднимает голову от тарелки. Глаза у него синие, пронзительные, под одним синяк. Нос длинный и тонкий, губы тоже. Область между верхней губой и носом заклеена окровавленным пластырем.
Чего надо?
Голос у него тонкий и резкий, как щелчок линейкой по доске.
Я приветствующий. Пришел поздороваться.
Иди здоровайся с кем-нибудь другим.
Я смеюсь.
Отвали.
Я снова смеюсь.
Отвали, мелкий ублюдок.
Я протягиваю ему через стол руку.
Меня зовут Джеймс.
Он не берет мою руку.
Отвали, Джеймс. Говнюк.
Почему бы тебе не присесть к нашей компании?
Я указываю рукой на другой конец стола. Мои друзья наблюдают за мной. Старик смотрит на них, потом снова на меня.
Мне лучше одному.
Нет, не лучше.
А я говорю, лучше.
Если б ты и правда хотел остаться один, ты бы сел за пустой стол.
Старик смотрит мне в глаза, я на него. Он напряжен, я нет.
Ты мелкий говнюк.
Я улыбаюсь.
Знаю.
Меня зовут Майкл.
Приятно познакомиться, Майкл.
Он встает и идет на наш конец стола, я за ним. Мы садимся, и я представляю его всем. Сначала он молчит. Сидит, слушает наш разговор. Мы обсуждаем Безрукого, который ушел сегодня утром, сказал, что пошел искать отраву, плевать, что у него нет рук, ему нужна отрава, черт подери.
Потом старик начинает задавать вопросы про Безрукого, потом про нас, чем мы занимаемся и кто мы такие. Мы отвечаем на его вопросы и сами расспрашиваем его. Сперва он отказывается отвечать, но через несколько минут говорит, черт с вами, все равно ведь все разнюхаете. Говорит, что он высокопоставленный сотрудник большого католического университета на Среднем западе. Женат пятьдесят один год, и у него семеро детей. После рождения седьмого ребенка жена перестала заниматься с ним сексом, потому что больше не хотела детей, а секс, по ее мнению, предназначен только для продолжения рода. Он начал встречаться с проститутками, из дешевых, уличных. Он говорит, что пристрастился и к ним, и к острым ощущениям – тут и риск столкнуться с сутенером, и риск подцепить заразу. Одна проститутка угостила его крэком, и он начал курить, пристрастился и к нему. Оба его пристрастия связаны друг с другом – ему нужны проститутки, и ему нужен крэк. Одно без другого не устраивает, он постоянно нуждается и в том, и в другом. Каждый божий день ему требуется и проститутка, и крэк. Он попался, когда проститутка, которая оказалась студенткой университета, опознала его и попыталась шантажировать. Он решил, что сам Бог велит ему завязать, поэтому пошел к священнику и признался во всем. Священник посоветовал признаться жене, а жена простила его при условии, что он завяжет. Но он не смог. В тот же день все повторилось, и на следующий день тоже. Он ушел от жены. Провел восемь дней в дешевом мотеле в обществе проституток и крэка, пока не кончились деньги. Он курил столько, что даже обжег губы пайпом. Когда деньги кончились, он вернулся домой, там его ждала жена. Она вызвала священника, того самого. Священник привез их сюда. Это было четыре дня назад, и все четыре дня он провел в терапевтическом отделении на детоксикации.
Мы смеемся над ним, смеемся над его историей. Сначала он сердится и конфузится, не понимает нашего смеха. Мы продолжаем смеяться. Начинаем рассказывать свои истории. Матти рассказывает, как курил на пару с проституткой и она бутановой горелкой прижгла ему яйца. Тед рассказывает, как курил со своей мамочкой и они танцевали под кайфом. Я рассказываю, как покурил с проституткой, отключился, а очнулся в переулке без штанов и ботинок, пустой кошелек торчал из задницы. Мы рассказываем истории, смеемся друг над другом, и до Майкла-католика доходит, что мы смеемся не над ним, а с ним. Что мы одного поля ягоды, ничуть не лучше, и что мы не осуждаем его. Он тоже начинает смеяться. Все мы чудовища. Уж лучше смеяться, чем плакать. Все мы чудовища.
Мы заканчиваем есть, убираем подносы и идем на лекцию. Речь идет об употреблении наркотиков и алкоголя на рабочем месте. Майкл единственный из нас, кто слушает, остальные играют в карты. Когда лекция заканчивается, Леонард вручает Матти, Теду и Майлзу конверты. Велит открыть их после его отъезда. Меня просит зайти к нему в палату в одиннадцать часов.
Мы выходим из актового зала, у двери меня ждет Джоанна. Приглашает меня пройти к ней в кабинет. Мы идем по коридорам, в кабинете она садится на диван, а я на стул. Оба закуриваем. Она говорит.
Слышала, что ночью ты был в притоне крэкеров.
Я был в доме, где куча людей курит крэк, но это не притон.
А в чем разница?
В притоне обычно имеется запас вещества, есть хозяин, который заправляет всем и следит за порядком. А там просто заброшенное старое здание, куда люди приходят покурить.
Как там?
Жуткая вонь.
Это все, что ты запомнил?
Нет.
Она кивает, ждет, что я продолжу. Я молчу, тогда говорит она.
Крэк видел?
Да.
Близко?
Практически держал в руках и мог бы покурить.
Хотелось?
Зверски.
Почему не стал?
Я принял решение завязать.
Все так просто?
Все так просто.
Звучит так, будто тебе это далось легко.
Это было не легко.
Ты думаешь, что сможешь продержаться сколь угодно долго?
Это будет, конечно, труднее, чем прошлой ночью, но я продержусь.
Почему это будет труднее?
Потому что я люблю Лилли сильнее, чем кайф. И мне легко дался выбор – спасать ее или заняться своим кайфом. Если я окажусь один на один с соблазном – с бутылкой там или с кокаином, тогда это будет касаться только меня самого и решение дастся труднее.
Когда, по-твоему, это может случиться?
Вы знаете, когда.
Она улыбается.
Я видела Лилли сегодня утром.
Где?
Я ходила в терапевтическое отделение проведать ее.
Как она?
Учитывая все, что произошло, хорошо. На мой взгляд, она в первую очередь страдает из-за тревоги и стыда.
Что ее тревожит?
Состояние бабушки и еще где достать денег, чтобы остаться здесь.
Она может обратиться куда-нибудь за благотворительной помощью?
Может, но обычно для этой процедуры требуется уйма времени. Мы постараемся ее ускорить.
Удастся оставить ее здесь?
Я надеюсь.
А если нет?
Тогда не знаю.
Я отвожу взгляд. Смотрю в окно за спиной у Джоанны. Солнце светит ярко, по-весеннему. Утро, полное жизни и новых начинаний. Можно сбежать отсюда. Сбежать от прошлого, не садиться в тюрьму. Сбежать вместе с Лилли и бежать, пока не окажемся в безопасности, пока не сможем начать новую жизнь. Сбежать – по прежнему вариант, но я не хочу бежать. Я убегал всю жизнь, я устал убегать. Смотрю в окно, но там нет ответов. Ничего, ответы найдутся в свой срок. Это утро, полное новых начинаний.
О чем ты думаешь?
Ищу ответы.
Нашел?
Нет.
Найдешь. Ответы всегда находятся.
Начинаю это понимать.
Она закуривает другую сигарету. Я тоже.
Я хотела бы поговорить с тобой насчет инвентаризации и плана на оставшиеся дни.
Хорошо.
Кен сказал, что сегодня к вечеру ты собираешься закончить инвентаризацию.
Да.
Это очень быстро.
Я знаю, что писать.
Цель исповеди – очистить твою совесть, чтобы ты мог начать жизнь заново без чувства вины, без сожалений и без стыда. Ты думаешь, у тебя это получится?
Да.
Кен сказал, у тебя есть сомнения по поводу священника.
Боюсь, ему будет не слишком приятно меня слушать.
Священники, которые работают у нас, привыкли слышать довольно чудовищные вещи. Что бы ты ни рассказал, я уверена, священник это выдержит.
Что ж, если вы так считаете.
Хочешь со мной что-нибудь обсудить?
Нет.
Твои сомнения как-то связаны с твоим отношением к Богу?
Нет, никак.
Точно?
Да.
Хорошо. Когда ты хочешь провести исповедь?
Чем скорее, тем лучше. Завтра утром.
Хорошо, я забронирую комнату и вызову священника. Такого, который не растеряется, что бы ты ни сказал. Заходи после завтрака ко мне, и я провожу тебя.
Спасибо.
После этого твою программу можно считать практически завершенной.
Что это значит?
Значит, что тебя выпишут.
Когда?
Послезавтра.
Я улыбаюсь.
Превосходно.
У тебя есть планы?
Может, погощу у Брата пару дней. Потом поеду в Огайо и отсижу свой срок.
Я слышала, ты доволен тем, как разрешилась эта ситуация.
Да, очень. Не то слово.
Не боишься?
Нет, хочу поскорее с этим разделаться.
А как ты собираешься поступить с Лилли?
Надеюсь, она останется здесь. После того как выпишусь, я смогу навещать ее, и мы что-нибудь придумаем. Если ее не оставят здесь, мы тоже что-нибудь придумаем.
Например, что?
Не знаю. Я все же надеюсь, что ее оставят.
Джоанна кивает, ждет какое-то время. Я молчу, и тогда она говорит.
Если появятся вопросы во время инвентаризации, обращайся ко мне.
Хорошо.
Я встаю, направляюсь к выходу. По дороге смотрю на часы, уже почти одиннадцать. Возвращаюсь в отделение, стучу в дверь Леонарда. Он спрашивает – кто там, я отвечаю – Джеймс. Он говорит – входи, я открываю дверь и захожу.
На полу у двери стоит черный кожаный чемодан, а на кровати разместилась открытая дорожная сумка. Леонард аккуратно складывает в сумку аккуратно свернутые рубашки. Он говорит.
Как дела, малыш?
Я сажусь на краешек кровати.
Хорошо. А ты как?
Рад, что уезжаю.
Что будешь делать?
Один из моих парней заедет за мной, и мы рванем обратно в Вегас. По дороге, может, заскочим в парочку занятных мест.
Я улыбаюсь.
Звучит заманчиво.
А у тебя какие планы?
Похоже, меня выписывают послезавтра. Поеду к Брату, погощу у него несколько дней. А потом прямиком в Огайо.
Побаиваешься тюрьмы?
Нет.
Ты, пожалуй, это и без меня знаешь, но на всякий случай скажу – если кто-то там будет доставать тебя, то трахни его в ответ, и как следует. Просто покажи, что ты не даешь спуску, и все будут держаться от тебя подальше.
Я надеюсь, что обойдется без этого дерьма, но если что – поступлю как надо.
Он улыбается.
Ты славный малыш.
Я смеюсь.
Спасибо, Леонард.
Он завершает укладывать сумку и закрывает ее. Потом лезет в задний карман, вытаскивает бумажник, вынимает из него карточку наподобие визитки. Садится на кровать рядом со мной и протягивает ее мне.
Это номера моих телефонов и адреса, где меня можно найти.
Я беру карточку.
Если возникнут проблемы, неважно где, неважно какие, немедленно звони, и я о тебе позабочусь.
Я смотрю на карточку, потом на Леонарда.
Тут пять разных фамилий, Леонард.
Он улыбается.
В разных местах я использую разные фамилии. Телефон соответствует фамилии. Лучше всего звонить в Вегас, но меня найдут по любому.
Я кладу карточку в карман.
Спасибо тебе, Леонард.
Я слышал, что у Лилли возникли финансовые сложности. Я не хочу, чтобы ты из-за этого дергался. Она проведет здесь столько времени, сколько нужно, чтобы поправиться.
Я улыбаюсь.
Что ты сказал?
Он улыбается.
Любовь – прекрасная штука, малыш.
Зачем ты это сделал, Леонард. Ты же…
Малыш, лучше просто скажи – спасибо.
Я улыбаюсь.
Спасибо, Леонард. Ты не представляешь, как я тебе благодарен.
Он снова кивает.
И еще кое-что напоследок.
Что же?
Прежде всего хочу предупредить, что не собираюсь обидеть ни тебя, ни твою семью, ни твоего отца. Если в моих словах тебе покажется что-то обидное для него, так и скажи.
Хорошо.
Он делает глубокий вдох, задерживает его, выдыхает. Он явно нервничает, чего я никогда за ним не замечал.
Я всегда мечтал жениться, иметь семью и детей. Точнее говоря, я всегда мечтал о сыне. Едва увидел тебя, мне это сразу пришло в голову, я тут же решил, что хотел бы такого сына, как ты. Я буду присматривать за тобой, как присматривал бы за своим сыном, и ты всегда можешь рассчитывать на мой совет и помощь. Когда вы приедете ко мне – а я надеюсь увидеть вас обоих после того, как Лилли выпишется, – я буду представлять тебя как своего сына, и с тобой будут обращаться, как с моим сыном. Я прошу тебя держать меня в курсе своих дел и позволить мне участвовать в твоей жизни. В остальном я вижу наши отношения такими же, как здесь. Мы друзья, мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу переживать дерьмовые времена, если такие случаются, и мы вместе радуемся хорошим временам. Если тебе кажется, что мои слова задевают твоего отца, уверяю тебя, что я не оспариваю его первенства.
Ты шутишь, Леонард?
Он качает головой.
Нет, нисколько.
Ты хочешь, чтобы я был тебе сыном?
Он кивает.
Да.
Ты уверен в этом, Леонард? Я же просто гребаный наркоман.
Мне известны твои проблемы, малыш. Уж поверь. Но будь у меня сын, я хотел бы, чтоб он походил на тебя.
Я улыбаюсь.
Мне дико приятно это слышать.
Поверь мне, малыш.
Хорошо.
Он встает.
А теперь возьми этот чертов чемодан и проводи меня. Не все же веселиться, надо потрудиться.
Я смеюсь, встаю, беру чемодан. Леонард подхватывает свою сумку, перекидывает через плечо, и мы выходим из палаты.
Идем по коридорам. Он просит меня попрощаться со всеми вместо него, признается, что сам это делать не хочет. Не любит прощаний, слишком много их было в его жизни. Просит сообщить Майлзу, Матти и Теду тот номер телефона, который стоит против его настоящего имени, я обещаю, он просит никому не показывать визитку. Я обещаю хранить ее в надежном месте.
Мы проходим через приемный покой, выходим на улицу. Там стоит большой белый «мерседес». Водительская дверь открывается, выходит высокий толстый мужчина в черном шелковом костюме. На щеке у него длинный глубокий шрам, сам похож на медведя. Человек-медведь. Медведь, который при случае загрызет человека живьем. Леонард улыбается.
Здорово, Окунь!
Человек говорит.
Здравствуйте, босс.
Они обнимаются, Леонард говорит.
Спасибо, что приехал.
А как иначе.
Машина новая?
Да, нравится?
А то как же. Я люблю все белое и новое.
Отлично.
Леонард оборачивается ко мне, подзывает рукой.
Джеймс.
Я подхожу ближе.
Это Окунь. Мой лучший друг и партнер. Окунем его зовут не потому, что он любит рыбкой полакомиться, так что будь начеку. Окунь, это Джеймс, мой сынок.
Мы пожимаем руки. Окунь смотрит на Леонарда.
Тот самый, о котором ты мне говорил?
Леонард кивает.
Да, и он совсем не такой паинька, каким кажется, так что ты тоже будь начеку.
Окунь смеется, смотрит на меня.
Приятно познакомиться, малыш.
Мне тоже.
Леонард открывает заднюю дверь автомобиля, забрасывает сумку на сиденье. Он показывает мне поставить чемодан туда же, что я и делаю. Леонард закрывает дверь и поворачивается к Окуню.
Давай устроим гонки по этой гребаной дороге.
Как скажете, босс.
Окунь обходит вокруг машины, садится за руль. Леонард поворачивается ко мне.
Чуть что понадобится – звони мне. Помни.
Помню.
Здорово было тут лечиться вместе с тобой. До скорого.
Спасибо тебе за все, Леонард. Знаешь, ты ведь спас мне жизнь.
Он улыбается.
Ты сам спас себе жизнь.
Я улыбаюсь. Леонард подходит ко мне, обнимает. Я тоже обнимаю его. Он отпускает меня, отходит, глядя мне в глаза, и говорит.
Будь сильным. Живи с честью и достоинством. Когда думаешь, что нет сил, просто держись. Я горжусь тобой, и ты тоже гордись собой.
Я смотрю ему в глаза.
Я буду скучать по тебе, Леонард.
Скоро увидимся, сынок.
Я киваю. Стараюсь не плакать. Леонард отворачивается, открывает пассажирскую дверь, садится в машину, и она отъезжает. Я стою, смотрю. Она едет по дороге, ведущей к клинике, пассажирское окно открывается, из него показывается кулак, поднятый вверх. Я смотрю на этот кулак, на Леонарда, который столько значит для меня, и мне плакать хочется. Леонард и его кулак. У меня глаза на мокром месте.
Я стою, гляжу на дорогу вслед удаляющейся машине. Стою минут пять, глядя на дорогу. В голове не укладывается, что Леонард уехал. Великий, ужасный, загадочный, добрый, зловещий Леонард. Черт и святой. Я буду скучать по нему. Буду скучать.
Поворачиваюсь, захожу обратно в клинику. Иду в столовую. Становлюсь с подносом в очередь, беру запеканку с тунцом и лапшой. Меню начинает повторяться. Запеканку с тунцом и лапшой уже давали. Надеюсь, что еще раз мне не доведется ее есть. Сажусь один за пустой стол. Начинаю жевать. Не могу сказать, где тут тунец, где лапша, где запеканка. Какая разница. Закидываю в себя. Кусок за куском. Набиваю желудок. Я скучаю по Лилли и по Леонарду. Сижу один за столом. Набиваю желудок. Кусок за куском.
Доедаю свою порцию. Встаю в очередь за добавкой, мне и сорока тарелок будет мало. Я хочу целый вагон этой чертовой запеканки с тунцом и лапшой. Вижу Майлза, который с улыбкой направляется ко мне. Сажусь на прежнее место. Я хочу еще топлива. Еще и еще.
Привет, Джеймс.
Майлз садится напротив.
Привет.
Он кладет салфетку на колени, берет вилку.
Как ты сегодня?
Хорошо. А ты как?
У меня хорошие новости.
Какие?
Жена позвонила меня сегодня утром.
Что сказала?
Сказала, что всю ночь не спала, думала про нас, смотрела на нашего ребенка и решила дать мне второй шанс. Она собирается приехать сюда и записаться на Семейную программу. Мы поработаем над нашими отношениями. Успех не гарантирован, но попытаться стоит.
Я улыбаюсь.
Здорово! Такое улучшение по сравнению со вчерашним днем.
Не то слово.
Не знаю, уместны ли здесь поздравления, но я тебя поздравляю.
Он улыбается.
Спасибо, Джеймс, большое спасибо.
Больше мы не разговариваем. Просто сидим. Он ест, я обвожу взглядом столовую. Зал удобный. Обстановка успокаивающая. Приятная. Сиди, помалкивай. Сиди, глазей по сторонам. Сиди, отпустив свой ум. Просто сиди. Не надо ни тревоги, ни беспокойства. Майлз в своем мире, я в своем. Мы просто сидим.
Майзл доедает свой обед, встает и ждет меня. Я встаю, мы относим подносы. Идем по коридорам, Майлз направляется на лекцию, а я нет. Он спрашивает, почему я не иду на лекцию, я отвечаю, что через два дня меня выписывают, не хочу больше тратить время на эти лекции, и так напичкан лекциями по самую макушку. Он смеется, я возвращаюсь в отделение и захожу в телефонную кабинку.
Звоню родителям. Они на другом конце земли, у них сейчас раннее утро. Отец отвечает на звонок. Голос у него сонный. Я спрашиваю – мне перезвонить позже, и он говорит – не надо, просто погоди минуту. Я жду. Мать берет трубку, говорит – здравствуй, у нее голос тоже сонный. Отец снимает вторую трубку. Слова отдаются эхом.
Я говорю им, что выписываюсь через два дня. Они удивлены. Отец спрашивает, чувствую ли я себя готовым к выписке, я отвечаю – чувствовать-то чувствую, а как оно обстоит на самом деле, станет ясно только после выписки. Мать спрашивает, что это значит, я говорю – невозможно понять, вылечился ли я, пока не окажусь в большом мире. Отец спрашивает, что это значит, я говорю – в клинике легко оставаться чистым и трезвым, потому что нет искушений. Он спрашивает, готов ли я противостоять искушениям, и я говорю, что верю в себя, а проверю в себя после выписки. Отец вздыхает, как будто он расстроен. Мать вздыхает, как будто она расстроена. Я спрашиваю, как у них дела, они отвечают, что все в порядке. Я спрашиваю, как там Токио, и Мать отвечает, что им хотелось бы быть поближе ко мне, чтобы поддерживать. Я говорю, что они сделали более чем достаточно. Отец говорит, что беспокоится за меня, а я говорю – не надо, я никогда за всю мою жизнь не чувствовал себя таким уверенным, таким сильным. Он говорит, что это обнадеживает. Но судя по голосу, не слишком-то это его обнадеживает.
Он спрашивает, каковы мои планы, я отвечаю – заеду к Бобу, проведу несколько дней у него, а потом отправлюсь в Огайо и сяду в тюрьму. Они спрашивают, как я буду добираться туда, я отвечаю – на автобусе. Они предлагают купить мне билет на самолет, я благодарю их, но отказываюсь. Мать спрашивает, нужно ли мне что-нибудь, я говорю – нет. Отец просит позвонить им от Боба, я обещаю. Он говорит – будь осторожен. Я говорю – хорошо. Мать говорит – будь осторожен. Я говорю – хорошо. Они говорят, что любят меня, я говорю, что люблю их, и мы вешаем трубки.
Звоню Брату. Его нет дома, наговариваю сообщение на автоответчик. Говорю, меня отпустят послезавтра, было бы замечательно, если б он забрал меня. Говорю, если он не сможет приехать, ничего страшного, я доберусь сам. Спрашиваю, можно ли остановиться у него на пару дней, спать я могу на диване или на полу, да где угодно. Прошу его перезвонить мне. Оставляю номер телефона. Вешаю трубку.
Выхожу из телефонной кабинки, иду к полке, на которой когда-то нашел карандаши для своей раскраски. Рядом с карандашами – желтый блокнот и кофейная кружка, в которой полно ручек. Беру блокнот и ручку, поднимаюсь на верхний ярус, наливаю большую чашку кофе, горячего и черного. Кладу ручку в карман, держу блокнот в одной руке, а кофе в другой, спускаюсь по лестнице. Открываю ногой раздвижную дверь и выхожу на улицу.
Солнце стоит высоко и светит вовсю, хотя не греет. Плавный ветерок, словно шепот, колышет воздух. Иду по траве, замерзшей до конца зимы. Иду к озеру, застывшему и притихшему, покрытому ледяной скорлупой. Сажусь на среднюю скамейку, отпиваю глоток кофе, закуриваю сигарету. Смотрю в блокнот, такой желтый и такой пустой.
Начинаю перебирать в памяти всю свою жизнь. Обдумываю все, что сделал, и что из этого было неправильно. Пытаюсь добраться до самых ранних лет, когда начал себя помнить. Я уже тогда был плохим, с тех пор как себя помню. Начинаю писать.
Наехал на воспитательницу детского сада на трехколесном велосипеде. Сделал это нарочно. Мне было четыре года. Тяжелым рюкзаком с книгами ударил мальчика и разбил ему нос. Его звали Фред. Мне было шесть лет. Выкопал яму, заманил в нее мальчика по имени Майкл. Придавил сверху доской и сидел на ней три часа. Он плакал и кричал. Я смеялся. Мне было семь лет. В церкви запер мальчика по имени Дэвид в шкаф, на замок, а ключ спустил в унитаз. Получил бессрочный запрет посещать воскресную школу. Мне было семь лет. Украл пачку ментоловых сигарет у матери моего друга Клэя. Выкурил их и сблевал. Украл еще одну пачку. Сблевал. Украл еще одну. Мне было восемь лет.
Когда я описываю грехи моего раннего детства, мне смешно. Глупые поступки ребенка, который не может ничего придумать, которому по хер, что такое хорошо, что такое плохо. Я исписываю ими четыре страницы. Мои поступки. Которые смешат меня.
Продолжаю писать. Мне десять лет. В этом возрасте у меня стали отказывать тормоза. Когда оглядываюсь назад, мне кажется, что все это делал не я, а кто-то другой, а я только наблюдал со стороны. Если бы так. Итак, в десять лет у меня стали отказывать тормоза.
Выскользнул из дома и напился. Крал спиртное у родителей столько раз, что со счета сбился. Украл пачку порножурналов из соседского гаража. Забросал яйцами проезжую машину и вызвал аварию, а сам наблюдал с верхушки дерева. Никто не пострадал, но машина помялась. Шлялся по улицам в пятницу ночью, когда мне полагалось спать в своей постели, и наткнулся на директора школы. Он доставил меня домой, где родители давали званый ужин. Испортил ужин, опозорил родителей. Украл пакет с травой у отца своего приятеля Эйвана. Украл пайп у отца Эйвана. Украл банку таблеток у отца Эйвана. Выкурил траву через пайп и заполировал таблетками. Сблевал. Все повторил, когда снова оказался у Эйвана.
Еще три страницы. Заполнены кражами отравы и дурацкими выходками. Иногда я попадался, чаще нет. В двенадцать лет воспоминания начинает окутывать туман из-за спиртного и наркотиков. В двенадцать лет моя жизнь утрачивает отчетливость.
Напал на малыша, который играл в хоккей. Он не заметил меня, и я сбил его с ног. Он упал без сознания, а я стоял над ним и смеялся. Каждую ночь в течение трех недель я запихивал в почтовый ящик учителя мешки с собачьим дерьмом. В походе поджег палатку вожатого бойскаутов. Меня выгнали из отряда. Насыпал в бензобак соседской машины сахару, двигатель сломался. Крал спиртное и наркоту везде, где удавалось, всегда, когда удавалось.
Следующие три года занимают еще пять страниц. Обижал тех, кто этого не заслуживал. Обижал тех, кто этого заслуживал. Начал задумываться о смерти, начал осознавать, что сижу на системе, начал ненавидеть себя. Поступал так, как поступал, потому что ненавидел себя.
В четырнадцать украл мопед и столкнул его с обрыва. Разбил кувалдой скульптуру на соседском газоне. Взорвал почтовый ящик, еще два ящика, еще четыре, еще десять. Оценил силу слова и стал использовать ее. Назвал девочку жирной шлюхой. Сказал беременной учительнице – чтоб твой ребенок родился мертвым. Спросил у жены доктора, известно ли ей, что ее муж ходит налево. Жена доктора была груба с моей Матерью, и я захотел наказать ее. Ее муж действительно ходил налево, и брак распался.
В пятнадцать лет стал продавать наркотики школьникам. Продавал им и алкоголь. Они были моего возраста, но оставались детьми. Чаще всего я обманывал их – драл втридорога или подсовывал орегано. Иногда ссал в бутылку перед тем, как отдать им. Сломал рекламный указатель у ресторана. Ночью саданул по нему молотком, потому что управляющий выгнал меня из ресторана, когда я был пьян. Убегал из дома. Угонял машину. Напивался и принимал наркотики. Постоянно.
Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет умещаются на пяти страницах. В основном все то же самое. Алкоголь и наркотики. Хулиганство и вандализм. Оскорбление людей, если они сделали что-то неприятное мне или моим близким. Я разгромил двор лидера местной христианской молодежной группы, когда он попытался завербовать меня. Я повторял это каждую пятницу в течение восьми недель. Я крал почту у соседа, который выругал меня. Крал ее, чтобы завладеть личной информацией, подписал его на двенадцать кредитов и испортил ему кредитную историю. Степень моей наркозависимости росла, с ней вместе возрастала ненависть к себе, возрастал и уровень деструктивности.
Девятнадцать лет, двадцать лет. Шесть страниц. Первые годы в колледже. Я изменил подружке один раз, два раза, три раза, каждый раз бывал разоблачен. Обещал исправиться, обещание ни разу не сдержал. Я понимал, что так и будет. То же самое повторилось с другой девушкой. С третьей. Ложь стала частью моей жизни. Я лгал из необходимости заполучить что-то или выпутаться из чего-то. Я лгал в колледже. Я брал деньги у родителей и покупал на них наркотики. Брал еще больше денег и покупал еще больше наркотиков. Я терроризировал парня по имени Роб, потому что слышал, как он не очень хорошо отозвался о ней, о той, с глазами, как арктический лед. Я сломал ему машину, загадил его комнату. Я издевался над ним, угрожал ему и запугал его. Я отравил ему жизнь. При этом я так и не сказал ему, почему все это делаю, просто делал, и все.
Двадцать один год. Три страницы. Напивался, обкуривался, был арестован, раз или два навалял кому-то, раз или два наваляли мне, изменял, лгал, обманывал, использовал женщин, спал с проститутками, брал деньги, тратил больше, чем брал, мои лучшие друзья – алкоголь и наркотики, людей, которые пытались остановить меня, посылал на хер, требовал, чтобы отстали. Заставлял девушку нюхать кокаин с моего члена. Она была кокаиновая наркоманка, и я давал ей наркотики в обмен на ее тело. Она позволяла мне делать с ней все, что захочу, и я пользовался этим очень часто. Наркотики и ее тело. Я приставил пистолет к голове человека. Пистолет не был заряжен, но чувак-то этого не знал. Он ползал на коленях и умолял пощадить его. Взял пистолет я по наущению одного барыги, который хотел меня проверить, а мне требовалось его доверие, потому что требовался его товар. Тот чувак украл у барыги дозу, и я спустил курок незаряженного пистолета у его виска. Мужик нассал в штаны, обоссал весь пол, и барыга вытирал лужу его лицом, а я смотрел.
Двадцать два года. Две страницы. Мой арест, тот самый, в Огайо. За который мне предстоит расплатиться сейчас тюремным сроком. В Париже одна девица заявила, что я отец ее ребенка. Я не был им. У меня на нее особо не стояло, и я с ней ни разу не кончил. Она плакала и умоляла признать ребенка, но я не был его отцом, поэтому вышвырнул ее из своей квартиры. Через пару дней в баре ее подружка подкралась ко мне с бутылкой, но я уложил ее на пол. Когда она поднялась, я пнул ее в задницу и сказал, что, если приблизится ко мне, отметелю в хлам. Другая приятельница привела меня к себе домой однажды вечером, встретив на улице. Я обоссал и облевал ей весь пол и даже диван. Когда проснулся, прихватил бутылку водки и ушел. Больше эту приятельницу никогда не видел и ничего о ней не слышал. В лондонском баре огрел человека стулом. Он пролил коктейль на мой стол, и я ударил его, когда он повернулся спиной. Я не стал дожидаться, чтобы узнать, что с ним. Меня никогда не интересовало, какой урон я причинил.
Заканчиваю писать. Кофе выпит, пачка сигарет выкурена. Смотрю на стопку бумаги, пересчитываю страницы, их двадцать две. Двадцать две страницы заполнены проступками, грехами и прегрешениями, неверными шагами и ошибками. Двадцать две страницы злости, обиды, наркомании, ненависти к себе и Ярости. Двадцать две страницы документируют мою позорную, постыдную и жалкую жизнь. Двадцать две страницы.
Я читаю эти страницы. Медленно, внимательно. Пока читаю, думаю, не упустил ли чего-то, не забыл ли чего-то, не боюсь ли с чем-то столкнуться или в чем-то признаться. Я хочу примириться со своим прошлым и оставить его позади. Может, есть что-то, что я забыл, выпустил из виду, что пугает меня. Да, есть один случай. Один случай пугает меня. Я никогда не говорил об этом. Никогда никому не рассказывал, что я сделал с тем типом, как изувечил его, когда полностью отказали тормоза. Это воспоминание преследует меня.
Я беру стопку исписанных желтых листов, сгибаю пополам и кладу в карман. Беру ручку, блокнот, встаю со скамейки и иду по траве, солнце садится. Ветер начинает задувать. Он больше не шепчет, он свистит, свистит, кровавый убийца. Открываю раздвижную дверь, подхожу к шкафу. Кладу блокнот и ручку на полку.
Отделение заполнено людьми, которые отдыхают перед ужином. Я ни с кем не заговариваю. Поднимаюсь по лестнице, прохожу в свою палату, иду в ванную, встаю перед зеркалом. Я описал грехи своей жизни, они лежат у меня в кармане, теперь хочу проверить, способен ли я посмотреть себе в глаза. Вижу, как дрожат губы. Перевожу взгляд на нос, потом на черные ресницы под глазами, потом добираюсь до глаз. Светлая зелень. Переходит в грязно-зеленый цвет. Для зеленого он недостаточно чист. Я всматриваюсь в зелень. Есть одно воспоминание, которое мешает мне смотреть себе в глаза. В себя самого. В свое прошлое, которое лежит у меня в кармане. Тот ублюдок в Париже. Только он, больше ничего.
Я отворачиваюсь от раковины, выхожу из ванной. Иду в столовую, ужинаю вместе с Майлзом и Майклом. После ужина иду на лекцию, но не слушаю ее. После лекции возвращаюсь к себе в палату.
Пытаюсь читать, но читать не могу.
Ложусь в постель и пытаюсь заснуть.
Заснуть не могу.
Одно воспоминание.
Преследует меня.
До сих пор.
Я сплю всю ночь напролет, не просыпаясь. И без приема каких-либо веществ. Уже вторую ночь сплю без просыпа, не накачавшись наркотиками и алкоголем. Это просто рекорд.
Просыпаюсь утром, ранним утром. Уже не темно, еще не светло. Утренние сумерки. Серые, как угасающая грусть, как нарастающий страх. Уже не темно, еще не светло.
Встаю с кровати. Майлз спит. Тихонько прохожу в ванную. Принимаю душ, бреюсь и чищу зубы. Одеваюсь, выхожу из палаты.
Наливаю чашку кофе, сажусь за стол, пью кофе и курю. Наблюдаю, как народ выполняет утренние работы. Один моет кухню, другой выносит мусор, третий пылесосит пол. Вижу, как кто-то несет средства для мытья общего сортира. Кажется, это было давным-давно. Общий сортир. Рой. Давным-давно.
Допиваю кофе. Иду по коридорам в столовую. Беру еще одну чашку кофе и выбираю столик, чтобы сесть. Матти сидит один в углу, подсаживаюсь к нему.
Он смотрит в тарелку. Заметно, что глаза у него налились кровью и опухли. Вилка трясется в руке. Стакан дрожит в другой. Он упорно смотрит в тарелку. Я говорю.
Все в порядке, Матти?
Он отрицательно мотает головой.
Что случилось?
Мотает головой.
Я могу помочь?
Мотает головой.
Может, мне уйти?
Мотает головой.
Я сижу с ним. Сижу, пью свой кофе. Он сидит, смотрит в тарелку. Руки трясутся, не говорит ни слова. Просто смотрит в тарелку.
Я допиваю кофе, встаю и спрашиваю, не нужно ли ему чего. Он поднимает голову, смотрит на меня и говорит.
Не уходи.
Я сажусь обратно.
Хорошо.
Он смотрит на меня. Глаза налиты кровью и опухли.
Мне нужно, чтобы кто-то посидел со мной.
Я с тобой.
Он смотрит на меня. Глаза налиты кровью и опухли.
Все кончено, Джеймс.
Что ты имеешь в виду?
Свою гребаную жизнь. Конец наступил.
О чем ты говоришь?
Он кладет вилку, ставит стакан. Руки продолжают дрожать.
Мне сказали, что моя жена начала курить.
Курить что?
Этот гребаный крэк.
Он умолкает.
Какая жуть, Матти. Мне жаль.
Он трясет головой.
Она никогда к нему не прикасалась. Мы договорились, что она будет заботиться о детях, пока я не выйду отсюда. И вот, черт подери, ее разобрало любопытство, что это за дерьмо такое и почему оно ко мне прицепилось, и вот она пошла, блядь, и попробовала.
Откуда ты узнал?
Бабушка позвонила мне. Сказала, что зашла к нам, а там дети одни. Не кормлены, а младший сидит на полу в грязном подгузнике. Она стала дожидаться, пока жена вернется, а та пришла обдолбанная в хлам, ни хера не соображает, сказала, что курила.
Мне так жаль, Матти.
Ты же не виноват.
Что ты собираешься делать?
Не знаю, черт возьми. Наша жизнь держалась на моей гребаной жене, она отвечала за все, пока я торчал. А сейчас, раз она подсела на это дерьмо, все пропало на хер. Какая уж тут семья, какие дети, если родители оба наркоманы. И как я смогу оставаться чистым, на хер, если она курит.
Что, если отправить ее на лечение, а тебе вернуться в бокс?
Ты взгляни на меня, Джеймс, я же больше не могу боксировать ни хера. Тело угробил на хер, мозги тоже просрал. Я же не продержусь на ринге и тридцати секунд, даже против самого хренового боксера в мире. А полечить жену я бы очень хотел, только мы же остатки моих боксерских денег потратили, чтобы я лег в эту клинику, и у нас ни гроша не осталось. У нас же ни хера больше нет.
Я могу тебе чем-нибудь помочь?
Нет, если только у тебя не завалялся мешок лишних денег, который ты хочешь отдать мне.
Нет, не завалялся.
Я в заднице, Джеймс. Это конец.
Что-нибудь произойдет.
Насмотрелся я на таких, как мы, чтобы верить в эту чушь. Я сдохну, она сдохнет, дети пойдут по нашей дорожке. Мы все в заднице. В полной заднице.
Он встает.
Пойду на хер прогуляюсь.
Он забирает поднос.
Спасибо, что выслушал меня.
Он уходит. Я наблюдаю за ним. Беру свою чашку, встаю, отношу ее на конвейер. Иду по стеклянному коридору, который отделяет мужчин от женщин. Замечаю, что Майлз и Тед идут мне навстречу. Склонились друг к другу, о чем-то говорят. Губы слегка шевелятся. Майлз взглядывает на меня, слегка кивает в знак приветствия, но продолжает разговор с Тедом. Они проходят мимо. Я их не останавливаю.
Возвращаюсь в свою палату. Открываю тумбочку. Вынимаю пачку из двадцати двух листов, кладу в карман штанов. Выхожу из комнаты, иду по коридорам. Они серые, как утро, как угасающая грусть, как нарастающий страх. Я замечаю их, но они не напрягают меня. Я слишком хорошо их знаю. Они не напрягают меня. Стучу в кабинет Джоанны, она говорит – входите. Открываю дверь, вхожу. Она сидит за столом, читает газету, пьет кофе, курит сигарету. Она говорит.
Как дела?
Хорошо.
Ты готов?
Да, готов.
Хочешь что-нибудь сказать мне перед началом?
Нет.
Она откладывает газету, тушит сигарету.
После обеда сегодня зайди ко мне еще раз. Мы с Кеном хотим кое-что обсудить с тобой.
Все хорошо?
Мы продумали план восстановления для тебя, хотелось бы, чтобы после выписки ты ему следовал.
И что, я, по-вашему, буду ему следовать?
Вряд ли. Но не обсудить его с тобой было бы безответственно с нашей стороны.
Хорошо.
Идем?
Да.
Она встает из-за стола. Мы выходим из кабинета, идем по коридорам. Они такие же серые, кое-где тень сгустилась, словно грусть углубилась, страх усилился. Мы не разговариваем, пока идем, и с каждым шагом воспоминание о той ночи становится ярче. Я просто хотел остаться один. Плакал. Он подошел ко мне, и я избил его. Кровь из него хлестала. Я измочалил его в говно.
Останавливаемся у двери. На ней табличка «Отец Дэвид, капеллан». Джоанна стучит в дверь, голос приглашает войти. Она просит меня подождать минуту, открывает дверь, заходит внутрь и закрывает дверь за собой.
Я стою и жду. У меня начинают дрожать руки, ноги и даже губы. Сердце трепыхается. Будь коридоры продолжением моего тела, они бы почернели. От тоски и страха. Наполнились бы чернейшей тьмой, которая живет во мне. Такой тьмой, что хоть глаз выколи. Я дрожу. Дверь открывается. Джоанна выходит, стоит передо мной и говорит.
Он готов тебя принять.
Хорошо.
Я предупредила его, что могут возникнуть сложные неловкие моменты. Он ответил, что вряд ли услышит такое, чего раньше не слышал.
Посмотрим.
Удачи.
Спасибо.
Она протягивает руки, обнимает меня. Говорит.
Ты почувствуешь себя лучше после этого.
Я киваю. Она отпускает меня. Протягиваю к двери руку, которая вдруг становится чугунной. Толкаю дверь, как будто она весит тонну. Открываю, а входить не хочу, не хочу делать этого. Джоанна стоит за моей спиной, я оборачиваюсь, смотрю на нее, она улыбается, и ее улыбка придает мне силы переступить порог. Захожу в кабинет. Закрываю дверь за собой.
Священник сидит за столом. На нем черная сутана с белым воротничком. Он старый, ему лет семьдесят, волосы седые, глаза темно-карие. За его спиной на стене висит распятие, на столе поверх стопки бумаг лежит Библия в черном кожаном переплете. После той ночи я впервые оказываюсь в обществе священника. Смотрю на него, Ярость закипает. Он встает, смотрит на меня и говорит.
Здравствуй, сын мой. Меня зовут отец Дэвид.
Мое почтение, сэр, но я не ваш сын. Меня зовут Джеймс.
Здравствуй, Джеймс.
Здравствуйте.
Не хочешь ли сесть?
Он указывает на стул у стола. Напротив себя. Я сажусь.
Спасибо.
Он садится на свое место.
Ты здесь, потому что проходишь Пятый шаг.
Я не верю в эти шаги. Я здесь, чтобы исповедаться.
Ты католик?
Нет.
Я не могу исповедовать тебя, если ты не католик.
Мне следует уйти?
Тебя устроит, если мы назовем нашу встречу беседой?
Вполне.
Тогда давай так и поступим.
Спасибо.
Ты хочешь задать какие-нибудь вопросы прежде, чем мы начнем?
Нет.
У тебя есть какие-нибудь пожелания?
Нет.
Ты можешь быть уверен – все, сказанное тобой сегодня, никогда не покинет пределы этих стен. Это останется между мной, тобой и Богом.
Я не верю в Бога, сэр.
Тогда это останется между мной и тобой.
Спасибо.
Ты готов начать?
Да.
Тогда приступим, во времени я тебя не ограничиваю.
Я делаю глубокий вдох. Вынимаю из кармана двадцать два желтых листа, кладу на колени. Смотрю на них. В них все, что я смог вспомнить. Кроме одного случая.
Начинаю читать. Читаю медленно, размеренно. Не пропускаю ни одного слова, ни одного эпизода. Впечатление такое, будто на страницу уходит час. По мере чтения я чувствую себя и лучше, и хуже. Лучше, потому что наконец-то признался в своих грехах и в какой-то степени взял на себя ответственность за них. Хуже, потому что, рассказывая о них, я заново их проживаю в своем уме. Каждый грех. Вновь проживаю мысленно.
Закончив чтение, я снова делаю глубокий вдох. Сгибаю листы и убираю в карман. Священник говорит.
Ты закончил?
Я мотаю головой.
Нет.
Но ты вроде бы дочитал до конца.
Есть один случай, о котором я не написал.
Ты хочешь рассказать о нем?
Да.
Не торопись, у нас столько времени, сколько тебе потребуется.
Я смотрю в пол. Смотрю на свои руки, они дрожат. Чувствую, как колотится сердце, ему страшно. Делаю еще один глубокий вдох. Еще один. Мне страшно говорить, я боюсь этого воспоминания. Мне страшно.
Поднимаю взгляд. Смотрю в глаза отца Дэвида. Они глубокие, темные, и в них нет того, что я увидел в ту ночь. В глазах этого священника я нахожу только покой, безмятежность и непоколебимость веры. В них совсем нет того, что я увидел в ту ночь. Я делаю еще один глубокий вдох, последний. Выдыхаю. И говорю.
Восемнадцать месяцев назад в Париже я так избил человека, что он, возможно, умер. Это был священник.
Я делаю еще один вдох.
После ареста в Огайо, сидя в тюремной камере, я вдруг задумался о своей жизни. В двадцать два года я был алкоголик и наркоман с десятилетним стажем. Я ненавидел себя. Я не видел будущего перед собой, а все мое прошлое состояло из безобразий и саморазрушения. Я решил, что мне нужно умереть.
Меня выпустили под залог, а я сбежал и полетел обратно в Париж. Пришел к себе в квартиру, выпил бутылку виски и написал записку. Всего три слова – не оплакивайте меня. Положил ее на кровать, вышел из дома и пошел на поиски первого попавшегося моста. Чаще всего парижане кончают с собой таким способом – бросаются в Сену с моста. Прыгаешь, ударяешься о воду, и либо умираешь от удара, либо тонешь.
Пока я шел, меня разобрали слезы. Я плакал от мысли, что зря потратил свою жизнь и наделал столько глупостей, и еще от радости, что наконец-то это все закончится. В то же время начал просыпаться страх. Как-никак, убить себя – непростое дело, и я понимал, что обратного пути не будет. Жизни конец. Я не верю ни в небеса, ни во что подобное. Жизнь кончается после смерти.
Перевожу дыхание.
Я увидел церковь, и страх взыграл с такой силой, что я решил зайти. Я рассчитывал, что там будет спокойно и тихо, я смогу посидеть один и подумать. Нашел пустую скамейку, сел и заплакал. Так прошло много времени. Я просто сидел и плакал.
Перевожу дыхание. Ярость, которая было улеглась, снова поднимается, пока я рассказываю.
В какой-то момент ко мне подошел человек, одетый так же, как вы. Он спросил, хорошо ли я себя чувствую. Я ответил – очень плохо. Он назвал себя отцом и сказал, что у него большой опыт, он много общается с молодыми людьми, и если я хочу поговорить с ним о своих проблемах, то можно пройти к нему в кабинет и все обсудить. Я сказал нет, я хочу побыть один. Он сел рядом со мной и стал настаивать, чтобы мы прошли к нему в кабинет. Он говорил, что наверняка поможет мне, и твердил – давай пройдем в кабинет, давай пройдем в кабинет. Я подумал, что хуже от этого не будет, и пошел с ним.
Опять перевожу дыхание. Ярость нарастает. Я говорю.
Его кабинет находился среди помещений за алтарем. Когда мы вошли, священник запер дверь на замок. Мне следовало бы сразу насторожиться, но он же священник, черт возьми, мне и в голову не пришло ничего дурного. Я сел на диван, он рядом, спросил, что со мной, и я рассказал ему. Рассказал про свою наркоманию, про свою дерьмовую жизнь, про тюрьму, из которой только что вышел, про свой план покончить с собой. Все время, пока я рассказывал, он сидел, смотрел на меня и делал вид, что слушает. Когда я закончил, он протянул руку, положил мне на колено и сказал – ты обратился по адресу, я не сомневаюсь, что смогу помочь тебе. Мне не понравилось, как лежит его рука, и я убрал ее со своего колена. Он положил ее обратно и сказал – если Бог послал меня тебе в помощь, ты тоже должен кое-что сделать для меня. Я снова убрал его руку с колена и спросил, что именно я должен. Он положил руку обратно, на этот раз выше, на бедро, и сказал – я понимаю, сейчас ты огорчен и расстроен, но не нужно сопротивляться воле божьей, есть высший промысел в том, что мы встретились, и он передвинул руку еще выше, подбираясь к моей промежности. Я убрал его руку и попросил больше не трогать меня. Он сказал – хорошо, и положил руку мне между ног, а другой стал тянуться к моему лицу. При этом приговаривал – не сопротивляйся воле божьей, сын мой.
Я смотрю на отца Дэвида. Ярость нарастает сильнее, сильнее, сильнее. Я чувствую то же самое, что чувствовал тогда. Желание убивать, крушить, уничтожать.
Я не позволил этому ублюдку коснуться моего лица. Ударил его точно в подбородок, раздался хруст, полилась кровь. Я встал и ударил еще раз. Я бил его снова и снова. Не знаю, сколько раз я его ударил, но в какой-то момент у меня перед глазами стояли только слезы, остатки его лица и кровь. Разделавшись с его лицом – он уже потерял сознание, – я стащил его с дивана и раздвинул ему ноги. Как можно шире, чтобы удобней было бить. Ударил его между ног раз пятнадцать со всей силы, так что он застонал от боли, хоть и был уже без сознания. Потом я повернулся, отпер дверь и вышел. Я пошел в ближайший магазин, закупил виски на все деньги, какие были при мне, нашел глухой закоулок и надрался так, что отключился. Проснулся утром, вернулся домой. Несколько дней подряд я каждую минуту ждал, что за мной придет полиция и арестует, но никто не пришел. Недели две я искал в газетах сообщений о том, что произошло, но ничего не появилось. Можно предположить, что этот священник вытворял с другими то, что пытался проделать со мной. Если он выжил после моей обработки – думаю, что все-таки выжил, – то он побоялся обращаться в полицию. Он понимал, что я расскажу всю правду, а там, узнав про мои показания, подтянутся и другие жертвы.
Отец Дэвид отводит взгляд в сторону. Он глубоко вздыхает и качает головой. Я продолжаю.
Уж не знаю, то ли у меня пропали силы, чтобы убить себя, то ли появились силы, чтобы жить дальше, но я не покончил с собой. Жил по-прежнему, добывал отраву, торчал. И в конце концов оказался здесь. В отличие от всего остального, о чем вам рассказал, я не сожалею о том, как поступил с этим священником, и, честно говоря, думаю, что он свое заслужил. Но этот случай преследует меня. Когда я бил его, мне хотелось убить его, и я мог бы это сделать, и я продолжал бить его, совсем сорвавшись с тормозов. Вот это дико пугает меня. Я не хочу, чтобы такое со мной повторилось. Я рассказал вам об этом, исповедовался, даже если это не совсем правильное слово, и надеюсь, вдруг это спасет меня от таких приступов в будущем. Теперь я действительно закончил, больше мне нечего добавить.
Отец Дэвид смотрит в стол. Я смотрю на него. Жду, когда он заговорит, но он молчит. Только смотрит в стол. Я встаю.
Спасибо, что выслушали меня.
Иду к двери. Дотрагиваюсь до ручки, и тут слышу его голос.
Джеймс.
Я оглядываюсь.
Прости меня.
Вы ни в чем не виноваты.
Все равно прости.
Пожалуйста, и еще раз спасибо, что выслушали меня.
Открываю дверь, выхожу в коридор, закрываю дверь за собой. Глубоко вдыхаю, медленно выдыхаю. Все это покидает меня, все, о чем я написал, все, о чем рассказал, все, что совершил. Все ушло. Все, к чертовой матери, ушло.
Я иду в отделение. Шагаю легко, непринужденно, с улыбкой на лице. Подхожу к палате, на двери записка: «Позвони брату на работу». И номер телефона.
Беру записку, иду к телефонной кабинке, захожу внутрь и закрываю дверь. Набираю номер телефона. Отвечает женский голос, я прошу позвать Боба Фрея, мне говорят, минутку подождите. Брат берет трубку, говорит – привет, я говорю – здорово, засранец, он смеется и говорит – поздравляю с выпиской. Я говорю – спасибо, спрашиваю, может ли он меня забрать, он говорит – да, он возьмет отпуск на несколько дней и надеется, что я проведу эти дни с ним. Я говорю – просто замечательно. Он говорит – твой друг Кевин хочет приехать из Чикаго повидаться с тобой, спрашивает, как я к этому отношусь. Я говорю – просто замечательно отношусь, и он говорит, что передаст ему. Он спрашивает, когда подъехать за мной, и я говорю – в пол-одиннадцатого, или в одиннадцать, или когда получится. Он говорит, что будет в пол-одиннадцатого. Мы вешаем трубки.
Все направляются на обед, я тоже. Проходя мимо своей палаты, сталкиваюсь с Майлзом, который выходит из нее. Он улыбается.
Привет, Джеймс.
Привет, Майлз. Как ты?
Очень занят.
Чем же?
Завтра приезжает моя жена. Нужно подготовиться. И еще занимаюсь делом Теда.
А что случилось у Теда?
Теду в Луизиане светит пожизненное без права обжалования. Пытаюсь спасти его от этого.
Есть надежда?
Нет, боюсь, все бесполезно. Отец девушки хочет его упечь во что бы то ни стало.
Черт. Тед знает?
Да.
Что говорит?
Хочет пробыть здесь как можно дольше, а потом спрятаться у родственников в Миссисипи.
И что ты думаешь об этом?
Думаю, что все это очень печально.
Мы идем по коридору между мужской и женской половиной. Майлз толкает меня и указывает на женскую половину. Я смотрю в ту сторону и вижу Лилли. Она сидит спиной ко мне, за столом, в компании трех женщин. На ней футболка, волосы собраны в конский хвост. Ручки совсем тоненькие, как будто она сильно похудела.
Я улыбаюсь. Вижу по губам, как ее соседка произносит мое имя, и жду, когда Лилли обернется, надеюсь, что она обернется, но она не оборачивается. За одним столом с ней сидит начальница женского отделения.
Пока стою в очереди, смотрю на Лилли. Пока получаю еду – на этот раз пирог с индейкой, – смотрю на Лилли. Пока иду через зал к столу в углу, смотрю на Лилли. Я хочу, чтобы она обернулась, хочу увидеть ее лицо. Но она не оборачивается.
Сажусь. Майлз садится со мной. К нам присоединяются Тед, Матти и Майкл. Ни Тед, ни Матти не произносят ни слова. Смотрят в свои тарелки и едят. Майлз с Майклом говорят о детях. Я смотрю на длинные волосы Лилли, на ее слишком худые руки. Когда она встает, чтобы поставить поднос на конвейер, я тоже встаю. Иду медленно, тяну время, чтобы подойти к конвейеру вместе с ней. Знаю, что если заговорю с ней или попробую привлечь ее внимание, то навлеку на нее неприятности, поэтому не собираюсь ничего этого делать. Просто хочу оказаться рядом с ней. Чтобы почувствовать ее присутствие. Чтобы разглядеть как следует ее лицо. Чтобы ощутить запах ее волос. Я хочу просто побыть рядом с ней.
Она подходит к конвейеру, ставит свой поднос на него. За ней ее соседки, я за ними. Когда она оглядывается, то замечает меня и улыбается. Это открытая, прекрасная улыбка. Как я скучал по этой улыбке, как скучал. Я улыбаюсь в ответ, хотя больше всего на свете хочу обнять ее, прижать к себе, поцеловать, сказать, что люблю. Вот чего я хочу. Обнять ее, прижать к себе, поцеловать и сказать, что люблю.
Ее соседки ставят подносы на конвейер и выходят из столовой, Лилли идет за ними. Я ставлю свой поднос на конвейер, выхожу за ними в стеклянный коридор. У входа в актовый зал мы расходимся – они идут на лекцию, а я в кабинет Джоанны.
Дверь оказывается открытой, я захожу. Кен с Джоанной сидят на диване. Оба изучают бумаги, которые лежат у них на коленях. Я сажусь на стул напротив, жду, когда они заговорят. Джоанна поднимает голову.
Мы составили для тебя постреабилитационную программу.
Что она из себя представляет?
Говорит Кен.
Если ты будешь следовать ей, она тебе очень поможет.
Джоанна закрывает папку, откладывает ее. Кен закрывает папку, протягивает мне.
Я беру папку, открываю, заглядываю в нее. Всякая писанина про Анонимных Алкоголиков, графики Анонимных Алкоголиков и расписание встреч Анонимных Алкоголиков в Чикаго. Захлопываю папку.
Хорошая программа.
Говорит Джоанна.
Советую тебе внимательней ознакомиться с ней.
Зачем?
Там есть кое-что важное.
Насколько я понял, там все связано с Анонимными Алкоголиками.
Говорит Кен.
Мы рекомендуем тебе посещать собрания Анонимных Алкоголиков.
Я смотрю на Джоанну.
Я думал, мы покончили с этой чепухой.
Кен хочет вернуться к этому разговору, и я согласна с ним.
Почему?
Кен говорит.
Потому что ты не сможешь оставаться чистым без Анонимных Алкоголиков.
Почему вы так думаете?
Потому что это единственный метод, который работает.
Возможно, это единственный метод, который работает для вас, но это не значит, что он работает для меня.
Почему?
Я не верю в Двенадцать шагов. Я не верю ни в Бога, ни в Высшие силы. Я отказываюсь поручать мою жизнь и волю каким-то силам, тем более силам, в которые не верю.
Тогда как ты собираешься жить?
Я собираюсь жить своей жизнью. Принимать вещи такими, какими они приходят, иметь дело с тем, что передо мной, когда оно передо мной. Если передо мной алкоголь и наркотики или то и другое, то я принимаю решение не принимать их. Я не собираюсь жить в вечном страхе перед алкоголем и наркотиками и не собираюсь тратить время в разговорах с людьми, которые живут в вечном страхе перед ними. Я собираюсь зависеть только от самого себя, больше никаких других зависимостей.
Кен качает головой.
Это верный путь к провалу.
Я смеюсь над ним.
Посмотрим.
Говорит Джоанна.
Я уже предупреждала тебя, Джеймс, и хотя на меня произвело большое впечатление то, как ты справляешься со своими зависимостями, все же считаю своим долгом повторить это.
Что именно?
У человека с твоей историей злоупотребления психоактивными веществами вероятность оставаться чистым близка к нулю, если нет основательной поддержки в виде Анонимных Алкоголиков и терапии, как индивидуальной, так и групповой. Эта вероятность составляет один шанс на миллион в лучшем случае.
Такой прогноз меня не пугает.
Говорит Кен.
Один шанс на миллион, Джеймс.
Шанс, что я окажусь здесь, тоже был один на миллион. Так что подобная статистика меня не пугает.
Говорит Джоанна.
Я думаю, у нас с Кеном будет легче на душе, если ты хотя бы посмотришь папку при нас.
Хорошо.
Я открываю свою папку, они свою, и мы начинаем просматривать их содержимое. Небольшая брошюрка о возможностях восстановления в тюрьме, в ней говорится о программах Анонимных Алкоголиков в исправительных учреждениях и о прохождении Шагов во время заключения. Расписание встреч Анонимных Алкоголиков в Чикаго, список групп и телефонов. Небольшая подборка литературы по рациональной терапии и о том, как ее применять в большом мире. Информация о реабилитационном заведении в Чикаго, связанном с этой клиникой, о программах, которые там предлагают. Собственно книга про Двенадцать шагов. Текст молитвы о душевной ясности.
Пока мы перебираем все это, Кен и Джоанна, проникнутые чувством долга, дают пояснения, а я, также проникнутый чувством долга, внимательно слушаю. Я полагаю, что мой долг – внимательно выслушать их в знак уважения и благодарности. Когда они заканчивают, испытываю огромное облегчение. Если все пойдет, как я мечтаю, надеюсь и планирую, то мне больше никогда не придется выслушивать ничего про Общество Анонимных Алкоголиков и про Двенадцать шагов.
Я закрываю свою папку. Спрашиваю у Джоанны разрешения закурить, она смеется и говорит, что хотела спросить то же самое у меня. Мы закуриваем. Кен встает, говорит, что ему пора идти, я встаю, благодарю его за все, что он сделал для меня, жму ему руку, он желает мне удачи, говорит звонить, если возникнут вопросы или проблемы, я благодарю его еще раз, и он уходит. Я снова сажусь, Джоанна говорит.
Ты себя хорошо чувствуешь?
Да.
Рад?
Да.
С Братом связался?
Он заедет за мной завтра утром. С ним, наверное, приедет мой друг.
Что собираешься делать, когда выйдешь?
Съесть чертов чизбургер.
Она смеется.
Если бы ты сказал мне, что хочешь бургер, я бы тебе принесла.
Вы и так много сделали для меня.
Зайдешь завтра утром попрощаться?
Обязательно.
Прекрасно.
Я тушу сигарету, встаю, благодарю Джоанну, она говорит – не за что, и я выхожу из кабинета. Иду обратно по коридорам, возвращаюсь в палату и начинаю собирать свои вещи, хотя и собирать-то особенно нечего. Пара штанов. Пара футболок. Свитер, шлепанцы и кроссовки. Три книжки и зажигалка. Вещей кот наплакал, но они мои, и это все, что мне требуется. Когда я упаковал их в маленькую пластиковую сумку, входит Майлз. Он держит коричневый плотный конверт.
Тебе письмо.
Он протягивает конверт. Я сажусь на кровать.
Спасибо.
Пока Майлз распаковывает и собирает свой кларнет, я рассматриваю конверт. Гладкий, коричневый. Обратного адреса нет, на почтовом штемпеле значится Сан-Франциско. В графе получатель – мое имя и адрес клиники. Почерк простой и разборчивый, буквы широкие, размашистые, с петлями. Похоже на женскую руку. Я соображаю, есть ли у меня знакомые женщины в Сан-Франциско. Есть только одна, но она и говорить со мной не стала бы, не то что писать.
Вскрываю конверт. Делаю это очень аккуратно, строго по линии заклейки. Медленно разрываю, засовываю руку внутрь. Нащупываю небольшую пачку фотографий. Они стянуты резинкой. Вынимаю их из конверта. Первое фото черно-белое, на нем она. Белокурые волосы собраны, как она любит, в толстые косы, будто шелковые шнуры. Глаза голубые, как арктические льды. Стоит в своей комнате, в той самой, где мы впервые встретились, улыбается и держит в руках игрушечного зверя. Мне знакома эта фотография, когда-то у меня была такая. Я всегда носил ее в бумажнике. Еще до того, как мы стали встречаться, пока мы встречались, и после того, как мы расстались. Она прижимает к груди какого-то зверя, плюшевого льва, что ли. Волосы распущены, на лице никакой косметики, рот открыт широко, словно она хохотала в момент, когда фотограф ее щелкнул. Она прекрасна на этой фотографии. Прекрасна без изъяна.
Рассматриваю остальные фотографии. Вот мы идем по улице вдвоем. Держимся за руки и улыбаемся. Вот мы лежим на диване, я сплю, а она целует меня в щеку. Вот мы при полном параде, она в платье, я во взятом напрокат костюме. Поднимаем бокалы с шампанским. Вот мы сидим на солнышке под осенним деревом. Она читает книгу, я курю сигарету. Вот мы целуемся. Глаза закрыты, руки обнимают друг друга, губы слегка влажные. Мы с ней. Целуемся.
Я складываю фотографию стопкой. Стягиваю резинкой. Кладу обратно в конверт. Встаю и выхожу из палаты. Спускаюсь по лестнице, выхожу на улицу. Иду по дорожке в лес. Холодно, наступает вечер, а я без куртки. Начинаю дрожать, зуб на зуб не попадает.
Вхожу в лес. Иду по тропе, которая ведет к нашей поляне. Продираюсь сквозь вечнозеленые заросли, сквозь густую зелень, сквозь плотный подлесок. Оказываюсь на поляне.
Сажусь на землю. Она холодная, опавшие листья смерзлись и стали жесткими. Вынимаю из кармана двадцать два желтых листа, которые принес с собой. Перечитываю. Медленно, слово за словом. Воскрешаю все воспоминания. Кладу стопку на землю. Достаю из конверта фотографии, снимаю резинку и рассматриваю их. Медленно, фотографию за фотографией. Воскрешаю все воспоминания. Кладу фотографии вместе с конвертом на стопку исписанных желтых листов.
Вынимаю из кармана зажигалку. Нажимаю большим пальцем на кремень. Язычок синего пламени выскакивает на конце зажигалки, я подношу его к желтым бумажкам, жду, пока они не вспыхнут. Огонь цепляется за край бумаги и начинает расползаться. Я прячу зажигалку в карман.
Сижу и смотрю на огонь. Сижу и смотрю, как желтые листы краснеют от огня, чернеют и рассыпаются в пепел. Смотрю, как вспыхивают фотографии, корчатся в пламени и рассыпаются. Рассыпается ее лицо, охваченное пламенем. Я смотрю, как горит наше с ней общее прошлое. Я смотрю, как горят мои воспоминания о ней. С этим покончено на хер. Пора распрощаться.
Когда все догорает до конца, я встаю, ставлю ногу на горку тлеющего пепла и втираю его в землю. Втираю, пока от него не остается ни следа, не остается никаких признаков костра. Втираю, пока пепел этих воспоминаний не смешивается с землей и не исчезает.
Вечер наступил, стало совсем темно и холодно. Я пробираюсь обратно сквозь вечнозеленые заросли, сквозь густую зелень, сквозь плотный подлесок. Нахожу тропу, шагаю по ней через лес. Пересекаю поляну с замерзшей травой и беру курс на огни клиники. Подхожу к двери, захожу.
В отделении пусто. Смотрю на часы, которые висят на стене. Время ужина. Выхожу из отделения, иду по коридорам в столовую. Я не голоден и вполне обошелся бы без ужина, но я хочу увидеть Лилли.
Прохожу по коридору. Смотрю, не отрываясь, на женскую половину. Изучаю все столики, но ее нигде нет. Смотрю внимательнее. Ее нигде нет. Смотрю за столик, где сидит начальница ее отделения, но и там Лилли нет.
Я подхожу к стойке с подносами, и тут замечаю ее. Она идет мне навстречу, улыбается, откидывает прядь волос с глаз. Под глазами у нее черные круги, но прозрачная синева сияет. Я стою на месте, жду ее, она проходит мимо, не сказав ни слова, только нежно коснувшись моего плеча на ходу. Я оборачиваюсь и смотрю ей вслед. Она не оглядывается. Я ловлю взгляд ее начальницы, которая хмурится и укоризненно качает головой, словно говорит – я все видела, и чтобы этого больше не повторялось. Я улыбаюсь, отхожу. Беру чашку кофе, ищу своих друзей. Они направляются ко мне с подносами. У Матти и Теда вид совершенно несчастный. Они буркают «привет» и проходят мимо. Майкл и Майлз идут позади, я присоединяюсь к ним и иду к конвейеру.
Майлз говорит.
Поздновато ты.
Дела были.
Говорит Майкл.
Может, оно и к лучшему.
Почему?
Ужин был очень невеселый.
Что случилось?
Говорит Майлз.
Тед узнал, что через три дня его выписывают, а у Матти жена пропала.
Черт подери.
Говорит Майкл.
Сам понимаешь, не до веселья.
Черт.
Они убирают свои подносы. Мы идем по коридорам. Они направляются на лекцию, а я в палату. Сажусь на кровать, беру книжку про Дао, залезаю под одеяло и читаю.
Глава семьдесят девять. Неудача – это новая возможность. Если ты обвиняешь других, ты никогда не прекратишь обвинять. Исполняй свои обязательства, исправляй свои ошибки. Делай, что должно, и ничего не требуй от других.
Глава шестьдесят четыре. То, что пустило корни, прорастет. То, что еще не показало себя, легко исправить. То, что хрупко, разрушится. Наведение порядка нужно начинать, когда еще нет смуты. Действие надо начинать с того, чего еще нет. Большое дерево вырастает из маленького семени. Путь в тысячу миль начинается с одного шага. Кто спешит – потерпит неудачу. Кто цепляется за что-то – тот потеряет. Действуй, когда действие находит тебя. Сохраняй спокойствие, когда начинаешь и завершаешь дело. Кто ничего не имеет, тот ничего не теряет. Желай не иметь желаний, учись у тех, кто неучен. Не заботься ни о чем – так ты позаботишься обо всем.
Слова эти так же верны сегодня, как и когда я прочел их в первый раз. Они не учат меня, как надо жить и что делать, как не надо жить и чего не делать, они просто говорят мне – будь тем, кто ты есть, позволь жизни меняться и сам меняйся вместе с жизнью. Очень верные слова.
Глава двадцать два. Ущербное становится совершенным. Кривое становится прямым. Пустое становится полным. Если хочешь стать совершенным, прямым и полным, сначала должен быть ущербным, кривым и пустым. Если хочешь возродиться, сначала должен умереть. Если хочешь достичь многого, откажись от всего. Не прославляй себя – и получишь заслуженную славу. Не считай правым только себя – будешь обладать истиной. Не пытайся стать кем-то – и люди увидят в тебе себя. Если у тебя нет цели – ты всегда добьешься успеха.
Глава сорок один. Человек высшей учености, узнав о Дао, стремится к его осуществлению. Человек средней учености, узнав о Дао, то соблюдает его, то нарушает. Человек низшей учености, узнав о Дао, подвергает его осмеянию. Если бы оно не подвергалось осмеянию, не являлось бы Дао. Поэтому говорят – путь к свету проходит во тьме. Путь вперед ведет назад. Истинная сила похожа на слабость, истинная чистота похожа на ее отсутствие, истинная решимость похожа на неуверенность, великий просвещенный похож на презираемого. Великое искусство неискушенно, великая любовь бесстрастна, великая мудрость наивна.
В палату входит Майлз. Я закрываю книгу. Он подходит к своей кровати, берет кларнет, спрашивает, не возражаю ли я, если он поиграет. Я говорю – пожалуйста, мне нравится, как ты играешь. Он облизывает губы, прикладывает трубку ко рту и дует в нее. Я закрываю глаза. Плывут звуки. То долгие и медленные. То быстрые и короткие. Я слышу мелодию, которая рождается не из черных крючков на бумаге, а из бьющегося человеческого сердца. Я слышу печаль, стыд, надежду и раскаяние. Слышу прошлое, которого больше нет, и будущее, которое никогда не наступит. Слышу гармонию, искренность и терпение, слышу самоотречение и сострадание. Слышу все это сейчас. В этот самый момент в этой клинике, в этой палате, сидя на этой кровати, с закрытыми глазами.
Я слышу это.
Прямо сейчас.
Часы на тумбочке Майлза показывают три часа сорок семь минут.
Я окончательно проснулся.
Ощущение, будто в палате Призрак. Призрак, который хочет меня убить. Медленно и мучительно. Убить меня.
Сажусь. Оглядываю комнату. Темно, но я вижу в темноте. Майлз спит на своей кровати. Дверь закрыта, окно тоже. Все так, как было, когда я засыпал. И все же что-то не так, ощущение, будто в комнате кто-то есть.
Встаю с кровати. Иду в ванную. Брызгаю в лицо холодной водой. Снова и снова. Не помогает. Все равно я чувствую присутствие Призрака.
Выхожу из ванной, одеваюсь. Беру куртку Хэнка, пачку сигарет, зажигалку. Выхожу из палаты.
Прохожу через отделение. Кругом тихо, все еще спят. Выхожу на улицу. Чувствую, что кто-то преследует меня.
Иду к скамейкам возле озера. Сажусь на среднюю. Зажигаю сигарету, смотрю на застывшую воду. Тихую, черную, неподвижную. Палочки и листья вмерзли в нее – попались в ловушку. Изредка летучие мыши шныряют над ее поверхностью.
Призрак начинает обретать форму. Так проявляет себя страх. Я не борюсь с ним, даже не пытаюсь. Не думаю, что смог бы побороть его, если б даже захотел.
Мне страшно. Мне страшно уезжать отсюда. Мне страшно лишиться защиты и безопасности, которую дают эти стены. Мне страшно садиться в тюрьму. Я боюсь того, что ждет меня там. Я боюсь алкоголя и наркотиков и того, что начну употреблять их. Я боюсь того, что произойдет, если начну употреблять их. Я боюсь того, что произойдет, если не начну употреблять их. Я боюсь, боюсь, боюсь. Боюсь всего. Меня пугают мысли о сексе, о работе, о деньгах, о крыше над головой. Мне страшно думать, как обходиться со всем этим, мне страшно думать, как обходиться без всего этого. Я боюсь Лилли. Я боюсь любить ее, боюсь позволить ей любить меня. Боюсь остаться с ней, боюсь потерять ее, боюсь жить с ней, боюсь жить без нее. Боюсь, что мое сердце будет разбито. Боюсь ее хрупкости и привязанности ко мне. Я боюсь жизни. Я боюсь смерти. Я боюсь жизни. Мне страшно.
Я сижу, смотрю на озеро. Курю. Смотрю, как сереет небо, солнца не видно. Спрашиваю у гряды густых серых облаков, что мне делать. Спрашиваю у летучих мышей. Спрашиваю у травы, у льда, у вмерзшей в него ветки, у дохлого червяка, у скамеек. У всех трех скамеек по очереди. Что мне делать.
Страх – всего лишь страх. Я знаю, что ничто не может причинить мне боль сильнее той, которую я уже испытал. Я знаю, что нет такой боли, которую я не способен вынести. Я знаю, что если держаться минуту за минутой, час за часом, день за днем – а из дней складываются недели, месяцы и годы, – то все будет хорошо. Я знаю, что я сильный. Я знаю, что у меня хватит сил справиться с тем, чего я боюсь, и что у меня хватит сил продержаться, пока страх не уйдет. Я верю в это в глубине своего сердца.
Я смеюсь. Громко, в полный голос. Ответы на мои вопросы просты, если я не буду их усложнять. Они находятся прямо у меня под носом, нужно только разглядеть их. Я боюсь всего на свете. Я боюсь, потому что позволяю себе бояться. Ничего, что пугает меня, не существует. Я смеюсь громко, в полный голос, потому что это так просто. Просто, как дважды два. Ничего, что пугает меня, не существует на хер.
Я встаю, иду обратно в отделение. Открываю дверь, захожу внутрь. Люди уже проснулись. Выполняют утреннюю работу, читают газеты, пьют кофе, курят сигареты. Я подхожу к шкафу, вырываю из блокнота желтый лист, беру авторучку из кружки. Кладу их в карман и иду к себе в палату.
Майлз стоит у своей кровати. Он оборачивается и смотрит на меня.
Привет, Джеймс.
Привет.
Рад, что уезжаешь?
Я улыбаюсь.
Рад. А ты рад, что увидишь жену?
Очень.
Надеюсь, у вас все наладится.
У меня такое чувство, что должно.
Я снова улыбаюсь.
Вот и хорошо.
Достаю из кармана бумагу и ручку.
Хотел спросить – не дашь ли мне свой телефон и адрес?
Если ты дашь свои.
У меня пока нет ни того, ни другого.
Когда появятся, пришлешь?
Конечно, но я дам тебе знать о себе даже раньше.
Очень надеюсь.
Он берет ручку, бумагу, садится на кровать. Кладет бумагу на колено и пишет номер телефона и адрес. Потом встает, отдает мне бумагу и ручку. Он говорит.
Знакомство с тобой, Джеймс, это честь для меня. Я благодарен тебе за все, что ты дал мне. Я желаю тебе всего наилучшего. Ты можешь всегда на меня рассчитывать, если тебе вдруг понадобится помощь.
Впервые в жизни мне говорят, что знакомство со мной – это честь.
Он смеется.
Спасибо тебе за твою помощь, Майлз. Хоть ты и не признаешься, но я знаю, что ты помог мне с Огайо, и на всю жизнь перед тобой в долгу.
Он улыбается.
Ты отличный друг, и я буду скучать по тебе.
Он кивает.
Я тоже буду скучать, Джеймс.
Он протягивает руку, я пожимаю ее. Потом мы обнимаемся, Майлз говорит – удачи, Джеймс, я говорю – и тебе удачи, Майлз.
Пойдем на завтрак?
Я киваю.
Да.
Мы выходим. Идем по коридорам, входим в стеклянный коридор, который отделяет мужчин от женщин. Я ищу Лилли, но ее нет в зале. Мы выходим из коридора, Майлз берет поднос, тарелку с яйцами и сыром, а я чашку кофе. Мы идем за наш стол, за которым сидим всегда. В углу.
Я сажусь, пью кофе и высматриваю Лилли. Майлз ест яйца и сыр. К нам подсаживаются Матти, Майкл и Тед, я прошу их записать мне свои адреса и телефоны. Майкл дает и то и другое, Матти только адрес, без телефона, а Тед ни того ни другого. Я прошу Матти расписаться, он спрашивает – зачем, я отвечаю, что хочу иметь его автограф, он смеется и говорит, что теперь он не такая важная персона на хер, чтобы раздавать автографы. Я говорю – распишись, для меня ты именно такая персона. Он улыбается и пишет «Джеймсу, от хренового чемпиона этого чертова наркоманского центра. Надеюсь, мы не так скоро сдохнем и может еще не раз встретимся, это было бы просто охуенно. Твой друг Матти Джексон, в прошлом абсолютный чемпион мира в легком весе».
Я беру листок и прячу в карман, поглубже. Потом отпиваю глоток кофе и жду. Отпиваю еще глоток и жду.
Наконец, вижу Лилли, она идет по коридору. С ней начальница ее отделения, так что она не смотрит на меня. Я наблюдаю, как она становится в очередь, берет поднос, ставит на него чашку кофе и тарелку с пончиком. Смотрю, как она проходит в женскую половину, садится за стол. Начальница заставляет Лилли сесть спиной ко мне.
Я встаю, прощаюсь с друзьями. Они спрашивают, когда увидимся снова, я отвечаю – только в большом мире. Обнимаю всех по очереди. Благодарю за дружбу, желаю удачи, говорю – надеюсь, все у вас наладится.
Беру чашку, ставлю ее на конвейер. Я стою, смотрю, как она уезжает навстречу чистоте. Это последняя чашка кофе, которую я выпил здесь. Прощаюсь и с ней. Поворачиваюсь, прохожу в коридор. Мой взгляд прикован к Лилли, хоть она и не видит меня. Пройдя до половины коридора, я останавливаюсь, оборачиваюсь и смотрю сквозь стеклянную стену.
Стол Лилли шагах в тридцати от меня. До него еще четыре или пять столов, всего в женской половине около тридцати столов. Все заняты. Я стою и смотрю. Стою и смотрю. Смотрю на затылок Лилли, на ее длинные прекрасные волосы, на руку, которая подносит пончик ко рту. Женщина за соседним столиком указывает на меня, и все по очереди, следуя за ее рукой, оборачиваются и смотрят на меня. Наконец, начальница отделения поднимает голову и смотрит на меня. Я не двигаюсь с места. Любуюсь прекрасными черными волосами Лилли, ее прекрасной рукой. Я улыбаюсь тому, что она ест пончик, думаю – как это славно. Начальница отделения жестом показывает мне, чтобы я уходил, но я не двигаюсь с места.
Лилли замечает, что начальница смотрит куда-то и машет рукой, она оборачивается и видит меня. Она улыбается. Я любуюсь ее прекрасным лицом, прекрасными алыми губами, прекрасной бледной кожей, синими прозрачными, как родниковая вода, глазами. Прекрасными, прозрачными, как родниковая вода, синими глазами. Я ничего, кроме нее, не вижу. Прекрасная Лилли.
Она отворачивается. Вижу, как начальница что-то ей говорит, но не могу разобрать, что. Судя по всему, Лилли ей отвечает. Начальница отделения опять что-то говорит. Слов не разобрать, но вижу выражение ее лица. Она сердится все сильнее. Лилли снова отвечает, потом встает, резко отодвигает стул и идет к выходу из зала. Начальница отделения вскакивает, что-то кричит ей вслед. Лилли не обращает на нее внимания, продолжает идти к выходу. Я встречаю ее в коридоре. Улыбаюсь, пока она идет навстречу мне. Сам иду навстречу ей. Сердце колотится как сумасшедшее. Я улыбаюсь, она улыбается. Ускоряет шаг. Она прекрасна, так прекрасна. И внешне, и внутренне. Я люблю ее. Она идет ко мне. Люблю ее.
Распахиваю руки. Она влетает в мои объятия. Я сжимаю ее, сжимаю крепко, изо всех сил. Она обнимает меня. У нас нет слов. Вокруг нас тишина, рядом с нами ни души. Я слышу, как бьется ее сердце. Я знаю, что она слышит, как бьется мое сердце. Все остальное ерунда. Больше ничего не существует. Только я и она. Ее сердце и мое сердце. Ее сердце и мое сердце. Я целую ее в шею, вдыхаю запах ее волос, сжимаю ее тело, такое худенькое, хрупкое. Слышу, как она плачет, уткнувшись мне в плечо, тихонько всхлипывает, ее слезы скатываются с ее щеки мне на шею, на рубашку. Я шепчу – люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я шепчу – люблю тебя – прямо ей в ухо. Она поднимает голову, не покидая моих объятий. Она поднимает голову, чтобы увидеть мое лицо, а я видел ее лицо. Она улыбается, а слезы струятся по щекам. Губы дрожат, глаза от слез стали еще синее. Я улыбаюсь ей. Говорю.
Я люблю тебя, Лилли.
Я люблю тебя, Джеймс.
Я буду скучать.
Когда ты уезжаешь?
Уже скоро.
Куда поедешь?
В Огайо, в тюрьму.
Нет.
Всего на несколько месяцев. Я буду писать тебе каждый день и позвоню при первой возможности.
Нет.
Ты будешь получать мои письма каждый день. А когда освобожусь, я сразу приеду в Чикаго.
Я останусь одна.
Нет, не останешься.
Неправда.
Ты обещаешь?
Клянусь нашим словом.
Каким словом?
Навсегда.
Она улыбается.
Мне нравится это слово.
Помни его.
Я буду скучать. И переживать за тебя.
Думай только о том, чтобы скорее поправиться, больше ни о чем. Со мной все будет хорошо, и я приеду к тебе сразу, как только меня выпустят из тюрьмы.
Я люблю тебя, Джеймс.
Я люблю тебя, Лилли. Я люблю тебя.
Она тянется ко мне и закрывает глаза. Я закрываю глаза и наклоняюсь к ней. Наши губы смыкаются, нежно, ласково, медленно, наши губы смыкаются, наши руки сжимают друг друга, жизнь хороша, а будет еще лучше. В объятиях друг друга жизнь хороша. А будет еще лучше.
Мы отстраняемся. Открываем глаза. Я смотрю в глубокую синеву. Она смотрит в светлую зелень. Я провожу рукой по ее щеке. Когда рука соскальзывает вниз, отступаю назад. Глубокая синева и светлая зелень. Я улыбаюсь. Поворачиваюсь и ухожу.
Пока иду по стеклянному коридору, который уводит меня от Лилли, я знаю, что она стоит там, где я оставил ее, и ждет, что я оглянусь и скажу «до свидания». Я знаю, что если сделаю это, то мое сердце не выдержит. Я знаю, что если сделаю это, то расплачусь. Я знаю, что если сделаю это, то сделаю то, чего никогда не делал раньше. Оглянусь и скажу «до свидания».
Стеклянный коридор заканчивается. Я останавливаюсь, оглядываюсь и смотрю на Лилли. Она улыбается, а по щекам струятся слезы. Я говорю – я люблю тебя, и знаю, что она поняла меня, хоть и не слышала. Она улыбается и плачет. Я поднимаю руку. Прижимаю ее к груди и говорю «до свидания». Она кивает. Я сжимаю руку в кулак и говорю – поправляйся. Она кивает. Я стою, смотрю на нее и улыбаюсь. Она стоит, смотрит на меня и плачет. Я вижу ее глаза отсюда. Я буду тосковать по этим глазам. Глубокая прозрачная синева. Я буду тосковать по этим глазам.
Я поворачиваюсь, стеклянный коридор остается позади, но не образ Лилли, он не исчезает. В моем сердце, в моей памяти до конца жизни останется образ прекрасной Лилли, которая стоит одиноко и плачет, и улыбается. Дорогая Лилли.
Прохожу по коридорам, захожу в свою палату. Беру куртку Хэнка и свою маленькую черную сумку, в которой лежат все мои пожитки. Выхожу из палаты и иду в кабинет Джоанны. Стучу в дверь. Она отвечает – входите.
Открываю дверь, вхожу. Джоанна и Хэнк сидят рядом на диване. Они пьют кофе, Джоанна еще и курит. Она улыбается и говорит.
Привет.
Я иду к стулу напротив них.
Привет.
Я сажусь. Хэнк говорит.
Мы уж тебя заждались.
Я завтракал.
Говорит Джоанна.
И как завтрак?
Он был восхитительным.
Она улыбается.
Ни разу не слышала, чтобы здешнюю стряпню называли восхитительной.
Я улыбаюсь.
И тем не менее. Завтрак был восхитительным.
Говорит Хэнк.
Ты собрался?
Да.
Боишься?
Боялся, но уже перестал.
Говорит Джоанна.
Чего ты боялся?
Всего.
Как тебе удалось перестать бояться?
Просто решил перестать бояться, и все.
Так просто?
Так просто.
Я беру куртку и бросаю ее Хэнку.
Возвращаю тебе куртку. Спасибо, что выручил.
Он бросает ее мне обратно.
Оставь ее у себя.
Я снова бросаю ему.
Спасибо, но нет. Пусть остается у тебя, а когда я приеду к вам, снова дашь мне ее поносить.
Согласен, но при одном условии.
Каком же?
Ты приедешь сюда чистым, как гость, а не как пациент.
Будь уверен в этом, старина.
Он улыбается.
Ах ты, сукин сын, узнаю своего мальчишку.
Говорит Джоанна.
Выбирай выражения, Хэнк.
Хэнк поворачивается к ней.
Теперь я имею право выражаться при нем. Он больше не пациент.
Он пациент, пока не выйдет из клиники.
Хэнк поворачивается ко мне.
Ты обиделся, что я назвал тебя сукин сын?
Я улыбаюсь.
Я бы обиделся, если б ты этого не сделал.
Хэнк смеется, хлопает себя по колену.
Ах ты, сукин сын.
Я смеюсь. Джоанна говорит.
Ты договорился, чтобы тебя забрали?
Да.
Ты уже оформил выписку?
Нет.
Тогда нужно пойти это сделать.
Я киваю.
Знаю.
Она встает.
Обнимемся?
Я встаю.
Конечно.
Делаю шаг вперед и обнимаю ее. В этом объятии есть чувство, уважение, симпатия. Чувство порождается искренностью, уважение порождается преодоленными трудностями, симпатия порождается соприкосновением умов, сердец и душ. Наши умы, сердца и души соприкоснулись.
Мы расходимся. Ко мне подходит Хэнк.
Я не мастер говорить слова, малыш.
Он обнимает меня с такой силой, что становится больно. Мои руки прижаты по швам, поэтому я не могу ответить на его объятие, но вряд ли ему это нужно. Он отпускает меня, отходит и кладет руку на плечи Джоанны. Он говорит.
Сделай так, чтоб мы гордились тобой, малыш.
Постараюсь.
Стараться мало. Нужно сделать. Хочу, чтобы через год ты снова прогулялся в этой чертовой куртке.
Говорит Джоанна.
Хэнк.
Он смотрит на нее.
Он же больше не пациент.
Джоанна качает головой, поворачивается ко мне.
Держи нас в курсе.
Я киваю.
Хорошо.
Поворачиваюсь и выхожу из кабинета. Закрыв дверь, прохожу по коридорам. Иду в административный блок, оформляю выписные документы. Ставлю подпись внизу страницы, и готово. Сотрудник говорит мне, что я свободен.
Выхожу из кабинета, иду по короткому коридору. Вхожу в вестибюль, где когда-то сидел с родителями, давно, в другой жизни. Здороваюсь с дежурной, она отвечает. Из окна вижу, что серый фургон моего Брата – комфортабельный фургон для путешествий, популярный у загородных жителей, – припаркован у входа. Открываю дверь, выхожу из клиники. Я свободен.
Брат, заметив меня, выходит из машины. Он улыбается и говорит.
Все путем, парнишка?
Все путем, засранец.
Мы обнимаемся. Настоящее крепкое братское объятие. Пассажирская дверь открывается, появляется мой приятель Кевин. Он моего роста, с короткими темными волосами и недавно выросшим пивным животиком. Он зарабатывает продажей коммерческий недвижимости, но когда не на работе, одевается как бомж. Он улыбается и говорит.
Как дела?
Ничего. А твои как?
Вот приехал убедиться, что ты в порядке.
Я улыбаюсь.
В порядке.
Мы обнимаемся. Брат говорит.
Можем ехать?
Да, давай уже свалим отсюда.
Я беру сумку, открываю дверь и сажусь на заднее сиденье. Боб с Кевином садятся вперед, Боб заводит машину, мы трогаемся. Я оглядываюсь, смотрю через заднее окно, как удаляется клиника. Я свободен. Свободен. Свободен.
Когда клиника исчезает из вида, отворачиваюсь от окна. Сразу же рождается Ярость, как будто стены клиники держали ее под контролем, как будто моя свобода означает свободу для нее, как будто мои выписные документы – для нее свидетельство о рождении. Она растет быстро и беспрепятственно, и хотя снаружи это незаметно, внутри я весь дрожу.
Кевин оборачивается ко мне, смотрит и говорит.
Как самочувствие?
Я замечаю, что Боб смотрит на меня в зеркало заднего вида.
Не знаю.
Боб говорит.
В смысле?
Не знаю.
Кевин говорит.
Чего-нибудь хочешь?
Хочу в бар.
Чего?
Хочу в бар.
Ты шутишь, черт тебя подери.
Нет, не шучу.
Мой Брат Боб изучает меня в зеркало заднего вида. Кевин смотрит на Боба, Боб на Кевина. На их лицах тревога, смятение, огорчение. Боб оглядывается и отрицательно качает головой.
Мы не пойдем в бар.
Вы, может, и не пойдете, а я пойду.
Ты только что выписался из рехаба.
Я пойду в бар.
Ты же только что выписался из рехаба.
Я пойду в бар. Вы можете пойти со мной, можете не ходить, меня любой вариант устроит, но даже не пытайтесь отговаривать меня. Я пойду, черт подери, в бар.
Боб смотрит на Кевина, Кевин на Боба. Кевин пожимает плечами, Боб качает головой. Я закуриваю сигарету и опускаю окно. Пусть холодно, но мне нравится свежий воздух. Воздух свободы.
Поездка занимает час. Все молчат. Я смотрю в окно. Время от времени высовываю голову в окно, и морозный воздух хлещет по лицу. Больно, но приятно, я делаю это, потому что могу делать. Нет больше инструкций и правил, которым нужно подчиняться, нет больше наставников, начальников и психологов, которые требуют ответа, я сам сочиняю программу своей жизни и сам проживаю свою жизнь. Так было до клиники, так будет после клиники, так будет до самого конца, я буду отвечать только перед собой.
Мы съезжаем с шоссе на дорогу, которая ведет в город. Я смотрю на часы на приборной панели, на них половина двенадцатого. Спрашиваю у Боба, не знает ли он, что сейчас открыто из заведений, он говорит – знаю. Я говорю, что предпочел бы место, где есть чизбургеры и бильярдный стол. Он не реагирует. Просто смотрит в переднее окно перед собой.
Ярость выросла, достигла предела. Она не такая, как раньше, сейчас она другая. Она стала упорней, спокойней, терпеливей. Более уверенная и властная. Как будто не сомневается в своей победе надо мной. Как будто борьба со мной укрепила ее мощь. Как будто она знает, что ее время наступило, как будто она только и ждала момента, чтобы вырваться.
Я не борюсь с ней. Я не спорю с ней. Сижу и жду, ожидаю, когда мы приедем на место событий. Сижу и жду, берегу силы для того, что произойдет, когда я зайду в бар. Ярость небывало сильная, как никогда раньше. Я сижу и жду, что произойдет.
Боб заезжает на маленькую парковку. Рядом с ней большое кирпичное здание, с высокими темными окнами по всему фасаду. Неоновая вывеска «Бильярд, бар и гриль».
Мы вылезаем из фургона. У меня нет денег, и я прошу Боба одолжить мне. Он спрашивает, сколько нужно, я говорю – сорок баксов. Он спрашивает, почему так много, я говорю – потому что нужно. Он достает бумажник из кармана, открывает его и дает мне две двадцатки. Я благодарю.
Мы пересекаем парковку, по дорожке доходим до двери, я открываю ее. Пропускаю Боба и Кевина вперед, потом захожу сам.
В зале темно. Несколько столов, справа вдоль стены тянется потертая дубовая стойка, слева зал с шестью бильярдными столами. У бильярдных столов скучает официантка, смотрит телевизор, который подвешен к потолку. За барной стойкой бармен сидя читает газету. Никто не обращает на нас внимания.
Я говорю Бобу и Кевину.
Почему бы вам, ребята, не поиграть в бильярд.
Брат смотрит на меня.
А ты что будешь делать?
Мне нужно немного побыть одному.
Его лицо выражает испуг и разочарование. Это меня не касается. Настал момент поквитаться. Настал момент поквитаться с Яростью.
Я отворачиваюсь, иду к бару. Опускаю стул пониже, сажусь. Передо мной зеркала и бутылки. Зеркала во всю стену, от потолка до полок с бутылками. Тут и виски, и водка, и джин. Тут и ром, и текила, и непонятные напитки из разных стран. Бутылки прозрачные и коричневые, красные и синие, есть даже разноцветные, чтобы радовать глаз. Одни бутылки повыше, другие пониже, одни пузатые, другие узкие. И во всех спиртное. Вот оно, черт подери, передо мной. На любой вкус, на любой цвет. Я смотрю на бармена и говорю.
Приятель.
Он смотрит на меня.
Да.
Не нальешь?
Конечно.
Он откладывает газету и подходит ко мне. Останавливается напротив и говорит.
Как дела?
Мне не до разговоров.
У тебя плохое настроение?
Мне не до разговоров.
Что налить?
Я окидываю взглядом бутылки. Прекрасные бутылки со спиртным. Стараясь не смотреть в зеркало, на себя, позволяю взгляду блуждать по бутылкам, пока он на чем-то не остановится. Взгляд выхватывает черную бутылку. Пузатую черную бутылку с тонким горлышком, бурбон из Кентукки. Этой бутылки больше всего жаждет моя Ярость, бутылки, с которой она лучше всего знакома. Я указываю на черную бутылку, смотрю на бармена и говорю.
Стакан бурбона. Большой стакан. Не этот ваш вшивый бокальчик для коктейлей, а хорошую добрую пинту. И налить с верхом.
Дороговато будет.
Я кладу на стойку бара сорок долларов, которые дал мне Брат.
Наливай.
Бармен смотрит на меня, как на сумасшедшего, и будто размышляет, стоит ли выполнять мой заказ. Я смотрю на него и взглядом даю ему понять, что не уйду, пока не получу свое. Он отворачивается. В одну руку берет высокий стакан, в который влезает пинта, а другую протягивает за черной бутылкой.
Я наблюдаю за тем, как он наливает. Словно в замедленной съемке, вижу каждую каплю в струе. Когда бокал наполняется до краев, он поворачивается и ставит его передо мной.
Спасибо.
Если понадобится что-нибудь еще, я рядом.
Спасибо.
Он возвращается к своей газете. Я смотрю на стакан. Ярость обретает голос, кричит – ты, мерзкий убийца, она сильней, чем когда-либо прежде. Она кричит – ты подо мной, ублюдок. Ты мой с потрохами, и да будет так. Я имею тебя, владею тобой, и ты сделаешь, что я прикажу. Ты подо мной и всегда будешь под мной, ублюдок. Я смотрю на стакан.
Кладу руки на барную стойку. По обе стороны от стакана. Не прикасаясь к нему, но почти вплотную. Так близко, что, когда приму решение, стакан будет под рукой. Наклоняю голову. Нос приближается к коричневому крепкому напитку, я чувствую запах, исходящий от мерцающей поверхности. Он возбуждает меня. Заставляет Ярость визжать громче. Дразнит меня. Притягивает.
Я закрываю глаза. Перестаю наклонять голову, когда уже касаюсь носом жидкости. Закрыв рот, делаю глубокий вдох, и длю его, длю. В меня проникает прекрасный аромат забвения. Зловонный, тлетворный дух ада. Он вызывает у меня дрожь, сотрясает меня изнутри и снаружи, он сокрушает и укрепляет меня. Хотя жидкость не коснулась моих губ, не проникла в тело, я ощущаю ее вкус. Гремучая смесь сладковатого угля с горьким бензином. Я могу, твою мать, взять ее в рот.
Время останавливается. Я не двигаюсь. Сижу, окунув кончик носа в стакан, до краев полный бурбона. Вдыхаю его запах. Глубоко, всей грудью. Вдох, выдох. Грудь вздымается, когда я вдыхаю, опускается, когда выдыхаю. Я чувствую запах, вкус, градус. Вдох, выдох. Ярость визжит – возьми стакан, возьми стакан. Ярость визжит – выпей, выпей, выпей. Ярость визжит – скорей, скорей, скорей. Ярость визжит – ты же хочешь, жаждешь, жить не можешь без этого, я имею тебя, ублюдок, возьми и выпей, ублажи меня, иначе поплатишься. Скорей, скорей, скорей.
Я открываю глаза. Перед глазами ободок стакана, коричнево-янтарная жидкость, в нее окунается мой нос. Начинаю медленно поднимать голову. Смотрю прямо перед собой, фиксирую взгляд на одной точке, не мигаю. Жидкость исчезает из поля зрения, ободок стакана тоже. Перед глазами только полки с бутылками, край зеркала. Перевожу взгляд выше, вижу подбородок, губы, нос. Перевожу взгляд выше, вижу нижнее веко, ресницы, белок. Перевожу взгляд выше. Вижу светлую зелень. Смотрю в самый центр. Фиксирую взгляд. Не мигаю.
Смотрю внутрь себя. В собственные глаза. Передо мной стакан бурбона. Хоть я его больше не вижу, знаю, что он там. Кладу обе руки на стакан. Сжимаю его в ладонях. Смотрю в себя. В светлую зелень собственных глаз.
Ярость визжит. Пронзительно, как никогда раньше. Визжит все громче и требовательней, от злости, отчаяния, ненависти и голода. Она визжит – возьми стакан, ублюдок. Возьми этот грёбаный стакан.
Я должен принять решение. Простое решение. И ни при чем здесь ни Бог, ни Двенадцать шагов. Только двенадцать ударов моего сердца. Да или нет. Очень простое решение. Да или нет.
Я смотрю в себя. В светлую зелень собственных глаз. Мне нравится то, что я там вижу. Меня это успокаивает. Взгляд прямой, сосредоточенный. Глаза не мигают. Впервые в жизни мне нравится то, что я вижу в собственных глазах. Я могу жить с этим. Я хочу жить с этим. Долго-долго. Я хочу жить с этим. Я хочу жить.
Ярость кричит – ты подлый убийца. Светлая зелень спокойно отвечает. Она отвечает – теперь ты моя, грязная мерзавка. Теперь я имею тебя, и всегда будет так. Отныне я владею тобой, подчиняю себе, ты будешь делать, что я прикажу. Отныне я принимаю решения, черт подери, а не ты. Ты подо мной и всегда будешь подо мной. Ты подо мной, мерзавка.
Я выпускаю стакан из рук. Смотрю на бармена. Он сидит на своем стуле, читает газету. Я говорю.
Приятель.
Он поднимает голову.
Да.
Вылей это дерьмо.
Что?
Я указываю на стакан.
Вылей это дерьмо в унитаз. Я не хочу.
Он смотрит на меня, как будто я повредился умом. Я смотрю на него, позволяю удостовериться, что я в своем уме. Он встает, идет ко мне. Я встаю и выхожу. Оставляю стакан на барной стойке рядом с двумя двадцатками.
Иду в бильярдный зал. Мой Брат Боб и мой приятель Кевин доигрывают партию. На столе один шар, восемь шаров в углу. Я сажусь у стены на стул. Рядом с ним стол, на столе пепельница. Закуриваю.
Брат прицеливается, чтобы сделать удар, и замечает краем глаза меня. Он поднимает голову и говорит.
Все в порядке?
Да.
Что ты там делал?
Ничего.
Выпил?
Нет.
Зачем же заказывал?
Так нужно было.
Но ты даже не притронулся?
Я и притронулся, и понюхал, но не пил. С этим покончено. Раз и навсегда.
Брат улыбается.
Поздравляю, парнишка.
Я улыбаюсь.
Спасибо.
Когда Брат прицеливается, я говорю, что хотел бы сыграть с победителем. Кевин спрашивает, когда я в последний раз играл, отвечаю – давно. Он спрашивает, в форме ли я, отвечаю – в отличной форме. Он переспрашивает – ты уверен в себе. Я отвечаю – да, уверен.
Да, я уверен в себе.
Майкл вернулся на работу в свой университет. Через три недели был арестован за контакт с проституткой и хранение кокаина в виде крэка. Умер от заражения крови в результате пулевого ранения.
Рой напал на двоих детей с бейсбольной битой. Был приговорен к пятидесяти годам пребывания в учреждении для душевнобольных преступников в Висконсине.
Уоррен пьяным ловил рыбу во Флориде и упал в воду с лодки. Его тело так и не нашли.
Лысый Коротышка запил через восемь недель после возвращения домой. Жена выгнала его из дома, его местонахождение неизвестно.
Бобби найден мертвым в Нью-Джерси. Он был убит выстрелом в затылок.
Джона поймали с четырнадцатью унциями кокаина в Сан-Франциско. Он отбывает пожизненный срок без права обжалования в тюрьме строгого режима Сан-Квентин в Сан-Франциско.
Эда забили насмерть во время пьяной драки в баре Детройта.
Тед был схвачен полицией в Миссисипи. Он отбывает пожизненный срок без права обжалования на ферме Ангола в Луизиане.
Матти застрелен неподалеку от крэкового притона в Миннеаполисе.
Майлз жив и здоров, продолжает служить судьей. Он женат, у него родился второй ребенок, дочь по имени Элла, рецидивов никогда не было.
Леонард умер от СПИДа. Он оставался чистым до самой смерти.
Лилли покончила с собой в «Доме на полпути», в Чикаго. Она повесилась через пять дней после того, как умерла ее бабушка, в тот самый день, когда Джеймс вышел из тюрьмы. Судя по всему, она оставалась чистой до самой смерти.
Линкольн по-прежнему работает в клинике.
Кен по-прежнему работает в клинике.
Хэнк и Джоанна поженились. Оба по-прежнему работают в клинике.
У Джеймса никогда не было рецидивов.
Сноски
1
Один из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века, чья карьера длилась более 40 лет. Преимущественное актёрское амплуа Хэкмена – представители закона и военные. – Прим. пер.
Вернуться
2
Уильям Гриффит Уилсон (англ. William Griffith Wilson) также известный как «Билл У.», вместе с Робертом Смитом создал первое сообщество Анонимных Алкоголиков, которое впоследствии разрослось до более чем 100 тыс. групп во всех странах мира, включающих в себя более 2 млн человек. После смерти Уилсона в 1971 году его имя было включено в список 100 величайших людей XX века, по версии журнала Time. – Прим. перев.
Вернуться
3
Имеется в виду право хранить молчание. – Прим. пер.
Вернуться
4
Учреждение для реабилитации отбывших наказание заключённых, вылечившихся наркоманов, алкоголиков, психических больных. – Прим. пер.
Вернуться
5
Категория мелких уголовных преступлений, граничащих с административными правонарушениями. Наказанием за большую часть таких преступлений обычно является штраф или лишение свободы на срок до 1 года. Единого для всех штатов определения таких преступлений нет. К ним могут относиться: нарушение правил уличного движения, мелкая кража, хулиганство. – Прим. пер.
Вернуться
6
Тюрьма штата Луизиана с режимом максимальной изоляции заключенных, «коридором смертников» и камерой для приведения в исполнение смертных приговоров. – Прим. пер.
Вернуться
7
Торговое название disulfiram. – Прим. пер.
Вернуться
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg






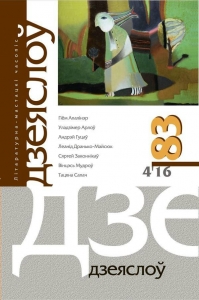




Комментарии к книге «Миллион мелких осколков», Джеймс Фрей
Всего 0 комментариев