Хэрриет Эванс Лето бабочек
Harriet Evans
THE BUTTERFLY SUMMER
© Косорукова Т., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
* * *
Не следует думать, что каждая вылупившаяся гусеница достигает таким образом совершенства. Начиная от яйца и далее – неустанные и бдительные враги всегда жаждут ее смерти.
Х. Алтрингэм, Знания о бабочкахМэри Поппинс молча переводила взгляд с него на Джейн. Потом фыркнула. «Я останусь, пока ветер не переменится», – коротко сказала она, задула свечу и легла в постель.
П. Л. Трэверс, Мэри Поппинс Нина Парр сама себя заточила, Шарлотта Мерзавка, Дочь короля, Нина Вторая, мать Руперта Вандала, Нина Живописец, Мать скандала. То была Сумасшедшая Нина, потом Фредерик-Викарий, Потом одинокая Анна, Потом Александра-Мухоловка, Потом Шарлотта Печальная, а потом иду я, Маленькая старая Тедди, последняя девочка в роду. Все они бабочки, и осталась только я. Все они бабочки, и осталась только я.Часть первая
Глава 1
Лондон, 2011
Книги, которые я люблю, обычно начинаются с рассказа о семье, с которой вам предстоит познакомиться. «Сестры Фоссил жили на Кромвел-роуд». «Начнем с того, что они совсем не были беспризорниками». Они были друг у друга – вот что автор хочет вам сказать.
Мне нравятся истории о семье. Они для меня вроде сказок: я не знала своего отца, а моя мама… Ну, совсем не как те мамы в книжках. Те, кто на самом деле за мной присматривал, кто занимался всеми этими скучными вещами, которым надо обучить ребенка (как чистить зубы, как переходить дорогу, как не путать обувь), – это Малк, мой отчим, и миссис Полл, пожилая леди с верхнего этажа, – как я была насчет них неправа. Ах, я была неправа насчет всего! И вся эта путаница до сих пор не разрешилась.
Тем летом произошло кое-что. То лето всё изменило. Год от года, месяц от месяца те события дают о себе знать. Как говорил Макс в «Там, где живут чудовища»: мы ведь не можем убежать от своего детства, правда?
Но если вам хочется какой-нибудь завязки этой истории, я думаю, эта история началась в апреле, и началась она с сущего пустяка: с застежки на новых ботинках.
Малк, мой отчим, говорит, что совпадений не бывает, что ничего не происходит без причины. Он говорит, я все равно бы ее встретила, ведь я почти всегда ходила на обед в библиотеку. Но я все-таки думаю, что в тот день случилось что-то еще. Случилась какая-то магия, которая работает всякий раз, когда тебе это надо. Она незаметно подкрадывается, прячась в длинных темных коридорах, на высоких башенках, по пыльным углам.
Почему я точно помню эту дату? Дело в том, что 15 апреля был ужасный день, я отметила два года работы в «Горингс» и два года после развода. Странно, когда тебе двадцать пять и ты уже можешь говорить «мой развод». (Ох. Это надо бы записать мелом на доске достижений, как однажды с восхищением сказал мой коллега, как будто я развелась, чтобы потом всем рассказывать, как это ужасно – выйти замуж так рано.)
15 апреля 2011 года был один из тех весенних дней, когда, несмотря на то что нарциссы уже вовсю расцветали то тут, то там, все же еще была зима, так как было ужасно холодно. Моя ежедневная обеденная прогулка из офиса по Хановер-стрит в Лондонскую библиотеку заняла одиннадцать минут – достаточно долго, чтобы понять, удобная моя новая обувь или нет. Я купила их за день до этого, тоже в обед, чтобы поднять себе настроение. Я надела их в час дня, в знак протеста этой самой дате. «Эй, смотрите, на мне новые ботинки! Кто теперь посмеет сказать, что моя жизнь полный отстой?»
И да, меньше чем через минуту после того, как я вышла из «Горингс» и направилась к Пиккадилли, я осознала, что у моих ботинок сзади была молния, которая проходила как раз от основания каблука до икры, и она так натирала, как будто много крошечных зубов вцепились в самую нежную кожу над пяточной костью. Когда я добралась до библиотеки, мои носки насквозь пропитались кровью. Наверное, эту застежку придумали, вдохновившись мифом об ахиллесовой пяте. Лондонская библиотека точно не то место, где в вестибюле отдирают от ног окровавленные носки, так что я поспешила наверх, спрятавшись там, чтобы в относительном одиночестве оценить масштабы трагедии.
На темных металлических полках больше миллиона книг, которые возвышаются стопками высотой в четыре этажа. И все это – в скромном углу у Сент-Джеймс. Библиотека пахнет, как я люблю: заплесневелой пылью, старой кожей и лаком. Я прихожу сюда, чтобы побыть одной, подальше от дребезжащих телефонов, звука клавиш и людей, просящих кофе, подальше от болтовни о мужьях и об относительных преимуществах кухонной мебели из «ИКЕА». Я прячусь среди книг, ожидающих, что кто-то придет их забрать, некоторые не открывали по сорок, по пятьдесят лет. На полках висят карточки:
Человеческие жертвы
Нубийская филология
Папье-маше
Табакерки
Мой отец купил мне пожизненный билет в Лондонскую библиотеку перед тем, как погиб. Маме не нравится, что я хожу сюда каждый день; я думаю, она боится, что здесь я вспоминаю о нем.
Когда я была маленькая, миссис Полл и я играли в одну игру, где мы должны были притворяться, что мой отец вернулся домой. Она придвигала свой кухонный стол к стене, ставила на него вверх ногами два стула, покрытых оранжевой тканью, и набрасывала сверху скатерть, под которой я ползала, нащупывая путь сквозь влажные, спутанные, цепкие заросли Амазонки, где его видели в последний раз, я представляла, как спасаюсь от тигра, который собирается меня съесть, и кричала: «Нет! Я буду десять лет твоим рабом, только не ешь меня, ведь я должен вернуться к жене и своей малышке в Лондон, в великий город посреди моря!»
Я стряхивала листву и другие штуки из джунглей с плеч, пятясь назад, а в это время миссис Полл очень убедительно рычала, выпучив глаза, с ужасным кривым оскалом, но потом она унималась и протягивала мне лапу.
Затем мы представляли, как он вернулся домой.
«Дилайла, дорогая, – говорила я быстро, потому что миссис Полл всегда бежала галопом по этой части игры, – я вернулся. Где же моя малышка Нина? Вот изумруды, которые так подходят к твоим прекрасным глазам, а теперь принеси мне сэндвич с ветчиной и яйцом, ведь я не ел ничего, кроме листьев и мармелада все эти десять лет».
«Ну все, хватит, Нина, – нежно говорила миссис Полл, и мир в моей голове исчезал, как картонные фигурки на игрушечной сцене, скользящей за кулисы, и снова мы были с ней вдвоем, в маленькой теплой кухоньке. – Время идти вниз. Мама ждет тебя. И вы вместе будете ждать папу».
Это было даже большей ложью, чем сама игра: мама давно перестала его ждать, и мы обе это знали. Мама почти всегда едва присутствовала в реальном мире, она или просто лежала под одеялом и рыдала, или кричала на кого-то по телефону – обычно на кого-то из Совета. Но я не могла все время быть с миссис Полл, как бы мне ни хотелось, и поэтому я нехотя спускалась по лестнице, цепляя ногами за щепки, торчащие из дырявого ковра, обратно в нашу квартиру.
Позже я поняла, что миссис Полл пыталась дать мне понять, что нельзя постоянно повторять одну и ту же поверь-игру и что нужно быть готовой, что однажды все изменится. Когда мне было примерно двенадцать и я все уже знала, мне стала стыдно, что мы с ней играли в ту игру, в основном потому, что в тропических лесах не водятся тигры. Но в глубине души я все еще думала об отце.
Сейчас мне двадцать пять. Не бойтесь, я не дура, – я знаю, что он не вернется.
После того, как я напихала в ботинки побольше туалетной бумаги, я забрала книгу, которую отложила на специальную полку, и захромала к столу. Я начала читать, но слова не выражали ничего, и я уставилась в окно, стараясь хоть немного успокоиться и утихомирить нарастающую волну мыслей, которые, казалось, готовы обрушиться на меня из ниоткуда, оставив меня разбитой, ошарашенной, пытающейся хоть что-то разглядеть.
В тот самый момент кто-то похлопал меня по плечу. Я вскрикнула, резко отпрянув назад на стуле.
– Обеденный перерыв заканчивается. Пора обратно на работу, – прошептал голос позади меня.
Я медленно повернулась.
– Себастьян? О боже. Ты меня напугал.
Себастьян наклонился из-за моей спины и поцеловал меня в щеку.
– Прости. В Британской библиотеке не нашлось того, что мне нужно. Надо было написать тебе, что я приду. Можно было бы съесть по сэндвичу.
Себастьян преподает английскую литературу в Университетском колледже Лондона – там мы и познакомились семь лет назад. Он посмотрел на книгу, которую я читала.
– «Детская литература и британский характер» – вау, Нинс, неужели тебе не хочется иногда просто съесть сэндвич и полистать ленту в телефоне? Ну, как нормальные люди?
– Я не как нормальные люди. Ты же знаешь. – Наступила короткая, напряженная пауза. И я сказала, будто в шутку: – В любом случае, мой телефон…
Он грустно посмотрел вниз на мой треснувший, древний, еле-еле живой смартфон.
– Перед вами музейный экспонат, дамы и господа…
Он повысил голос, и пожилая дама за соседним столом, в нескольких метрах, свирепо посмотрела на нас и уставилась, раскрыв рот, как будто увидела что-то ужасное.
– …да, Нина Парр. Подходим, подходим. Только после нашей свадьбы я обнаружил, что у нее в детской двенадцать экземпляров «Тайного сада». Да, двенадцать, господа.
Себастьян не унимался, и я покраснела.
– Шшшш, – сказала я. – Не смейся над этим. Особенно не сегодня.
– Сегодня?
– Наш развод.
– А что с ним?
Я посмотрела на его улыбающееся лицо. Он не помнит. Я подумала про себя, а почему я помню, почему я просто не позволила себе забыть все это.
– Сегодня два года. Я имею в виду, официально.
– Ох. – Он посмотрел на меня, понурясь, пока я ерзала на стуле, и обстановка все более накалялась. – Я не вспомнил. Прости.
Проблема в том, чтобы быть другом своего бывшего мужа – за которого ты вышла замуж, к ужасу обеих ваших благочестивых семей, в возрасте девятнадцати лет и «от балды», как говорится в романах Джоржетт Хейер, – это то, что ты часто даже забываешь, что вы были женаты, и это большая ошибка. Вы даже можете быть хорошими приятелями, как мы: в конце концов, мы достаточно друг другу нравились, чтобы пожениться. И все это здорово до тех пор, пока один из вас не поймет, как ужасно все стало. Ссоры, разбитое сердце, финальный раскол, раздел шмоток…
Начнем с того, что нам вообще не следовало жениться, вот в чем проблема. У нас был год отношений в университете, первая любовь, и в конце мы должны были перегореть, вместо того, чтобы устраивать всю эту драму. Думаю, что другие люди нервничали из-за этого больше, чем мы, – особенно его родители. Это было неприятно, и возможно, это была ужасная ошибка, но странно, что мы оба справились. Мы друзья, близкие друзья. Хотя его родителям это не по душе.
Стараясь говорить более-менее дружелюбно, я сказала:
– Прощаю. И послушай: насчет «Тайного сада», сколько раз тебе еще говорить, что это моя любимая книга? И ничего нет странного в том, чтобы иметь несколько экземпляров любимой книги.
– Нет ничего странного! – Он весело засмеялся и прошелся рукой по взъерошенным волосам. – Ни в чем, что ты делаешь, нет ничего странного, Нина. То, что для одного психическое расстройство, для другого просто очаровательный стиль.
– Ах ты, высокомерный мерзавец, – сказала я, тихонько пихнув его, но мы улыбались.
– Согласен. Ну, ладно, проехали.
И тогда с соседнего стола раздался грубый шепот:
– Не могли бы вы оба, пожалуйста, не шуметь!
Пожилая дама все это время смотрела на нас, и ее огромные глаза потемнели от ярости. Я отпустила руку Себастьяна и, повернувшись к ней, быстро пробормотала:
– Извините, пожалуйста.
Она уставилась на меня.
– Вы!.. – прошипела она.
– Да, – сказала я, подталкивая массивное тело Себастьяна в надежде, что он как-нибудь исчезнет – он, хотя и был внимательным человеком, совершенно не чувствовал настроения окружающих. Я, единственный ребенок в семье, провела большую часть своей жизни, изучая людей, внимательно наблюдая за тем, какой эффект окажет сказанное мною.
– Я тебе потом позвоню, – зашипела я на него, почти отчаянно, потому что он, казалось, вообще не замечал, что пожилая дама сейчас взорвется.
– Когда, Нинс?
Больше из желания от него избавиться я сказала:
– Не знаю. Пойдем как-нибудь выпьем, хорошо?
– Выпьем? – нарочито серьезно сказал Себастьян. – Только ты и я?
– Почему нет?
Как только эти слова были произнесены, мы нервно посмотрели друг на друга, улыбаясь от того, что знали правду: мы не ходим выпить. Мы болтаем по телефону, мы обедаем раз в две недели, он то и дело заходит к нам домой – мама и Малк до сих пор его обожают. Мы переписываемся насчет всякой ерунды, но мы не планируем встречи, не назначаем вечерние свидания. Мы не ходим выпить.
– Ну, было бы здорово, Нинс.
– Может, вы наконец начнете разговаривать потише?! – Дама рядом с нами погрозила Себастьяну пальцем.
Я пробормотала, что можно было бы позвать с нами Элизабет. Или Ли. А потом пообещала ему позвонить – лишь бы уже выпроводить.
– Или мы вдвоем с тобой. Хорошо. Все в порядке, я ухожу, мадам, – сказал он женщине. – Вы знаете, он умрет, – сказал он, жестом показывая на ее «Грозовой перевал», – они оба умрут. Дурацкая книга, если вам интересно мое мнение.
Пожилую даму трясло от гнева, ее пучок скакал у нее на голове.
– Я вас знаю? – сказала она, пялясь на Себастьяна. – Думаю, я вас знаю.
– Эм… – Себастьян выглядел немного растерянным, потому что его семья знает абсолютно всех. – Нет, не думаю. Извините.
– Хм. – Она снова пристально посмотрела на него. – Хорошо, послушайте, кем бы вы там ни были, мне не нужно ваше мнение. Если вы сейчас же не уберетесь…
– Хорошо, хорошо, – сказал Себастьян, признавая поражение. – Пока, Нина. – Он помахал мне.
– Было… было здорово тебя увидеть. Правда.
И он ушел.
– Извините еще раз, – сказала я мягко.
Я изобразила что-то вроде улыбки моей разъяренной соседке, которая, как я надеялась, оценила мое раскаяние и желание избавиться от Себастьяна. Я знала, что через минуту мне тоже надо выдвигаться в офис: будучи менеджером, я должна была заново активировать телефонные линии ровно в два часа. Но какая-то гордость удерживала меня тут, как будто я отстаивала свою территорию. Я начала беспорядочно писать в блокноте, притворяясь, что рада наконец вернуться к своей важной работе. Я написала:
Я не хочу возвращаться с обеда.
Меня не волнует, что Бекки расширяет кухню и что Сью устраивает пасхальную охоту за яйцами.
Я ненавижу делать чай по десять раз в день. Я ненавижу, когда ко мне обращаются «Эй, ты!».
Мне не нужно выпивать с Себастьяном. Мне нужно ходить на чудесные свидания с людьми, с которыми я познакомлюсь. В интернете или еще где-нибудь.
Я не хочу больше делать все это. Я не хочу больше так себя чувствовать.
Я писала так увлеченно, что не услышала, как пожилая дама подошла ко мне сзади, и когда она ткнула меня в руку своим карандашом, я буквально подпрыгнула, до ужаса испугавшись.
– Я думала, тебе есть еще что мне сказать, милочка, – сказала она.
Именно тогда я почувствовала, как изменилась атмосфера. Она смотрела на меня с каким-то восторженным страхом, почти в панике: я никогда раньше не видела такого выражения лица.
– Я же извинилась – мне правда жаль, если мы вас потревожили.
– Разве? Разве? – Она затрясла головой. – Да. Посмотри на себя.
Она почти целиком была одета в черное. Единственное цветное пятно были ее томатно-красные колготки. Присмотревшись, я увидела, что все ее лицо изрыто, прорезано старческими морщинами, а короткие волосы совсем седые. Глаза были абсолютно черными, а мешковатое платье скрепляла большая агатовая брошь. Камни лениво поблескивали в мутных сумерках библиотеки.
– Я больше ничего не могу сделать, разве что еще раз извиниться, – сказала я, глядя на нее с любопытством. – Он очень громко…
– Ты можешь перестать врать и сказать мне правду.
Я подумала, что она сумасшедшая. Слегка холодным тоном я ответила:
– Знаете, читальный зал на нижнем этаже вам больше понравится, ну, на будущее, если вы хотите посидеть в тишине.
Она молча смотрела на меня в упор, сканируя мое лицо. Затем она засмеялась, горловым, диким смехом.
– Хорошо. Очень хорошо. Моя дорогая мисс Парр.
Я замерла, но потом посмотрела вниз и увидела своё имя – Нина Парр, написанное на блокноте, и выдохнула, но всего на мгновение.
Она проследила за моим взглядом.
– Значит, я права, – сказала она тихо. – Я права. – Она потерла глаза. – О боже!
Я не знала, что мне еще сделать, и просто села обратно. Позади послышался шелест моей сумки, которую она отодвинула ногой, и я цокнула. Я снова вперилась глазами в свой блокнот, притворяясь, что ее здесь нет. Я слышала ее дыхание – острое, мелкое, – и примерно через минуту она сказала:
– Ты совсем как твой отец, Нина.
Я почувствовала, как у меня на голове шевелятся волосы, а кожа покрывается мурашками: наполовину от злости, наполовину от страха. Я не знала, что ответить.
– Ты слышишь меня? Ты очень на него похожа.
Когда одинокий солнечный луч выхватил ее из полумрака, я посмотрела на ее сверкающую брошь и увидела, что она в форме бабочки. И тогда я испугалась. Потому что его убили именно бабочки, и я ненавидела их.
– Послушайте, мисс… Я не знаю, как вас зовут. Извините, но мой отец погиб. – И, так как она ничего не отвечала, я добавила: – Я ничего о нем не помню. Он умер, когда мне было шесть месяцев. Понятно?
Она сказала почти шепотом:
– Ага, значит, так они тебе сказали? Ну конечно.
Я повернулась, чтобы посмотреть на нее, и теперь увидела, что она очень расстроена. Ее лицо было сморщенное, и в глазах сверкали слезы. Она смахнула их рукой.
– Они ничего мне не сказали, – сказала я, и уверена, она слышала, как сильно билось в груди мое сердце. – Не знаю, о чем вы. Мой отец мертв.
– А как насчет Кипсейка? Она все еще там?
Я покачала головой. Кипсейк. На секунду я подумала, что знаю это имя.
– Что за Кипсейк? Кто еще там?
Она не ответила.
– Кто все еще там? – спросила я сердито.
– Может быть, это не ты. – Она моргнула, как будто вдруг растерялась. – Я была так уверена. Ты на нее тоже похожа. Очень похожа.
– Я не понимаю, что вы имеете в виду, – сказала я, но она уже направилась обратно. – Мой отец погиб, – сказала я снова, на случай, если ей нужно услышать это еще раз. – Мисс?..
– Трэверс, – ответила она, смотря в пол. – Меня зовут Трэверс. Мне нужно идти. Она скоро придет. Мне надо идти.
И она повернулась и исчезла.
– Мисс Трэверс. – Я позвала ее чуть громче, и мой голос раздался эхом, отскакивая от металлических полок в темноту. – Что вы имели в виду? Откуда вы знаете моего отца?
Но она ушла. И хотя через несколько секунд я поднялась и пошла за ней по темным лабиринтам библиотеки, я не смогла ее догнать. Она словно растворилась.
Глава 2
– Что делаешь вечером, Сью?
– Пытаюсь закончить шарф. Потом начну какие-нибудь носочки.
– Боже, Сью. Покой нам только снится!
– Да, рассказывай! А как ты, Бекки?
– Думала, поеду в Вестфилд за подарком Шону, у него день рождения на следующей неделе. Ему нравится средство после бритья. Хочу купить ему новое от Гуччи.
– Ой, как здорово, Бекки. Люблю ездить в Вестфилд. Там чудесный «Вейтроуз». Такой огромный.
– Да?.. – Наступила небольшая пауза. Бекки продолжила: – Нина, а ты? Есть планы?
Я отложила стопку счетов, над которыми работала, и села прямо.
– О, на самом деле, нет. Как обычно.
– Понятно, – Бекки по-дружески мне улыбнулась. – Я начинаю скучать по «Аббатству Даунтон», а вы? Не могу дождаться второго сезона.
– Отличный сериал, правда? – Сью прокрутилась на кресле, с горящими от интереса глазами, такое ощущение, что они вообще ни разу не обсуждали «Аббатство Даунтон». – Мне ужасно понравилось. Леди Мери! И тот джентльмен из Турции! – Она хихикнула.
– Сью, ах ты мерзкая девчонка! – сказала Бекки. – А что ты думаешь, Нина?
– На самом деле, я его почти не смотрела, – ответила я, стараясь не заорать: Если вы обе сейчас же не прекратите опять обсуждать «Аббатство Даунтон», я прямо тут убью себя всеми этими бумажками!
– Как? – сказала Сью. – Ты серьезно? Ок. Он ужасно классный. Что мне особенно нравится, так это то, что там показан мир слуг, а не только мир господ с верхних этажей. Карсон – мой любимый! Надеюсь, что они с миссис Хьюз…
Нет! Мне хотелось кричать. Прекратите. Прекратите болтать о чертовом «Аббатстве Даунтон». Каждый день, начиная с октября. Но им ведь это нравится. Я написала ПОМОГИТЕ на стикере и даже подумала о том, чтобы приклеить его на окно, эта мысль немного меня развеселила.
– Тебе должно понравиться, Нина, – наконец сказала Бекки, схватила расческу и усердно начала расчесывать свои длинные тонкие волосы.
Я посмотрела на часы на стене: 4.48 вечера.
– Как раз то, что ты любишь, история и старые притчи, и все такое. Поверь мне.
– Я кое-что подобное смотрела, – сказала я. – Но все эти богачи и их дурацкие несуществующие проблемы – это глупо. Я просто в такое не верю. И еще слуги как мультяшные персонажи. Мне куда больше нравится «На охоте» или «Госфорд Парк», на крайний случай.
У меня все лучше получается предугадывать, когда я выдам что-нибудь «в стиле Нины». Себастьян обычно закрывал лицо руками и стонал, когда я такое говорила. Честно говоря, я сразу понимала, что это было вполне себе в моем стиле. Бекки вжалась обратно в свое кресло, а я проклинала свой острый язык. Обычно я ничего не имела против Бекки и Сью, они хорошие. Сью была так добра ко мне, когда я только пришла в «Горингс», и она нашла меня в туалете рыдающей из-за какого-то пустяка. Она сделала мне чашку чая и дала имбирного печенья. Нет, это я виновата, а не они. Они просто хотят поболтать, и всегда о чем-то неважном – бестолковый разговор, чтобы убить время, – а мне это не по душе.
Бекки сменила тактику.
– Ты не смотрела «Хеллоу» на этой неделе? Про секреты платья Кейт. Очевидно, оно будет от Армани.
– Они никогда не заказывают у Армани. Это должен быть британский дизайнер, Бекки, – сказала Сью со знанием дела. – Ты мне напомнила, – добавила она, немного подумав. – Надо сегодня заказать ребрышки.
– Ребрышки?
– Для уличной вечеринки. Я сделаю сотню кисло-сладких ребрышек. А вы что готовите?
– Украшения, – бросила Бекки. – Пятьдесят метров, представляете? Вот я какая! А ты, Нина?
Я глубоко вздохнула. Давай же, Нина.
– У нас не будет уличной вечеринки. Но я приду посмотреть. Мой отчим готовит королевского цыпленка, но на самом деле он называет его «цыпленок на королевскую свадьбу».
Сью и Бекки весело улыбнулись, и мы немного поболтали. Ну, или они поболтали, а я кивала головой и притворялась, что слушаю, периодически поглядывая на часы на стене (искусственное дерево и медь, которые я заказала по распоряжению Брайана, чтобы в офисе все было в одном стиле): 4.53, 4.55.
В сотый раз с того времени, как я вернулась с обеда, я подумала в страхе и панике о той женщине в красных колготках. Была ли она все еще в библиотеке? Будет ли она там завтра, когда я вернусь, на том же самом месте? Она сумасшедшая? Или я?
Она точно сумасшедшая. Я видела сообщение в газете о его смерти: надо было это ей сказать. Спросите мою маму, которая осталась без денег и с шестимесячным ребенком на руках. Он погиб, поверьте мне.
Сью ушла от темы ребрышек к свежим слухам в сегодняшнем «Дейли мейл» насчет шляпки Кейт Миддлтон, когда Брайан Робсон (мой босс и один из партнеров – «не футболист», как он всем представлялся), появился с кассетой.
– Эй, Нина, можешь напечатать это перед уходом?
– Конечно. Сколько?
– Пять, но одна немного сложновата. Хорошо, дорогая?
– Да, – сказала я с благодарностью, схватив кассету и впихнув ее в диктофон, и надела наушники, бормоча Сью извинения.
Мне нравился Брайан, потому что он любил говорить о книгах – он был большим фанатом Диккенса, – но еще больше мне нравился Брайан потому, что он хороший человек. Он вел мой развод, и я устроилась на эту работу после того, как он упомянул ее во время нашей первой встречи. Через шесть месяцев я пришла в «Горингс» и поняла, что это была большая ошибка, но я не могла просто так уйти без запасного варианта (да и некуда мне было идти, совсем никакой работы, кроме заброшенной диссертации), и Брайан застал меня плачущей за стойкой ресепшена, которая располагалась прямо напротив офисов второго этажа. Думаю, это было примерно в то же время, когда Сью застала меня плачущей в туалете. Наверное, я много плакала после развода.
Брайан ничего не сказал – ему не надо было постоянно разговаривать, в отличие от других. Он потрепал меня по плечу и протянул огромный хлопковый носовой платок.
– Что случилось? – сказал он непринужденно.
– Всё, – ответила я с грустью.
И потом, вытерев глаза и как следует высморкавшись в его платок, я протянула его ему обратно, и мы оба рассмеялись.
– Я его постираю. И завтра принесу.
– Как миссис Тигги-Винкл. Не беспокойся. Должен сказать, я понятия не имею, почему такая девушка, как ты, работает здесь, – сказал он загадочно, снова потрепав меня по плечу. – Но в любом случае, я очень рад.
Такая девушка, как ты – это не прозвучало как комплимент, вот в чем проблема. У Брайана было трое детей, и он жил в Алпетроне, и был судьей в Илинг Крикет Клаб по выходным. Сью жила в Илинге, рядом с китайской школой, помогая в ресторане своего отца и специализируясь на кухне Хунань в Илинг Каммон по вечерам, и у нее было пять внуков, и все они жили поблизости. Даже Бекки, которая была всего лишь на год старше меня, была замужем и уже беременна, и только что переехала в Эктон из Хануэлла, где она выросла. Им всем нравилась их жизнь в западном Лондоне, когда они сбежали от городской суеты обратно в тихие, прямые, зеленые улочки. Бекки говорила мне, что не может дождаться, как уедет еще дальше и заведет приличный сад.
– Кто вообще хочет жить в Лондоне? – говорила она. – Весь этот шум. Все эти люди. Разве не прекрасно жить в какой-нибудь английской деревушке?
Но я ничего не знала об английских деревушках, кроме тех, о которых читала в книгах. На самом деле, я никогда не была за пределами Лондона – за исключением каникул на пляжах, когда я была маленькой, и это всегда была катастрофа, потому что моя мама, выросшая на Восточном побережье Америки, вообще не понимала британских каникул, как и многие вещи в этой стране. Мы сидели на вонючем полотенце, которое стащили из хостела, в ужасном холоде, на тоненькой полоске мокрого песка, наблюдали, как семьи играют в мяч, ставят ветроломы, раскладывают большие пикники, слушают «Роудшоу 1», какофонию шума и веселья, и мы жались друг к другу, как выжившие после кораблекрушения. Я хотела обратно в Лондон.
Я всегда любила город за то, как он хранил свои секреты, и чем больше ты его изучаешь, тем больше он тебе дарит. Я любила маленькие Аллеи Сохо, старые эмалированные вывески на хозяйственных магазинах, рекламу лекарств от сифилиса, нарисованную на домах в Блумсбери. Широких, прекрасных кариатид, поддерживающиех апсиду Новой церкви Святого Панкраса на Эстон-роуд, деревянную черепаху и лягушку на лестницах в Либерти, древнюю реку Вестбурна, текущую через стиснутый искусственный тоннель над платформой метро Слуан-сквер. Потайные переулки и дома, тянущиеся от Клеркенуэлл Грин, как ленты на майском дереве, отсутствующие куски Музея Виктории и Альберта, который бомбили в войну… Здесь я чувствовла себя в безопасности, посреди драмы, рокота и восторга жизни. В городе такой величины ты не так уж и важен. Твои проблемы ничтожны. Лондон каждый день тебе об этом напоминает.
В пять тридцать Бекки, Сью и я выключили свои компьютеры и надели пальто. Работа в «Горингс» заканчивалась для нас по расписанию, в то время как остальные – настоящие адвокаты – оставались подольше. Я попрощалась с Бекки и Сью как можно веселее. Они ушли вместе, веселые, пожелав мне хорошего вечера. Оставшись одна в теплом ресепшене, я медленно прошлась вдоль него, проверяя выключатели, и голова ныла от усталости. По пути к выходу я закинула письма, которые я печатала, в кабинет Брайана на подпись.
– Спасибо, – сказал он, просматривая их.
– Хм… Ладно. Ой. Ой… О боже. Оу. Нет. Нет. – Он протянул письма обратно.
– Нина, ты напечатала «клиент» как «клинет». Трижды. И еще два раза «там» вместо «их». И вот тут нет адреса.
Я хотела извиниться, но слова почему-то застряли у меня в горле. Я забрала письма, не говоря ни слова, повесив голову.
– Сделаешь это завтра. Они не срочные. Эм… Сегодня все хорошо, Нина? – сказал Брайан, смотря на меня, положив руки на стол, тихонько постукивая по нему пальцами.
– Конечно, – ответила я.
– Тогда ладно. И вот еще. Ты напечатала «Уважаемая мисс Бэгз». Ее фамилия Бар. Мисс Бар. Я имею в виду, это большая разница, Нина…
– Мистер Робсон, – сказала я вдруг, с трудом сглотнув. – Можно мне кое-о чем вас спросить?
Он кивнул.
Я даже не знала, как сформулировать вопрос.
– Если бы вы думали, что кто-то, кого считают погибшим, на самом деле не погиб, могли бы вы как-то выяснить это?
Брайан Робсон даже не вздрогнул, что всегда делало ему честь.
– А тебе до этого сообщали, что человек погиб?
– Да.
Он сложил руки вместе.
– Что касается самой смерти. О каком времени и месте мы говорим?
– Ну, хм… Джунгли Амазонки, – ответила я. Я знала, что мои слова звучат безумно. – В марте 1986-го.
– Понятно. Это немного осложняет дело, но я думаю, что можно… – Он внимательно на меня посмотрел. – Смотри, Нина…
Я прервала его:
– Я хотела узнать, может быть, существует какой-то реестр, где можно проверить, если кто-то отсюда умер за границей?
– На самом деле, нет. А свидетельство о смерти было выписано – ты не знаешь?
Я покачала головой.
– А было уведомление о смерти?
– Типа того. Статья в газете. В «Таймс».
– Ну, «Таймс» обычно не врет, Нина, – он тихо засмеялся, – во всяком случае, так было раньше.
– Точно. – Я постояла на одной ноге, потом на другой и поняла, что он хочет домой.
– Хорошо, ничего страшного. Наверное, это не так уж важно.
– Могу я тебе еще чем-то помочь?
Хороший, добрый мистер Робсон. На свой восемнадцатый день рождения он купил себе клюшку для гольфа, и когда он первый раз приехал из Ямайки в Бристоль, местный гольф-клуб не принял его из-за цвета кожи, поэтому он сдал клюшку и накупил книг. Он там никого не знал, поэтому большинство вечеров он сидел дома и читал. В конце концов он сделал вывод, что если все равно будет сидеть дома, то надо хотя бы учить что-то новое. Поэтому он получил степень юриста в Открытом университете. Ему было двадцать два.
Я подумала о темных сверкающих глазах той женщины, о том, как открыто она смотрела на меня. «Ты…»
– Наверное, я схожу с ума, – сказала я. – Забудьте. Все хорошо.
– Не выглядит, что все хорошо, – сказал он тихо. Его голос был такой добрый, что меня это немного сбило с толку.
– Спасибо. – Я пробормотала что-то вроде «меня ждет мама» – фраза, которую говорят все воспитанные взрослые, если вообще такие есть, – и побежала по ступенькам, застеленным потертым линолеумом, еле сдерживая слезы.
От меня такого не ожидали, вот почему Брайан Робсон расстраивался насчет меня. Он читал мое резюме. Он считает, что к этому времени я уже должна быть профессором или получить грант на учебу в Йеле. На мне лежало проклятье умников.
Мне предлагали место лектора по английскому в Брасенос-колледж, куда ездил мой отец. Но вместо этого я выбрала Университетский колледж Лондона, потому что в этом случае я могла остаться дома – ну разве не малодушно? Я собиралась стать учителем. По крайней мере, это то, чего я хотела. Учитель английского. Но у всех остальных были другие планы. «Да, разумеется, – сказала однажды моя классная руководительница. – У каждого должен быть под рукой план. Но в твоем случае, дорогая, должна быть самая отчаянная цель, которую только можно себе представить».
О, как, наверное, она во мне разочаровалась. Я получила диплом по английской литературе. Я защитила магистерскую по детской литературе. Я собиралась защитить диссертацию: мне дали гранд от фонда и я была готова. Я все еще надеялась, что смогу покорить Оксбридж или, еще того хуже, Америку, и Университетский колледж Лондона убедил меня в том, что мой материал тянет на докторскую; у меня даже был научный руководитель, профессор Энджелл, и он отвел меня в сторонку и сказал, что, если я хочу, я могу подавать заявку в товарищество де Соуза: выдается только раз в пять лет особо отличившимся студентам, и только в редком случае, и т. д. Но в то время мой брак разваливался на куски, и весь этот бардак означал… Ну… В итоге я не защитила диссертацию.
Хотя это я предложила развестись, Себастьян, казалось, легче оправился от нашего разрыва. Он просто стряхнул все с себя и пошел делать крутые вещи – защитил докторскую в Конраде (ух, ты), написал книгу в соавторстве, читал лекции по всему миру. А я не сделала буквально ничего, кроме своей работы. Я два раза подряд упустила шанс подать заявку в подготовительный колледж для учителей, потом я подала ее, но меня не приняли. Так что мне еще повезло, что меня взяли в «Горингс». Но мою работу мог бы делать (и делать лучше) почти кто угодно: кто-то, кто помнит, что нужно заказать новые ручки, и кто сможет починить принтер, когда он зажевывает бумагу. Бекки – адвокат-стажер, причем всю свою жизнь она только и делает, что записывается на ногти и листает каталоги для матерей. Она квалифицированный бухгалтер – по вечерам ведет счета своего ресторана. У всех этих людей есть квалификации – даже призвания, – и потом они все едут в западную часть города и живут там своими полноценными жизнями.
Хотя я рада, что я тут работаю. И я должна быть благодарна за эту тихую маленькую жизнь. Но я не благодарна. Я ненавижу ее. Мне нравится учиться. Мне нравится читать. Больше всего я чувствую себя счастливой, когда представляю некий мир за пределами реального, и поэтому мне так сложно объяснить таким людям, как Брайан Робсон, или моим школьным учителям, или специальному ментору, которого мне назначили в пятнадцать лет – тому, кто помогал одаренным детям не стать чокнутыми психопатами, – что я не такая уж и умная. Потому что я это знала. Я просто очень впечатлительная. Если мне что-то интересно – погребальная архитектура, или Тутанхамон, или детская литература, или, как в то лето, когда я ненадолго увлеклась мюзиклами, после того как Джонас, мой лучший школьный друг, в семнадцать лет получил свою первую роль в гастролирующей постановке «Бедовой Джейн», – и мне правда было интересно. Я вытянула из этого энергию, как комар, высосала все факты и информацию. А потом пошла дальше.
Мама однажды сказала, что это у меня от отца. Она никогда не говорит о нем, поэтому я запомнила каждую мелкую деталь его жизни: как будто вымывала золото. В школе мне делали выговоры за то, что я поправляла учителя, и маму вызвали для беседы. Я подслушала, как она рассказывала миссис Полл, о чем с ней говорили в тот вечер.
– Она просто сказала миссис Казнз, что она неправа, что это Остен, а не Бронте. Оказывается, что она была права, но… О боже, то, как она это сделала, – я боюсь, она еще более импульсивна, чем ее отец.
Я спускалась по лестнице, а эти двое разговаривали в кухне за бокалом хереса. Я стояла за дверью и смотрела в щелку. Миссис Полл сидела за нашим кухонным столом, и я видела, как она осмотрелась, убеждаясь, что меня там нет.
– Что ты имеешь в виду под «импульсивная», дорогая? – спросила она своим нежным голосом.
– Я все думаю, как получше его описать, – сказала мама. – Он был чем-то вроде отщепенца. О, с отличным чутьем, с такой умной головой. Но с ним совершенно невозможно было иметь дело. Да. Отщепенец.
– Отщепенец? – миссис Полл, казалось, обрабатывала полученную информацию. – Понятно. Такое подходящее слово, правда?
Я знаю, что она имела в виду: это многое объясняет.
Хромая в своих ботинках к метро, когда на улицах уже зажглись фонари, я посмотрела вверх на бледно-голубое небо, затянутое белыми клочками пористых облаков. Холодало, и я дрожала: два года как я развелась, шесть месяцев как переехала обратно домой. Все эти месяцы, обычно в это время дня, я ощущала что-то вроде удовлетворения от выполненного дела. Еще один день почти закончился, можно сделать еще одну отметку в календаре. Хотя дело в том, что я не понимаю, зачем я делаю эти отметки или чему я веду обратный отсчет.
Глава 3
– Привет, мам! Та женщина сказала, что мой отец не погиб.
Веселенькая история, вы готовы? Папа жив!
Наш дом, тоненький и высокий, с черной оградой спереди и с длинными, выжженными солнцем окнами. Мои родители сначала поселились на цокольном этаже, до того как я родилась, и теперь, спустя тридцать лет, две смерти, одну большую удачу и вереницы лет, мы владеем целым домом, хотя забираться на верхний этаж пришлось долго. Мы вскарабкались сюда, как дикий плющ.
Ирония в том, что большую часть времени мы все еще проводим в цоколе. Там кухня, и там мы обычно собираемся вместе, не важно с кем. Раньше это были люди из женского колледжа Ислингтон, которые приносили маме суп и плакаты «Уходи, Мэри, уходи!» и выступали друг перед другом за крошечным шатким кухонным столом, проповедуя о зле патриархата. Потом это были я, мама, мой отчим Малк и наши либеральные соседи в восточных нарядах, те, что жили в Ислингтоне до того, как сюда переехали банкиры. После были мы с Себастьяном, моим внезапным мужем, двое влюбленных посреди легкого хаоса, но это было лучше, чем в его фамильном доме, на большой вилле Артс-энд-Крафтс на краю Хэмпстэд Хит, где не прекращался поток незваных гостей, которые заходили выпить или пообедать в воскресенье. Мама иногда была непредсказуема, но по крайней мере ты знаешь, что она не собирается накрывать на стол на двадцать человек – включая генерального директора Би-би-си, – когда тебе просто хочется поваляться на диване и посмотреть телевизор.
В нашей кухне тепло. Она темная, покрыта пробковой плиткой – на полу и на дверцах шкафчиков. Там мансардные окна, которые ведут в маленький сад, граничащий с каналом. Книжная полка у окна заполнена книгами в потрескавшихся и забрызганных едой обложках: Элизабет Дэвид, Клавдия Роден. Плакаты в стиле «де реджёр»: принты Элизабет Блаккадер, Бейб Рейнбоу – даже обложка «Нью Йоркера» со Стейнбергом, которую отец купил для мамы, чтобы она не скучала по дому.
В Ноэль-роуд всегда что-то есть: книги и журналы на лестнице, старые обрывки свинцового кабеля и ключи в банках, открытки с Крита, Сицилии, Гранады – из путешествий друзей, прикрепленные к батарее, смешные чистые носки в одиноких комочках в поисках пары. Мы все такие неряхи. Ну, мама точно. И я сейчас тоже, хотя раньше такой не была. А вот бедный Малк совсем не такой. Мамин беспорядок управляет нами. Даже мои университетские друзья, переехавшие в Лондон, заходили к нам и были в восторге от всего этого богемного хаоса. «Нина, твоя мама такая классная». «Однажды у меня будет такая кухня».
Забавно, что мне никогда не нравилось в этой кухне. Я всегда пыталась выбраться с нижнего этажа, на верх дома, обратно к миссис Полл.
В тот вечер я скинула свои предательские ботинки и пошла вниз. Нужно стараться шуметь, иначе мама не услышит и испугается.
– Ой, – сказала я громко, как будто споткнулась о что-то на верхней ступеньке, ударившись пальцем. – Кто оставил тут кружку?
Мама печатала на своем ноутбуке за кухонным столом, но она подняла глаза, когда я вошла.
– Привет, малышка! Как дела?
– Привет, мам… Все нормально. – Я не решалась, я ужасная актриса. – Как прошел день?
– Неплохо. – Мама подтянула свои пушистые, медового цвета волосы, так что они встали торчком на затылке, как у утенка, и вперилась в экран поверх своих огромных очков в черепаховой оправе, которые она надевала, когда садилась писать. – Дай мне пару минут, хорошо? Почему бы тебе не поставить чайник?
– Ага. – Я понаблюдала за ней минуту, думая, как правильно сказать то, что я хотела. Лучше всего мама работает днем с четырех до восьми, что не очень здорово, если у тебя маленький ребенок, как я хорошо запомнила, когда годами пыталась привлечь ее внимание к моей «5+» по английскому, к моей вражде с Кейт Аллис, к оторванной пуговице на школьной рубашке, которую мне надо было пришить обратно.
Она живет за счет гонорара за свою самую известную книгу «Птицы мычат»: она написала еще две книги, но с момента выпуска последней, около десяти лет назад, она ничего больше не издавала. Она все время ездит по фестивалям и ходит в школы и библиотеки, но иначе она бы весь день сидела здесь и, возможно, писала бы. Она говорит, что почти закончила новую книгу, но она говорит это уже много лет: с тех пор как мы с Себастьяном поженились.
Я сделала чай, как можно медленнее. Она все еще печатала. Я взяла телефон, но там не было ничего интересного, только смс-сообщения. Я динозавр.
Что восьмидесятилетний пират сказал на свой день рождения?
«Да, дружище».
Это от Себастьяна, на той неделе.
Я немного посмотрела в окно и потом наконец решительно поставила чашку рядом с ней. Как и всегда в это время дня, та же мысль всплыла у меня в голове.
Тебе не надо писать в кухне. Наверху есть кабинет, которым ты никогда не пользуешься. Тогда я не буду тебя беспокоить.
– Мам? Чай готов.
– Еще секунду, детка.
Ты могла бы оставить все в комнате Мэтти так, как было. Почему мы разрушили шкафчики миссис Полл с золотой цветочной обивкой из MFI, которыми она так гордилась, и вытащили ковры, и поставили этот стол, и эти полки, если ты даже не собиралась туда заходить?
Обычно, я просто не обращала на это внимание. С мамой приходится. Но сегодня я не могла, и через минуту я глубоко вздохнула.
– У меня сегодня был странный день, – сказала я громко.
– Правда, детка? – Клавиатура тряслась от ее непрерывного печатания. – Ага. Еще секунду.
– Я виделась с Себастьяном. Он передает привет.
Она подняла на меня глаза и улыбнулась.
– О, передай ему тоже. Как он?
– В порядке. Он всегда в порядке. Послушай, мам… – Ее глаза скользнули обратно на экран, и мне пришлось положить руку на стол и почти закричать «Мам!». Тогда она посмотрела на меня с удивлением, с тем старым опасным выражением лица, но я проигнорировала его.
– Ты меня напугала! Что случилось?
– Когда я разговаривала с Себастьяном… хм, ну, одна женщина увидела нас. Она сказала, что знает моего отца. Сказала, что он не погиб.
Есть вещи, о которых мы с мамой никогда не говорили. Ее срыв, мое детство, первые годы здесь, ох, много чего. Но мы никогда, вообще никогда, не говорили о моем отце.
Мама медленно закрыла ноутбук.
– Да уж, странный день, – сказала она после минутной паузы. – Послушай, детка. Кто, черт возьми, она такая?
– Не знаю. Ее фамилия Трэверс, кажется. – Я в упор смотрела ей в лицо, ожидая какой-нибудь реакции. – Она знала, кто я такая. И наконец… – Я вспомнила свой блокнот, а ее глаза бегали из стороны в сторону. – Думаю, она знает. Но я не уверена.
– И что она тебе сказала?
Я пересказала ей все, что случилось, и она ни разу меня не перебила, просто слушала, не сводя своих зелено-ореховых глаз с потертой столешницы.
– И это «значит, так они тебе сказали», – закончила я. – Вот это сводит меня с ума. Как будто есть что-то… ну… чего я не знаю, – и я замолчала.
Мама встала и подошла к холодильнику. Она так долго смотрела внутрь, что я подумала, что она забыла, что я здесь. Затем она вытащила оттуда несколько помидоров и лук, достала разделочную доску и принялась их нарезать.
Я ждала.
Наконец она заговорила:
– Все это безумие, детка. Мне жаль, что эта леди так расстроила тебя сегодня, но я не знаю, что тебе сказать. Кроме того, что твой отец никогда не помнил мой день рождения, ну ты знаешь. И я очень сомневаюсь, что он смог бы устроить международную конспирацию своей собственной смерти.
– Правда?
– О да. Он был безнадежно рассеян во всем. – Она отложила нож и улыбнулась, на мгновение закрыв глаза. – И да, он мог околдовать птиц на деревьях. И бабочек. Жаль, что… – Она запнулась и покачала головой, перебирая толстые стеклянные бусины на шее. – Нет, ничего.
– Что?
– Я только хотела сказать, как жалко, что иногда все идет не так, как надо. Но все-таки – так тому и быть. Так оно и было. – Она положила в заварник чабрец. – Детка, мне так жаль, что это тебя расстроило, особенно сегодня.
– О чем ты?
– Ну, два года в разводе, новая работа. – Она удивленно посмотрела на меня. – Ты разве не помнишь?
– Конечно, помню. Я думала, что ты не помнишь.
– Я стараюсь не выпадать из реальности, Нина, дорогая. – Она прозвучала обиженной. – Я же твоя мама. Знаю, что ужасная мама, но я стараюсь.
Она говорит «мама», но это всегда звучит как «мама», как будто именно это она хочет сказать, и получается что-то вроде «мвуама». «Я твоя мвуама, – говорила она во время наших ссор в мой переходный период. – Будешь делать, что я скажу».
– Думаю, та старая леди немного не в себе, – сказала я, стараясь сменить тему. – Но я ей поверила. Не знаю почему.
– Нина. – Мама почти уставилась на меня, и я увидела, как ее глаза покрылись пеленой слез. – Мне жаль, что я не знаю, что тебе сказать, детка. – Она покачала головой. – Жаль, что ты его не помнишь, все это не помнишь. Потому что то, как это случилось…
Похорон не было из-за того, как это случилось. У него не было семьи, а она была одна в Великобритании, и, если не считать газетной вырезки, вся эта история вполне могла быть просто сном. Я могла родиться без отца, не имея понятия, откуда я и что он был за человек.
У меня была какая-то информация, например, что у него были большие ноги, и он обожал свеклу, и еще английскую сельскую местность, хотя мама была к этому абсолютно равнодушна, и еще его романтические жесты – например, обложка со Стейнбергом в «Нью Йоркере» в подарок – и их совместная фотография у Бодлианской библиотеки, в то лето, когда они встретились. Но это все были крупицы, как осколки стекла и камня, которые я собирала на пляже во время тех ужасных каникул и хранила в сумочке, как будто это были драгоценности. Постепенно и те несколько воспоминаний об отце рассеялись. Я до сих пор храню эти камни, но факты из его жизни стерлись, как будто его никогда не было на свете.
И вот мы с мамой смотрим друг на друга, и не знаю, куда дальше пошел бы разговор, но в этот момент хлопнула входная дверь и послышались тяжелые шаги моего отчима, Грэхема Малькольма, известного как Малк, с грохотом спускавшегося вниз.
– Всем добрый вечер, – сказал он, вывалив на столешницу стопку почты. – Вот ваша корреспонденция, леди этого дома. Доставлена вашим верным дворецким. Весь день пролежала у двери в ожидании, когда ваш верный дворецкий заберет ее и принесет вам. Кое-кто считает, что вы и сами могли бы забирать это и не оставлять мне каждый божий день. Кое-кто так считает. – Он послал маме воздушный поцелуй. – Привет, дорогая. Привет, Нинс.
– Привет, Малк, – сказала я, поцеловав его и через плечо глядя на маму, которая теперь была увлечена нарезанием чего-то еще. – Как прошел твой день?
– Прекрасно, – ответил он. – Я пропустил стаканчик с Брайаном Кондомином. Он как раз заканчивает книгу о распространенных способах убийства в викторианском Лондоне. Она чудесная! Очень интересно.
– Оу, звучит здорово, – сказала я с неприкрытым сарказмом.
– Точно, – мечтательно подтвердил Малк, – так и есть. Я ходил в «Прайд» на Спиталфилдсе. Очень интересный старый кабак на Хэнедж-стрит. Говорят. – Он с удовольствием вскочил на ноги. – Джеймс Хардиман выпивал там, прежде чем его убила Анни Чепмен. Я уже провел большое исследование, и это вполне может быть правдой, но более вероятно, что…
Я взяла еще одну кружку, стараясь внимательно слушать: когда Малк начинает рассказывать о Джеке Потрошителе, его сложно остановить. Я протянула ему чашку чая, и он наконец сел и переложил со стула мой рюкзак поближе ко мне. Он валялся на боку с открытой молнией, и когда я положила его на пол, все содержимое вывалилось.
– Какой беспорядок, – сказал Малк, внезапно прервавшись на середине описания основных горловых артерий. – Иногда мне кажется, что вы обе приходите домой раньше меня только затем, чтобы успеть посшибать все вещи, которые мне придется убирать.
Я ползала по полу, собирая свои наушники, книгу, кошелек. Малк нагнулся и поднял из общей кучи маленький кремовый конверт. На лицевой стороне бледным расплывающимся почерком было написано мое имя.
– Еще почта, – сказал Малк, протягивая мне конверт. – Я что, это не заметил?
– Оно без адреса, – проговорила я с любопытством. – Наверное, валялось в рюкзаке.
– Что там? – спросила мама.
Глупо признавать, но мои руки тряслись, когда я открывала конверт. Внутри была фотография. Маленькая фигурка на небольшом расстоянии: стройная девушка с черным пучком со странным, задумчивым выражением лица. У нее в руках было длинное весло, похожее на лодочный шест, и она стояла в маленькой деревянной лодке, посреди реки, с обеих сторон обрамленной деревьями, во враждебной позе. Казалось, что фото сделали вчера: хотя оно было черно-белое, можно было разглядеть движение воды, блики, ветерок в густых, шелестящих зарослях на берегу.
Мне стало любопытно, и я снова почувствовала зудящие мурашки на голове, когда рассматривала эту картинку, небо и воду. Я перевернула фотографию. Блеклыми черными чернилами, уверенным закрученным почерком было написано:
Во время обеда, когда она исчезла, я безуспешно искала ее в женском туалете, прежде чем забрать свои вещи и побежать обратно на работу. Теперь же я смотрела на свою сумку; передний карман был открыт. Скорее всего, она наблюдала за мной и выжидала момент.
– Не понимаю, – сказала я, рассматривая надпись. Я посмотрела на маму. – Твою маму же звали не Тедди, да?
Но я знала маминых родителей. Да, смутно, но я знала, по крайней мере, кем они были: Джек и Бетти, профессора литературы с Верхнего Вестсайда, Бетти умерла, а Джек дожил до глубокой старости в своем доме в богатом районе Нью-Йорка.
Мама безучастно покачала головой:
– Это не моя мама. А как звали маму твоего отца, я не знаю. Я не знала… – Она снова отложила в сторону нож. – Разве… разве Тедди не мужское имя?
– И женское тоже. Теодорора. Тэа. – Малк взял фотографию. – Но что за Кипсейк? И зачем тебе это фото? – Он машинально потер руки, чуя новое дельце. – Как странно.
Мама повернулась к Малку:
– Сегодня в библиотеке к Нине подошла женщина и сказала, что знает ее и что ее семья врет ей про смерть отца. И что тут какой-то заговор. А Нина никогда ее раньше не видела.
– Ага, – сказал Малк. Я увидела, как они переглянулись. – Что-то еще есть? – спросил он меня.
Я встряхнулась. Казалось, в кухне было что-то холодное, темное, кружащееся, блокирующее весенний солнечный свет. Я убрала фото, желая, чтобы его вообще не было.
– Ну, да. Я иду выпить с Себастьяном, – сказала я. Я не знала, что мне еще сказать, как не прерывать с ними разговор.
– Вы с ним сейчас чаще видитесь, чем когда были женаты, – сказал Малк, шурша в карманах и методично, одно за другим выкладывая на стол мелочь, чеки и конфетные фантики. Он делал это каждый вечер; что-то вроде подведение итогов дня. – Как вы оба встретите кого-то еще, вот я хочу сказать… – Он замер, как будто говоря сам с собой, затем посмотрел вверх и нервно засмеялся. Атмосфера накалилась, как будто мы все отлично знаем, какие играем роли. И ведь мы играли их уже несколько лет.
Но тут было другое. Я подперла рукой подбородок и, хмурясь, уставилась куда-то вдаль. На фоне мама методично помешивала что-то в кастрюле.
После минутной паузы Малк сказал:
– Послушайте. Вы, обе, не заморачивайтесь по этому поводу. В Арчвей, где я снимал комнату, у меня была соседка, которая верила, что я шотландский футболист, который был в розыске за налоговые преступления, и она посчитала своим долгом меня сдать. Она постоянно писала письма в полицию. И ее невозможно было переубедить, как ни старайся. А если встретить ее вот так, то никогда не подумаешь, что у нее не все дома. Таких людей по улицам бродит больше, чем вы думаете.
– Она была как раз такая. – Я вспомнила ее безумные дикие глаза и то упорство, с которым она со мной разговаривала. – Знаешь, ты очень похожа на своего отца. И да – я ей поверила.
Малк перешел на сторону, где стояла мама, и обнял ее, как будто защищая.
– Вот и вся загадка, да? У нас есть детская потребность верить в привидения, когда на самом деле люди просто иногда путают адреса, или забывают их, или злятся на что-то, о чем мы не знаем.
Мама принялась с большей силой помешивать еду, а Малк отпустил руки, глубоко дыша.
– А вот настоящая загадка в том, что же мы будем делать с моим днем рождения.
– Тот, что в июне, через целых семь недель? – сказала я немного издевательски. – Этот день рождения?
– Я взял отгул. Брайан хочет отвезти меня на встречу с тем полицейским в отставке, который знает, где Крейзы спрятали два трупа, но пока я ничего не могу сказать. Это как-то пересекается с планами, которые у вас есть на этот счет, а? – Наступила короткая пауза.
– Дилл?
Мама, для которой Рождество каждый год наступает неожиданно, выглядела немного озадаченной.
– Что, у тебя опять день рождения?
– Да, Дилайла. Так странно. Надо тебе завести будильник на это время.
Я смотрела на фото, положив его между страницами своего романа про Эркюля Пуаро, облокотившись на столешницу, чтобы как-то присутствовать при том, как красиво бедный Малк приходил в ярость. Сладкий, душный пар поднимался из кастрюли с томатно-луковым соусом. Я игнорировала голоса, которые кружили вокруг моей головы. Вот проблема богатого воображения. От него у тебя столько проблем.
Глава 4
Вторую фотографию принесли через тринадцать дней. Я стояла у офисного шкафа с канцелярией, по идее, проводя инвентаризацию, но на самом деле частично занимаясь ею и частично поедая тофу и читая «4:50 из Паддингтона», книгу, которую я в обед взяла в библиотеке. В университете, и когда жила с Себастьяном, я была до ужаса организована. Даже когда после развода я жила с Ли и Элизабет в нашей веселой однокомнатной квартирке, только я одна протирала пыль и занималась стиркой. А теперь и на работе, и снова дома у мамы я была в постоянном состоянии хаоса; я не могла найти одинаковые носки и то и дело теряла свою смарт-карту, не говоря уже о пуговицах, ботинках и резинках для волос. И еще книги. Я просто выходила из метро, забыв их на сиденье. Я все время забывала что-то по работе, заказывая канцелярию, которая нам была не нужна – еще два дырокола, неподходящие картриджи для принтера. Большую часть своего рабочего дня я проводила на телефоне, разговаривая с поставщиком канцелярии, чтобы сделать возврат заказа. Когда я встала на колени на полу, в одной руке держа Агату Кристи, другой рукой запихивая скрепки в серого цвета полости, Сью открыла дверь, и я подпрыгнула от неожиданности.
– Нина, тебя к телефону.
Я заерзала на коленях, уронив на пол книгу.
– О, спасибо, Сью. Можешь сказать, что я перезвоню? Я немножко занята. – Я посмотрела ей в лицо. – Кто это?
– Это Себастьян. Говорит, это важно. Он очень милый, Нина. Очень общительный. – Сью всегда пыталась расспросить меня о любви всей моей жизни, или об отсутствии таковой.
– Он… – Я пыталась не вздыхать. – Да. Скажи ему, что я перезвоню, ладно?
– Он дал ясно понять, что это важно, – сказала Сью, непреклонно уставившись на меня и не замечая весь этот бардак в кладовке. – Правда, что-то неотложное.
– Хорошо. – Я села, раскидав скрепки по полу. – О черт.
– Я все подниму, – сказала Сью. – Иди поговори с ним.
– Спасибо, Сью, – ответила я, поднимаясь. – Тоффи?
– О, как мило. Да, пожалуй. А теперь беги! – Она сияла, как мамаша-сводница. – Он ждет тебя!
У меня не хватило смелости сказать: «Он мой бывший муж, Сью, и он переспал с моей новой соседкой через две недели после того, как мы разошлись». Поэтому я просто схватила свою книгу, непринужденно, как будто было в порядке вещей читать детективы и поедать тоффи в полчетвертого дня.
– Привет, – сказала я через минуту, смахивая одинокую скрепку с юбки. – У тебя все в порядке?
– Все хорошо, Нина, ты можешь говорить?
– Конечно. Все хорошо?
– Я хотел поговорить с тобой кое-о-чем таком… – Он замер.
Вот еще одна скрепка, на колготках. Я неаккуратно оторвала ее и пошла стрелка. Я сказала, стараясь не выдавать свое нетерпение:
– Я работаю, Себастьян, что там у тебя?
– Не клади трубку. Моя мама хочет тебя видеть.
– Цинния… хочет видеть меня?
– Точно.
– Не хочу показаться грубой, Себастьян, но… эм… зачем?
– Ну, мы же все еще друзья, да, Салли? – Одно время мы звали друг друга Гарри и Салли, в один из тех периодов, когда мы давали друг другу клички, чтобы объяснить нашу странную ситуацию.
– Да, мы друзья. Но твоя мама так не считает, правда?
– Я все же думаю, что тебе не следовало бросать в нее ту вазу.
– Я не разбивала эту чертову вазу… – Я остановилась. – Послушай. Я на работе. Не беси меня.
– Но тебя так легко бесить, Нинс. – Он смеялся; я ничего не ответила. – Нет. Честно. Не знаю, по какому поводу, правда, она просто сказала, что хочет тебя видеть. Сказала, что должна тебе что-то сказать.
На самом деле, Цинния приглашала меня в Хай Мид Гарденс на чай за шесть месяцев до того, как наш брак развалился. Мы сидели в длинной, низкой гостиной с потертым паркетом, на стенах висели фотографии счастливой семьи Фейрли за работой и за игрой, сделанные в разные годы. У Циннии было наше с Себастьяном свадебное фото в рамочке, но надо сказать – она его так и не повесила, только прислонила к стене на тумбочке. Ни к чему портить штукатурку гвоздем для этой фотографии. Конечно, она была права.
Она подала сэндвичи с огурцом и те бисквиты с жесткой розовой и шоколадной глазурью – те самые, которые так хорошо смотрятся, но на самом деле отвратительные. Она сказала мне, что «пыталась со всем этим справиться». Что я «сломала ему жизнь» и «превратила его в ничтожество». Что если бы я его любила, я бы ушла и никогда не звонила бы ему больше.
Ирония в том, что в итоге я так и сделала. Не потому что была с ней согласна, а потому что к тому времени мы сами к этому пришли. Смешно вспоминать, как тогда было больно. Та Нина – совсем другой человек по сравнению с сегодняшней мной: она была безбашенная, отчаянная и беззаботная. Цинния тоже была частью той жизни, моей старой жизни, полной драмы, в которой нормально было плакать и рыдать на людях, заниматься всю ночь любовью, когда Лондон был полон возможностей, дни были бесконечные, и я верила, что я та самая девушка, которая жила – а не пустая, всегда-наблюдающая-но-ничего-не-делающая Нина, на задворках которой я была раньше, прежде чем встретила его, и какой я остаюсь сейчас.
Я даже не знаю, что бы я сейчас сказала Циннии, если бы мы встретились. Я сглотнула и переложила трубку в другую руку.
– Ты еще тут? – мягко сказал Себастьян.
– Да. Извини, Себастьян. Просто скажи, что не дозвонился до меня. Я сейчас очень занята, в любом случае. – Я замолчала. – Хорошо?
– Конечно, – ответил Себастьян, и мне захотелось, чтобы он попросил меня еще раз. – Ты должна как-нибудь заглянуть к моим родителям на обед. Они были бы рады тебя видеть, я точно знаю. Вообще, я имею в виду, что ты уже столько у них не была.
– Конечно, – сказала я еле слышно.
– И кстати, мы так и не договорились, когда пойдем выпить.
– Да, – начала я, уже готовая признаться в том, что все же это плохая идея, но вдруг появилась Бекки, размахивая набором бисквитов у меня перед носом: сегодня днем мы собирались устроить чаепитие в честь королевской свадьбы, которая была назначена на следующий день.
Мы попрощались, договорившись встретиться когда-нибудь на следующей неделе: обычно один из нас писал другому, если выпадал свободный вечер, и приглашал выпить кофе или на обед, чтобы было с кем скоротать время. Я задумчиво погрызла свой палец, рассматривая стрелку на колготках. Не считая Циннию, мне нравилась семья Себастьяна: я любила его брата и сестру, которых редко видела, и его грозную тетушку Джуди, которая жила с ними. Но мы развелись. Мы развелись и были не вместе уже два года.
Как вы оба встретите кого-то, вот что я хочу сказать. В моей голове засела фраза Малка, которую он сказал мне пару недель назад, тем вечером на кухне. Я раздраженно поежилась. Цинния вскрыла во мне самое плохое: я всегда чувствовала, что она знает меня и все мои плохие привычки, как никто другой. Что она видела насквозь человека, которым я притворялась. Что она замышляла?
Я поднялась, намереваясь по-быстрому закончить инвентаризацию до начала чаепития, быть хорошим напарником и коллегой и полностью погрузиться в разговоры о дядюшке Гарри, парикмахере Кейт и о том, кто будет подружками невесты. Я подняла свою «4:50 из Паддингтона», чтобы убрать обратно в сумку. Что-то, лежавшее между пожелтевших страниц, выпало на пол. Я подпрыгнула, посмотрела вниз и резко вскрикнула.
– Боже мой! – воскликнула Бекки, уронив стопку флагов Юнион Джек. – Что, черт возьми, случилось?
Я подняла карточку, которая лежала на стуле и прижала ее к груди, в которой бешено колотилось сердце.
– Ничего. Показалось, что там паук, но это тень. Извини, Бекс.
– Иди и возьми торта, – сказала она с улыбкой. – Ты знаешь, мы все так волнуемся!
Мне не хотелось идти смотреть. Я подумала, может быть, мне просто выбросить ее, не посмотрев? Притвориться, что ко мне ничего такого не попадало?
Это была еще одна фотография, черно-белая. Сейчас она лежит рядом со мной, когда я пишу это, три года спустя, и я до сих пор отчетливо помню, как первый раз на нее взглянула. Серый угол громадного дома. Широкое окно первого этажа, двустворчатые наличники вверху. Здание старое, покрытое мхом и вьющимися розами. В каждом углу бушуют цветы. Знакомая маленькая девочка с угрюмым лицом, примерно десяти лет, волосы колечками, одета в бархатное платье-фартук поверх кремовой шелковой рубашки. Она смотрит в камеру, чуть нахмурившись. Рядом с ней стоит женщина, стройная и элегантная, в длинной юбке и темной блузе. Тряпичный зонтик, упав на пол, покачивается и немного расплывается рядом с женщиной. У малышки в руках небольшая деревянная коробка; женщина держит длинный, поникший светло-серый предмет – сначала я подумала, что это был какой-то глупый костюм, привидение, а потом поняла, что это большая сеть. Над ними какое-то пятно в безоблачном небе. Я посмотрела поближе, и сердце мое бешено колотилось. Это бабочки.
Я перевернула фотографию.
Но адреса не было, ничего не было, ни конверта, только фотография. Я попыталась вспомнить, куда я ходила в библиотеке час назад во время обеда, как я могла опять ее упустить. Она наблюдала за мной, следила, как паук в темном углу. Я снова задрожала.
Я тихо сидела и смотрела на девочку на фото, не моргая, пока не заболели глаза. Я уже видела ее? Вот почему мне кажется, что она мне знакома?
– Нина? – Рядом со мной стоял Брайан Робсон, и я уставилась на него, быстро моргая. – Ты что, не идешь пить чай? У нас там пари насчет цвета платья королевы!
Сунув фото и книгу в сумку, я встала.
– Да, конечно. Сейчас приду! – Я бросила сумку под стол, почти пихнула ее туда. Я разберусь с этим дома, сказала я себе – все хорошо. Я с этим справлюсь. Все хорошо.
Весь остаток вечера я не могла сконцентрироваться. Давящая боль сковала мне голову, и я продолжала делать ошибки – больше, чем обычно. Но у меня не получилось накосячить столько, сколько было в последнее время. Я ушла из офиса, как только выдался момент, и по пути столкнулась с Брайаном Робсоном.
– С тобой сегодня все в порядке, Нина? – спросил он, держа свой зонтик.
Я смотрела прямо перед собой на блестящую металлическую стену лифта.
– Да, Брайан. А что?
– Я беспокоюсь за тебя. В последнее время ты очень бледная.
– Не стоит! – сказала я, хотя чувствовала, как книга, в которой лежала та фотография, пульсировала в моей сумке, как иная форма жизни в «Докторе Кто».
Это твоя семья, Нина Парр.
Ты не знаешь их.
Я вывалилась из лифта, улыбаясь и махая на прощанье, притворяясь, что хочу успеть на автобус, но пошла пешком, через Фицровию, через многолюдные, счастливые улицы, весенним вечером в четверг в центре Лондона, где работяги сновали по тротуарам с пластиковыми стаканчиками в руках. Было прохладно, но в воздухе витало воодушевление, по поводу королевской свадьбы, и у популярных баров выставили смешные таблички, на которых мелом было написано: Завтра в 11 утра. – Вейти Кейти против Болд Слик Вилли, схватка в супертяжелом весе! Не пропустите! (Севиче и кувшин кайпириньи в подарок), а более традиционные лондонские пабы были украшены лентами Юнион Джек, чайными полотенцами, цветочными корзинами и специальными пластиковыми значками: ПОЗДРАВЛЯЕМ СЧАСТЛИВЫХ МОЛОДОЖЕНОВ.
Казалось, что все вышли на улицу, в предвкушении завтрашнего дня. Я смотрела на девушек, похожих на меня, смеющихся за напитками, в платьях с цветочным принтом и шляпках, с небрежными пучками, с яркой помадой на губах, в веселых дешевых и ярких солнечных очках. Я чувствовала себя чужой.
Может быть, я просто давно не вспоминала Мэтти, или, может, всему виной звонок Себастьяна. Или королевская свадьба: как счастливы были все вокруг и как мало меня это волновало.
Возможно, все дело в этой второй фотографии и в том, как много вопросов оставались без ответа, и теперь они, казалось, кричали даже громче, чем после первой встречи с мисс Трэверс. Возможно, я узнала ту девочку на фото, и вообще возможно, что я всегда знала, что чего-то не хватает – не только папы, но чего-то еще, какого-то центрального компонента, который составлял мое целое, давал мне понять себя и мою маму и почему у нас все так сложилось.
Потому что когда я пришла домой, все началось. Я захлопнула входную дверь и закричала «Привет!», чтобы мама услышала, но ни звука не вылетело. В моей голове рокотал шум, и вдруг я обнаружила, что прижимаюсь к стене, как будто что-то большое уселось мне на грудь, обездвижив меня. Я ничего не видела. Перед глазами плавали мутные волны. Глотку заложило, невозможно было дышать.
Там внутри что-то есть, и оно хочет наружу. Вот что обычно говорила миссис Полл, когда мне снился кошмар. Когда мы придумали Мэтти. Ничего хорошего не выйдет, если держать все в себе. Поверь мне. Но все эти годы я ее не слушала.
Знаете, с того первого дня в библиотеке я знала, что мне известно это имя. Знала лицо этой девочки, знала про бабочек, узнавала что-то во всем этом. Мне просто нужно было вспомнить, впустить это в себя. Оно стояло снаружи, танцуя и крича, чтобы его впустили, а я это не видела, не могла открыть дверь…
– Детка? Это ты? – позвала мама из кухни, и я подпрыгнула, чувствуя себя виноватой.
– Да, мам! – крякнула я в ответ, пытаясь звучать весело, и, слава богу, мой голос подчинился. – Привет. Ты как?
– Хорошо. Как раз заканчиваю.
– Не спеши, – прокричала я, облокачиваясь на стену. – Я… я только переоденусь.
– Ок, – сказала она, и наступила тишина.
И я знала, что я не могу просто спуститься в кухню и сказать своей матери, что я обнаружила еще одну фотографию, что та женщина реальна, что она меня знает. И то, что это надо было держать в секрете, пугало меня больше, чем я могу выразить. У нас было негласное соглашение притворяться, что мы пережили все это целыми и невредимыми, она и я, но мы обе знали, что это не так.
Я закрыла глаза, и тогда я это увидела – картину, которую искала. Набросок, какой-то рисунок: я бежала к нему, но он всегда, всегда ускользал. Ты не там ищешь – обычно говорила мне миссис Полл, когда я злилась, если не могла вспомнить какую-то вещь или имя. Поищи в другом месте.
На стеклянной панели над входной дверью миссис Полл помогала мне развешивать рисунки, которые я сама нарисовала для папы. Я рисовала его, маму и себя. Мы смотрели вперед, прямо в небо, чтобы оттуда он мог нас разглядеть. Я хотела, чтобы он видел, какой теперь у нас дом, на случай, если захочет прийти в гости, посмотреть, все ли у нас в порядке. Мама снимала их. Она сказала, что нытики Лоусоны жаловались.
И вот мне снова восемь, и я знаю, что миссис Полл здесь, всего через несколько метров, и я вижу ее. На картинке в моей голове – я у неё в квартире. Я вижу книгу, которую мы обычно читали с ней вдвоем, и я знаю, что могу подняться наверх, и там будет она, и все будет хорошо.
И я начала подниматься по лестнице и прошептала старую, давно знакомую фразу, которую я обычно выкрикивала каждый вечер.
– Миссис Полл? Вы там? Можно мне подняться?
Этот голос: теплый, чуть хриплый от возраста. «Ну и кто это там так шумит? Стадо слонов поднимается по лестнице?»
До ее квартиры всего один пролет, и я дома.
– Это не слоны, миссис Полл. Это я, Нина.
И снова ее голос, зовущий меня назад. «Ну конечно, это ты. Как чудесно. Я весь день ждала, когда ты придешь и составишь мне компанию. Закрой дверь, малышка».
«Нина и бабочки». Я подпрыгнула, когда добралась до площадки первого этажа. Забавная история. Список бабочек. Девочка по имени Тедди.
Я дошла до самого верха на второй этаж, где страх и хаос умолкли и воцарился порядок и теплота. И я увидела книгу. Квадратная жесткая обложка, побитые уголки… Мэтти. Две фигурки, бегущие по полю в погоне за бабочками. В детстве я читала ее сто раз. Она ушла – ее яркая, светлая кухня ушла, – но книга все еще была тут, я знала это, и это все должно быть каким-то образом связано. Моя мама. Я. Мой отец и то, что произошло.
Глава 5
Я думаю, сейчас самое время для небольшого биографического отступления. В феврале 1986 года, когда мне было примерно шесть месяцев, мой отец отправился в экспедицию в тропические леса Венесуэлы, в поисках Стеклокрылой бабочки, и больше не вернулся. В возрасте примерно двадцати – как раз после смерти миссис Полл – я дала себе обещание узнать о Стеклокрылых бабочках все, что смогу. Скоро в местной библиотеке закончились книги, которые могли бы мне помочь, и думаю, тогда моя бедная мама и вспомнила об абонементе в Лондонскую библиотеку; я брала все книги по этой теме, которые находила, и читала все подряд, мало чего в них понимая. Я ненавидела бабочек: как любой уважающий себя лондонский ребенок, я с осторожностью относилась к ярким порхающим существам, которые летели тебе прямо в лицо. Я знала, что они заманили моего отца, но почему-то их изучение меня успокаивало: это давало мне чувство контроля.
Еще он изучал мимикрию Бейтса – об этом я тоже узнала из сводки новостей. Поскольку маловероятно, что вы знакомы с мимикрией Бейтса, объясню: это такой синдром, когда бабочки, которые особенно подвержены нападению других видов в джунглях, научились эволюционировать так, чтобы напоминать совершенно разные виды бабочек, которые непривлекательны для хищников. Очевидно, мой отец занимался какой-то важной работой в этой области. Его считали продвинутым мыслителем в вопросах эволюционной теории бабочек – его и Набокова, можете в это поверить?
Не думаю, что ему хотелось уезжать в ту командировку. Мама однажды сказала, что ему было очень трудно оставлять жену и новорожденную дочку. Мама буквально никого не знала в Лондоне: еще несколько лет назад она была как те героини романов, которые бросают все ради любви.
Когда ей было девятнадцать, в 1979-м, мама приехала в Оксфорд по программе Фулбрайт. Она встретила отца в Бодлианской библиотеке; когда ее книга упала с парты на пол, Джордж Парр случайно проходил мимо и поднял ее. (Я всегда представляла, что это была «Анна Каренина» или «Последний из могикан», что-то захватывающее, страстное, стоящее их любви, и очень разочаровалась, когда в один из недавних разговоров об отце мама рассказала, что та самая книга была монографией о массовом бегстве шахтеров из оловянных рудников Корнуолла в Калифорнию во время Золотой лихорадки.)
Мамины пальцы переплелись с папиными, когда он протянул ей книгу, и во время прикосновения их взгляды встретились. Они оба почувствовали одно и то же: и мгновенно все поняли.
Есть их фотография, сделанная в их первое лето вместе. Они стоят перед Бодлианской библиотекой. Папа – блондин с квадратной челюстью. Он обнимает маму одной рукой, как будто хвастаясь ею перед камерой, а она, в свою очередь, обнимает его за талию. Ее волосы огромным ореолом разбегаются кудряшками вокруг веснушчатого, с яблочным румянцем лица, ее груди торчат как тугие крошечные бутоны из-под тонкого полосатого жилета, а свободная рука широко распахнута, и она улыбается, голова упирается в солнце, а папа улыбается ей, как будто не может поверить, что с ним эта экзотическая, чувственная богиня. А именно такой она и была.
(Я совсем не похожа на тех золотых, прекрасных людей, как бы мне ни хотелось. Я темная, долговязая и косоглазая – «постоянно с недовольным лицом», как говорил Джонас, хотя я не нарочно так выгляжу. Обычно люди подходили к моей маме и глазели на мою подвесную коляску в стиле 50-х, одно из пожертвований Женского Общества Ислингтон. «Какая очаровательная малы…» – начинали было они, и слова застревали у них на губах, когда я смотрела на них суровым взглядом, со сжатыми в злую розочку губками.)
После отличного года в Оксфорде мама рассталась с отцом, и оба они так сильно рыдали при расставании у терминала аэропорта, что стюардесса вынуждена была попросить их разойтись, так как они нервировали других пассажиров. Они разломили свой любимый Альбом Вашти Баньян надвое, и каждый забрал половинку – ох, юношеская любовь! Когда я была маленькой, на этом эпизоде у меня округлялись глаза от восхищения такой дерзостью, а в подростковом возрасте – от романтичности этой сцены. Теперь я закатываю глаза, когда думаю об этом: как они могли так поступить с ценной пластинкой.
Мама вернулась в Нью-Йорк, чтобы окончить колледж, но потом, к бесконечному разочарованию своих родителей, забросила учебу и, продав жемчужное ожерелье, подаренное ей на шестнадцатый день рождения, улетела обратно в Лондон, драматично появившись на пороге отца в Оксфорде. Она тут же переехала к нему. Они повесили пустой футляр из-под ожерелья над входной дверью, как символ своей любви.
Однажды, примерно через год, они решили пожениться. По словам мамы, от нечего делать. Пошли в загс с соседом и парой старых друзей в качестве свидетелей, а потом поужинали в баре напротив Хаддингтона. Никаких родственников. Детство моего отца было почти как мамино: единственный ребенок немолодых родителей, только в его случае они уже умерли, когда он был подростком. Последние два года, во время учебы в интернате, он проводил каникулы у друзей, перед тем как поступил в Оксфорд. У него еще был троюродный брат, Альберт, в Бирмингеме, которого он видел только пару раз в жизни, а мама вообще ни разу. И поэтому тем холодным ноябрьским вечером их было шестеро. На маме было белое кружевное платье, которое она купила в антикварном магазине, – оно было немного маловато, и на свадебном фото можно разглядеть, как одна из пуговиц на спине сползает к плечу, и она стоит рядом с отцом, вызывающе официально, смотря в объектив.
Когда они поженились, ей было двадцать два, а ему двадцать три. Кто их сфотографировал? Кто сфотографировал их у Бодлианской библиотеки, тот снимок, что мама всегда хранила на камине? Я помню, как она рассказывала мне о том, как они купили квартиру в подвальном этаже на Ноэль-роуд, вне себя от счастья от того, как дешево она им обошлась. В день, когда они сюда переезжали, отец перенес маму через порог, и на скользких ступеньках они шлепнулись: он повредил спину и неделю был вынужден спать на полу.
Когда мама говорила о нем, она всегда улыбалась. Эти истории заполняли мой маленький невинный детский мозг. Я отлично помнила все, что она рассказывала мне об отце.
– Нам казалось, что мы придумали эту любовь, – сказала она мне однажды.
Она рассказывала мне о счастливых временах в Ислингтоне, о том, как я родилась, о том, как в полночь они шли в больницу через Блумсбери, но она очень туманно говорила о том, что было после: она не любит вспоминать то время. Потому что мой отец уехал и больше не вернулся.
Наверху, в комнате Мэтти, хранились важные для меня вещи: мои любимые книги, мои лучшие платья, которые я давала Мэтти поносить, чтобы ее успокоить, и личное дело отца. Это была такая коробка, которую мне дала миссис Полл, и в ней лежали листочки с написанными рукой фактами о нем – некоторые я выпросила у мамы, остальное узнавала как-то сама.
Каждый пункт был написан разноцветными ручками, а по краям листок был украшен бабочками. Он был прикреплен к холодильнику миссис Полл и провисел там много лет, пока скотч не засох и не отлепился. Кроме того, это было как-то по-детски, этот листок и другие вещи, которые я все еще хранила. В какой-то момент, даже не помню когда, я просто убрала список в папку, вместе с остальными глупыми штуками, вроде его старого ремешка для часов, его любимой книги, «Нина и бабочки», и этой газетной вырезки, которую я долго помнила наизусть:
Памяти молодого энтомолога Джорджа Парра, погибшего в Венесуэле
Служба новостей: Каракас, Март 1986: Оксфордский Музей естественной истории вчера вечером подтвердил смерть самого молодого члена экспедиции в Андах, умершего предположительно от сердечного приступа. Джордж Парр, 27 лет, был преуспевающим молодым энтомологом, считающимся одним из самых одаренных представителей своего поколения, чьи работы в области мимикрии Бейтса и Мюллера и различных мутаций в энтомологии быстро набирали популярность среди глобального научного общества. У него остались жена и шестимесячная дочь. Музей еще не прокомментировал подробности обстоятельств смерти.
В период недостатка внимания, и особенно после смерти миссис Полл, я очень гордилась этой вырезкой: у других учеников в школе не было отцов, о смерти которых писали в газетах.
Я не знаю когда, но постепенно мы перестали говорить о нем. Дом снова поменялся, вещи постоянно перемещались, и коробка с его личным делом отправилась на полку в мамин кабинет. И список, и фотографии, и книга – все было со временем забыто.
Все эти годы фото моих родителей у Бодлианской библиотеки стояло в маминой спальне: я видела его каждый день, потому что мы с ней жили в одной комнате в темном, сыром, заполненном крысами подвале – миссис Полл занимала два верхних этажа. Лоусоны жили под ней, а капитан Веллум еще ниже, над нами.
Большинство моих ранних детских воспоминаний связаны с кухней в нашей квартире и с женским обществом Ислингтона. У меня есть два очень ясных воспоминания о том времени. Первое – вечер, когда Таня, фактический руководитель женского общества, принесла маме пальто одной из участниц, Эльзы, которое было на ней, когда ее сбил автобус номер 19 на прошлой неделе. Мама взяла его и заплакала, и другие женщины пришли к нам, и все они сидели за кухонным столом, обнимая друг друга и попивая спритц. Она носила то пальто – темно-розовое мохнатое пальто, которое потом постепенно стало желто-серым от лондонской грязи, – до прошлого года, когда его окончательно сожрала моль. Они были очень добры к нам (я имею в виду Общество, не моль, которая долгие годы была большой проблемой, пока Малк с ней не разобрался), но они занимали много места и времени – времени, которое я хотела провести с мамой, вдвоем, а не с ними. Я хотела показать ей, что ей больше никто не нужен, что ей не надо грустить, потому что я о ней позабочусь.
Они много плакали, те женщины из Общества. Когда Таня появлялась у дверей, я уже знала, что надо смываться наверх, мимо прачечной, обойдя противный гвоздь в коридоре, который вылез через дырку в ковре, под простынями, которые миссис Лоусон всегда развешивала на перилах, вверх, вверх, на вершину дома, к миссис Полл. Мне они никогда не нравились. Наверное, это потому, что они почти до смешного не интересовались мной, кроме как в качестве будущего угнетенного меньшинства. «Разве твой ребенок сам не может приготовить себе еду?» – однажды нудно спросила маму Эллисон, когда мама убежала с собрания Общества, чтобы сделать мне сэндвич с тунцом из банки – нашу любимую еду. Мне было пять лет.
Я никогда не боялась, что мама сделает мне что-то плохое. Но я часто боялась за нее. Когда отопление было отключено, или сырость слишком расползалась, или когда нытики Лоусоны нападали на нее по какому-то поводу – и когда, думаю, тяжесть ее ситуации заставляла меня чувствовать себя еще более отчаянно, чем обычно, – когда она сердилась и начинала хлопать кухонными дверьми. После этого что-то обязательно шло не так – разбивалась чашка, протекал кран, я устраивала беспорядок, уронив еду – и весь этот ад прорывался наружу. Я знала, что она не хотела этого. Я это понимала, даже тогда, но все равно боялась ее непредсказуемого настроения.
Второе воспоминание – мне было около пяти, когда Таня отправила рукопись маминой книги, «Птицы мычат», своему знакомому редактору. Мама несколько лет с перерывами втайне работала над ней: я часто присутствовала при этом, когда она сидела рядом со мной, полусонной, и яростно стучала по клавишам своей старой электрической печатной машинки цвета горохового пюре. Она согласилась показать книгу Тане, потому что Таня неделями от нее не отставала. И вот однажды вечером как снег на голову Таня появилась в дверном проеме и объявила, что утром она отправила рукопись своему другу. Она думала, что маме будет приятно.
Я еще никогда не видела маму такой сердитой. Она назвала это предательством, подрывом всех устоев Общества. Она была так зла, так кричала и бросалась вещами, что я спряталась под столом. Я не смела шевельнуться, потому что была до смерти напугана, и описалась. Наконец спустился мистер Лоусон и забарабанил в дверь, требуя, чтобы мама заткнулась, но мама не обращала внимания. И потом мама и Таня кричали друг на друга еще минут двадцать…
Дилайла, это очень грустно, что ты не хочешь себе самой помочь, и помочь людям, которые хотят тебя продвинуть.
Ради бога, ты не имела права делать это, Таня! Как ты посмела влезть в мою жизнь, не нужна мне никакая помощь, и я не выношу, когда люди суют свой нос! У нас все хорошо! Нам никто не нужен!
…даже миссис Полл появилась в дверях и попросила, чтобы они были немного потише, и забрала меня с собой. Я помню, как брыкалась, хотела остаться там, не хотела оставлять маму одну. Но миссис Полл была на удивление строгой, и утащила меня наверх, к ванне и пижаме, и потом сделала мне тост с сыром и жареной картошкой. И даже разрешила посмотреть «Хэй-де-хай!».
После этого мама несколько дней повторяла, что Таня ударила ее ножом в спину. Я думаю, что она просто испугалась. Но Таня оказалась права, потому что редактору понравилась книга, и он отправил маме предложение опубликовать ее, и хотя поначалу мама ни в какую не соглашалась, все же она сдалась, хотя не думаю, что ее дружба с Таней с тех пор осталась прежней.
Книга была посвящена мне. «Маленькой Нине. Надеюсь, что она все исправит». Мне кажется, очень грустный эпиграф.
«Птицы мычат» рассказывает о маленькой девочке по имени Кора, которая проснулась однажды утром и обнаружила, что все изменилось. Небо сделано из бисквита, цветы пахнут соусом, птицы мычат, а ее мама и папа превратились в крошечных человечков, которых она поставила на камин и чьи голоса были такие слабые, что она не могла расслышать, что они говорят. Маленькой девочке предстояло выяснить, почему это случилось и сможет ли она повернуть все вспять, чтобы все стало как прежде.
Она никогда мне ее не читала, вот что интересно. Я читала сама – я прочла все ее книги. Учителя в школе всегда говорили, что я была самой счастливой девочкой в мире, чья мама пишет книги специально для нее. «Они про тебя? Уверена, что да!»
Я так и не смогла им сказать, что я поняла в семь-восемь лет: «Нет, они про маму».
Она пишет книги о маленькой потерянной девочке, которой она была и которой осталась, но я не думаю, что она поняла, о чем ее книги. Правда в том, и я скажу это один раз и больше не буду к этому возвращаться, потому что мне от этого больно: я никогда не понимала мамины книги, и я не знаю почему. Я просто им не верю. И это в каком-то смысле делает меня самой плохой, самой неблагодарной в мире дочерью. «Птицы мычат» продавались и продаются – они есть в каждой библиотеке страны. Я должна любить эту книгу, потому что она кормила нас: перед тем как ее издали, моя классная руководительница позвонила в социальную службу, потому что увидела, что мне снова были малы ботинки, но к тому времени над нами уже кружил сотрудник опеки. Миссис Полл пришлось одолжить маме денег, чтобы купить мне хорошие зимние ботинки (не те тряпочные, на резиновой подошве, которые давно развалились и стали слишком малы) и пальто (не прошлогоднее, которое все лето доедала моль и чьи рукава мне доходили только до локтей).
Как только «Птицы мычат» набрала популярность и у нас появились какие-то деньги, мы выкупили первый этаж капитана Веллума, после того как он умер, и для меня оборудовали подвальную спальню – к тому времени отмытую от сырости и обклеенную розовыми обоями от Лауры Эшли, с подобранными в цвет одеялом и набором подушек. Я думала, что умерла и попала в рай.
И фотография родителей у Бодлианской библиотеки отправилась в новую спальню мамы на первом этаже. Она стояла там годами, на камине, рядом с медным деревцем, которое она купила в антикварной лавке в Камден-Пассаж. Она начала покупать себе ожерелья, заключив контракт на книгу, когда денег стало еще больше: просто бижутерия, цветной пластик или стекло, или ракушки. Она развешивала их повсюду; иногда они стучались друг о друга, как китайские колокольчики, когда окна дрожали от грозы или когда кто-то хлопал входной дверью. Так вот, мама начала покупать ожерелья, и мы стали ездить в отпуск – не очень успешно, но, по крайней мере, меняли обстановку, – и когда мне было семь лет, она бросила работу официантки в итальянском ресторанчике неподалеку. Я думаю, она боялась снова остаться без денег, поэтому оставалась там дольше, чем действительно было нужно. В те вечера я отправлялась к миссис Полл – что мне, в любом случае, очень нравилось. Бедная мама.
Потом нытики Лоусоны переехали в собственный дом, и мы выкупили у кооператива их квартиру на первом этаже. Миссис Полл обычно смотрела на нас вниз со своей лестничной площадки. «Вы все ползете вверх, как плющ, – говорила она. – Держу пари, так вы выкурите меня из дома, пока я сплю».
Когда она умерла, с мамой связались ее ужасно серьезные и важные адвокаты. Мама, подумав, что ей принесли неоплаченный счет за что-то, была поражена, когда вместо этого ей сообщили, что миссис Полл оставила нам наследство в 50 000 фунтов, поделенное между мамой и мной, и что еще она оставляла нам свою квартиру: «Чтобы у Дилайлы и Нины наконец был свой дом и они были семьей».
До этого времени мы не чувствовали себя семьей, она была абсолютно права. И вот так мы стали владельцами всего этого высокого, неуклюжего дома у канала. Неудача, потом выдержка и упорная работа, потом счастливый конец: как я всегда говорю, на верхний этаж пришлось очень долго подниматься. И в какой-то момент мама, наверное, просто убрала их с папой фотографию, потому что, хотя эта сцена, их улыбки, их позы и врезались мне в память, после этого я о ней больше не помнила.
Сегодня многие люди говорят: «Я плохая мать». «Она не очень хорошая мать». «О, я просто ужасная мать». Как будто ждут какого-то осуждения. Вот этот человек: плохая мать. А вон там, через три дома направо, хорошая мать. Я никогда не думала о своей матери этими категориями. Она – моя единственная мама, поэтому как я могу сравнивать ее с другими? Я всегда знала, что она любит меня, даже когда она неделю меня не мыла, и когда я не ходила к друзьям на день рождения, потому что у меня не было подарка. Она всегда старалась для меня.
Кроме того, мне повезло. У меня был еще кое-кто, кто за мной присматривал.
Глава 6
Миссис Полл появилась, как Мэри Поппинс, из ниоткуда, когда мне было примерно шесть месяцев. А когда мне было почти одиннадцать лет, она внезапно умерла в самом начале своего отпуска в Лайм-Реджис, и в общей сложности она была с нами почти целых десять лет. В то время мне казалось особенно несправедливым, что она умерла там, потому что она всегда мечтала поехать в Лайм. Она никогда не ездила в отпуск, вместо этого устраивая себе однодневные поездки: в Бате у нее была подруга и какой-то далекий родственник в Кембридже, и время от времени она ездила к ним на денек, но нечасто. До сих пор я по привычке смотрю вверх, когда иду по Ноэль-роуд, в надежде увидеть свет в ее окнах. Она всегда была дома. И мне так жаль, что я не могу ее ясно себе представить, ее лицо расплывается в памяти. У меня не осталось ее фотографий. Она просто всегда была рядом.
Несколько лет мама работала официанткой в старомодном итальянском ресторанчике на Аппер-стрит. Три дня в неделю, когда я была маленькая, миссис Полл забирала меня из школы, и мы с ней пили чай, пока мама была на работе. Но обычно я и так поднималась к ней. Я начала ненавидеть выходные: у меня не было повода пойти к миссис Полл. Но иногда я придумывала всякие поводы: мне кажется, дымом пахнет, миссис Полл. Иди посмотри на эту божью коровку в саду, миссис Полл. Мамы уже давно нет, и мне одиноко, миссис Полл. Ее дверь запиралась только на щеколду, но я всегда стучала. Мама вбила мне в голову, что я не должна считать весь дом своим, что я должна давать ей отдыхать. Но я ей не верила. Я была убеждена, с детским высокомерием, что ей нравилось быть со мной.
Ее кухня была очень стильной для того времени. Таковой была и она, всегда одеваясь со вкусом. Кухонная мебель была отделана агрессивно оранжевым, и отдельно стояла коричневая плита; у желтого стола из соснового дерева была скамейка, на которую я вставала на коленки и глазела на канал, в который упирался наш дом, и на Сити за каналом. Теперь этот чудесный вид исчез за монолитными офисными зданиями и пустыми квартирами миллионеров. Но тогда можно было разглядеть краешек большого мясного рынка Смитфилд, открытое пространство древнего Чартерхаус, купол собора Святого Павла, сшитые будто из лоскутов улочки с новыми домиками и офисами, построенными на месте воронок от бомб.
– Как сегодня в школе, моя маленькая Нина?
– Спасибо, хорошо. Миссис Полл, сегодня пятница.
– Ну, да. Хочешь тост с корицей?
– Да, пожалуй.
И рука в кольцах, подзывая подойти и поцеловать ее, гладила меня по волосам, потом она поворачивалась к плите и включала гриль, и смазанный маслом хлеб, посыпанный сахаром и корицей, которые она разрешала мне смешать самой, издавал карамельный, ореховый, пряный аромат – вы чувствуете его, этот запах, который уносит вас в прошлое? Это мой запах. И так приятно вспоминать, снова ощущать его, что я часто готовлю сама себе такой тост, чтобы просто почувствовать, что она рядом.
Я знала ее лучше всех, но мне жаль, что я не расспросила ее побольше о жизни до меня. Я была ребенком, когда мы познакомились, а дети эгоисты, и хотя мама выжимала из нее разные подробности, она тоже впоследствии очень смутно помнила прошлое миссис Полл: ее американское происхождение иногда не давало ей ухватить нюансы разговора, и иногда она просто чего-то не понимала, например то, что Кент – это графство. Но я знала, что миссис Полл была вдовой, которая, проведя всю свою замужнюю жизнь в Бромли или где-то неподалеку, решила переехать обратно в Лондон после того, как умер ее муж. Ей снова хотелось пожить в городе, прежде чем она состарится настолько, чтобы радоваться ему: «Пока моя голова еще работает, ну и тело – посмотрим, что раньше откажет». И я помню, как это меня пугало – мысль, что миссис Полл, центр нашего мира, однажды будет не с нами.
Думаю, она была еврейка, не знаю почему. Она выросла в Ист-Энде и иногда рассказывала о кошерных мясных лавках, и о старых ткацких домах, и о Бетнал Грин Бойз Клаб, где устраивали танцы, на которые они бегали девчонками. Каждое лето они на день ездили в Кент собирать клубнику, и, если не ошибаюсь, ее семья работала в порту несколько поколений. У нее был младший брат, который умер от свинки, когда ему было два. Маленькая Эйприл держала его на руках, когда он умирал, а потом завернула его тело, чтобы маме не пришлось это видеть. Она была гордой женщиной, гордой за то, что выросла там и что выбралась оттуда, и гордой за свою собственную новую жизнь.
Каждый день она была одинаковая – и для меня, приходящей из подвальной квартиры, где по полу была разбросана одежда и всякие бумаги, и открытые банки из-под запеченных бобов ржавели на кухонном столе, где я знала, что меня любят, но иногда не представляла, где искать свои штаны, жилет и носки или где я буду сегодня спать, – я не могу даже выразить, как нравилось мне у нее в квартире. Она приятно пахла, была всегда безукоризненно одета, ее крепкая, но элегантная фигура была затянула в аккуратную твидовую юбку и шелковую рубашку, туфли-лодочки разных оттенков черного и коричневого, некоторые с крошечными, щегольскими пряжками. Она носила часы на цепочке, розово-золотые сережки и браслет в цвет. У нее было теплое, черное шерстяное пальто с огромным бархатным воротником и манжетами, обшитые небесно-голубым шелком – чудесная вещь, и она носила ее каждую зиму, когда мы были вместе. У нее было не много денег. Я это знала, потому что она всегда говорила мне, какая она бедная. Она невероятно на всем экономила – я также это знала, так как она сообщала мне цену всего, что было в ее буфете, когда брала меня в поход за продуктами, и убеждалась, что я точно знаю, что в корзине и сколько все это стоит. До сих пор я могу точно подсчитать мою продуктовую корзину, и я уверена, что это была одна из причин, почему мы с Себастьяном не могли быть вместе – он был совершенно безразличен к семейному бюджету. Миссис Полл упала бы в обморок, если бы увидела его хамон иберико по 15,99 фунта в нашей продуктовой корзине. Я часто думала, что бы она сказала о моем муже, что бы она вообще сказала о многих вещах. Я по ней скучаю.
Она любила музыку – она доставала билеты в Ковент-Гарден на балет или оперу, хотя первое ей нравилось больше. Она говорила, что опера так расстраивала ее, что она не могла больше смотреть «Тоскану». Она любила выставки, и часто ее можно было увидеть в кафе у Королевской Академии или у Тейт – если вы когда-нибудь спрашивали себя, кто эти аккуратно одетые пожилые дамы, которые в одиночестве пьют там чай с пирожными, то они были версией миссис Полл. Она организовывала блошиные рынки для местного социального центра, сортируя одежду и оставляя кое-что для нас с мамой, за что она платила довольно большие деньги. Ей нравилось ездить на автобусе, она знала Лондон как свои пять пальцев, точнее – как он выглядел десять лет назад. Она, как и я, любила этот город, его закоулки и секретики, его аллеи и приключения. Но больше всего она любила свою уютную квартирку, с ее книгами, с ее радио, с маленьким пластиковым телевизором с крошечным белым выключателем, который она переносила из кухни в спальню, если нам с ней хотелось посмотреть фильм. Она была домоседом, как она мне говорила, когда мы вместе валялись в кровати. «Мне не нравится уезжать далеко от Лондона. Ведь все, что мне нужно, есть здесь, правда?»
Ее муж, которого она встретила во время войны, был русским беженцем, его звали Михаил Полянский, и я думаю, что ей нравилась экзотика ее новой фамилии. Жалко, опять же, что я не расспросила ее о нем побольше и об их совместной жизни до того, как она переехала на Ноэль-роуд. Однажды солнечным днем я прибежала наверх, чтобы спросить ее, не хочет ли она прогуляться со мной вдоль канала, и когда она не ответила, я прокралась в кухню и обнаружила ее с фотографией в руке, на которой был изображен низкий темноволосый мальчик с широкой улыбкой.
Она сморкалась в платок, а когда заметила меня, вытерла глаза.
– Ах, это ты. Здравствуй, дорогая. Не обращай внимания, я просто решила всплакнуть.
– Это твой муж? – спросила я с любопытством.
– Да, куколка. Как раз перед… перед тем, как мы поженились. – Она встала и заботливо убрала фотографию на место, в ящик тумбочки в коридоре.
Я пошла за ней.
– Тебе грустно?
– Да, когда я думаю о нем. Он был хороший человек.
Я не знала ее девичьей фамилии: мама окрестила ее миссис Полл много лет назад, когда они первый раз встретились. Мама много раз рассказывала мне о той встрече; в детстве это была моя любимая история. За несколько недель до этого подтвердили, что мой отец погиб. Мама все еще ждала, что Музей естественной истории даст ей хоть какую-то информацию – что произошло, почему они не привезли тело домой? Из-за всего этого она не могла понять, что ей делать дальше – у нее не было денег, и в тот день она еще ничего не ела. Ее родители присылали чеки, но неохотно; а чтобы звонить им, ей приходилось просить их оплачивать звонок. Джек и Бетти Гриффис, казалось, почти с радостью восприняли новости о ее беде, поскольку это доказывало, что они были правы в отношении ее многообещающего будущего с этим «охотником на бабочек», как его называл мамин отец. Пособие по уходу за ребенком она не получила из-за каких-то трудностей в том, чтобы доказать, что она, американка, была замужем за британцем. Стоял очередной ужасно холодный апрель – весна отказывалась наступать, морозило каждое утро – и сырость в нашей квартире расползалась, завоевывая территорию. Несколько друзей, которые у нее были, давно испарились, и она была совершенно одна. Это было, как она говорила мне, когда я просила рассказать о миссис Полл, самое дно.
Мы шли по коридору, я и мама, по пути на прогулку, я ревела в слинге из подручных средств, который моя предприимчивая мама смастерила из порванной простыни (тогда нам еще не подарили колыбельку), закутанная в пеленки, которые маме выслала ее подружка из Штатов, в которые она засовывала меня почти всегда – особенно когда я спала, потому что там было тепло, а мы всегда мерзли. Мама шла с одуревшими от недосыпа глазами и в ужасном настроении. Когда она попыталась меня успокоить, она увидела женщину, спускающуюся по лестнице, и поняла, что это, должно быть, новая соседка с верхнего этажа, которая поспешно и незаметно въехала днем раньше. «Очень элегантная леди, – сказал маме мистер Лоусон с намеком в то утро. – Нам очень она нравится».
И вот мама прижалась к стенке в коридоре, надеясь не столкнуться: она говорила, что не могла тогда видеть людей, и часто мистер Лоусон и капитан Веллум, до того как оглох, жаловались на то, что я плакала. Меня невозможно было успокоить, я плакала и плакала.
– Здравствуйте, – послышался голос, и миссис Полл сошла на последнюю ступеньку и улыбнулась маме. – Какая чудесная малышка.
Это был первый добрый голос, который мама слышала за те дни, и она посмотрела на миссис Полл, как утопающая женщина смотрит на спасательный жилет. Миссис Полл была в мягком пальто с узкими рукавами, отделанными шерстью и бархатом, ее блестящие черные волосы были побиты сединой и аккуратно заколоты шпильками, ее искрящиеся глаза улыбались. На руке у нее была перекинута корзинка, и от руки написанный список торчал между пальцами в перчатке.
– Эйприл Полян… Поли… Ох! – сказала она, протягивая маме руку. – Полянская. Извините, я немного устала, и мое имя так сразу и не выговоришь. Мой муж был… русским.
Маме показалось, что она немного нервничала.
– Давайте назовем вас миссис Полл, – сказала она ей.
– Ах, да, давайте. – Эта странная добрая женщина согласилась и улыбнулась мне. – Что ж, кажется, мы соседи. А кто это у нас тут?
Мама сказал ей:
– Это Нина. У нее режется зуб, и она очень сердится, и ее мама тоже немножко устала.
Миссис Полл просто взяла меня, повернув к себе лицом, и я уставилась на нее, красная от злости, с сопливым носом, с выпученными от гнева глазами. Она нежно подула на мое лицо и потом тихонько поцеловала.
– О, ты чудо, – сказала она. – Но какая ты сердитая малышка! – Она посмотрела на маму, и мама говорила, что в этот момент она каким-то образом поняла, что эта женщина хороший человек. – Почему бы мне не взять тебя на маленькую прогулку, а твоя мама выпьет чашечку чая и пять минут отдохнет. Звучит неплохо, да?
– О, спасибо, но… – Мама начала перечислять причины, из-за которых не следовало этого делать. – …Не беспокойтесь. Не надо.
И миссис Полл ответила:
– Я была няней и привыкла к детям. Я ужасно по ним скучаю, на самом деле. Пожалуйста, дорогая, идите вниз и отдохните. С ней все будет в порядке.
Вы можете сказать, что моя мама сумасшедшая, если согласилась на это, но если бы вы встретились с миссис Полл, вы бы не посчитали ее поступок странным.
Она была замечательная по-своему, и это поражает меня и сейчас: она любила вещи сами по себе, была щепетильна насчет манер и времени, хотя никогда не выходила на первый план. Она всегда говорила, что все дело в ее восточнолондонском воспитании. Ее научили уважать других, приносить пользу. Она была из другого поколения, конечно, и иногда они с мамой спорили, когда она пыталась, как мне кажется, утихомирить маму. Но они с мамой любили друг друга. Мама называла ее «боевая подруга» – тот, кого здорово иметь под боком, когда наступали тяжелые времена. И она была там так нужна.
Однажды днем за чаем мама спросила ее, почему она это сделала, почему помогла нам, взяла нас под опеку. Миссис Полл пригладила юбку и молчала дольше, чем мы с мамой ожидали.
– Я сидела тут день за днем, ждала на остановке маленький автобус, который приедет и заберет меня в Бромли, – ответила она наконец. – Я ходила по магазинам, ходила в библиотеку. Иногда гуляла в парке с сэндвичем, сидела на скамейке, смотрела на жизни других, но внутри себя я кричала, хотела потрепать волосы маленькой девочки, или поговорить с папашей, или помочь мамочке с коляской. А я не могла. Мужчина, который жил через три квартиры от меня, умер, и за месяц никто так об этом и не узнал. И тогда я поняла, знаете, что я совсем одна, там, где прожила почти тридцать лет. Вы не знаете, как это.
– Догадываюсь, – сказала мама.
– Конечно. Ну, я поняла, что свихнусь, если ничего не придумаю. Мой муж умер, моя сестра умерла, мои племянницы в Канаде. Мне нужно видеть что-то новое, ходить в новые места, быть полезной. Так что даже не благодарите меня. Это я должна вас благодарить. Мне очень повезло, что… Что я вас нашла.
На мой девятый день рождения мама подарила мне открытку и подарок и наскоро организовала поход в «Макдоналдс» с четырьмя скучными друзьями. Когда мы с ней шли домой, держась за руки, она сказала: «Слава богу, все кончилось, какое облегчение!», и мы пошли наверх, потому что миссис Полл позвала нас на чай.
Миссис Полл всегда вырезала рецепты из «Вуманз Оун» и «Гуд Хаускипинг»[1]. Она ждала нас, и когда мы поднялись на второй этаж, она закричала: «С днем рождения!» Она испекла мне торт в форме замка, украшенный зубцами, со спусковой решеткой и настоящим рвом, и на Чейпел-маркет она нашла огромную свечу, в которую был вделан казу, исполняющий «С днем рождения тебя». И еще она вручила мне диск Дискмана, который я много лет хотела, но даже не смела на него надеяться. И еще проигрыватель «Тейк Зет Сиди». Я годами слушала тот диск, пока оболочка не треснула и он не развалился на части.
Хотя дело было не в проигрывателе. Дело было в тосте с корицей, в походах в библиотеку, в трех китайских собачках на камине, которым мне разрешили придумать имена, во взбивании яиц во время купания и в пене для ванн, которую она использовала, чтобы делать самую густую пену, совсем как на торте в виде замка, потому что все это давало мне понять, что кто-то обо мне заботится, кто-то присматривает за мной, кто-то любит меня. Это все нужно детям, правда. Это очень просто.
В том году вышла третья мамина книга, и она много ездила, выступая в библиотеках и читая лекции школьникам, и один раз я провела счастливую неделю с миссис Полл. После того как третью ночь подряд я просыпалась с криками из-за кошмара, снова намочив постель, миссис Полл набрала мне ванну и сварила мне какао, а потом мы вместе забрались к ней в кровать. На часах в кухне было 2.13 утра. Я никогда раньше так допоздна не засиживалась: две предыдущие ночи она снова меня закутывала и относила в постель.
– Не хочешь рассказать мне, что такое страшное заставляет тебя кричать во сне, как будто тебя ест стая волков? – спросила она наконец своим ужасно мягким голосом.
Я хихикнула нервно, потому что не хотела это снова вспоминать.
– Ничего такого.
– Ничего такого. Хм. – Она отхлебнула какао, и я пристроилась с ней рядом, чувствуя, как тяжелое одеяло давит мне на ноги; я совсем не хотела спать. – Нина, если тебя что-то беспокоит, ты не можешь просто спрятать это подальше. Иначе оно застрянет здесь. – Она похлопала себя по голове. – Вот тут. Что тебе снилось?
– Ничего.
– Ничего такого и ничего, – сказала миссис Полл. – Ты знаешь, что я делала, когда ты меня разбудила? Я писала в своем дневнике.
– Ты ведешь дневник? – Это было так в стиле миссис Полл.
– Да, веду, моя юная леди. Только для себя, поэтому не придумывай там ничего.
– Не беспокойся. Я не вижу никакого толку от дневников, – сказала я надменно.
– Раньше я тоже не видела. Но мне нравится вести мой дневник. Он только для меня одной. Я пишу туда все, что беспокоило или расстраивало меня в течение дня. Я пишу обо всех своих маленьких ошибках, о том, как надо было поступить. Я составляю список того, что заставило меня улыбнуться, за что я благодарна этому дню, и потом прочитываю все от начала до конца и снова вспоминаю, как мне повезло, и потом переворачиваю страницу и больше туда не смотрю.
– А за что ты благодарна сегодня? – спросила я с любопытством, потому что она никогда не говорила о себе.
Она немного помолчала.
– Ну, Нина, смотри. Я благодарна за то, что автобус приехал, когда пошел дождь. И я благодарна, что сегодня встретилась со своей подругой Анной и что мы перекусили у Британского музея.
– О, что ты там смотрела? Ты видела египтян…
Проигнорировав мой вопрос, потому что она уже была сыта по горло моей всепоглощающей египтологической манией, миссис Полл продолжила:
– И еще я благодарна, что ты пошла в школу, и хоть тебе поставили четыре из десяти за контрольную по математике, я благодарна, что ты хотя бы постаралась. И я могу рассказать об этом твоей маме, когда она меня спросит, потому что учителя опять говорят, что ты недостаточно концентрируешься, но я знаю, что это неправда.
Я ничего не сказала, только потерлась пальцами ног о ее мягкие ноги и отпила еще немного какао.
Она сказала:
– Ах, да… ну, еще я благодарна за тебя и за твою маму. Вот и все.
– За меня?
– Да, за тебя.
Я крепче прижалась к ней.
– Я рассказала тебе, за что я благодарна, – сказала она. – Теперь ты не хочешь рассказать мне о том, что тебе снилось?
Я закусила губу.
– Там есть девочка, – сказала я, потирая глаза. – Она злая. Она приходит и говорит со мной, когда я сплю. Она выглядит, как я, но у нее желто-белые волосы. И на ней нарядное платье, кружевное, как у мамы в старые времена. Она пересказывает мне все плохие вещи, которые я сделала. Она кладет руки мне на голову, чтобы я ничего не видела, и крутит моей головой так быстро, и потом… Она все время смеется, говорит, что я чудная, я чудная, я чудная. – Мой голос сорвался. – И я боюсь, что она меня там оставит и я больше никогда не проснусь.
Я никому об этом не рассказывала, хотя она снилась мне уже несколько месяцев, потому что боялась, что меня отправят в сумасшедший дом, как какого-нибудь викторианского ребенка. Но теперь я начала говорить и не могла остановиться.
– Она приходит ко мне, когда я сплю, и садится мне на голову… Я не могу сосредоточиться в школе в последнее время, потому что она орет на меня, и когда я читаю, она все время мне что-то шепчет. Я ненавижу ее.
Миссис Полл провела прохладной рукой по моим волосам, но не сразу ответила.
– Звучит не очень весело, – сказала она наконец.
– Конечно, нет, – ответила я, разозлившись, что она не совсем меня поняла. – Она отвратительная, миссис Полл.
– Думаю, ей одиноко. – Миссис Полл с трудом поспешно выбралась из постели и повязала халат. – Знаешь, что я тебе скажу, надо дать ей имя.
– Имя?
– Да. И она может занять соседнюю комнату. И повесить там кое-какую одежду.
Я встала на колени в кровати, от удивления вперившись глазами в широкую нейлоновую ночнушку миссис Полл.
– Я не хочу, чтобы она жила в соседней комнате, – сказала я. – Разве ты не понимаешь? Она страшная. Я ее ненавижу!
Миссис Полл схватила меня за руку своей большой и сильной рукой. Она подошла поближе ко мне. Я увидела в ее глазах полосы, ее ресницы, пахнущие розовой водой, которой она вся пропиталась. Она сказала почти в ярости:
– Послушай меня, Нина Парр. Ты должна встретиться со своими страхами. Ты не должна позволять им взять над тобой верх. Я каждый день переворачиваю страницу. Каждый день. Ты поняла меня? Ты должна сделать то же самое, дорогая. Смотри. Пойдем со мной.
Я никогда не видела ее такой. Она вытянула меня из постели, и мы пошли в соседнюю комнату, в ту, где я обычно спала. Она распахнула дверцы встроенного в стену шкафчика, выдвинула маленькие ящики туалетного столика, отодвинула шторы.
– Эй! – сказала она громко. – Вот так, юная леди. Это твоя комната. – Она посмотрела вокруг. – Ты меня слышишь?
– С тобой все хорошо, миссис Полл? – проговорила я. Я подумала, что она сошла с ума, как Вайлет, бабушка Джонаса, когда начала раздавать соседям свои вещи.
– Чшш. Эта девочка, которая так тебя тревожит, как же мы ее назовем? Давай придумаем ей имя.
– Назовем? – сказала я в ужасе. – Я не хочу никак ее называть! Миссис Полл, прекрати.
– Как насчет Мэтти? – спросила она.
– Нет! Я не…
Она наклонилась ко мне, откинув волосы с моих глаз. Она была прекрасна в темноте, ее волосы падали ей на лицо. – Ради меня, дорогая. Просто попробуй. Дай ей неделю. Хорошо?
Вместе с этим «ты должна встретиться со своими страхами», проповедь насчет «дай ей неделю» была основным приемом в тактике переговоров миссис Полл. Через это она заставляла меня передумать по поводу нежелания идти в школу, насчет моих планов сбежать из дома, когда мне было шесть, – и еще каждый год насчет каникул с мамой.
Я стояла в дверном проеме, сжавшись, прижав подбородок к груди, и вдруг почувствовала, что устала.
– Хорошо, пусть. Мэтти пойдет.
– Отлично. – Она взяла книгу «Нина и бабочки», нашу любимую, потому что в ней была девочка по имени, да, Нина – и потому что мой отец любил эту книгу в детстве, я знала это, и еще потому что она всегда была на Ноэль-роуд, одна из немногих вещей, которая от него осталась. В какой-то момент, наверное, ее отнесли в квартиру миссис Полл. – Мэтти, это твоя комната, и еще Нины, – сказала миссис Полл. – Входи, чувствуй себя как дома.
– С кем ты разговариваешь?
Она не обратила на меня внимания и широко раскинула руки, улыбаясь в потолок. В своем синем бархатном халате, с волосами, разбросанными по плечам, она была похожа на ведьму – на добрую, конечно.
– Послушай меня, Мэтти. Мы повесим для тебя кое-какую одежду в шкаф. Ты можешь играть с игрушками Нины, пока она в школе. Ты можешь читать эту книгу, в ней есть девочка, которую тоже зовут Мэтти. Только не беспокой нас, когда мы спим. Или мы откроем окно и выбросим тебя в канал. – Она оглянулась на меня. – Нина? Ты хочешь что-нибудь добавить?
Я стояла посередине комнаты, смотря на свою маленькую односпальную кровать, на оранжевый книжный шкаф, на лампу, немного покачивающуюся под потолком. Я посмотрела на миссис Полл, великолепную в своем королевском синем наряде, и она мне улыбнулась.
Я широко раскинула руки.
– Да, Мэтти. А сейчас послушай меня. Мы можем вместе играть, когда я тут и когда я скажу. И я буду приносить тебе прекрасные шелка и плащи из древних земель и масла и драгоценности от далеких королей. И ты меня не беспокой. И миссис Полл тоже.
– Вот и хорошо. – Миссис Полл сложила руки и кивнула, потом посмотрела наверх и оглядела комнату. – Возвращайся в мою комнату. Я записала «Коронейшн-стрит» и собираюсь его посмотреть, и в качестве очень-очень-очень большого одолжения ты тоже можешь.
Я вышла за ней из комнаты, но в дверях она обернулась и взглянула на все еще качающуюся лампу под потолком.
– Вот и ладно. Думаю, что больше с ней не будет проблем.
* * *
Разумеется, она оказалась права. Постепенно комнату все стали называть комнатой Мэтти. Там я хранила свою лучшую одежду, книги и игрушки. Из мучителя Мэтти превратилась в воображаемого друга – что-то вроде моего второго я, лучшей версией меня. Мы с ней вместе играли. И она была идеальной компанией. Она придумывала самые классные штуки, у нее была куча друзей, она знала, что надо говорить взрослым, она никогда не заставляла свою маму сердиться. Когда я оставалась у миссис Полл, то спала в комнате Мэтти, и больше мне не снились кошмары, потому что я чувствовала, что Мэтти была рядом и она не желала мне зла.
В течение нескольких лет после смерти миссис Полл и перед тем, как из комнаты сделали кабинет для мамы, комнатой Мэтти не пользовались, но мысль о ней осталась со мной. Иногда я с ней разговаривала, обсуждала разные мысли, оставляла ей в комнате книги, чтобы она почитала. Когда мы заняли всю квартиру, я выбрала комнату миссис Полл для своей новой спальни. В комнате Мэтти перестелили ковры и все перекрасили, но она оставалась полупустой, из нее вынесли все вещи миссис Полл и устроили там склад наших коробок и бумаг.
Как раз туда и отправилась коробка с личным делом моего отца. В комнату Мэтти. Я все туда убрала, когда вышла за Себастьяна, и не заглядывала туда несколько лет. До того дня, как получила вторую фотографию и пошла наверх, и снова ощутила присутствие миссис Полл, зашла в комнату Мэтти и пробудила ото сна старую, странную книгу.
Снова держать ее в руках было так же здорово, как ощущать аромат тоста с корицей. В тот вечер я села прямо на пол в пустом офисе, скрестив ноги, и когда открыла первую страницу, я замерла. Картинка не изменилась, слова были так хорошо мне знакомы, и да-да, оно было там. Снова то место. Кипсейк.
Это твоя семья, как написала на фото та пожилая дама. Ты не знаешь их / не знаешь, что они сделали.
Когда я снова начала читать, я кое-что поняла. Я могла, наверное, пересказать вам всю историю по памяти. Я заперла ее в своей голове, забыла о ней, а она все время была в этом доме, в ожидании, что ее найдут.
НИНА И БАБОЧКИ
Александра Парр
Тэодоре, которую я зову ТэаЛеди Нина была единственным ребенком, родившимся у великого лорда. Он очень печалился о том, что не было у него сыновей. Когда он умер, он оставил Кипсейк, дом, построенный величайшими мастерами того времени и ныне спрятанный у зеленого и тихого ручья, невидимый обычному путнику с дороги и с воды.
– Будь скромной, будь благоразумной и доброй, – сказал ей отец на смертном одре. – Ты принесла мне великую печаль, потому что не родилась сыном. Так стремись же к тому, чтобы родить сыновей хорошему человеку, чтобы наше имя прошло через века во славу Господа. Этот дом – величайшее творение рук человеческих. Он спасет и сохранит его.
Но во время великой Гражданской войны, которая расколола нашу страну надвое, Нина потеряла еще и свою мать, и своего жениха, Франциса, из благородной семьи, живущей по ту сторону реки. И вот так она осталась в Кипсейке совершенно одна.
Но Нина была не одна, потому что в ее саду жили бабочки, которые тучами поднимались в ароматный летний воздух. Тогда, дети, бабочек было намного больше, чем мух, и они заполняли собой все пространство. Их не ловили и не убивали в больших количествах, и они не страдали от того разрушения, которое сейчас человек учиняет зеленой планете.
Каждую зиму Нина наблюдала за личинками, которые они отложили, и заботилась о тех, что спали в часовне, в ожидании солнца и того, что суровые ветра, дующие по всему устью реки, утихнут. Весной она видела гусениц, которые прогрызали себе дорогу сквозь сад, оставляя аккуратные кружевные следы на листьях. А летом она смотрела, как они вылуплялись из коконов, как они осторожно, трепетно раскрывали свои крылышки, чтобы просушить их на легком ветерке, набирались сил и крепли для своего первого путешествия.
Она знала их всех, от самых маленьких и скромных Луговых Коричневых до Сиреневых Императоров, чья блистательная красота и размеры сводили людей с ума. Они ее тоже знали. Потому что бабочки – наши друзья. Они показывают человеку землю во всем ее великолепии. Когда мы причиняем вред земле, мы причиняем вред им. Когда не останется бабочек, ничего хорошего на земле не вырастет.
Дом мог бы просто погрузиться в сон, в дремоте под солнцем принимая своих крылатых гостей, но не такова была его судьба, как и предвещал отец Нины. Однажды ночью, под покровом тьмы, Его Величество Король Чарльз Второй прибыл на лодке, в сопровождении лишь одного своего самого верного друга, полковника Вильмота.
Король искал укрытия от гонений злых Круглоголовых, которые причинили столько вреда нашей мирной земле. Он ехал из Вустера и спрятался среди дубов, замаскировавшись под конюха, на нем были маленькие ботинки, которые разваливались и оголяли его стертые ноги. Этот добрый король подражал манерам мальчика-конюха, батрака и скромного сельского жителя, чтобы его не обнаружили. Он быстро проехал по всей стране в поисках убежища и набрел на Кипсейк.
Он остался там на две долгих недели. Поначалу он был тихим, прятался в маленькой часовне в задней части дома, где Нина и ее мать долгими часами молились о мире и где бабочки находили себе приют среди прохладных стен. Потом он стал более уверенным и гулял по саду вместе с Ниной в вечерних сумерках, и она кормила его сладостями, и нарезала кусочками ананасы, которые выращивали на специальных грядках в том же саду. Бок о бок они стояли и наблюдали за бабочками, за дымкой цвета и движения над их головами.
– Ты создала здесь чудесный мир, – сказал король Нине.
Слуги слышали их и весело смеялись. Однажды днем, когда они сидели вдвоем и Нина пела королю, издалека послышался топот копыт и потом ужасный звук – звук горна, возвещая о прибытии Круглоголовых.
Чарльз спрятался в потайной комнате, и сколько ни обыскивали дом люди Кромвеля, они не нашли часовню, спрятанную за лестницей, где окнами служили лишь щели. А Нина стояла под аркой своего дома и умоляла их уехать.
– Это мой дом, – говорила она им. – Я скорее умру здесь, чем отдам его кому-то.
В тот момент она наконец поняла, что Кипсейк принадлежит ей.
Когда король оставил ее, Нина обезумела от горя. Она говорила только о нем. Она рыдала, когда он уехал. Шел месяц за месяцем, а от него не было ни слова. Спустя некоторое время Нина родила девочку, которую назвала Шарлоттой, в честь своего отца.
Она отпустила своих слуг на каникулы, а малышку оставила с кормилицей, ее самой преданной служанкой и другом, которую звали Мэтти. И потом она отправилась в маленькую часовню, в которой прятался король, и лишила себя жизни тем способом, о котором детям нельзя рассказывать.
После ее смерти слуги вернулись в дом с малышкой и обнаружили записку, которую прислал король, пока их не было. В ней он писал, что завещает Кипсейк своему ребенку и всем дочерям, родившимся здесь. И еще он прислал бриллиантовую брошь, выполненную в форме бабочки, которую Шарлотта, его дочь, стала носить, когда выросла, и которую она отдала своей дочери, прежде чем умерла. На тельце бабочки была высечена надпись:
То, что любят, никогда не погибнет.
Сама я считаю, что Нина была очень смелая. Она умерла, потому что не хотела больше жить без него. Она знала, что то, что сказал король, было правдой. То, что любят, никогда не погибнет. Она знала, что хотя он и был далеко, сражаясь за свою корону под угрозой смерти, и что потом он будет сидеть на троне и править всеми нами, и о его жизни будут знать все, его тело и душа будут принадлежать всем нам, все равно у нее были те две недели, давным-давно в сентябре, на исходе лета, которые были только ее и его, и ничьи больше.
То, что любят, никогда не погибнет.
Дом дремлет, охраняемый потомками Нины, которые хранят ее секреты. Возможно, однажды, дети, вы отыщете его. Вдоль по реке, вниз по ручью – к нему не добраться по дороге, и его нет на карте. Но вы узнаете его, когда придете туда. Только чистое, открытое сердце найдет к нему дорогу.
Конец.
Глава 7
Когда мне было около десяти, мама начала встречаться с Малком. Он часто заходил в итальянский ресторанчик, где она работала, и заказывал огромную миску пасты, а потом рассказывал свои истории, и они болтали. Она много говорила о нем – какой он был смешной, как рассказывал ей все эти ужастные истории о случаях, о которых он писал: обычно это была поножовщина в баре или обезглавленные тела в канале. Я помню, как она сказала, что ей жаль его жену или девушку, которой приходится каждый вечер это выслушивать, потому что это было так мерзко. Но на самом-то деле у него не было ни той, ни другой, и он все никак не мог набраться смелости и пригласить куда-нибудь маму. Когда она бросила работать официанткой, они потеряли связь.
Около года спустя, вскоре после того, как мама начала ремонт в квартире нытиков Лоусонов, которую мы купили годом раньше, она как-то смотрела на циновку из рафии у магазина ковров на Эссекс-роуд, когда Малк проходил мимо. Как обычно. Малк десять минут притворялся, что рассматривал мохнатые оборки для лестничных ковров – и уже почти заказал несколько, так сильно он нервничал от того, что снова ее увидел. Он тоже жил на первом этаже; потом мы смеялись над тем, что лестничные ковры ему никак не могли быть нужны.
– Ты не мог просто притвориться, что ищешь новый ковер в гостиную?
– Тогда я не смог ничего придумать. Я очень растерялся, – говорил он непреклонно, и мы с мамой закатывали глаза.
Наконец, когда мама расплатилась за свою крафтовую циновку, она повернулась к Малку и сказала:
– Я собираюсь пойти куда-нибудь выпить. – Она показала «Нью Роуз Паб» напротив. – Что за черт – ты идешь со мной или нет?
– Иду, – ответил Малк. – Только дай мне… – и он посмотрел вниз на образцы ковров.
– Ты что-то хочешь купить? – спросила она его.
И Малк покачал головой, улыбаясь.
– Мне не нужны ковры. Мне вообще ничего не нужно! Я иду с тобой выпить!
Он переехал к нам год спустя, и в тот день мы устроили ему вечеринку, мы втроем и миссис Полл, в саду, даже повесили кое-какие украшения. Мне разрешили выпить малюсенький бокал шампанского. Мама купила кексы у Маркс & Спенсер, и это был очень значительный жест. Еще она купила себе новое ожерелье, и весь вечер она улыбалась, улыбалась во весь рот, так что даже было видно все зубы. Она ни разу не прикоснулась к Малку – она не любила показуху. Но она просто не могла перестать ему улыбаться.
И потом, через пару месяцев после переезда Малка, миссис Полл поехала в Лайм, в свои долгожданные каникулы. Мы с ней походили по магазинам, и она даже купила себе новое платье – джинсовое стеганое платье, очень практичное – и крепкие туфли на пробковых каблуках. В том городе у нее была школьная подруга, у которой она собиралась остановиться. Я все никак не могла с ней распрощаться, и потом мама, Малк и я махали ей, когда ее увозило такси, думая, как мы будем тут втроем дома, совсем одни. Надо сказать, что хоть я и старалась показать всем, что я уже взрослая и что мне больше не так уж нужна миссис Полл, я все равно ее очень ждала.
Но она не вернулась.
Мы долго не могли прийти в себя после смерти миссис Полл. И все же в своем завещании она просила нас продолжать жить обычной жизнью. «Будьте семьей». Так она сказала. И это оказалось легче, чем я думала, привыкая к нам троим: мне, маме и своему отчиму. Ведь нет большей радости, чем радость от того, что два человека нашли друг друга и сделали друг друга счастливыми, и тогда, и теперь. Маме и Малку замечательно вместе – как она обожает его, благоговеет перед ним, как смотрит на него с восхищением – моя колкая, пассивная, отсутствующая мама! Ради него она научилась готовить: кто бы мог подумать, что после стольких лет жареной картошки и рыбных палочек она окажется таким отличным поваром? Она даже ездила с ним в Шотландию на рыбалку. И как он восхищается землей, по которой она прошла, его глаза, когда он смотрит на ее золотые волосы, когда она издевается над ним, то, как он бубнит и весело говорит сам с собой, когда складывает постиранные вещи, загружает стиральную машину, занимается всеми этими рутинными делами, чтобы она ничего не делала по дому, только писала и готовила. Она устраивает беспорядок – он его убирает.
Мой брак развалился, потому что я думала, что страсть, какая была у моих мамы с папой, это самое важное. Я ошибалась. Все дело в обожании, и последние десять лет это происходило прямо у меня перед носом. Они обожали друг друга. Они не могли поверить, что нашли друг друга. Он сделал ее счастливой: наконец.
Только один раз мы думали, что всему пришел конец. На мой четырнадцатый день рождения, когда прошлое, казалось, совсем сходило на нет – смерть миссис Полл, мы, жившие одни в целом большом доме, перемены с приходом Малка, – у моей мамы случился рецидив. Мы называем его, если вообще о нем разговариваем, что редко, нервный срыв. Но я не уверена, что случился именно он. Не знаю, что это было, но в тот день что-то изменилось.
Мы были на пути в «Пиццу Экспресс» недалеко от Британского музея. Сначала мы хотели посмотреть на артефакты египетского некрополя, а уж потом пойти поесть пиццы. Это было мое видение идеального дня рождения, понимаете: никаких мерзких девчонок, никаких надоедливых парней, никаких тупых вопросов; только я, мама, Малк и несколько Птолемеев. Она подарили мне велосипед, и Малк напек блинчиков, а мама написала для меня стихотворение, которое прочитала за завтраком, про девочку по имени Нина.
Нина-подросток жила на субмарине, Носила волосы копной, была влюблена в гиену. Нина-подросток получила телеграмму: Срочно возвращайте гиену в Аргентину!Стихотворение мне не очень понравилось. (И, как заметил Малк шепотом, когда мама ушла за молоком, «телеграмма» – неверный в таком случае документ. Чтобы вернуть гиену в Аргентину, надо было бы получить судебное предписание. Это я тебе говорю, шептал Малк, пока ее нет.)
Я забыла свою новую сумочку, которую мне подарил Джонас – красивую сиреневую вещицу в форме багета из «Аксессорайз» с тонким, открепляемым шнурком, – и побежала за ней обратно в дом. Малк дразнил меня, когда мы выходили из дома, а мама нетерпеливо ждала нас на подъездной дорожке.
– Когда мне было четырнадцать, милочка, знаешь, чем я занимался в свой день рождения? Да, я пошел гулять со своим лучшим приятелем, и мы выпили бутылку маминого хереса и зажигали на переднем дворе наших соседей, и она избила меня по лицу «Дейли Рекорд». Вот это день рождения, Дилл, да? Дилл, дорогая? – И потом опять, резко: – Дилайла?
Я повернулась от тона его голоса. Мама смотрела через дорогу, с серо-бледным лицом, совершенно не двигаясь.
– Нет, – сказала она, уставившись куда-то в одну точку. – Только не это опять.
Мы проследили за ее взглядом, но там ничего не было. Мужчина отцеплял свой велосипед от фонаря. Несколько человек с ланчами навынос брели по пропитанной дождем дороге. Кот, живущий напротив, бежал по улице.
– Дилл, дорогая? – сказал Малк, отталкивая меня на пути к ней. – Что случилось?
На дороге было тихо, и мужчина напротив посмотрел на нее с любопытством, потому что она стояла, вытянувшись в струнку, просто смотря в никуда, не моргая. Как будто ее заморозили. Грузовик или что-то вроде того прогрохотал мимо, как я помню, потому что это было похоже на фокус: когда он уехал, кот Бальтазар испарился, как и мужчина, уехавший на велосипеде. Кусок белой оберточной бумаги, парящий на ветру, летел им вслед по направлению к каналу.
– Мам? – проговорила я. – Мам, с тобой все в порядке?
– Я знала, – сказала она, все еще смотря на что-то. – Я знала, что я права.
Я стояла рядом с ней, пытаясь понять, что она там видит. Но она повернулась, почти оттолкнув меня с дороги, и пошла в дом.
– Идите без меня, – все, что она сказала, и пока мы стояли там, в шоке, передняя дверь захлопнулась у нас перед лицами.
Две недели она не вставала с постели. Малк несколько раз вызывал врача, который никак не соглашался приехать на дом. Если физически она была не больна, она могла бы приехать в клинику на осмотр. И хотя мы знали, что ничего «физического» с ней не было, и продолжали ему это объяснять, все равно никто не приезжал. Теперь я жалею, что все так случилось.
По ночам я слышала, как она плачет, но днем она просто лежала, задернув шторы, поднимаясь, только чтобы сходить в туалет. Я была так напугана. Она гладила меня по волосам, когда я приходила ее проверить, она спрашивала меня, как прошел мой день, но она не слушала, и иногда она отворачивалась и начинала плакать, горько рыдая в подушку. Я снова чувствовала себя очень маленькой, только на этот раз у меня не было миссис Полл, к которой можно было убежать наверх.
Мы не знали, что делать. Мы чувствовали себя такими одинокими. Думаю, это был первый раз, когда я поняла, что Малк, на самом деле, стал мне отцом. Это одна из причин, почему, когда я говорю «мои родители», я имею в виду маму и Малка. Он занимался стиркой, мы вместе готовили еду, он садился на уголок моей кровати и разговаривал со мной, пока я не засну. Он стал работать из дома после обеда, чтобы быть рядом, когда я вернусь из школы.
Однажды в воскресенье, спустя две недели и один день, мы с ним возвращались из очередной прогулки по Хампстэд-Хит, теплым, но отвратительным вечером, когда мы оба шли и притворялись, что нам хорошо, и увидели маму на кухне, одетую и с помытой головой, ловко прокручивающую тесто через паста-машинку, как ни в чем не бывало.
– Простите меня, – сказала она, когда мы осторожно посмотрели на нее через теплую темную комнату. – Мне очень, очень жаль. – Она подошла к нам, крепко меня обняла, прижав к себе, и я заметила, что мы с ней стали почти одного роста. – Этого больше не повторится.
– Что это было, мам? – сказала я, пытаясь скрыть головокружительное облегчение.
Она посмотрела на Малка, который наблюдал за ней со сложенными крепко руками, и в ее глазах заблестели слезы.
– О, что-то пошло не так, но теперь все хорошо, – ответила она. Я увидела морщинки вокруг ее глаз и натянутость в ее улыбке.
Тогда я этого не знала, но потом поняла, много времени спустя, что бы ни случилось в тот день, это изменило ее. Что-то теперь нависало над ней. Это сложно описать, но это было что-то похожее на тупое тревожное предостережение. И хотя она знала, что что-то собирается напасть на нее, у нее не было выбора, кроме как пойти этому навстречу. Я вспоминаю, что мы там видели: мужчина на велосипеде? Но он ничего такого не делал, и вообще потом он уехал, и даже не смотрел в нашу сторону. Кот? Но что значил Бальтазар? Парящие куски мусора? Пасмурный день? Я стала понимать, что все те вещи ничего не значили, но что-то просто пришло ей в голову, какая-то дикая мысль поселилась в ее голове.
Теперь все хорошо. И так нам казалось долгое время, хотя я уверена, все было не так. Но нам пришлось в это поверить, конечно, и жизнь как-то незаметно продолжилась, как мне кажется, мы все успокоились. Я училась и училась, и теперь учителя вызывали маму не затем, чтобы посоветовать, где купить одежду секонд-хенд, а как мне помочь во время экзаменов, так как я была «крайне старательная» и «исключительно одаренная». Но я не была: мне просто нравилось учиться. Браться за проблему и находить решение. Контроль, контроль, в то время как многое в мире было неясным и не имело смысла.
По иронии, я думаю, что доставляла им больше проблем, чем если бы шлялась непонятно где, в Камдене, или Сохо, или еще где. Они могли бы наказывать меня, если бы я курила, или пила, или воровала бы, или приводила домой всяких непонятных парней. Но я этого не делала. Вместо этого я сидела в своей комнате: писала, читала, думала. Думала слишком много.
И вот, подходя к завершению этой небольшой биографической предыстории, в восемнадцать лет я была принята в Университетский колледж Лондона. Я помню, как моя старая классная руководительница говорила мне, когда я открыла мои отличные оценки: «Твоя жизнь лежит перед тобой, Нина. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что ты с ней сделаешь».
Наверное, я больше похожа на маму, чем я это осознаю, а может, и нет. В любом случае, мне стыдно, что я не выпустила наружу свой мятежный дух чуть раньше. Я всегда была идеально хорошей девочкой, как мне казалось. Никаких проблем. А потом я пошла и влюбилась.
Глава 8
– Но там чудесный день! Давай, Нина. Смотри, она очень бледная! – Малк обратился к маме, которая читала газету. – Не думаешь, что ей не мешало бы прогуляться?
– Ей двадцать пять лет, Малк, – сказала мама, но потом выглянула в окно и обернулась ко мне: – Детка, там правда хорошо. Может, тебе пойти прогуляться или встретиться с кем-нибудь?
– Все уехали, – ответила я.
– Прямо все?
– Те, которых я бы хотела видеть, да. Мне и тут хорошо, ты же знаешь.
– Знаю. Я просто… ты почти не выходила из своей комнаты все выходные.
– Я читала, – ответила я. – Просто хотелось почитать. И поспать.
Это была ложь. В последнее время я не могла заснуть. Я начала думать обо всем этом: где этот Кипсейк? Где мисс Трэверс? Что, по ее мнению, случилось с моим отцом? Что знает мама? И молчание оглушало меня, и сердце билось все быстрее и быстрее, стараясь собрать все кусочки вместе, как собака, гонящаяся за собственным хвостом, которая его никогда не поймает.
Что-то снаружи быстро пронеслось мимо, в световом пятне в нашем маленьком саду, и я выглянула в окно. Вдруг, неожиданно, мысль о том, чтобы сидеть весь день дома, оказалась невыносимой. Я встала.
– Хорошо, я пойду, – сказала я. – Но вы отлично знаете, почему я не люблю Хит по воскресеньям. Если мы на них наткнемся, я… я…
– Вот так так, – сказал Малк, потирая руки от удовольствия. – Мы не встретимся. Прекрасный денек для прогулки.
– Вот так так, – пробормотала я. Я посмотрела на маму: – Ты тут справишься?
– Я? Конечно! Поработаю немного, – ответила мама. – Чудесно!
– Чудесно, – повторила я и выпила остатки своего чая. – Пошли, Малк. – Я посмотрела на часы. – Если мы выйдем сейчас, мы не попадем в толчею.
* * *
– Что мне делать с днем рождения? – спросил Малк. Мы шли мимо викторианских домов с башенками на окраине Хит, которые казались мне, когда я была маленькой, рядом сказочных замков. Солнце по-новому грело наши непривычно оголенные руки, деревья шелестели свежей листвой, и я почти опьянела от всего этого, радуясь весне.
– Дай-ка подумать. Ты же взял отгул, да?
– Точно. Мы с Бэрти едем к бывшему полицейскому, который нашел мертвую собаку в чемодане Льюис Витон, и еще ту пару рук в Грейпс. Будет здорово наконец с ним встретиться.
– Вы будете обедать парой рук?
– Ха-ха, Нина. Некоторым из нас нравятся дни рождения. Некоторые из нас, кроме тебя и твоей матери, действительно любят отмечать день, когда они родились.
– Да, – сказала я.
С уколом совести я вспомнила, что на прошлый день рождения ему самому пришлось покупать себе торт: я тогда еще жила в Палмерс Грин, а от мамы мало толку.
– Послушай, – сказала я, зная, что пожалею об этом, как только начну говорить, – почему бы нам вечером не пригласить несколько человек? Всего лишь парочку друзей и соседей. Бэрри, Брайана Кондомина, твоих старых товарищей репортеров, Лореляй и Роджера с того края улицы, и еще кого-нибудь.
– Плакаты? Воздушные шары, мне надо купить воздушные шары?
– Нет. Ты же знаешь, что у мамы на них аллергия. – Это была явная ложь, которую Малк не решался проверять каждый год.
– Справедливо. – Он широко и довольно мне улыбнулся. – Эй, мы же можем заказать пиццу. И пить разные эли.
– Эм… ну да. Если хочешь.
– Конечно, хочу. – Он потер руки. – Будет здорово, вот увидишь. А как насчет пригласить Себастьяна?
– Ну, опять же, если хочешь, Малк.
Но Малк махнул рукой:
– Нет, глупо, что я это предложил. Несправедливо по отношению к тебе. Я все еще жду, что мы с ним столкнемся, потому что мы в Хите. С ним и с леди Стервой. – Его глаза сверкнули, когда я скорчила рожу. – Забудь об этом.
– Все в порядке, Малк. Он был хорошим человеком. И есть.
– Ах ты, девчонка. Это так. Так и есть. – Он похлопал меня по плечу и вздохнул. Я почувствовала, что он собирается Кое-Что сказать, поэтому сменила тему.
– Малк, можно тебя спросить?
– Конечно.
– Та фотография.
Он побледнел.
– …с той девочкой на реке.
– Я думал об этом. – Малк заложила руки за спину. – Ты больше ничего не слышала от той женщины?
Я сделала шаг в сторону.
– Не могу перестать думать об этом. Не знаю, что мне дальше делать.
– Странно все это, да?
Мы оба замолчали. Мы знали, что если сейчас начнем об этом разговаривать вдвоем, то это будет как бы за спиной у мамы, хотя я не могу объяснить почему.
– Малк, ты думаешь, мама что-то знает?
Он покачал головой:
– Твоя мама никогда о ней не слышала и не видела ее. Я точно знаю.
Теперь мы шли вверх по холму, по направлению к Кенвуду, и казалось, что он задыхался.
– Что, по-твоему, она хочет тебе сказать?
– Не имею понятия! – Я всплеснула руками. – Кипсейк? Что это такое?
– Загугли.
– Уже. Я все просмотрела. Вообще ничего.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, я загуглила Кипсейк. И Кипсейк Дом, и Кипсейк Место. О, и еще сотню комбинаций этих слов. Тедди, лодка, река, бабочки, семьи, мертвый отец, и ничего не выходит. Ну, только если ты не интересуешься плюшевыми мишками в виде сувенира или вообще сувенирами. А так ничего.
– Гугл не знает все на свете, я это понял по собственному горькому опыту, – сказал Малк. – Но да-а-а. Это странно.
– Но та книга, которую мы читали с миссис Полл, которую мне оставил папа… ее звали Нина. И дом назывался Кипсейк. – Малк кивнул, хотя раньше я ему этого не рассказывала. – Сначала фотографии, теперь снова я нашла эту книгу… все эти послания, – выпалила я. – Как будто все, что я знаю, это ложь, или есть что-то, чего я не знаю.
– Послания? Ты правда в это веришь? – Малк смотрел недоверчиво. Я остановилась, посмотрела на него и моргнула. Верила ли я, что Малк тоже лгал мне? Что, как я думала, от меня прятали нечто? И вот опять нотки сомнения заполнили мое сознание. Не будь дурой, Нина.
– Я это все не сама придумала, – сказала я жестко, больше самой себе, чем Малку. – Я не могла. И ты думаешь… – Я пожала плечами. – Что-то есть в Интернете. Но там ничего нет. Я не знаю, что мне делать.
Думаю, я надеялась, он скажет мне, что делать. Но после минутной паузы Малк просто сказал:
– Думаю, надо ждать, пока она сама не выйдет с тобой на связь. Попробуй сходить в то же место в библиотеке.
– Я ходила. Я туда теперь каждый день хожу. И после работы. Я там все время торчу.
– И?
– Она прислала мне еще фотографию, десять дней назад, – сказала я быстро. – Я не говорила маме, Малк.
– Ого. – Малк поднял брови. – И кто на фото?
Я рассказала ему, описав фотографию, маленькую девочку и ее бабушку, угол дома, послание от мисс Трэверс. Это твоя семья, Нина Парр. На щеке Малка пульсировала вена, пока он меня слушал.
– Дело в том, – подытожила я, – как, черт возьми, я смогу решить эту загадку, если я даже не представляю, о чем она вообще?
– Хорошо, – наконец сказал Малк. – Очевидно, что эта женщина знает что-то про семью твоего отца.
– Но разве это не совпадение, что она вот так просто столкнулась со мной в библиотеке?
Он покачал головой и положил свою руку мне на руку.
– Нина. Что я тебе всегда говорил? Совпадений не бывает. Поверь мне. Ничего не происходит без причины.
Я отпрянула от него; он всегда это говорит, и мне это не нравится, потому что тогда у нас в жизни нет выбора.
– Ну, как бы там ни было, маму я спросить не могу. Насчет всего этого она молчит, как рыба.
Потом я посмотрела на него в упор, призывая его со мной не согласиться.
– Чем старше я становлюсь, тем больше хочу разузнать об отце. Эта женщина что-то знает, а маме, кажется, совсем не интересно, потому что она меня даже об этом не спрашивает. Но я уверена, что она тоже хочет знать больше.
Я взглянула на него боковым зрением, как будто хотела убедиться, что он со мной согласен. Но он ничего не сказал.
– Он был мой отец, Малк. А я ничего о нем не знаю.
Мы шли под тенистыми кронами буковых деревьев.
– Послушай меня, Нина, – сказал Малк спустя какое-то время. – Я скажу тебе одну вещь, и мы больше не будем к этому возвращаться, хорошо? Твой отец был не совсем таким человеком, каким его представляет мама.
– О чем ты? – Я остановилась, мои ноги тяжело хрустели лежащими повсюду сухими листьями, которые устилали всю землю под деревьями.
Малк нахмурил бровь.
– О том, что я сам понял. О том, что она мне рассказала. – Он остановился. – Ты же знаешь, я не люблю говорить о ней у нее за спиной.
– Я не об этом, я просто спрашиваю…
– Я не хочу быть грубым по отношению к твоему отцу и не говорю, что он был хуже, чем о нем рассказывают. Я ведь не знал его. Я просто хочу сказать, что не думаю, что все было замечательно, когда он уезжал. Она кое о чем рассказала мне, когда мы впервые встретились.
– И о чем же?
Мне пришлось пихнуть его локтем, прежде чем он продолжил.
– Ладно-ладно. Когда мы впервые с ней встретились в том итальянском ресторанчике и мы только болтали – задолго до того, как начали встречаться, – я помню, как однажды спросил о ее бывшем муже, и она сказала, что развелась бы с ним, если бы он не умер.
– Что?
– До сих пор не знаю, правду ли она тогда сказала. Когда я снова ее спросил, после того как мы съехались, она не стала ничего говорить. Сказала, что все было сложно, и все. Она вправду на меня рассердилась. – Он выглядел обеспокоенным. – Все, что я хочу этим сказать, в отношениях не бывают только белые и черные полосы. Тебе ли об этом не знать.
Я опустила голову. И мы шли дальше и молчали, а мысли в моей голове неслись с бешеным темпом. Когда мы вышли с другой стороны леса, я посмотрела наверх и увидела, что мы были как раз под домом Кенвуд, сияющим кремово-белым светом в весеннем солнце. На тропинке с другой стороны дома показались силуэты, толкающие детские коляски, и дети на скутерах. Маленькая девочка в красном пальто запуталась в веревочке воздушного змея, а ее брат и мама бежали на помощь. Я слышала, как они смеются, их голоса доносились с ветром.
Я чувствовала какое-то единение с семьями, особенно с большими – наверное, потому, что на самом деле у меня своей не было. Они всегда казались очень уверенными, слишком громкими, спешащими как можно скорее рассказать тебе, какой большой их клан, словно отделиться и быть в стороне от остальных, значит, уменьшиться в размерах. Мы с мамой во многом не были мамой и дочкой, не были единым целым, и мы стесняясь показывать это на людях. Мы не знали, как нам выразить себя. Выходы с миссис Полл были еще хуже: «Нет, она не моя бабушка. Она живет наверху. Нет, у меня нет братьев и сестер. Кто? Мой отец умер».
– Пойдем выпьем чаю, – предложил Малк, показывая на Кенвуд и тяжело дыша. – Я выдохся.
– Давай. – Я с жалостью положила ему руку на плечо. – И… эй, спасибо, что ты мне рассказал, Малк. Я знаю, что она шутит насчет отца. – Я сглотнула. Я не знала, как начать. – Маме очень повезло.
Я ему улыбнулась, и вдруг он шагнул вперед и обнял меня, прижимая к своему плащу с кучей молний и карманов. Я тоже крепко обняла его, и потом мы снова стали друг напротив друга, смущенные.
– Благослови тебя господь, Нина. И ты знаешь, вся эта неразбериха, я думаю, все выяснится. Правда, совпадений не бывает, но все становится понятно, если считать, что та женщина просто ошиблась или вообще сошла с ума. Я вот в это верю. – Я посмотрела на него, зная, что он говорит правду. Он повернулся, посмотрел на дом и тихо сказал:
– Я знаю, что никогда не смогу его заменить.
– Кого?
– Красивого исследователя с мистическим прошлым, который не вернулся. Это нормально. Твой отец был таким. Тем, кого она всегда будет помнить.
– О, Малк. Ты правда так думаешь?
– Да. Но я только хочу сказать, что иногда лучше оставить все как есть.
– Она все еще его любит, его образ? – Я взглянула на него. – Вот что ты хочешь сказать? Малк, ты сумасшедший…
Вдруг позади нас послышался голос:
– Нина? Малк? Привет! Значит, и вы вышли на воскресную прогулочку?
Кто-то тихонько прикоснулся к моему плечу, и я обернулась и увидела Себастьяна.
Они гуляют так каждое воскресенье, Фейрли и другие, и всегда заканчивают в Кенвуде, и тетя Джуди всегда останавливается тут, чтобы посмотреть на растения.
Я надеялась, что мы с ними разминулись.
Я не знаю, почему я подумала, что они сменят маршрут: Фейрли были, и есть, высеченные из камня, каждое действие – маленький ритуал самоутверждения семьи, клана.
– А это Нина? – Позади послышался голос, который я так хорошо знала.
– Мама! – воскликнул Себастьян. – Нина здесь! С Малком! – Я беспомощно глядела на них, как он крепко обнял Малка, потом повернулся ко мне.
– Привет, Салли, – сказал он нежно. – Мне жаль.
– Вот так как, – прошептал Малк, когда его выпустили из объятий.
– Вот так так, и это ты виноват, – прошипела я в ответ.
Мы стояли там, недвижимые, смотря, как остаток клана спешит к нам навстречу, как костюмированная драматическая труппа из Брора и Боден.
Я была права, во всех смыслах. И это была та самая причина, по которой я не ходила в Хит.
Глава 9
– Нинс! – воскликнула милая сестра Себастьяна, Шарлотта, проскакав и обняв меня. – Привет! Так давно тебя не видела.
Она отбросила свои длинные волосы с лица и шагнула назад, серьезная, когда ее младший брат, Марк, поцеловал меня в ухо и смущенно пробормотал:
– Привет, Нина.
– Привет вам обоим, – сказала я. – Привет, Джуди. – Джуди была сестрой его отца, которая жила с ними и которая каждый день плавала в Хемпстедских прудах.
Джуди крепко пожала мою руку.
– Ужасно рада тебя видеть, Нина. И тебя, Малк.
– И я, Джуди. – Малк поцеловал ее, потом повернулся к матери Себастьяна, пройдя сзади группы: – Ну, Цинния. Какой сюрприз.
– Да! – сказала я с улыбкой. – Какой сюрприз!
– Нина. Дорогая, какая радость снова тебя видеть. – Цинния притянула меня к себе в объятия в своей обычной кружевной шали, с идеальным контурингом и ароматом Живанши Амаридж. – Как необычно, – сказала она своим глубоким низким голосом. – В последнее время я так много о тебе думала. Себастьян рассказал мне, что твои соседки смылись от тебя и тебе пришлось опять переехать к Дилайле и Грэхему.
– Ну, это только на время, – ответила я, по-детски оправдываясь. – Сестра Элизабет купила квартиру и предложила ей жить вместе, а Ли получила отличную работу на раскопках в Мексике, примерно в то же время. Нам всем было жаль съезжать.
– Ммм, – протянула Цинния, очевидно не слушая. Она наклонила голову набок, ее моллюсково-синие глаза постоянно следили за мной. – Чудесно.
– В любом случае, у нас все неплохо идет, да, Малк? Мы еще не поубивали друг друга… – добавила я и нервно засмеялась при виде того, как Малк захрипел и закатил глаза, издеваясь и изображая обратное.
– Ах, – Цинния озадаченно посмотрела. – Что ж, мы, должно быть, застали вас врасплох, Нина. Почему мы тебя не видим?
– Ты помнишь, мама? Женитьба? Развод? Все эти дела с бывшей женой? И как ты приказала ей убираться и назвала сукой? – Себастьян пихнул меня, в шутку, но слишком сильно, так что я почти повалилась в сторону, упав на Малка.
– Себастьян! – гневно выпалила юная Шарлотта с выпученными глазами, смотря то на мать, то на меня.
Наступила короткая, напряженная пауза. Цинния чудесным образом смахнула ее одним пренебрежительным взмахом бледной руки. Она пожала мне руку.
– Что было, то прошло, дорогой, Нина знает это. Так вот, на прошлой неделе я встретилась с замечательным автором детской литературы, который, я уверена, тебе понравится…
Я ждала приглашения на ланч, придумывая, как отказаться. Некоторые собирают Лалик, некоторые – статуэтки персонажей из «Стар Трека»: Цинния коллекционировала людей. Ее обеды выходного дня в доме Фейрли на окраине Хит были легендарными. В первый год учебы в колледже, когда мы уже с Себастьяном были хорошими друзьями, как-то в воскресенье меня пригласили в Хай Мид Гарденс. Все там уже знали мое имя.
– Нина! Чудесно, что ты пришла! – Закричал седовласый, сутулящийся отец Себастьяна, Дэвид, распахивая дверь и обнимая меня своими большими руками. (Фейрли очень любили крепкие объятия.)
– Проходи! Мы так рады видеть тебя здесь, Себастьян все время о тебе говорит. Ты будешь джин с тоником? Не обращай внимания на шум, мы там поставили пианино, и Клаудио пытается его опробовать.
На том первом обеде был член законодательного собрания, классический пианист, еще трое, которые выделялись своей шикарной речью, и два писателя. Я не была ими впечатлена: в конце концов, моя мама была писателем. Но скоро я поняла, что они не были на нее похожи. Они и правда были Писателями: один из них был романист, который вошел в шорт-лист премии Орандж Прайз, и у него была дочь по имени Джонерил; другой писал в жанре военной истории и был похож на итальянца. Мама, со всеми ее причудами, никогда не называла никого «симпатико», и кроме того, мы с ней обе верили, что король Лир был мерзким стариком, заслуживающим своей судьбы.
Что касается остального – перепела, обжаренные в красном вине, теннисный корт, старая мебель из красного дерева и разговоры за ланчем, в которых все, включая десятилетнего Марка, должны были принимать участие и слушать, – открытый экзотизм всего вокруг был для меня в новинку. Я честно не думала, что люди вот так живут, мне казалось, что такое может быть только в книгах. Таким же открытием было то, что они были рады меня здесь видеть. Что Себастьян говорил обо мне. Я, правда, не могла понять (и не могу до сих пор, спустя семь лет), почему он выбрал меня, почему мы стали так близки. Я знаю только, что это был первый раз, когда я чувствовала себя самой собой, а не кем-то, прячущимся в маме, или в миссис Полл, или тенью Джонаса, бледной мошкой в классе, наполненном бабочками.
В тот день я в первый раз переспала с Себастьяном, и это вообще был мой первый раз. Это было в его комнате, где на стенах висели черно-белые книжные плакаты, изображавшие кучу персонажей: Брандо, Хемингуэй, плакат из «Выпускника». Во время чая, когда были уже сумерки, почти темно, и когда вся семья собралась внизу, дети шумно играли на пианино песни Битлз. Он сделал кокон из пухового одеяла, и в первый раз был со мной, наверное, слишком быстро, и как-то все стало хорошо, и счастливый румянец горел на его щеках, и его уязвимость и скромность, когда мы вместе лежали под простынями, нервные, обнаженные, наполненные крепким вином и юным сильным влечением. Это сделало его более человечным, а меня той, кто могла ему помочь принять нового себя. Мы оставались наверху до одиннадцати, смеясь, занимаясь этим снова и снова, пока не отключились, и он был похож на спящего льва, и его пушистая грудь вздымалась и опускалась, когда я смотрела на него с восхищением. Мне казалось, что все это время я блуждала во сне, а теперь пробудилась, стала жить в реальном мире, и все имело смысл.
На следующее утро мы украдкой выбрались из дома, пока про себя я молилась, чтобы Цинния и Дэвид меня не заметили – я была уверена, что они ничего не имеют против, но я не хотела отвечать на всякие вопросы, не хотела, чтобы волшебство прошлой ночи было разрушено.
Мы поженились через пять месяцев, в конце первого года учебы в колледже. Мне было девятнадцать, ему двадцать; мы пошли в Ислингтон Таун Холл. На мне было белое хлопковое платье в стиле английского кружева, купленное за день до этого в Эйч-энд-Эм, за 13,99 фунта. Я все еще храню его, но оно лежит в комнате Мэтти, безвольно болтаясь на проволочной вешалке в глубине шкафа.
Были только мы вдвоем и два свидетеля: Себастьян подкупил каких-то парней в Ред Лайон на той же улице. От одного из них несло крепким перегаром, гнилым вперемешку с чем-то сладким и перебродившим, и до сегодняшнего дня запах бомжей, коллег с похмелья, душных баров напоминает мне день нашей свадьбы, мое белое хлопковое платье, его костюм, его милый голубой галстук в крапинку, наши белые костяшки пальцев от того, что всю церемонию мы крепко держались за руки. И хотя мы были одни, мы правда воспринимали все всерьез. Это была не шуточная свадьба в Вегас-стиле. Мы были абсолютно уверены. Я думала о своих родителях, которые были так же молоды; они бы тоже были уверены. И когда я пишу это почти десять лет спустя, я до сих пор чувствую эту уверенность, и как мы оба ее чувствовали. Я никогда не была и, наверное, уже не буду так влюблена, как тогда.
Потом мы пожали руки свидетелям и прыгнули в такси. Мы поехали в небольшой французский ресторан в «Шепперд Маркет», и мы обедали и пили шампанское, ели стейки с кровью, беарнез, салат и картошку фри, и потом Себастьян, раскрасневшийся от шампанского и супружеской гордости, признался, что он забронировал нам ночь в Кларидже. Это был такой сюрприз, такая чудесная новость, но, когда мы приехали туда, я поняла, что буду чувствовать себя виноватой, если мы не расскажем родителям. В холле этого замечательного отеля, немного пьяные, я, в своем слегка помятом белом платье, и он, пытающийся выглядеть взрослым: мы все сделали неправильно. Он обиделся, что мне больше ничего не нравилось; я завелась от нервов, усталости, беспокойства.
Наверное, именно тогда в нашем браке пошла первая трещина, в тот самый момент, мы выбрали неправильную дорогу. Мы позвонили моим родителям и сказали, что мы сделали, хихикая, и вели себя просто как дураки, я думаю, нарочно, чтобы скрыть то, о чем мы оба знали, что в тот момент стало совершенно очевидно. За три часа до этого, когда в загсе регистратор отпустил наши руки и разрешил нам идти, мы смотрели друг на друга и в будущее.
Как я и сказала, прошло почти десять лет с тех пор, когда я встретила Себастьяна, и теперь это кажется мне значительным периодом моей молодости. Но так было недолго, и я думаю, что у каждого есть эти большие промежутки времени, как доказательство стабильности и успеха. «Мы были женаты три года, но до этого мы пять лет были вместе», – говорят мои друзья, когда их спрашивают, как будто рассказывая об этом промежутке времени, они убеждают слушателя в ценности своих отношений. К тому времени, как мы с Себастьяном уже год были знакомы, мы уже были женаты три месяца. Я улыбаюсь, когда думаю об этом, как мы все поняли задом наперед, сейчас уже зная то, что случилось с нами потом, в то лето.
Теперь Цинния пристала к Малку с вопросами о каком-то журналисте, которого она знала, а Шарлотта тянула Себастьяна за руку:
– Пойдем выпьем чаю. Мы с Марком займем стол.
Себастьян посмотрел на меня:
– Вы пойдете с нами?
– Наверное, нет, – ответила я, смотря на часы. – Мы обещали маме, что вернемся…
– Ладно… – Себастьян прервал меня. – Шарлотта, почему бы тебе не побежать и не занять столик?
– Конечно. Пока, Нина.
Я послала ей воздушный поцелуй, и она убежала.
Повернувшись ко мне, Себастьян сказал спокойным тоном:
– Эй, мне надо заглянуть к вам и забрать книгу, которую мне обещал Малк. Не хочешь выпить на следующей неделе? Четверг?
– Ох, – сказала я, смотря, как Цинния сверкала глазами с Малка на нас. – Ну…
Я позволила себе разок взглянуть на него, на его золотые волосы, на высокие скулы, блестящие на солнце, на добрые глаза цвета сливочной помадки и на большеватый нос, который делал его более простым, смягчая совершенство лица, придавая небольшой оттенок глупости.
Я вспомнила, как увидела его в первый раз, во второй день учебы в колледже. Я уже успела опоздать на первую лекцию. В бессильной панике я смотрела на карту на пробковой доске объявлений в переднем дворе, пытаясь понять, где проходит мой семинар по викторианской литературе, нервно грызя ноготь на большом пальце.
Он просто возник рядом со мной и сказал: «Привет! Ты в моей группе по субконтинентальной Индии, да? Ты Нина? Все в порядке?»
Я повернулась и посмотрела на него и просто залипла, потому что он был – ах, он был так прекрасен. И такой милый. Я не знаю, почему Себастьян подошел ко мне, почему он меня полюбил. Я знаю одно – мне повезло.
Когда теперь мы смотрели друг на друга – мы оба, посреди солнечного света и цветения весны, в неожиданном единении, окруженные семьей, – это не казалось странным, быть с ним, и не казалось опасным, экзотическим или отголоском прошлого, это было совершенно естественно, как и всегда. В тот момент я поймала себя на мысли, что я скучаю по нему: скучаю по всему, что с ним связано.
– Ты все время сходишь с темы, когда я говорю об этом. У меня такое чувство, что тебе больше хочется провести еще один вечер с мамой и Малком, – сказал он, полушутя-полусерьезно. – Смотри, я хочу сказать, что это нормально, если ты не хочешь. Я просто по тебе скучаю, Нинс.
Я сказала, задыхаясь:
– Не скучай, Себастьян.
– И все равно скучаю. – Он сказал это легко, и он улыбался, но в его глазах был страх, как у маленького мальчика. – Я… я помню, как ты однажды сказала, что лучше лишай, чем пойти со мной выпить.
– Я такого не говорила.
– Говорила, и потом ты разбила телевизор.
– Не было такого. Ты пригласил на ужин десять человек, а у меня на следующий день был экзамен. Я запустила стулом в телевизор, потому что ты увиливал. Это разные вещи.
Все было в порядке, если я знала правила. Что мы делали это в шутку, смеялись, ха-ха, были такими взрослыми. Я могла это делать. Но когда он иногда смотрел на меня и наши глаза встречались, это было пугающе – как смотреть в зеркало на свой самый глубокий страх, – и я не могла (и сейчас не могу) выдержать мысли об этом, о том, как хорошо он меня знает и как мы все еще понимаем друг друга, потому что финал был таким ужасным, полным злости, уныния и ненависти.
Это была моя вина. Мне всегда было нужно что-то, о чем подумать, к чему придраться, и наш неорганизованный брак, муж, которого никогда нет дома, который флиртует и выпивает со всеми подряд, который не смог помочь мне так, как я впоследствии того хотела бы, – все это, кажется, было моим любимым занятием. Я настолько освоила его, что получила бы пять на экзамене.
– Ты хочешь, чтобы я тебя ненавидел! – кричал он на меня однажды, когда он забыл про мой день рождения и я весь день пролежала в постели. – Ты, мать твою, пытаешься заставить меня тебя ненавидеть, а я не буду.
Любила ли я его? Да, очень. Болезненно. Любил ли он меня? Да, я знаю, что любил. Так что же пошло не так? Не думаю, что любви достаточно. Не думаю, что мы были готовы. Мы думали, что это наша судьба, влюбиться такими молодыми, вот так пожениться. Я думала, что рождена для этого, книжная, тихая девочка, которая, в общем, и не жила – я верила, что настало мое время летать. Я ошиблась: я думала, он меня спасет, заполнит все дыры. Вы не можете просто попросить кого-то сделать это для вас. Вы должны сделать это вместе. Это я ушла от него, это я переспала с другим – я нарочно это сделала. Я честно считала, что так будет лучше всего, предупреждающий удар, чтобы уберечь саму себя от разбитого сердца, прежде чем он поймет, что он мог поступить лучше для себя и пойти найти себе кого-нибудь. Ох, это так глупо, писать обо всем этом, но так оно и было.
Мне было больно вспоминать об этом, и сейчас, когда я смотрела на него, я все еще помнила ощущение прикосновения его кожи к моей… его руки. Его улыбку. Как счастливы мы были. Как много раз он смешил меня; никто так не мог, ни до, ни после.
– Послушай, – сказала я наконец, – мы можем пойти выпить в пятницу на день рождения Малка. Но только если ты потом кое-что сделаешь. Есть одно дело. Тогда, по крайней мере, там будет кто-то, кто компенсирует мне, что подвыпившие эля криминальные репортеры будут звать меня куколкой.
– Договорились, – сказал он, и мы улыбнулись друг другу, кивнув.
Цинния прервала нас:
– Грэхем как раз говорил, что у Дилайлы в следующем месяце будет несколько лекций, в Оксфорде. Мы должны пригласить его на ужин. Мы не можем бросить тебя голодать, дорогой Грэхем.
– О нет! – смущенно сказал Малк.
– Будет здорово, Малк, – сказал Себастьян, пихая его рукой. – Эй, мне понравилась та заметка, которую ты написал для «Таймс» на прошлой неделе.
– Дом ужаса рядом с нами? О да! – Малк кивнул с удовольствием, и когда они начали обсуждать это, я пожала плечами, говоря про себя: Как хорошо! Какой чудесный денек для прогулки. Как мило увидеться с Себастьяном и так с ним хорошо поболтать. И Джуди, и Шарлотта, и Марк – даже Цинния; она не так уж плоха…
И тут Цинния повернулась ко мне:
– У нас с Себастьяном была такая странная встреча на прошлой неделе, он тебе говорил?
– Нет, – ответила я, вежливо улыбаясь.
– О! Как забавно. Я хотела тебе рассказать. – Ее глаза остановились на мне.
– Ах, – сказала я, не в силах вынести ее взгляд. – Что ты хотела мне рассказать?
– Ну, ты правда хочешь, да, Нина? Мы… да, мы встретились с одним моим старым другом. Себастьян и я. Мы прогулялись по Фласк Волк, потому что мой дорогой мальчик повел меня обедать в мой день рождения, и мы искали одну брошку, которую я все хотела купить, и тут Себастьян сказал…
Я почти перестала слушать: Цинния знает все, она была везде, и очень сложно притвориться, что тебе интересно, когда она заводит историю о том, как принц Чарльз и Джуди Денч вместе ужинали. Но затем она прокашлялась и натянула выражение лица Себастьяна, когда он довольно рычит.
– …мама, в библиотеке была странная женщина. Я видел ее пару недель назад, и с тех пор это меня беспокоит, я уверен, что я ее знаю.
Она посмотрела на мою реакцию. Я повернулась к Себастьяну. Он взглянул на меня, на середине разговора, как будто почувствовал мой взгляд.
– Ты же сказал, что не знаешь эту женщину, – сказала я.
– Какую женщину?
– Женщину в красных колготках в библиотеке. Ту…
– Ты имеешь в виду Лиз, – просто сказала Цинния. – Лиз Трэверс.
Лиз Трэверс. Ее зовут Лиз. Не Тедди.
– Да, – сказал Себастьян. – Я не узнал ее. Она так изменилась.
– Что ж, дорогой, ты ее десять лет не видел. Я думаю, что это нормально.
– Кто она? – спросил Малк.
– Лиз Трэверс, – повторила Цинния. – Она наш старый друг. Забавно, что вы тоже ее знаете!
Малк побледнел.
– Она не знает нас, – сказала я. – Не знаю, чего она хочет от… От меня. – Я сглотнула. – Вы с ней говорили?
– Говорили! Да она подлетела к Себастьяну и прямо накричала на него за то, что в тот день она его сразу узнала, а он так с ней грубо обошелся, – ответила Цинния, поправляя шарф. – Она всегда была немного чудная, но я никогда не видела ее такой. Не знаю, что вы ей такого сказали, Нина. Она ужасно обиделась.
– Мы не были с ней грубы, – ответила я. – Мы… Она сказала… – Я запнулась, стараясь собрать мысли в кучу. – Извини, так ты ее знаешь?
– Мы давно друг друга знаем, – спокойно сказала Цинния. – Она работала с Дэвидом над «Ветрами власти». Она получила за него премию BAFTA… – Она остановилась. – «Ветра власти» был самым крупным фильмом Дэвида, высшая отметка в его карьере. Актрисе, исполняющей главную роль, дали «Оскар». Ужасно, что Дэвиду ничего не дали. Это был его фильм. То, что ей присудили, а он…
Я прервала ее:
– Она актриса?
– О нет, – ответила Цинния, глядя на меня с любопытством. – Ты что, правда не знаешь, кто она такая?
– Нет, я же говорю, я никогда ее раньше не видела. Но, кажется, меня она знает.
– Лиз – сценарист. Стыдно не знать, ну правда. Такая печальная судьба. Она так и не реализовала свой потенциал до конца.
В других обстоятельствах я бы улыбнулась, услышав, что сценарист, призер BAFTA не реализовал свой потенциал. Цинния оглянулась на Малка и улыбнулась.
– Извини за это, Малк. Боюсь, что мой сын грубо обошелся с вашим старым другом и она все неправильно поняла.
– Не надо, – тихо ответил Малк, заложив руки за спину. – Не извиняйся.
Я сказала Себастьяну:
– Почему ты мне ничего не сказал?
Он выглядел озадаченным.
– Я собирался сказать, когда мы пойдем выпить. Прости. Выскочило из головы.
И я вспомнила, что не рассказала ему обо всем остальном: о фотографиях, о книге. Я поежилась.
– Конечно. Не волнуйся. Ничего страшного.
Но Цинния все еще смотрела на меня. Наступила небольшая пауза; Себастьян снова повернулся к Малку, чтобы закончить разговор, а она сказала:
– Интересно, почему она считает, что знает тебя.
– Не знаю. Она что-то знает про моего отца. И про мою семью. Она пыталась связаться со мной. – Я отбросила всякую осторожность. – Она говорит, что мой отец не погиб. Я… Не уверена, но может быть, она сумасшедшая. У тебя случайно нет… Нет ее адреса?
– О, прости. Нет.
– Вообще нет? А ты знаешь, где она живет?
– О, в тех домах на той стороне Хит. В Приорс.
Это те домики-замки, мимо которых мы недавно шли. Я потерла глаза.
Малк встал под деревом, и Себастьян пожимал ему руку, прощаясь. Вдалеке появилась Шарлотта и позвала его, крича что-то насчет чая. Мы стояли в стороне от них, на краю холма.
– Цинния, как ты думаешь, ты могла бы связаться с ней для меня? Выяснить, хочет ли она со мной снова встретиться. Я просто в отчаянии. Все это так странно и…
– Еще раз, нет.
– Извини? – переспросила я, подумав, что ослышалась.
Цинния наклонилась ко мне. Она осторожно притянула шаль обратно на плечи.
– Нина, дорогая, пойми меня правильно, просто потому, что мы не хотим, чтобы ты была в нашей жизни.
– Что?
– Прошу тебя, пойми. Я думаю, для всех будет лучше, если мы разойдемся каждый в свою сторону. – Она изобразила, как отталкивает лодку от берега. – Это ваше дело, пойти выпить и все такое, а что дальше? Эти встречи, все это, они все запутывают и расстраивают меня. Ты не должна тратить его время. Он был… Ты почти сломала его, я тебе это говорила в свое время. Вам с ним нужно начать все с чистого листа, говоря метафорически. Просто с чистого листа.
Я сделала пару шагов назад, как будто она меня оттолкнула.
– Но… Это ты хотела со мной увидеться, – сказала я, потирая переносицу, пытаясь не показывать, как сильно она меня задела. – Не понимаю…
– Что ж, – сказала она спокойно. – Я просто хотела сказать тебе напрямую. Объяснить, почему будет лучше, если ты… Если ты оставишь его в покое, дорогая. Это трудно, я знаю. Я не хотела тебя обидеть.
Я отрывисто засмеялась.
– Итак, ты поняла. – На ее верхней губе появилось крошечное блестящее пятно от слюны.
Немного помолчав, она мягко продолжила:
– Нина, если бы ты была моей невесткой, я бы все сделала, чтобы поддержать тебя. Если бы ты была матерью его детей, я бы убила за тебя. Но ты его бывшая жена, и уже прошло два года, и я думаю, пришло время тебе просто… Да, оттолкнуть лодку, уплыть. Вот почему я не хочу тебе помогать. Ты меня поняла, дорогая?
С годами я стала восхищаться Циннией, и я восхищалась ею и теперь, хотя это странно. Ее прямолинейность ошарашивает, буквально сводит с ума.
– Я поняла, – ответила я. – Если ты решила мне не помогать… Хорошо. В любом случае, спасибо за честность.
– О, не за что, – сказала она, как будто мы с ней болтали за коктейлем. Ее лицо было спокойно. – И еще, дорогая, раз уж мы об этом заговорили, я думаю, тебе лучше просто забыть и о Лиз тоже. Это нехорошо по отношению к ней. Она очень расстроена насчет тебя, дорогая.
– Да, я понимаю, – ответила я, стараясь говорить обычным тоном. – Что она тебе сказала?
– О, – Цинния тихо засмеялась, – ну, начнем с того, что она продолжает называть тебя «Тедди».
– Тедди? Правда? – воскликнула я, когда остальные подошли к нам. – Как смешно. – И я снова поежилась, стараясь скрыть внезапный приступ злости, думая, как с ним справиться. – Извини еще раз, если мы поставили вас в неловкое положение.
– О, Себастьян. – Я легонько пнула его.
– О, Нина.
– Созвонимся насчет следующей недели. Я бы хотела все же с тобой выпить.
Я не смотрела на Циннию. Я знала, что это ребячество – но с ее стороны разве нет? Если я хочу его видеть, что в этом плохого? Разве я желаю ему зла? Разве я на самом деле как стихийное бедствие, каковым она меня считает?
Но она промолчала, а Себастьян кивнул.
– Отлично, – сказал он.
И вдруг Цинния добавила:
– Да, бедная Лиз. О, что там она тебе сказала, дорогой? – она повернулась к Себастьяну.
Он пожал плечами, смотря на меня с любопытством.
– Не знаю.
– Я помню. «Тедди сделала что-то плохое». Она продолжала это повторять. «Я прочитала об этом все. Она сделала что-то очень плохое». – Она хорошо изображала, и у меня на голове волосы встали дыбом. Меня знобило даже на солнце.
– Она кажется сумасшедшей, – сказала я прямо. – Я же не Тедди, поэтому все легко объяснить, правда? Попрощайтесь за меня с Джуди, было здорово снова ее видеть. И Марка с Шарлоттой.
Я полюбила Шарлотту, с ее застенчивыми глазами и длинными, шоколадного цвета волосами, и на мгновение я почувствовала отчаяние – от того, что, наверное, больше их не увижу.
– Спасибо, Цинния. – Я поцеловала ее старческую, надушенную щеку.
Она повернулась, обняв рукой сына.
Когда они отошли, Малк сказал:
– Чего она хотела? Ты что, продала ей органы? Или она собирается омолодиться с помощью обезьян, которых ты для нее разводишь?
– Просто перетирали прошлое, – ответила я, шагая вперед, чтобы он не заметил, как я покраснела. – Обыкновенная чушь из мира Циннии. Но она права, и ты прав. Бедная та женщина. Я не буду ее беспокоить, если снова увижу.
Малк догнал меня и обнял за плечи, и мы пошли к югу.
– Что ж, наверное, она права. Мне больно это говорить. Ты знаешь, я люблю Себастьяна, но я никогда не понимал, как ты могла выйти замуж за человека из такой семьи.
Глава 10
В понедельник ее не было в Лондонской библиотеке, и ни в один из следующих дней после того, как мы встретились с Фейрли, хотя я ходила туда на обед каждый день и каждый вечер после работы, когда они были открыты допоздна. Я просто стояла на первом или втором этаже, высматривая ее повсюду, ждала, что, может быть, она сама ко мне подойдет. Но ее нигде не было. В телефонной книге не было ее номера, хотя я прочитала все о ее блестящей карьере (две премии BAFTA, одна номинация на «Оскар», много других наград). Я взяла напрокат «Ветры власти», «Мейбел и благоразумие» и «Всеми правдами и неправдами» – три ее самых известных фильма – и посмотрела их в своей комнате на ноутбуке. Я искала ее сообщений, подсказок, знаков, которых там не оказалось.
Когда май сменился июнем и настал день рождения Малка, я начала думать, что, наверное, они все были правы, все. Но бросить поиски значило отказаться от мечты о другой жизни, от новой версии себя, от кого-то другого, у кого нет двенадцати экземпляров одной и той же книги, разбросанных повсюду друзей, бывшего мужа, застывшей карьеры. И поэтому я не слушала голоса, твердившие мне, что я ошиблась, смеющиеся надо мной во сне, сидящие по темным углам, готовые наброситься на меня, передразнивая мое собственное воображение, выращенное на детской книге. Я продолжала ждать в библиотеке.
Несколько раз я возвращалась в Хэмпстед и гуляла мимо домиков-замков, размышляя, который из замков ее, молясь, чтобы она вдруг появилась, как Спящая Красавица. Я стояла там ранним вечером, у высокой травы, которая раскачивалась и щекотала мои лодыжки, наблюдала, как лондонцы целенаправленно шагают домой с работы: рюкзаки, кроссовки, солнечные очки, все куда-то спешат, туда, где им надо быть. И я ждала, пока стемнеет, прислонившись к дереву с книгой Агаты Кристи и каждые полминуты поднимая глаза, просто чтобы убедиться, что она не проходит мимо меня. Ничего.
Я знала, что это странно. Но никто не спрашивал меня, где я была. И мало-помалу настал момент, когда все стало казаться бессмысленным, и понемногу я перестала ходить и в Хит, и в Лондонскую библиотеку. Один день, потом два, потом три, и я удивлялась сама себе, но не шла туда. Я читала за своим столом, или болтала со Сью, или бродила по магазинам с Бекки. Каждый вечер я шла домой, притворяясь, что это нормально, что она меня больше не волнует. Я положила фотографии, аккуратно вложив их в конверт, в книгу «Нина и бабочки», потом положила под кровать, где книга примостилась посреди плотных комков пыли. Я сказала себе, что это разумно, что так я буду лучше себя чувствовать.
В первую пятницу июня был день рождения Малка и, так совпало, у Брайана Робсона тоже. Эти два славных парня делили один день рождения, и мне это нравилось; это опровергало теорию Малка и напоминало мне, что совпадения, большие и маленькие, случаются повсюду. Во время обеда я пошла в Теско, выбрать капкейки для Брайана, в честь которого мы устраивали небольшое чаепитие после обеда, и что-нибудь для Малка, чтобы скрыть тот факт, что я так и не успела купить ему подарок.
Примерно без десяти два я шла через площадь Святого Джеймса с вызывающе большой кипой пирожных. Я посмотрела на окна библиотеки, но не остановилась.
Звук автомобильного гудка из-за угла заставил меня снова обернуться. К библиотеке подъехало черное такси, и из него вышла молодая женщина. Ее густые, медово-светлые волосы были убраны в хвост, и она была одета в хороший спортивный костюм – кроссовки, шикарный белый топ, облегающие лосины. Ее манера, когда она открывала дверь такси, показывала живую деловитость. Я попялилась на нее – няня или секретарша какого-нибудь миллионера возвращается с вечеринки на Нью-Бонд-стрит, – когда она пренебрежительно махнула на грубого белого водителя такси, сигналившего им за то, что они задерживают движение, а потом я смотрела с восхищением, как она помогла кому-то выйти из машины, оставаясь совершенно спокойной.
Когда такси отъехало, она и Лиз Трэверс остались на тротуаре, и молодая женщина сказала что-то пожилой, та кивнула в ответ, потом повернулась и пошла по лестнице, спеша, хотя двигалась она медленно. Молодая женщина какое-то время понаблюдала за ней и потом ушла.
Я стояла как прибитая. Я думала подойти к ней, но после того, как она прошла мимо меня, я со всех ног побежала к дверям библиотеки.
Чуть позже в тот же день, когда я вернулась в офис, Сью спросила меня: «А где же пирожные для Брайана, Нина?» И я покачала головой в ужасе, извиняясь. До сегодняшнего дня я не помню, что я с ними сделала и с пиратским тортом для Малка. Наверное, я уронила их в парке, где их сожрали голодные офисные клерки или голуби. Не знаю: я не помню.
Я помню, как побежала по лестнице, на ходу нервно вынимая пропуск – пожалуйста, не пропадай, как обычно, – и что бежала на второй этаж через ступеньку, почти сбив с ног пожилого мужчину в льняном костюме, безумная, пока не увидела ее, скорее вспышку красного цвета, как она снова исчезла в дебрях стеллажей и за ней захлопнулась дверь.
Осторожно и на этот раз тихо я открыла дверь. Я хотела убедиться, что это она, и я не была уверена, что она хочет меня видеть.
И потом:
– Тедди? Тедди? – послышался нежный мелодичный шепот. – Тедди! Ты здесь?
Мои ноги медленно ступали по железной решетке на полу, когда я увидела кого-то внизу, смотрящего сквозь перекладины, и она ступала то вверх, то вниз, тихо зовя. Ее? Меня?
– Тедди? Где ты, Тедди?
Я прокашлялась, чтобы дать понять, что я тут, и шаркающие шаги затихли. Я прошла мимо первого стеллажа с книгами – ничего. Я чувствовала ее, ощущала ее. Следующий – ничего.
Я снова покашляла и сказала тихо:
– Мисс Трэверс? Это я. Нина.
И тогда я ее услышала, у следующего стеллажа. Она напевала песенку себе под нос.
…маленькая старенькая Тедди, Последняя, кого ты видела. Все они бабочки, осталась только я. Все они бабочки, осталась только я.– Мисс Трэверс… Мисс Трэверс? – Я двинулась к ней, примерно на шаг, и она повернулась ко мне, как угловатое животное. Она была крошечная и намного старше, чем я думала. Ее глаза казались даже еще больше.
– Ты! – показала она на меня. – Ты вернулась. Я искала тебя… – Она замолчала и оглянулась вокруг. – Та мерзкая женщина, она ведь не с тобой?
– Нет, – ответила я, стараясь не улыбаться. Я точно знала, о ком она говорит. – Ее нет.
– Ах. Я ее ненавижу. Ты ее знаешь? – Она вперила в меня взгляд.
– Я была замужем за ее сыном. Извините, что мы вам нагрубили, мисс Трэверс.
Она махнула рукой, все еще упираясь в стеллаж.
– Не важно. Он хвастался. Он славный мальчик. Я помню его. Милый. У него большие уши. – Она хихикнула.
– Можно у вас кое-что спросить? – сказала я после минутной паузы.
Она кивнула:
– Конечно, можно.
– У меня есть ваши фотографии. Зачем вы дали их мне? Вы хотите мне что-то сказать?
– Какие фотографии?
Я прокляла себя за то, что не держала их при себе.
– Молодая девушка, на лодке. И девочка, и ее мать, охотятся на бабочек.
Она вежливо улыбнулась.
– Мне очень жаль. Я не знаю такой фотографии. – Она огляделась. – Эта женщина не с тобой, правда? Ужасная женщина.
Это было похоже на американские горки: у меня закружилась голова.
– Нет, мисс Трэверс. Ее нет. Девушка на фотографиях – вы сказали, ее звали Тедди.
Лиз Трэверс остановилась.
– Тедди. – Она придвинулась ко мне, так что мы оказались в нескольких дюймах друг от друга, и я свернула шею, глядя на нее сверху вниз. – Да, я тебя знаю. Бедная Тедди. Ты скажешь ей, скажешь ей, что все в порядке?
– Я… Я не знаю Тедди.
– Да знаешь. Я видела тебя с ней.
– Нет, – с несчастным видом ответила я. – Вы не могли меня с ней видеть.
– Я видела тебя с ней. В парке.
Я медленно сказала:
– Мисс Трэверс, я не знаю, кто такая Тедди. Понимаете, я как раз пытаюсь это выяснить. Связана ли она как-то с моей семьей… с моим отцом. Вы сказали, что знали моего отца. Сказали, что он не погиб, и потом написали на обратной стороне фотографии «Это твоя семья. Ты не знаешь их и что они сделали». – Я старалась не торопить ее и говорить спокойно. – Разве не вы это написали? Уверена, это вы. Что вы хотите мне этим сказать?
Ее глаза были как расплавленный металл, серые, черные, со стальным оттенком, и она качала головой, все еще глядя на меня, прямо на меня. Над головой послышались шаги.
– Я правда видела тебя в парке с Тедди. Вы играли в прятки.
– Я не знаю Тедди, – зашипела я и подумала, что скоро завою. – Кто она?
Она моргнула, и что-то, казалось, изменилось в ее гневном выражении лица.
– Ох… я не знаю. Ты знаешь Эл? Ты помнишь Эл? Тедди знала Эл… – И она снова покачала головой и с искренней, кривой и трогательной улыбкой пожала плечами. – Тогда прости. Если это была не ты. В парке. Я все стала забывать. Смотри.
Пошарив в кармане своей черной юбки, она протянула мне заламинированную карточку.
Я взяла ее за руку, слегка пожав. Я сказала:
– Не волнуйтесь. Ничего страшного.
– Да, да, – ответила она. – Не стоит. Когда со мной все в порядке, меня это бесит. – Она слегка мне улыбнулась. – Послушай, что ты хотела мне сказать? – И я заметила, что она мягко топает ногой по металлическому полу.
– Пожалуйста, прошу вас, не беспокойтесь, – сказала я снова. – Все в порядке. Ничего страшного. Я постою тут с вами, пока не запищат часы. Я подожду Эбби.
– Нет, – сказала она, вдруг разволновавшись. – Она придет и заберет меня. Я тут смотрю на книги и гуляю по библиотеке и считаю до тридцати. У меня тут свои маршруты. Ты не должна прерывать мои маршруты. Ты должна оставить меня одну. Эбби придет и заберет меня.
Я ответила:
– Конечно. Извините…
– Так что, ты не знаешь Тедди? Не знаешь, что она сделала? Жаль, что не знаешь. Жаль, что ты не можешь мне рассказать. Она сделала что-то ужасное. Ужасное. – Она посмотрела вниз на свои руки и потом, почти свирепо, как маленький грызун, стала грызть старый грубый заусенец. – До свидания. До свидания. Пожалуйста, уходи. О, прошу тебя, уходи.
– Нина, – сказала я. – Меня зовут Нина.
Она тихонько запела:
– Нина Парр, сама себя заточила.
Я остановилась.
– Что это за песня?
– Что?
– Что это за песня? Та, что вы пели? И та, что вначале?
Казалось, что я хочу поймать тень; она просто снова мне улыбнулась.
Я написала короткую записку на стикере:
Дорогая Эбби, если у вас есть время, пожалуйста, позвоните мне по телефону, указанному внизу. Я знаю мисс Трэверс из библиотеки и очень хотела бы кое-что с вами обсудить. Благодарю.
Я не подписалась. Не знаю почему. Я засунула стикер за обложку ламинированной карточки и положила ей в карман. Она стояла абсолютно спокойно, как будто давно привыкла, что люди делают с ней, что хотят.
– Спасибо вам, мисс Трэверс.
– Конечно, конечно, да. Спасибо тебе за чай. Вот что сказал Марк после того, как мы поженились. Спасибо за чай. Официантке. Спасибо вам за чай. – Она засмеялась. – И тебе тоже спасибо, мне надо ехать в Индию. Та мерзкая женщина скоро будет здесь.
Я пожала ей руку и ушла, ничего не видя от слез. Проморгавшись, я встала в дверном проеме в тени и смотрела на нее какое-то время, размышляя, не выглядит ли она похожей, не может ли она быть моей родственницей и что она такое знает, что мне не под силу выяснить. Я наблюдала за ней, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Я размышляла, часто ли ее оставляют вот так одну и хороший или плохой сегодня день для нее. Я старалась все это понять, найти какой-то смысл – но ничего не получалось.
Спустя некоторое время я огляделась, осознав, что я снова стою у входа в офис, не помня, как добралась сюда, и еще, поняла я с ужасом, со мной не было пирожных. Была половина третьего. Я пошла наверх к офисам на втором этаже.
– Но где же пирожные для Брайана, Нина? – спросила Сью.
Я тяжело опустилась на стул.
– Прости, Сью. Я их купила, но забыла их… – Я замолчала. – Не знаю. Прости. Сегодня в обед что-то случилось. – Я улыбалась – я не смогла бы ничего объяснить, даже если бы хотела, чтобы мой рассказ не прозвучал как бред сумасшедшего, – и я начала думать, не был ли он таковым на самом деле, не сошла ли и я с ума.
Сью подошла ко мне и обняла за плечи.
– Что такое с тобой приключилось, моя хорошая? – Она потрепала мои волосы. – Что такое? Не переживай. О, только не плачь. Я пойду и куплю другие пирожные. Не надо расстраиваться по пустякам, милая! Это всего лишь пирожные, – сказала она ласково, прижимаясь к моей голове, обнимая меня, и я обняла ее в ответ. – О, дорогая. Не надо так волноваться о таких пустяках. Бекки, посиди немного с Ниной, хорошо?
Бекки стояла в дверях, с испуганным выражением лица. Она подошла ко мне, ее огромный живот уперся мне прямо в лицо, и похлопала меня по плечу, когда я вытирала глаза.
– Конечно, – сказала она, когда Сью надевала пальто. – Послушай Сью, Нина. Это всего лишь пирожные.
– Спасибо, – сказала я, выпрямив спину. – Извините. Случилось что-то странное… Я пойду проверю почту. Все в порядке, правда.
Я почувствовала, но не увидела, как Бекки и Сью переглянулись.
Глава 11
– Ты все еще собираешься вечером к маме? – спросила я Себастьяна в тот вечер, когда мы сидели в «Чарльз Лэм», потягивая уже по второму стаканчику. – Мне надо быть там в районе восьми.
Он ничего не ответил.
– День рождения Малка, – напомнила я.
– О да, хорошо.
Я смотрела на него, на то, как смешно он подпирал рукой свое мрачное лицо. У него большие уши.
– Эй. Ты за вечер ни слова не сказал. В чем дело?
– Ничего особенного. – Он выпрямился, потряс головой, помотал ей из стороны в сторону, как спортсмен перед финальным рывком. – Просто задумался.
Я знала, что на самом деле это я виновата. Я была слишком на взводе, тараторила без конца, хотела поскорее избавиться от выпивки, пойти к Малку, потом в постель, чтобы этот день поскорее закончился.
– Будет весело, – сказала я. – Ты любишь вечеринки. И я люблю вечеринки.
– Ты больше не ходишь на вечеринки, – тыкнул он в меня. – Ты Нина 2.0. Обновленная версия.
– О чем ты?
Он улыбнулся мне, вдруг став тревожнее.
– Ты не помнишь себя прежнюю. Те серые Док Мартенс и пончо, в тех рваных джинсах, с лохматыми волосами и бахромой. Ты злилась по любому поводу и всегда считала, что права, и твои зрачки расширялись, когда ты заводилась. Это было невероятно сексуально.
– О, заткнись. – Я знала, что он шутит, но мне хотелось, чтобы он прекратил.
– Это правда! – воскликнул он искренне.
– Да, наверное, я была невыносима, – выпалила я. – А сейчас?
Себастьян ответил уклончиво:
– Ну, знаешь. Ты живешь как отшельник. Ты опять такой же подросток, какой была до меня.
– Как высокомерно! Когда я съехалась с Элизабет и Ли после тебя, я не была отшельником. Я вела вполне себе шальную жизнь, вот что я тебе скажу.
– Ты ходила по барам два раза в неделю и встречалась с парнем, у которого был ручной кролик, и он таскал его с собой в университет. Точно. Шаааааллллльнннааааая-я-я-я, – с сарказмом протянул Себастьян.
Он почти перешел на визг, как всегда, когда появлялся Тим – ужасно серьезный одержимый Беовульф, с которым я переспала, когда мы были еще женаты, и потом несколько месяцев с ним встречалась.
– Ну, не дразни Тима, – сказала я развязно. – Где сейчас Тим?
– О да, – кивнул он повеселее. На самом деле, Тима лишили кандидатской степени после того, как подтвердились обвинения в плагиате, и теперь он работал в «Камден Нандос», куда время от времени любил заходить Себастьян и заказывать себе «Винг Рулле», если ему хотелось поднять себе настроение. – Ты права. Давай я закажу тебе еще выпить.
Я кивнула:
– Давай. Давай двойную водку?
– Она вернулась! – завопил он. – Держись, северный Лондон! Запирай своих сынков, любителей «Тайного сада»! Нина Парр вышла на тропу!
– Ой, заткнись, – сказала я, толкнув его к бару.
Весь вечер он избегал тем вроде Циннии – и вообще тему семьи. Мы говорили о работе Ли в Мексике (и зеленели от зависти), о его работе, о моей работе (поменьше, хотя он всегда считал своим долгом спрашивать), о прочитанных книгах, о ТВ-шоу, которые нам обоим нравились. Мне всегда было интересно слушать его мнение насчет вещей, которые я люблю, потому что мы часто спорили, очень яростно, но никогда нельзя было предсказать, насчет чего на этот раз. Мы выпили еще, потом еще, и к тому времени была уже половина девятого, и я сказала, что нам пора, но теплый, слабо освещенный бар был таким уютным, и ритм вечера был таким, как надо: тело Себастьяна потянулось ко мне, его длинные конечности распластались по крошечному круглому столику, а я отклонилась назад на деревянную скамейку, отшучиваясь от него.
Когда пьешь водку с лаймом и содовой на голодный желудок после долгого трудного дня, ты даже не ощущаешь, что пьянеешь – нет никакого шатания и головокружения, – ты просто все больше и больше расслабляешься, и были уже сумерки, почти темно, когда я выглянула в окно, с ужасом понимая, что мы опоздали.
Поэтому мы вывалились на тротуар. Была теплая летняя ночь, и на улице кто-то играл «Мунденс» Ван Моррисона – первый раз в этом году я слышала, как музыка лилась из открытого окна. Я чувствовала себя теплой, свободной, глупой, и нелепость прошедших недель постепенно исчезала. Всем нужно иногда выбираться и немного напиваться, болтать со старыми друзьями. Я широко раскинула руки.
– У тебя чипсы на плече, – сказал Себастьян, смахивая их.
Я поймала его руку.
– Спасибо, – сказала я, сжав ее. – О, Себастьян. Спасибо.
Он остановился посреди улицы, и я встала за его спиной.
– За что? – спросил он.
– За… все. Я не знаю, что бы я с тобой сделала.
– Со мной? – Он засмеялся и придвинулся ко мне. – Я думал, ты хоть раз скажешь что-нибудь приятное.
– Ты знаешь, что я не могу это сделать, – ответила я, стараясь говорить шутливо.
Мы стояли посреди тихой дороги.
– Ты не можешь сказать обо мне ничего хорошего? – сказал Себастьян. – Ни единой вещи?
Я пошла дальше.
– Ты знаешь, что я не это имела в виду.
– А что ты имела в виду?
– Я имела в виду, что мы с тобой старые друзья и что бы я делала без тебя, потому что ты понимаешь меня, а я понимаю тебя…
Мы дошли до конца дороги, где перед нами раскинулся канал. По воде скользила баржа, гладкая и тихая в темноте. Летучая мышь, потревоженная ее шелестом, выпорхнула из-под моста и пролетела между нами, и Себастьян неожиданно вскрикнул.
– …Я знаю, например, что ты ненавидишь летучих мышей, – сказала я, и он подошел ближе, и мы тихо стояли у поручней.
Он положил руку мне на плечо и тихонько тронул мою ключицу большим пальцем. Медленно мы посмотрели друг на друга.
– Нина, можно я кое о чем тебя спрошу? Ты все еще думаешь, что мы должны быть честными друг с другом?
Я незаметно моргнула.
– Что?
– Ты и я. Мы обещали друг другу. Всегда говорить правду, всегда быть честными. И я думаю, что иногда мы нарушаем обещание. Согласна?
– Ну, я… я не знаю. – Я увидела его выражение лица, и мне снова было девятнадцать, и я крепко держала его пальцы и стояла на коленях в своей спальне в мамином доме, после того, как он сделал мне предложение. – Да, ты прав. Мы должны быть честными.
– Хорошо. Тогда вперед.
– Вперед что?
Лицо Себастьяна было наполовину в тени, наполовину освещено.
– Я все еще люблю тебя.
Сердце у меня в груди начало сильно биться.
– Себастьян. Не надо.
Он взял мои руки.
– Я хотел быть уверенным, что не будет сожалений, как когда хочешь чего-то неправильного. Но я хочу, я не могу ничего с этим поделать. Мы… мы просто подходим друг другу.
– Себастьян, нет, мы…
Всегда будь со мной честной, вот что он сказал, когда делал предложение. Никогда не лги.
– Дай мне закончить, хорошо? – умолял он. – Потом я уже не скажу этого. Я знаю, что мы разные. Я знаю, что я пафосный, и блондин, и неугомонный, и поэтому ты всегда хочешь уползти в какую-нибудь нору от стыда за меня. Но тебе нужен кто-то вроде меня, Нина. Тебе нужен кто-то, кто светит, как солнце, кто вытащит тебя наружу. Потому что ты луна – ох, я не пьян, я знаю, что это звучит странно. Но я правда так думаю. Вот почему мы сразу друг другу понравились, правда? Разве это не сработало с самого начала, что мы такие разные? Когда я увидел тебя в первый раз, а ты была вся в кудряшках и жевала рукава своего кардигана, и кивала головой, и так стеснялась, и просто… Ты всегда выглядела такой взволнованной, как будто чувствовала себя не в своей тарелке, и я знал, я знал, что я тот, кто мог сделать тебя счастливой, заставить тебя расслабиться, чувствовать себя как дома. – Его глаза сияли. – Я сразу это понял.
И это был ответ, которого я искала почти шесть лет.
– И я никого больше не хочу. Я хочу тебя. Я и ты снова вместе. Разве ты об этом не думаешь, хоть иногда?
Как мне объяснить это, что мне еще страшнее, чем в тот первый раз? Это раньше никогда меня так не пугало. Это было драматично, забавно, опьяняюще, смело. Это означало что-то другое. Наши жизни, простирающиеся перед нами. Он и я, идущие по направлению к горизонту, большой вопрос чьей-то жизни, на который нашелся ответ.
У меня пересохло во рту.
– Я не знаю. Может быть. Если и думаю, то неосознанно. Более того, я… я всегда думаю, что ты будешь рядом, что мы будем друзьями, ты и я… не женаты, потому что это… это не подошло нам… – Я замолчала.
– Не думай о вещах, которые не сработали. Мы были так молоды и так глупы. Ты знаешь, что мы должны быть вместе. Ты знаешь это. Мы… мы подходим друг другу.
Мне хотелось в это верить, так хотелось. Я верила в это. Я наклонилась вперед и прикоснулась к его губам, прямо там, под уличным фонарем. Я слышала, как колотится мое сердце, оно было где-то в районе живота. Мои руки безвольно висели по бокам. Он прислонил меня к перилам, и я кивнула, и какой-то крик застрял у меня в горле: несколько мгновений я вообще ни о чем не думала, только лишь ощущала его рядом с собой, его вкус у себя во рту, снова ощущение его целиком, как падение, падение в бездонную яму, на дне которой ждали мягкие плисовые подушки, набитые гусиными перьями.
В тишине я услышала едва различимое бренчание и гудение, подняла глаза и увидела трех мальчишек на маленьких велосипедах, из тех, которые гоняют на них целыми днями от нечего делать. Их руки всегда были не на руле, набирая сообщение на смартфоне, на головах всегда колпак, и если ты посмотришь на них, они начнут пялиться на тебя в ответ с неприкрытой агрессией. Один из них, в дырявой зеленой толстовке, закричал низким голосом:
– Вдуй ей хорошенько, дружище!
Мы смущенно оторвались друг от друга, и второй мальчишка засмеялся.
Я помахала ему.
– Привет, – сказала я.
Он посмотрел с удивлением; думаю, если бы я была трезвая, я бы знала, что делать. Они кружили вокруг нас, и им нравилось, что, хотя им всего около двенадцати, они кажутся злыми. Но я знала его со времен, когда он был еще карапузом в розовой коляске, которую его мамочка катала по улице. У него были плохо прооперированная заячья губа и густые каштановые волосы. Он приходил на детскую площадку на Грэм-стрит, куда меня мама тоже обычно водила и где по вечерам собирались дети постарше, некоторые для темных делишек: на них то и дело вызывали полицию. Они устраивали пожары на баржах на канале, грабили людей в переулках. Я давно не видела его маму, с тех пор как переехала обратно. Большую часть времени он слонялся один, на велосипеде, из которого давно вырос.
Однажды на Хеллоуин он пришел к нам домой за традиционным угощением. В одной руке он держал сумку Теско. В ту ночь на нем была оранжевая толстовка, хорошо совпавшая с сезоном, и она вся была грязная. Он забрасывал яйцами нашу дверь, потому что у нас закончились угощения, и когда он попросил денег взамен конфет, Малк ему категорично отказал. Мы не успели вытереть яйца, и они въелись в красную краску, а осколки скорлупы облепили дерево, как мини-мозаика.
Я ни разу не говорила с ним, кроме того Хеллоуина. Он узнал меня? Мы жили в сотне ярдов друг от друга, но он понятия не имел, кто я такая, кроме того, что я одна из жителей тех красивых домов, которые подходят прямо к каналу.
– Давай, – прошептал Себастьян мне в ухо, прижимая меня к себе за талию, когда мальчишки проехали мимо, и один из них поднял свой велосипед на дыбы резким рывком, щелкнув чем-то в воздухе. – Пойдем.
– Хорошо, – сказала я, тоже обнимая его за талию, и мы перешли по мосту во внезапном холоде раннего лета. На углу мы взялись за руки и медленно пошли по дороге. В окнах подвальных кухонь мелькали фигуры, подсвеченные теплым светом, который лился на нас изнутри. Кто-то проехал сзади на велосипеде – на самом деле я помню каждую мелочь.
– Мне войти? – спросил Себастьян, когда мы подошли к входной двери.
– Конечно да, – ответила я. – Мама встретит тебя, как блудного сына. Брайан Кондомин и Берти как-его-там тоже будут. Вебстеры с того конца улицы, тебе нравится Лореляй, ты с ней флиртовал…
– Не сходи с темы. – Он сжал мою руку. В тот момент я любила его, его серьезность, и как он был хорош. – Если я войду, то там твоя семья и мы. И мы можем опять во что-то вляпаться, и если все пойдет не так, то будет дерьмово.
Он наклонился вперед и прошептал мне в ухо:
– Послушай меня, перестань все портить. Я все еще люблю тебя.
– Я знаю, Себастьян, но…
– Но ты не любишь меня.
– Я не знаю, – сказала я тупо. – Я не знаю. Хотела бы любить. Этого достаточно?
– Хотела бы любить?
– Да. И еще мне страшно. Потому что мы вели себя друг с другом ужасно. И как все закончилось… – Я закрыла глаза. – Я так тебя любила, Себастьян. Не знаю, смогу ли я снова.
– Ох. – Наступило неловкое молчание, и он тихонько и нежно засмеялся. – Там у вас в подвале мужчина в пиратской шляпе.
Я посмотрела вниз. Три человека, а может быть, и больше, держали бокалы с вином и болтали что-то несвязное.
– Малку нравится…
– Ему нравятся пираты. Я знаю. Я купил ему книгу про Сэра Френсиса Дрейка. – Он вытащил из рюкзака книгу.
Я посмотрела на нее.
– Ты чудесный. Ты… – Я наклонилась и снова его поцеловала.
– Значит, теперь я тебе нравлюсь, потому что ты не приготовила ему подарок и ты хочешь выдать мой за свой.
– Нет! – сказала я, улыбаясь ему, когда шаги снова приблизились. – О, дело в другом, это… – Я схватила его руки. – Послушай. Мне нужно время. Дай мне…
Шаги остановились, и мы оба рассерженно обернулись. Высокая фигура показалась в темноте, смотря на входную дверь.
– Прошу прощения, – сказал он тихо. – Это дом Дилайлы Парр?
– Да? – ответил Себастьян немного вопросительно, все еще смотря на меня.
– Ах. Да, я друг… их друг, – ответил незнакомец, немного озадаченный. – Я приехал, чтобы увидеться…
– О, вы Берти? Извините. Мы только пришли, – сказала я, отпирая дверь. Себастьян сжимал мою руку. – Вы тоже пойдете? – спросила я его тихо.
– Я не Берти, – ответил незнакомец. – Вы Нина?
В коридоре послышались шаги, со стороны кухни. Мама распахнула входную дверь.
– Дорогая! Ты пришла. А это Себасть…
Она остановилась.
– Нет, – сказала она. – Нет.
За моей спиной Себастьян сказал:
– Привет, Дилл. Извини, что…
Но мама смотрела на незнакомца. Внезапно вся кровь отлила от ее лица. Я никогда такого раньше не видела и после не видела, как потом поняла.
Мужчина сказал:
– Ты не изменилась, Дилайла.
– Мама, кто это? – спросила я.
Мама наклонилась вперед, в темноту.
– Зачем ты вернулся? – прошептала она. – Почему сейчас?
– Это шок, я знаю. – Мужчина нервно улыбнулся. – Но я правда не знал, как еще тебя достать, Дилл. Ты не отвечала на мои письма…
Тяжелая поступь загремела на лестнице, и за маминой спиной возник Малк.
– Привет! – сказал он приветливо. – А это кто? – Он посмотрел на маму, потом на меня.
Незнакомец воспользовался этим как приглашением подойти поближе к ступенькам. Я отступила внутрь дома и смогла получше его разглядеть в свете из коридора. Он был загорелый и румяный, с бледно-светлыми волосами, а глаза при всем этом темно-карие.
– Я Джордж Парр, – сказал он. – Я… ну, на самом деле, я ее муж, по факту. Кто вы?
Я не могла оторвать глаз от своего отца. Все, о чем я могла думать в тот момент: Она не солгала мне. Она говорила правду.
Мама все еще смотрела на него.
– Зачем… зачем? – проговорила она, задыхаясь. – Джордж, зачем?
Его улыбка растаяла, и он оглянулся.
– Мы можем пройти в дом?
Мама сложила руки на груди; ее трясло. Слабым голосом она сказала:
– Нет, Джордж. Тебе нельзя туда входить. Чего ты хочешь?
– Я… – он едва слышно засмеялся. – Это странно, вот так об этом говорить. Ах… я… я хочу развода.
– Ты его получишь. Только уходи, – сказала мама чуть громче.
Он посмотрел на меня.
– Я приехал еще и из-за Нины. Мне нужно кое-что ей рассказать.
Он улыбнулся мне.
– Нина. Привет. – Он кивнул Себастьяну, который тоже сложил руки. – Послушай, прости за это все. Должно быть, для тебя ужасно странно, что я вот так появился на пороге. – Он показал вниз. – В самом деле! – сказал он, почти весело. – Поверь мне, я не планировал возвращаться вот так. Мой самолет задержали, и у меня были проблемы с… Я понимаю, что уже ужасно поздно. – Он прокашлялся, замолчав под взглядом моей мамы. – Старый дом все такой же, как я погляжу. – Я проследила за его взглядом.
В оконном стекле прихожей была маленькая трещинка, куда мы с миссис Полл обычно засовывали картинки с изображениями того, как прошел мой день в школе, для папы, лицом наружу, чтобы он мог смотреть на них сверху, с небес. Трещину сделала я, когда однажды очень усердно наклеивала скотч. Стекло было оригинальным, и мы решили его не менять.
Я потрясла головой.
– Ты знала, что он не погиб, мама? – спросила я очень мягко.
– Дилайла, ты сказала ей, что я погиб? – спросил мой отец, придвинувшись поближе к ней.
– Конечно да! А что мне оставалось делать?
– Сказать ей правду! – Его глаза сверкнули, и он повернулся ко мне. – Ты выглядишь как она, – вдруг сказал он. – Сначала я не понял, но да – теперь вижу. Правда.
– Как кто?
– Конечно. Мне надо объяснить. Моя мать. Тедди.
Мама заламывала пальцы. Она тяжело вдохнула и со всхлипом выдохнула, как будто задержала дыхание на несколько лет.
– Послушай, Джордж. Я говорю еще раз. У Малка день рождения. У нас там внизу гости. Тебе нельзя входить.
У нас там внизу гости – это заставило меня улыбнуться, посреди всего этого кошмара. Моя рука поискала ее руку, и я проскользнула пальцами в ее раскрытую ладонь. Она так сильно сжала мою руку, что я услышала хруст костей.
Но Джордж Парр не обратил на нее внимания. Он улыбнулся мне, и я улыбнулась в ответ, на автомате, зачарованная им.
– Итак, послушай. Значит, ты правда ничего об этом не знаешь? Обо мне и о Кипсейке? И о том, откуда ты?
– Нет, – ответила я.
– И не знаешь, что происходит с тобой этим летом?
– Джордж, – мама выпрямилась. – В последнее время…
– Мам, – я отдернула руку. – Дай ему договорить. Здорово, если ты заставишь его прийти завтра. Но ради бога, пожалуйста, дай ему сказать, что он хочет, и потом он может уходить. – Я кивнула, снова посмотрев на него. – Продолжай… – Я замолчала. – Джордж? Папа?
– В конце лета тебе будет двадцать шесть. Верно?
Я кивнула, и мне стало странно приятно, что он помнит об этом.
– Она получила его, когда ей было двадцать шесть. Они все. Девочки, вот в чем дело. Только девочки. Все это чертово место теперь твое.
– Какое место?
– Кипсейк, он весь. Он принадлежит тебе. И время тебе узнать о нем. – Он посмотрел сквозь дверь, потом опустил глаза на меня. – Моя дорогая девочка, ты Парр. Это кое-что значит.
ЛЕТО БАБОЧЕК
Теодора Парр
Эл и моему сыну ДжорджуВ надежде, что они все поймут потомВ галерее Кипсейк, которая смотрит на море, есть портрет моего предка – Нины Парр. О Кипсейке ходит так много легенд, что трудно отличить выдумку от правды, но эта – самая мрачная из всех – оказалась правдой: в 1651 году, после того как Гражданская война наконец закончилась разрушительным поражением при Вустере, Чарльз II искал здесь убежища. Он пришел под покровом ночи, на лошади и потом на лодке, неслышно проскользив вдоль реки Хелфорд и потом по ручью к нашему дому. В Корнуолле он был в безопасности. Он знал, что корнцы любили своего Короля. Разве не сражались мы с ним при Лостуитиле? Разве не поднимались ради него всего лишь три года назад и двух миль не было от этих домов?
Нина приветствовала его, хотя она была одна в доме, за исключением слуг. Ее родители умерли, мать от водянки, а отца убили на войне, которая раздирала на части Англию. Ее жених, Гренвиль, был повешен в Плимуте. У нее никого не было, пока Король не приехал сюда.
Он остался на три недели. Мы ничего больше не знаем о тех неделях, хотя я часто представляю их вместе; иногда мне кажется, что я слышу их смех в забытых, пыльных углах этого зачарованного дома. Иногда я слышу их в саду. Я часто размышляла, где в первый раз он овладел ею. Они влюбились, вот что мы точно знаем.
После того как Король уехал, Нина была сломлена. Впоследствии ее служанка рассказывала, что она отказывалась есть. Как он уехал, унося с собой на губах ее поцелуй, локон ее волос и обещание, что Кипсейк будет всегда принадлежать ей.
В истории той ужасной войны наша роль в ней, хотя и маленькая, была упущена, и то, что случилось потом, также известно только нам: много месяцев Нина молчала, а потом родила ребенка от Короля, она скрывала свою беременность от слуг до тех пор, пока не пришло время. Через несколько месяцев после того, как родилась ее дочь, почти обезумев, Нина уволила всех слуг, кроме своей личной служанки, и пошла в крошечную семейную часовню, туда, где прятался Король, когда Круглоголовые пришли за ним. Она приказала замуровать себя в стену, и мастера рыдали, выполняя ее приказ. Там она медленно умерла от голода.
Она дала Мэтти, безутешной няне своей дочери, восковые беруши, чтобы бедная женщина не слышала, как Нина будет умолять выпустить ее. Но иногда няня слышала ее голос, бедной девочки. Она рассказывала, что Нина умирала долго. Что она была в бреду и думала, что снова видит Короля, и еще другие вещи: морских змеев и яркие огни.
Мэтти была подругой и товарищем Нины с детства, и они любили друг друга; она потеряла ребенка и была рада кормить грудью ребенка своей госпожи. Но каждый раз, когда она подходила к ней, Нина всегда кричала: «Оставь меня умирать».
С разбитым сердцем Мэтти в конце концов ушла с малышкой и поселилась снаружи в ледяном домике, теперь нашем Доме Бабочек. Когда она вернулась через неделю, везде наступила тишина.
Нина писала Королю, умоляя его вернуться. Она так и не увидела его ответного письма, которое мы храним в самой дальней секретной части дома. Рядом со мной лежит его письмо, когда я пишу это, его признание в любви, его записка, приложенная к прекрасной, чудесной, из бриллиантов и золота брошке в виде бабочки, которую он отослал для нее. «Внимательно прочитай надпись, любовь моя». По этой надписи мы знаем, что Король любил ее. То, что любят, никогда не погибнет, говорилось там.
Хотя это ложь. У меня больше нет этой брошки. Она потерялась. Я потеряла ее, когда потеряла все.
Это дом, в котором я выросла. Когда я была ребенком, мой отец разрушил лестницу с краю дома, где давным-давно другой мой предок – Руперт Вандал, прапраправнук Нины и главный разрушитель древнего дома, – снес средневековое крыло, развалины которого все еще лежали во времена моего детства.
Мой отец хотел уничтожить этот последний знак старого дома: он ненавидел непорядок. Моя мать умоляла его этого не делать, но он настоял на своем.
Уже ко времени моего детства Кипсейк разваливался на части много лет; в зубчатых стенах появились трещины, которые бежали до самого верха. Стена Северного крыла, обнаженная со времен реновации Руперта, дала трещину в дюйм шириной, и в нее забрался плющ. Дом стоит в устье ручья, и он построен на глине и песке – его фундамент не прочный.
Хотя это был дом моей матери, отец, как обычно, все решал сам, но моя бабушка, которая не боялась с ним спорить, потребовала, чтобы ее пустили внутрь посмотреть. За лестницей они обнаружили старую часовню, которую считали давно разрушенной или выдуманной, и размером она была не больше кладовки. Когда моя бабушка с силой открыла дверь и вошла внутрь, она нашла там женский скелет, преклонивший колени в молитве, с четками в руках, а на стене были сотни бабочек, нацарапанные осколком кирпича.
Отец заколотил часовню досками, и мы больше о ней не говорили. В часовню есть еще один вход, деревянная дверца под большой лестницей дома, но ее так и не открыли, ни разу в моей жизни. По ночам, слушая, как ветер шелестит в деревьях, я как будто слышала, как она плачет и просит выпустить ее оттуда. Даже сейчас я иногда слышу. Думаю, она там, за кирпичами, парит в воздухе, в неосязаемом для нас измерении.
Когда я была девочкой, я часто смотрела на портрет Нины Парр, на ее гладкое лицо в форме сердца, на ее серое платье, на грустные черные глаза. Картине примерно триста пятьдесят лет, но время не испортило ее очарование: она моя кровь, а я ее. И я знаю, что случилось в те недели, что заставило ее умереть от любви, в этой ужасной клетке смерти. Бабочки составляли ей компанию. Они всегда так делают. Не знаю, сколько раз за те долгие, одинокие годы я сидела у своего окна, смотря на луг перед домом, когда меня не удивляли Павлины и Углокрылицы. Когда я почувствовала, что этот дом не принадлежит мне по рождению, он не моя душа, а только тюрьма, в которой, как и Нина, я умру, я смотрела на крепкие деревья и реку, что течет к морю, мерцая сквозь эти деревья, и думала, что здесь всегда будет какая-то жизнь. Скоро здесь появится, как и всегда, бабочка, вылетев из-за деревьев и направляясь к убежищу в Кипсейк, где мы устроили для них специальный сад. И я знаю, что Нина была здесь, когда прилетели бабочки. Чтобы сказать ей, что даже в мире, где кто-то умирает от любви, где любовь высасывает все соки из тела, все еще остается красота среди них, порхающих, золотых, по-летнему прекрасных. Они такие глупые, эти бабочки. Они существуют только ради удовольствия. Они так недолго живут на этой земле.
Когда я решила записать эту историю, историю своей жизни и как я встретила Эл, вы можете себе представить, чего я хотела. У меня были деньги, драгоценности, земля, муж и сын, и у меня был Кипсейк, возвышающийся, как камень, покрытый мхом, из земли, которая меня создала, изношенная годами соленым, сладким морским воздухом и ветрами, которые гонят реку Хелфорд к морю.
Я пишу это для тебя, дорогая Эл, ради любви, которую мы потеряли, чтобы рассказать, кто я такая. И для моего сына, дорогого Джорджа, я сделаю отдельный экземпляр, когда закончу, чтобы он мог понять, что сделало его мать такой. Не для того, чтобы оправдаться: мне нет прощения. Но так вы можете пожать плечами и потом, возможно, забыть обо мне. Я так много сделала в жизни плохого. Я причинила другим так много боли и страданий. И как я была наказана, вы тоже узнаете.
* * *
Парры жили на этом участке земли тысячу лет. Этот дом был построен первым прапрадедом Нины, во времена начала правления Елизаветы I: Лионель Парр, первый Парр династии. Легенда гласит, что мы были русалками, которые сотни лет назад сбросили хвосты, чтобы жить на суше, и чья красота сделала нас богатыми. Другая, более прозаичная версия говорит, что мы были лодочниками, которые достаточно разбогатели, чтобы купить землю, и потом брали плату за пересечение ручья: немногим больше, чем бандиты.
Лионель Парр был большим человеком при дворе Елизаветы. Он был так уверен в милости королевы к себе, что начал мечтать о доме, который подойдет ее королевскому величеству, когда она соизволит посещать Корнуолл. Конечно, она так и не посетила его, но посвятила его в рыцари и даровала сумму денег, достаточную для строительства. И так большая часть расползающегося средневекового замка была разрушена, и на этом месте вырос Кипсейк. Говорят, что Лионель привез людей из Лондона и заплатил им двойную цену, чтобы они построили его как можно скорее, так как был уверен, что Королева окажет милость Корнуоллу. Работа была закончена меньше чем в два года. Вот почему местные так и не узнали об этом месте, и до сих пор едва ли знают, даже сейчас. В Кипсейк не поедешь на денек. На главной дороге нет приветливого знака; нет парковки, нет кофеен, подающих чай со сливками. Вы никогда, ни в 1580-м, ни в 1999-м, если прожить так долго, не наткнетесь на тропинку, отбегающую от дороги, которая приведет вас в Кипсейк. Вам должны рассказать, как сюда добраться. Даже в то время, как вы поняли, моя семья была не очень приветлива.
Лионель не рассчитывал ни на какие сложности, однако таковыми мы ими и стали. Дочери. Он женился на знатной даме Италии с волосами подобно черному бархату, которую он встретил во время своих путешествий по Европе, и привез ее с собой. Ее звали Нина. Говорят, он сходил по ней с ума, он мечтал только о ней, хотел лишь обладать ею, день и ночь. Естественно, мы ничего не знаем о том, что думала по этому поводу она.
Но Нина подарила ему дочерей, и у его дочерей родились дочери, и хотя все они носили его фамилию – Парр, – Лионель умер несчастным мужчиной. Его праправнучкой была Нина Парр, которая встретила Чарльза II, выносила его ребенка и покончила с собой из-за любви: едва ли Лионель мог себе представить, какой ценой она сохранит его имя. А так и было: женщины мешали планам мужчин всего лишь своим появлением на свет, и за это несли наказание всю оставшуюся жизнь.
Когда ты девочка из семьи Парр, происходят две вещи, которые не случаются с другими девочками: когда тебе исполняется десять лет, тебе говорят о твоем будущем предназначении.
Вторую вещь, о которой должна узнать девочка из семьи Парр в определенный момент, рассказать сложнее, и я не могу подобрать нужные слова, чтобы объяснить вам это – не сейчас. В самом деле, это дело темное, дело этого дома, и оно спрятано от всего мира.
Вы можете ехать на машине или на лошади и не замечать ничего, кроме узких тропинок, высоких зарослей, где ежевика переплетается с жимолостью, с сиреневым горошком, красным лихнисом, до тех пор, пока земля вдруг не провалится под вами и впереди откроется сияющий голубым вид, заманчиво сверкающий в полуденном солнце, с крошечными шхунами, похожими на парящих воздушных змеев, неслышно опускающихся на безмятежную широкую реку. Потом вы увидите золотые поля, и тенистые зеленые аллеи, и плодородную добрую землю – я часто чувствовала себя опьяненной видом и запахом всего этого. Следуйте дальше вглубь, удаляясь от моря вверх по реке, мимо Хелфорда, пока деревья не станут крепче, выше и ближе друг к другу, и потом немного спуститесь к ручью Манаккан, и тогда вы на месте.
Есть секретная тропинка, такая узкая, что по ней еле-еле может проехать лошадь с повозкой, по которой мы обычно ездили через поля, но больше никакой дороги нет. Вы можете приехать только со стороны моря, потом вдоль по реке, что и сделал Король триста пятьдесят лет назад. Высадитесь на берег и идите по лестнице, вырезанной из скалы, как и он шел, и следуйте по короткой петляющей тропинке сквозь густой лес, пока тропинка не сделает круг, и вы заметите каменные ворота, покрытые мхом: два существа подпирают их, но вы не сможете их как следует разглядеть. Там, спрятанный за деревьями, не видимый никому с дороги, в трехстах ярдах отсюда, расположен центр нашего мира, и это:
Кипсейк
Проходите через арку с лисой и единорогом, которые обозначают фамильные гербы Лионеля и Королевы. Дом квадратный, низкий. Проходите под длинным массивным арочным балконом и направляйтесь к огромной деревянной двери – она сделана из дуба, который выцвел от времени и стал светло-серым. Говорят, что в эту дверь может пройти слоненок. Так говорила мне моя бабушка – но, как и обо всех ее историях, нельзя точно сказать, правда это или вымысел. На внешней стене Восточного крыла стоит статуя самого Лионеля, в алькове, его руки лежат на бедрах, борода растрепана, как будто напоминая гостям дома о важности хозяина. Голова отсутствует. У него крепкие ягодицы, большие каменные кольца на каждом пальце, в руке причудливо вырезанный меч, но головы нет.
Однако наше самое дорогое сокровище находится не внутри дома, а сбоку: это сад, скрытый рай, заложенный моими предками, возделанный и выращенный до тех пор, пока он не стал непохожим ни на один другой. Ананасовые грядки, редчайшие цветы, причудливые деревья, как неизвестные существа, и пьянящий аромат в воздухе. Этот сад наполнен нашими секретами и чудесами. Сад полого поднимается за домом и ведет к лужайке, а перед домом спускается к ручью. За устьем реки и до самого сурового северного побережья, среди болот, расположены оловянные и медные шахты, которые много лет служили источником нашего богатства, но уже давным-давно заброшены, проданы или просто закрыты.
Летом река и море иногда затихают. Тогда в доме тепло и сухо, деревья обнимают его и укрывают в своей тени, а плющ и вьюнок пытаются наклонить дом к земле. Осенью вокруг дома кружат туманы, а ветры пролетают сквозь окна, и мы закрываемся внутри, устраиваясь на зимовку. Мы защищаемся от самых суровых штормов и от холода.
Вот почему прилетели бабочки.
Десять лет – мой мир начался и закончился в Кипсейке. Я не была его узником, я оставила этот кусок земли, который столько раз был нашим; когда мне было восемь, я уже могла плавать на лодке вдоль устья Хелфорда, где река встречается с морем. Я знала приливы лучше своего расписания, знала звуки птиц в лесах, голоса сов и дроздов раньше, чем научилась различать человеческие голоса.
Мой отец зимовал в городе, в дремоте Клуба, занимаясь любой работой, которую, как он говорил, должен был выполнять, чтобы оправдать свое существование, наслаждаясь деньгами моей семьи. Так что получилось, что меня воспитывали две женщины: мама и бабушка. Мама научила меня ходить под парусом, читать, различать голоса птиц. Она научила меня заплетать волосы, и она сидела со мной по ночам, когда я лежала в лихорадке и кричала от ночных кошмаров. А бабушка рассказала мне о бабочках.
Моя бабушка, Александра Парр, была известным энтомологом, одной из великих женщин-ученых поздней Викторианской эпохи. Наверное, она была самым важным человеком моего детства: я обожала ее. Мой отец ее ненавидел, но, конечно, все деньги принадлежали ей, и я думаю, поэтому он так часто уезжал – пока она не умерла, только тогда началось его царствование.
Бабушка была строгая. Ее мать, Лонли Энни, умерла молодой, и ее воспитывал дедушка, священник Фредерик, один из немногих наследников-мужчин в семье Парр. Он, будучи вдовцом, ничего не знал о детях и просто воспитывал ее как мальчика. Она ничего не боялась; мне жаль, что ее дети и внук вообще не унаследовали этого качества. Она считала, что может делать все, что делают мальчики, и она хотела изучать бабочек. Никто до нее (за исключением Безумной Нины, моего самого печально известного предка) в нашей семье не понимал и не изучал их так тщательно.
Ее жажда знаний была подобна безумию. Она была единственной женщиной, которую допустили к известной дарвиновской коллекции в Музее естественной истории. Она была одной из очень немногих женщин, упомянутых в славной истории Энтомологического общества. Ее специальностью был вид Рябчиков, блестящие оранжево-черные бабочки, которые когда-то были широко распространены в Англии, но теперь являлись вымирающим видом. Именно бабушка научила меня различать Серебряную Омытую, Жемчужнокрылую и Болотного Рябчика, научила, как искать их, что они едят, где отдыхают.
Мой сын сделал карьеру на изучении экзотических бабочек тропических лесов: Стеклокрылых бабочек, прозрачных, как дневной свет, радужных морфов, или Оранжевых Дуболистников, которые сидят со сложенными коричневыми крыльями и становятся так похожи на листья, что иногда их просто невозможно заметить, а потом они расправляют крылышки и открывают самый прекрасный кислотно-оранжевый и по-павлиньи синий узор.
Думаю, бабушка бы улыбнулась, слушая меня. Как-то в молодости она отправилась в командировку в Португалию, но я уверена, что ей больше нравились английские бабочки. Они не такие экзотические, но они интереснее. «Рябчиков можно изучать годами, их привычки, маршруты их полетов, их биологию, – говорила она. – Они чудесные маленькие создания. Так зачем нам путешествовать? У нас ведь есть они».
На самом деле, чудесной была моя бабушка. Я очень по ней скучаю, и жаль, что она выбрала такую дорогу. Несколько лет я считала себя ответственной за ее кончину, полагая, что могла бы ее предотвратить, если бы знала о ее намерении.
Когда ты из такой семьи, ты знаешь каждого домашнего, их слабости и причуды. Они живут здесь, в этих стенах, в воздухе – они обвивают дом, как этот плющ. Ты понимаешь их как никто другой. Я точно понимала Парров лучше, чем немногие другие из внешнего мира. Взять, например, историю моей самой необычной родственницы, моей прапрапрапрабабушки, Безумной Нины.
Безумная Нина, пятая в династии, кто унаследовал Кипсейк, родилась в 1790 году. Она была матерью вышеупомянутого священника Фредерика. Однажды ночью она убежала, бросив собственного сына, который тогда был еще совсем маленький, и вернулась только тогда, когда он был уже молодым человеком и готовился вступить в наследие Кипсейка. Она пришла с Востока, совсем потеряв рассудок. Где она была более пятнадцати лет? Бабушка рассказывала мне, что Фредерик не узнал ее. Скорбь так ее изменила, что она выглядела неузнаваемо.
В ней всегда было зерно безумия, и сумасшествие, которое преследует нас всех, плохо подходило для скрытой жизни. Бедная, беспокойная Безумная Нина. С детства это мучило ее, расшатывало ее психику. Ей снилось, что у нее внутри заперты бабочки, что по ночам они влетают в нее через рот и другие части тела, что однажды она родит тысячи бабочек. Когда она вышла замуж и родила ребенка, ей стало еще хуже. Позже я сама ощущала это; на самом деле, можно сказать, что иногда ее призрак присутствует рядом со мной.
Однажды ночью, когда светила полная луна и окрестности отливали серебром во тьме, Безумная Нина оседлала своего коня и, направившись к Портсмуту, сбежала в Персию – да, в Персию. Кто знает почему? Ей всегда нравились Шахерезада и сказки далеких стран, и с самого детства она мечтала уехать из Корнуолла. Но добралась она только до Турции, переплыв на лодке, направляющейся в Константинополь, замаскировавшись под юношу. Ее скоро разоблачил капитан корабля, и она долго страдала от жестоких унижений, закончившихся тем, что ее снова обрядили в женское платье и отдали работорговцу; он знал, что эта экзотическая англичанка, с кожей бледнее молока и большими голубыми венами, которые прорезали ее лоб и шею, будет редким товаром.
И так моя далекая родственница была продана в гарем Султана во Дворец Топкапи, среди наложниц в той огромной тюрьме были в основном иностранки. Нина, глубоко уважаемая Махмудом II за элегантность и принадлежность к другой расе, была отделена от других наложниц. Мы не знаем, родила ли она ему детей – но мы знаем, что наложницам запрещалось покидать дворец и видеться с кем-либо, кроме своих же конкуренток: если они были в этом замечены, их немедленно убивали или оставляли умирать на улице. Но через пятнадцать лет, после визита английского посла в Константинополь, Нине разрешили уехать. Я думаю, к тому времени она уже окончательно сошла с ума.
Она приехала обратно в Кипсейк, где молодой Фредерик ее не ждал. По дороге домой она много страдала: ее никто не сопровождал, и поэтому она сама пробиралась через Европу, желая добраться как можно быстрее. Ей пришлось спешить, почему, вы скоро поймете. Когда она вернулась, она не зашла в свой дом, а направилась прямиком в Дом Бабочек, где заснула, просыпаясь только для того, чтобы погулять в саду. Она умерла примерно через год, всего лишь раз поговорив с сыном, и вот что она ему сказала: Присматривай за ними. Присматривай за ними ради меня. И он выполнил обещание, он присматривал за бабочками, пока сам не умер. Моя бабушка рассказывала про него: «Он заслуживал лучшей матери, бедняжка». Но мне всегда было жаль Безумную Нину.
К тому времени расползлись слухи о том, что́ Безумная Нина скрыла по возвращении домой, и эти слухи ходили десятилетиями, доходя до крайностей. Моя бабушка, будучи молодой девушкой, начиная строить свою карьеру в Лондоне, не подтвердила, но и не опровергла эти истории, которые ей рассказывали. Они были о невероятных живых сокровищах, которые хранятся в ее фамильном доме. Ходили слухи, что там живут бабочки редчайших пород, привезенные контрабандой из Анатолии, и что они могут жить только в оранжереях Кипсейка. Это было время, когда бабочки и охота на них были особенно популярны среди определенного типа коллекционеров.
Во времена молодости моей прабабушки у нас были Аурелии. Менее респектабельные коллекционеры, которые рыскали в поисках разных пород, не могли отыскать дороги к нашему дому, а уж тем более к нашему саду. Люди нанимали лодки, чтобы проплыть по Хелфорду, люди шли пешком из Гуика и Хельстона. Некоторые из них подошли совсем близко, но до конца не дошел ни один из них. Александра была очень удивлена и вышла замуж за человека, который дошел хотя бы до лужайки бабочек перед Кипсейком. Он узнал секреты дома и потом женился на ней, хотя когда он умер – собирая экспедицию в Индию, оставив мою бабушку с моей мамой и тетей Гвен, которая тогда была совсем малышкой, – она не слишком оплакивала его. У бабушки были бабочки и дочери: она была счастлива.
Бабушка часто говорила, что Безумная Нина заслуживала лучшего наследства. Я часто думаю о ней, о бедной, тощей женщине, которая с благодарностью упала на колени в Доме Бабочек, не желая уходить оттуда, желая только одного – остаться с ними, быть снова дома после того, как хотела улететь и быть свободной, и после того, как узнала, что на самом деле представлял собой внешний мир.
С раннего детства мы втроем проводили много дней на лужайке перед домом в поисках бабочек: мама, бабушка и я, гонялись за ними, и мои короткие ноги путались в цветах и юбках, и я кричала им, чтобы они подождали. Мы рыскали по полям и лугам, по нашей земле и за ее пределами, бегали мимо стен, где прятались коконы и гусеницы, мимо живых изгородей, где порхали и отдыхали дружелюбные лимонно-желто-коричневые Пятнистые Лесовики. Когда я была маленькая, у нас были пони и ловушка, и в длинные жаркие летние дни бабушка возила нас в бухту Кайнанс, почти самую южную точку Англии, где вода светло-черепахового цвета, а небо расстилается без конца и края, и там мы ловили Голубых Клифденов, которые породнились с самим небом. Мы ели сэндвичи с крабами, которые Пен, судомойка, готовила для нас, и мы с мамой расшнуровывали свои ботинки и бегали босыми по белому песку, пока бабушка, с огромной шляпой на голове, с большой растянутой сетью в руках, охотилась за коконами и гусеницами среди меловых пастбищ, вверху на утесе.
Когда мы ловили бабочку с помощью этого длинного, петляющего, захватывающего устройства, она немедленно пришпиливала ее булавкой, а потом забирала домой, чтобы аккуратно убрать к остальным в свою коллекцию. Было ясно, что любое серьезное исследование дневных бабочек требовало убивать объект исследования, но бабушка прикрепляла на булавку далеко не каждую пойманную бабочку. Она говорила, снова и снова, что они были частью воздуха, как и мы, и поэтому убивать каждую бабочку – ужасная ошибка.
Для меня она написала книгу «Нина и Бабочки», чтобы я поняла свою историю, поняла, откуда я и почему мы те, кто мы есть. Чтобы я полюбила этих насекомых, как она сама, в конце она приложила список бабочек, с описаниями и фактами, которые были бы интересны ребенку. Книга понравилась одному ее знакомому редактору из Лондона, и мы очень гордились, когда однажды нам прислали напечатанный экземпляр.
Мама читала мне эту тоненькую, скромную по размеру книгу каждый раз, когда я просила. Это странная книга, но в ней нет противоречий – в конце концов, сама история нашей семьи странная. Она часами читала мне каждую ночь. Сказки и истории про привидений, рассказы о пиратах и корнских великанах. Прошло около шести лет с того дня, когда она посадила меня к себе на колени и, откинув за плечи мои волосы, прошептала бесценные слова мне на ухо, унося меня в мир фантазии своим мягким, сладким голосом, рассказывая мне историю нашего дома, услышанную от своей мамы, моей бабушки Александры. Но я до сих пор ее помню, я помню мамин запах, теплое чувство на спине, когда я прижималась к ней. Эти две женщины, Александра и Шарлотта, выросшие среди истории этого дома, были гордые, и высокие, мудрые и прекрасные, какими и должны быть женщины, и они стали близнецами-опорами моего детства.
Но осенью 1926 года все изменилось, навсегда. Мы с мамой уехали к тете Гвен в Лондон. Для меня это был огромный подарок: мне было семь лет, и я уже достаточно подросла, чтобы считать себя юной леди. Некоторое время мы жили там, примерно шесть недель, а может быть, два месяца.
Когда мы вернулись, Турл встретил нас у проезда Хелфорд на лодке моей мамы, ее любимом «Красном адмирале». Ему ужасно понравились мое новое парчовое пальто с красивыми эполетами и шляпка в тон.
– Вы совсем выросли, мисс Парр, – сказал он. – За эти недели в Лондоне. Я вас еле узнал.
Мне было безумно приятно. Он усадил нас, а сам отправился на другой лодке, гребя впереди. Я, как обычно, была Первым помощником капитана, помогая оттолкнуться от берега и вскочив в лодку в последнюю секунду.
Когда мы отплыли, мама сказала:
– Мне нужно кое-что тебе сказать, Теа, дорогая.
Я очень хорошо это помню: в тот момент моя счастливая жизнь изменилась. Я припала к носу лодки, смотря на реку, смотря, как солнце играет в прозрачной воде.
– Бабушка умерла. Несколько недель назад. Она болела, и она не хотела, чтобы мы знали. Ее уже похоронили.
Я не сразу поняла ее. Я помню соленый воздух, ласковый ветерок, как сладкий бальзам на моей коже после туманного Лондона. Я помню грациозные, плавные движения мамы, сжимающей в руках весло, смотрящей по течению, в направлении заходящего солнца, с отведенным в сторону лицом, так что я видела, как ее мягкие волосы завивались кольцами по всей голове.
Я сказала, подумав, что неправильно расслышала:
– Извини, мама, я не поняла. Кто умер?
– Бабушка, дорогая.
Я помню, как съежилась на носу лодки, как будто она ударила меня по лицу, оттолкнув от себя. Я не понимала, почему она на меня не смотрит, почему ее лицо такое холодное.
– Почему?
– Почему? Потому что она умерла. Потому что все умирают, даже самые любимые.
– Но разве мы не могли попрощаться с ней, мама?
– Это было невозможно, – все, что мама сказала в ответ. – Так было нужно.
– Но если бы я знала, я бы обняла ее, – сказала я. – Я бы обняла ее очень крепко.
Я с трудом могла себе представить, что ее больше нет дома. Что я никогда больше не услышу ее громкий, звучный голос, твердые шаги, не увижу, как она управляет всеми комнатами. Не увижу ее сияющее, нежно-розовое лицо и шоколадно-карие глаза, угольные, подернутые сединой волосы, потрепанную соломенную шляпу, красные, грубые руки, так не подходящие ей, прекрасной и активной. Каждая ее клеточка была полна жизни. Как же она могла так сильно заболеть, что умерла, а мы даже и не знали?
– Не понимаю… – начала я.
Мама резко перебила меня:
– Однажды ты поймешь, Теа, милая.
Она никогда не звала меня Теа: так меня называла только бабушка. Я придумывала, что бы у нее спросить, чтобы сразу получить ответ на все, что меня мучило.
– Тебе грустно?
– Да, мне очень грустно, – ответила мама. Она взяла весло обеими руками, уходя с рыбацкого маршрута, ведущего к морю, помахав туда рукой. – Очень, очень грустно.
– Тогда почему ты не выглядишь грустной?
– Потому что некоторые люди так могут. Они должны сохранять смелое лицо. Теперь она умерла, она ушла. Нам придется с этим смириться. – С этими словами она резко повернула влево, когда мы огибали устье, неслышно скользя по спокойной вечерней воде, пока не увидели Джесси, служанку, которая ждала нас с веревкой. – Смотри. Мы почти дома. И еще одно. Мы не должны говорить об этом с папой. Мы можем говорить о ней, но только когда будем одни. Поняла?
Я кивнула, готовая расплакаться, но я знала, что ей это не понравится. Я едва знала что-то о своем так часто отсутствующем отце, за исключением того, что он был грубым, раздражительным человеком, который выкрикивал приказания и плевался едой, когда она ему не нравилась. Теперь мне предстояло его узнать.
Так начался упадок моей мамы, и косвенно мой собственный.
Тогда я поняла, что она начала отдаляться от меня, потому что мне больше не разрешали расчесывать ее густые волосы цвета шоколадного бархата, и играть с ней на пианино, и слушать, как она читает долгими зимними вечерами в ее маленькой гостиной, моя голова в эти моменты больше не лежала на ее мягком колене, покрытом хлопковым платьем. Она часто уходила или сидела в своей комнате: меня одевала Джесси и она же мне читала. Турл катал меня на лодке, давал мне жевать лакричный корешок и говорил, что теперь я его Первый помощник капитана. Детям легче привыкать: сначала я это не понимала, но постепенно мне стало ясно, что мама меня больше не любит. Со временем я поняла, что те счастливые дни детства, когда бабушка была жива, были просто сценой какой-то картины, а не моей жизнью.
К тому же мне было на что отвлечься: Турл, и «Красный адмирал», и Джесси с Пен, и Дигби, моя маленькая собачка, которая повсюду за мной бегала. И еще я исследовала Кипсейк, место, где ты можешь зайти в любую комнату и попасть в другое время и место, где, казалось, за углом болтаются привидения, шепча что-то, пока я сплю, или ем, или читаю. Я никогда не уставала от этого места: секретные площадки, смотрящие в море, крошечные кабинеты, завешанные тяжелыми шелковыми гобеленами, викторианская детская, которой мы так и не пользовались – как и кроваткой, и старым детским набором, состоящим из деревянных кирпичиков, которые стали легкими и узорчатыми, изъеденные древоточцем. На лестнице висели портреты моих предков, давно позабытые, стояли двери, которые никогда не открывались, резные деревянные сундуки были набиты старыми платьями, которые не носили веками. Гравюры висели на ржавых крюках, спрятанные по углам.
У меня был кукольный домик, который до сих пор терпеливо ждет в одной из комнат на верхнем этаже, потому что я убрала его с глаз долой, так как он слишком болезненно напоминал мне о том времени. Потому что я играла с ним часами, с крошечными куколками и их одеждой, с тяжелой металлической мебелью. У него было электрическое освещение и гараж для машины: наш кукольный домик был современнее, чем мы сами. Я часто представляла себе семью, которая в нем жила, раздавала им роли для игры: любящая, умная жена, которая изучает бабочек, трудолюбивый муж, раненный во время Первой мировой, сладкий сынок, которого берегли как зеницу ока, и их старшая дочь, маленькая я, с мягкими каштановыми волосами, такой я была на самом деле, и я рисовала фарфоровое лицо, которое не выражало ничего, кроме покорного смирения.
Мне не было одиноко. Я не чувствовала себя очень счастливой, но я научилась быть прагматичной. И тогда, когда мне было почти девять, я встретила Мэтти, и она вошла в мою жизнь.
Однажды, спустившись вниз по ручью на «Красном адмирале», я стояла на берегу, рассеянно чертя палкой узоры на песке, в рубашке, заправленной в широкие брюки, и в ботинках, облепленных мокрым песком. Я хотела наловить моллюсков для Дигби и размышляла, проплыть ли еще подальше или прогуляться до луга. Но когда настало время прилива и ветер начал путаться в солнечных лучах, было сложно оторваться от воды. Дигби стояла рядом со мной и обнюхивала ракушку, когда мы услышали крик.
– Эй! Убирайтесь, вам сюда нельзя!
Я посмотрела вверх и увидела загорелое, потрепанное существо, сбегающее вниз к берегу по скользким ступенькам.
– Простите, это моя земля, – сказала я, стараясь не показаться высокомерной. – Это вам сюда нельзя.
Фигурка провела по лицу рукой, отирая грязь с носа, и уставилась на меня яркими зелеными глазами, которые тут же выпучились. Существо начало смеяться.
– Это хорошо! Ты же девочка, правда? Я все неправильно поняла.
Поправив свою старую соломенную шляпу, подоткнув волосы и посмотрев на свои матросские брюки и грубые ботинки, я раздраженно подняла глаза.
– Конечно, да. Как это грубо. – И потом я рассмеялась. – Ох. Так ты тоже девочка?
– Да, это правда, – ответила она и протянула руку, глядя прямо на меня. – Я Мэтти. Я живу там в сторожке. – Конечно, я знала эту сторожку, хотя никогда там не была. Вокруг нее были посажены лимонно-желтые розы, которые каждый год распускались прямо перед входной дверью, и это было что-то типа дома, в котором я бы хотела жить. Ухоженный, красивый, компактный. Я кивнула в знак одобрения. – Значит, ты та девочка. О которой тут говорят и которой однажды достанется тот большой дом?
В ее голосе слышалась насмешка. Я взяла ее руку и пожала плечами.
– Мэтти – так звали кого-то в книге. В моей – она была тут служанкой, много лет назад. Ты знала об этом?
Она тоже пожала плечами.
– Меня зовут Матильда. Мы тут жили веками, как и вы, знаешь. В моей семье было полно Мэтти. Мама говорит, что мы раньше служили у вас, задолго до того, когда родилась твоя бабушка. Моя бабушка была кормилицей твоей бабушки.
– О, – протянула я. Это было похоже на правду, и мне нравилась мысль, что у Мэтти, которая прислуживала Нине почти триста лет назад, появился потомок, которую тоже звали Мэтти и которая стояла сейчас передо мной, на пляже. – Больше похоже на прапрапрапра-что-то-там-еще-бабушка.
Она снова пожала плечами, и стало ясно, что ей надоело об этом говорить.
– Типа того. А что ты тут делаешь?
– Ищу моллюсков. А это Дигби.
– Привет, – она кивнула собаке; Дигби наклонила голову. – У старого пляжа Уикхемз их намного больше, если ты не против туда сплавать. Я вчера там была.
– Конечно, – ответила я, и с юношеской решимостью мы пошли вперед, не задавая лишних вопросов. Я развернула «Красного адмирала», помогла странной девчонке залезть, и мы отплыли.
Я до сих пор помню тот день, помню, как соленый воздух жег кожу, помню скумбрию, которую мы поймали и зажарили, помню запах костра. Как мы лежали на маленьком секретном пляже, на мокром песке, как холодная серебряная галька касалась наших ног. Я помню наш разговор, как будто он был вчера.
– Что ты тут делаешь целыми днями? – спросила она.
– Я? Ловлю бабочек и играю сама с собой, а еще учусь с гувернанткой. А ты?
– Я делаю что захочу, – сказала она, и я посмотрела на нее с восхищением. Она откинулась назад на локтях, подставив лицо солнцу.
– Ну, я так не могу. Кто-нибудь обязательно мне помешает.
– Нет, можешь. – Она повернулась ко мне, и ее зеленые глаза сверкали, как будто внутри них застряли лучи солнца. Ее кожа была похожа на карамель – тогда редко можно было увидеть кого-то настолько загорелого. Мы все время прятались от солнца, потому что стеснялись выглядеть как простые работяги. – Ты можешь делать все, что захочешь, Тедди. Не думай, что это не так.
– Только не я. – Я рассмеялась. – Это Кипсейк. Я должна смириться с этим, не важно почему.
– Почему? Из-за всей этой чепухи о том, что твоя бабушка здесь умерла и что в церкви Манаккан отказались ее хоронить и все такое?
Я отложила скумбрию, которую поджаривала над костром.
– Я… Я не слышала об этом.
– Ох. – Мэтти поднялась и встала передо мной, загородив солнце. – Да, верно. Ну, тебе лучше знать.
– О чем ты? Она болела и умерла…
Мэтти подняла руку:
– Это не мое дело. Забудь об этом, ладно? Я говорю о другом. Никто не сможет помешать мне делать то, что я хочу, когда я вырасту. Однажды я просто – я просто улечу отсюда и никогда не вернусь. Если мне захочется.
В то утро Джесси приготовила мое платье с кружевным, приколотым булавками передником, черные туфли на шнурках, начищенные до блеска, и новую красную ленту для моих волос. Сама мысль о том, чтобы делать, что я хочу, была смешна. Я не могла это понять.
Я улыбнулась ей.
– Тебе придется показать мне, как это делается.
– И я это сделаю, – сказала она горячо.
С того дня мы стали друзьями. Наверное, лучше друга, чем она, у меня никогда не было. Мэтти была на два года старше и свободно могла гулять весь день. Она умела стрелять из лука, и после того, как умерла бабушка, а мама от меня отвернулась, она стала центром моего мира. У меня никогда раньше не было друга моего возраста, с кем можно было вместе исследовать мир, разговаривать, делиться яблоком. Мэтти сделала мою жизнь лучше. Я брала ее с собой на охоту, и мы вдвоем ловили всех на свете бабочек с помощью бабушкиных лавровых коробок и сетей. Я рассказывала ей истории своего дома, о тех звуках, которые пугали меня по ночам. Она сочиняла глупые сказки про гоблинов и цирк, придумывала дикие шутки про Джесси, Турла, агента Талбота и про преподобного Чаллиса из церкви в Манаккане, над которыми мы смеялись до слез. Мне кажется, она была плохой девчонкой; я никогда такой не была, и мне это нравилось. Она не боялась вытворять самые опасные штуки, балансируя на краю обрыва. Мы проводили вместе весь день, возвращаясь домой уже в сумерках.
И потом настал мой десятый день рождения.
* * *
Утром в мой десятый день рождения я проснулась и увидела, что для меня уже приготовлено моя самое милое кисейное кремовое платье и Джесси уже прибежала поднимать меня из постели, чтобы успеть уложить мои непослушные волосы локонами. Я недовольно подчинилась этому унижению, размышляя о том, почему, черт возьми, вся эта суета должна происходить сегодня. Я спустилась на завтрак в Большой Обеденный зал и увидела там своих родителей, сидящих в обычных позах, как и всегда было в Кипсейке: отдельно друг от друга на противоположных концах стола; мама, погруженная в чтение «Таймс», рассеянно тыкала вилкой в вареное яйцо, а отец гримасничал и грубо разделывал на тарелке копченую рыбу.
Последний месяц отец провел за границей, на юге Франции, – дыша воздухом, как это называли, но, разумеется, он там не этим занимался. К тому времени он пристрастился к азартным играм и был уверен, что может пользоваться мамиными деньгами, не имея своих собственных. Он возвращался домой, только когда ему нужны были деньги или когда он считал, что пора обрюхатить маму еще разок: с тех пор как она родила меня, она была (насколько мне известно) беременна еще три раза, но все они или родились мертвыми, или рано умерли. Я была еще слишком мала, чтобы знать о мучениях женщин, и я просто по-детски отстраненно интересовалась этой темой, но не более. После очередной такой потери я спросила Джесси, которая сморкалась в передник, можно ли мне посмотреть на мертвого ребенка, и меня очень озадачила ее реакция, когда она схватила меня за ухо и до утра заперла в моей комнате за то, что я злая, бессердечная девочка.
Отец вообще не интересовался тем, как себя чувствует мама, кроме того что обвинял ее в неспособности как следует выносить его сына. Он не хотел дочерей, он хотел вырастить мужчин, мускулистых богов, которые будут править миром, возделывать землю, нападать на посудомоек, стрелять в оленей и играть.
– Доброе утро, – сказала я робко, стоя в дверях большого, обитого дубом зала.
Они оба оглянулись, и отец встал, и тогда я поняла, что что-то изменилось.
– С днем рождения, Тедди, дорогая, – сказала мама, подзывая меня к себе. Я подошла и встала рядом с ее стулом, а она взяла мою руку и сильно сжала ее в своих. Потом она взяла меня за подбородок, и я посмотрела в ее темные глаза. – Поцелуй меня, малышка, – сказала она странным голосом.
Я послушно поцеловала ее в щеку, и она посмотрела на отца, а потом села обратно, отпустив мою руку, не видя меня, как будто я испарилась.
– Теодора, а теперь послушай меня, – сказал отец, и я повернулась к нему. – Мы должны кое-что тебе сказать о твоем будущем. Сегодня тебе исполняется десять, и…
– Артур, прошу тебя, – перебила мама тихим голосом. – Дай ей хотя бы сесть, съесть что-то, и…
Я видела, как трясутся ее руки, и не понимала, почему она так нервничает.
– …Дай ей сначала открыть подарок.
Моим подарком была книга «Когда мы были очень маленькие». Я смотрела на знакомую коричневую обложку, стараясь не показывать свое разочарование. Я читала эту книгу с мамой, и потом с Джесси, еще когда мне было четыре года. Это была книга для малышей, а не для тех, чей возраст уже измерялся двузначными числами. За день до этого я сказала Мэтти, что хочу новую лодку, или пояс для своего синего шелкового платья, или «Джейн Эйр», которую мама начала, но так и не дочитала мне, и я так и не смогла ее потом найти на полке ни в большой гостиной, ни в отцовском кабинете.
Но я сказала: «Спасибо, мама, спасибо, папа», – и снова поцеловала маму, а потом обошла стол, чтобы поцеловать отца, и мои шаги отдавались гулким эхом по старому каменному полу. Он не шелохнулся, как будто я вовсе к нему не прикоснулась.
– Сядь, Теодора, – сказал отец, и я сгорбилась на стуле, рядом с мамой, и посмотрела на него. Он вынул сверток с бумагами. – Сейчас я прочитаю тебе один документ, который читали твоей матери, когда ей исполнилось десять лет, а до этого ее матери.
– Бабушке Александре? – тут же спросила я. – Это от нее?
Он начал читать, смотря на меня и скалясь своими мелкими зубами.
– Буду благодарен, если ты выслушаешь меня молча. Поняла?
Я кивнула, еще больше скрючившись на стуле, сжав вместе ноги, а отец поглядел на маму, и она тоже кивнула, и он начал читать, и сначала то, что он читал, вообще никак не впечатлило меня. Это письмо сейчас передо мной: я воспроизвожу его целиком.
Приветствую вас, честные и правдивые,
Во все времена мы высоко ценили заслуги и добрые дела, совершенные Леди Ниной Парр и ее собратьями и хозяевами Кипсейка в славном графстве Корнуолл, в году 1651, во времена, когда мы так мало могли предложить в помощь нашей собственной обороне, во времена, когда большие опасности угрожали нашей свободе и нашим людям. Нам очень приятно воздать благодарность вашей лояльности и терпению и обладать вашим наследием и наследием ваших потомков. Нижеследующим я удостоен чести предоставить мою защиту и служение Леди Нине Парр и ее делу с этого дня и впоследствии, посылая с этим правдивым посланием брошь, которая будет подтверждением времени, проведенного вместе с ней. Внимательно прочитайте надпись, моя госпожа.
Я подтверждаю, что, достигнув возраста десяти лет, любая девочка, рожденная в роду Леди Нины Парр, должна быть проинформирована о следующем: она должна унаследовать Кипсейк и все его земли, и немедленно. Нижеследующим я удостоен чести предоставить мою защиту и служение Леди Нине Парр и ее потомкам с этого дня и впоследствии, и любой человек, который возьмет девочку в жены, должен взять фамилию Парр с того же самого дня, и их дети должны быть Парр, и она, которая одарила меня своей милостью, мудростью и силой, отныне должна продолжить дело предыдущих поколений. Родственникам же наследницы должна выплачиваться пенсия в 1000 фунтов ежегодно, или в другом размере. И настоящим я заявляю, что Кипсейк является единственно собственностью Леди Нины Парр и должен быть унаследован ее потомком-женщиной по достижении возраста двадцати шести лет, и также она должна в той или иной степени провести годы до этого дня в пределах Кипсейка.
С наилучшими пожеланиями удачи,
Король Чарльз IIОтец отложил документ в тишине. Они оба посмотрели на меня.
Через несколько минут, стараясь не выдавать свой страх, я потянула маму за юбку.
– Извините, – прошептала я. – Я не знаю… Что это значит.
– Он твой, – сказала она, и теперь я понимаю, что она говорила с радостью, но я забыла, как звучала радость на ее губах, потому что давно привыкла к ее резкому, безразличному обращению. – Когда тебе исполнится двадцать шесть, это место и все деньги станут твоими, дорогая, а мы твои жильцы, с пенсией на твое усмотрение.
– Спасибо, но я не уверена, что я хочу, – ответила я вежливо. Мне было десять: и мне было это понятно, как сейчас. – Извини, мама, а что будет, если я откажусь?
Отец встал, подошел к тому месту, где я сидела, и ударил меня тыльной стороной ладони. Моя голова откинулась назад; я вытаращила глаза, и я помню, как увидела его волосатые пальцы, сжимавшиеся в кулак, когда он прошел обратно и сел на свое место. Мама ничего не сказала. Думаю, именно в этот момент я потеряла ее навсегда.
– Ты маленькая идиотка, – сказала отец. – Ты будешь делать то, что тебе скажут, как и все остальные делали до тебя, а я тебе расскажу, что здесь твое, а что надо отдать. А теперь закрой свой чертов рот. Поняла?
Не дожидаясь моего ответа, он раздраженно оттолкнул свою недоеденную рыбу, позвонил в колокольчик и закурил трубку. Мама продолжила есть, ее голова наклонилась над газетой. Наступила тишина, нарушаемая только звуком шумящей воды и ветром в деревьях, который проносился над нами.
* * *
1929
Теперь мне пришлось научиться быть молодой леди и не играть целыми днями в полях: каждое утро Джесси причесывала мне волосы до тех пор, пока они не начинали скрежетать и надуваться в ее руках. Мои коленкоровые простые платья и рыбацкие комбинезоны убрали в огромные шкафы, которые стояли в ряд у моей спальни, маленькие столбы коричневого, серого и белого цвета, потерянные в огромном, отдающем эхом пространстве. Я пряталась в них, когда слышала шаги мамы по коридору, потому что не могла вынести то, как она встречалась со мной и была абсолютно ко мне безразлична. Я до сих пор помню ощущение холодного дерева на своей спине, звук шелеста ее юбок, сонную, бессменную манеру напевать себе что-то под нос, и каждый раз я хотела вытянуться, открыть дверь и дотронуться до нее, позвать ее, но я ни разу не осмелилась это сделать.
Еще в последний год я начала заниматься с гувернанткой, и за это я должна быть благодарна отцу, за единственную хорошую вещь, которую он для меня сделал. Отец был животным, но он был хитрым животным: он не желал, чтобы имением владела идиотка, если он собирался и дальше вытягивать из него деньги. У меня должно было быть хорошее образование, чтобы я научилась делать для него деньги.
И вот мрачная леди с бледным лицом по имени мисс Браунинг была нанята из Дерби, чтобы меня обучать, и она приехала и остановилась в маленьком домике в Монене, на другой стороне реки. Каждое утро она приплывала на лодке, держа свой сложенный зонтик, и было понятно, что ее пугали и окрестности, и сам дом. Наши уроки начинались ровно в десять утра, и мне они очень нравились, и вскоре я полюбила мисс Браунинг: я была книжным червем, при всем моем желании порезвиться на природе и несмотря на презрение Мэтти ко всем, кто учится. Мне нравилось учиться – чему угодно, от маршрута звезд до законов Акбара, – а тихая, ученая мисс Брауни оказалась прекрасным преподавателем. Ее очень интересовала Россия, а особенно Толстой: ее очень впечатлила Революция и развитие коммунизма. Позже мы прочитали «Анну Каренину», «Войну и мир» и «Смерть Ивана Ильича». Никто никогда не обсуждал со мной мировые события: родители читали «Таймс» за завтраком, но мы редко слушали приемник, а больше я ни с кем не виделась. Спасибо богу за мисс Браунинг. Мне повезло, что она провела со мной пусть даже тот короткий промежуток времени; мне было страшно думать о том, какой глупой я была бы без нее.
Итак, теперь у нас с Мэтти были только выходные. Она ждала меня, пораньше придя к моему окну, и бросала в него семечки и мелкие камушки, если я еще спала. Я потихоньку выбиралась из дома, и мы шли через окруженные стенами сады, где за нами наблюдали любопытные малиновки, а ряды тихонько качающихся, ароматных бархатных лавандовых кустов были окружены древним, покрытым мхом кирпичом. По утрам солнце высвечивало лису и единорога над воротами, и длинные, странные тени вытягивались и мрачно чернели на боковой стене. Мы проходили через разрушавшуюся арку – и были свободны. Или же мы шли по тоненькой тропинке, ведущей к лугу, или вниз по дороге, где деревья складывались над головами в арки и лес становился гуще, и дальше по каменным ступенькам через небольшую старую пристань, откуда сотни лет все мы отчаливали и причаливали.
Наверное, они знали, что мы так убегаем, но никто нас не останавливал. Весь день мы были на свежем воздухе, кружась, бегая и вертясь, как ветры над нами. Иногда мы ходили в маленький домик Мэтти на краю нашего владения, где ее мама угощала нас сладко-горькими яблоками пепин и сыром с дырками; иногда мы переплывали реку Хелфорд и отправлялись исследовать неизвестное. Мы стали очень уверенными в себе; мы не понимали, что нам в любое время могли подрезать крылья.
Когда мне исполнилось одиннадцать, случилось несчастье. Однажды сырой мартовской ночью меня отправили к ненавистному мной Талботу, в конце длинного дня, который прошел удивительно радостно, и мы с Мэтти проплыли до Фалмута и были вынуждены вернуться из-за сильного прилива, и поднялся шторм, и опрокинул нашу лодку.
Мы рано отправились в путь, но на этот раз у нас были более грандиозные планы – и я все еще думаю, могли ли они тогда у нас получиться, если бы была возможность. Мы решили, что в тот день мы сбежим от ручья. И хотя мы знали приливы этой реки, мы не учли приход весеннего равноденствия, весенние приливы и полнолуние. После безумного дня поисков Турла вызвали в береговую охрану, и он поспешил через пролив; кузен его сестры видел нас, всех в грязи, тщетно пытавшихся причалить к берегу. Мэтти пообещала мне, что за день мы отплывем достаточно далеко, что мы будем в Фалмуте к наступлению сумерек; у меня было десять шиллингов, достаточно, чтобы прожить несколько месяцев, если не несколько лет, как мы думали. Однако, как выяснилось, это было наше поражение, конец всего, а совсем не начало.
– Ты должна пообещать мне, что ты больше никогда не будешь видеться с этой цыганкой и что она больше не будет сюда приходить. Пришло время тебе осознать свои обязанности, – сказал мне отец, когда я сидела у себя в спальне, дрожа, а Джесси суетилась вокруг меня, заворачивая в мамин пушистый халат.
– Это я была…
– Нет. Не перебивай меня. – За ним стояла мама, засунув руки глубоко в карманы своего черепахово-синего ночного жакета, как всегда молчаливая. – Дай мне слово сейчас же.
– Отец… – Я прикусила кончик языка и почувствовала вкус крови.
– Я сказал, дай слово.
Я поглядела на него, а потом уставилась прямо ему в лицо. Мне было непривычно так на него смотреть, раньше я предпочитала избегать его внимания. Его глаза светились белизной, в центре застыли черные точки. Небольшие красные пятна появились на его и так румяных щеках. Его немного подстриженная, рыже-седая борода дрожала.
– Нет, – сказала я, пытаясь скрыть страх. – Она мой лучший друг. Мой единственный друг.
– Скажи это.
– Она говорит, что вы держите меня здесь как в тюрьме. – Я смело посмотрела на него.
Он опять меня ударил, всей ладонью шлепнув по щеке с такой силой, что моя голова завалилась на левый бок и затылок громко стукнулся об открытую дверь. Я видела, как мама вздрогнула, но не произнесла ни слова. Она не подошла ко мне, не успокоила меня. Когда слезы подступили к глазам и я потерла свой затылок, я снова посмотрела на отца, моргая и пытаясь его рассмотреть, потому что в глазах у меня плыло и голова кружилась. Я поняла, что он ненавидит меня.
Они ушли – сначала отец, потом за ним пошла мама, она кивала головой, – и я осталась одна с Джесси. Я поглядела на нее, потирая горящую щеку.
Ее глаза были наполнены слезами; она покачала головой.
– Ох, ты нас напугала, – сказала она, обнимая себя руками, тяжело дыша от подавленных эмоций. – Иди сюда, непослушная девочка, – она широко раскинула руки. – Иди ко мне, я так за тебя волновалась.
И хотя мне очень-очень хотелось побежать к ней, почувствовать, как ее полные руки обовьются вокруг меня, прижмут меня к себе, чтобы я могла порыдать у нее на груди, понять, что обо мне кто-то заботится, я осталась на месте. Я оскалила зубы и отвернулась от нее.
– Доброй ночи, – сказала я. – Оставь меня, пожалуйста.
Я знала, что превращаюсь в них, обращаюсь в камень, но я не знала, что мне еще делать, как еще выжить.
В тот день Мэтти выгнали из деревни.
Я гуляла по нашим землям с Талботом. Он все время шел очень быстро, и я спотыкалась в попытках его догнать, широко шагая – я была высокая не по возрасту, но мне все еще было одиннадцать, – и он поворачивался и бормотал: «Здесь земля невспаханная, верхний слой плохой. Надо будет снова засеять через пару лет». Или, у шахт к северу от реки, по направлению к северу полуострова: «В прошлом году в пожаре погиб парень. Надо следить, чтобы тележку смазывали каждую неделю. Не забудь напомнить в следующий раз, когда придешь».
Когда мне было двенадцать, мама снова забрала меня в Лондон. Мы, как и в прошлый раз, остановились у тети Гвен. Меня отвели в Харродз, чтобы снять мерки для одежды, а потом в Лондонский зоопарк смотреть слонов, и в Цирк Пиккадилли, чтобы посмотреть на огни. Но поездка была также организована затем, чтобы я осмотрела наши владения в Лондоне, в Блумсбери и Кенсингтоне, с Талботом. И вдобавок я провела много часов, стуча каблуками в комнате ожидания на Харли-стрит, когда мама ходила к своему доктору. Мама не была крепкой. Она потеряла еще одного ребенка прошлым летом, и Джесси сказала мне, чтобы я была с ней вежливой. «Не трогай ее и не обнимай. Она не игрушка».
Мне хотелось рассмеяться: я не прикасалась к маме несколько лет, лишь иногда целовала ее в щеку.
Сидя в поезде на пути домой, мы с мамой молча читали.
После того как мы пересекли мост Тамар, Талбот сказал: «Ажиотаж спал. Скоро мы продадим недвижимость в Лондоне, я думаю. Цены на землю снижаются. Не хочу обременять нас бесполезными вещами. Мы больше не будем туда ездить».
Он мог бы с таким же успехом говорить на русском; я его не слышала. Потому что я знала, что вернусь в Лондон, так или иначе. До этого я была там несколько раз, но в этом путешествии я больше не была ребенком, и для меня Лондон был – и остается – жизнью, всей жизнью в одном прекрасном месте.
Я всегда любила Лондон, но в этот раз он показался мне новыми небесами, миром, далеким от моего собственного. Шум, движение машин, лошадей, люди, которые кричали и окликивали тебя, когда ты проходил мимо! Наряды и чепчики леди, красота и великолепие всего этого! Мужчины у отелей в цилиндрах и с галунами на плечах, которые прикасались к шляпам и открывали для вас двери, как будто вы принцесса! Золотая отделка на всех зданиях, рекламные плакаты, нарисованные на стенах, предлагающие продукты от сифилиса, печени и подагры, автобусы с жесткими кожаными сиденьями, на которых вы жестко подпрыгивали на бугристых дорогах, держась и еле переводя дыхание… и воздух, наполненный восторгом и энергией жизни, повсюду, куда бы мы ни пошли. Однажды днем, на обратном пути к дому тети Гвен из Грин-парк через Мэйфер, мама свернула не туда, и мы оказались на Шепперд-Маркет, где женщина в шелковом пеньюаре стояла на балконе публичного дома, облокотившись на перила, смотря на нас. На ней был накинут вишневый кардиган с большими карманами и стягивающим шнурком. Ее губы и щеки были красными, а тело выглядело так, как будто в какой-то момент одна из его частей выпадет из одежды. Я стыдливо ей улыбнулась, и сердце мое колотилось, когда я подумала, почему она там оказалась, а мама схватила меня за локоть и утащила вниз по аллее.
– Не смотри, Тедди. Это отвратительно, – сказала она, сама гневно озираясь на краснощекую, пышногрудую богиню, которая спокойно глазела на нас сверху.
Мы застучали по старым ступеням, выводящим из той улицы. Скоро мы были в безопасности на Беркли-сквер, и мама смогла снова спокойно дышать.
– Кто была та женщина? – спросила я ее.
– Та, которая продает себя мужчинам, для секса, – ответила она.
Моя мама редко теперь принимала участие в моей жизни, но она никогда мне не врала. В двенадцать лет я в первый раз услышала слово «секс» или, по крайней мере, вообще узнала о нем.
* * *
Когда мне было пятнадцать, моя гувернантка, мисс Браунинг – к тому времени ставшая мне родной, – уехала. Она была вынуждена вернуться обратно в Дербишир из-за болезни одного из родителей, и ее никем не заменили. Из тех многих часов, которые мы провели в библиотеке отца, я до сих пор помню очень многое, чему она меня научила, хотя я едва могу вспомнить ее лицо: кажется, у нее были светло-рыжие волосы. Интересно, что с ней потом случилось. Она была добра ко мне и смеялась смешно и тихо, напоминая мне соню. Однажды я сопровождала ее на репетицию двух кантат Баха в соборе Труро, но об этом узнал отец, и ей приказали, как мне потом рассказала Джесси, больше не брать меня на такие мероприятия.
И вот мои уроки закончились, я теперь по-настоящему была предоставлена самой себе. Что я потом делала, чем заполняла долгие часы между пробуждением и сном? Я читала книги. Я ходила на прогулки – под присмотром Пен или Джесси, которые невыносимо медленно ходили по тропинкам у Кипсейка в своих изношенных плоских башмаках, невпопад болтая о своих возлюбленных в Хелфорде или о проблемах сестер с мужьями. Я просила их поискать себе крепкие сапоги, чтобы мы могли прогуляться через поле, но нет. Они боялись моего отца. Все его боялись.
Мне нужно было куда-то деть свою буйную энергию, и так, постепенно, я начала изучать бабочек – и поскольку меня ничего не отвлекало, вскоре я поняла, что меня охватила мания, как мою маму, и ее маму, и всех остальных до меня. Прямо у меня на пороге было все, чтобы подпитывать эту манию. Теперь я наблюдала за ними: я отмечала различные рисунки их полетов, их поведение, манеру спариваться. Я знала, что Лимонно-сырную Серянку можно отыскать не раньше февраля, а Серебряного Омытого Рябчика – только в июле. Мама выдала мне старое бабушкино оборудование: сеть, хлопок и иглу для починки сети, спичечный коробок с булавками, старую потертую коробку для собирания образцов и инструменты для убийства (банку, яд, корковую пробку). Все было сложено в ее старом ранце. Мне было ужасно приятно обращаться с этими вещами, которые снова напоминали мне о ней.
Теперь я меньше гуляла по лугам и тропинкам. Я знала, что Талбот донесет на меня отцу, если только увидит за пределами усадьбы. Пару раз, год спустя после того, как наша дружба была прекращена, я видела Мэтти, и мы разговаривали, но теперь мы уже были другими людьми – она принадлежала большому миру, а я принадлежала дому, только этому дому.
– Выше нос, – сказала она мне, когда мы виделись в последний раз. – Это же не будет продолжаться вечно. Я же присматриваю за тобой, правда?
– Ты?! – воскликнула я, прозвучав более высокомерно, чем хотела. – Да что ты можешь сделать?
– Да, я! Ах ты, маленькая неблагодарная дрянь. – Она повернулась на каблуках и пошла вниз по тропинке, оставив меня одну с застывшим сожалением насчет моего длинного языка.
Боюсь, что я все меньше и меньше была внучкой своей бабушки. Я проводила часы с банкой для убийств и сетью в саду, охотясь на бабочек, и удовольствие видеть, как их яркие хрупкие крылышки беспомощно хлопали по шелковому твердому стеклу в течение тех нескольких секунд, пока цианид не убивал их, росло с каждым новым уловом. Как-то раз, взобравшись на дерево и пролежав там несколько часов в ожидании с тарелкой, испачканной пастой из анчоусов, я поймала блестящего Сиреневого Императора, с крыльями подобно сырому шелку, пышно усыпанными сиренево-синей пыльцой, почти неприлично прекрасного. Я приколола его к листку бумаги и положила в неиспользуемый ящик отцовского бюро вместе с аккуратными коробочками с Рябчиками и ежедневными Павлинами и Адмиралами, которых я ловила и убивала.
Однажды я с раннего утра была в саду, внимательно наблюдая за спариванием Святых Голубянок. Они вместе сидели на веточке, отвернувшись друг от друга, а потом медленно соприкоснулись брюшками, и синий самец передал семя коричневатой самке. Они сидели не шелохнувшись. Я поймала их в банку и унесла в кабинет, где открыла ящик, не зная, куда бы их положить после того, как они умерли, – в ящике почти не было места, он был полон всеми видами бабочек, которые я собрала за год после отъезда мисс Браунинг. Самец, когда у него прошел ступор после сношения, теперь снова бился о стекло банки.
Наверное, мне надо было его отпустить, и возможно, я бы сделала это. Я смотрела на них, на самку, которая спустилась вниз и села на листок, который я положила на дно. Сколько бы куколок вылупились, если бы она выжила? Я думала об этом. Я думала, убивать ли мне их.
Но вдруг дверь распахнулась и громко ударилась о деревянную панель. Я подпрыгнула, повернулась и увидела Пен, застегивающую платье, и на ее бледном лице выпучились красные глаза.
– Она умирает. Пойдемте скорее, Мисс, – только и сказала она.
Наверху, в Комнате Короля, мама лежала на своей огромной деревянной кровати, в пятнах света из длинных, вертикально разделенных окон, которые смотрели на поля по пути к реке. Когда я вошла, я остановилась, пытаясь не отпрянуть назад при виде ее и от запаха комнаты больного – накрахмаленных простыней, и антисептика, и удушливого запаха хлороформа. Болезненная желтизна разлилась по ее телу, а жидкие седые волосы, сплетенные в косу, свисали через плечо. Она была очень худая.
Потом я узнала, что месяцем ранее она потеряла еще одного ребенка. Она больше не хотела детей. У нее была дочь, которая унаследует дом. Но отец хотел мальчиков. И хотя она умоляла оставить ее в покое, он упорно делал ей детей, и каждый раз она их теряла. Кровь и снова кровь; иногда они умирали позже, иногда раньше. Когда я стала постарше, Джесси рассказала мне о том, что мама сказала ей. Как он прижимал ее к полу, когда она отворачивалась от него, и брал ее, когда она умоляла его остановиться.
Теперь она потеряла так много крови, что ее тело, ослабленное после семнадцати лет беременностей и только одного живого ребенка, на этот раз сдалось. Она умирала от потери крови у меня на глазах.
Я взяла ее руку и села к ней на постель, но она вздрогнула, и милая Джесси подставила мне стул, а потом тактично ушла.
Я не знала, что мне делать; я забыла, что значит быть с мамой.
– Мама, может, тебе что-нибудь принести?
Она уверенно потрясла головой.
– Пожалуйста, Тэа. Пообещай мне кое-что?
– Что угодно.
– Уезжай отсюда. Убегай подальше, пока он не умрет.
Меня накрыло волной паники и адреналина, когда я увидела пылающий гнев в ее лице. Я сильнее сжала ее руку.
– Да. Да, я это сделаю. Ох, мама… – Я кусала губы, едва сдерживая слезы.
– Не надо, – сказала она мягко. – Ты… не расстраивайся так. Я пыталась облегчить тебе жизнь, ты знаешь. Поэтому мой уход не должен сильно тебя ранить.
– Я… я не понимаю.
Она улыбнулась горькой кривой улыбкой.
– Моя драгоценная девочка. Я не без причины была для тебя полумамой все эти годы. Это все, чтобы тебе не было больно, когда я уйду. – Казалось, она собирает со всего тела последние крупицы силы. – И моя последняя благодать в том, что я ухожу до того, как придет время тебе сделать это. Тебе не придется сделать то, что сделала я.
– Милая мамочка. – Вот теперь горячие, детские слезы закапали на ее восковую кожу. – О чем ты? – Я так сильно сжала ее пальцы, что она вскрикнула и отдернула руку. – Извини. – Я поцеловала ее пальцы. – Прости меня.
Она подозвала меня поближе. Она прошептала:
– Я заперла ее. Потом мы уехали и бросили ее. Мы бросили ее.
Я немного отодвинулась от нее, от удушливого жара ее дыхания.
– Бабушка? – У меня закружилась голова; все дело в том, что я сразу поняла, о чем она говорит. – Ты… ты ее заперла? Где?
Она выгнулась над кроватью, словно вдруг окрепнув, и открыла рот, оголив зубы. Несколько зубов не хватало – я подумала о том, почему они выпали. Подумала, как много я про нее не знала, о том, сколько времени мы упустили.
Я отвернулась к двери, но она сказала:
– Нет, не приводи… никого. – Ее голос был всего лишь легким дуновением ветерка. – Только ты и я, дорогая. Ты должна меня выслушать. Знаешь, когда ты была маленькая… – Она снова на мгновение закрыла глаза. Я ждала. – У тебя в банке сидели две божьи коровки. Две недели, кажется? Тебе было всего четыре года, и ты их любила. Ты не помнишь все это, она уже умерла, и я… Я ухожу, и жаль, что я не сказала тебе… – Она медленно облизала потрескавшиеся губы. – Да. Когда ты родилась, у тебя на макушке был всего один прекрасный локон черных волос. Как у ребенка с картины. И на лбу у тебя было крошечное красное пятнышко, которое выцвело со временем, и еще у тебя были голубые, как море, глаза, а потом они стали карими…
Она замолчала и молчала, несколько секунд, с закрытыми глазами. Ее пульс был едва уловим, и я снова поднялась, чтобы позвать Джесси, но она вцепилась в меня, на этот раз так слабо, что едва смогла дотянуться. Наконец она показала на меня рукой.
– Ох, жаль, что… что я не ушла. От тебя.
Я все еще плакала, мой рот кривился, а на плечах теперь ощущалась вся нерастраченная за десять лет любовь, которую я заперла внутри себя и которая теперь вырвалась на свободу.
– Не надо, мама. Не уходи.
– Я думала, что так будет правильно. Что я спасаю тебя. И я потратила все эти годы, отталкивая тебя, моя милая девочка.
Я поцеловала ее руки, стараясь не зарыдать.
– Ты была так, так дорога мне. Мой единственный ребенок, единственная, кто выжил. Я знала, в тот же момент, когда тебя положили мне на грудь, я поняла, кто ты такая.
– Мама… – Я положила голову к ней на кровать, не в силах смотреть на нее. Я велела себе перестать рыдать, чтобы как-то помочь ей.
– Да, я это знала. Я знала, что ты другая. Сильное, крепкое маленькое создание. И что самое важное… – Она остановилась. – Я знала, что ты моя, а не его. Полностью моя. Я сделала это, чтобы спасти тебя, чтобы ты перестала меня любить, и тогда, если тебе придется это сделать, придется оставить меня там, тебе не будет так больно, как было мне…
Мы обе замолчали, и пальцами я гладила ее теплую, слишком теплую руку.
– Но я не печалюсь, теперь я знаю, что ты свободна. Итак, я скажу тебе. – Она легла обратно на подушку, смотря в потолок. – Все мы, кто его унаследовал. Каждая женщина, начиная с Нины и до меня. И однажды ты сама. Последний секрет нашего дома.
Я подняла голову, дыша так тяжело, как будто бежала.
– Да, мама.
Ее руки пробежались по моим мокрым щекам. У нее были длинные, грязные ногти. Она говорила из последних сил, сжигая последнюю оставшуюся энергию.
– Я бы сказала тебе это, когда ты немного подросла. До твоих двадцати шести лет, как и Нина. Мы все тут, дорогая. Мы все умираем здесь. Мы все похоронены здесь. Здесь, среди бабочек. Я сражалась с этой участью, но теперь я сдаюсь. Она была такая сильная, твоя бабушка. Но она так хотела. Но я нет. Она… она любила это место. Теперь ты понимаешь, что дом все равно в конце концов настигнет тебя.
Я кивнула, пытаясь осознать.
– Тот… тот скелет, который они нашли, когда я была маленькая? Ты имеешь в виду Нину, мама, когда ее нашли в часовне? Бабушка увидела ее…
Она улыбнулась, переведя свои впалые глаза на меня.
– Твоя бабушка сказала всем, что там была только она, только Нина. Они поверили ей.
– Но все видели ее. Когда они вошли в часовню, она была там… ее скелет, и бабочки, нарисованные мелом…
– Да, но они не посмотрели ниже. Остальные…
– Остальные?
– Остальные в маленьком кабинете под… – Она сглотнула, собираясь с силами. – Под лестницей. В подвале. Она знала, конечно. Она мне рассказала, что они там.
– Ты имеешь в виду…
Она тихо пропела. «Нина Парр, сама себя заточила, Шарлотта Мерзавка, дочь короля, Нина Вторая, мать Руперта вандала, Нина Живописец, мать скандала. Безумная Нина затем, потом Священник Викар, потом Одинокая Энни, потом Александра, Охотница За Бабочками».
Ее мягкий, крепкий, дребежжащий голос прозвучал как колыбельная. Она остановилась.
– Я дала ей палочку цианида, прежде чем запереть, – это быстрая смерть, по сравнению с другими. Когда придет твое время, моя милая… возьми палочку из Дома Бабочек. Я буду единственной, кого похоронят на церковном кладбище, видишь… О боже, почему ты…
Она снова выгнулась над постелью, поднявшись так высоко, что я подумала, что в нее кто-то вселился, и ее рука расцарапала мне кожу. Когда ее отпустило, силы ушли из нее, и я поняла, что скоро все закончится.
– Ты знаешь, как все закончится? Я знаю, как все закончится. Это происходит сейчас. – Еле слышно она промычала: – Потом печальная Шарлотта, а потом я, моя прекрасная Тедди, самая лучшая девочка. Они все бабочки, осталась только я… только… я.
– Мама… прошу тебя, прошу, прошу, не уходи. Пожалуйста, борись, – сказала я, в отчаянии сжимая ее руки. Мне кажется, я правда верила, что если я напрягусь, хотя бы разок, вытянуть ее к жизни, то это сработает. – Не так. Давай поговорим о чем-нибудь еще.
Но она улыбнулась и покачала головой.
– Видишь, все это время, а я смотрю на тебя и думаю о тебе… должна ли ты помочь мне умереть. – Она очень медленно покачала головой. – Я так рада, что тебе не придется. Ты такая умная. Такая красивая. Ты такая хорошая, Тедди, правда. Моя прекрасная девочка, такая мудрая и глубокая, и… – Еще один спазм скрутил ее, и после него она притихла. Вдруг она открыла глаза, уставясь в потолок. – Ты должна бежать. Дом умирает. О мой милый ребенок, я не печалюсь. Я не… не… печалюсь, теперь нет. Ты здесь. Ты здесь.
Она поцеловала мои пальцы. Я почувствовала, как между нами пробежал разряд, и потом она ослабила руку. Я посмотрела в ее глаза, ясные, самого нежного карего оттенка. Я почувствовала силу ее любви ко мне, сильнее любой другой любви, которую я ощущала, до того и после того, и тогда я познала эту большую любовь. Потом как будто что-то проскользнуло надо мной, как будто накрыло плащом, и когда я снова посмотрела на нее, она уже ушла. Где-то далеко послышались вздохи и рыдания – те женщины, все смотрели на нее, все были с ней, теперь я в это верю.
Под домом. Конечно. Я помню, как Мэтти, когда я встретила ее первый раз, говорила, что бабушку отказались хоронить в церкви Манаккан. Она ошибалась. Они не похоронили ее там, потому что она уже умерла здесь, в Кипсейке. У моих предков нет могил – кроме мужчин, которые лежат в фамильном склепе, в церкви. Остальные, женщины, все здесь.
Я так и не оправилась от смерти мамы и от нашего последнего разговора. Она поступила так, как считала правильным, но трагедия в том, что она ошибалась: ее напускное безразличие изменило меня. Я изменилась, навсегда оставшись уникальной девочкой, которая должна быть счастливой, чувствительной, какой я когда-то была, которая свободно гуляла со своей мамой и бабушкой по нашему собственному миру.
Ее кожа все еще была теплой. Я повесила голову, а потом подняла глаза и увидела, как комната погружалась в обычный серый дневной свет. Снаружи запела птица, и я поняла, что теперь осталась одна.
* * *
Через девять месяцев после смерти мамы отец представил меня моему будущему мужу. Уильям Клауснер приехал к нам в дом со своим отцом, и мы пили чай на террасе. Была осень, и уже довольно холодно для посиделок на открытом воздухе. Когда я замешкалась у главных дверей, отец ткнул меня в руку:
– Он здесь не для того, чтобы с тобой поболтать. Они с отцом приехали, чтобы тебя оценить, осмотреть тебя. Решить, подходящая ли ты партия. Они хотят хорошую, умную, здоровую девушку. А не шлюху с обдолбанным взглядом, несущую всякий вздор насчет того, что происходит в этом доме. Слышишь меня? – Его пальцы впились мне в сухожилия, и моя белая кожа покраснела от его хватки. – Снимай этот идиотский передник и пойди надень приличное платье.
Уезжай отсюда, сказала мне мама. Дом умирает. Ты должна бежать.
– Да, – сказала я мрачно и пошла наверх переодеваться.
А что еще мне оставалось делать? С тех пор как умерла мама, я поняла, как сильно ее присутствие, более призрачное тогда, чем сейчас, оберегало меня. Она намеренно создавала мутную, категоричную, холодную атмосферу, в условия которой это притворство не дало свершиться некоторым из отцовских причуд. Теперь, когда она ушла, маска благородства была сорвана. Он был груб и жесток, прямолинеен и вульгарен, пил с управляющим Талботом до глубокой ночи, а днем ходил по коридорам и выискивал проступки. Пен, нашу милую горничную, он уволил только потому, что в жаркий день с его воротничка стал осыпаться крахмал.
Мои волосы отросли слишком длинными и стали непослушными; я выросла из всех своих платьев. Мне было уже восемнадцать, и я была высокая, но я носила одежду, которую мне выдавали в последние годы, потому что меня это просто больше не заботило. У меня больше не было мамы, которая молча за мной следит, и пока она не умерла, я не понимала, как много она продолжала для меня делать, даже на расстоянии. Вещи, о которых я не знала – букетики диких цветов у меня в спальне, новая одежда, каким-то чудесным образом возникающая передо мной, книги, которые мне хотелось читать, всегда были под рукой, когда я училась, – она любила меня издалека, а теперь она умерла, и ее похоронили у церкви, в отличие от ее предков. Я не могла ходить мимо часовни в дальней части дома. Мне снились сны, от которых я просыпалась, крича от ужаса. Теперь я поняла, почему люди избегали моего взгляда, когда я проплывала по Хелфорду или выезжала верхом. Я была неухоженная и нечесаная, и мне доставляло большое удовольствие притворяться, что мне это нравится.
Однажды мы устроили странную вечеринку на передней площадке, под холодным ветром сентября. Джесси бегала мимо больших окон с маленькими сэндвичами, выпечкой и чаем. Мы были элегантно спокойны, как и всегда, – даже если я и не была, сидя там в своем простом хлопковом платье, которое было ужасно мало мне в подмышках и все в пятнах от ежевичного сока. Отец и Обри Клауснер вели напыщенную беседу о погоде, о представителе округа в Корнуолле, о последних новостях, о том, как герр Гитлер встретился с Муссолини в венецианском Лидо. Уильям Клауснер и я сидели молча, я смотрела на сад в надежде заметить бабочек, а он смотрел на пол. Он часто глотал и вертел глазами слева направо, потом кусал свои влажные губы, по привычке, и это меня гипнотизировало. Я думала, как это – целовать его или делать то, насчет чего Мэтти однажды сказала, что я должна сделать это с мужчиной, за которого выйду замуж.
Эти мысли полностью занимали меня, и я была плохой хозяйкой. Я чувствовала на себе гневный, разъяренный взгляд отца, но почему-то никак не могла заставить себя быть порасторопнее.
Наконец Уильям сказал:
– Вот что, интересный там мох. Это калоплака саллинкола?
Я проследила за его взглядом на раскинувшийся оранжевый узор, цветущий на террасе.
– Боюсь, что я не знаю.
Мэтти знала бы; она знала обо всем, что здесь растет, но как их называют местные, а не на сухой латыни.
– Я уверен, это он. – Он выпучил глаза. – Вы были в Лондоне?
– Да, – ответила я с колотящимся сердцем. – А вы? Мне нравится этот город, а вам?
Он облизал губы.
– Не знаю. Никогда там не был. Я хотел сказать, что в Лондоне нет мха. Качество воздуха такое низкое, что он там просто не расцветает. Это интересный показатель уровня загрязнения. Ужасное место, могу себе представить. И мох со мной согласился бы. – Он снова посмотрел на пол, на плиточный камень. – Правда, это замечательный экземпляр.
Мне вдруг захотелось засмеяться. Я прикусила язык и посмотрела вниз на натянутую пуговицу на своем платье. После короткой паузы я сказала:
– Вы не хотите взять почитать книгу? Уверена, у нас есть справочник по мхам в кабинете… в кабинете отца.
– Нет, – ответил он, наклоняясь вперед. – Нет необходимости. Я уверен, что правильно его опознал, просто непривычно видеть его в домашних условиях. Полагаю, у вас тут микроклимат, что вместе с этим садом и стенами, существует довольно давно. – Я уставилась на него, и он, наверное, подумал, что я тупая. – Ох, простите. Вы не знаете, что это, да? Микроклимат, я объясню, это особая часть окружающей среды, где флора и фауна живут не как в обычном своем окружении. В Кипсейке есть особый микроклимат. Я слышал, что он… – Он замолчал и довольно сильно покраснел. – Ну, здесь можно найти много интересных видов, которые много лет здесь обитают и больше нигде не встречаются, я думаю, если как следует поискать.
Я пыталась не улыбнуться. Он понятия не имел, что это за место и что тут происходило много веков, и я вдруг почувствовала себя спокойнее. Это был мой дом, не моего отца, и никто не мог его у меня отобрать, не важно, каким унижениям они собирались меня подвергать.
– Моя семья живет на этой земле почти тысячу лет, – сказала я. – Мы прекрасно знаем это место, но все равно спасибо вам.
Он замер, уставившись на дверь, и густая краснота залила его шею. Думаю, он был милый, пока его не смутишь, и тогда он становился пугливой рыбой.
Отец повернулся ко мне, прервав беседу с мистером Клауснером.
– Иди в дом и попроси Джесси еще кипятка для чая. Сейчас же.
Я встала, споткнувшись об одну из плиток, потому что поняла, что он услышал мой дерзкий ответ и что позже я об этом пожалею – удар, или лишение ужина, или просто взбучка. Тогда отец бил меня довольно часто: обычно хлестал по щекам всей ладонью, иногда бил по рукам, скручивал их за спиной, пока я не начинала кричать и умолять его отпустить меня. После я плакала, но, как мне кажется, я вскоре привыкла к этому.
Беги отсюда, сказала она.
Джесси была наверху, подготавливая комнаты для ночлега, и мне легче было принести воду самой, чем беспокоить ее, и поэтому я свернула за угол, чтобы срезать путь до кухни – и там встретила Мэтти.
Она была такая же, как всегда: стройная, загорелая, с забавной мальчишеской походкой, с сияющими глазами, которые смотрели на меня с завораживающей упорностью. Прошло много месяцев с того дня, когда я видела ее в последний раз, но мне показалось, что мы виделись не далее как в то же самое утро.
Она облокотилась на дверь и открыла ее для меня, а потом сказала:
– Ну, пойдем. Разве ты не хочешь войти?
– Тебе нельзя здесь быть, – сказала я, толкая ее и закрывая дверь. – Если отец тебя поймает, он…
– Все в порядке, – сказала она, и мы быстро зашагали по пустому дому в кухню, и когда мы пришли, я потянулась за кастрюлей с водой, но она оттолкнула от нее мою руку. – Нет. Оставь это. Мне надо видеть тебя. Я хочу знать, как твои дела. Ты уже совсем выросла, правда? – Она говорила как леди, а не как деревенская девчонка.
– Они хотят, чтобы я вышла за него замуж, – сказала я горячо. – Мэтти, я не могу. Он ужасный. Он как рыба. У него влажные руки и слезятся глаза.
Она запрокинула голову и расхохоталась.
– Пожалуйста, тише, – зашипела я. – Правда, Мэтти, отец очень опасен.
Ее ясные глаза сузились.
– Ты его боишься?
– Да, – сказала я. И потом я сказала то, что боялась произнести вслух: – Я не знаю, как мне сбежать. Не знаю, что мне делать. Мне нужно выбраться отсюда. Здесь такое творится, Мэтти…
– Что творится? – спросила она.
– Я… я не могу сказать. С тех пор как умерла мама, я не… – Я пожала плечами. – У меня больше никого нет.
Послышались шаги, эхом раздающиеся по всему дому, по длинному, низкому коридору, который вел в кухню.
– У тебя есть я, – сказала она. Она наклонилась вперед, и ее губы нежно коснулись моей щеки, и потом она обвила меня обеими руками. От нее пахло медом, чем-то сладким. – Я помогу тебе сбежать.
– Я не могу просить тебя об этом.
– Я с радостью это сделаю, Тедди. Если ты хочешь убежать. А ты хочешь убежать?
Я не сомневалась и кивнула:
– Очень хочу.
– Хорошо. У тебя есть какие-нибудь деньги? Мне нужны деньги.
– Да, конечно. Только… – Я опустила лицо. – Там совсем немного. Пара золотых. Подожди здесь.
Она вдавилась в стену, и я оставила ее там, и побежала к себе в спальню, где пошарила в кошельке. У меня никогда не было много своих денег; они были, как мне дали понять, все «убраны в надежное место».
Вернувшись обратно как можно осторожнее по боковому проходу, я вложила ей в руку золотые монеты и немного флоринов.
– Вот. Боюсь, это все, что у меня есть.
Мэтти улыбнулась.
– Этого достаточно. Мне пора идти. Жди от меня новостей.
Она сжала мою руку и исчезла, так же быстро, как и появилась, через заднюю дверь, и как только я приложила руку к груди, кухонная дверь распахнулась и появилась Джесси, пыхтя под весом ящика для угля.
– Вот ты где, – сказала она. – А что это за шум? – Она подозрительно огляделась. – Здесь кто-то был?
– Никого, – солгала я.
Уже потом, ночью, сидя в своей комнате, подтянув колени к подбородку, смотря в окно на поля, слушая, как осенний ветер отдается гулом в деревьях и над ручьем, я поняла, что Мэтти стала первым человеком, который прикоснулся ко мне – с любовью, а не для удара или пинка – с тех пор, как умерла мама.
* * *
Но дни плавно перетекали в недели, недели в месяцы, осень сменилась зимой, а Мэтти все не приходила.
Это может показаться странным, но теперь, когда я знала, что бабушка рядом, мне начало это нравиться. Меня больше не мучили кошмары о том, что может прятаться под домом. Это была моя семья, моя история, моя ноша, и это не мог отнять даже отец. Он мог лишить меня достоинства, как однажды, когда за завтраком он выдернул ленту из моих волос, сказав, что я женщина, а не глупая девчонка. Он мог продать последнюю оловянную шахту под Пенвисом по самой низкой рыночной цене, чтобы расплатиться со своими долгами. Но он не в силах был изменить тот факт, что Кипсейк принадлежит мне. Все женщины все еще были здесь. Дом принадлежал мне, не важно, что он делал.
На Рождество 1937 года я нарядила огромную входную дверь остролистом и лавром, оплетя ими деревянный круг, который хранился в конюшне как раз для этого и использовался уже много десятилетий. Когда я повесила сверкающую зеленую и красную листву на дверь, я подумала о Рождестве, которое давно прошло, о каретах, катящихся по узкой дорожке, везущих гостей на обед в огромный обитый деревом зал, но прошло много лет с тех пор, когда соседи дарили нам подарки и желали счастья. Я размышляла, кто в этом году нарушит мрачное молчание этого дома, постучав в нашу дверь в Рождество? Ответ пришел, когда я снимала венок с двери, спустя двенадцать дней: никто.
Мой девятнадцатый день рождения, в январе 1938 года, пришел и ушел, я получила от отца золотой медальон и от Джесси букет бесцветных роз, перетянутых зернистой черной ленточкой с ее старой шляпки, что значило для меня очень многое, потому что я знала, что у нее не было денег на красивые вещи и она гордилась своей шляпкой. Мой адвокат, мистер Мурблс, повел меня обедать, вместе с отцом, в отель «Фальстаф» в Труро. Мистер Мурблс выпил лишнего и много чего наговорил про своих клиентов, про семьи, которые мы знали всю жизнь, про их финансовые дела, о семейных тайнах. Отцу это ужасно нравилось; я почти не слушала, предпочитая смотреть на других людей, обедающих по соседству. Престарелая вдова, молодые супруги, бедная, скромно одетая женщина. Я рассматривала их так, как будто все они были претендентами для моей банки для убийств; я так редко видела других людей. Я не знала, когда еще попаду в Труро. По крайней мере, не в ближайшие полгода. Мысль об этом странном заточении, о времени, которое еще предстояло там провести, начала повергать меня в депрессию.
И потом это случилось.
Одним темным, туманным утром в конце апреля рев разлившегося ручья внизу дома был громче, чем обычно, и от этого звука можно было сойти с ума. Я сидела в длинной столовой, медленно пережевывая кашу и просматривая почту. Письмо от тетушки Летти, бедной сестры отца из Плимута, которая часто просила о помощи, с деньгами или еще с чем. Просьба о помощи от спасателей. Женщина, называющая себя ясновидящей, которая хотела передать мне срочное сообщение от мертвых…
Записка. Среди остальной почты. Наверное, ее просто забыли. Она была здесь, но потом потерялась.
Жди меня у Дома Бабочек сегодня на закате. Будь готова. Возьми с собой все деньги, которые у тебя есть, и все самое необходимое. – М.
Вы спросите, как могла она быть настолько уверенной, что я оставлю за спиной свою прежнюю жизнь и убегу, не имея понятия о том, что меня ждет? Но если вы спросите об этом, значит, вы не понимаете, какой холодной я стала в этом доме. Как девочка, которая плакала над умершим птенцом на тропинке на вершине холма, стала молодой женщиной, убивающей бабочек ради удовольствия, у которой не осталось в живых ни одного любимого человека, и никого, кто любил бы ее.
Я помешкала, но всего мгновение.
На другом конце длинного стола, всего лишь в десяти футах от меня, отец поднял глаза:
– Что там?
Я на секунду задумалась.
– Ничего, отец. Приглашение от Вивиансов.
– Меня беспокоит твоя плохая память, Тэодора. Я же тебе уже говорил. Мне не нравятся эти люди. Ответь отказом.
Улыбаясь, я кивнула головой, потому что он рассеял последние сомнения в моей голове.
– Да. Конечно, отец.
Ночи стали теплее, но в тот вечер в воздухе все еще витала леденящая прохлада, когда я вышла через потайную дверь за кухней и, прокравшись по мшистым мягким бугоркам на террасе, неслышно выбралась наружу. Я хорошо знала окрестности – мне не нужен был фонарь, чтобы добраться до Дома Бабочек.
Около года назад я, с разрешения отца, переместила свою коллекцию сюда. Это был старый ледяной домик, построенный с кладовкой для хранения холодных припасов для кухни. У него была купольная крыша и стеллажи из массивных каменных плит, и это было отличное место для хранения моих образцов. Подносы с мертвыми бабочками были уложены один на другой, сколотые булавками и с аккуратно подписанными ярлычками – мной, мамой и бабушкой, кому принадлежала большая часть коллекции. Самых красивых бабочек поймала она. Никто из живых, кроме меня и иногда Джесси, не видел коллекцию.
Дом Бабочек был моим единственным личным уголком: в нем было слишком холодно спать и он был слишком маленьким, чтобы им заинтересовался отец. Он смирился с моим интересом в энтомологии; думаю, потому что это удерживало меня дома и не давало мне видеться с другими людьми. Уильям Клауснер навестил нас еще раз перед отъездом в Оксфорд. А еще он мне написал: очевидно, так же переживая насчет того, что они разделят с нами фамилию Парр, как и я переживала насчет их денег. В тот вечер, когда я ушла, мне было смешно думать, что отец, наверное, уже решил, что его планы удались.
Дверь в Дом Бабочек тихо распахнулась, недавно смазанная, что было первой странностью: до того дня она всегда скрипела.
Она ждала меня там, и при виде ее мои холодные пальцы сжались в кулаки. Я пошла вперед, чтобы поприветствовать ее, но она отступила назад и сказала: «Вы посмотрите! Что, черт возьми, ты наложила в эту сумку?»
Я посмотрела вниз на крепкую, в форме буханки, викторианскую сумку, в которую побросала все, что могло пригодиться мне в новой жизни в Лондоне – я бы взяла еще больше: на верхушке, примостясь в мешочке, который мама сделала для этих целей, когда сумку стирали несколько лет назад, лежала бриллиантовая брошь – бабочка Чарльза II, которую торжественно вручил мне мистер Мурблс утром, в день маминых похорон, в мастерской, когда гроб стоял во внутреннем дворе, ожидая, когда его отнесут в церковь Манаккан.
– Прекрасная вещица, – сказал он, благоговейно держа ее в руках. И правда, видеть ее в его руках, а не на маминой блузке или джемпере, была странно и трогательно. – Тут спереди надпись. Посмотри, дорогая, сможешь прочитать?
Два передних крыла были бриллиантовые, а задние сделаны из бледного сапфира. Тельце из дорогого розового золота с крошечными, мерцающими бриллиантами на кончике каждого усика. Я перевернула сияющее, нежное создание.
– «То, что любят, никогда не погибнет», – прочитала я вслух.
Он кивнул.
– Ты знаешь, наверное, это одна из самых необычных драгоценностей из частной коллекции. Видишь, королевский герб вот тут, у основания?
Коротко подстриженным острым ногтем он постучал по нижней части тонкого золотого тельца. Я поглядела искоса и увидела герб, размером не больше блохи, под надписью.
– Очень романтично, – вздохнул мистер Мурблс. – Что бы там ни думали обо всем этом, он, кажется, правда ее любил.
Я приколола брошь к своему черному платью, и она засияла, несмотря на туманный день. Романтика этой истории никогда раньше так не трогала меня. Думаю, я просто принимала это как должное, и все же – любить так сильно, что умереть за него. Любить так сильно и все же уйти на благо государства – оставить любимую женщину, которая носит под сердцем дочь, которую ты никогда не увидишь. Наверное, он верил в это, раз написал такое.
И вот Мэтти открыла сумку и уже копалась в моих вещах. Я резко выхватила мешочек с брошью у нее из рук.
– Это от старого шляпного мастера. Маме как-то привезли в ней шляпу, и мы ее сохранили. Мне она кажется милой. Я смогла найти только такую сумку.
– Это все, что ты берешь с собой?
Я почувствовала легкое раздражение.
– Конечно. Еще немного, и было бы слишком заметно. – Я протянула ей руку. – Ужасно здорово тебя видеть, Мэтти, я скучала по тебе.
Но она пожала плечами:
– Ты странная, Тедди. Одна неуклюжая сумка со всяким хламом, и ты думаешь, что это все, что нужно?
– Остальное я куплю. Я найду работу. Какую-нибудь. – Я переминалась с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть.
– Ты уверена, что хочешь ехать в Лондон? – Мэтти посмотрела вниз, и я увидела ее грудь, поднимающуюся и опускающуюся от каждого вздоха.
– Да, – сказала я, внимательно смотря на нее.
– Не думаю, что тебе стоит так далеко заходить, Тедди. – Она сглотнула. – Все. Я не уверена, что должна тебе помогать.
– Ты написала мне записку и позвала сюда. – Мой нос покраснел от холода, и из него уже почти потекло – очень неромантичный момент для героини, убегающей из дома, чтобы начать новую жизнь богемной женщины в Лондоне. Я взглянула на нее. – Ты заставила меня рискнуть всем, а теперь говоришь, что это плохая идея. Ты сказала, что я должна уехать. Я же не могу сбежать в Фалмос или в Экстер, правда? Я думала, что ты понимаешь.
– Конечно, я понимаю, как ты можешь такое говорить? – Она зашипела, и ее розовые губы сжались от злости. Я посмотрела на ее рубашку, с тремя расстегнутыми пуговицами, на маленькое розовое пятнышко на груди, которое уже расползалось до горла, как обычно бывало, когда она сердилась. – Как ты можешь говорить, что я не понимаю, если мы понимаем друг друга, как никто другой? Мне пришлось наврать маме сегодня и сказать, что я встретила парня. Все эти месяцы я копила деньги, и те, что ты мне дала, чтобы купить тебе вот это.
Она бросила что-то на землю, и я подняла его.
– Шарф – он прекрасен. – Я потрогала сине-голубой шелк. – Мэтти, я… не надо было тратить на него все свои деньги. Я не могу его принять.
– Еще как можешь, – выпалила она с пылающими глазами, отступая от меня, и я увидела, что я неправильно ее поняла, я все неправильно поняла. – Не смей говорить мне, что ты слишком хороша для моих подарков. Разве ты не знаешь, как сильно я по тебе скучала? Как иногда я страстно желала прикончить твоего отца, чтобы мы снова были вместе?
– Я тоже, – ответила я, смотря на нее. – Прости. Мне не следовало так говорить, только…
– Я больше никогда тебя не увижу, Тедди, ты знаешь это, разве нет?
Я не поняла, в чем дело.
– Ты не вернешься, ты не похожа на меня. Дэвид Чаллис хочет жениться на мне, и мне ничего лучше не светит, и отец не станет держать меня здесь, если я откажусь. К Рождеству я уже буду женой, и у меня будут его дети, и так я проведу весь жалкий остаток своей жизни. – Она схватила меня за запястья своими тонкими руками. – Будь кем-то. Будь кем-то другим.
Она обернула шарф вокруг моей шеи, и мы обнялись, как тогда, в тот день, в доме. Я услышала ее сладкий запах, ее дикость.
– Мэтти… – начала я и шагнула назад, и мы уставились друг на друга. И Мэтти обняла меня за шею рукой, притянула к себе и поцеловала.
На ее губах я ощутила вкус рыбы и меда – и чего-то еще, терпкого и острого, как трюфели. Она укусила меня за губу и закрутилась вокруг меня, прижимаясь своим упругим телом к моему. У меня не было времени думать, размышлять. Я прижалась к ней, ощущая ее бедра и живот рядом со своими, ее девичью грудь на моей полной груди, ее влажные губы, ее горячий язык у себя во рту.
В тот момент я сходила по ней с ума – понимаете, полностью. Я хотела ее всю, хотя и знала, что это было неправильно. Знала, что думать о ней так, как я иногда думала, тоже было неправильно. Однажды отец вошел в библиотеку и застал меня рассматривающей картину Маргарет Локвуд, когда я проводила пальцем по ее губам. Он стоял за моей спиной, а потом ударил меня по пальцу рожком для обуви, надвое расколов ноготь, так что он выгнулся в перевернутую букву W.
Но тогда это не было неправильным. Я просто смотрела. Но он заставил меня думать, что это отвратительно. Я больше не буду писать о том, что я после этого чувствовала. Я уже довольно погрязла во лжи и еще многое, кажется, могу солгать прежде, чем закончится эта история. Простите меня.
Это был мой первый поцелуй. Мэтти давно уже нет, она всего лишь вспышка в моей памяти. Она была права. Я больше никогда ее не видела, потому что, когда я вернулась, все изменилось. Иногда я думаю, не выдумала ли я ее. Сейчас я думаю о ней как о волшебном духе, о сущности, которая возникла из воздуха, чтобы помочь мне. Я знаю, что не должна думать о ней никак по-другому. О том, что я хотела с ней сделать, как хотела прикасаться к ней, как мы обнимали друг друга, тяжело дышали, страстно ощупывая друг друга в той холодной, освещенной луной комнате.
Это она первая оторвалась от меня, сжав мне голову руками, и ее ноздри широко раздувались, а глаза почернели.
– Я знала, – сказала она и улыбнулась своей загадочной короткой улыбкой.
– Знала о чем?
– Что ты готова.
– Готова?
– К этому. Я хотела этого много лет. Я мечтала о тебе, когда только начинала мечтать о таком.
Я прижала руки к пылающим щекам.
– Нет, Мэтти, – сказала я. – Это неправильно.
– Ничего неправильного, Тедди! – Она засмеялась. – Я уже делала это с Пейшенс Обни на их ферме еще до того, как она вышла замуж и уехала в Ньюквей – она была как моллюск, влажная, упругая, она была забавная, эта девочка, – это здорово, Тедди! – Она повела плечами, когда я покачала головой, в ужасе, показывая свое отвращение. – Мы должны выйти замуж за мужчин и примириться с ними и с их мерзким ворчанием, и пыхтением, и выпивкой, и побоями, так почему бы нам тоже немного не развлечься?
– Нет. – Я снова яростно затрясла головой. – Пожалуйста, не надо. Не надо было. Пожалуйста – не говори больше об этом.
– Хорошо. – Она покачала головой, ущипнув меня за подбородок. – Ты дурочка, – сказала она прямо. – Но я помогу тебе. Поезд отправляется через час с небольшим. Купе забронировано на твое имя.
– Но ты сказала…
– Я дразнила тебя. Вот так. Ты всегда говорила, что хочешь в Лондон. Вот на что я копила, – сказала она, улыбаясь. – Дэвид Чаллис подарил мне шарф, я не заплатила за него ни пенни. Разве я не говорила, что он в меня влюблен? – Дэвид Чаллис был сыном приходского священника. – Он одолжил мне свою машину. Я отвезу тебя в Труро.
Я притянула ее к себе, и наши лбы соприкоснулись.
– Спасибо тебе, – прошептала я и позволила ей еще раз поцеловать себя – только еще раз, чтобы почувствовать этот волшебный вкус ее губ. – Спасибо тебе за все.
– О чем ты?
У меня встал ком в горле.
– Спасибо за то, что любишь меня.
– Я любила тебя, – сказала одна дрожащим голосом, – и ты меня.
В Труро мы ехали молча. Я не смогла бы попрощаться с ней, и все же я была должна, не только потому, что это сломает мне жизнь, но потому, что мы могли больше никогда не повторить того, что было между нами. Я дала ей письмо, которое она согласилась передать моему отцу, которое, я надеялась, заверит его, что я не погибла и не сбежала с мужчиной, а уехала в Лондон, что было полностью моим правом, и что я буду писать.
Даже в такой поздний час темная махина поезда качалась от движения; портье загружали багаж и пассажиров. Мэтти поспешно принесла из кассы билет первого класса; если бы я только знала, что всего через несколько недель я буду страдать от голода и лишений, я бы тут же пожалела об этом. Но тогда это было начало моего приключения; я думала, что знаю Лондон, что я за несколько дней там освоюсь.
Мы прошли по платформе, рука об руку, к моему купе. Мэтти была веселая, как будто мы расставались всего на несколько дней. «Не желаете ли пройти в вагон-ресторан, мадам? Или сразу в купе?»
– Сначала в купе, думаю, – сказала я, глядя на резную табличку на вагоне, потертую и побитую: «Корнуоллец». Я вдруг ощутила дикое желание повернуть назад и снова забраться в машину Дэвида Чаллиса, поехать домой. Я была корнуолльцем – только женщиной – до мозга костей. Мне хотелось завтра проснуться и увидеть, как на деревьях распускаются почки, увидеть первые колокольчики, услышать, как стучат дятлы, и знать, что я дома. – Мэтти…
Но Мэтти с силой втолкнула меня в поезд.
– Прощай, дорогая, – сказала она и забралась ко мне. – Я помогу этой юной леди, она моя кузина, – сказала она подозрительно смотрящему портье. – Она очень нервничает перед дорогой. Страшно страдает от водянки.
Она протолкалась между пассажирами, которые глазели на нее, пока мы не дошли до моего купе.
– О, оно милое, – сказала я. – Посмотри на эти маленькие шкафчики и ящички. И на маленькую раковину!
– Как в кукольном домике, – согласилась она, бросая мою сумку на мягкое серое одеяло и разглаживая его, а потом посмотрела на бумажную карточку. – Здесь сказано, что они принесут тебе завтрак в шесть утра, кофе и тосты с джемом.
– Правда?
– О да. С тобой все будет хорошо. – Каким-то образом ее детский энтузиазм заразил и меня. Она постучала по деревянной двери. – Хорошая и крепкая, – сказала она. – Тебе тут будет уютно, Тедди.
– Да, я тоже так думаю, – ответила я. Я вынула сложенные купюры, которые мне выдал мистер Мурблс несколько недель назад, и протянула ей несколько. – Послушай, спасибо тебе огромное. Не знаю, как бы я вообще смогла… как я… – я запнулась, потому что простая взрослая благодарность прозвучала пресно, по сравнению с тем, что она для меня значила, и с тем, какие отношения были между нами.
Она резко кивнула:
– Я знаю.
– Я буду тебе писать, – сказала я, но она покачала головой:
– Нет, не будешь. Лучше не надо. Так тебя могут разыскать.
– Если у тебя будут проблемы или я буду тебе нужна, оставь записку в «Таймс», в колонке частных объявлений, – сказала я, вдруг вспомнив, как однажды бабушка рассказала мне о таком способе.
– И ты тоже, Тедди. Дай мне знать, если попадешь в беду, ладно? – Я кивнула. – Дэвид присмотрит за мной. Он такой, ему нравится заботиться обо мне. – Она устало улыбнулась.
– Ох, Мэтти.
И тут она громко отчеканила:
– А теперь мне пора. До свидания, Тедди. Чего бы ты ни искала, надеюсь, что ты найдешь это. – И она ушла, закрыв за собой дверь с пронзительным стуком.
Минуту я оставалась на месте, сопротивляясь желанию открыть дверь купе и прокричать ей что-нибудь вслед. Потом меня накрыла волна возбуждения. Я была здесь. Это происходило со мной. Когда я сняла шляпу, я поймала свое отражение в зеркале, мое лицо полыхало, губы искусаны, глаза огромные. Я выглядела по-другому. Ощущение Мэтти, легкий аромат ночного сада, из которого я убегала, звуки поезда, пыхтящего перед отправлением, – все это, казалось, навсегда врезалось мне в память. Я вскарабкалась на верхнюю полку, легла на одеяло, которое расстелила Мэтти, и уставилась в противоположную стену. И потом я как бы нарочно закрыла глаза и сладко проспала всю дорогу, в одежде, пока на следующее утро не проснулась в полной растерянности, от стука в дверь и вежливого, взволнованного голоса:
– Мисс… Вы будете завтракать? Мы прибыли на станцию, но мы просим немного подождать разгрузку.
– Да, пожалуйста, – ответила я, поспешно спрятавшись под одеяло, чтобы не показывать, что я спала одетой, и стараясь выглядеть как уставшая путешественница.
Вошел мужчина с серебряным подносом, на котором лежали идеальные треугольнички тоста с маслом и солидная порция джема, чайник с чаем и – ох, как волшебно – моя личная копия «Таймс», аккуратно сложенная, с несмазанным шрифтом. Я посмотрела на нее.
ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ, 1938
Я выглянула в грязное окно, заляпанное сажей и дождем. Сквозь грязевые разводы я рассмотрела широкий сводчатый потолок, колонны, дым и гравий. Одинокий портье пробежал мимо, насвистывая, и букву за буквой прикрепил табличку:
Л-О-Н-Д-О-Н
Я здесь, я здесь.
Только сейчас я начала думать, что же я сделала. Я вспомнила Кипсейк, каким увидела его прошлой ночью в весенних сумерках, древние, серебряно-серые стены, свет от огня, который полыхал в Большом зале, отбрасывая тени на передний двор. Но потом, дрожа от предвкушения, потягивая слабый кофе, я отогнала от себя эти мысли.
Потом я свернула свой драгоценный, все еще нетронутый экземпляр «Таймс» и убрала в сумку, и сошла с поезда с высоко поднятой головой, уверенная, что поступила правильно. В Кипсейке сейчас Джесси, наверное, насвистывает песенку на кухне, стоя над кашей. Длинные тени, укрывающие дом по утрам, ползут по зубчатой крыше.
Ты была в городе в день моего прибытия, моя дорогая. Ты, наверное, проснулась, причесалась, надела брюки, съела свою яичницу. Мы обе тогда еще не осознавали, что до нашей встречи оставалось всего несколько дней и наши жизни изменятся навсегда. А я, освободившись от гнета отца, от Кипсейка, медленно шла по платформе, размахивая сумкой, как героиня какого-то фильма, которую не волновала ни единая вещь на свете.
Так началось мое лето бабочек.
Часть вторая
Глава 12
Это Малк пригласил моего отца войти. Если бы он этого не сделал, одному богу известно, сколько бы мы еще проторчали на пороге.
Некоторое время помолчав, он вдруг сказал:
– Послушайте, нельзя вот так стоять и ссориться на улице. Давайте пройдем в дом, ради бога. Думаю, мы все обговорим, пропустив по стаканчику. – И он жестом пригласил Джорджа Парр.
Как и всегда, когда за дело брался Малк, мама уступила, хотя при этом резко втянула ноздрями воздух. Когда мы все прошли по коридору, мама показала отцу на гостиную.
– Ты идешь? – спросила она Малка, подняв на него глаза.
– Конечно, да, детка, – ответил Малк и зашел внутрь за Джорджем Парром.
Себастьян оглянулся на лестницу в кухню, где покинутые гости, наверное, уже неловко переговаривались между собой. «Я пойду вниз. Объясню, в чем дело, – сказал он. – Может быть, они незаметно разойдутся».
– Ох, это отличная идея. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Ты можешь уйти, если… – начала я.
– Со мной все хорошо, – сказал он, весело улыбаясь.
Я посмотрела, как он спустился в кухню, желая, чтобы он остался со мной. Как верный друг. Потом повернулась, закрыв за собой дверь.
Мы никогда не пользовались гостиной. Это длинное узкое помещение, состоящее из двух соединенных залов, заставленное толстыми и старыми книгами, с CD-проигрывателем – и там еще стоит шкафчик со стеклянными дверцами, а на стенах висит несколько картин. Это красивая комната. Идеальная для тихих поминок или легкой вечеринки с хересом. Или, как выяснилось, для первого воссоединения семьи после того, как ваш отец вернулся с того света.
Папа вопросительно глядел по сторонам, как будто не понимая, в какую кроличью нору он свалился. Он поднял китайскую чашу, которую Малк купил маме в польской керамической лавке на Эссекс-роуд, потому что ей нравятся такие вещи, изучил ее и поставил обратно, без внимания.
– Итак – вы заняли и первый этаж? – спросил он маму. – Квартира старого Веллума, если не ошибаюсь? ВВС? Или он был моряком?
Она смотрела на него, сложив руки на груди, прислонившись к шкафу, и я подумала, что в сумрачном свете она выглядит намного моложе, а ее глаза намного больше.
– Мы занимаем весь дом.
– Весь дом? Чудесно. – Он скользнул взглядом по ней, потом по Малку. – Вот так трюк. Я полагаю… боже… вы удачно вложились.
Это было странно слышать, но я почувствовала, что мы втроем стали ближе, почти ничего не зная об этом незнакомце. Он действительно незнакомец, поймала я себя на мысли. С самого детства я мечтала о встрече с этим человеком и ничего про него не знаю. Мама врала мне. Всю мою жизнь она врала, и не насчет чего-то мелкого. Насчет этого.
– Ты можешь получить свою часть денег за дом, Джордж. Ты за этим пришел? Послушай, чего ты хочешь? – сказала мама, выходя из себя. – Ты мог бы мне написать, я дала бы тебе развод. Ты никогда не говорил об этом напрямую в своих непонятных письмах. Зачем ты пришел?
Занавески были не задернуты, и казалось, что тьма снаружи высасывает из комнаты слабый свет.
– У меня другие дела. – Папа положил руки в карманы, слегка улыбаясь. – Кое-что насчет Кипсейка, и я… я должен был вернуться. Если быть честным, еще я хотел посмотреть на вас обеих. Посмотреть, как у вас дела, увидеть свою дочь… – Он замолчал, посмотрев на меня. – Я же говорю, ты очень на нее похожа. Это жутко. Как-то тревожно.
Под его взглядом я нервно заерзала. Я увидела, как Малк поднял брови: что тут такого тревожного – что Нина похожа на бабушку? Серьезно?
– Думаю, каждый видит то, что он хочет, не так ли? – коротко сказала мама. Она прокашлялась. – Для меня она похожа на мою маму.
– Конечно. Но правда, она очень похожа на Тедди. В Кипсейке есть портрет… – Он остановился. – Прости. Ничего.
Наступило молчание, тяжелое в этом слабом свете.
– Что ж, и ты подумал, что раз уж надо вернуться, то сейчас самое подходящее время? – спросила мама, как будто ей и правда было интересно.
Я увидела, что он не понял ее тона. Он покачался из стороны в сторону. «Да. Я подумал, что пора».
– Аааа, – ответила она. – Понятно.
Потом мама прошла мимо него, остановилась у камина и ударила его. Не отвесила пощечину, а сильно ударила его в ребра, в бок. Он согнулся пополам, с булькающим кашлем, а она встала рядом, нагнулась к нему и тяжело задышала.
– Подлец, – зашептала она низким голосом. – Ты кусок дерьма. Ты бросил меня, ты сделал все, чтобы разрушить мою жизнь и жизнь дочери – за что, я никак не могу понять, – ты разбил мне сердце, ты врал, и врал, и врал, и вот ты появляешься тут, как будто мы с тобой друзья, которые познакомились в отпуске, и ты решил, что было бы здорово заскочить, раз уж ты в городе!
Она снова его ударила, и ее рот скривился словно от детской агрессии, что было одновременно смешно и ужасно.
Он вскрикнул, наполовину от злости, наполовину от боли.
– Этот за Нину, – сказала мама, и я посмотрела на нее, увидев раздутые ноздри, пылающие щеки, сверкающие глаза. – А первый за меня.
Отец зарычал, сползая по каминной доске, и Малк шагнул вперед, взяв маму за руку и что-то бормоча.
– Все хорошо, – сказала она ему. – Все хорошо. Я больше не буду его бить.
– Ударь меня еще раз, и я вызову полицию, Дилайла. Я подам на тебя в суд, – сказал Джордж Парр тихо и улыбнулся ей, не по-доброму, а как будто подтверждая свои слова. – Ты не изменилась. Правда? Это радует. Радует, что я принял верное решение. Ты… Боже, – он встал, отряхнувшись, – как вы тут убого все переделали.
– Убого? – Она сдавленно засмеялась. – Это моя жизнь, Джордж. В которой ты оставил нас, когда решил поиграть в мертвеца. Да, она была убогой, могу тебе сказать, дорогой.
Из меня вырвался невольный звук, что-то вроде рыдания, и я прижала руку ко рту. Мне хотелось, чтобы они забыли, что я все еще здесь.
Он наполовину повернулся ко мне, продолжая смотреть на нее, а она на него. И тогда я поняла, что они вообще не замечали ни меня, ни Малка.
Джордж выпрямился и сказал обычным голосом:
– Так, извините. Давайте больше так не делать, хорошо?
– Не делать что?
– Ссориться. Я приехал, просто чтобы…
– Ссориться? – Мама пробежалась рукой по волосам с нервным смехом. – А чего ты ожидал? Что мы все скажем: «Эй, это Джордж! Входи, дружище, вот тебе стул! Мы так рады, что ты вернулся спустя двадцать пять лет! Посмотри, что мы сделали с этим местом!» – Она рассмеялась, и ее акцент стал более американским.
– Ты даже не сказал мне, куда поехал. Ты заставил меня… ты заставил меня умолять их, как собачонка. Тех людей из Королевского Географического общества, тех высокомерных людей из музея, они ничего мне не сказали, вообще ничего, только сунули ту заметку в газете! И все! – Она раскинула руки, скривив пальцы. – И все! Не понимаю, как ты мог с нами так поступить…
Малк тихо сказал:
– Когда ты узнала, что он не погиб, милая?
Она сглотнула.
– Они неправильно доложили, эти, из «Таймс». Они напечатали имя Джорджа вместо другого Джорджа – еще одного, который тоже был в той командировке – какой-то старик с…
Она закрыла лицо руками.
– И так – видите – так получилось это недоразумение, – мягко сказал отец. – Мы были в тысяче миль от цивилизации – к тому времени, когда мы вернулись в Каракас, уже прошло три недели, а ошибку уже напечатали. Я… его звали Джордж Вильсон, – добавил он вдруг. – У него случился сердечный приступ в дороге. Славный был парень. Настоящая трагедия.
– Да уж, – пробормотал Малк, не сводя глаз с мамы. – Я понимаю.
– Ты змея, – тихо сказала мама. – Ты скользкая, лживая, подлая змея.
Отец засмеялся.
– Ты же хотела, чтобы я ушел. Не будь дурой, Дилайла. Ты сказала мне никогда не возвращаться.
– Твоя дочь! – крикнула она. – У тебя была дочь! Ты сказал им, что она не твоя!
– Ну… – Он потер шею. – Возможно, это было… да… это я плохо сделал.
Мама уставилась на него в отчаянии.
– Дилл, – позади раздался голос Малка, мягкий и твердый. – Не надо все это вспоминать, не сейчас. Мы можем сделать это завтра. Или в другой раз.
– О да, дорогой. – Она быстро повернулась, их глаза встретились. – Я согласна. Я хочу, чтобы он поскорее ушел. Я никогда не рассказывала тебе об этом, правда? Знала только миссис Полл. Я не говорила тебе, что он ушел от нас еще раньше, когда Нине было всего три месяца? Сбежал в Оксфорд. У нас был ужасный скандал. Он был не готов стать отцом, не справился с ребенком, который все время плакал. Он сам был ребенком, я думаю, это был стимул к бегству – рождение ребенка. Он продолжал обвинять свою мать. Сначала он был в ярости, потом в апатии, иногда он целыми днями молчал. – Она не смотрела на Джорджа Парра, когда говорила все это; он стоял у нее за спиной, прижав два пальца к губам. – Однажды вечером он поднял Нину и потряс ее, потому что она не переставала плакать. Я велела ему уйти – он ушел на следующий день, когда мы обе еще спали. Просто встал и ушел. Я вызвала полицию, чтобы его разыскать. Я думала, что он… Он сделал что-то глупое. Он был на грани.
– Ты угрожала мне, – сказал Джордж Парр. – Я боялся, что ты меня убьешь.
– Я тоже боялась, – категорически сказала мама. – Я боялась, что ты причинишь ей боль. – Она повернулась к Малку: – Они нашли его в старой квартире в Оксфорде. Знаешь, что он им сказал? Он сказал, что я сошла с ума. Что я свихнулась. Что он был абсолютно уверен, что Нина не его, что у меня был роман со старым коллегой из Штатов. Они даже имя у него не спросили! Этого было достаточно, чтобы… Достаточно, чтобы обвинить меня. И они просто отпустили его. Эти добрые мальчики из полиции просто приняли все за чистую монету. Ох, да она просто истеричная сука, которая спит со всеми подряд, просто не обращайте на нее внимания. Боже, я скучаю по восьмидесятым. Какое это было чудесное тяжкое время!
– Это правда? – Я вдруг услышала собственный голос, такой неожиданный в этом трио, внезапно остановивший разговор, и наступила мертвая тишина, как будто мои мать и отец забыли о моем существовании. – Разве он не мой отец?
– Это неправда, – сказал Джордж, подходя ко мне. – Я твой отец, конечно, это так. Слушай, ты должна понять – я был под большим давлением. Дети – тяжелая работа. Ты не спала. Вообще никогда. Мы были оба… Квартира была адом, все постоянно протекало, везде сырость, все старое, и у нас не было ни денег, ни семьи для поддержки, и я… И я… – Он умолк, бросив на мою мать умоляющий взгляд. – Дилайла, я не говорю, что я прав. Кое-что из того, что я делал, было довольно мерзко. Но в конце концов я понял, что правильно сделал, что ушел. – Он провел рукой по лбу. – Я должен был уйти. Дело не только в тебе. Во всем. Просто начать с чистого листа. Оставить все позади, все это. И это – ведь это сработало, не правда ли?
Она уставилась на него, открыв рот, а затем откинула голову назад и засмеялась, и смеялась слишком долго.
– Это сработало чудесно, – сказала она наконец. – Ты прав, Джордж. Так и есть. А теперь уходи и больше никогда не приходи сюда.
Но отец проигнорировал ее и положил руку мне на плечо.
– Нина, я знаю, что это все ужасный шок. Но я действительно хотел тебя увидеть. И мне пришлось вернуться. – Он оглядел комнату. – У меня сейчас кое-кто есть. Ей пришлось несладко, и она хочет выйти замуж. И есть Кипсейк. Я надеялся не втягивать тебя во все это. По крайней мере, так хотела твоя мать. Но теперь я вижу, что это невозможно. Ты должна знать. Тебе придется узнать.
Я смотрела на него, переводя взгляд с него на маму, не в силах представить себе, что они были той прекрасной парой с фотографии перед Бодлианской библиотекой и что они сделали меня с любовью. Это казалось смешным. Я отшатнулась от их взгляда, умоляюще посмотрев на Малка.
– Я не уверена, – начала я.
– Есть причина, почему он хочет, чтобы ты участвовала во всем этом, милая, – медленно сказала мама. – Страшно сказать, но это правда. Деньги, или что-то в этом роде. Он никогда не говорил мне ничего о Кипсейке. Он никогда ничего мне не рассказывал о своей семье, вообще никогда. Почему же теперь надо, вот так вдруг?
– Ты не понимаешь, – сказал он нетерпеливо.
– Конечно, я не понимаю! Ты сказал мне, что твои родители умерли и ты вырос в коттедже на западе страны. Так что, на самом деле это неправда?
– Это… Правда. Они оба умерли. Но это был не коттедж. И я не сказал тебе, Дилайла, потому что – ты мне не поверишь, – я не хотел втягивать тебя в это.
– Опять ложь. – Мама пренебрежительно положила руку на бок.
Я отошла назад, почувствовав облегчение, что я больше не в центре внимания.
– Нет. Потому что я хотел начать все сначала, – сказал Джордж. – Я был очень напуган, что ты бросишь меня, если узнаешь, какая ужасная была моя семья. Как я облажался. Я был без ума от тебя, Дилайла.
Она повернулась к нему лицом с горящими глазами. Пожалуйста, только не говори, что ты все еще его любишь. У меня закружилась голова.
– …Совершенно без ума от тебя. Я думал, что ты та, кто был послан, чтобы спасти меня, что мы были бы в порядке, если бы были вместе, и я знал, что должен уберечь тебя от всего, не испачкать всем этим. – Он покачал головой. – Это звучит так странно. Но ты не знаешь, каково жить в этом доме. Каково это, расти там… – Его голос стал ниже, и он замолчал, сглотнул, а затем сказал своим теплым, прерывистым голосом: – Так было правильно. Может быть, однажды я смогу заставить тебя понять. Я не жду, что ты меня простишь, но… Поймешь. – Он немного подвинулся к ней, и я увидела их отражение в большом зеркале над камином. – Мне нужен развод. Я уверен, что ты его тоже хочешь. Но мы были… Мы были хорошей парой, когда нам было хорошо, не так ли, Дилл?
Он нежно коснулся ее сложенных рук, и их глаза встретились. Мне пришлось заставить себя взглянуть на Малка, задаваясь вопросом, видел ли он то же, что и я, но на его лице не было никакой эмоции.
Вдруг я услышала, как мама сказала:
– Думаю, ты шутишь, Джордж. Нам никогда не было хорошо. Это был летний роман, который слишком затянулся, и единственная причина, по которой я не жалею об этом, это моя дочь. Все остальное было ошибкой. Мне смешна сама мысль, что ты думаешь, что какая-то сопливая история о твоем детстве оправдает тебя, когда ты ушел, и я бы посмеялась, если бы не было так грустно. Ты понимаешь, какое у Нины было детство из-за тебя? Ты понимаешь, что если бы у нас не было миссис Полл, то тогда… – Ее голос дрогнул, и она прошептала: – Если бы у нас не было М-малка, что бы тогда было? – Она повернулась ко мне: – Дорогая, я не жду, что ты когда-нибудь простишь меня. Я должна была тебе сказать. Я не могу объяснить, почему я не сказала. – Она обняла меня, но я не могла заставить себя обнять ее в ответ. – Прости. Я так виновата. Надеюсь, однажды ты поймешь.
Она отпустила меня и бросила последний взгляд на Джорджа Парра, одиноко стоящего посреди комнаты.
– Пришли документы, Джордж. В противном случае, больше мне не пиши. Надеюсь, ради всех нас, что это последний раз, когда я тебя вижу.
– Дилайла…
– Теперь я действительно думаю, что тебе лучше уйти, – сказала она.
Я могу сказать, что он был озадачен, и я думала о том, как глупо он выглядит.
– Но я хочу…
– Ты не можешь выбирать, правда? Просто уходи.
– Дилл. – Малк поймал ее, когда она неслась к двери. – Пусть он поговорит со своей дочерью.
– Если она этого хочет, – сказала мама, пожала плечами и вышла, захлопнув за собой дверь. Я услышала ее тяжелые, медленные шаги по лестнице, как будто она еле-еле могла дойти до своей комнаты.
– Полагаю, вы много говорили обо мне, и наверняка не все из этого было правдой, – сказал отец. – Я рад, что у меня появился шанс… Все тебе объяснить. Наверстать упущенное.
«Наверстать» – как будто мы подруги, которые договариваются выпить кофе в «Сексе в большом городе».
– Не сегодня, – сказала я. – Уже поздно. Я много выпила. И к тому же…
– Что?
– Я бы хотела немного подумать обо всем этом.
Он снова посмотрел на меня, в раздумьях.
– Конечно. Смотри, вот мой адрес. – Он написал адрес электронной почты на странице небольшой записной книжки и оторвал ее, передав мне. Его почерк было красивым, каллиграфическим, с орнаментом. – Я остановился в отеле в Блумсбери. Я здесь до среды. А потом мне надо ехать в Кипсейк.
– Что тебе там нужно сделать?
– Прах вашей бабушки хранился у адвокатов в течение пятнадцати лет. Когда она умерла, она оставила мне пакет… О да, довольно большой. – Он моргнул. – И она просила, чтобы я привез прах обратно в Кипсейк. Только я, никто другой. Ее последнее желание – даже после смерти, ты понимаешь. Она была особенной, моя мама. – Он улыбался, но не глазами.
– Так что, она умерла не там?
Он задумчиво сказал:
– Без понятия. Наверное. Мы не были на связи.
– Этот дом, – сказала я. – Кто там сейчас живет?
Он колебался.
– Я… Я не знаю. В этом все дело. Ты ведь понимаешь, да? Он твой. Он должен был перейти к тебе по наследству.
Я не совсем поняла, что он имеет в виду.
– Перейти ко мне? Почему я не?.. Он мой?
– Это сложно. Подойди ко мне. Я объясню. – Он похлопал Малка по плечу: – Послушай, спасибо, старик, за то, что терпишь все это.
– Все – что? – вежливо спросил Малк.
Джордж Парр махнул рукой:
– Ох, этот… Хаос. Надеюсь, это не поставило тебя в неловкое положение.
– Никоим образом. Это мое обычное положение, – сказал Малк.
Джордж пожал ему руку.
– Нина, – сказал он мне и снова с любопытством посмотрел на меня, словно взвешивая что-то, пытаясь решить. – Приходи в отель. Давай обо всем поговорим. – Он наклонился ко мне, чтобы поцеловать меня в щеку.
Я шагнула назад.
– Тогда я буду на связи, – сказала я. – Пока, пока.
Он снова посмотрел на меня.
– Да. Да, будь на связи.
– Тогда спокойной ночи, – сказал Малк, встав так, чтобы вытеснить отца в коридор, и направился к входной двери, словно лист, попавший в поток воздуха.
Я открыла дверь. Это был мой отец, уходящий в ночь. «Пока», – сказала я, помахав рукой. Я смотрела, как он уверенно машет в ответ, как он переходит дорогу и оборачивается, чтобы посмотреть на дом. Думаю, именно тогда я поняла, что же увидела мама в день моего четырнадцатого дня рождения.
Он был там. Он. Человек, отцепляющий велосипед. Конечно.
– Малк, – начала я, повернувшись к дому, – знаешь, я думаю, что только что кое-что поняла.
Малк просто кивнул, и я поняла, что ему все стало ясно, как только появился Джордж Парр, и я подумала, знал ли он раньше.
– Я думаю, мы должны идти спать, – сказал он и устало потер глаза.
Я посмотрела на свой телефон:
Гости все ушли. Съел все канапе и выпил всю выпивку. Еще стащил кое-что, что выглядело ценным. Дал себе волю. Позвони мне, когда захочешь поговорить. Надеюсь, у тебя все хорошо.
С.Не уверена, что у нас все хорошо, хотелось ответить. Я поцеловала Малка и поднялась наверх, мои шаги были такими же тяжелыми и усталыми, как у мамы. Я поднялась на вершину темного дома, опустив плечи. В моем кармане лежал адрес электронной почты моего отца. Я чувствовала, что он может причинить мне вред. Тогда я поняла одно: ничего больше не будет как прежде.
Глава 13
На следующее утро я не видела маму, и на самом деле она не выходила из своей комнаты все выходные. Я пошла погулять с Малком по Хиту (субботние вечера были безопасны, Фейрли в это время не гуляли), а вечером я пошла с Джонасом, который вернулся в город на несколько дней. Было странно быть со своим старым другом и не иметь возможности поговорить с ним обо всем этом: я просто не могла все осознать, пока не могла. Если бы только он приехал недели через две-три, когда все было бы не так грубо и не так странно. Все это. Вспышки из предыдущего дня: Лиз Трэверс поет, я теряю пирожные ко дню рождения, целую Себастьяна, Роджер Вебстер с того края улицы, вырисовывающийся из нашего подвального окна кухни. Мой отец там, на пороге, приятный, вежливый, как будто он вообще не уезжал из дома.
– Что у вас еще нового? – спросил Джонас в какой-то момент, кроша лед в своем стакане хрупкой соломкой. – Неужели тебе нечего мне рассказать?
Я уставилась на него. Мы с Джонасом были друзьями с начальной школы. Я знала его с четырех лет; я знала, что он был геем, прежде чем он сам это понял. Мы часами рассматривали друг друга голышом (будучи маленькими, конечно же). Однажды летом мы выучили все тексты песен «Энни». Я все ему рассказывала.
Но расстояние убивает.
– Действительно, ничего, – сказала я, слабо улыбаясь, и, хотя он тоже улыбнулся и похлопал меня по руке, сочувствуя той жизни, которую, как он думал, я веду, я почувствовала разочарование Джонаса, его натянутую улыбку, и пропасть между нами становилась все больше.
Позже, в субботу вечером, я отправила электронное письмо отцу:
Можно мне прийти к тебе завтра утром?
Он ответил почти мгновенно:
Дорогая Нина, я бы очень хотел тебя увидеть. Пожалуйста, приходи в мой отель, если тебе удобно. Отель «Уоррингтон», Блумсбери. 10 утра подойдет? Меня не будет с 11 до конца дня.
ДжорджМама так и не вышла, когда в воскресенье утром я ушла. Хотя еще не было десяти, жара и движение вокруг Кингс-Кросса уже смешались, создав туманную завесу, когда я проходила мимо диснеевских шпилей Сент-Панкраса. Я люблю Сент-Панкрас. Я была так разочарована, когда миссис Полл сказала мне, что это был железнодорожный вокзал и заброшенный отель, а ведь я была уверена – примерно до восьми лет, – что это был настоящий сказочный замок. Башни и шпили, вздымающийся скалистый горизонт: дворец Спящей красавицы, заброшенный современным миром.
Отель «Уоррингтон» был вторым по счету и наименее любимым из различных зданий на ветхом полумесяце больших белых лепных домов недалеко от Юстон-роуд. На верхней ступеньке стояло ведро с грязной водой и старой шваброй. Буква «о» отсутствовала, и вывеска на перилах первого этажа выглядела странно. Когда я встала рядом с ведром и подняла глаза, у меня появилось желание в последний момент развернуться и пойти домой, отпустить эмоции и броситься на мамину кровать, крепко обнять ее, сказать ей, что я не буду связываться с этим новым прошлым, в которое меня вдруг ткнули, заставить ее сесть и улыбнуться. Но я знала, что не смогу. Джинна уже не было в бутылке; его нельзя было запихнуть обратно.
Поднявшись по ступенькам, я с трудом открыла тяжелую дверь и представилась на стойке регистрации. Блондинка, веселая леди, не намного старше меня, яростно стучала по клавиатуре, но подняла голову.
– Доброе утро! – сказала она с восточноевропейским акцентом.
– Привет, – сказала я. – Я пришла на встречу с моим… – Я остановилась. – На встречу с Джорджем Парром.
Она безразлично посмотрела.
– Давайте посмотрим. Я не уверена, что у нас такой есть… – Опять яростное клацанье по клавиатуре. – Нет! Боюсь, у нас никого нет с таким именем!
Я уставилась на нее:
– Должен быть.
Но она снова пожала плечами:
– Нет! Только четыре комнаты заняты, ни одна из них не принадлежит Джорджу Парру. – Яркая оживленная улыбка. – Чем еще я могу вам помочь?
Я почувствовала головокружение от разочарования: что это за чепуха?
– Я не понимаю. Он сказал… – Я достала телефон и проверила адрес. Потом я поняла – Постскриптум в конце письма.
П. С. Спроси Адониса Блю в отеле.
– Ой, – сказала я неуверенно. – Мне нужен Адонис Блю, по-видимому. Это… – Я замолчала. Это звучало смешно.
Мои слова возымели магический эффект. Девушка вскочила и улыбнулась.
– О, верно! Вы на встречу с мистером Блю? Он очень забавный человек. Все время меня смешит. Я сказала ему, вас зовут не Адонис… – Она произнесла имя как Адд-он-исс. – …И он подтвердил, что это правда. Это правда?
– Нет, – сказала я, стараясь не показывать свое раздражение. – Его зовут Джордж.
– Хорошо, – сказала она, с любопытством глядя на меня. – Что ж, он в номере 4. Первый этаж, по коридору. Сообщить ему, что вы идете?
– Не стоит, – сказала я. – Пусть будет сюрприз.
– Нина? – сказал мой отец, распахнув дверь минуту спустя. – Да, это ты! Чудесно. Ну, входи. Немного странно, но располагайся.
Я просто смотрела, как будто впитывала его изображение. Эти темно-карие беспокойные глаза, которые не совсем подходят к его загорелому лицу, синяя рубашка поло, брюки чинос.
На этот раз он не пытался меня поцеловать, просто похлопал по плечу.
– Большое спасибо, что пришла.
Я вошла в номер, засунув руки в карманы, пытаясь казаться спокойной. Комната была крошечная, до отказа набитая мебелью: покрытая густым слоем лака кровать с балдахином, письменный стол с печеньем в фольге, чайные пакетики и чайник. Еще два больших кресла и стеклянный столик.
Джордж Парр показал на стулья и стол:
– У них всегда такое расположение столов и стульев в гостиничных номерах. – Он дружелюбно улыбнулся мне. – И это так странно. Кто вообще использует эти номера в качестве гостиной? Кто может подумать: «А выпью-ка я чашку чая и отдохну в своем гостиничном номере. А?»
– Я не часто останавливаюсь в отелях, – ответила я.
Наступила пауза.
– Ага. – Он указал на один из стульев. – Хорошо, давай сядем и проверим их практичность. Сделать тебе кофе?
Я покачала головой.
– Может, чай или что-то другое? – Он посмотрел на свои часы. – Слишком рано для чего-нибудь покрепче, но у нас же особая встреча, правда? Не буду тебя укорять, если хочешь виски.
– Нет, спасибо.
Он аккуратно потянул за штаны чуть выше колен. Малк всегда делал то же самое, и я почувствовала первый предательский укол, но отогнала его. Он сел напротив меня, и я старалась не смотреть на него слишком открыто. Мой отец. Это мой отец.
Я облизнула сухие губы.
– Итак, зачем ты хотел меня видеть?
Легкая улыбка оставалась неподвижной на его лице.
– Я думал, что было бы хорошо провести время вместе. Только ты и я.
– Но ты ведь не из-за этого вернулся, не так ли? – сказала я, все еще держа руки карманах. – Той ночью ты сказал, что хочешь развода. Вот почему ты здесь?
– Частично. Немного того, немного этого. Я хотел тебе все объяснить. Только наедине. – Когда он улыбнулся, морщинистая кожа вокруг его глаз едва не скрыла их полностью. – Что касается развода, о котором я говорил в пятницу, я встретил кое-кого несколько лет назад – замечательную девушку по имени Мерилин. Она очень хочет – как и ее семья, с которой я очень сблизился, – чтобы мы поженились. Они довольно известная семья в Огайо. Я живу в Огайо, ты не была там?
Я покачала головой.
– Нет, конечно, нет. Во всяком случае, видишь ли… Мерилин… Она…
– Не очень себя чувствует, ты сказал.
– Да. У нее был рак щитовидной железы. О, это прекрасно лечится. Она очень хорошо справляется. Но бедняжка многое вынесла, и после всего, что она сделала для меня, это самое малое, что я могу сделать в ответ, правда? – Он улыбнулся мне.
– Да. Это… – Я не знала, что ответить. – Надеюсь, она поправится окончательно.
– Спасибо, Нина. Спасибо.
– Итак… – Я пыталась понять его намерения, понять, зачем он приехал. – Тогда ты сказал, что вернулся еще и потому, что надо что-то сделать с прахом твоей матери. Это так?
– Хочу убить двух зайцев, так сказать. Но, Нина, послушай, я… Еще я хотел тебя увидеть! Ты должна это понимать! – воскликнул он. – Честно говоря, моя дорогая, уходить было очень тяжело.
– Верю, что так и было, – сухо сказала я.
– Да. Ну, я полагаю, твоя мать за все эти годы рисовала меня не в самом радужном цвете.
При этих словах я вспыхнула.
– Это несправедливо. Мама рассказывала мне, что ты герой. Она говорила о тебе все время. Рассказывала мне истории, показывала фотографии. Я так гордилась тобой, когда росла. Она сделала все возможное, чтобы я тебя знала, знала, как мы все были счастливы… Вы двое были счастливы… До твоей смерти. Смерти… – Я покачала головой. – Ха.
Он потер глаза, как будто пытаясь оградить себя от света, льющегося из окна.
– Извини меня. Я думал иначе. Никогда не делай предположений без доказательств. Видишь ли, это было не совсем так, насколько я помню, но, я полагаю, мое мнение ничего не стоит, верно? Я же сбежал. – Он улыбнулся. – Знаешь ли ты, как приятно произносить эту фразу? В Штатах могут подумать, что ты собираешься кого-то изнасиловать.
– Правда?
– Послушай, Нина. У тебя нет причин верить мне или даже слушать меня. Это чертовски порядочно с твоей стороны. Я знаю, твоя мать не хочет, чтобы ты виделась со мной. Я просто хотел встретиться с тобой и поговорить как следует. Объясниться. Рассказать немного больше о своей семье. Я не знаю, что ты о ней знаешь. О моей матери, о Кипсейке. – Он прокашлялся. – Слушай, давай я скажу прямо. Ты ведь там не была? Я имею в виду, в Кипсейке?
– Конечно нет. Я и не знала об этом, пока ты вчера не пришел. – Но я не удержалась и спросила: – Он… он ведь прекрасный, да?
– Ах… – Он закрыл глаза, и на его лице появилась странная улыбка. – Он необыкновенный, Нина. Волшебный. Как временнáя лакуна. Когда ты там, трудно поверить, что есть города и… И самолеты… И вообще весь современный мир. – Он замолчал. – Поверь, там странно быть. Мой дом в Колумбусе был построен в 2008 году. Никаких призраков, никаких картин, которые смотрят на тебя, и лично мне это нравится больше. – Он взглянул на настенные часы. – Во всяком случае, для бизнеса. Во-первых – не могла бы ты отдать эти документы своей матери? – Он вручил мне пачку бумаг со стола.
– О… – Я взяла их, взвешивая в руке. – Да, конечно.
– Объясни ей, что ей нужно позвонить Чарльзу Ламберту в «Мурблс и Рутледж» и назначить встречу. Она может подать на развод, если захочет: мы живем раздельно уже более пяти лет, и они говорят, что это будет просто, если никто из нас не оспорит решение. Я думаю, она хочет, чтобы все поскорее устроилось, как и я. Этот парень, – добавил он почти мимоходом, – Малькольм? Он ее новый мужчина?
– Нет. Они вместе уже несколько лет, – сказала я. Я не хотела больше рассказывать ему о Малке, не знаю почему.
Его лицо прояснилось.
– Замечательно. Значит, она тоже хочет покончить с этим поскорее. Скажи ей, чтобы она позвонила «Мурблс и Рутледж».
– «Мурблс и Рутледж», – медленно повторила я. – Мне кажется, я слышала о них.
– Ну, это довольно большая фирма в Сити. Раньше они были в Труро, затем открыли филиал в Лондоне. В течение многих десятилетий были нашими семейными адвокатами.
– Хорошо. – Я взяла толстый конверт, который он мне дал, и осторожно положила к себе в сумку. – Я ей передам.
– Скажи ей, что было бы здорово, если… – начал он, но остановился. – Отлично.
– Послушай, не переживай, – сказала я черствым голосом. – Я почти уверена, что она больше не хочет быть за тобой замужем, если это можно назвать замужеством.
Он вздрогнул.
– Вполне справедливо.
Чайник закипел, и он встал.
В тишине между нами я начала ощущать, как тяжесть всего этого давила мне на грудь, сжимая горло. Отец возился с чайными пакетиками, пытаясь засунуть один в чашку, нитка путалась у него между пальцев. Вид совершенно обычных вещей, маленьких деталей жизни, поражал и ужасал меня. Он пьет чай или предпочитает кофе? Любит триллеры или беллетристику? Смотрит ли он «Вайр» или ему больше нравится «Мэд мен»? Он был таким шикарным: его голос был красивый, благородный. Он всегда так говорил? Хранил ли он до сих пор половину альбома «Вашти Баньян»? Похожи ли наши пальцы на ногах? У мамы длинные, стройные ноги, и она всегда говорила мне, что мои скрюченные, уродливые пальцы прекрасны. И она повторяла, что они были такими не потому, что на протяжении большей части детства я носила обувь не по размеру, а потому, что точно такие же пальцы были у моего отца. Когда мне было около четырех лет, это меня ужасно смущало: я не хотела ноги мертвеца.
– Можно тебя кое о чем спросить?
– Да, конечно, – быстро ответил он. – О чем угодно.
– Что ты делал все это время? – спросила я. – Двадцать пять лет. Где ты был?
– Ох… – Он вручил мне чашку чая, но я отодвинула ее, не решаясь заговорить. – Я даже не знаю, как начать… гм… Ну, извиниться. Ничего не выходит. Послушай. Я… Я должен был уйти. Сейчас я буду честен и скажу, что был бы ужасным отцом, я в этом уверен. – Он пристально посмотрел на пол. – Полагаю, ты даже не знаешь, чем я сейчас занимаюсь.
Я покачала головой.
– Я профессор энтомологии в штате Огайо. И я приглашенный профессор в штате Айова. Я публикую статьи под именем Джорджа Клауснера – ты, возможно, не нашла бы меня, если бы погуглила, понимаешь.
– Я никогда не гуглила тебя, – сказала я шепотом. – Я… Я же думала, что ты погиб.
– Конечно. – Он поднял глаза и почти сердито потер лоб. – О боже. Позволь мне попытаться объяснить, что произошло в экспедиции. На самом деле это было ужасно. У Джорджа Вильсона случился сердечный приступ в крошечном самолете, который мы вывезли в джунгли. Бедный старый Джордж. Было очень жарко. Была гроза – ты знаешь, на что похожи эти маленькие самолеты, сделанные из липкой штукатурки. Музей уже получил ошибочную информацию, когда мы восстановили связь с Англией. Они подумали, что Питер – это парень, возглавлявший экспедицию, – сказал, что погиб Джордж Парр. Может быть, он так и сказал, в тот момент все растерялись.
Его голова качалась, он нервно ерзал. Я заметила, что он все время суетится – его длинные, тонкие пальцы постоянно теребили что-то или переставляли вещи с места на место.
– Парень по имени Саймон вернулся в самолет с телом, а мы отправились дальше в джунгли. Проделали замечательную работу для изучения Стеклокрылых бабочек. Найти их довольно сложно, очень трудно заметить. В этом их особенность, избегать хищников, понимаешь? Как бы то ни было, мы пробыли там пару недель без связи с внешним миром, а затем вернулись в лагерь, и там парень сказал нам, что произошла эта путаница, что сообщили неправильно – о, какой бардак! И был тот момент, там, в салоне. Я понял, что впервые в жизни я был невидимкой.
«Реутерс» исправили ошибку, но потребовалось несколько дней, прежде чем исправление появилось в газетах. А тем временем я был мертв для всего остального мира – и если бы кто-то поискал мое дело в какой-то библиотеке, они бы увидели, что я мертв. Понимаешь? – Его голос был хриплым. – Я был свободен. В первый раз. Я мог пойти куда угодно, быть кем угодно, больше не быть Джорджем Парром. Моего отца звали Клауснер – я был зарегистрирован под фамилией Клауснер в моем свидетельстве о рождении из-за какой-то путаницы в Труро, когда я родился. Моя мама была взбешена этим, но так ничего и не поменяла. Возможно, потому что она не хотела, чтобы я был Парром, – я всегда думал, что это так. Поэтому я не говорю, что хотел уехать из-за тебя, Нина. Это было не так…
Он рассказывал мне все это, но мысли его были далеко, не здесь, в этой тесной комнате, его плечи опустились, а лицо бледнело под коричневым загаром.
– …Все дело в том, что дома все было не так. Я столько натворил. И я знал, глядя на то, как обстояли дела с твоей мамой, лучше мне было не возвращаться. Она понимала это, я знал. Ты же видела, как было прошлой ночью. В тот день я решил покинуть лагерь. Я сел на автобус в Каракас. Остался с парнем, которого знал со времен прежних экспедиций.
Я потерла шею. «Но я не понимаю. Что подумали другие, когда ты не вернулся?»
Он смотрел на меня своими непонятными темными глазами.
– Ох… Я не знаю. Я сказал Питеру, что, думаю, пришло время и мне сойти с корабля. Я сказал им, что должен отойти. Сходить по нужде.
– Но разве мама?.. Никто ей не сообщил?
– Я не думаю, что ей было так уж тяжело из-за меня, – просто сказал он.
– Ну, ты же сбежал. – Я кашлянула и тяжело сглотнула.
– Верно. Послушай, я не оправдываюсь. Я же говорил, не так ли? Я ужасный человек, Нина, и я не виню твою мать за то, что она теперь не может меня видеть.
Я не хотела его понимать, испытывать к нему сочувствие. Было бы намного легче, если бы он был злодеем. Я с трудом спросила: «Что ты делал дальше?»
– О, я провел в Каракасе с Альфонсом несколько недель, бесплатно поработал в «Сиенсиас Натуралес», а потом улетел в Штаты. Я знал, что, если я смогу туда добраться, я буду в порядке. Новый старт. Мне обещали грант в Огайо, если меня заинтересует. Я работал над революционной теорией о бейтсовской мимикрии – я постараюсь объяснить…
– Я знаю, что это такое, – тихо сказала я.
Он очень удивился:
– Ты знаешь о бейтсовской мимикрии? Поразительно.
– Я читала об этом, когда была подростком.
– Зачем ты это читала? – спросил он, удивляясь, отхлебывая чай.
– Я хотела узнать о тебе побольше, – ответила я. Мне не понравилось, как грустно это прозвучало. Я хотела, чтобы он думал обо мне как о самодостаточном, успешном человеке, о ком-то, кто совершенно не пострадал от его отсутствия.
– О. – Он был ошеломлен.
– Я действительно ничего о тебе не знала. Я имею в виду, мама рассказывала о тебе, но потом перестала. Поэтому я подумала, что если узнаю какие-то вещи, то пойму, каким ты был… – Я замолчала, снова сглотнув. Я бы не выдержала, если бы заплакала. Он бы подумал, что это из-за него, а это не так; это было из-за шести-, восьми-, тринадцатилетней меня, которая так хотела, чтобы ее папа был жив. – И про Стеклокрылых бабочек я тоже знаю. Их крылья имеют наноразмерную структуру. Вот почему они не отражаются.
Отец поставил чай.
– Это замечательно. – Он взял одну мою руку и посмотрел вниз, словно удивленный. – Нина. В самом деле? Ты ими интересуешься? Меня это очень радует.
– Это было, когда я была младше, – сказала я тупо, убирая руку. – Я не помню ничего из этого. Боюсь, сейчас они мне не очень нравятся.
– Не любишь бабочек? Почему же нет? – он снова удивился.
– Эм… – Я потянула за рукав, собираясь пожевать его, но сдержалась. – Они напоминают мне о тебе. И они очень расстроили маму.
Он вздохнул со свистом.
– Ах. Я хотел бы, чтобы ты поняла, как они прекрасны. Как они важны. Они любят все на планете. Если они процветают, мы процветаем. Я бы хотел, чтобы люди это поняли. Они не просто украшение. Если бы ты увидела их в Кипсейке, увидела, что мы сделали, чтобы это место стало их домом.
Он замолчал, слегка прикрыв глаза и покачивая головой. Как будто он был в трансе, а затем он широко открыл глаза на секунду.
– Да. Да, ты должна. Черт возьми, конечно, должна. Почему бы и нет?
– Должна что?
Он стиснул зубы.
– Я хотел бы, чтобы ты поехала со мной в Кипсейк. Только раз. Только ради того, чтобы просто увидеть их. Увидеть то, что у нас там есть.
– Там много бабочек?
Он засмеялся.
– Можно и так сказать. Я говорю – правда, серьезно – поедешь со мной? В конце концов, Кипсейк – твой.
– Но я ничего о нем не знаю. Ты говоришь, что он мой, но никто никогда не связывался со мной, чтобы сообщить мне, что я унаследовала разрушенный дом у ручья… Где точно он находится? Только ты мне о нем говорил.
Он немного помолчал.
– Я знаю. Не понимаю, почему они никогда не искали тебя, старики «Мурблс и Рутледж». Я имею в виду, они были адвокатами семьи с тех пор, как давным-давно «Мурблз» был филиалом в Труро. Держу пари, они знают больше, чем я. Все, что я знаю, – этот дом твой. – Он хлопнул себя по коленям. – Это было бы типично для нее, отстранить тебя от собственного наследства по какой-то странной причине. Возможно, потому что ты моя дочь. Последний акт злости. – Он быстро и выразительно покачал плечами, а затем потер тонким пальцем по переносице. – Прости меня. Старые призраки. Думаю, это те из них, которые обязательно должны были вернуться. В последнее время я не думаю о той жизни. Постарайся и ты.
Это, казалось, противоречило той картине, которую он описал ранее.
– Почему? – спросила я.
Он выдохнул.
– Позволь мне рассказать про Кипсейк. – Снова прищуренные глаза, как будто он оценивает меня. – Мужчины не могут унаследовать его, если только в поле зрения нет другой наследницы-женщины. Чарльз II, старый Чарли, он был в затруднительном положении, понимаешь? Прятался в Кипсейке, а там жила Нина, наш предок, – это первая Нина, она была самой красивой в округе, – он втянул ее в свои дела. Её портрет висит там в холле. Ты очень на нее похожа. Клянусь тебе.
Я покраснела, мне было неловко от его комплиментов.
– Нина в письмах жаловалась Чарльзу на то, что он оставил ее на содержание этого огромного дома, без родителей и большей части наследства, а также с ребенком, которого надо было содержать. У нас остались те письма, ты их увидишь. Я могу… – Но он остановился. – В любом случае, Чарльз ответил. Отправил ей указ. Что-то вроде пенсии каждый год за помощь и обещание, что Кипсейк будет принадлежать только ей и их дочери. Он также отправил ей огромную бриллиантовую брошь, только она варварски продала ее…
– Кто? Тедди?
– Да. Длинная история. Прямо перед войной. – Он снова почесал нос. – Когда я читал это, я должен сказать, что я даже вскрикнул от твоего имени, Нина.
– Что читал? Где?
Он снова посмотрел на меня.
– О, она написала – ну, она написала мне, объяснив все это, прежде чем умерла. Послушай… Вот что я знаю об этой ситуации. Вероятно, довольно мало. Ты понимаешь, английское наследственное право не так уж и практикуется в Огайо.
Он говорил так тепло. Я подумала о Сью и Бекки с работы, об их одержимости «Даунтоном». Им бы понравился мой отец, его хрустальный акцент, его разлетающиеся светлые волосы: телевизионная драматическая версия англичанина.
– Моя мать, Теодора Парр, была девятой женщиной, которая унаследовала дом. В истории была пара мужчин, когда не было женщин-наследниц. Фредерик, он был великим коллекционером первых изданий, кукольных домиков, ну, всего такого. Очень интересный мужчина. Он был моим прапрапрадедом. И, конечно же, Руперт Вандал. Снес заднюю часть дома. Говорят, он задушил горничную, когда она… не соглашалась… ну, да ладно. Сказки. Он был сумасшедшим. Неприятный момент истории. Начинаешь их всех узнавать, когда вырастаешь там, знаешь, как соседей по дому… это странно. Да, Руперт был неудачником.
Ну, для меня и большинства из нас интересной всегда была его внучка, Безумная Нина. Как раз она провезла бабочек контрабандой из Турции. Она тоже там, конечно же… – Он замолчал и покачал головой. – Она посадила тутовое дерево, которое привезла из Турции. И оно все еще там, двести лет спустя. По крайней мере, я предполагаю, что оно все еще там – о, не обращай внимания на все это. Старые истории, как я уже сказал. Я вырос с ними.
– Я уже знаю немного, – сказала я ему. – Первую Нину Парр, во всяком случае. Эта твоя книга, та, которую ты оставил мне. – Я видела, как он уже почти начал говорить. – «Нина и бабочки».
– Черт возьми. Я не думал об этой книге… полвека. Не видел ее с детства.
– Но у меня остался твой экземпляр, – сказала я, улыбаясь ему.
– Не думаю. У меня не было своего экземпляра, этот – моей мамы. Разве не забавно, что все это было заперто где-то в темных нишах нашего разума? «Нина и бабочки». Веселая хорошая книжка, странная история и все такое. – Он моргнул. – Там в конце нет списка ее любимых бабочек?
– Есть, – сказала я, довольная, что он помнит. – Восемь или около того. Малая Медянка, и… – Я замолчала. – Книга всегда хранилась дома. Ты, наверное, взял ее с собой на Ноэль-роуд.
– Возможно, я так и сделал, – неопределенно ответил он. – Не могу понять зачем. Понимаешь, я терпеть не мог думать о том месте после того, как уехал. Не могла бы ты взять ее с собой, если… если мы поедем?
– О, – сказала я. – Конечно… – Я колебалась.
– Твоя мама все понимала. Она тоже не была близка с родителями. Я никогда не рассказывал ей полную историю, но я немного поговорил с ней о моей семье. Она была чуть ли не первым человеком, который действительно меня понял.
– Понял что?
Он сказал с веселостью, которая меня раздражала:
– О, что она, вероятно, допустила ошибку, взяв меня на себя. Все мои проблемы.
– Какие проблемы?
– Что я вырос в таком месте… с такой матерью.
– Я все еще… – Я остановилась и начала снова: – Я до сих пор не понимаю, что ты имеешь в виду насчет нее.
– Я имею в виду, что по поводу моей матери я не могу сказать ни слова. Разве это не ужасно? – Розовые пятна появились на его щеках. – Я правда не могу это объяснить – у меня были годы, чтобы обдумать это, знаешь, но я все еще не могу понять. Моя новая жизнь очень далека от всего этого, так иногда случается. Например, я сижу за своим столом в кампусе, читаю газету или разговариваю с каким-то студентом, и все это такое чистое, блестящее, новое. Я понимаю в такие моменты, что здание, в котором мы сидим, моложе студента передо мной, а потом я вспоминаю Кипсейк. Он строился, пока Шекспир писал пьесы. В моей комнате были лягушки между стекол и мох на полу, я всегда видел свое собственное дыхание, потому что по воздуху от меня шел пар, а ночью я что-то слышал. – Он устало улыбнулся. Он выглядел испуганным; почему он испугался? – Мне было холодно восемнадцать лет – там, а потом в школе-интернате, – пока я не уехал в Оксфорд. Видишь ли, никто не любил меня, ни один человек, пока я не встретил Дилайлу. Она была… – Он замолчал. – В общем, Кипсейк – это волшебное место, но я был там несчастен. Даже думать не могу о том, чтобы вернуться. Я могу ясно себе представить это… река, ступеньки, тропинка до дома… и все это так реально. Черт возьми, единорог. – Он моргал. – Сейчас я с Мерилин, и она очень добра. Она верит в прозрачность наших отношений. Понимаешь, я не думаю, что моя мама вообще меня любила.
– Я уверена, что это неправда.
– Она всегда говорила, что с войной все изменилось. Она высосала жизнь из живых, и она была одной из них. Я думаю, это был просто повод для ухода. – Он сделал глоток чая. – Некоторые люди должны иметь детей. Некоторые нет.
Я снова подумала о миссис Полл. Как некоторые люди, которые не твои родители, лучше, чем родители. О Малке, о его руке на моей в пятницу, тогда, я уверена, он видел моего отца насквозь. «Не знаю, правда ли это».
– Ну, в моем случае да. – Он поставил пустую чашку на кровать и неожиданно сказал: – Я рисую слишком мрачную картину. Нина, что ты думаешь? Ты поедешь со мной? Поедешь смотреть на Кипсейк?
– Не думаю, что я смогу, нет, – услышала я сама себя, словно он только что попросил меня съесть бутерброд по дороге. – Извини.
Отец сглотнул и снова дернул штаны за колено.
– Могу я спросить почему?
Я потянула за кожу у ногтя.
– Я не знаю тебя. И, как я уже сказала, я никогда не слышала, чтобы дом принадлежал мне или что-то в этом роде, я ничего не читала о нем, кроме как в той книге, и потому что я тебя не знаю, и, ну, я не хочу обидеть маму. – Я подняла свою сумку. – А еще, – я действительно не знала, как это сказать. – Я просто не уверена, что верю тебе. Извини.
– Ты – ты мне не веришь? В какую часть этого ты не веришь?
– Не знаю. Прости, – снова сказала я слабо. Я чувствовала себя довольно паршиво, как будто это совсем не такое воссоединение, о каком я мечтала.
– Нина, послушай. Поедем со мной в Кипсейк, только один раз. Я не буду тебя больше ни о чем просить.
Я внимательно наблюдала за ним. Его глаза были скучными, умоляющими.
– Разве ты не хочешь проверить, лгу ли я? Испытать меня? Разве ты не хочешь хотя бы увидеть дом, чтобы потом рассказать, когда станешь старше, и тебе разве не интересно узнать, откуда ты родом, знать, что теперь ты все выяснила, что ты стояла там, где стояла твоя бабушка?
Я заерзала под его взглядом.
– Но я ведь не знала ее. У меня не было…
Он поспешил вставить, прежде чем я успела что-то сказать:
– Я знаю, что мы не знаем друг друга, я точно знаю, что ты ничего мне не должна. Но я все-таки твой отец. Не могла бы ты?.. Ха… – Он наклонил голову, и, к моему изумлению, из его горла вырвалось полурыдание. – Пожалуйста, сделай это, по крайней мере, для всех нас. Это все, что я прошу.
Я смотрела на него, на его лицо, на жестикулирующие руки, отполированные ботинки.
– Хорошо, – сказала я в конце концов. – Я поеду с тобой.
Он кивнул, слегка покачивая головой. «Прекрасно. Прекрасно».
– Когда?
– Я думал, в среду. Подойдет? Я арендовал автомобиль. Собираюсь ехать сам.
– Отлично, – сказала я, удивляясь, как буду все объяснять – Брайану на работе, маме. – Что ты будешь делать до?
– О, знаешь. Мне надо по одному делу, и все такое. Я чертовски рад, что ты поедешь со мной, Нина. Не могу дождаться, чтобы рассказать Мерилин.
– Мы можем добраться туда за день?
Он встал.
– Лучше сказать, что тебя не будет на ночь. Дорога неблизкая.
Я кивнула:
– Мне надо найти какой-нибудь предлог. И когда все закончится…
– Да. Я понимаю, – сказал он, его морщинистый лоб сразу прояснился.
Я встала, намереваясь тут же уйти. Отец потянулся вперед и неловко сжал мое плечо.
– Думаю, ты не пожалеешь, что поехала.
Мы стояли лицом друг к другу, неуверенно глядя друг на друга, и я поняла, что жалею, что не сказала «нет». И все же, чтобы наконец-то побывать там… Чтобы проверить теорию этого фантастического мира, который вторгался в мое серое, серое существование. Я решила поехать, мне нужно было довести это до конца. В соседней комнате захлопнулась дверь, и тяжелые шаги пронеслись мимо нашей тихой комнаты. Мой отец встал.
– Я пойду, – сказала я и перекинула сумку через плечо. – Что ж, пока.
Он вручил мне бумаги.
– Не забудь про них. Пока, Нина. – Он неловко поцеловал меня в щеку. – Я ужасно рад, что ты пришла.
Я не знала, что ему ответить. Я просто кивнула, беспомощно пожала плечами и тихо закрыла за собой дверь.
Глава 14
Я возвращалась по Пентонвилль-роуд под редким, но пронзительно холодным июньским дождем. Гниющие коричневые распустившиеся листья смешались с мусором вдоль дороги, и когда я шла по узким, в форме позвоночника садам Колбрук Роу, наблюдая за малышами и их родителями, за владельцами собак, которые болтали на зеленой лужайке среди городских террас, я продолжала думать об отце. Я поняла, что так о многом забыла его спросить. Какой была Мерилин, где он с ней познакомился? Чем он занимался весь день? Почему он вернулся на мой четырнадцатый день рождения? Почему – так много почему.
Но я снова его увижу. У нас были часы, чтобы ничего не делать, кроме как задавать вопросы и отвечать на них, по пути в Кипсейк, где бы это ни было. И опять я задумалась, как буду объяснять это свое путешествие маме.
Когда я вернулась домой, дрожа в своем тонком кардигане, мама все еще была в постели. Когда тем вечером я вышла из дома, чтобы пойти к моей старой соседке по квартире Элизабет на ужин, она храпела – я слышала ее, когда спускалась вниз. На следующее утро она все еще лежала в постели, когда мы с Малком завтракали вместе в неловком молчании.
В понедельник днем, не получив от отца никаких новостей, я отправила электронное письмо. Он ответил немедленно.
Приезжай сначала в «Уоррингтон», прямо с утра в среду. Чем раньше выдвинемся, тем лучше. 6.00 нормально?
Надеюсь, ты не возражаешь, если я скажу, что ужасно горжусь тем, что увидел тебя и понял, какой замечательной молодой женщиной ты стала.
Достаточно этого! Увидимся в среду.
Твой отец ДжорджЯ даже восхищалась тем, как мой отец, вопреки всей современной речи, использовал такие слова, как «ужасно».
Той ночью мне приснился странный сон о том, как я ехала по длинным дорогам, мимо гигантов, грохочущих мимо нас в крошечном двухместном автомобиле. Я все время слышала этот ритм:
Нина Парр замуровала себя, Шарлотта Мерзавка, Дочь короля… А потом я, маленькая старая Тедди, последняя девочка.Я чувствовала, что теперь у меня есть цель. Я не могу объяснить это, кроме как тем, что я проснулась. Что-то происходило в моей жизни, и я была частью этого. Потому что мой отец вернулся – и все было возможно.
Себастьян продолжал писать мне.
Когда ты в последний раз видела своего отца? (Или слишком рано говорить об этом?) Позвони мне.:Х
Мама встала с постели? Моя мама считает, что он приехал за вашими деньгами. Имейте в виду, теперь она думает, что вы, возможно, богаты. Она очень мило говорит о тебе, я должен тебе сказать.:Х
Не хочешь выпить сегодня вечером?:X
Хотя его имя, вспыхивающее на моем экране, заставляло мое сердце тревожно прыгать, хотя я краснела, оглядываясь через плечо, чтобы проверить, не заметил ли кто-нибудь поблизости мою реакцию, хотя я не могла думать о нем, не закрывая глаза и не улыбаясь, мне удалось проигнорировать эти сообщения, как маленькие флаги, приветственно машущие мне из пустоши. Я знала, что в какой-то момент я должна с ним увидеться. Но не сейчас. Сначала мне надо было разобраться со всем этим.
Во вторник утром я спустилась на завтрак. Малк вышел на пробежку. Я опустошила посудомоечную машину, приготовила кофе, упаковала сумку для работы, взяла банан и кусочек тоста. Я запустила мусорорубку и накормила золотую рыбку (которую мама купила, когда я вышла замуж, и которая теперь скрывалась, нелюбимая, в углу кухни). Я загрузила вещи в стиральную машину, а потом взяла поднос и, поднявшись по лестнице, свалила груды старых «Нейшинел Джеографик» и «Пингвинз» с дороги. Я постучала в дверь мамы и, не дожидаясь ответа, вошла.
Она сидела на кровати, держала чашку чая и читала.
– Привет, – сказала я, опуская поднос. – Я принесла тебе завтрак.
Мама ничего не сказала, хотя ее глаза перестали скользить по страницам книги.
– Я сейчас ухожу на работу, – сказала я. – Я пришла, чтобы дать тебе хоть что-то поесть, так как я не видела тебя уже два дня. Я встретилась с отцом в субботу, и он попросил меня передать тебе эти документы о разводе. – Я бросила толстый конверт на кровать, и она посмотрела на него. – Кажется, тут все очень просто. Не надо решать денежные вопросы, он отказывается от любой прибыли с твоих книг, а адвокаты ждут от тебя ответа, чтобы назначить встречу, чтобы ты могла подписать все бумаги. Я написала Брайану по электронной почте – он говорит, что может действовать от твоего имени, если хочешь, поскольку у тебя обязательно должен быть адвокат, хотя все должно быть довольно просто. Брайан Робсон, – сказала я, потому что она все еще молчала. – Мой босс в «Горингс».
Я посмотрела на смятое старое пуховое одеяло. Оно было из «Хабитат» на Тоттенем Корт-роуд, мы с ней купили его в одно воскресенье на распродаже, ужасно довольные этой покупкой. На нем были красные, розовые, синие и зеленые асимметричные узоры, и оно было экзотически новым и модным предметом в нашем доме в течение многих лет. Я не заметила – я, очевидно, редко бывала в спальне моих родителей, – как оно износилось, красный выцвел до цвета лосося, один угол потрепался и порвался.
– Мама? – сказала я, стараясь не выдать отчаяние.
Она слегка пожала плечами, словно не хотела полностью игнорировать меня, и поставила чай рядом с кроватью. Но потом продолжила читать свою книгу.
Я положила руки на бедра и прикусила губу.
– Мама? Ты меня слушаешь? Мама?
Она не отреагировала, и вдруг что-то щелкнуло во мне, как резинка. Я вырвала книгу у нее из рук и бросила на пол.
– Посмотри на меня! – Я схватила ее лицо руками, пальцами сжав ее нежную розово-белую кожу, и уставилась на нее, оскалив зубы, тяжело дыша, раздувая ноздри. Она встретила мой взгляд, ее зеленые глаза были пустыми – никакого выражения. Я навалилась на нее и крепче сжала, ее голова дернулась.
Я была в ужасе, когда делала это, какая-то часть меня прижалась к стене, наблюдая за этой сценой на расстоянии. Но я не могла остановиться, проснулась другая часть меня, которая ничего не говорила годами, не задавала вопросов, старалась быть доброй, притворялась, что все всегда в порядке, улыбалась, когда ей было грустно.
– Я задала тебе вопрос, мама. – Мое дыхание было горячим, тяжелым. – Я задала тебе чертов вопрос.
Мы обе замерли, я сидела на ней, как какой-то зверь, она в пижаме, ее голова молча повернулась ко мне. Она даже не отреагировала.
Я подумала, что могу ударить ее. Или задушить. Я никогда не чувствовал такой ярости; надеюсь, что никогда больше не почувствую. Она протянула руку и положила ее на мою, которая сжимала ей шею, и моя хватка мгновенно ослабла.
Затем, довольно тихо, она сказала:
– Я услышала тебя. Не могла бы ты оставить меня в покое? – Она взяла чашку чая, сделала глоток и уставилась в пустоту.
Уже дрожа, я поднялась с кровати, взяла ее книгу и отдала ей.
– Мам… – Я моргнула и вытерла лицо. Невозможно знать, как себя вести, как реагировать, когда кто-то просто блокирует тебя на каждом шагу. Поэтому я сказала: – Я… не знаю, что тебе сказать. Я так много хочу спросить у тебя.
Но она просто открыла «Талантливого мистера Рипли», как будто меня там не было.
– Завтра я уезжаю с отцом, – сказала я, уставившись на нее. – Я уеду на ночь, может быть, на две. Я говорю тебе, чтобы ты знала, где я. Когда я вернусь, я перееду отсюда. Сестра Элизабет уезжает на два месяца, и я могу пожить там, пока не найду что-нибудь еще. – Я повернулась к двери, слезы текли по моим щекам. – Ну, пока.
Я услышала шелест простыней, что-то зашевелилось, когда я закрыла дверь с легким стуком, но мне, наверное, послышалось. Спускаясь вниз по лестнице, я в ярости пнула журналы и поскользнулась на одном, приземлившись на пол, больно ударившись. Мамин бардак приводил к тому, что даже обычно спокойная миссис Полл иногда выходила из себя. «Дилайла, дорогая, кто-нибудь однажды сломает себе шею», – как-то воскликнула она, проскакав вниз через три ступеньки над кипой «Прайвит Айз».
Я посмотрела на себя в зеркало в холле. Мои влажные ресницы размазали тушь над глазами, лицо полыхало. Я положила руки на свои горячие щеки, глядя на себя. Мне хотелось уехать прямо сейчас, быть далеко отсюда, на дороге в Кипсейк со своим отцом.
Глава 15
Я пошла на работу и попыталась сконцентрироваться на последнем деле Брайана: суде по наследству с участием одинокого старика, который все оставил своему помощнику по уходу на дому и чья семья оспаривала условия завещания – что, в свою очередь, было обыденным и ужасно печальным. Когда Сью попросила, я пошла с ней на рабочую кухню для «приватного чата» и сказала, что помогу ей спланировать предстоящее празднество в честь ребенка Бекки. Я выслушала беспокойства Сью по поводу плохих жалюзи, которые ее дочь Ли выбрала для своей новой консерватории, и рассказ о том, как весело они выбирали подушки. Я даже вспомнила о встрече Брайана в двенадцать тридцать и спасла его от непростого телефонного звонка. Это было то, что мне было нужно, – всецело сосредоточиться на чем-то другом, лишь бы не думать о своем разбитом сердце. Лицо моей мамы, мои руки, вцепившиеся в нее, моя всепоглощающая ярость за то, что она лгала мне и все время отсутствовала, тогда и сейчас, плюс тот факт, что – на самом деле – ее это вообще не волновало.
В обед я отправилась в Лондонскую библиотеку. Я поднималась по задней лестнице к секции бабочек, когда услышала голос.
– Нина? – прошипел кто-то из ближайшего темного уголка.
Я обернулась, и там был мой отец.
Странно было то, что я почти ожидала найти его здесь. Тем не менее я сказала:
– О боже мой!
Он поцеловал меня с широкой улыбкой на лице.
– Какой приятный сюрприз – хотя, конечно, как так получилось! Итак, ты сюда часто ходишь, да?
– Почти каждый свой обед. – Я нахмурилась, скрестив руки на груди, и сердце заколотилось при виде его, и вдруг мне захотелось расплакаться, и я поняла, что хочу обнять его, всхлипывая на груди, рассказать ему обо всем. Я сглотнула, сморщилась от ощущения покалывания в носу. – Мне здесь нравится.
– Это совершенно замечательно. – Он выглядел таким довольным, что это было почти трогательно.
– Ну, ты мне это подарил, – сказала я.
– Да, да… – Он остановился. – Что это?
– Абонемент. Пожизненное членство в библиотеке.
– Ох. – Он выглядел довольно озадаченным. – Неужели я?
– Да, ты купил его перед тем, как уехать. В мой шестнадцатый день рождения сотрудники библиотеки написали, чтобы сообщить мне, что я могу начать им пользоваться, и это благодаря тебе. – Я улыбнулась. – Разве ты не помнишь?
– Ох. – В его глазах было странное выражение, а затем он сказал: – Я много чего не помню. Конечно, конечно. Это замечательное место. И вот мы здесь.
Он собрал стопку книг и зажал их под мышкой.
– Такой прекрасный день. Пойдем посидим на площади? У меня есть пара бутербродов. Можем устроить что-то вроде пикника.
– Конечно, – сказала я и счастливо улыбнулась ему.
Снаружи на площади Святого Джеймса он разложил газету, затем куртку и жестом предложил мне сесть.
Я запротестовала.
– Я в порядке. Ты садись. Не хочу портить твою куртку.
– Чепуха! – сказал он. – Я привык сидеть на траве. Большинство моих студенческих лет я провел на мокрой траве, мы все время что-то обсуждали или что-то курили. – Он снова сделал жест.
На этот раз я подчинилась.
– Спасибо.
– Не за что. Было очень приятно увидеть тебя в воскресенье.
Я чувствовала себя странно неловко.
– Ну, я полностью готова к завтрашнему дню.
– Отлично. Прекрасно. Я тоже подготовился. Взял несколько книг для изучения на случай, если мы увидим что-нибудь необычное. – Он похлопал по стопке рядом с собой, и я с любопытством взглянула на корешки книг. «Полевой путеводитель по турецким бабочкам, Анатолийским шкиперам и мутациям», «Миф Мюллера», «Райский уголок».
– Просто легкое чтение, – сказала я, и он довольно неуверенно улыбнулся. Я сняла туфли, прижимая пальцы ног к мягкой траве. – Я сказала маме на всякий случай, что, может быть, я уеду на две ночи.
– Хорошо. Наверное, мы вернемся быстрее, но да, это мудрое решение.
– Ладно. Но, знаешь, если мы будем там дольше, чем думали… – Я прозвучала слишком взволнованно.
– Конечно. – Он подтянул колени, по-мальчишески обнимая себя. – Нина, не могу дождаться, когда ты увидишь Кипсейк. Интересно, сможем ли мы там переночевать или нет. Если нет, то у реки есть хороший старый паб. Ну, раньше был. – Он засомневался. – Интересно будет узнать, в каком состоянии дом. Парни в «Мурблс и Ко» не смогли точно сказать. Мать была довольно эксцентричной женщиной под конец жизни, но она была одержима домом. Знаешь, это была единственная вещь, которая ей нравилась. После смерти отца и Туги.
– Туги?
– Наша собака. Глупый пес. Некоторые думали, что он умный. Сам я никогда не замечал у него проявления интеллекта. Как-то раз он меня укусил. – На его лице появилась тень; он выглядел почти раздраженным.
– Для тебя будет довольно странно вернуться. После всех этих лет.
Он кивнул:
– Да. И опять же, знаешь, не думаю, что я достаточно извинился за то, что не был на связи. Это паршиво с моей стороны. Я так рад, что ты повела себя так благородно в отношении всего этого дела. Честно говоря, я очень рад, что ты поедешь со мной. Я бы волновался, если бы ехал туда один. – Должно быть, он увидел, как изменилось мое выражение лица. – О, не переживай, ничего мистического. Привидений там нет…
Он остановился.
– Ты вроде не очень уверен. – Я попыталась пошутить и пошевелила пальцами ног.
– Ха! Конечно, нет. Не беспокойся об этом. – Он наклонился ко мне и вынул бутерброд из кармана пиджака. – Говядина и кресс-салат, надеюсь, он съедобен. Поделишься со мной? Мерилин не ест мяса, и, поскольку в основном готовит она, для меня это настоящий пир.
– Так как вы с ней познакомились? – спросила я, отламывая половину сэндвича. Хотелось есть.
– О, ты знаешь… – Он махнул рукой. – Она из довольно известной семьи в Огайо. Они являются основными спонсорами университета, всегда были. Ее отец подарил нам новое здание факультета энтомологии три года назад. Очень печально – на самом деле довольно трагично, – у старика случился инсульт прошлым летом. Итак, Мерилин и я встретились на церемонии открытия. Она была за границей, училась, поэтому мы раньше не встречались. Мы оба выступили с речами. Как-то так.
– Сколько ей лет?
Он поднял брови.
– Если ты не против рассказать.
– Почему я должен быть против? – воскликнул он. – Ей тридцать. Будет в следующем году.
Я взяла еще кусочек сэндвича.
– Отлично.
– Да. Она замечательная, – сказал он. – Не могу дождаться, когда ты с ней познакомишься, Нина. Она очень добра ко мне. Подталкивает меня. Вдохновляет стать лучше. Ее отец продавал молочные машины. Знаешь, молочная промышленность – их самая большая индустрия. Человек-мультимиллионер. Вырос в лачуге в однокомнатной квартирке за пределами Толедо, сколотил состояние благодаря чистой уверенности в себе, и Мерилин унаследовала это. Американская мечта. – Он откусил от сэндвича большой кусок и задумался.
– А чем она занимается?
– Мерилин?
– Ну да.
– О, всем понемногу. Она всегда занята! Она фандрайзер. Пытается убедить своего отца выплатить нам немного денег. – Он улыбнулся. – Я имею в виду университет. Факультет энтомологии и наш кампус. Мы должны расширяться, чтобы оставаться конкурентоспособными. На данный момент есть большой стимул для увеличения числа поступающих – мы немного разочарованы, – а также для повышения стандартов на поступление. Мы хотим быть лидерами в области исследовательской теории, в понимании дневных чешуекрылых и их охране. Мы хотим, чтобы университет был на высоте. Лучше всех. – Он сглотнул.
– А что надо сделать, чтобы достичь этих стандартов? Найти новую бабочку?
Он засмеялся и подавился, и я дала ему воды.
– Вроде того, – сказал он наконец.
Мы сидели в молчании, деревья над нами раскачивались под легким ветерком, а офисные работники вокруг сплетничали за обедами, читали газеты и дремали. Я время от времени смотрела на него, надеясь, что он не замечает, и это было так приятно. Мой отец. Мой настоящий, настоящий отец. Гостиничный номер казался дурным сном. Если бы я когда-нибудь вообще представляла, каким бы хотела видеть отца, то это было как раз примерно так: сидящим у Лондонской библиотеки, жующим сэндвич и болтающим со мной.
– Ты привезешь Мерилин? – спросила я.
– Да. – Впервые он выглядел неловко. Он посмотрел на меня, как будто взвешивая что-то, затем сказал: – Боюсь, ей не так уж и интересно… эм… ехать сюда, пока мы не поженимся, понимаешь. Было довольно трудно убедить ее вообще позволить мне ехать, пока я не осознал, что придется все это уладить.
– Но почему?
– О, я думаю, она чувствует, что я буду… Я не знаю. Вся эта ерунда насчет твоей матери. Дилл в ее глазах – скорее призрак. Она убеждена, что мы встретимся снова через двадцать пять лет и немедленно бросимся друг другу в объятия.
Несмотря на то что я злилась на маму, я не смогла удержаться от наивного смеха.
– Она серьезно?
– О, вполне.
– Ну, ты должен сказать ей, чтобы она не волновалась. Я не могу представить, чтобы мама ненавидела кого-то больше, чем тебя. Бориса Джонсона, может быть.
– Кто это?
Я посмотрела на него, потом пожала плечами: с чего бы ему это знать?
– Это мэр. Мэр Лондона.
– А, извини. Прошло так много лет.
Наступила неловкая пауза. Я резко сказала:
– Кстати, когда умерла моя бабушка?
Он прищурился.
– Точно сказать не могу. Четырнадцать, пятнадцать лет назад?
– Это когда… когда мы видели тебя?
– А когда вы видели меня?
– Это был мой день рождения. Там, у дома?
– Ах. Это было за несколько лет до этого. Я вернулся, чтобы увидеть – ну, я хотел увидеть тебя, на самом деле. Довольно глупо. И трусливо.
– Ты приезжал на ее похороны?
– О нет. На самом деле, я тогда должен был забрать прах. Я просто не мог с этим смириться. Она… – Он прижал руки к лицу. – Я рассказываю тебе все свои секреты. Её смерть заставила меня задуматься о тебе. Была конференция, на которую меня пригласили, и обычно я просто сказал бы «нет». Я не был заинтересован в том, чтобы вернуться в Англию. Но на этот раз я сказал себе, что наберусь смелости и попытаюсь увидеться с тобой.
Я нервно ковырялась в грязной траве, не решаясь встретиться с ним взглядом.
– Хотела бы я знать это.
– Хотел бы я быть достаточно смелым, чтобы что-то сделать. Я несколько раз проходил мимо вашего дома. Надеясь увидеть тебя и твою маму… – Он закрыл глаза одной рукой. – О, это звучит жалобно – но я вообще ничего не заслуживаю, в любом случае. Но я чувствовал, что должен попробовать.
Очень тихо я спросила:
– Почему ты просто не перешел дорогу? Не сказал: «Привет»?
– Так она на меня смотрела, – сказал он. – Абсолютная ненависть… и страх. Я знал. Я видел этого парня с ней. Я сделал выводы – и не ошибся. Я собирался, Нина. – Он взял мою руку, внезапно сжал ее в своей, и покачал головой, сильно моргая. – Можешь себе представить, не проходило ни дня, чтобы я не думал о тебе… – Его голос усилился. – Ты чертовски не права. Это правда. Так что… – Он внезапно опустил мою руку, и я подпрыгнула. – Это не оправдание, моя дорогая. Я трус. Это единственное оправдание, которое у меня есть.
– Миссис Полл всегда говорила, что у слабых людей найдется множество оправданий. Если хочешь что-то выяснить или что-то объяснить, назови только одну причину.
Впервые мне не хотелось подняться наверх, чтобы увидеться с ней – когда Малк разрешил мне смотреть «Четыре свадьбы и одни похороны» по видео после школы, в качестве награды за пятерку за контрольную по математике, я была ужасна в математике (потом у него были проблемы с мамой за то, что он позволил мне в возрасте одиннадцати лет посмотреть фильм с пометкой 15+), – и я поднялась наверх и позвонила. «Я не могу сегодня пить чай, извините, миссис Полл. У меня болит горло. И Джонас обещал заглянуть. И мне надо ждать маму. Она забыла ключи».
Она открыла дверь и посмотрела на меня, свет от полуденного солнца обрамлял ее в дверях. Я не могла разглядеть ее лицо.
– Если ты не хочешь подниматься, просто скажи это, Нина, дорогая. Мне не нужно три разных оправдания. Увидимся завтра.
Это был единственный раз, когда она заставила меня почувствовать себя маленькой и ненужной. Три месяца спустя она умерла. Я помотала головой, отгоняя воспоминания.
– М-м-м, – сказал отец, внимательно наблюдая за мной. – Да, совершенно верно. Кто эта миссис Полл, которую ты постоянно упоминаешь?
– Наша соседка сверху. Она присматривала за мной, когда я была маленькая, – добавила я. – Миссис Полл. Она была чудесная. Тебе бы она понравилась.
– Здорово. – Он едва ли меня слушал. – О, тебе уже пора идти, Нина?
Я посмотрела на часы.
– Ты прав. – Я вскочила на ноги. У Брайана была встреча в два тридцать насчет того завещания; я должна была их встретить, сделать кофе. Мне лучше бежать. – Ты остаешься?
– Немного посижу. Я должен встретиться кое с кем.
– Ага! – Снова между нами повисла неприятная пропасть. Я вежливо улыбнулась. – Старый друг?
Он тоже встал.
– Что-то вроде того. Семейный бизнес. Кое-что последнее, что нужно устроить. Я не уверен, правильно ли это… – И он прокашлялся. – Я… что ж, я смогу объяснить это завтра, надеюсь.
Я не хотела, чтобы он чувствовал себя неловко.
– Конечно. Увидимся тогда. С утра пораньше. Да?
– Да, с самого утра. – Он быстро наклонился вперед и схватил мое лицо обеими руками, точно так же как я сделала с маминым тем утром. – До свидания, Нина. – Он поцеловал меня в лоб. – Слушай, позволь мне сказать это прямо. Знаешь, я очень горжусь тобой.
Но ты ничего обо мне не знаешь, подумала я, обнимая его, желая прижаться к нему, но зная, что нужно уйти. Ты не знаешь, что я была замужем, и что у меня есть двенадцать экземпляров «Тайного сада», и что у меня есть воображаемый друг, и что я действительно хочу стать учителем, но через пятнадцать минут мне нужно принести кофе для человека, который не навещал свою собственную мать весь год, но теперь хочет заполучить все ее деньги.
Я сказала:
– Ну, пока.
И он сказал:
– Это было чудесно. Это правда очень… я рад.
– Рад?
– Не важно, – сказал он и похлопал меня по плечу: мой отец / Джордж / папа. Как мне его называть? Мы обсудим это завтра по дороге туда, – сказала я себе, шагая через площадь. Дэвон? Глостершир? Остров Уайт? Да где угодно. Мы оба так многого не знаем. Но мы должны с чего-то начать.
Когда я свернула на улицу, я в последний раз взглянула на него. Он смотрел на меня, махал и улыбался.
Глава 16
Как ребенок, который не может дождаться выходных, я собралась заранее, когда пришла домой с работы тем вечером, напевая себе под нос, и весеннее солнце заливало мою комнату медовым светом. Себастьян снова написал:
Ты жива? Я сделал что-то неправильно? Я посылаю самые мерзкие сообщения в мире? Что с тобой происходит? Не молчи, Нина. Мне плевать, что это звучит грустно. ПОЗВОНИ МНЕ.
С.Я сложила футболки, джемперы, «конверсы» и юбки в свою дорожную сумку и попыталась вспомнить, где мои сапоги и нужны ли они мне – там ведь река, не так ли? Что-то насчет лодки? Там грязно? Я хотела бы придумать предлог, чтобы зайти в комнату мамы. Извиниться или хотя бы поговорить. Но дверь была закрыта, и у меня не хватило смелости вернуться туда.
И еще мне хотелось быть человеком, который знает, как просто войти и начать говорить. В который раз я подумала о генах: я ведь совсем не похожа на нее. Наполовину я Джордж Парр, наполовину моя мать. Не дочь Дилл и Малка, которой я была с одиннадцати лет. «Малк теперь твой отец, – сказала мне миссис Полл, уезжая в отпуск, из которого не собиралась возвращаться. Она крепко поцеловала меня в щеку, садясь в шумное черное такси, натягивая тонкие кожаные перчатки, с сумкой под мышкой. – Помни это».
Джонас пришел пить чай и смотреть «Дома и нет», и я злилась на маму за то, что она потащила меня прощаться с миссис Полл. Я помню, что мне было неловко это слышать – было странно так говорить о Малке при нем, – и помню легкое чувство отвращения, когда вытирала мокрый поцелуй, который она оставила на моей коже. Помню ее лицо в заднем окне такси, бледное, как луна, смотрящее на нас, мама сжимает мою руку, заставляет помахать ей вслед.
– Не будь такой грубой, милая. Ей нелегко. Она уезжает на месяц. Ты будешь скучать по ней.
– Я знаю. Теперь мне можно вернуться?
– Подожди, пока она не свернет за угол.
Потом она ушла, а я не поняла этого. Пока не стало слишком поздно.
Я закончила паковать вещи, подумала и спустилась вниз. Я написала отцу: брать резиновые сапоги? – и собралась приготовить себе что-нибудь поесть и лечь пораньше.
Только теперь я заметила, что в кухне было идеально чисто – мама, наверное, спускалась, пока меня не было. Я подумала, не позвать ли ее на чай. Я позвала ее:
– Мам? Мам, хочешь чашечку чая?
Нет ответа.
Я прокралась назад в ее комнату и остановилась у двери. Я тихонько постучала.
– Мам? Извини за утро. Хочешь что-нибудь поесть?
Я слышала, как зашуршало одеяло, как включился телевизор и звук какой-то викторины становился все громче и громче.
– Мам? – повторила я, на этот раз почти крича сквозь невыносимый шум. – Мам, ты там?
Затем я услышала ее хриплый голос, перекрикивающий раскаты голосов, почти невыносимо громкий:
– Если ты действительно поедешь с ним, не возвращайся. Тебе лучше собрать вещи и сразу поехать к Элизабет! Поняла?
– Хорошо, – крикнула я в ответ. – Отлично. – Притворившись, что все нормально, что я занята своими делами, я спустилась вниз, разогрела суп, включила телевизор и плюхнулась на старый потрепанный диван в углу кухни.
Я сидела там, пока не стемнело, на самом деле не обращая внимания на то, что шло по телевизору, какое-то реалити-шоу или комедия. Я не нашла ничего получше и не могла сделать усилие, чтобы как-то отвлечься от шума наверху. Но я и не хотела. Завтра я уезжаю. Меня здесь нет, в буквальном смысле. Я еду на запад – это ведь на западе, да? – со своим отцом. Когда я встала, чтобы налить себе что-нибудь горячего и лечь спать, вошел Малк, и я подпрыгнула от неожиданности.
– Извини за опоздание, – сказал он. – Они нашли тело. В чемодане. Я был в Хемеле в Хампстеде. – Он потер глаза. – Это было… на самом деле, это было просто ужасно.
– Тебе нравятся ужасные тела, Малк.
– Может, я старею. – Он устало пожал плечами.
– О, Малк, – сказала я, внимательно глядя на него. – Ты ел?
Он проигнорировал вопрос.
– Что происходит? – Он указал наверх, где шум телевизора все еще гремел по всему дому.
– Ну… Мама. Она так громко смотрит телевизор уже пару часов.
– Почему?
– Я… Я ее расстроила. – Я не знала, с чего начать. – Извини, Малк.
Малк поднял голову:
– Не извиняйся, дорогая. Это совсем не твоя вина. – Он огляделся, словно побуждая себя к действию. – Пожалуй, я выпью чаю. Может быть, с чем-нибудь покрепче. – Он взял с полки две кружки. – Присядь.
Малк, такой щепетильный во многих вещах, любит, чтобы его чай был заварен как надо. Я с благодарностью села на один из кухонных стульев.
– Не понимаю, почему она так себя ведет, – сказала я после паузы. – Я… Как она может просто лежать в постели и не хочет ничего тебе объяснить? Или мне? Как она так может?
Он ответил не сразу.
– Нина, дорогая, – сказал он наконец. – Не думаю, что можно вот так смириться с тем, что произошло… правда? Ты думала, что твой отец погиб. Теперь ты знаешь, что она знала правду. Мне кажется, теперь вопрос в том, считаешь ли ты, что она тебе врала. – Он протянул мне кружку чая. – Ты ведь понимаешь.
– Тебя это устраивает?
– Ты знаешь… да, – ответил он. – Ей было тяжело.
– Я знаю, что было тяжело, – сказала я. – Я, черт возьми, знаю.
– Ну, ты всего не помнишь, Нинс, – мягко сказал он. – Ей пришлось много с чем смириться.
– Да, но… – Я замолчала.
– Не просто смириться, – сказал он. – Я имею в виду, ей пришлось так долго лгать.
– Так ты правда не знал?
– О, я понял это совсем недавно. Может, когда тебе было четырнадцать или пятнадцать. После предыдущего раза на твой день рождения, когда она слегла. Тогда я понял, что он не может быть мертв. – Чай обжигал, и я поморщилась. – Выпей молока.
– Как же ты тогда догадался?
– Она всегда шутила. Злилась, можно сказать. Чувствовалась какая-то дурная энергия, а о мертвых так не говорят. Поэтому я задумался. И решил, что у нее должна была быть веская причина думать, что он ушел навсегда.
– Почему, черт возьми, ты просто не спросил ее?
– Я пытался, поверь. Но она закрылась. Она так о многом молчала, Нина, удивительно, что она была в состоянии жить все эти годы. Я верил, что он жив, и знал, что если так, а она скрывает это от нас с тобой, то должна быть причина. И это, конечно, стоило ей очень дорого. Я не хотел, чтобы ей пришлось все это выносить. Знаешь, за эти годы она перенесла слишком много.
– Ох. – Я посмотрела на него. – Ты хороший человек, Малк.
Малк усмехнулся и потянулся за банкой печенья. «О нет. Съешь одно».
– Наверное, я тоже должна была догадаться, – сказала я.
– Нет, Нинс, нет. Она не хотела, чтобы ты знала. Я в этом уверен. Думаю, она хотела тебя защитить.
Я чувствовала, как бурлит в животе, и я сказала:
– Ты знаешь про все остальное? Про дом и про бабушку? И почему он вернулся?
– Ну, конечно, нет. Я не думаю, что она знает. Но она никогда не доверяла ему, поэтому надо еще узнать, почему он приехал. – Он пожал плечами. – Послушай. Это большие новости, я знаю. Но это ничего не меняет. Она все еще твоя мама, и замечательная мама, и я все еще… Я все еще твой отчим. И я не хочу произносить высокопарных речей, поэтому просто скажу, что ты для меня как дочь и ты была такой с того момента, как я впервые увидел тебя со спутанными волосами и крошечным личиком, спрятанным в какую-то книжку про балет. Ты всегда будешь для меня такой, и для меня было большой честью тебя воспитывать. Понимаешь? – Он взглянул на меня на долю секунды, потом снова уставился в свой чай.
– Я понимаю. – Слезы жгли мне глаза. – О Малк. – Я встала и обняла его сзади, положив голову ему на спину, а он продолжал помешивать чай, но я видела, что он улыбается. Я знала, что должна сказать ему. – Я встретилась с ним в воскресенье. В гостинице. С отцом. И сегодня. Я видела его в обед.
– Понятно. – Малк подвинул ко мне жестянку с печеньем. Я была поражена его полным безразличием. – Он мой отец, Малк.
– Конечно. Так чего же он хотел?
– Он… он хочет, чтобы я поехала с ним в Кипсейк.
Малк взглянул на меня:
– Почему он хочет это сделать, Нинс?
– Чтобы посмотреть на него. И, ну, он ведь мой, Малк. Так что мне нужно туда.
– Ты уверена, что он твой?
Этот вопрос немного меня озадачил. «Конечно, мой».
– Откуда ты знаешь?
– Потому что он… он говорит, что да. – Я уставилась на него. – Я сказала, что поеду. Завтра. Только один раз. Он ненадолго вернулся из Штатов и сказал, что возьмет меня с собой. – Я поняла, что хочу получить одобрение Малка, и поняла, что я делаю и почему я согласилась. – Слушай, я поеду – я должна поехать. Не говори мне, что я совершаю большую ошибку.
Малк бесшумно поставил кружку на мраморную стойку.
– Малк?
Когда он снова поднял глаза, его рот был сжат в тонкую линию.
– Не надо, Нинс.
– Я знаю. Знаю, что он слабый и глупый, и он сделал очень плохую вещь, и он, вероятно, все это выдумывает. Но он мой отец.
– Да. – Малк опустил глаза и что-то тихо сказал. – Конечно, это так, милая. Но это ничего не значит.
– Никто не мог быть лучшим отцом, чем ты, Малк, – сказала я, и ком встал у меня в горле. – Ты же знаешь. И то, что поняла мама…
– Нинс, знаешь, что твоя мама сказала мне в пятницу вечером? После того как он ушел? – Он замолчал, и голоса персонажей, кричащих друг на друга по телевизору наверху, стали еще громче. – Она пыталась покончить с собой через семь месяцев после его отъезда. Ты знала об этом? Вот в каком ужасном состоянии он ее оставил.
Я шагнула назад и прислонилась к кухонной стойке. «Что?»
– Она оставила тебя с миссис Полл и наглоталась таблеток. Ей пришлось промывать желудок, ты знала об этом? – Малк снова почесал голову.
Я чуть слышно сказала:
– Нет. Конечно, я этого не знала. – Я поджала губы, стараясь не заплакать. Потому что, если быть до конца честной, это не было таким уж большим сюрпризом.
– Она так сделала.
– Ты не знал?
– Ну, после того как мы встретились, она сказала мне, что пыталась однажды, давным-давно, но не сказала почему. Электричество как раз отключили, и она не могла постирать твои подгузники, Нина. И ей было так стыдно полагаться на миссис Полл, просить денег, когда ее тур не состоялся, и даже есть было не на что. Она была на самом дне. Знаешь, что она сказала? Она думала, что тебе будет лучше с кем-то другим. И была уверена, что он не погиб, но она перестала ждать от него вестей. Она знала, что у него есть деньги, и думала, что это единственный способ вернуть его, заставить его дать тебе лучшую жизнь.
Мысль о том, что кто-то может быть лучше ее. Мысль о том, что маму можно заменить.
– Ох, мама, – сказала я, задыхаясь. – Бедная мама.
– Я знаю, что с ней нелегко. – Он тихо улыбнулся. – Она истеричка, на нее нельзя положиться, и она эгоистка… Боже, она такая эгоистка… но… – Он потер нос. – То, через что он заставил ее пройти, изменило ее. Я знаю, что это не полностью его вина, но он был главной причиной…
– Ты правда думаешь, что она эгоистка? – При других обстоятельствах было бы удивительно, что мы нарушили наши правила, говоря так о ней, что сейчас речь шла совсем о другом.
– Нинс, я знаю, что у нее нет аллергии на воздушные шары. Я знаю, что она врет, чтобы не встречаться с моими друзьями, когда они приходят к нам. Я знаю, что нет никакой новой книги, что ей нравится, как с ней обращаются, потому что она может писать что-то, и она слишком напугана, чтобы закончить книгу, она боится, что ничего не выйдет. Я уверен, что она сама довела твоего отца до ручки, но… – Он замолчал. – Вообще-то, держу пари, что нет. Он не похож на такого человека. Я думаю, она винила себя, когда он ушел, потому что он все равно ушел бы однажды.
– Он правда очень хороший, если ты ему…
– Когда она сказала ему, что она беременна, – продолжил Малк, – он сказал: «О, ради бога, почему надо было так делать?» По-моему, довольно странно для ученого. Не знать, откуда берутся дети.
– Неправда, – сказала я. – Честно говоря, мне иногда кажется, что она…
– Знаю, преувеличивает, она хитрая. Но с годами она становится такой все больше и больше, чтобы скрыть, как сильно ненавидит себя за то, что лгала тебе, за то, что пыталась покончить с собой, за то, что не смогла справиться, когда он ушел, и так далее. За то, что не писала больше книг, за то, что иногда так себя вела. – Его глаза округлились. – Она думает, что, если будет плохо себя вести или оттолкнет нас, мы перестанем любить ее и уйдем. Разве ты не понимаешь? Разве ты не видишь этого?
Из маминой комнаты так громко ревела музыка, что в динамиках потрескивало. Интересно, как она это выдерживает?
– Но, Малк, когда я была маленькой, меня это не волновало. Мне нужен был кто-то, кто знает мой размер обуви и сделает мне чай. Не миссис Полл, во всяком случае, не все время.
– Опять же, разве это не замечательно? Что она впустила миссис Полл? Что она позволила ей вот так воспитывать тебя? Это ведь ударило по ее самолюбию. Знаешь, когда ты была маленькая, ты называла миссис Полл «мамочка Полл», и это так ее расстраивало, но что она могла поделать? – Малк широко развел руками. – Ничего. Думаю, что она как бы загнала себя в эту жизнь и оказалась в ловушке, и все хорошее – ты, книги, миссис Полл – ей становилось все труднее и труднее понимать, как правильно со всем этим обращаться.
– Но…
– Ну правда, милая. Вот почему я думаю, что если ты поедешь, то ты… ты как бы дашь ей понять кое-что.
– Дом. Он же мой, – сказала я. – Перестань, Малк.
– Давай сначала узнаем побольше. Сделай это с ней. Только не с ним. Съездите к этим адвокатам. Спросите их. Спроси Лиз Трэверс. Мы можем все выяснить. Только не езжай с ним.
В темной комнате стало очень тихо. Горькие слезы жгли глаза, щипали горло, нос.
Я глубоко вздохнула.
– Послушай, – сказала я, – я вернусь к четвергу. Я должна увидеть это место, понять, что сделало его таким. Почему он… что все это значит.
Я потянулась к его руке, но он отодвинулся.
– Ничего не значит, – сказал он, сердито улыбаясь. – Говорю тебе, Нина, это просто куча хлама и сердечной боли, и только ты и твоя мать пострадаете, а не он, и… – Он покачал головой.
– Нет.
– Но почему?
– Почему? Я никогда в жизни не делала ничего смелого. Я не такая, как она, хотя ты и говоришь, что я такая. – Я попыталась выпрямиться и прямо посмотреть на него. – Выйти замуж за Себастьяна было единственным рисковым поступком, который я совершила, и это было не храбро, а глупо. Я должна была с самого начала понять – прости, Малк.
Он отвернулся от меня. Перекинув сумку через плечо, я молча поднялась наверх. Что я могла сказать? Проходя мимо маминой спальни, я зажала уши.
Стоя на лестнице, я услышала, как Малк собрал свои вещи для бега, и через пару минут входная дверь захлопнулась. Я вернулась на кухню и сделала ему бутерброд, как он любит. Жареная курица с куриным желе, «Стилтон», салат, дижонская горчица. Я накрыла его тарелкой и приклеила сверху записку:
Вернувшись в свою комнату, я закрыла дверь и села на кровать, покрытую старым маминым одеялом, которое она привезла из Нью-Йорка. Она часто говорила о своей детской спальне. Она была огромной, и везде летал сквозняк, ее родители жили в большом старом доме, где часто отключалось отопление. На окнах висели сосульки, каждый год приезжали снегоочистители, а в соседней квартире, за углом, жил человек, который играл в оркестре и часто ссорился с женой. Однажды, когда мама была маленькой, через окно, выходившее на их улицу, она увидела, как он ударил жену и она больше не встала. Мама никому не рассказала, потому что боялась человека из оркестра; однажды он на нее накричал. Она больше никогда не видела его жену. Мне больно думать, как она сидит там, маленькая, грустная, напуганная, на кровати в одиночестве, и ждет, когда все наладится.
Стеганое одеяло было мягким, розовый узор стерся, и оно, казалось, всегда пахло чем-то экзотическим, старым. Не затхлым, просто… чем-то другим. Оно всегда лежало на моей кровати. Когда я была маленькой, она заглядывала в мою кроватку и думала о самоубийстве, когда мне было четырнадцать, и я истекала кровью, когда у меня начались месячные, и я хотела спрятаться от стыда, и теперь, в двадцать пять лет, я все еще ребенок в этом доме, ребенок моей храброй, испуганной матери. Мама, которая, после того как одна девочка пихала меня четыре дня подряд и выбрасывала мой ланч в канал, ворвалась на детскую площадку в начальной школе в пятницу во время обеда, схватила Эмми – которая выглядела совсем как мальчик – за ухо, потянула ее к дереву у канала и прошипела на ухо, что если она еще хоть раз пальцем меня тронет, то окажется в этом самом канале. Мама, которая за час смастерила мне костюм для «дня героев» из костюма-двойки, седого парика и туфель-лодочек и заставила меня, одиннадцатилетнюю, идти в школу в костюме Ширли Уильямс. И знаете что? Я пошла. И это было круто.
Я легла на кровать и уставилась в потолок. Я никогда в жизни не делала ничего смелого. Я всегда пряталась. Должно быть, я так и заснула, потому что проснулась посреди ночи, полностью одетая, с волосами, намотавшимися вокруг лица, с неприятным привкусом во рту, с открытыми шторами и комнатой, полной синих теней.
Глава 17
На следующее утро и вышла из дома на рассвете: Малк рано вставал, а я не могла видеть его в этот день. Утренняя роса блестела на наших перилах, когда я очень тихо закрыла за собой входную дверь и пошла по дороге, дрожа от резкого летнего утреннего холода. Джордж сказал мне встретиться с ним в 6 утра, я собиралась позвонить на работу и сказать, что заболела гриппом. Накануне я подготовилась: кашляла, иногда вздыхала, вызывая сочувствие у Бекки и Сью.
Когда я добралась до отеля «Уоррингтон», там было темно. Я поднялась по ступенькам и позвонила ночному портье. Ничего не произошло.
Я еще раз позвонила в колокольчик, а затем, стиснув зубы от звенящей в тишине рассвета погремушки, еще раз. И наконец где-то внутри здания я услышала шум движения. Я ждала и дрожала. До этого момента я никогда не понимала выражения «мурашки с кулак». Меня охватило сомнение. Что, если я и правда скучаю по нему? Что, если он ждет, а я его удерживаю? Что, если…
– Что вам угодно? – послышался громкий голос с восточноевропейским акцентом, и в дверях появился мускулистый мужчина в огромной синей рубашке «Аэртекс» с логотипом «Уоррингтон», нелепо вышитым крошечными пурпурными медными буквами.
Я заглянула ему через плечо.
– Я кое-кого жду, – сказала я. – Я должна встретиться с ним здесь.
Он сердито посмотрел на меня.
– Можно взглянуть? Он в вестибюле? – Я старалась, чтобы в моем голосе не было отчаяния.
– Нет. – Администратор пожал плечами и отвернулся, совершенно равнодушный к происходящему. – Я должен держать дверь закрытой.
Я последовала за ним, толкнув дверь.
– Извините, но можно спросить? Он выехал?
Он раздраженно обернулся:
– Откуда мне знать?
Я спокойно посмотрел на него.
– Не могли бы вы проверить? Спасибо. Адонис Блю. Он здесь уже пять дней.
– Эд-дон?
– Адонис Блю. Под этим именем… он под ним зарегистрировался.
Это прозвучало так неправдоподобно. Имя. Вся история звучала неправдоподобно теперь, когда я подумала об этом.
Когда мы позвонили ему в номер, никто не ответил.
– Не могли бы вы позвонить еще раз? На случай, если он в душе или… или спит?
Администратор смерил меня холодным взглядом, который означал «вот сука». Мне было уже все равно.
Я скрестила руки на груди.
– Могу я проверить его комнату?
– Нет. Послушайте, не знаю, чего вы хотите, но…
– Я его дочь. – Казалось, что я лгу, чтобы получить то, что хочу. – Он должен быть там.
– Что, если он взял и уехал без вас?
– Может быть, – сказала я, – но я почти на сто процентов уверена, что он бы этого не сделал. Так что либо он там и не слышит, и в этом случае я прошу прощения за беспокойство, либо нет, но тогда мне нужно звонить в полицию и заявлять о пропаже человека. Он мой отец. Мне кажется, я лучше знаю своего отца, не так ли? – Я вежливо улыбнулась, надеясь, что он не услышит дрожи в моем голосе.
Когда мы шли по устланному ковром коридору, я начала бояться худшего, образы самоубийства, убийства или ночного нападения мелькали у меня в голове, и мне пришлось встряхнуться. Все в порядке. Его не убили. Успокойся. Но я не могла успокоиться, не могла перестать дрожать, сердце колотилось, в горле пересохло.
Когда администратор открыл дверь и в комнате никого не оказалось, вообще никого, я почувствовала облегчение.
– Видите? – Он тихонько постучал по стене. – Здесь никого нет.
Не было почти никаких признаков пребывания моего отца. Кровать только слегка помята с одной стороны. Полотенца аккуратно сложены на стуле. На столе лежит чек, подписанный его рукой.
Он уехал.
Несколько минут спустя я сидела на ступеньках отеля, глядя на светлеющее небо, зажав сумку между ног, и думала, собирался ли он вообще ехать со мной. Было ли то, что он сказал, правдой. Малк был прав. Мама была права – моя больная, хрупкая мама предупреждала меня. Она пыталась сказать мне, ведь так? Она даже слегла в постель, а я все не слушала… Ох, Нина.
Пара каблуков застучала по ступенькам, я подняла глаза и увидела перед собой администраторшу, которая встречала меня, когда я была здесь в прошлый раз, и она выглядела более безупречно и дерзко, чем позволительно выглядеть человеку в это время дня.
– Доброе утро. Чем могу помочь? – сказала она вежливо.
– Я уже ухожу, – ответила я, стараясь не показаться грубой. Я подняла сумку.
– Благодарю вас! – сказала она, переступая через меня и открывая дверь. – Хорошего дня!
– Извините, – сказала я, окликнув ее. На пороге она обернулась. – Мой отец… Адонис Блю, он не говорил, почему уезжает? Вы с ним разговаривали?
Она облизнула влажные розовые губы и провела двумя пальцами по пряди волос.
– О, так это вы тогда к нему приходили? – Она кивнула мне. – Не знаю, а он выехал?
– Да, – сказала я. – Он оставил вам чек. Должно быть, он уехал посреди ночи.
– Интересно, что случилось? – Она говорила спокойно; было ощущение, что она все это уже видела. – Вчера после полудня он был очень зол. Вернулся с работы и сказал, что дела у него идут неважно. Задавал много вопросов о безопасности и телефонных звонках. Он хотел знать, какие детали мы сообщаем. Что мы говорим, если люди хотят узнать про наших гостей.
– Вы знаете, почему он разозлился?
Она пожала плечами.
– Я занималась другим гостем и слышала только обрывки разговора – мы были заняты. Извините, – сказала она, улыбаясь ангельской, невозмутимой, почти торжественной улыбкой.
– Он вам что-нибудь сказал? О том, куда он едет? Что он делает? – Мое лицо скривилось. – Пожалуйста, расскажите мне хоть что-то…
Она посмотрела на меня сверху вниз.
– Он был здесь по делу, это все, что я знаю. – Она вежливо улыбнулась. – Извините. Мне пора на работу. Я должна сменить ночного портье.
– Да… спасибо, – сказала я.
Она остановилась и снова посмотрела на меня, а я крепко сжала свою сумку.
– Он ведь ваш отец, да?
– Да.
– Ага. – Она толкнула дверь и помахала на прощание, небрежно, почти невежливо.
Когда дверь закрылась, я снова опустилась на ступеньки. Впервые за много лет я пожалела, что не могу поговорить с Мэтти; теперь я понимала, как она была полезна. С кем-то поговорить, кого-то спросить, почувствовать себя ответственной. Кто-то, кто слушал меня, даже если ее там на самом деле не было.
И как будто она вдруг возникла за моей спиной, шепча мне на ухо – я услышала, как миссис Полл сказала: Вставай, дорогая. Пошли, ты не можешь сидеть тут весь день.
Я помотала головой.
Легкий ветерок дул мне в правое плечо, где-то неподалеку шумели машины. Ветер шелестел в деревьях над головой. Я встала.
Тебе нужно позавтракать. Пара тостов, и все покажется не таким ужасным. Иди, Нина. Иди домой.
– Это не мой дом, – сказала я вслух. – Я переезжаю к Элизабет. Завтра.
Это твой дом. Так было всегда.
Я посмотрела вверх, на густую беседку из пенистого кремово-зеленого конского каштана, и на мгновение подумала, что, может быть, она там, наверху, спокойно сидит на ветке, и это было так реально: Кипсейк не имеет значения. Твой отец не имеет значения. То, что у тебя есть сейчас, имеет значение.
Поднялся ветер, и июньское небо потемнело, как это бывает весной. Дверь отеля снова резко хлопнула, и на этот раз я подпрыгнула. Я сделала, как велела миссис Полл, и поднялась. У меня будет время позавтракать перед работой.
И все же, торопливо шагая в город, я гадала, где мой отец. На пути в Кипсейк? Или просто прячется за углом, потому что все это ложь? Хотя я знала, что этого не может быть. Я знала этот дом. Теперь я сама должна была найти его.
Лето Бабочек
(продолжение)
У меня только один раз были блохи, и это тот опыт, плюс еще роды, который я не хочу повторять.
Через две недели после моего прибытия в Лондон, немытая, почти обезумевшая от голода и одетая в ту же самую одежду, в которой убежала из Корнуолла, я стояла у ступеней грязного особняка в Блумсбери, сопротивляясь желанию почесаться. Моя кожа покрылась красными пятнами, с отслоившимися маслянистыми чешуйками, которые, казалось, отваливались всякий раз, когда я на них смотрела, поэтому я перестала смотреть. Во всяком случае, я редко раздевалась; я слишком боялась, что кто-то украдет вещи из моего скудного гардероба.
Безумие моего побега в Лондон с каждым днем становилось все более очевидным. По многим причинам, не в последнюю очередь указанным выше, я не могла позволить себе провалиться на этом собеседовании, иначе все действительно было бы потеряно. Вырванный листок и несколько монет, которые у меня остались, были зажаты в руке, в кармане юбки.
Странно, не правда ли? Крошечные, случайные решения, которые вы принимаете, разрастаются в такие дела, о которых вы даже не подозреваете: теперь я часто думала о своем последнем утре в Кипсейке. Как две недели назад я одевалась, не догадываясь, что в тот вечер уйду навсегда. Я смешно упаковала вещи: шелковые рубашки и даже крепдешиновое платье, все поспешно швырнула в потрепанную сумку от Гладстоун. Но все было напрасно: сумку украли в Лион Корнер Хаус, в первый же день.
Только благодаря какой-то безумной удаче так случилось, что я переложила записную книжку и свою кожаную сумочку – с деньгами и маминой брошью-бабочкой – на стол. У меня осталась только та одежда, в которой я была, как говорится в песне. Это была твидовая юбка, теплая, но только до определенной степени. Рубашка и кашемировый джемпер, слава богу. Крепкие броги и мое новое пальто Акваскутум[2], подарок на восемнадцатый день рождения. Последние две недели я носила только эти вещи.
Я также не учла разницу в ценах, и, катастрофически недооценив ее, мои двенадцать фунтов сократились до десяти шиллингов. У меня не было обратного билета. Я не могла продать бриллиантовую брошь – каждый ювелир, которому я ее предлагала, отказывался иметь с этим дело.
– Очень древний крест. Что это написано на позвоночнике?
– То, что любят, никогда не исчезнет. – Слова звучали нелепо, когда я произносила их вслух.
– Хм. Это хорошая штука, – сказал мне один из них – пожилой человек в крошечной лачуге у Грейс-Инн-роуд, с огромными пучками седых волос, торчащими из длинных ушей. – Где такой человек, как ты, это достала? – потребовал он.
– Это моей семьи, – сказала я, поднимаясь в полный рост. – Но мне она больше не нужна. Я хочу продать ее.
– Не верю ни единому слову, милая, – сказал он с удовольствием, оттолкнув брошь обратно по деревянному прилавку и понизив голос, смотря на мои грязные волосы, на мешковатые чулки, на грязную рубашку. – Ты ее украла. Я не принимаю краденое, поняла? А теперь убирайся. У меня приличный бизнес.
Было то же самое, куда бы я ни пошла – от окрестностей в аллеях Диккенсиана за Холборном до более состоятельных ювелиров в Ист-Энде, – и со временем мой внешний вид, столь важный для такого вида сделки, совсем пришел в негодность. Благодаря объявлению на доске в публичной библиотеке Мерилибон мне удалось найти общежитие для девушек в Блумсбери, где было полно актрис, официанток и тому подобных. Потом стало ясно, что некоторые девушки, наверное, не очень порядочные, но там было чисто и тихо. Единственным недостатком было то, что было негде мыться и денег на новую одежду не было. Я попыталась постирать твидовую юбку в треснувшей старой раковине в общей ванной, но это только усугубило ситуацию, юбка стала похожа на кусок ковра, с запахом конского волоса и пота. Я спала в своем шерстяном жилете.
Если я ела один раз в день, денег хватало на неделю. Я, как вы понимаете, совершенно не подготовилась к Лондону. Не знаю, вспомните ли вы ранее упомянутую тетю Гвен, но это наглядно иллюстрирует мимолетный характер роли, которую она до тех пор играла в моей жизни, как я вспомнила, что всегда могла позвонить ей, если у меня будут проблемы. Она была чересчур консервативна; ей никогда не нравилась моя любимая бабушка, вероятно, потому, что Гвен боялась всего, что лежало за пределами ее привычного мирка, а мою бабушку нисколько не волновало мнение других. Брюки на женщине были самым большим страхом для тети Гвен, и после моей второй поездки в Лондон, в возрасте двенадцати лет, мы с мамой часто со смехом вспоминали, с каким ужасом встретили продавщицу из Хэрродс, которая предложила показать некоторые из модных брюк.
– Немедленно уходим, Шарлотта! – закричала она, потянув за бархатный рукав мамы и поспешно уклоняясь от предлагаемых товаров.
Гвен вышла замуж за шотландского землевладельца, с которым познакомилась, когда жила вместе с мамой один сезон в Лондоне, летом, о чем моя мама говорила с отвращением – она ненавидела уезжать из Кипсейка. Но Гвен процветала в Лондоне, она встретила своего принца, который привязал ее к себе на два года, умирая от дифтерии и оставив ее в крошечном доме недалеко от Брук-стрит. Она так и не вернулась в Корнуолл. Я раньше не знала почему – но, как и в случае с Кипсейком, я поняла все немного лучше, когда оказалась за пределами его древних стен.
Я знала, что вспомню дом Гвен, если подойду к Мейфэр, но я была совершенно не уверена в том, как меня примут: к тому времени я уже начала немного чесаться, и она бы ужаснулась, увидев меня. И изначально, хотя мне это уже начинало надоедать, быть независимой было здорово. Потому что, хотя я и проводила свои дни, выставляя чашки в кафе, бесконечно записывая идеи для работы или сюжеты для романов, говоря себе, что должна попытаться, или просто складывала столбцы сумм, стараясь не прислушиваться к грызущему голоду, я была на свободе в этом волшебном городе. Я могла побродить по Национальной портретной галерее и весь день смотреть на Карла II. Могла свободно пролежать весь день в парке или прогуляться по Чаринг-Кросс-роуд, глядя на огромный парк развлечений, на молодых людей в новых костюмах и на лентяев, попивающих светлый эль в дверях, могла остановиться и смотреть столько, сколько хотела, на золотые огни театров и толпы людей внутри, и на чудо Лестер-сквер, где молочные бары работали круглосуточно, на освещенную неоном Империю с ее обширной рекламой. Когда я приехала, показывали «Иезавель», и там была огромная афиша с властным, злобным лицом Бетт Дэйвис, улыбающаяся длинной очереди, ожидающей шанса взглянуть на нее. Я посмотрела «Иезавель». Я влюбилась в Бетт Дэйвис и практиковала этот косой, высокомерный взгляд в грязном стекле общественных табличек и окнах телефонных будок.
Я была на дне, но не отчаялась. Я не могла рискнуть бросить все это и вернуться обратно в Кипсейк или пойти к своей тете и быть вынужденной жить жизнью, которую она хотела бы для своей племянницы, жизнью молодой аристократической дебютантки. Корнишская девушка, которую я знала, выходила замуж за улицей Святого Георгия на Хановер-сквер, когда я проходила мимо однажды днем – цветение апельсина, фаланга подружек невесты из шифона и шелка, проволочно-шелковые цветочные короны на сверкающих головах, мужчины, придерживающие цилиндры на игриво резком ветре. Жених, худощавый, покатые плечи, нервный; невеста безуспешно борется со своей кружевной вуалью на ветру. Они вдвоем удивленно поглядывали друг на друга. Это могла быть я, и я знала это, и знала, что мне повезло, что я избежала этой участи, пусть даже пока.
Мой распорядок дня вращался вокруг походов в читальный зал Британской библиотеки, где я ждала, когда у меня появится возможность просмотреть новости, но в основном чтобы проверить, не прислала ли Мэтти мне сообщение через колонку частных объявлений.
Я понятия не имела, какую роль эта чертова колонка сыграет в моей жизни в Лондоне. Дома, конечно, у меня было радио и копия «Таймс» моего отца, на которую можно было смотреть, когда его не было или он дремал. А теперь могло произойти что-то катастрофическое, и были все шансы, что я не услышу об этом – в общежитии не было радио, не было газет. В марте Гитлер вторгся в Австрию, предположительно мирно, и заявил, что «спасет» судетских немцев, живущих в Чехословакии, через границу с Германией. Ситуация была странной: внешне все было так спокойно, но каждый день мы замечали небольшие изменения. На улицах появлялись знаки: «АНС-станция». В Гайд-парке рыли траншеи. Издалека они выглядели не чем иным, как гигантские кротовины, – я помню, тогда я впервые поняла, что что-то будет.
За день до этого я сидела в читальном зале Британской библиотеки и листала «Таймс», притворяясь, что не голодна, не отчаялась, с любопытством оценивая взгляды незнакомцев на меня – Почему эта девушка такая грязная, такая некрасивая, такая странная? Почему она чешется? Почему она всегда здесь сидит? – когда, к счастью, я обратила внимание на одно из объявлений в колонке частных объявлений. И действительно, все пришло из того объявления.
Издательство Афина-Пресс, 5 Карляйль Меншенс, Гендель-стрит, WC1, срочно ищет молодого специалиста с минимальными навыками набора текста, отличными административными способностями; сообразительного и грамотного; из хорошей семьи; в состоянии справиться со смешными и в то же время наглыми кошками и собаками; умеет быстро читать и организовать офис из 2 человек; также некоторые легкие домашние обязанности. Проживание включено. Абонентский ящик T345 Таймс, 72 Регент-стрит, W1.
Я немедленно туда написала, и меня попросили прийти на собеседование в Карляйль Меншенс на следующий день. Очень смелая, я отдала две жалкие монеты уборщице, живущей вниз по улице от отеля, чтобы постирать и отгладить юбку и удалить запах лошади. К счастью, я также смогла одолжить шелковую рубашку у Марии, милой продавщицы из «Хиллс», которая занимала комнату по соседству со мной, хотя она была полнее, поэтому рубашка была немного велика и ее пришлось застегнуть до верха. Затем, стараясь не чесаться, я представилась в «Дебнемс» и спросила, можно ли мне попробовать молочный порошок для лица «ярдли». Скучающий продавец напал на меня с энтузиазмом, и через двадцать минут я ушла, пахнущая борделем и похожей, как я увидела в отражении на стекле, на очень, очень измученную и ничем не примечательную танцовщицу из «Палладиум»: бледно-спекшееся лицо, уши, руки, шея красная и мокрая от высыпаний на теле. Мне страшно хотелось почесаться, зайти в телефонную будку и почесать все тело. Только величайшее самообладание, отработанное за эти годы, остановило меня.
Когда я добралась до Карляйль Меншенс, я позвонила в звонок и отступила назад, поскольку зуд снова настиг меня.
– Это вы? – Высокий голос, прозвучал откуда-то надо мной, с сильным акцентом.
Я посмотрела вверх и вокруг, подумав, не ослышилась ли я.
– О, Теодора Парр. Из… Я пришла по объявлению, которое вы разместили в «Таймс». Издательство «Афина».
– Нет. «Афина-Пресс», – внезапно произнес голос, гудя через домофон. – Так говорить неправильно.
– Извините, – сказала я. – Мне следует… Я не перепутала день?
– Нет, я полагаю, все верно. Ну, входите.
Дверь открылась. В прихожей было прохладно и темно, на полу были черные и белые квадратные мраморные плитки, несколько из них треснули и нескольких не было. Было тихо, за исключением звуков чьего-то пения, глубокого баса. Я поняла, что понятия не имею, откуда в этом большом холодном здании раздавался голос, поэтому я продолжала подниматься по лестнице, надеясь, что кто-то снова закричит.
Когда я дошла до верхнего этажа, я огляделась, не зная, что надо делать. Голова немного кружилась от голода: днем раньше я потеряла сознание в трамвае – ужасно стыдно. Я стояла там, цепляясь за перила, глядя на сломанные и пропавшие балюстрады, надеясь, что не провалюсь сквозь них, когда дверь открылась, и тень, идеальные очертания молодого человека, упала на меня из дверного проема.
Я не смогу описать вам Эл должным образом, не заставив вас посмотреть в окно, если там солнечный день. Посмотрите на голубое небо. Посмотрите на яркость, ясность синего цвета, и то, как ваши глаза потом болят, потому что везде так темно. Вот как это было, увидеть Эл впервые.
– Кого вы ищете? – Тень была настоящей: мальчишеские, стройные, высокие скулы, слегка раскосые темные глаза. Молодой человек шагнул вперед птичьим движением, которое я потом так легко узнавала, и быстро и уверенно, но в то же время осторожно, коснулся моего предплечья одним пальцем. Глаза, такие откровенные, такие полные смеха, слегка изогнутая улыбка, слабый румянец на щеках, тонкие длинные руки, переменный акцент – иногда твердый кокни, иногда Гуги Уитерс, иногда низкий и серьезный, – это была единственная переменчивая вещь в Эл. Я очень изменилась в течение своей долгой жизни – у меня было так много разных версий себя. Эл не мог быть чем-то иным, кроме этого красивого, богоподобного существа, полного радости и юмора, и темного, сладко пьянящего движения, как кошка, потягивающаяся, долго пролежав на солнце.
– Эй, вы в порядке? Вы бледны как простыня.
– Скорее слабая. С самого завтрака ничего не ела. – Я моргнула, осознав свою странную внешность, конский запах твидовой юбки, от которого, я знала, она полностью не избавилась, острый аромат молочно-лавандовой воды, мои шелушащиеся, красные руки. – Я в полном порядке, большое спасибо.
– Ах, да. – Наступила неловкая тишина. – Ну, не думаю, что вы ищете меня, правда? Если только это не мой счастливый день.
Я надменно ответила:
– Конечно, нет. Я ищу мистера… Из «Афины»… «Афины-Пресс». Я на собеседование.
– Этот старый мошенник? Что ж, я удивлен. – У Эл была широкая улыбка, которая, как я заметила, содержала один сколотый зуб, совсем немного придавая ему довольно пиратский вид, хотя в остальном – от гладких темных волос до стройных ног – все было совершенством. Я уже тогда это знала. Сразу. Это было так просто. Мне хотелось протянуть руку, и я все еще чувствую желание своей руки почувствовать эту гладкую, кремовую кожу под своими пальцами. Крошечный всплеск красно-розового цвета на щеках, как липкое варенье в густых сливках. Губы слегка приоткрыты. Глаза, которые внимательно, с любопытством наблюдали за мной, пытались меня раскусить, понять, я ли была им нужна.
– Я не понимаю, почему вы должны удивляться, ведь мы не знакомы.
– Я удивляюсь тем, кто попадается на его хитрости. Он старый жулик.
– Это как? – Я посмотрела вниз, услышав движение на одном из этажей ниже.
– О, это все тщеславная пресса, – сказал Эл. – Заставляет тебя платить ему за публикацию твоей же работы. Все думают, что подписывают контракт с Михаилом Джозефом или Голландцем, а вместо этого платят кому-то за публикацию «Больших приключений маленького котенка», или «Моя жизнь в пуговицах», или что там еще придумает дорогой сэр или мадам. Потом они чертовски бесятся, что книга не продается, и появляются здесь, угрожая прибегнуть к закону, и он иногда возвращает им немного денег, иногда нет.
– Откуда вы это знаете?
– Я послал ему свои мемуары. О том времени, когда я был медиумом в Торки.
– Не стоит быть таким легкомысленным, – сказала я, и мы оба улыбнулись, менее робко, чем раньше.
– Извините. Обычно сюда приходят по ошибке. Так всегда бывает. Мне нравится старый Михаил. Понимаете, он сумасшедший, но веселый. Но он абсолютная змея. Я много раз ему говорил поставить у двери табличку, чтобы люди знали, что это за квартира на первом этаже, но он так и не повесил. – Эл пожал плечами. – Боится, что его узнают, понимаете? Так что теперь я должен раскрыть правду. Могу я спросить, о чем ваш роман?
– Я не писала роман. Я тут ищу работу.
Его брови высоко поднялись над черными волосами. В этот момент подо мной раздался голос: «Ага! Мы здесь. Вы там наверху?»
Я опустила взгляд вниз по извилистой лестнице в темный зал, и оттуда на меня посмотрела фигура с руками на бедрах.
– Я не знала, куда идти. Это… он просто показал мне дорогу.
– Она уже спускается, Михаил.
Михаил помахал:
– Эл, мой сладкий. Доброе утро.
– Доброе. – Эл повернулся ко мне: – Очень приятно познакомиться. Я Эл, как он и говорит. Эл Грейлинг.
Я удивилась.
– Так звали моего отца. Не спрашивайте меня, почему я ношу это имя, это было что-то вроде долга.
– Я… ваша фамилия. Это название бабочки.
– Что? Бабочки? Ой. Я не знал этого.
Это совпадение показалось мне гораздо более интересным, чем семья Грейлинг.
– Да. Это красивая бабочка – по крайней мере, самка. Самец очень неопрятный. – Я покраснела; я все еще пыталась понять, как разговаривать с людьми. – Они любят скалы, меловые… – Я замолчала и посмотрела на Михаила, ожидающего меня. – Мне надо идти. Я прошу прощения…
– Ой. Это очень интересно, – вежливо сказал Эл. – Боюсь, я ничего не знаю про внешний мир. А ваше? Имя, я имею в виду?
– Теодора – ой, Тедди. Парр.
– Хорошо, привет, Тедди Парр. – Мы пожали друг другу руки, все еще глядя друг на друга. – Что ж, удачи. Приятно, что здесь будет кто-то молодой. Заходи как-нибудь, если получишь работу, угощу тебя обедом. Стучи в дверь. Я всегда на месте.
– Ох, – я пошла к лестнице, подняв руку навстречу нетерпеливой фигуре внизу. – А кем вы работаете?
– Я писатель. И это чистая правда. – Эл стоял в дверях, ухмыляясь, затем показал мне большой палец на удачу. Мне хотелось остаться там, но я повернулась и пошла вниз, навстречу своей судьбе.
В то лето, которое я провела в «Афине» с Михаилом Ашкенази, я всегда видела его только в черном. Однажды он взял темно-зеленый джемпер и поиграл с ним, нежно лаская его и надев на голову, но так же быстро снял, пробормотал что-то, и Миша подняла его, когда тот упал на пол.
– Ужасно, – сказал он с содроганием.
– Я знаю, – горячо согласилась она. Как будто он собирался проскользнуть в жилетку со змеями.
Теперь он, конечно, тоже был одет в черное с головы до ног, худой, женоподобный мужчина с квадратной головой, темными, глубоко посаженными глазами, постоянно сжатыми губами, со своим стандартным выражением лица – как будто сбитый с толку.
(Как странно, это роскошь – позволять себе думать, писать о нем после всех этих лет. Он был очень дорогим мне человеком.)
– Прошу прощения за неудобство, – сказала я, пожимая ему руку, когда дошла до нижней части лестницы. – Я просто не знала, где вы.
– Не беспокойтесь об этом. – Он с любопытством уставился на меня. Внезапно он сказал: – Вы богатая девушка? Такой наряд. Это шутка, что вы пришли сюда сегодня? Вроде как спор, чтобы рассказать друзьям?
Я уставилась на него, потрясенная, как будто он меня ударил. Желание почесать ногу вдруг стало невыносимым. Но я знала, что не могу посмотреть вниз или двигаться. У меня был шанс остаться здесь. Я должна была продолжать смотреть на него, заставить его поверить, что я уверенный в себе и полезный человек.
– Я недавно уехала из родного дома.
– Где он?
– Далеко.
– Почему вы уехали?
Золотой Кипсейк в утреннем солнце. Хелфорд, сверкающий под весенним ветерком и окаймленный свежей зеленью. Худое, изогнутое тело моей матери. Дверь под лестницей, женщины, которые разговаривали со мной ночью…
– Так было нужно, – тихо сказала я.
– Это не ответ.
– Я… я… – Я сделала глубокий вдох. – Я хочу быть писателем и жить в Лондоне.
– Писателем? – Его глаза вспыхнули. – Такая мелочь, как ты?
Я посмотрела на запертую дверь, которая, вероятно, была его квартирой. «Надеюсь, я смогу писать ваши письма и как следует отвечать на звонки. Я умная и организованная…» – Я ломала голову, пытаясь придумать, что еще сказать ему, понимая, насколько я ужасно смотрелась, когда Михаил Ашкенази указал на мою руку:
– У вас тут дружок.
Блоха была большой, почти размером с чечевицу. Михаил протянул руку и нажал ногтем большого пальца на мою руку. Кровь, моя кровь брызнула из-под черно-красного панциря на рубашку Мари.
– Прошу прощения, – пробормотал Михаил. – Он оглянулся. – Должно быть, это наша собака.
Я покачала головой:
– Сэр, пожалуйста, не беспокойтесь. Я… это… это от меня. У меня блохи. – Я сглотнула. – Но я не против блох!
– Какая интересная вы девушка.
Я протянула руки и откровенно сказала:
– Я буду отличным сотрудником. Я грамотная. Я сообразительная. Я правда очень нуждаюсь в работе. И еще я очень голодна. У меня совсем не осталось денег. Если вы возьмете меня к себе, я обещаю, что буду самой лучшей.
– Самой лучшей. Ах, – сказал он, кивая и все еще оглядывая меня. – Моя жена купила оладьи. Мы любим оладьи. Так забавно. Ну, что же, юная леди. Присядьте и съешьте немного?
– Конечно. – Мой голос был более нетерпеливым, чем мне бы хотелось.
– Как вас зовут? Я забыл. Простите.
Я колебалась.
– Тедди. Парр. Тедди Парр.
Он посмотрел на меня своими яркими темными глазами, склонив голову на одну сторону.
– Значит, так. Меня зовут Михаил Ашкенази, и мы с радостью примем вас, Тедди Парр. Входите. Идите и познакомьтесь с Мишей.
Он открыл дверь, и, не имея другого выбора, я последовала за ним.
* * *
Спустя много лет после этого, в один дождливый день, проходя мимо окна крошечной эксклюзивной галереи на маленькой улице в Кенсингтоне, я увидела картину, которая висела в гостиной Ашкенази. Дама в черном платье, с ребенком на руках, ее глаза игривые, и ребенок тянется за брошкой на ее груди. Это была Берта Морисо, и даже тогда она стоила 50 000 фунтов. Я остановилась, согнувшись, как будто кулак надавил мне на живот. Я смотрела на эту картину каждый день. Почему она была здесь, где они нашли ее? Я вошла и спросила владельца галереи, знают ли они, кто ее продал, откуда она здесь. Все, что мне сказали, это то, что была продажа недвижимости, и мне дали понять, что я сую нос не в свое дело.
Квартира Ашкенази была полностью забита от пола до потолка предметами искусства и мебелью. Я никогда не была в таком месте и никогда не буду. Продавленные кресла в некогда великолепной сине-золотой шелковой парче, слишком большие для этого скромного дома, обрамленные огромными витиеватыми книжными шкафами, которые были предназначены для хранения больших, толстых атласов с золотым тиснением и редких тарелок с птицами и тому подобного. Стены были покрыты картинами, пейзажами, групповыми сценами в барах, мужчинами и женщинами, танцующими, вихрем мазков, портретами, висящими от пола до потолка – тех, кому не повезло оказаться у подножия стены, часто облизывали собаки. Что-то должно было случиться со всем этим богатством впоследствии. По сей день мне интересно, кто же купил милую мамашу и ее смеющегося ребенка. В какой комнате она теперь висит.
Я смотрела по сторонам, пока Михаил возился с лампой.
– У вас так много прекрасных вещей.
– У нас здесь остатки нашей старой жизни, – сказал мистер Ашкенази, махнув рукой. Кот, спящий на одном из стульев, проснулся и увидел меня, выгнул спину и пулей спрятался за комод. – Это все сокровища наших семей, которые мы забрали с собой. Миша! Миша! – завопил он. – Здесь девушка. Принеси оладьи. И чая.
Миша появилась из того, что я посчитала кухней, с книгой в руке, и сердито посмотрела на меня:
– Это она?
– Да, – сказал Михаил.
Миша поднесла книгу к подбородку и посмотрела на меня, темные глаза оценили меня с головы до ног. Ее ногти были окрашены в багрово-фиолетовый цвет.
– Подойдет.
Затем она резко повернулась и скрылась на кухне.
Это было начало моей жизни с Ашкенази и начало моего лета. Многолюдная гостиная была штаб-квартирой «Афины-Пресс», и где-то среди всего этого беспорядка стояли два стола и маленькое кресло для потенциальных клиентов. Там было две спальни: их большая спальня располагалась с другой стороны коридора, с видом на тихую улицу, заполненная таким же количеством мебели, что и гостиная. Вторая спальня, моя, была спрятана в задней части здания и выходила окнами в сад. Это была длинная, но очень узкая комната только с одной кроватью. В дальнем конце были шаткие мансардные окна, и иногда под кроватью я слышала мышей, прибегающих из сада. Я была деревенской девчонкой, и это, наряду с многочисленными пауками-сенокосцами, снующими у окон, не беспокоило меня. Так же как и другие неудобства квартиры, такие как шум, постоянный запах растительного масла и сигареты «Голд Флейк», которые Михаил и Миша непрерывно курили. Они не ходили через мою комнату в сад и вообще туда не заходили.
Миша и Михаил были русскими, но бежали в Вену во время революции. Они не были большевиками или коммунистами как таковыми. Я никогда не слышала, чтобы они говорили о политике, кроме обычных проблем, которые интересовали нас всех в те дни. Они переехали из Вены в Лондон, который к тому времени стал столицей художественного самовыражения, так как Вена и Берлин были под нацистской оккупацией, а Париж нервно оглядывался через плечо. Вскоре я узнала об их прошлом, о Мише, которая была избалованной дочерью белогвардейского капитана русской армии – она была в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, – и о неопрятном юноше, которого она встретила на катке, в возрасте четырнадцати лет, и мгновенно влюбилась в Михаила, сына первых богемских большевиков. Я узнала о том, как они втайне поженились, и об их жизни в Санкт-Петербурге до революции. Чего я так и не узнала – так это об их жизни после побега из России. Они говорили только о своей родной стране, а не о Вене. В Лондоне они жили уже четыре года.
Для меня, привыкшей к порядку и идеальной тишине, их жизнь казалась безумной. Я приходила каждое утро и находила Михаила, спящего за большим столом, уткнувшись лицом в кучу окурков, рядом с беззвучно поворачивающимся граммофоном, и вокруг него несколько гостей спали на стульях мертвым сном: я никогда не знала, откуда они взялись, но все они были явно свободны от работы, которая требовала появляться где-то рано утром. Большинство из них были очень дружелюбны, хотя и неразборчивы; часто они говорили только по-русски, или по-гречески, или на хинди (меня об этом предупреждали, поскольку я сама не знала этих языков). Я готовила им кофе на плите, а Михаил кричал мне, что в его чашке не хватает сахара. Ночью люди толпились в квартире, пили водку и херес, который Миша очень любила. Один из их друзей, довольно неприятный скульптор и профессиональный пьяница по имени Борис, имел губную гармошку и играл неожиданно красиво – когда бы я ни слышала этот резкий и сладкий звук после, он мгновенно и мучительно напоминал мне о том лете, о счастливой невинности его начала.
Через пару недель мне уже казалось, что я всегда жила там. Что-то было особенное в прекрасной Мише, ее меланхоличном очаровании, смешанном с тотальным прагматизмом, и в харизматичном Михаиле, с его приступами ярости и сумасшедшими планами. Эти планы привлекали любого, и человек, сам того не желая, становился их рабом. По ночам не было посетителей, и я думала, что смогу гулять по Лондону или просто спать, но вскоре стало ясно, что Ашкенази любят компанию. И еду. Им действительно нужен был кто-то для готовки; они по-детски нуждались в человеке, который бы о них заботился. Сначала я стеснялась, но вскоре привыкла к этим совместным вечерам, хотя иногда мне было странно, что они всегда хотели быть окружены людьми, чтобы кто-то их слушал, когда они выступают против Сталина, когда поют старые русские песни из своего детства, которые были очень мрачными, и говорят о книгах, которые они читают, о поэтах, которые им нравятся, пока пьют крепкий джин-мартини или джин с тоником. Они очень любили джин.
Когда погода наладилась, мы все чаще сидели в саду: Ашкенази, пепельница и хрустальные бокалы, наполненные джином, и я, спрятав под себя ноги, осторожно потягивая свой напиток и смеясь над их забавной, страстной, смешной беседой. Они бесконечно спрашивали мое мнение о всяких вещах – о поэтах, романах, музыке – и задавали вопросы (на которые я не отвечала) о моем детстве; они были очарованы теми скудными подробностями, которые я рассказывала им о Кипсейке. Они были без ума от английского общества. Вежливый внешний вид, любопытные привычки. Одержимость чаем. Выражения, используемые в окрестностях города («Следите за своей речью», подслушанное Михаилом в автобусе 38, очаровали их – и я не могла это объяснить) и в метро («Пожалуйста, высаживайтесь здесь»).
– Кто вообще в этой стране использует слово «высаживайтесь», Тедди? – вопрошала Миша, закручивая волосы за плечи и складывая руки, глядя на меня. – Тебе часто говорят «высаживайтесь»?
– Как вы будете сражаться с Гитлером? – говорили они оба. – Вы все слишком вежливые.
Я обнаружила, что мне нравятся «легкие домашние обязанности», так смутно упомянутые в рекламе. Ашкенази с пафосной благодарностью приняли мои услуги: они были удивлены тем, что газовые лампы теперь работают, что всю неделю есть хлеб, что у них чистые простыни. На самом деле, я работала для них скорее как экономка, чем как офисный клерк, но мне это нравилось. Дома у меня никогда не было таких обязанностей. Я знала об урожае и овощах и о каждом дюйме Кипсейка и о его истории. Но я никогда не занималась стиркой. Я не знала простейших вещей, таких как взбивание яиц или как жарить тосты, как переворачивать их лопаткой в нужное время. Я никогда ни на кого так не смотрела, как на Мишу, когда она готовила пельмени, немного улыбаясь, когда месила фарш, иногда весело, по-детски трогая меня за щеку ногтем с кроваво-красным лаком. Я никогда не готовила рисовый пудинг и не хранила молоко и масло в миске с ледяной водой, покрытой влажной тряпкой, выставленной снаружи в самой прохладной части сада, никогда не заправляла свою постель и тем более не имела понятия о галлонах кофе, которые я теперь варила каждый день.
Я не имела возможности думать о том, чтобы устроить дом для себя, и именно Ашкенази случайно, доброжелательно и в основном ненамеренно, научили меня всему. И эта способность вертеться самой осталась со мной до конца жизни. На самом деле, к концу жизни это спасло меня.
Эл был не совсем прав, называя Михаила мошенником. «Афина-Пресс» была основана с целью публикации работ товарищей и диссидентов, которые не могли найти себе другой дом. Короткие рассказы о женщинах, замерзающих до смерти на полях, стихи о погромах, свидетелями которых автор был в детстве, яростные баллады об убийстве Троцкого: в течение нескольких лет все это было запасом «Афины», пока продажи не сократились до такой степени, что Михаилу пришлось искать других авторов. Как я уже сказала, они к тому времени были в выигрыше, и он не видел ничего плохого в том, что авторы ему платили: он был очень прагматичен. Возможно, то, что он делал, было немного неискренним. Старый индийский полковник в отставке отправил свои мемуары о времени, проведенном в Индии, для нашего рассмотрения. Мы читали их, а потом – даже если это была самая глупая проза, какую только можно себе представить, – мы писали автору, излагая условия, на которых мы согласились бы финансировать публикацию книги. Мы покрывали расходы на печать, изготовление и редактирование, и благодарный автор платил нам от десяти до двадцати гиней.
Но мы делали наших авторов счастливыми, я в этом уверена. Вышеупомянутый индийский полковник, отставной железнодорожник с рассказом о переезде в пригород Хампстед-Гарден, увядшая красавица, переживавшая тяжелые времена с ее таинственными псевдонимами для джентльменов, чьими услугами она наслаждалась в своей квартире в Друри-лейн, – все это приветствовалось в «Афине», и фактически все давало нам деньги, либо напрямую от автора, либо потому, что иногда, как ни удивительно, книги раскупались широкой публикой. «Пингвинс» даже попросил прочитать мемуары увядшей красавицы, которыми мы очень восхищались в течение нескольких дней, а это означало, что они могли бы напечатать их в мягкой обложке, но затем они отклонили их на основании «непригодности». Мы все равно были польщены.
Единственная часть моей работы, которая была абсолютно обязательной, заключалась в том, чтобы ежедневно вырезать колонку частных объявлений в «Таймс» и оставлять ее на общем столе, чтобы мои работодатели могли прочитать, что там написано. Та же колонка, за которой я провела долгие часы в Британской библиотеке; в те дни это часто было единственным способом общения, и Ашкенази настаивали на выполнении этой задачи. Даже Миша становилась тревожной, когда я кричала, что колонка на их столе. Они склонялись над столом Михаила, просматривая напечатанное, затем вставали, он шептал: «Все хорошо» – и иногда поглаживал спину своей жены. Затем Миша возвращалась в свою комнату, свободная до конца дня, чтобы написать свои стихи и лечь в постель, разговаривая с двумя кошками, Гарпо и Гаммо.
Они были неподходящей парой, но, несомненно, были преданы друг другу. Он назвал ее Мишки, а она назвала его Жук. Она обхватывала руками его крошечную талию, чтобы он прижался к ее груди, и так они стояли минуту или около того, тихо дыша друг на друга.
Мне очень грустно вспоминать это сейчас. После окончания войны я много раз пыталась выяснить их судьбу. Только в один серый день в 1961 году в книжном магазине на Чаринг-Кросс-роуд я узнала правду. Тогда же я знала только то, что они, как и я, приехали в Лондон, чтобы сбежать, и я уважала их молчание. У всех нас были секреты.
* * *
В течение тех первых двух недель с Ашкенази я очень мало кого видела, и когда я не была занята их компанией, я часами гуляла по Лондону, оглядываясь вокруг, на пустые «Даймлерз» возле домов моды в Мейфэр, где босоногие дети бегали без присмотра в Кларкенуэлле, худощавые женщины выходили из «Савой», море котелков качалось вокруг собора Святого Павла. Я наблюдала за ночным городом, случайными и странными актами насилия или страсти: молодая бледная женщина плюнула в лицо пожилому мужчине в Сохо, который прошипел на нее «вагина» – я никогда раньше не слышала этого слова. Я видела пару, которая страстно целовалась у «Шикиз», в одном из темных дворов театра, – ее руки шарили, поспешно поднимая жесткую шелковую юбку выше пояса, его зубы и язык жадно кусали ее шею, растопырив руку, сжимая синеватую грудь, которая выпала из бюстгальтера, – я стояла и наблюдала за ними в течение нескольких секунд, мучительно кровь мчалась по венам, прежде чем я заставила себя отвернуться.
Но я редко была недовольна. Я чувствовала себя свободной, беззаботной. Я видела Эл несколько раз с момента нашей первой встречи, но ненадолго. Либо один из нас приходил, а другой уходил, либо мы были на улице и было неловко останавливаться и заводить разговор. Однажды я увидела, как Эл спорит с какой-то обиженной девушкой на ступеньках нашего здания, и поспешила войти внутрь, смутившись за них обоих. На девушке была вызывающая голубовато-фиолетовая помада, и она все время говорила: «Алейн».
– Алейн, – она стонала в какой-то сломленной манере, когда я возилась со своей собственной защелкой. – О, Алейн, пожалуйста, не будь таким.
– Слушай, извини… – сказал «Алейн» тихим голосом, и я заметила, что мое сердце сжимается от звука этого тихого, доброго голоса. – Привет, Тедди.
– Привет, Алейн, – сказала я, и в ответ получила легкую загадочную улыбку.
Однажды вечером в середине мая я сидела в гостиной Ашкенази, желая, чтобы они собрались и пошли спать, чтобы я могла заползти обратно в свою комнату и закрыть дверь в сад. Была чудесная теплая ночь, и они с тремя гостями довольно долго сидели в саду. Свечи сгорели до блестящих восковых медальонов, большая пепельница из синего стекла размером с человеческую голову была почти до краев заполнена окурками, а из моей комнаты доносился звук граммофона, который играл симфонию № 2 Рахманинова: Михаил всегда слушал Рахманинова, когда злился. Только что пришла новость о футбольном матче между Англией и Германией накануне вечером в Берлине, где английские игроки исполнили нацистское приветствие. Атмосфера была лихорадочной, в воздухе витали разговоры о предательстве.
Миша и Михаил развлекали одного из своих старых друзей из Санкт-Петербурга, ужасно грустную женщину по имени Катя. На прошлой неделе Катя получила известие о том, что ее мужа Стефана, который, как и Михаил с Мишей, изначально покинул Россию и переехал в Вену, забрали сотрудники полиции, которые не сказали, почему и где он находится. Он был евреем. Среди других гостей были угловатая, добрая скульптор по имени Джинни и ее муж Борис (пьяный русский, игравший на губной гармошке). Борис был резким и хамил, в отличие от других друзей Ашкенази. Его представили Гремальты, которые были известными торговцами произведениями искусства в Париже, а также давними друзьями Ашкенази – и это давало Борису лицензию, которую он иначе не имел бы. В мою первую неделю он схватил меня за грудь, когда проходил мимо моей кровати при выходе, потянулся вниз и, мучительно смяв мою плоть, прошипел:
– Эта вишенка почти созрела, а?
Я оттолкнула его, увернувшись и пробормотав, что ему пора уходить. Тогда я подумала про себя, что быть богемным иногда бывает довольно трудно.
– Дитер говорит, что он сбежал, – говорила Катя. – Он говорит, что квартиру обыскали, что ничего из наших вещей не осталось. Стефан никогда не сбежит, не сказав мне ни слова. Его забрали.
Голос Миши, жесткий и слабый, застрял у меня в голове на несколько дней, потому что я никогда не слышала, как она говорит о доме или о том, почему они сбежали, никогда не слышала, как она говорила о международной ситуации не в общих чертах.
– Михаил. Их уже забирают. Михаил.
И Михаил отвечал уверенным, мягким голосом:
– Еще есть время. Они заняты строительством своей империи. Еще есть время, моя любовь.
Обрывки разговора долетели до меня из сада, когда остальные утешали Катю и обсуждали, что можно сделать. Мне не нравилась мысль о том, что Борис будет проходить мимо меня, когда я буду притворяться, что сплю в своей кровати, поэтому я сидела, свернувшись калачиком в кресле, читая триллер примерно до часа ночи, когда разговор стал громче, и собравшаяся компания, казалось, не показывала никаких признаков движения. Я начала дремать. Я ущипнула себя, чтобы не заснуть, но это было бесполезно. Я начала клевать носом и в конце концов встала, как только дверь в мою комнату распахнулась, и из сада появился Борис с пустым шейкером для коктейлей.
– Ах, – тихо сказал он. Его глаза были стеклянными и смотрели на меня. – Ты прячешься здесь?
Я потерла глаза, когда он подошел ближе.
– Вам что-то нужно?
Я не понимала, почему Ашкенази дружили с Борисом. Мне не нравилось то, как он смотрел на меня, или то, как он размахивал ногами, не обращая внимания на то, что пачкает ноги Джинни, или то, как он вытирал рот рукавом и пил джин залпом. Я села, и он сказал:
– Да, малышка. Маленькая черешенка вот-вот лопнет.
Это было так внезапно, что я не успела среагировать. Он закрыл дверь из моей спальни в сад и, подойдя к креслу, схватил меня за плечи и начал целовать мою шею; я чувствовала его зубы, царапающие кожу, и выскочила из кресла, выкручивая руки, пытаясь стряхнуть его с себя. Но он скрутил меня и толкнул к стене, от чего я вскрикнула.
– Тихо. Стой спокойно, – сказал он и ударил меня головой о стену, так что я почувствовала, как хрустнули кости в шее. – Это не займет много времени. – Его огромные волосатые руки тянули меня за брюки. На самом деле даже не тянули: он дернул так сильно, что кнопка оторвалась, и молния начала расходиться. Вся эта сцена была странной: здесь был человек, который все время был задумчив и молчал, лишь время от времени говорил непристойности, а теперь внезапно стал диким животным. Его сила была удивительной.
– Нет! – закричала я, пытаясь оттолкнуть его. – Оставьте меня в покое! – Я не испугалась, а просто разозлилась. Я не привыкла к такому обращению, и я до сих пор рада, что так отреагировала.
Но он снова толкнул меня к стене и держал меня, одной рукой давя на мою грудь, так сильно, что я не могла дышать, а затем шлепнул меня по лицу, точно так же как раньше делал отец.
– Я должен сделать это.
Я должен сделать это. Он все время пихал меня в ноги, его член давил на меня, и внезапно темп увеличивался, и что-то внутри меня взорвалось. Ярость дала мне бешеную силу. Здесь меня не будут пихать, как мой отец. Здесь меня не загонят в тень, этот человек не сломает меня – нет, нет, не для этого я рискнула всем, оставив позади прежнюю жизнь. Я не позволю. И все же я знала, что он сильнее меня. Я ненавидела его черной ненавистью за то, что он пытался раздавить меня, сделать меня маленькой, и поэтому из последних сил я твердила себе, что должна быть спокойной, думать головой. Я поняла, что не могу с ним спорить. Потому что он уже вошел в раж.
Поэтому я улыбнулась.
– Пожалуйста, позвольте мне помочь, – сказала я и потянулась к его брюкам, и взяла его тяжелую штуковину в руку.
Он освободил меня и убрал руки. Моя грудь была раздавлена его массивной ладонью. Одной рукой я прикоснулась к его брюкам и нервно улыбнулась, и как раз в тот момент, когда он расслабился, я со всей силы дернула его причиндалы и ударила. Он упал назад, крича от боли.
Я оскалила зубы, резко втянув воздух.
– В следующий раз я тебя убью, – прошипела я. – Обещаю тебе. – Между моими стиснутыми зубами прыснула слюна. – Если ты снова дотронешься до меня, я убью тебя.
– Сука! – Он шатнулся в мою сторону, и я снова ударила его ногой, а затем оттолкнула, как могла, с ревущим криком почти первобытного гнева. Я услышала глухой стук, когда он упал на пол, но я не остановилась, чтобы посмотреть. Я перепрыгнула через подлокотник кресла и вышла из двери в прихожую.
Я знала, что делать. Я побежала вверх по лестнице и яростно заколотила в дверь Эл.
* * *
– Простите, – сказала я, тяжело дыша, когда Эл с любопытством посмотрел на меня. – Я не знала, куда мне еще идти.
Он обнял меня и втянул в квартиру.
– Бедняжка. Что случилось?
Я все еще чувствовала на груди отпечаток руки Бориса и посмотрела вниз, ожидая увидеть там какое-то пятно, и с ужасом обнаружила, что моя симпатичная рубашка порвана и ленты развеваются вокруг зеленых эмалевых заклепок. Я так гордилась этой рубашкой с цветочным принтом и маленькими пуговицами. Я купила ее в «Джегере», на Риджент-стрит, на первую зарплату от Ашкенази. Я с тревогой увидела, что на черно-белом цветочном узоре была кровь. Моя или его?
Я закрыла лицо руками. На мне была безрукавка, но она, к сожалению, тоже была порвана, плечевой ремень отвалился. И все же от адреналина я чувствовала почти ликование.
– У вас есть рубашка, которую я могу одолжить? – спросила я. – И выпить?
– Я одолжу тебе рубашку. И я дам тебе выпить, – сказал Эл и сочувственно цокнул языком. – Боже, кто с тобой это сделал? Что случилось с тем парнем?
Я почти истерически хихикнула.
– Я не знаю. – Я поняла, что дрожу. – Я… Похоже, я его убила.
– Подумаем о нем позже. Тебе нужен виски. Иди и сядь. Сначала я принесу тебе что-нибудь надеть.
Эл отвернулся, пока я надевала новую одежду – Эл был стройным и невысоким, поэтому она хорошо сидела. Мягкая хлопковая рубашка была прохладной, успокаивающей мою израненную обнаженную кожу. Я села на старый диван, все еще будучи не в состоянии унять дрожь.
– Не могу перестать трястись, – сказала я. – Извините.
– А теперь принесу тебе выпить. – Эл исчез на кухне. Я подтянула колени к подбородку, обняла себя и посмотрела вокруг. Комната была бледно-зеленой, с большими мансардными окнами, выходящими на небольшой балкон. Стены были украшены дешевыми репродукциями картин, портретов разных людей, в основном Хогарта. Над диваном висела «Девушка с креветками». До сих пор это моя любимая картина.
Я никогда не была счастливее, чем в той комнате. Все последующие годы, когда я просыпалась по утрам и чувствовала, как холодный, жестокий металлический шлем скользит по моей голове, так что я могу видеть только черноту, я пыталась заставить себя подумать об Эл, о его комнате, о паркете бисквитного цвета, об ярко-оранжево-зелено-желтом коврике в стиле омега на полу, о потертом черном диване, об узорах, которые мне понравились, о старом пианино с метрономом. За прошедшие годы я часто не могла заставить себя пойти туда: иногда я даже не могла просто смотреть в ту сторону. Теперь, когда я стара, я могу вспомнить все, каждую деталь, и это приносит мне огромное утешение.
Эл снова появился из кухни, неся на тарелке бутерброд, стакан пива, стакан виски и воды, и сел на кресло напротив меня.
– Сначала выпей виски.
Дымный, медовый вкус обжег и скатился по моему горлу, и я закрыла глаза.
– Восхитительно. – Я пролила немного на пол и поставила стакан. – Извини.
Эл протянул мне бутерброд, и наши пальцы соприкоснулись.
– Съешь это. После шока надо поесть. Там сыр и ветчина.
Хлеб был немного несвежим, а ветчина была нарезана жесткими ломтями, но это была самая вкусная вещь, которую я когда-либо пробовала. Я съела все, голодная, и потом посмотрела на Эл:
– Ох, спасибо.
– На здоровье, Тедди. Ах, ты, бедняжка. – Я засмеялась; позже я узнала, что ист-эндовский акцент Эл появлялся и исчезал во времена стресса. – Ты сегодня ела?
– Да, – сказала я поспешно – не хотела развивать мысль о том, что у меня что-то не так. – Ашкенази обеспечивают меня. Просто…
– Они не защищают тебя от домогательств.
– Ну, вроде того.
Эл изучал свои длинные бледные пальцы.
– Они тебе нравятся?
– О да. Очень нравятся. Знаешь, ты насчет них ошибаешься. Они… У них свои особенности. – Мы улыбнулись друг другу.
– Но они ко мне очень добры. Я не хочу говорить о них плохо.
– Интересно, как долго продлится вся эта ситуация? – сказал Эл. – Выпей еще виски.
Я чувствовала себя намного лучше, виски уже пробудил во мне одурманенное чувство комфорта, и я сделала еще один большой глоток.
– Они все очень мрачные сегодня. Английские футболисты в Германии вчера, ты слышал, они сделали нацистский салют? Даже Стэнли Мэтьюз?
– Да. Но им велели, наше правительство. Нельзя их винить.
– Я не виню их, но… – Я пожала плечами. – Ты прав, я думаю. Я не знаю, почему это меня так задевает. Я тоже хочу мира, и я не против того, как мы его достигаем.
На его худом лице было нейтральное выражение.
– Ты не против того, что он задумал?
– Что, старый мерзавец? Я согласна с мистером Чемберленом, – сказала я, чтение газет в Британской библиотеке и много часов перед радио вселили в меня уверенность. – Он говорит, что судетские немцы хотят быть частью Германии, а не Чехословакии, и я верю ему. Германия так сильно пострадала – а союз был мирным, не так ли? Я думаю, что это все, что хочет Гитлер. Я не говорю, что он приятный человек в качестве соседа, но Сталин тоже, и…
– Ты не слушаешь Ашкенази? – спросил Эл. – Разве ты не видишь, почему они так волнуются? Они приехали из Австрии.
– Я знаю, – сказала я, ошеломленная.
– Ты знаешь, что евреи в Германии уже не могут работать, не могут сидеть на определенных скамейках в определенных парках, не могут принадлежать к клубам, тем более управлять своим бизнесом на предприятиях и зарабатывать на жизнь? – На щеках Эл вспыхнула красная точка – признак страстного негодования, что было одной из явных, возможно, самых характерных черт Эл. – Они хотят уничтожить евреев. Все эти люди в вашей квартире, их убьют. Они уже отправляют евреев в лагеря в Польше. Семьи. Маленькие дети, Тедди. И мы оправдываем Гитлера, потому что боимся войны, столь же жестокой, как и предыдущая. Но эта война совсем другая, и еще хуже: говорю тебе, никто здесь ничего не видит. Я только надеюсь, что в конце концов мы ощутим достаточно сильное потрясение, чтобы заставить себя сесть и понять, что нам нужно подготовиться. В противном случае будет слишком поздно. Наверное, уже поздно.
Виски испарился, и моя голова слегка закружилась, когда я попыталась понять, о чем говорил Эл. Передо мной возник образ Бориса, падающего назад, возможно, его тело теперь истекло кровью на полу Ашкенази, – я это сделала с ним?
– Не думаю, что будет война. Никто не хочет этого.
– К этому идет. – Эл поднял руку. – Держу пари. Какое у тебя самое ценное имущество?
– Брошь моей мамы, – сказала я.
– А у меня обручальное кольцо мамы. Готов поспорить на ее кольцо, что к концу сентября мы будем вовлечены в войну. Если да, мне достанется твоя брошь.
Я засмеялась.
– По рукам.
– А ты, – Эл поднял передо мной стакан с виски, – у тебя будет гораздо больше поводов для беспокойства, чем пьяные атаки сумасшедших.
– Я не понимаю, как может быть хуже, чем сейчас, – сказала я, слегка обидевшись, что нападение Бориса имело так мало веса. – Вот что такое война, а?
Эл пожал плечами и снова выпил.
– Они будут бомбить Лондон. Они могут убить восемьдесять тысяч из нас в первые пару недель. – Лицо Эл пылало красным. – Тедди, дорогая, у них есть ядовитый газ. Ты это знала? Знаешь ли ты, у нас едва живы военно-воздушные силы и измученный военно-морской флот? И мы безвольно шагаем в эту катастрофу, потому что хотим дать этому самовлюбленному человеку преимущество? Говорю тебе, к концу сентября мы будем на военном положении, и это будет не похоже ни на что раньше.
– Надеюсь, ты ошибаешься, – сказала я, стараясь не казаться такой напуганной, какой я себя чувствовала. – Ты из еврейской семьи?
Эл подошел и сел рядом со мной на диван. Я немного повернулась к нему, и мы столкнулись.
– О, в каком-то смысле. Мы из Ист-Энда. Это место стало домом для многих национальностей. Мой отец работал в доках. Разгрузка красного свинца. Как и мой дедушка и прадедушка. Ну, у них и русские, и греческие корни. Говорят, даже немного китайских. – Эл улыбнулся с выражением гордости.
Я подумала о поколениях Парр, разлагающихся в Кипсейке; и этот молодой, живой человек передо мной являл им полную противоположность.
– Он там больше не работает?
Эл пожал плечами:
– Он умер в прошлом году. Несчастный случай.
– Мне жаль.
– Мне тоже жаль. Он был прекрасным человеком.
– Твоя мать все еще там?
– Да. На том же месте. У нас есть квартира у Арнольд Сёкус.
Я не представляла себе это место – я никогда не была к востоку от Лион Корнер Хаус у Ангел, – и Эл сказал:
– Я отвезу тебя туда как-нибудь. Там хорошо взрослеть, если нет денег.
– У тебя есть братья или сестры?
Наступила пауза.
– У меня был брат. Он умер.
– Мне очень жаль, – сказала я. – Как ужасно. Когда он умер?
Я наблюдала, как изменилось красивое, сердцевидное лицо Эл и темные глаза наполнились слезами.
– Я не могу об этом говорить. Я должен сказать и не могу. Может быть, в другой раз. Извини, Тедди.
– Ох. – Я наблюдала за Эл, на автомате расчесывая укус насекомого, мое сердце переполняло чувствами. Мало-помалу я осознавала, насколько плохо я воспитана для таких ситуаций. – Нет, ты извини.
– Все хорошо. Я занял его место в Бетнал Грин Бойз Клаб, они разрешили мне бегать с ними. Мне пришлось тренироваться, чтобы не скучать по нему. – Он пожал плечами; позже я узнала, что Эл, несмотря на весь этот крутой внешний вид, заботился о многих вещах более глубоко, чем кто-либо, кого я встречала. Чужие или близкие друзья, ситуация дома или за границей: в сердце Эл была сострадательная любовь ко всему. – И, живя там, ты как будто целый день находишься в гостях у друзей. Понимаешь, как это?
– Не совсем, нет, – я нервно кашлянула, и Эл с любопытством посмотрел на меня. – Я единственный ребенок. Но моя семья довольно… Гм. Я не очень часто ходила к соседям.
– Ясно. Разве ты не знала своих соседей? Или вы жили за границей?
Я покачала головой, готовая впервые за тот вечер рассмеяться, хотя разговор был серьезным.
– Нет, в деревне. Я объясню как-нибудь в другой раз, если позовешь.
– Женщина-загадка. Как интригующе.
– Не совсем.
Я сменила тему:
– Что ты пишешь?
– Я репортер в «Дейли Скетч». На самом деле, мне только что дали новую должность. Я пишу о природе.
– О природе?
– О сельской местности. Живые изгороди и благородная земля.
– Живые изгороди?
Эл на минуту задумался.
– Живые изгороди? Это правильное слово?
– Да, – сказала я, смеясь.
– Ну, все такое. И сельское хозяйство. Я не деревенский человек. Как ты уже поняла. Если бы на меня напала птица, я бы не смог сказать, как она называется. Но я искренне надеюсь, что не нападет.
– Ты никогда не слышал о Грейлинг, – сказала я, вспоминая.
Эл засмеялся.
– До сих пор не запомню, что это такое. Это ведь бабочка?
Я кивнула, улыбаясь.
– Ну, хоть что-то. Во всяком случае, я боюсь бабочек. Хотя я бы не знал, что делать, если бы ко мне подошла даже обычная корова. Однажды увидел одну из окна, когда мы ездили в Витстабл на целый день и поезд остановился на подъездных путях. Она подошла и лизнула окно. – Эл слегка вздрогнул. – О, мы все так орали. У них такие языки! Вот с твою голову.
– Ты городской житель.
– Да, и горжусь этим. Теперь я должен писать красивые колонки о матери-природе. Это ужасно.
Я подумала о криках новорожденных ягнят, когда вороны в ожидании прыгают вниз и выклевывают глаза. О совах, которые гнездятся в заброшенных конюшнях, рвут на части одного из своих совят, чтобы накормить остальных. О гусеницах, которые поглощают яд из своей пищи и каким-то чудесным образом превращают его во вредные выделения, чтобы отогнать птиц и других конкурентов. Это было похоже на другой мир, здесь, в этой безопасной, теплой квартире.
– Мать-природа не так уж прекрасна, если честно.
– Правда? Не знаю. Старая дева, которая в данный момент пишет колонку, рассказывает о маленьких ягнятах, играющих на зеленых пастбищах, и о нежной трели малиновки.
– Малиновки довольно агрессивны, – сказала я. – Однажды я… – Но я замолчала.
Мне не хотелось вспоминать Кипсейк.
Наступила пауза, и Эл снова заговорил:
– Во всяком случае, это шанс. Я хочу работать в отделе новостей, но боюсь, что это все далеко от меня.
– Правда?
– Многие парни соображают лучше меня. – Темное лицо Эл стало злым. – Вот почему я еще не сплю, понимаешь. Пытаюсь закончить этот проклятый рассказ про коровью петрушку. Я даже не уверен, что это такое. Я хочу сообщать о том, что актуально, что происходит сейчас. Кажется чертовски нелепым писать о чепухе, вроде нарциссов на полях, когда мир движется к краху.
Я хотела сказать, но постеснялась, что цель сражения была, безусловно, в том, чтобы спасти мир, в котором мы хотели жить, в котором были такие вещи, как нарциссы в полях. Вместо этого я рискнула и сказала:
– Я помогу тебе, если хочешь. Я «деревенская девчонка».
– Конечно, да. – Эл широко и обезоруживающе улыбнулся. – Ты знаешь, что такое птицы, что такое полевые цветы и… О, все это?
– Ну, да, – ответила я. – Мы можем помочь друг другу.
– Хорошая идея.
Наши глаза снова встретились, и я почувствовала ту странную, неуклонную боль, когда мы впервые встретились.
– Я рад, что ты пришла сегодня, Тедди.
– Я тоже рада, – сказала я.
– Ты ужасно милая.
Затем внезапно Эл осторожно двинулся вперед и погладил мои волосы, так что костяшки пальцев прижались к моей щеке, а пальцы пробежались по моей голове к шее, и я подпрыгнула и замерла, тяжело дыша, слегка покачиваясь, когда мы смотрели друг на друга, на диване. Я закрыла глаза, удивленная чувством, которое появилось во мне, и когда я открыла их, лицо Эл было передо мной, а потом мы поцеловались – ох, этот первый поцелуй. Это чувство руки на моей шее, этот трепет, как удар…
Я отскочила назад, после нескольких мгновений, сжав руками щеки.
– Что ты делаешь?
Мгновенно Эл сказал:
– Извини. Мне ужасно жаль. Я слегка потерялся.
– Все хорошо.
Мы смотрели друг на друга, грудь поднималась и опускалась от дыхания.
– Правда, Тедди, я не должен был этого делать. Не злись…
– Я не злюсь, – сказала я, видя, что Эл не на шутку встревожен. – На самом деле. Это было… Это было мило. Но это неправильно. Мы не должны.
Я покачала головой, уставшая, смущенная, готовая заплакать.
– Я… Я не…
– У тебя была такая ужасная ночь, не так ли? – тихо сказал Эл, а затем положил руку мне на плечо. – Мне очень жаль. Хочешь пойти вниз? Я пойду с тобой.
Я знала, что все теперь будет хорошо, как я знала, что могу доверять Эл, ведь он не Борис, не такая скотина.
– Это все забыто, правда, – сказала я, поставив бокал на стол. – Но послушай, я не хочу возвращаться туда – не сегодня вечером, я имею в виду. Можно мне остаться здесь?
– Конечно, – сказал Эл, засуетившись от чувства облегчения, положив руку на бледный лоб. – Господи, я рад, что не расстроил тебя. Во всяком случае, я собирался предложить тебе остаться – я буду спать на диване. Ложись в мою кровать.
– Я не могу, – сказала я смущенно. – Ну, правда.
– Я настаиваю.
– Ну, тогда спасибо. Я согласна. Во-первых, не мог бы ты…
– Сходить с тобой и убедиться, что он жив? – Эл встал, поставил стакан на край стола. – Полагаю, нам и правда следует убедиться, что тебя не разыскивают за убийство. Послушай, я правда очень рад, что ты пришла сюда.
– Я тоже, – сказала я.
И мы посмотрели друг на друга, оба немного затаив дыхание, и я увидела, как у Эл поднимается грудь и немного покраснели высокие скулы. И я подумала, выглядела бы я так же, если бы кто-нибудь увидел нас на лестнице. Этот кто-нибудь точно бы представил себе разные неприличные вещи, и я почувствовала стыд и нечто еще. Не могу объяснить всех своих эмоций. Я трусиха.
У паба, где мы с Эл время от времени выпивали, на мощеной улочке напротив старых конюшен хозяин поставил доску, на которой написал мелом:
Не смотри так важно Перси Наффингз На то, что еще не случилось, Зачем беспокоиться о завтра, Живи сейчас.Тем летом я была такой. Пыталась притвориться, что ни о чем не волнуюсь. Эл все еще был убежден, что грядет война, и напоминал мне о нашем пари. «Брошь твоей матери будет моей в октябре. Тебе лучше показать мне ее сейчас, чтобы я смог ее оценить».
Единственным результатом моей встречи с Борисом было то, что Ашкенази, к моему удивлению, были недовольны моим поведением с ним. На самом деле Миша почти рассердилась на меня.
– Ты могла его убить. Он наш друг. Он нужен нам, – все, что она сказала, надменно отворачивая голову, что раньше мне казалось очаровательным.
Я думала, они пытались доказать, что это моя вина. Многие мелкие аспекты лондонского поведения сбивали меня с толку, не в последнюю очередь это: после того как я пережила нападение, я сама фактически свела все к собственной дикости. Я сказала себе, что меня никогда не учили причесываться или подкручивать ресницы, я не был создана, чтобы быть ласковой, милой куколкой. Так что это явно действовало на Бориса, как красная тряпка, и значит, я была виновата.
Я спала в квартире Эл, на диване или в кровати – у нас была очередность. Я продолжала оставаться у Ашкенази, когда знала, что в тот вечер у них не будет компании, хотя боялась, что Борис может появиться или что они будут ругать меня. Я мало что знала – кроме того, я действительно любила их компанию. Я жарила курицу, Михаил смешивал коктейли и рассказывал мне о русских зимах, или о том, как он видел однажды, как приманенный бурый медведь убил человека в Санкт-Петербурге, или о том дне, когда он встретил Мишу, катаясь на коньках по замерзшей Неве. Она включала радио, сканировала эфир на джазовые мелодии или читала нам свое последнее стихотворение, и они спрашивали меня, что я делала с Эл, что мы видели. Они спрашивали меня о доме, о Кипсейке. Они были как сороки, перебирающие все подряд, чтобы найти яркие побрякушки. Но больше всего мы просто болтали, болтали и болтали – с ними всегда было так легко. Иногда Эл спускался вниз и присоединялся к нам, и мы сидели до глубокой ночи, споря обо всем, но обычно в конце ночи я возвращалась к Эл в квартиру. Там я чувствовала себя в безопасности.
Мы больше не видели Бориса до конца лета. После нескольких недель молчания насчет того, что случилось, Миша почти случайно упомянула, что порез на его голове, от того, что он тогда упал, все еще болел и что Джинни, его жена, от него ушла. Я была рада за Джинни, у которой были мягкие серые глаза и сладкий, низкий голос, и вообще она не должна была выходить за такого человека, как он. Я восприняла это как форму примирения и, возможно, даже извинения от Миши, хотя в глубине души я была уверена, что это не так. Миша так и не признала, что она была неправа.
Если я не была с Ашкенази, я шла наверх и ждала Эл, читала или пыталась написать замысловатый роман об истории моих предков, Нины и Карла II, который я начала в припадке творческого энтузиазма и из которого, как я все больше убеждалась, ничего не выйдет. С тех пор как я приехала в Лондон, у меня ничего не получалось, в реальной жизни все было интереснее.
Потом раздавался щелчок в замке и низкий, счастливый голос Эл:
– Тедди? Ты здесь?
Я вскакивала с дивана или кровати, пытаясь не показать, насколько я взволнованна: в Эл было что-то классное, несмотря на все это мальчишеское, восторженное обаяние. Я всегда была собой, но я хотела быть лучшей версией себя в те совместные вечера. Я знала, что Эл любит эклеры с ириской, может съесть целый пакет. Мне нравились мятные конфетки, поэтому мы покупали друг другу бумажные кулечки у старого кондитера за углом. Эл предпочитал кошек, а не собак – кошки были городскими существами, как и Эл. И дети, и семьи, и побережье – каникулы, семья, сладости, все повседневные вещи были для меня захватывающими и дико волнующими, хотя с самого рождения я ни о чем таком не мечтала, спала на дубовой кровати под шелковистым ковром, где меня ждала горничная, в поместье, которое однажды станет моим.
– Я здесь, – отзывалась я.
– Пойдем со мной, Тедди, – говорил Эл. – На Спиталфилдс-Маркет есть женщина, которая продает артефакты Джека-Потрошителя за шиллинг.
Или: «Тедди, возьми свою шляпу. Мы поплывем по Серпантину».
И начиналось лучшее время дня. Мы шли вниз к Смитфилд или к реке или через Блумсбери и мимо Грейс-Инн и Судебных иннов, где были средневековые колледжи, сверкающие зеленые газоны, похожие на Уоррен здания, куда не доносились шум автомобильных тормозов, рев кондуктора автобуса и крики уличных торговцев. Или, если мы чувствовали себя богатыми и ленивыми, мы выходили из квартиры и шли до Доминиона на Тоттенхэм-Корт-роуд и в течение десяти минут рассматривали картину Джесси Мэтьюз или, что еще лучше, Лорел и Харди, они заставляли нас от души посмеяться. Мне нравилось, как легко можно было рассмешить Эл, и его волосы торчали в разные стороны, когда он раскачивался взад-вперед. Иногда мы оставались в квартире и либо читали – мы оба любили преступления: Нгайо Марш, Джозефин Тей и Дороти Сэйерс, – либо слушали радио. Я готовила яйца, Эл смешивал напитки – и все время мы разговаривали.
Постепенно я рассказала Эл все – почти. О Кипсейке, о его истории и о том, что ожидало меня дома, – но не обо всем. Я рассказала о моей замечательной бабушке, о ее любви к земле и бабочкам, но не о наследственном безумии, которое в конце концов досталось ей, как и всем остальным. Это казалось дурным сном, наш дом и его секреты, если смотреть на все это посреди лондонской суеты. Я говорила о самих бабочках, о банках для убийств, об охоте за новыми образцами, о моей красивой, грустной матери и о моей тете, которую мы могли увидеть в любое время здесь, о Джесси и Пен, и об Уильяме Клауснере, за которого я должна была выйти замуж.
И постепенно я узнала больше об Эл. О его отце и о том, как он играл на пианино и что его любимая песня была «Мой старик». О дяде Перси, который жил с ними, у которого были слабые легкие, и он не мог работать, он сидел в своей квартире у Цирка Арнольд, весь день, в горчичниках, курил и слушал радио. О матери Эл, которая работала и работала, единственная женщина в Цирке. Миссис Грейлинг была швеей в одном из величайших домов моды на Довер-стрит. Можно сказать, что она была единственной замужней женщиной в команде, и Эл ужасно гордился ею. Она шила всю их одежду. И самые счастливые воспоминания Эл: каждое лето поезд до Витстабла. Ловля крабов, заправив рубаху в штаны, дядя Перси чистит и нарезает кубиками устриц, как его учила его мать, которая годами работала кухаркой. Все наедались клубникой и устрицами и ночевали в шарабане. Билли, младший брат Эл, однажды попытался съесть ракушку и после его тошнило несколько дней.
Потом, примерно через месяц после нападения Бориса, Эл рассказал мне о Билли. Мы шли через Примроуз-Хилл, после поездки в зоопарк – я в последний раз была там с тетей Гвен, и было странно снова прийти туда, увидеть тех же животных, которые все еще там, безутешно бродят вокруг, глядя из глубоких ям и из-за решеток. Мы видели шимпанзе и бедных, страдающих от жары белых медведей на бетонных холмах. Мы видели хранителя в остроконечной шляпе, который кормил пингвинов рыбой из побитого старого ведра, а пингвины толкались около него, прося добавки, пока он не уходил. Эл, который любил подобную комедию, без конца смеялся, и потом мы ушли и гуляли по холму Примроуз.
– Все в порядке? – спросила я, как только мы оказались наверху, глядя на лондонские шпили, где черный дым извергался со складов к востоку от города, розово-красный закат горел с правой стороны от нас, смазывавая голубое небо над головой.
Ответа не было. Я оглянулась и к своему ужасу увидела слезы, текущие по щекам Эл.
– Эл… Эл, боже, в чем дело? – Я положила руку на его худые плечи, вытерла слезы, сходя с ума. Тот, кто никогда не терял контроля, всегда был счастлив, решителен, полон смелости, теперь дрожал, ссутулив плечи, закрыв лицо руками, задыхаясь, выплевывая слезы.
– Билли… Это Билл. Он любил их. Пингвинов. Это был его день рождения. Мы отвели его сюда, когда…
Мне потребовалось несколько минут, чтобы понять. Я нежно гладила спину Эл целую вечность.
– Тебе не нужно говорить мне.
Я положила его рыдающую голову себе на плечо и замолчала, поглаживая гладкие черные волосы, пока Эл не сел, вытирая остатки слез, и шумно высморкался в мой предложенный платок.
– У тебя всегда есть платок, Тедди, это одна из тех вещей, которые я люблю в тебе.
– Я рада. Мне очень жаль, что ты расстроен.
Эл положил свою руку на мою.
– Нет. Прости. Я правда не думал об этом заранее. Я просто хотел, чтобы ты снова побывала в зоопарке.
– Я? – Я была поражена.
– Ну, ты говорила, что была там со своей тетей, и это было ужасно, потому что она ненавидит запахи, а твоя мать теряла сознание.
– Да… – Я встряхнулась.
Только во время моей последней поездки с ней в Лондон, когда она ездила на прием к врачам, я поняла, что с мамой не все в порядке. Она рухнула на грязную землю у вольера для белого медведя, и я пыталась сообразить, оставить ли ее так, на земле, как комок одежды. В конце концов мне пришлось бежать за хранителем, а потом она схватила меня за руку так сильно, что она заболела, а потом сделала вид, что все хорошо, что она просто споткнулась. Я поверила ей или решила, что поверила.
Конечно, Эл было свойственно вспоминать это, пытаться все исправить.
– Это так мило с твоей стороны, но не надо было – я бы не пошла, если бы знала, что это тебя расстроит.
Эл горячо ответил:
– Нет, нет. Я вроде сделал вид, что не думаю об этом, а потом понял, что не могу выкинуть эти мысли из головы, но было уже поздно. Видишь ли, он очень любил зоопарк.
У самого его носа появилось розовое пятно.
– Он был счастливчиком, жил близко к нему, – сказала я, не зная, что сказать.
– О да. Это был его день рождения, и по этому поводу мы водили его туда. Каждый год. Ему было всего шесть лет, когда это случилось, понимаешь, до этого все было в порядке. Он кормил пингвинов, тот хранитель, которого мы видели, он узнал бы его.
«Это мой друг, – говорил он. – Есть один хороший парень, который всегда приходит сюда в свой день рождения!»
– И Билли хлопал в ладоши, он был таким счастливым маленьким дурачком! – Глаза Эл наполнились слезами при воспоминании о нем. – Он был хорошим человеком, этот хранитель. Я хотел… Он разрешал ему брать ведро и кормить их. Как-то раз один из пингвинов почти откусил ему палец. Мама была вне себя. Сказала, что мы больше туда не пойдем, но Билл плакал и плакал… Он не ел два дня. Интересно, поэтому все так вышло? Я всегда думал об этом.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, потом он заболел, и, возможно, если бы он ел как следует… – Эл глубоко вздохнул. – Это случилось так быстро. Утром он был в порядке, бегал, а потом…
– О, Эл. Что… Что случилось? – тихо спросила я.
Лицо Эл скривилось.
– Корь. Он… Он все говорил, что чувствует себя нехорошо. Потом у него поднялась температура. Мы думали, что он просто притворяется, как обычно. Мама сказала, что он может спать на кровати дяди Перси на всякий случай, но…
– Почему не у себя в кровати? – спросила я.
Эл посмотрел на меня:
– У нас не было кроватей, Тедди. Мы с ним спали на матрасе на полу. Во всяком случае, он пару дней так мучился. Я купил ему игрушку из Бойз Клаба, это был машинист поезда. Он был очень рад. В тот вечер он посмотрел на него и не смог говорить. Он как будто не мог выдавить из себя слова. Он потерял сознание. Его кудри – у него были такие коричневые кудри – были мокрые от пота, разметались по лбу. Мы послали Джона за доктором. Но он так и не пришел. Он не пришел. Я держал его, когда он умер. В своих руках.
Эл до белизны сжал губы.
– Я гладил его по волосам. Он был весь мокрый.
– Они не приняли игрушку обратно, в Бойз Клаб. Сказали, что я должен сохранить ее для Билли. Мы похоронили его вместе с ней. Гроб, Тедди, он был такой маленький. Просто вот такой ширины. В яму, которую они вырыли, я едва мог бы поместиться. А я хотел.
Я покачала головой, слезы падали на траву.
– Это убило моего отца. Он этого не вынес. Мой бедный папа. Знаешь, в день похорон он все время кланялся, я ясно это помню, и я не понимал почему, пока не осознал уже потом, что так он старался не плакать. Он нес гроб к катафалку. Он один, этот маленький гроб. Мы не могли позволить себе похороны. Но мы должны были проститься с ним как следует. Каждый человек на Цирк Арнольд, все они вышли его провожать. Выстроились по всей улице, полная тишина, вот как это было. Нам приносили еду, люди в течение нескольких месяцев отдавали нам вещи. А никто другой со стороны не заботился, никто не пришел, чтобы спросить, почему маленький ребенок должен был умереть вот так. Мы сами заботились о себе. Вот как бывает, когда у тебя ничего нет. – Эл пожал плечами. – И это то, что меня бесит. Я все еще злюсь.
Мы молчали. Я обняла Эл, поцеловала шелковистые черные волосы.
– Мне очень жаль, – сказала я. – Хотела бы я знать, что сказать. – Я подумала о маме, о ее предсмертной агонии, о ее облегчении, когда она поняла, что конец близок. – Ты был последним, кого он знал, Эл, он умер, зная, что ты его любишь. Возможно, если бы пришел доктор, его бы забрали, он бы был в палате без тебя… ты был с ним. – Я пожала плечами. – Не знаю. Я была рада, что была с мамой, когда она умерла.
– Я этого не знал.
– Да.
– Она была в сознании? Ты смогла поговорить с ней?
– Да. И она была рада уйти. Она была рада, что мне не пришлось… – Я запнулась. – Она была рада, что больше не страдает.
Мы сидели там, пока розовый закат наводнял горизонт. Я опустила руку и взяла пальцы Эл в свои.
– Я рад, что рассказал тебе, – сказал Эл, моргая и глядя на город. – Я чувствовал, что это неправильно, что ты не знаешь.
Ужасная ирония заключалась в том, что, как я узнала позже, эта трагедия помогла Эл в конечном итоге. Репортер, писавший о бедности в Ист-Энде, написал об этих трагических маленьких похоронах в «Пикче Пост», где была напечатана фотография молодого Эл, в то самое воскресенье, идущего за гробом Билли. Репортер Томас Фишер поддерживал связь с Эл, и однажды опубликовал историю об этом светлом существе с широко раскрытыми глазами и в конце концов стал своего рода наставником, когда пришло время платить за курс в Принтерз Колледж. Когда он внезапно умер, два года назад, Эл был признан наследником его имения. Наследство было довольно скромное, но все же за пределами мечтаний большинства; и еще была квартира. Квартира в Блумсбери. Достаточно денег, чтобы заплатить за доктора для дяди Эл. Мать Эл сказала, что не может оставить работу. Что бы она без нее делала? Сидела бы дома с Перси, скучала по детям?
Я так и не увидела маму и дядю Эл: одно из многих сожалений, которые преследуют меня в эти бесконечные последние дни. Должно быть, они были хорошими людьми, потому что Эл был таким. Лишь Эл смог показать мне тем летом, что я могу быть лучше. Больше не надо использовать банки для убийств, и охотиться, и лукавить. Меня никогда не учили состраданию. Я была холодным, любопытным ребенком. Я была так воспитана.
Мы поднялись, руки замерзли от вечерней прохлады, и направились обратно к подножию холма.
– Может, пойдем в Ковент-Гарден, закажем рыбу с жареным картофелем в «Рок и Сол-Плейс»? – сказал Эл. – Будем есть, как пингвины.
– Это хорошая идея, – сказала я. Я повернулась и оглянулась на парк, на тяжелые деревья, зелено-черные силуэты, очерченные на фоне розово-голубого неба. Я могла расслышать птиц в зоопарке, поющих свою вечернюю песню. Мне показалось, что я услышала козодоя, и мое сердце запело, головокружительно, на мгновение и так сильно, что я остановилась. Тоска по дому – по чистому небу и сладкому соленому воздуху, по ощущению свободы и мягкой земли под ногами – ударила меня.
– Тедди, – сказал Эл, врываясь в мои мысли. – Могу я тебя кое о чем спросить?
– Да, – ответила я, поспешно отгоняя картинки в голове и чувство тоски по дому. Мы свернули к рядам магазинов.
– В такую ночь, когда город так прекрасен, и все – о, только посмотри!
Я спросила, и мое сердце билось в груди:
– Что ты имеешь в виду?
– Я просто иногда думаю, что однажды ты уйдешь. – Руки Эл были сложены, глаза смотрели на почтовый ящик в нескольких ярдах впереди. – Вернешься в Кипсейк. Ты, наверное, скучаешь.
Иногда я чувствовала, как будто Эл входил и выходил из моего сознания, словно через открытую дверь квартиры.
– Ты хочешь знать, останусь ли в Лондоне?
– Да, в Лондоне, именно это. Я совсем не уверен, ведь ты так нерешительна в отношении своего будущего, и я не знаю, где ты видишь себя через год.
– Я… – От удивления я растерялась. – Ой. Ну, приближается война… Я хочу остаться, конечно. Тебе нужно, чтобы я нашла другое место для ночевок? – сказала я, и на мгновение наступила напряженная тишина, и постукивание нашей обуви отзывалось эхом тап-тап-тап на темнеющей улице.
– Нет, нет, – наконец сказал Эл. – Мне просто интересно. Я думаю, ты должна остаться, жить у меня, если хочешь. Или где-то еще, если тебе не нравится у меня. Подумай, как было бы здорово, если бы ты осталась.
Остаться в Лондоне, быть с Эл, видеть Ашкенази каждый день – концерты, фильмы, смех, споры, разговоры – пульсирующая, захватывающая жизнь в центре города, как петля опасности сжимающаяся вокруг нас. Я выбросила Кипсейк из головы.
– Да, – сказала я, шагая дальше, чтобы Эл не увидел, как краснота расползается по моей груди и по шее, этот страх, который надо сдержать. – Возможно, мне следует остаться.
* * *
Одним милым ранним летним вечером в июне, примерно через неделю, мы с Ашкенази выходили из Куин-Холл, стояли на Лэнгхем-Плейс, размышляя, следует ли сесть на автобус или пойти пешком до Гендель-стрит. Мы смотрели, как Джелли Д’Араньи играла на скрипке Чайковского, и они были в восторге. Михаил изучал скрипку в детстве, а Миша «знала кое-что» о музыке. Она говорила, что это «потому что она – русская».
Мы остановились на людной улице, когда Михаил закурил сигарету.
– Что ж, возможно, она была недостаточно динамична, – сказала Миша, активно двигая локтями.
– Что? – Михаил нахмурился. – Это неправда. Миша, ты ничего не знаешь. Ее исполнение было идеально. Прекрасно.
– Она должна была вот так потянуть вниз на последнем движении. Это аллегро инергико. Энергично! – Миша резко дернула локтем вниз и пропела: – Дух, дух, дом дух, дух, там дам! – Ее глаза сияли. – Ах, но это прекрасное музыкальное произведение, не так ли? – Она провела рукой по спине мужа; он потянул ее к себе и дал мне другую руку. Люди смотрели на нас, как они часто смотрели на Ашкенази. Они были потрясающе экзотичной парой, и не только потому, что были очевидно русскими. В них было что-то, что говорило: нам все равно, что вы думаете.
– О, но мне понравилось, – сказала я. – Я так рада, что услышала ее, она была…
И затем я застыла. На другой стороне Риджент-стрит стояла моя тетя Гвен, в безупречных кружевах и длинной юбке, застегнутых на все пуговицы перчатках и с зонтиком, застывшая на месте, словно кукла Викторианской эпохи.
– В чем дело? – с любопытством сказал Михаил. – Тедди, дорогая, о чем ты задумалась?
Тогда я поняла, насколько серьезным было то, что я сделала, потому что тетя Гвен, которая никогда не повышала голос наедине с человеком, не говоря уже об оживленной улице, ужасно громко закричала мне через улицу:
– Теодора! А ну иди сюда! Теодора! Иди сюда! – Она выглядела все так же, за исключением того, что ее волосы теперь были почти совсем седыми.
Я стояла совершенно неподвижно, рассматривая ее лицо.
– Тедди, зачем эта женщина тебя зовет? – спросила Миша, остановившись и с интересом глядя на нее.
– Ничего особенного, – сказала я, но продолжала смотреть на нее, на выражение ее огромных темных глаз. Она была так похожа на мою маму.
– Теодора! Пожалуйста! – Я услышала в ее голосе то слабое нетерпение, этот тон команды, и напряглась от страха. – Ты должна вернуться, разве ты не понимаешь? Ты делаешь все только хуже для себя. Не отворачивайся от меня. Иди же сюда! Теодора!
– Мы должны поторопиться, автобус подходит, – позвала я остальных, когда новая толпа прохожих прошла мимо.
Миша уставилась на меня:
– Но она зовет тебя, Тедди! Она называет тебя Теодора.
– Я не хочу с ней разговаривать, – сказала я деревянным голосом и отвернулась.
– Пойдем, – сказал Михаил, сжимаясь в своем большом черном плаще: Михаил никогда не хотел вмешиваться в дела других.
– Да, поехали. – Я схватила его под руку, и Миша пожала плечами. Мы быстро повернули к Оксфорд Сёкус и потерялись в горячем бурлящем море людей, и я не осмелилась оглянуться назад, чтобы не увидеть ее, не увидеть, насколько она похожа на маму.
Мы молчали в автобусе по дороге домой. Когда мы вернулись на Гендель-стрит, мы встали у входа в квартиру.
Миша с ключами в руке сказала:
– Я должна спросить, Тедди. Ты не… Тебя не разыскивает полиция?
Я чуть не рассмеялась с облегчением.
– Нет, нет, поверьте. Я сбежала из дома. Я была там несчастлива. Это была моя… моя тетя.
Как волна, ударившая меня, я была охвачена горем, тоской по маме. Внезапно ее лицо, худое, напряженное и красивое, появилось передо мной, умоляя меня уйти: это было все, что я могла сделать, чтобы отогнать это изображение. Я сглотнула, отчаянно желая вернуться в Кипсейк, как в тот вечер в зоопарке, какая-то первобытная сила, что-то, что я не могла контролировать. И тогда мне стало страшно. Но, ох – ощущать сладкий вечерний воздух, тяжелый от жимолости, в саду, наблюдать за ласточками и стрижами, танцующими и парящими над головой. Быть одной, а не здесь, растерянной, горячей, окруженной со всех сторон – спрятаться.
– Не думаю, что моя семья меня ищет. – Я склонила голову, чувствуя себя жалкой. – Но я не… Я не хочу возвращаться.
Они поняли меня, хотя я сама не была уверена, что это правда. Михаил положил руку мне на руку.
– Ах. Мы все сбежали. Мы больше не будем задавать тебе вопросы.
– Только еще один, – сказала Миша, глядя на него. – Еще один. Кто такая Мэтти?
Я начала говорить.
– Мэтти? При чем тут Мэтти?
– Я слышала, как ты называешь это имя.
– Когда?
– Во сне, Тедди. Когда ты спишь здесь, я слышу тебя. Ты говоришь во сне, тебе никто не говорил об этом?
– Нет… – ответила я. Кто бы меня услышал? Я спала одна в своей маленькой квадратной комнате со стенами толщиной в три фута в конце лестницы, с самого детства. – Мэтти была моим другом. Еще в Корнуолле.
– Корнуолле?
– Да. – Мне не хотелось больше рассказывать им о том, как я мечтала о Мэтти по ночам, как она приходила ко мне, насмехаясь, шепча мне на ухо правду, которую она знала обо мне, мои самые глубокие, самые постыдные страхи, которые она знала, что я была ненормальной, испорченной. – Если это все…
– Да, да, – Михаил отмахнулся от меня, но Миша продолжала смотреть, и мне не нравилось выражение ее мягкого белого лица. – Поднимайся наверх к своему молодому красавцу. И приходи завтра пораньше. Типография забирает страницы в полдень.
– Конечно.
– Не «конечно», – сказал он, подталкивая меня к лестнице. – Каждое утро ты приходишь все позже и позже. Надеюсь, что бы вы там ни делали, оно того стоит.
* * *
– Так кто такая Мэтти? – спросил Эл после того, как я пересказала ему события вечера.
Я сделала глубокий вдох.
– Она была моим лучшим другом. Моим единственным другом там. Она помогла мне сбежать.
Уже вечером – с его барабанящей, сказочной музыкой, огромным резным залом – образ тети Гвен показался как из другого мира, по сравнению с блаженством реальности, когда я снова сидела в кресле Эл, пристально глядя наружу из мансардных окон, слушала граммофон.
– Ты и этот ваш таинственный дом. Как из сказки. – Эл откинулся на диване и закурил еще одну сигарету.
– Подожди, пока сам не увидишь, – сказала я, не задумываясь.
– Я? О нет, госпожа. Я слишком ничтожен, чтобы пересекать стены такого места, госпожа, – сказал Эл с ужасным акцентом. – Я просто бедный ребенок из трущоб, а вы настоящая леди и все такое.
– Это не так. Я бы очень хотела, чтобы ты поехал со мной. Но до него далеко, – сказала я. Я говорила слабо.
Эл встал на колени, глаза сверкали.
– Тедди, я верю, что ты сноб. Самый большой из всех.
– Это неправда. Просто… Ну, мы не можем поехать туда, а то отец узнает, что я здесь.
– Я думал, что дом твой? – Тон Эл был немного сдержан.
– Да, но…
– Но ты не хочешь появляться с кокни, который не знает, как пользоваться ложкой для супа. Я понимаю. – Эл взял газету и потянул спину.
– Ты используешь суповую ложку, чтобы есть суп. Не пытайся казаться дремучим. Кроме того, мы никогда не ходим в Цирк Арнольд, а до него можно доехать на автобусе, – резко сказала я.
– Я не хочу идти, Тедди. Просто чтобы ты поняла. Я не собирался напрашиваться в гости в вашу конюшню.
– Усадьбу, – сказала я. – Конь – это лошадь…
Эл посмотрел на меня и сердито сказал:
– Ты иногда такая… о, такая Теддиш. Кого вообще это волнует? Ты отлично понимаешь, что я имею в виду.
Я встала, подошла, осторожно отодвинув газету, и села на диван.
– Понимаю. Не сердись на меня. Я этого не вынесу. Ты последний человек в мире, которому я хотела бы сделать больно.
– Ты такой ребенок, – сказал Эл. – Тедди, я не думаю, что ты вообще что-то знаешь.
– Что ты имеешь в виду?
Голос Эл был хриплым.
– О ничего. Ты не понимаешь.
Но я поняла.
– Я поцеловала Мэтти, – тихо сказала я. – В ту ночь, когда сбежала. Мы поцеловались. Я раньше никого не целовала.
– О, – Эл поднял голову, настороженный, внимательный.
– Я хотела тебе рассказать. На случай, если ты поймешь… – Сердце колотилось у меня под горлом, сбивало речь, прыгало, когда я пыталась найти в себе смелость сказать то, что я хотела. Я посмотрел на Эл в нескольких дюймах от себя. Хотела бы я знать правила. – На случай, если тебе это противно. От… от меня. Если мы хотим жить вместе. – Я видела, что Эл тоже испугался, и это ободрило меня.
– Нет. Мне не противно. Я рад, что ты мне сказала.
Мы никогда не говорили о наших отношениях. Я понимала почему. Мы оба знали, что нужно подождать, пока наступит день, когда все изменится, и вдруг я поняла, что этот день наступил. Он был сейчас.
Мимолетно я задалась вопросом, разрушу ли я все, если сделаю следующий шаг, но я не могла остановиться. Я не нервничала, и Эл не нервничал. Каждая часть нас принадлежала друг другу. Мы уже хорошо знали друг друга. Я положила руку в пространство между нашими ногами, затем наклонилась вперед и поцеловала Эл. Я должна была сделать первый шаг. Мое сердце билось в горле, кровь стучала в ушах.
– Не сердись на меня. Не грусти. Я не смогла бы вынести, если бы огорчила тебя, – сказала я и наклонилась, и мы снова поцеловались.
Я переместила вес своего тела, изогнувшись так, что мы оказались лицом к лицу, и нежно взяла руками лицо Эл. Это милое знакомое лицо. Кремовые бледные щеки были холодными от острого вечернего воздуха.
До того, как мы поцеловались, я боялась, и мне было стыдно. Я чувствовала, как будто я делала что-то неправильно.
Но я знала, что должна это сделать. Знала, что должна сдаться. И, кроме того – о, Эл, ты знаешь, что я хотела поцеловать тебя. Я так сильно хотела, мой дорогой.
Сначала мы оставались совершенно неподвижны, потом я закрыла глаза. Мне хотелось быть спокойной, наслаждаться моментом, а потом – это было чудесно – медленно, неуклонно язык Эл проник в мой рот, и при этом мое тело подпрыгнуло от желания, которое я чувствую и теперь, сидя за столом и вспоминая все этим июньским вечером с поразительной ясностью. Язык Эл был настойчивым и горячим во рту, теплые, крепкие руки лежали на моей талии, и я опустилась на колени так, что села, отталкивая Эл назад. Занавески развевались на ветру; вместе мы расстегнули рубашки, расстегивая пуговицы одну за другой, все время молча. Мы целовались и прикасались друг к другу в течение нескольких часов. Возможно, это было так: я потеряла голову, не замечая ничего, что происходило вокруг, не заботясь о времени, только о настоящем.
Это все должно было случиться. Другого мы и не ожидали.
Мои груди с голубыми прожилками и крошечными коричневыми сосками. Наши тела, я помню, как отличалась наша кожа. Эл – белый с оттенком розового, а я загорелая, как легкая карамель. Оба молодые, упругие – ах, молодость. Гладкая, прохладная, сладкая мякоть. Я соприкоснулась с этим твердым молодым телом, когда мягкие, нежные руки приблизились к моей груди, теплый рот поцеловал соски, облизывая кончики и улыбаясь, стонал, как будто они были вкусными, и мы оба громко дышали, в одном ритме, как ветер, вздыхающий на деревьях снаружи.
Я плачу, когда пишу это. Я прекрасно помню его прикосновения. Грубый черный шерстяной коврик на моих голенях, мои пятки впиваются в меня, восхитительное ощущение воздуха на обнаженной груди, моя расстегнутая блузка мягко развевается на бедрах.
– Ты… ты… все в порядке, да? – сказал Эл, когда мы слились.
И я улыбнулась.
– Да, дорогой. Все в порядке.
– Ты как бабочка, – сказал Эл, дыша над моей кожей. – Моя прекрасная бабочка.
Мы смотрели друг на друга: я дрожала. Я сглотнула, пытаясь заглушить голоса, которые кричали в моей голове, что мы делаем все неправильно. Эл все понял иначе.
– Не бойся. Все хорошо. Все замечательно, – сказал Эл, с такой добротой и любовью, что я была уничтожена. Я не могла больше сопротивляться и в этот момент перестала слушать голоса.
– Я не знаю, что делать дальше, – сказала я, беспомощно качая головой. И Эл снова поцеловал меня, взял мою голову в свои теплые, стройные руки, а затем остановился.
– Я должен сделать это сейчас, – сказал Эл, и я задрожала и почувствовала твердость внутри себя, кольцо мышц в моем влажном, крошечном, скользком входе, дрожь, крепче сжимая Эл вокруг себя, и когда мы продолжали касаться и гладить друг друга, я закрыла глаза, позволяя гудящим вопросам, которые звучали во мне весь день, замолчать, и я вдохнула и расслабилась, и почувствовала, что это вот-вот случится. Я знала, что наконец это испытаю. Я закричала, испугавшись своей силы, а потом закричала снова – от удовольствия.
Мы лежали на диване, я лежала сверху, и мы обнимали друг друга. Я убрала волосы у Эл со лба, покрытого потом.
– Ты… ты делал это раньше? – с любопытством спросила я.
– Не совсем, – сказал Эл. – Это всегда было грубо или не так, как я хотел. Я кончил, а ты?
– Я не знаю, что это… – начала я и остановилась, когда Эл тихо рассмеялся. – О да. Я тоже.
На мне все еще была рубашка – на Эл тоже. Мы сняли всю нашу одежду, затем снова легли вместе на диване, обнаженные, наша плоть соприкасалась, влажная, теплая и пульсирующая, наши сердца бились, наши пальцы переплелись.
Была почти середина лета, и еще не совсем темно над городом. Я слышала чьи-то голоса снаружи. Высоко на верхнем этаже этого красивого здания из красного кирпича – теперь это не что иное, как воспоминания, призраки, пепел и щебень – мы лежали вместе. Мы остались там до утра, повторяя все снова и снова.
* * *
В следующие недели мы были так счастливы. Мы просыпались и занимались любовью, пили кофе и ели тосты, читали друг другу вслух одни и те же старые триллеры, стихи, а иногда даже книгу о бабочках или птицах, потому что мне очень хотелось рассказать Эл побольше о сельской местности.
Великой красотой Эл была честность, открытость, которая была между нами. Мы не ссорились из-за никчемной ревности, которая мучила другие пары, которых я видела в городе. Я знала, что Эл более опытен, чем я, и меня это радовало. Мне нравилось смотреть, как Эл спит, свернувшись клубочком, как ежик, отвернувшись от меня, сопя и подергиваясь, и веселая уверенность дня сменялась милой, мальчишеской уязвимостью. Теперь, когда мы спали вместе каждую ночь, а не были разделены стеной, Эл жаловался, что, как и сказала Миша, я разговариваю во сне. Но, к счастью, кажется, теперь я больше не говорила о Мэтти. Вместо этого я просыпалась и обнаруживала, что Эл держит меня за руку:
– Тедди. Хватит говорить о бабочках.
Я не говорила ему, что они снились мне каждую ночь, что я просыпалась в полуосвещенной спальне от звука экипажа или какого-нибудь другого городского шума, и на какую-то долю секунды мне казалось, что я дома. А потом я понимала, что нахожусь в Лондоне, и меня охватывала паника. Я не говорила ему, как, оставаясь одна, я думала о том, что мы делаем, и как это неправильно, что я думаю об отце и что он, возможно, убьет меня, если узнает. Я не сказала, что скучаю по Кипсейку и с каждым днем думаю о нем все больше. Не было смысла говорить это никому, даже Эл.
* * *
Первым предвестником было объявление в «Таймс». Тогда на горизонте промелькнуло лишь маленькое облачко, которое стало началом конца. И именно тогда Эл вручил мне свой первый подарок. В конце июня мы лежали голые на ковре. Была жаркая, тяжелая ночь. Ни ветерка. Я уже снова хотела Эл, но он был где-то в своих мыслях, и я научилась сдерживать свое желание, хотя это давалось мне с трудом. Секс управлял мной, часто он был всем, о чем я могла думать, сидя в горячей, душной гостиной Миши и Михаила, молясь, чтобы ветерок прошелся по моей коже, слегка пробежав по жесткому кожаному стулу, чтобы почувствовать, как укол желания скользит внутри меня, и я смотрела вверх, тяжело дыша, надеясь, что они не заметили. Мне казалось, что все видели: я расцвела, грубая от желания, от того, что всю ночь испытывала оргазмы, думала об Эл целыми днями. Иногда, однако, я встречала на улице парочку, девушку, обнимающую за плечи молодого человека, и останавливалась, удивляясь, почему для них все так просто, а для меня нет. Почему я была создана такой, с этим пороком. Как странно, что я могла любить Эл и знать, что то, что мы делали, было злом.
Иногда я замечала, что Миша наблюдает за мной. В тот день с ней снова было немного трудно общаться: к концу лета она казалась все более и более на грани срыва. Сегодня я не успела принести «Таймс» вовремя, и она практически вырвала колонку личных объявлений из моих рук.
– Нет, ничего. Ничего, – проговорила она, пристально глядя на колонку в течение нескольких секунд, а потом уронила ее на толстый ковер. – Почему ты заставляешь меня ждать, Тедди? Что с тобой? – Потом она ушла к себе в спальню, чтобы провести там большую часть дня – в последнее время она почти не работала, просто сидела в постели, не читала, не ела, окруженная пепельницами и кошками.
– Скажи, что ты знаешь об Ашкенази? – спросила я Эл, приподнимаясь на ковре. – Я имею в виду, откуда они взялись.
– Они родом из Советского Союза. Они переехали в Вену.
– Это я знаю. Почему они уехали из Вены?
– Потому что они хотели здесь заработать. Они видели, как идут дела у евреев, и были правы. Их дети живут в Вене с сестрой Миши.
Я села.
– У них есть дети?
– Думаю, двое.
– У Михаила и Миши? Ты уверен?
– Да. Как-то раз, сразу после их приезда, я получил их почту. Письмо было адресовано «маме и папе». Написано детским почерком. Ужасный почерк, на самом деле, но, возможно, они привыкли писать кириллицей. Я подсунул его под дверь, но никогда не спрашивал о нем.
– А почему нет?
– Ты же их знаешь. Как-то не хотелось. – Я кивнула.
Если бы мы только знали. Если бы мы только спросили.
– Я как-то разговаривал об этом с Джинни, когда ходил к ним пить, когда все было немного веселее. Джинни кое-что о них говорила. – Нос Эл сморщился. – Да, конечно, хотя было уже поздно, всю водку выпили, так что можешь себе представить. За ними присматривает сестра Миши. Она в Вене. Катя?
– Катю мы встречали. Она была здесь – ее мужа забрали нацисты. Я думаю, что ты что-то путаешь. Она не сестра Миши.
– О. Как странно. Слушай, ты хочешь есть?
Я потянула Эл за руку.
– Подожди минутку. Они сказали, что у них не было детей, когда я поступила к ним на работу. Что это невозможно. Они сказали, что уехали, потому что их преследовали за создание диссидентского журнала.
– Ну, какая разница.
– Нет, – ответила я и сама удивилась, как смутилась при мысли, что они могли мне солгать. – Это совершенно разные вещи. Просто иногда я думаю, что с ними…
– Что? – Эл дотронулся пальцем до моего подбородка. Я оглянулась на его темные глаза с веселыми дикими искорками, на черные коротко остриженные волосы, спадавшие на гладкий лоб, на широкие скулы, на лицо в форме сердца, на маленькую родинку на шее, чуть выше ключицы. Вот что ты делаешь, когда пьян от любви. Стараешься запомнить каждый дюйм этого человека.
Я поймала Эл за палец и медленно прикусила его, пробуя на вкус.
– Я их не знаю. Они мне так нравятся, но знаешь, что странно?
– Что? – Теперь Эл меня слушал.
– Мы никогда не говорим ни о чем серьезном. Мы болтаем о всяких глупостях. О платьях, музыке, книгах и… О писателях и их странных книгах. Михаил читает стихи, и мы много пьем. Но я не знаю, что они задумали. Я чувствую себя так, будто могу спуститься однажды утром и они улетят вместе с ветром.
– Думаю, надо признать, что они немного чудаковаты. Но я не сомневаюсь, что им пришлось спасаться бегством из России.
– Согласна. – Я закусила губу. – Но взгляни на это, – сказала я, наклоняясь за своей книгой. Я достала сложенный листок бумаги. – Это было в колонке «Таймс» несколько дней назад. Они с Михаилом уставились на это, а потом просто уронили на пол. Я подняла, а потом… – Я откашлялась. Странно было читать это вслух. – «M&M: будьте готовы. Друг готов исполнить наше желание. Ждите новостей от нас или от Друбецкого». – Я почти обрадовалась, когда Эл не отреагировал. Может быть, я просто себя накрутила и это все пустяки.
– Кто такой Друбецкой?
– Думаю, это Борис, – сказала я, чувствуя себя неловко.
– Жадный Борис? Чёрт возьми.
– Борис Друбецкой. Это персонаж из «Войны и мира».
Эл изумленно уставился на меня.
– Моя гувернантка и я – мы читали эту книгу вместе. – Мисс Браунинг, с ее серьезным лицом, концертами и глубокой, страстной любовью к русской литературе. Я с болью спросила себя, что с ней случилось, хватило ли ей на жизнь после отъезда, пришлось ли ей продавать любимые книги, жива ли еще ее мать. – Они все время говорят о Толстом. – Я невидящим взглядом уставилась в стену. – На этой неделе они еще более странные, чем обычно.
– Тедди, я бы не волновался. Они всегда были непредсказуемы. Как и этот Борис, хотя, если он вернется и попытается еще что-нибудь сделать…
Я повернулась и села, так что мы оказались лицом к лицу.
– Ты будешь сражаться за меня, мой храбрый рыцарь?
Эл поцеловал меня.
– Я умру за тебя. – Голос был тихим и серьезным. – Я убью любого, кто причинит тебе боль. Я это сделаю. Я вырву ему сердце и съем у него перед глазами, если он еще хоть раз тебя обидит.
Мы посмотрели друг на друга. Я до сих пор прекрасно помню глаза Эл, наполненные любовью.
– Я… Я знаю, – сказала я и отстранилась, немного отступив назад, тяжело глотая и моргая. Я почувствовала слабость, тошноту.
На честном, открытом лице Эл отразилось удивление, а затем смирение.
– Я бы хотел, чтобы ты мне поверила, – сказал он, помолчав.
– Я знаю. Я верю… – Я хотела объяснить, сказать, как мне тяжело, что я влюблена, что совершаю грех, когда это так не похоже на то, чем я была раньше в своей жесткой, замкнутой жизни. Дай мне время – хотела сказать я. Дай мне привыкнуть к этому. – Эл, дорогой, я верю…
Эл сжал мои пальцы и порывисто поцеловал их.
– О, милая. Слушай, я хочу сделать это прямо сейчас. Я тебе кое-что купил. Давай я принесу.
– Что там?
– Я не хочу, чтобы ты скучала по дому.
Он вручил мне пакет, завернутый в коричневую бумагу. Я разорвала его, и там оказался маленький деревянный ящик, старый, стеклянная крышка и рычаг защелки. Он поместился в моей ладони. К пятнистому древнему шелку была приколота идеальная маленькая бабочка.
– Клифден Блю. – Я вцепилась в футляр, от волнения водя пальцами по стеклу. – Не могу поверить. Я никогда их не видела. Я всегда хотела… – Я посмотрела на Эл, который наблюдал за мной со сладкой, почти детской радостью, и не смогла выдавить ни слова. – Эл, тебе не следовало этого делать. Надеюсь, ты не потратил на это все деньги.
– Нет, вовсе нет. У меня был друг, у которого был друг. – Эл постучал пальцем по носу. – Кое-кто на Брик-Лейн знает парня, который продает бабочек. Она старая. Лет сорок или около того. Ты должна продолжать свое дело.
Крылья у Клифден Блю более яркого цвета, чем у любой бабочки, что вы когда-либо видели. Чистая, сверкающая бирюза. Уж поверьте мне. Вам может показаться, что вы уже видели такой цвет на крыльях другой бабочки, но вы, вероятно, видели Обыкновенный или Синий Чокхилл. У Клифдена синий насыщенный, пудровый, как яркий драгоценный камень – он идеальный. Теперь его называют Синий Адонис – я так и не поняла почему. Но я всегда буду звать его Клифден.
Мысленно я увидела землю над домом, увидела траву, пурпурные нарциссы, дымку солнца, увидела, как мы с Мэтти крадучись вышли из сторожки через луг, увидела черные силуэты на фоне голубого горизонта. Вспомнила костер на берегу, почувствовала запах обугленной макрели, услышала плеск бархатной воды по шелковистому песку, шум ветра в густых темных деревьях. Я видела все это и наполнялась такой тоской, что у меня перехватило дыхание. Интересно, раньше было так же плохо?
– Я поймаю их всех для тебя. Если хочешь, у нас будет целая комната бабочек. Если ты останешься здесь, со мной. – Эл стиснул зубы, его темные глаза были такими серьезными, а руки крепко сжимали мои пальцы. – Пожалуйста, Тедди. Просто скажи, что не хочешь туда возвращаться.
Я села на свои руки. Я хотела уйти, но не могла. Я хотела заглушить голоса, которые звали меня домой, резкие, пронзительные голоса, дразнящие, подталкивающие меня.
– Ты же знаешь, я… Я не хочу туда возвращаться.
– Но это не значит, что ты этого не сделаешь. – Эл улыбнулся и убрал прядь волос с моей щеки, заправив ее за ухо, проведя пальцами по моей коже.
Я поймала его руку и медленно пососала большой палец, чувствуя заусенцы, ноготь, сустав, проталкивая его как можно дальше в рот.
– Я люблю тебя, Тедди. – Щеки Эл пылали, глаза потемнели от напряжения.
Я вынула палец изо рта и нежно поцеловала его.
– Я… Я люблю тебя.
– Не надо. – Голос Эл был резок. Я посмотрела на пылающие пятна на его щеках. – Не говори так просто потому, что должна.
– Это не так, – сказала я.
– Ты что-то скрываешь от меня, Тедди. Не будь трусихой.
– Не называй меня так.
– Не знаю, хочешь ли ты это сделать, но иногда ты заставляешь меня чувствовать себя, как… Как… – Эл стукнул кулаком по столику. – Черт возьми, Тедди. Как будто я – твой грязный секрет. Как будто мы… мы плохие. Ненормальные.
Наступило ужасное молчание.
– Не кричи на меня, – сказала я, качая головой. – Дай мне время. Я люблю тебя. Это правда. Я хочу только тебя. Всегда. Просто я… Мне нужно привыкнуть к этому. Чтобы быть такой.
– Ты всегда была такой, дорогая. – Эл схватил меня за руки. – Милая, ты такая же, как и я. Ты останешься со мной? Или ты собираешься снова финансировать своего отца и терпеть его до тех пор, пока он не умрет или не прибьет тебя посильнее, чтобы ты могла выйти замуж за того парня с рыбьими глазами, который уже дохлый от шеи до пят, и лежать там, пока он хрюкает на тебе, шлепает тебя, пытаясь овладеть тобой?
Я отдернула руки.
– Прекрати.
– Он не может. Они не могут. Ты моя. Ты всегда будешь моей. А я твоим. – Эл положил руки мне на сердце. – Я чувствую, как бьется твое сердце. Ты знаешь это, я знаю это. Я знаю, это тяжело. Но ты должна принять решение, Тедди. Ты не можешь просто плыть по течению изо дня в день.
– Я не плыву по течению, я… – начала я. – Ты не понимаешь.
– Милая, я знаю, что хочу, чтобы мы были вместе. Всегда. Не так ли? Это самая простая вещь в мире. Все остальное ведь не имеет значения?
– Но мы…
– Нет. – Руки Эл сомкнулись вокруг меня. – Все это не имеет значения. Кто мы, что мы, откуда мы пришли. Я люблю тебя. Я больше никого не полюблю. Мне нравится, что между нами ничего нет, ничего, кроме правды, доброты и всего, что – ох, не знаю, хорошего. Как будто солнце никогда не садится. И именно мы вдвоем делаем все это, а не ты сама по себе, дорогая, потому что ты ужасно мрачный человек, ты сама это знаешь.
Я рассмеялась.
– Но ведь это правда? – Эл наклонился вперед, и мы оказались в дюйме друг от друга. – Я как бы округляю ту часть тебя, которая нуждается в этом, и ты делаешь то же самое со мной.
Я сказала:
– Я хочу остаться с тобой. Навсегда. – Я посмотрела на бабочку, приколотую в футляре, на доброе лицо Эл. Мое сердце наполнилось любовью. – Обязательно. Я останусь. Я не уйду. – Я улыбнулась, при мысли, что то, что я сказала, может быть правдой. – Да. О Эл. Да.
Я подняла глаза и увидела его глаза, блестящие от слез, застывший от волнения рот, лицо в форме сердечка, раскрасневшееся нежно-розовым, и поняла, что слова больше не нужны. Поэтому мы оба молчали, глядя друг на друга и сплетя пальцы.
Мы снова легли на ковер, голова Эл лежала у меня на груди, дыхание было тихим и прерывистым. Я чувствовала себя сильной, странно грустной и, впервые в жизни, взрослой. Именно тогда я с уверенностью поняла, что причиню Эл боль. Что я причиню вред этому месту, однажды, скоро.
О, мой дорогой. Теперь мы подошли к самой трудной части моей истории.
Часть третья
Глава 18
Лондон, 2011
Все мы в какой-то момент понимаем, что нам улыбнулась удача. Иногда мы этого даже не понимаем, иногда это нужно больше всего. Я никогда не считала себя везучей. Теперь я понимаю, что мне действительно везло.
Многоэтажка, где жила Лиз, называлась Прайорс. Было субботнее утро, через четыре дня после исчезновения отца, и я вернулась в Хит, потому что не знала, что еще делать. Я стояла перед Прайорс, смотрела на башенки и думала, куда же идти дальше; не знаю, сколько бы я там простояла, но появилась Лиз. Как раз в тот момент, когда я говорила себе, что должна идти, я увидела Эбби и поняла, что это мой шанс.
Она шла к дому с тем же целеустремленным видом, в той же спортивной одежде, и я узнала ее. Я перебежала дорогу, обогнув Хит, извиняющимся жестом помахала машинам, которые с визгом останавливались передо мной и злобно сигналили, проносясь мимо. А потом я остановилась у кустов, в нескольких метрах от Эбби, охваченная сомнением. Когда она достала ключи, жонглируя ими и большой пластиковой бутылкой молока, печеньем и розовыми герберами в целлофане, я решилась и шагнула вперед.
– Извините. – Я откашлялась, стараясь, чтобы мой голос не звучал слишком странно. – Извините за беспокойство. Вы Эбби? Вы присматриваете за мисс Трэверс?
– Да, – осторожно ответила она, едва повернувшись в мою сторону. – Чем я могу вам помочь?
– О. – Теперь, когда она меня слушала, я не знала, что сказать. – Я… Мне нужно с ней поговорить. Можно мне подняться с вами? Она хочет меня видеть. Я не могу объяснить это здесь.
– Что ж. – Эбби удалось прижать бутылку с молоком к двери, и, подцепив ее одним пальцем, она поставила ее на пол вместе с другими предметами, которые несла в руках, и повернулась ко мне лицом. – Мне очень жаль. Мисс Трэверс сейчас ни с кем не встречается. Она совсем не… – Она заколебалась. – Ну…
– О нет. Она слегла?
– Иногда ей плохо. Она любит гулять по Хит, когда тепло. – Эбби пожала плечами. – Это не такая болезнь, как грипп. Более того, она все слабее и слабее. Ей все же уже девяносто три года.
– Я понимаю… – Я замолчала, разрываясь между желанием увидеть Лиз и желанием оставить ее в покое, я была уверена, что она хочет услышать обо мне, но боялась беспокоить больную старуху. – Но она меня знает. Она кое-что знает. Она хочет мне что-то сказать. – Я сознавала, как скверно все объясняю. – Мы встречались в Лондонской библиотеке пару раз, мы с ней. Я написала записку с просьбой связаться со мной, вы, вероятно, не помните. Она дала мне несколько фотографий моей бабушки. Меня зовут Нина Парр, Эбби, она когда-нибудь упоминала меня или мою бабушку? – Мне показалось или на ее лице промелькнуло что-то вроде понимания?
Эбби пригладила хвост на голове и сказала прямо:
– Послушайте, как вы знаете, у Лиз слабоумие. Какое-то время она была нездорова, но в последние пару недель ей все хуже и хуже. На самом деле, в тот день в библиотеке она в последний раз выходила на улицу. – Эбби наклонилась и стала собирать еду и цветы, складывая их в холщовую сумку, которую достала из сумочки. – Она столкнулась там с кем-то несколько дней назад, и когда я ее забирала, она была очень взволнованна. С тех пор она ведет себя плохо. Не может заснуть, очень расстроена. Пытается уйти. Она хочет найти кого-то. С деменцией всегда так – у них есть идея в голове, и очень трудно… – Она провела рукой по лбу. – Когда она о ней вспоминает. В другое время она очень тихая. Гораздо больше, чем обычно. Когда она была в порядке, раньше, вы бы могли с ней поговорить. Но теперь… – Эбби подняла сумку и перекинула ее через плечо. – Как будто свет уже погас.
– Ох, – тихо сказала я. – Мне очень жаль. Это ужасно.
– Да, потому что я знала ее с самого начала, когда она была еще в порядке и болезнь развивалась очень медленно, до сих пор. Она была замечательной женщиной. Она знала всех, ходила повсюду, и к тому же у нее была такая интересная жизнь, знаете, столько печали.
– Как это?
– О, она потеряла свою большую любовь на войне – да и сама чуть не умерла. Ее семья погибла, а муж умер, когда она была еще совсем молодой. Да, так много печали, я все думаю, как это. Она видела ужасные вещи. – Интересно, Эбби все еще разговаривала со мной или сама с собой? – За последние пару месяцев ухудшение очень заметно. Ей снятся кошмары. Она зовет каких-то людей, а когда просыпается – становится замкнутой.
Хотя день был теплый, я поежилась.
– Что за люди?
– Какие угодно люди. Не думаю, что она сама знает. – Эбби переступила с ноги на ногу. – Послушайте, Нина. Хотела бы я вам помочь. Но я не могу. Она не должна никого видеть. Приказ врача. И мое мнение тоже.
– Но я уверена, что она хочет меня видеть. – Я снова прокашлялась. – Знаю, это звучит безумно, но я думаю, что это правда.
– Она мне об этом не говорила. И я спрашивала ее о вас, когда получила записку, – ровным голосом сказала Эбби. – Она не узнала ваше имя и понятия не имела, кто вы такая.
– Да, – тихо сказала я. – Мне очень жаль. Но если бы только я могла… – Я достала из сумки конверт. – Вы не могли бы передать ей это? – Я сделала копии фотографий, которые она мне прислала, и почему-то решила, что оригиналы должны быть у нее.
Но Эбби покачала головой:
– Спасибо, Нина. Я не могу ей этого передать. Я не даю ей ничего, что может ее расстроить. Я должна вернуться к ней, она была одна почти час. Извините. Я бы очень хотела помочь.
В ее голосе не было особого сожаления, и Эбби повернулась и осторожно закрыла за собой входную дверь.
Я чувствовала, как фотографии бьются о мою ногу в кармане юбки, когда шла назад. Дойдя до Парламент-Хилл, я остановилась и села. Внизу раскинулся весь Лондон – море подъемных кранов, башенных блоков и выставленного напоказ богатства. В эти дни город казался мне все более чуждым: такой огромный, такой одержимый размерами и чистым интернационализмом, город, совершенно не похожий на свою собственную историю.
Я не знала, куда идти дальше. Затем меня охватило чувство полного одиночества – словно я была совсем одна в море людей – как это продолжалось последние несколько недель. Я должна была куда-то пойти, увидеть кого-то, кого я любила, кто знал меня, – и, конечно, я знала, куда мне идти. Не могу понять, почему я не сделала этого раньше. Я смотрела, как туманная дымка поднимается над головой, тянется к Кенту, потом встала и пошла вниз по холму, но на этот раз с определенной целью.
Когда Себастьян открыл дверь, я нервно улыбнулась.
– Привет. Прости, что так долго не отвечала.
– Нина. – Он почесал в затылке; он был в белой футболке и спортивных штанах.
– Как дела? – сказала я. Я наклонилась, чтобы поцеловать его, но он не реагировал.
– Я в порядке. – Он плохо выглядел. Под глазами у него были синяки, и он был бледный.
Я прошла за ним в дом, с грохотом захлопнув за собой дверь, от чего сама же подпрыгнула; я забыла, что эту дверь нужно придерживать.
Входная дверь того, что когда-то было нашим домом, вела прямо в гостиную, красивую комнату с оригинальными половицами и деревянными ставнями, но она была – и всегда была – беспорядочной грудой со старыми провисшими диванами, стопками книг и, на почетном месте, с красно-лазурно-сине-зеленым килимским ковром. Как мы ругались из-за этого проклятого ковра! Он купил его в турецком магазине через дорогу, когда у нас едва хватало денег на еду и счета, не говоря уже о ненужных напольных покрытиях. Это был символ моего страха перед бедностью, которую я так живо помнила с детства. У Себастьяна всё было иначе – когда у него не хватало денег, он получал помощь от банка Дэвида и Циннии. Такие пустые траты, но как это было весело. В квартире стало уютно, как дома. И я стояла на ковре, прямо там, с рюкзаком, и сказала Себастьяну, что возвращаюсь к маме, и он засмеялся, прежде чем мы начали кричать друг на друга. Как будто он не мог в это поверить, думал, что это шутка.
Теперь я все это вспомнила, и Себастьян положил руку мне на плечо.
– Хочешь выпить?
– Выпить? Что, алкоголь?
– Нет, «Хорликс». Конечно, алкоголь. – Он исчез в маленькой кухне, и я последовала за ним. Все тот же старый шаткий холодильник, крошечный огороженный садик с потрескавшейся бетонной поверхностью. Герань, которую я поставила в горшках на улице, каким-то чудом осталась живой. Себастьян достал из холодильника вино и налил в два бокала.
– Хм… только немножко, – запротестовала я. – Честное слово, Себастьян. Я не могу, у меня сегодня куча дел… – Даже мне показалось, что это прозвучало неубедительно.
Себастьян посмотрел вверх, уставившись на меня пылающим взглядом.
– Ради бога, Нина, – сказал он. – Выпей, черт возьми. Один бокал. Ты не можешь просто тусить здесь, как ни в чем не бывало.
Я взяла стакан.
– Послушай, извини, что не отвечала.
– Да.
– Не знаю, что сказать.
Мы неуверенно смотрели друг на друга, и в крошечной комнате, где столько всего произошло, воцарилась тишина. Паук, который заполз в «Мармайт». Парочка наверху и их надоедливая тявкающая собака. Шумные ребята с соседней улицы, наркоторговец через три дома, пьяница, который мочился на улице, у нашего окна. Званый обед, где поваренная книга упала на эту самую газовую плиту и чуть не сожгла дом дотла; в те времена, когда мы так ужасно ссорились, что я выбросила телефон Себастьяна в унитаз.
Это было очень, очень… все было экстремально, драматично, душераздирающе – и это было так глупо, все это, на самом деле, – но, стоя здесь снова, я испытала явное, такое резкое, горько-сладкое воспоминание о том времени. Потому что во многом наш брак был похож на то, как Дороти открывает дверь после ухода циклона: цветная жизнь после черно-белого, и это было замечательно.
Кто, черт возьми, та девушка, которая жила здесь с ним? Где она сейчас? Я скучала по ней. Я хотела, хотя бы на час, снова стать ею. Быть храброй, чувствовать любовь, знать, что я могу покорить мир.
– Это… – Я пожала плечами. Не плачь. У меня закружилась голова: Эбби, жара, и я ничего не ела с самого завтрака. – Послушай. Я прошу прощения. Я пришла извиниться. И поговорить.
Он выглядел удивленным.
– О чем?
– Ох. О – ну, ты понимаешь. О нас. О том, что случилось той ночью… эм, знаешь, мой отец вернулся. И…
– Ах, об этом! – саркастически воскликнул Себастьян. – Ну да! Как мы пошли выпить пару недель назад и я сказал, что люблю тебя! И писал тебе каждый день, и звонил, и спрашивал, как ты и что происходит! А потом не услышал абсолютно ничего, совсем ничего, в ответ! О да! – Он хлопнул в ладоши. – Я не совсем понял, о чем ты хотела поговорить. Об этом!
Он замолчал, покраснев, глаза его сверкали от гнева, потом взял кухонное полотенце и принялся протирать им все поверхности, что было полным безумием, потому что: а) я никогда раньше не видела, чтобы он занимался домашним хозяйством, и б) кухонное полотенце досталось мне в наследство от миссис Полл, это была одна из немногих вещей, оставшихся после ее смерти, когда клининговая компания все вычистила. Там была цитата Бетт Дэвис: «Старость – не место для неженок».
– Мне нравится это полотенце, – сказала я после паузы. – Оно принадлежало миссис Полл. Могу я забрать его?
– Нина, это что, шутка?
– Прости, нет-нет. – Я обхватила голову руками. – Оставь себе полотенце.
– Плевать мне на это дурацкое полотенце! – Вены на шее Себастьяна вздулись. – Я хочу знать, как у тебя дела. Что, черт возьми, происходит. Вот и все. А ты не говоришь мне абсолютно ничего!
– Я понимаю. Я знаю. Только это было безумие. Мой отец… Мама… – Я подняла руки. Как объяснить все это: исчезновение отца, уход матери из повседневной жизни, злость Малка. – Это долгая история.
– Я хочу это знать. Перестань отталкивать меня. Ты всегда так делаешь.
– Это уже не твоя проблема, – честно призналась я. – Себастьян, я не знала, как у нас дела, и не хотела тебя впутывать.
– Но, Нина, разве ты не хотела бы помочь мне, если бы у меня были трудности? – Склонив голову набок, он смотрел на меня сверху вниз, скрестив на груди толстые сильные руки, и у меня возникло мимолетное желание, чтобы он просто заключил меня в объятия, чтобы мы могли стоять рядом, обнимая друг друга, не думая ни о чем хоть немного.
– Думаю, да, – сказала я слабым голосом. – Я не это имела в виду.
– Глупая. Я хочу помочь тебе, – сказал он, подходя ближе.
Я провела рукой по его щеке.
– Ты такой красивый, – сказала я. – Мне повезло, что я тебя знаю. – Он пожал плечами. – Но ты не можешь мне помочь. Ты не можешь указывать мне, что делать.
– Я бы никогда этого не сделал.
– Я имею в виду, я хочу, чтобы кто-нибудь это сделал. Мне бы хотелось, чтобы был кто-то, кто обо всем знает, смог бы мне помочь. А никто не знает.
– Я скажу тебе, кто этого хочет, и это моя мать, – сказал Себастьян, прислоняясь к кухонной стойке.
– Поверь мне, твоя мать не хочет иметь со мной ничего общего.
– Ну, я знаю, что ты ей не очень нравишься. Но я имею в виду, с тех пор как она услышала, что у тебя есть какой-то старинный семейный дом и фамильный бизнес, она набросилась на тебя, как на дешевый костюм. – Себастьян сделал глоток вина.
– Это неправда, – сказала я, уже чувствуя себя немного лучше, чувствуя то тепло, которое всегда витало вокруг Себастьяна, и начала оттаивать, как обычно.
– Не совсем, но я заметил, что за последнюю неделю или около того ты очень выросла в ее глазах, и это все с тех пор, как я ей рассказал. Это определенно шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше, и когда я говорю о тебе, ей приходится делать паузу на середине разговора, чтобы она могла спокойно помолчать в свой носовой платок.
– О, мило. Ну, я знала, что когда-нибудь покорю ее, – сказала я. – Знаешь, считается, что только женщины могут унаследовать этот дом… – Я замолчала.
– Ты имеешь в виду, что твой отец вне игры? Понял. Так что, если мы снова поженимся, ты будешь хозяйкой, а я – скромным лакеем, обслуживающим тебя и твои нужды, – сказал Себастьян. – Когда мы туда переедем?
Я смущенно улыбнулась ему. Хотя я не видела. Ничего не видела. Знаете, мы все любим представлять себя в новой школе, на новой работе, с новым парнем. Вот как это будет…
Но я не могла представить Кипсейк с тех фотографий и из «Нины и бабочек», не говоря уже о Себастьяне рядом со мной. Это было глупо. Я в большом доме, отдаю приказы слугам, ухаживаю за лавандой – надену ли я стеганую куртку, заведу ли собак и буду ли слушать «Гарденерс Квесшен Тайм» или буду делать мед, прясть и красить шерсть? Я прочитала все, начиная с «Ноггин Ног» и кончая «Захватом замка» я знала, что такое жизнь в древнем замке: рвы, холод, каменные ступени, зубчатые стены, жаркое на вертелах, конюшни? Рощи? Но когда я пыталась представить себя рядом с чем-то из этого, это выглядело неправдоподобно. И впервые я поймала себя на мысли, что сомневаюсь, правда ли все это. Было бы логично, если бы он просто солгал.
– Значит, твой отец уехал, – прервал мое молчание Себастьян.
Я кивнула.
– Мне очень жаль.
– Не стоит, – сказала я.
– Что с ним случилось?
Я покачала головой:
– Я ему не поверила. Я хотела полюбить его… и он был довольно забавным. Но он не очень хороший человек, я имею в виду, он не может таким быть.
– Почему?
– Он сбежал от мамы. Дважды. О, и он врал обо всем. Теперь он тоже врет, я уверена. – Но я подумала о его лице, когда он собирался вернуться в Кипсейк, когда он умолял меня поехать с ним и забрать прах его матери. – Я знаю. Мне его жалко. – Я встряхнулась. – Себастьян, я прошу прощения, что не перезвонила тебе. Я просто не знала, что сказать. – Я посмотрела на него. – Обо всем этом.
– Нет, Нинс. – Его глаза впились в мои. – Честно говоря, нет, это я должен извиниться за то, что доставал тебя. Но я сходил тут с ума, зная, что тебе приходится разбираться со всеми этими делами, с твоими родителями и тебе не с кем поговорить. Ты всегда так делаешь.
– Как?
– Прячешься в кокон. Не отвечаешь. И, по крайней мере, ты могла бы… – Он остановился. – Забудь. Это все звучит дико. Я нытик. А я не хочу им быть. Плаксивым, я имею в виду. С другой стороны, я люблю отчаиваться. Мне это правда нравится и…
Я положила руку поверх его барабанящих по столу пальцев, и он тут же замолчал, и мы посмотрели друг на друга. Я знала, что должна сказать то, ради чего пришла, прежде чем струсить. Я почувствовала тошноту.
– Мы не можем снова быть вместе, – тихо сказала я. – Мы не можем. – Я сжала его руку. – О Себастьян, прости меня.
Веселое улыбающееся лицо было совершенно неподвижно.
– ХОРОШО.
– Послушай, мне бы хотелось, чтобы все было не так. Но это так.
– Неужели?
Мы оба молчали.
– Да, – медленно произнесла я.
– Ты действительно не хочешь посмотреть, что из этого выйдет? – сказал Себастьян. Он отодвинулся и прислонился к холодильнику, все еще скрестив руки на груди, глядя на меня. – Я имею в виду, если мы попробуем еще раз, но по-другому.
Тогда я любила его, за его честность. Никакого мачо, только правда. У Себастьяна была причина быть уверенным в себе: в некоторых людях это могло показаться высокомерием, но не в нем, в его случае это, наоборот, привлекало.
– Я не могу, Себастьян, – прошептала я. – Пожалуйста, не надо.
– Почему?
– Если что-то пойдет не так… – начала я. – В прошлый раз это чуть не прикончило меня. И тебя. Особенно тебя. А я тебя довольно сильно люблю… – Я замолчала, сбитая с толку. – Послушай, на этот раз твоя мать права.
Он резко прервал меня:
– Что ты имеешь в виду, говоря, что она права?
Треск.
Громкий, хрустящий порыв ударил в окно гостиной и, казалось, улетел обратно, но не раньше, чем оконное стекло рассыпалось на осколки, четыре зазубренных куска шлепнулись на пол, а в воздух полетели мелкие крошки льда. Я втолкнула Себастьяна на кухню. Раздался приглушенный стук в дверь.
– А ну пошли вон! – закричал Себастьян.
– Да пошел ты! – Смех, негромкий разговор, топот ног, убегающих прочь.
– Что это, черт возьми? – Я побежала к двери, но он схватил меня за руку.
– Не надо. Черт с ними.
– Что это за дела?
– Три-четыре мальчика. Они дети, мелкие. Они все время так делают. Та старушка в соседнем доме, они два раза к ней вламывались и крали вещи. Мы отправили ее в больницу. – Он пожал плечами. – Эта улица, она не у дороги, а между домами и железнодорожными путями, здесь не ездят машины.
– Вызови полицию, – сказала я. – Черт возьми, они не могут просто так делать!
– Никакого толку. – Себастьян почесывал голову, глядя на стекло на полу. – Боже. Мне придется снова вызывать Гарри.
– И давно это продолжается? Ничего подобного не было, когда я была здесь.
Он крикнул из кухни:
– Они тебя боялись.
– Ха-ха.
– Понятия не имею. Сейчас все серьезнее, особенно в этом году, не знаю почему. Возможно, в городе лето. Люди начинают психовать.
Я открыла дверь и выглянула на улицу. Ничего необычного. Никакого шума. Но я знала, что они где-то поблизости.
– Маленькие ублюдки, – сказала я, страх и гнев смешались с адреналином, который уже бурлил во мне. – Я их достану.
– Нина, серьезно, вернись! – закричал Себастьян. – Не усугубляй ситуацию.
– Со мной все будет в порядке. Не волнуйся!
– Боже мой! – раздраженно крикнул он. – Ты говоришь, как твоя мать.
Я уставилась на него.
– Что ж, ты тоже говоришь, как твоя мать.
– Ну, – мягко сказал он, – иногда она права. Не всегда, но…
Я посмотрела на него.
– Когда ты словил такой дзен? – сказала я, закрывая дверь.
– После того как ты ушла, – сказал он, подталкивая меня локтем.
Я открыла кухонный шкафчик и достала несколько пакетов и скотч, который все еще был там. Он подмел осколки, а я заклеила окно скотчем, и мы спокойно поговорили, а потом…
Видите ли, думаю, я знала, что это произойдет, так или иначе, так как шок всегда пробуждает желание. Я приготовила ему чашку чая, он приготовил тосты – арахисовое масло и топленое масло, мои любимые, – и мы сели на диван.
Я прикоснулась к нему большим пальцем ноги.
– Скажи честно. Тебе нравится этот дурацкий ковер?
Себастьян озадаченно огляделся, потом опустил глаза.
– А, этот. Неееет. Нет. Я просто хотел тебя позлить.
Я засмеялась и вдруг поняла, что не могу перестать смеяться.
Он наблюдал за мной.
– Помнишь, ты всегда… Ну, ты не очень-то умела идти на компромисс. Синдром единственного ребенка, я полагаю.
– Начнем с того, что это чушь, – сказала я, вытирая глаза. – Большинство единственных детей, которых я знаю, гораздо более здравомыслящие, чем люди из больших семей. – Он рассмеялся. – Это правда! – сказала я, стараясь не оправдываться. – Ты думаешь, что из нас двоих именно я не способна к совместной жизни? Ты, который запер дверь в ванную, когда мы пригласили Ли и Элизабет, и отказывался выходить, потому что я не открыла твое вино.
– Я купил его специально к рыбе…
– Себастьян, – терпеливо объяснила я. – Нам было по двадцать лет. Нас не должно было волновать, как правильно подавать рыбу с вином на званых обедах.
– Всегда нужно стремиться к лучшему.
– Нет, не надо быть таким претенциозным. – Мы смущенно улыбнулись друг другу, потом кто-то постучал в парадную дверь, и я чуть не выпрыгнула из кресла. Мимо, смеясь, пробежали дети.
– Господи, опять они! – сердито сказала я, вскакивая.
– Нет, это совсем другое дело, – сказал Себастьян. – Сегодня суббота. Им скучно. По крайней мере, сегодня не учебный день, что еще хуже. – Он взял меня за руку. – Не нервничай.
– Я и не нервничаю, – ответила я, качая головой. Я чувствовала себя очень спокойно. Эти дети, квартира, чайное полотенце, воспоминания. – Послушай, – вдруг сказал я. – Мы не можем все вернуть, правда? Ты же понимаешь? – Я вгляделась в его лицо. Он повернулся ко мне, покусывая губу.
– Да, Нинс. Но, кажется, я могу попытаться.
У меня перехватило дыхание.
– Тебе нужен кто-то очаровательный, кто пишет книги по истории, и может постоять за себя в диалоге с Циннией, которая знает всех на свете, имеет кучу докторских степеней и хочет поехать в отпуск в Эсфахан и Микронезию.
– Но я не хочу кого-то другого, – сказал он, и его улыбка стала болезненной. – Я хочу тебя.
– Нет. Ты хочешь, чтобы у нас все тогда получилось, любовь моя. – Я взяла его длинные пальцы и сжала их в своей руке. Я посмотрела на костяшки пальцев, на неровный шрам на большом пальце после аварии на лодке, когда ему было десять лет, на родинку на левой ладони. И эта девушка снова была мной, той, которая ничего не боялась, которая знала верный путь.
– Я любила тебя, Себастьян, – сказала я. – Правда. Это была не игра. Это было по-настоящему.
Он посмотрел на меня.
– Я знаю, любимая.
Тишина ревела у меня в ушах. Мы смотрели друг на друга. Я слышала, как мое сердце колотится в груди.
– К черту, – сказал он и поцеловал меня.
Наши руки все еще были переплетены. Я прижалась к нему, и он вздохнул, потом схватил меня за плечи, его губы скользнули к моей шее, к моей щеке, а потом мы оба откинулись назад, тяжело дыша, и я робко улыбнулась и сказала:
– Просто…
– Просто что?
– Просто твоя мать… – начала я.
Он искренне рассмеялся.
– Перестань говорить о моей матери. Вы друг друга стоите. Обещаю, если ты еще раз заикнешься о ней, я вышвырну тебя на улицу.
Я улыбнулась и кивнула.
– Обещаю. – И добавила: – Наш диван, ты помнишь…
Он покачал головой:
– Нет, Нинс, не напоминай, ладно?
Его глаза стали огромными, темными на его сильном лице, руками он прижимал меня к себе, и я прижималась к нему, готовая заплакать. Резкие, колючие слезы, боль в мышцах, в горле, потому что я знала, что это будет в последний раз, и… Да, это было правильно.
Он отнес меня в спальню, просто взял на руки, как обычно, и я прижалась к нему, чувствуя его реальность, его твердые плечи, крепко обнимающие меня руки, как было бы чудесно, если бы… Если бы… Если бы…
Но мы кое-что знали. Что мы отдаляемся друг от друга и что дружба должна остаться, но в каком-то смысле это конец… Мы отчаянно срывали одежду, моя юбка, легинсы, бюстгальтер на полу, его джинсы, ощущение его тела на моем, волнообразное, великолепное ощущение нашей гладкой обнаженной кожи, как сильно я скучала по нему…
Я не могу объяснить это, но мы оба знали, что это последний раз.
Он заставил меня кончить прежде, чем вошел в меня, как он всегда делал, и я почувствовала, как одинокая слеза скатилась по моему виску, в мои волосы, и мы начали двигаться вместе, когда звук смеющегося, хрюкающего, бегущего роя детей снаружи донесся до нас в маленькой белой комнате в задней части квартиры. Потом мы оба заснули, прижавшись друг к другу, растянувшись, измученные, и проспали несколько часов, пока я не проснулась, и уже была ночь, небо было светло-бирюзовым с желтым полумесяцем, выглядывающим из-за заклеенного окна, видимого через открытую дверь.
Я всегда плохо спала, когда жила здесь, и сейчас было то же самое. Я чувствовала беспокойство, какой-то зуд. Я опустилась на колени, с любопытством наблюдая за ним. Он крепко спал, уткнувшись лицом вниз, нежно посапывая, и мои глаза путешествовали вверх и вниз по его телу, как по карте воспоминаний. Его большие, грубые руки, правая с розоватым шрамом на том месте, где он сломал ее, упав с качелей в саду. Толстые, волосатые икры. Тугой, аккуратный зад – я восхищенно наблюдала за ним, когда он шел впереди меня на лекцию, даже не надеясь, что его владелец обратит на меня внимание, а тем более влюбится. Его густые смешные волосы, вьющиеся, соломенного цвета. Тонкий завиток уха, нежная верхняя губа в форме лука.
Он проснулся, когда я смотрела на него, как будто я вернула его к жизни: открыл глаза от глубокого сна и взял меня за руку.
– Привет, ты еще здесь. – Он поднял голову. – Который час?
– Три. Еще очень рано. Спи.
– Нет, – сказал он, мягко прижимая меня к одеялу, полностью проснувшись, и мы снова занялись сексом, на этот раз медленно, сонно, поначалу странно, в лунном свете, мерцающем в скромной, грязной комнате, а потом настойчиво, быстро, еще быстрее, чем раньше, никаких слов, только мы, глаза в глаза, пока не слились в единое существо. На этот раз он заставил меня кричать, громко, страстно, а потом соскользнул с кровати и, сбив ногой забытую чашку кофе с прикроватной тумбочки, опрокинул ее на себя, на пол, на юбку и легинсы.
Мы посмеялись над тем, как нелепо заниматься сексом, но, так же как ботинок с неисправной молнией, из-за которого у меня пошла кровь из пятки, и я побежала в библиотеку или гудок водителя фургона, когда я впервые увидела Эбби, так и этот последний аккорд – его движения во мне, беспорядок, который он устроил, – изменило все. Маленькая деталь.
На следующее утро моя одежда была залита кофе и была слишком грязная и влажная, чтобы ее надевать, и в надежде найти что-нибудь подходящее на замену я нашла платье, в котором была на следующий день после нашей свадьбы, мое платье с девичника. Я случайно открыла дверцу шкафа, не ожидая, что там что-то найду; оно висело на проволочной вешалке, и когда я потянулась за ним, воспоминания нахлынули на меня снова. Мы купили его в ларьке на Камден-пассаж, я откопала его среди заплесневелых китайских шелковых курток и кафтанов шестидесятых годов, которые везде зачем-то еще продаются.
Оно было в стиле тридцатых-сороковых, шелковое, в кремовых серо-голубых цветах, с рукавами в три четверти и длиной до середины икр. Я не примерила его, просто прижимала к себе, Себастьян засмеялся, поцеловал меня в шею и сказал, что оно идеально. Оно стоило всего десять фунтов.
Думая, что это простое милое, красивое цветастое платье, я взяла его с собой и надела в «Кларидж» на следующее утро после свадьбы, сидя одна в номере. Себастьян был внизу, завтракал. Мы уже поссорились – насчет свадьбы, и по поводу гостиницы, и из-за родителей, – и я вдруг пожалела об этом и поспешила вниз, задержавшись лишь на мгновение, чтобы взглянуть на себя в зеркало.
Я была совершенно не права: это было совсем не милое маленькое платье. Шелк был тяжелым, он болтался на бедрах, висел на груди; это было по-вампирски драматичное платье, синие цветы на светлом фоне бросались в глаза. Я не была похожа сама на себя: я помнила, какой беззащитной я себя чувствовала, надевая его. Надо было оставить его в комнате Мэтти.
Я почувствовала себя неприятно взрослой, как маленькая девочка, играющая в переодевалки. Мы с Себастьяном сидели, дрожа от холода, во внезапно наступившем июльском сумраке в беспорядочно обставленной гостиной Фейрли и торопливо готовили праздничный обед. Там же, еще немного в шоке от происходящего, были мама и Малк, сидящие в одинаковых позах на одном из парчовых диванов, расставив ноги, наклонившись вперед, сжимая бокалы с шампанским и выглядя мрачно. Цинния велела Патриции, красавцу Дэвиду наполнить наши бокалы, Марк и Шарлотта хихикали в углу, а Джуди, одетая в платье, – мы оба потом много лет подряд повторяли, что это, возможно, самый странный побочный продукт всего дела, – Джуди в «цветочной Лоре Эшли».
Цинния подняла бокал и сказала:
– Добро пожаловать в твой новый дом, Нина. Добро пожаловать в нашу семью.
Я чувствовала, что все было неправильно, и целую вечность думала, что это из-за платья. Со временем оно приобрело странный символизм в моем сознании, когда я открывала дверцу шкафа, чтобы снова увидеть его на вешалке. Уже на следующий день после свадьбы, я думала про себя, швыряя туда одежду или хлопая дверьми, злясь на Себастьяна за что-то. Уже тогда я знала, что этот брак был ошибкой. И вот, два с половиной года спустя, когда я переехала, я не смогла забрать его с собой к маме. В то утро, когда я лениво распахнула дверь в поисках подходящей одежды, оно все еще висело в квартире на тонкой проволочной вешалке в старом встроенном шкафу в глубине комнаты.
Себастьян надел его на меня, разглаживая по телу. Весь остаток дня я чувствовала движение его рук, прижимавшихся к шелку.
– Ты похожа на кого-то другого, – сказал он. – Ты прекрасна, как всегда, но не похожа на себя, – и его рука скользнула между моих ног.
Жаль, что я не задержалась, не была с ним снова, не посмотрела в его добрые, спокойные глаза, не почувствовала его внутри себя.
Когда я уходила, он протянул мне яблоко.
– Ты не можешь уйти и ничего не взять с собой, – сказал он мне.
Носком ботинка я отпихнула осколок стекла, оставшийся от вчерашней рамы, подняла его и протянула ему. Он завернул его в салфетку и осторожно положил на столик в прихожей.
– Когда я… – начала я.
И он сказал:
– Я не хочу тебя видеть, пока ты сама не захочешь. Подумай над этим, Нина. – Он поднял руку: – Я люблю тебя. Но так больше нельзя. Это сведет нас обоих с ума. Скажи мне, чего ты хочешь на самом деле.
– Сколько у меня времени? – Я старалась говорить весело; впервые за несколько недель я почувствовала себя счастливой, и все из-за него.
Он не улыбался.
– Не много. Я хочу, чтобы мы были друзьями, но я не буду ждать вечно. Перестань жить на паузе, Нинс. Нажми на плей.
Глава 19
Я шла по пыльным улицам в усталом, сонном оцепенении, не обращая внимания на то, как неуместно среди воскресных хипстеров и родителей с маленькими детьми я выглядела в своем странном синем платье. Я прикоснулась к нижней губе и покачала головой. Было так жарко, небо затянули грязно-желтые облака. Улыбаясь про себя и ни о чем не думая, я перешла дорогу, ведущую к Хит.
– Кому-то сегодня весело! – выкрикнул из окна чернокожий таксист.
– Да! – Мне хотелось кричать. – Да, это я! Я спала с Себастьяном! И это было потрясающе!
Это был наш Хит: большую часть свободного времени мы проводили здесь, летом и зимой. Иногда мы ходили к его родителям через восточный край Хита, иногда устраивали пикники по случаю дня рождения с пластиковыми стаканчиками и сосисками в тесте, иногда совершали зимние прогулки, когда холод застревал в горле и заходящее солнце низко и ярко пылало за паутиной голых черных веток. Или просто гуляли вдвоем, взявшись за руки, искали местечко на Парламентском холме, чтобы выпить пива и посидеть на полотенце Бетт Дэвис, я лежала головой на его животе, читала какую-нибудь толстую книгу, а он гладил меня по волосам или просто храпел (он спит лучше всех, кого я знаю) – я заблокировала эти воспоминания, просто стерла последние несколько лет.
Хит мерцал в утреннем свете, и все было тихо. Я посмотрела вверх: облака над головой были темными, было слишком жарко, слишком спокойно. Впервые я серьезно задала себе этот вопрос. Сможем ли мы начать все сначала? Смогу ли я снова стать той девушкой? Нет: не девушкой. Женщиной, которая останется с ним, сделает карьеру и займет свое место в мире, будет смотреть в будущее, родит ему детей, построит с ним семью.
Думать об этом было страшно, потому что, если все пойдет не так, будет намного хуже. Пустая трата времени. Я вдруг почувствовала головокружение, в голове все поплыло. Я села на скамейку. Ты сделала только хуже, а не лучше – сказала я себе. Но я не чувствовала себя хуже, я чувствовала себя просто прекрасно.
Несколько мгновений я сидела, барабаня сандалиями по колючей сухой траве, улыбаясь, потом встала и пошла дальше, и пока я шла, тучи треснули и пошел дождь. Сильный, брызжущий дождь, который падал на землю, застилая дорогу. Сначала я попыталась укрыться под деревом, но поблизости не было ни одного достаточно большого дерева, и то, к которому я побежала, вскоре залило, опрокинув на меня тонны воды. Я промокла насквозь, платье прилипло, вся прежняя символическая пыль и пот от того единственного раза, когда я надевала платье, смылись.
Дождь все не прекращался, и в конце концов я пошла дальше, мои волосы красиво свисали мокрыми крысиными хвостами, пока не добралась до Парламентского холма. Вокруг не было ни души. Когда я повернулась, чтобы уйти, краем глаза я увидела незаконченный шпиль Шард, пораженный молнией, огромную зигзагообразную золотую трещину, такую же острую, как разбитое окно прошлой ночью. Я стояла и не двигалась, наслаждаясь видом: наступает момент, когда ты уже не можешь промокнуть еще больше. Огромная черная ворона пролетела надо мной, подгоняемая ветром и дождем, почти прижатая к земле силой бури, и я с трепетом наблюдала, как она пытается подняться. Это было похоже на конец света.
Мои ноги были в песке и пыли, превратившихся в грязь, а платье стало тяжелым и жестким. Я шла пять минут, размахивая юбкой, напевая себе под нос, наслаждаясь стуком дождя по кронам деревьев, и, дойдя до опушки леса, остановилась, размышляя, как лучше теперь укрыться от дождя, когда я немного обсохла. Я ускорила шаг, быстро поднимаясь в гору по скользким дорожкам. Лучший путь – через Хэмпстед к метро, мимо Прайорс, квартиры Лиз, и я на мгновение подумала, что, может быть, мне удастся обойти по извилистым деревенским улочкам в Вейл оф Хелте, но я не могла вспомнить, как туда добраться, а дождь лил все сильнее. Я стиснула зубы, но улыбалась, потому что все это было смешно.
И тут я снова услышала вой сирен, на этот раз громче, и, свернув за угол, с ужасом поняла, что они направляются к Прайорс, что дым идет с одной стороны здания, закрытого деревьями, и дым даже под дождем лился черно-серым в распухшее небо. Я побежала к красному кирпичному зданию, уже не заботясь о том, подумает ли Эбби, что я точно их преследую, и когда я завернула за угол, в открытой двери внизу появился пожарный, моложе меня.
– Все на выход, ребята! – звал он. – Давайте передвинемся. Гидравлика может вернуться.
– О, все под контролем, – воскликнула молодая женщина рядом со мной. – Слава богу.
– Что случилось? – Я задыхалась, стараясь не капать на нее.
Она посмотрела на меня как-то странно.
– О, кто-то оставил зажженную сигарету в сарае, примыкающем к дому. – Она держала на руках кошку, которая отчаянно извивалась. – Сарай загорелся, и огонь добрался до здания – он пополз к деревьям на краю Хита еще до потопа. Если бы не дождь, оно бы вспыхнуло, как трут. Нам повезло.
Я кивнула.
– Я бы сказала – фух.
Мне нравилась хаотичность Лондона, нравилось, как вспыхивают и гаснут большие драмы, как миллионы людей, слившись воедино, создают искры, которые либо вспыхивают, либо просто сгорают, превращаясь в пепел. И действительно, в тот же вечер в местных новостях появится острый репортаж о пожаре, который, на самом деле, не случился: «Горит многоквартирный дом миллионера в Хэмпстеде».
– А что, все уже вышли? – спросила я ее.
– Да, – ответила она, изо всех сил сдерживая разъяренного кота. – А теперь мы все промокли до нитки. Так противно. – Похоже, ее больше раздражала эвакуация, чем владелец зажженной сигареты.
Я поблагодарила ее и срезала по траве, которая вела к главной дороге, так что мне не пришлось идти мимо квартир. Мне правда не хотелось, чтобы Эбби думала, что я их преследую.
Мои волосы, отяжелевшие от воды, упали мне на лицо, и я выжала их, повернувшись, чтобы еще раз взглянуть на огонь, а потом посмотрела налево, на огромный дуб в начале аллеи.
И там я увидел фигуру, стоящую одиноко в стороне.
Она подняла руку, как будто все это время наблюдала за мной, просто ожидая, когда я подойду.
Так я поняла, что мне повезло. Я еще долго не могла понять почему, но это была вторая удача, выпавшая на мою долю в тот день. Я знаю, Малк говорит, что совпадений не бывает, может, он и прав. А теперь я точно знаю, когда пишу это спустя столько лет, теперь, когда она уже мертва, и у меня есть полная история, что я должна была встретиться с ней вот так. Жара, из-за которой начался пожар, дождь, который потушил его, моя ночь с Себастьяном, разговор с Эбби – все это открутило назад недели, а может быть, и месяцы, и привело к тому моменту, когда я увидела ее на том месте. Так и должно было случиться, какая-то старая магия снова заработала.
Глава 20
– Посмотри на пламя, – сказала она.
– Да, я знаю, – осторожно ответила я. Я огляделась в поисках Эбби.
– На самом деле весьма печально. Просто дым. И это все? Цитируя Пегги Ли. – Она молча смотрела на меня, а я подошла и встала рядом с ней под раскидистым деревом.
– Вы здесь одна? – спросила я, оглядываясь.
Лиз посмотрела на меня, и я увидела ее глаза. Это были ужасные черные озера, лишенные всякого выражения.
– Я кое-кого жду, – сказала она наконец.
– Я подожду с вами, – сказала я.
– Я думала, ты придешь, – вдруг сказала она. Она порылась в кармане. – Хочешь мятный леденец? Она протянула мне маленький камешек.
– Спасибо, – сказала я. Моя рука дрожала, когда я коснулась ее, и наши пальцы соприкоснулись.
– Почему ты здесь, Тедди? – сказала она. – Как ты узнала, что я здесь живу?
– Мисс Трэверс…
– Знаешь, это не настоящее мое имя, – сказала она и с улыбкой покачала головой. – Марк заставил меня взять его, когда мы поженились. Это платье, оно тебе очень идет. Я его раньше не видела. Раньше у тебя было вроде этого. Ты надела его в день отъезда.
– Мисс Трэверс, вы не знаете, куда пошла Эбби?
– Я же сказала тебе, Тедди, меня зовут не так. – Она закрыла глаза. – Не понимаю, почему ты меня так называешь. Ты же знаешь мое имя.
На соседней улице все еще выли сирены, гремели аварии, несчастные случаи с пешеходами и другие бедствия, неизвестные нам, когда я стояла с ней в безопасности под деревом, не зная, что сказать.
– Мы можем вернуться в дом! – раздался гулкий крик с улицы. – Все чисто!
Лиз сказала:
– Что они сказали?
– Мы можем вернуться. – Я взяла ее под руку. – Я отведу вас, если хотите.
– Нет. – Она тут же огляделась вокруг, за моей спиной, царапая пальцами мою руку. – Не заставляй меня. Я не хочу туда возвращаться.
– Почему? – тихо спросила я.
– Просто… – Она посмотрела на меня, и я увидела в ее глазах какое-то мерцание. – Тедди, не надо. Не заставляй меня.
Я обняла ее, она оперлась на мой локоть и заплакала с разбитым сердцем, почти как ребенок.
– Но… – занервничала я. – Вам же нравится Эбби? Она хорошо к вам относится, не так ли?
– Я не хочу жить без тебя. Я скучаю по тебе. Я ненавижу это. – Она говорила короткими, отрывистыми фразами, которые, казалось, застревали у нее в горле. – И я ненавижу скучать по тебе. Я совсем забыла о тебе. Я забыла, кто я. В последнее время я все время так делаю. Почему ты не вернулась?
– Все хорошо, – сказала я и погладила ее по спине, в то время как дождь гремел вокруг нас, а мы были сухими в укрытии дерева. – Я могу подождать с вами. Не волнуйтесь. Я знаю, кто вы.
– Но я не знаю. Я перестала быть собой. – Она прижалась ко мне. – Тебе это показалось неестественным, правда, Тедди? Ты никогда этого не говорила, но я знала. Ты думала, что мы поступаем неправильно – и… О, я не хочу туда возвращаться! Они говорят мне, что я ошиблась, а я не ошиблась, я не ошиблась, я не ошиблась.
– Что вам сказали, в чем вы ошиблись?
– Ты любила меня, Тедди, и я любила тебя.
– Вы любили меня… – Я помолчала, потом кивнула. Тедди.
– Я ведь права, не так ли? – Она казалась спокойнее. – На этот раз я все сделала правильно. Правда?
Я не знала, что делать, поэтому все время гладила ее по плечу и нежно проводила по спине.
– Да, – сказала я.
– Мне не следовало менять имя, – сказала она и, нагнувшись, вытерла лицо юбкой, совершенно не смущаясь, приподняв футболку. – Мне нравилось быть Элис Грейлинг. Мне нравилось быть Грейлинг. Билли был Грейлинг. Теперь никого не осталось. Никого, кто бы помнил. Ты бросила меня. Они все умерли. Когда я их нашла… – Она замолчала и потерла глаза. – Ты знаешь, кое-что я забыла. Но я никогда не забуду, как они выглядели, когда я их нашла. И я не могу рассказать никому, кроме тебя.
– Кого? – сказала я мягко, но она поджала губы.
– Мишка и Жучок. – Она прищелкнула языком. – Они любили джин. Разве ты не помнишь? Я помню. Я кое-что не помню. Они приходят и уходят. Когда упала бомба, здание было разрушено. Бац! – Она изобразила взрыв рукой. – Я должна была быть там, но меня не было. Я была в кино. «Крестный отец»? «Унесенные ветром». Это были «Унесенные ветром». Видишь ли, я написала к нему сценарий. Я вернулась, а все уже исчезло. Я должна была погибнуть, но нет. Все, что с нами там произошло… бац! Наша квартира, наша прекрасная квартира, ничего от нее не осталось. Деньги, которые ты мне дала, исчезли. Я снова была нищей. Ты знала это, не так ли?
– Я ничего об этом не знала, – честно призналась я.
– Это потому, что ты уехала, Тедди. Ты солгала, ты сделала плохую вещь. Ты сказала, что любишь меня, и уехала. Я знала, что тебе тяжело, с женщиной, женщиной. Но ведь все было хорошо, когда мы были наедине, не так ли? – Она прильнула ко мне, ее глаза горели, и она была молода, клянусь, это было необыкновенно, молода, жизнерадостна и полна сил, и я поняла ее, полуженщину, которую я встретила тогда. Когда она улыбнулась, я впервые заметила крошечный сколок на ее переднем зубе и подумала, какой привлекательной она, должно быть, была в молодости. – Ведь правда? Скажи мне. Мы любили друг друга, я ведь не ошибаюсь?
– Нет. – Мои глаза наполнились слезами, я не знала, что сказать. – Мне очень жаль. Мне так жаль, мисс Тр… Элис.
Она снова улыбнулась.
– Не называй меня так. Это Марк настоял. Он настоял.
– У вашего мужа была фамилия Трэверс?
– Я взяла ее ради него. Марк не возражал, что я люблю женщин. Он был очень умен, Марк. Его семья жила в Риджентс-парке. Я знала, что если выйду за него замуж, то поднимусь на ступеньку выше и никогда больше не буду бедной. О, я предала себя. Разве это не странно?
– Да, – сказала я, все думая, думая.
– Раньше я хотела изменить мир. Я собиралась, правда, Тедди? А вместо этого я… я осталась в безопасном местечке. Я писала глупые истории. О глупых людях. Выдуманные люди.
– Но у вас так здорово получалось, – сказала я, поймав момент, чтобы рассказать ей кое-что о ней самой. – Все эти награды… Ваши фильмы, так много людей любят их. Это имеет значение, не так ли?
Она по-детски закатила глаза.
– Нет. Это ничего не значит. Совсем ничего. – Ее руки бессильно упали. – Нет больше Эл, нет больше Грейлинг… их больше нет. Бабочка Грейлинг никогда не расправит крылья, если уже села. Ты сказала мне так однажды, помнишь? Я всегда думала, как это правильно. Как грустно. – Теперь она успокоилась. – Хочешь мятный леденец?
Я покачала головой, закусив губу и часто моргая.
– Нет. Спасибо.
– Я любила ириски, ты любила мятные конфеты, Тедди. Я хранила мятные конфеты годами, на случай, если ты вернешься. Я спала с мужчинами. Это ничего, правда? Все время, пока не поняла, что Марк тоже меня не любит. Но они мне никогда не нравились. – Она задрала юбку и вытерла нос, последние слезы. – Помнишь клоуна Джеки, который воровал газеты?
Я беспомощно кивнула.
– Я тоже помню. Иногда я вспоминаю все это. Я помню все, и я думаю об этом, и я думаю о тебе. – Она медленно моргнула. – Сегодня я видела молнию. Я наблюдала из гостиной. Я поняла, что это что-то значит. Такой сильный шторм – мы привыкли к ним. В последнее время погода хорошая. Помнишь, что я сказала тебе, когда уходила? Погода прекрасная. Когда я вернулась, тебя уже не было. Я помню. – Она взяла меня за руки. Она улыбалась. – Погода прекрасная, Тедди.
– Вот вы где, мисс Трэверс, – сказал джентльмен в красных брюках солидного возраста, направляясь к нам. – Эбби повсюду вас ищет! – Он посмотрел вниз и улыбнулся, а я уставилась на нее. – Давайте вернемся в квартиру, хорошо? Она говорит, что вам пора отдохнуть.
– Вы мой муж? – сказала Лиз Трэверс.
– Если бы мне так повезло, мисисс Трэверс! Я – Робин Паркер, – сказал мужчина в красных брюках с напускной веселостью. – Я ваш сосед.
– Я вас никогда в жизни не видела, – сказала Лиз не слишком вежливо.
– Ха! Ну, я владелец винного магазина.
– Как интересно, – сказала она.
Робин Паркер сказал:
– Вы скупили все вино к своему восьмидесятилетию, помните? У вас в квартире была вечеринка, и кто-то вызвал полицию.
– Правда? – сказала Лиз, и в ее глазах мелькнула насмешка.
– О, это был настоящий погром. Вы побили почти все бокалы, у вас там была игра, основанная на традициях греческой свадьбы. Вы сами заставили меня разбить один бокал. – Он пристально смотрел на нее, его громкий голос ревел, как рог. Она молча смотрела на него. – Давайте пойдем назад.
– Хочешь мятный леденец? – сказала она, вынула из кармана конфетку и дала ему, а он взял ее за руку и мягко увел за собой.
Я смотрела им вслед, а потом она повернулась и позвала меня, и я побежала к ним.
– Ага! – не без облегчения сказал Робин Паркер. – А вот и Эбби! Теперь я ее вижу.
– Когда я сама заработала достаточно денег, – прошипела Лиз Трэверс мне в ухо, – я купила еще одну брошь, точно такую же, как та, что ты продала. Только черную – черную, как смоль, – потому что ты разбила мне сердце. Ты вернулась туда, вышла замуж, родила сына, и я видела его однажды, видела, как он читал лекцию в Оксфорде, и я знала, что он твой сын. И пока ты не отправила эту книгу, ты так и не вышла на связь, Тедди. – Ее черные глаза снова наполнились слезами. – Почему ты просто не написала или не позвонила?
Робин Паркер выглядел несколько озадаченным. Эбби приближалась издалека.
– Почему? Почему?
– Я не знаю почему, – сказала я. – Не знаю почему. Извините. – Я закрыла глаза. Давай. Не бойся. – Но я любила тебя. Всю тебя. Всегда любила. Ты же знаешь.
– Да… – медленно произнесла она, не сводя с меня глаз. – Да… да, это так, правда?
Мы уставились друг на друга, и я затаила дыхание.
– Лиз? – Эбби подошла ближе и остановилась поговорить с Робином. – Лиз… Мисс Трэверс. – Она оглянулась. – Нина? – позвала она. – Это вы? Нина?
Я взглянула на Лиз Трэверс и кое-что увидела. Она посмотрела на меня, наклонилась ко мне, и мы оказались в нескольких дюймах друг от друга. Я наклонилась, и она посмотрела мне в глаза.
– О, – сказала она резко. – Ты Нина, да?
Я кивнула.
– Я знаю, кто ты. Да. Да, хочу. Быстро. Я дала тебе те фотографии, да?
– Да, мисс Трэверс, и…
Она покачала головой, сглотнула и снова сжала мою руку.
– Слушай меня. Книга у тебя? У тебя есть бабушкина книга? Отвечай сейчас же. Быстро. Пока не прошло.
– Та, про бабочек? «Нина и бабочки»?
Она нетерпеливо пожала плечами.
– Она написала обо мне. Она послала ее мне перед смертью. Наше лето бабочек. Мемуары… один экземпляр для отца, один для меня. Она не хотела, чтобы ты знала, но она ошибалась… Я прочитала, что она написала, я знаю ее, и она ошибалась. – Моя рука заболела от ее хватки; она прошипела: – Она у тебя? Я не могу ее найти. Кажется, свою я сожгла, не знаю почему. Ты знаешь, я многое забываю.
– Книга? – я озадаченно кивнула. – Думаю, да… да, она всегда была у меня. Она дома.
– Да? Но ты говоришь неуверенно. – Она разочарованно смотрела на меня. – Значит, ты все знаешь?
– Детская книжка про бабочек? – спросила я, и она рассмеялась.
– Нет, нет, Нина, не такая. Ты не нашла его, ведь так? Ты должна найти его. Поехать в Кипсейк. Или найти своего отца. У него был второй экземпляр. Всего два.
– Но я не знаю, где Кипсейк, – сказала я.
– Кто-то должен знать. Кто-то, кто знал твоего отца. Я так и не поехала. Кто знал твоего отца?
– Никто – разве что моя мать… – начала я и замолчала.
– Тогда ответ дома. – Она кивнула и подняла руку навстречу Эбби, которая ждала чуть дальше. – Иду, иду. Я иду. Хорошо. – Потом быстро заморгала и полезла в карман. – Хочешь мятный леденец?
И я сказала:
– Да, пожалуйста, Лиз… Элис.
Я подняла глаза – небо было бело-голубым, дождь почти прекратился.
– Погода прекрасная, – сказала она.
– И… спасибо.
– Эл. Ты всегда называла меня Эл. – Она вынула что-то, вложила мне в руку и пошла дальше, нерешительно, совершенно не реагируя. Я опустила глаза и, моргая, разжала пальцы. И там, в складке моей ладони, лежал мятный леденец – белый и твердый, как только что снесенное яйцо.
Глава 21
Я тихо закрыла входную дверь и прислонилась к ней. День клонился к вечеру. У меня кружилась голова – я ничего не ела со вчерашнего обеда.
Медленно я сняла босоножки, чтобы пройти и найти какой-нибудь еды. Я тихонько шла на цыпочках по истертой рафии к лестнице, когда рядом со мной раздался голос:
– Нина? Слава богу.
Я подпрыгнула и посмотрела вверх. Там, на третьей или четвертой ступеньке, сидела мама, такая неподвижная, что я не заметила ее среди пальто и стопок книг и журналов.
– Боже, – сказала я, хватаясь за грудь. – Ты меня напугала. – Я кашлянула. – Значит, ты встала с постели?
– Когда моя дочь сутки не приходит домой, я встаю с постели, да, – тихо сказала мама. – Я думала, с тобой что-то случилось.
Я рассмеялась.
– Не смеши меня, мам.
– Ты могла бы позвонить мне.
Я слишком устала, чтобы быть вежливой.
– С какой стати мне звонить тебе? У тебя нет мобильного, а стационарный телефон на кухне, так что смысла не было. – Я начала спускаться по лестнице.
– Сегодня утром я ходила к адвокатам, – крикнула она через перила.
– Сегодня воскресенье, – раздраженно сказала я и исчезла на кухне.
– Я подписала бумаги отца и оставила их охраннику. Ты рада?
– Здорово, мам! – крикнула я. – Правда здорово.
Мама появилась на верхней площадке кухонной лестницы.
– Так ты скажешь ему, когда увидишь? Когда… когда вы там собираетесь в Кипсейк?
Я сказала коротко:
– Я не еду.
– Что?
– Он сбежал. Снова.
Она спустилась по лестнице, и мы стояли под резким светом прожектора. Волосы у нее были сальные, гладкие, кожа восковая и бледная от недельного отсутствия солнечного света, а под глазами залегли огромные круги. Она с любопытством посмотрела на меня, на мое высохшее старое платье и мокрые волосы.
– О, – сказала она. – Тогда ладно.
Я отвернулась и включила чайник.
– Завтра я все же съезжаю, – сказала я. – Я возьму сумку на работу, а потом перееду к Элизабет на пару недель, пока не найду другое место.
– Но тебе не обязательно съезжать.
– Что, потому что в конце концов я не ослушалась твоих указаний? Конечно. – Я жевала хлеб.
– Нет, потому что я не хочу, чтобы ты уходила, – сказала мама. – Я серьезно. Пожалуйста, останься, милая.
– Я должна, мам. Это… не работает. Мне лучше уйти. Я хочу быть с тобой в хороших отношениях. В данный момент я думаю, что, если я продолжу жить здесь, у нас может вообще не быть отношений.
Я видела, как она удивилась, но я была уставшей, потной, грязной и поняла, что просто не в силах долго разговаривать. Мне было все равно.
– Нина, я знаю, ты считаешь меня плохой матерью… – начала она.
Я устало покачала головой:
– Нет, мам. Слушай, мы можем просто оставить этот разговор? Я очень устала. Не лучше ли нам просто немного побыть порознь?
– О, мне очень жаль, – сказала она, ее губы дрожали, и пока я смотрела на нее, я почувствовала, как что-то пронзило меня, ярость, которую я не знала раньше, подплыла так близко к поверхности.
– А вот и нет, мам, – сказала я. – Тебе не жаль. И меня тошнит от того, что мы с Малком скачем вокруг тебя, пока ты не решишь, как тебе лучше. Я знаю, у тебя были трудные времена. Но я все время доказываю, что ты не плохая мать. – Я вытянула руки. – Ты неплохая мать. Вряд ли кто-то вообще плохая мать. Я устала тебе это говорить. – Я откусила еще немного хлеба, пытаясь притвориться, что контролирую ситуацию. Я подняла руки. – Но да, это правда, ты не была такой уж замечательной большую часть времени. Ты это хочешь услышать? Я люблю тебя, но это правда. – Мои руки бессильно опустились. – Давай просто забудем об этом. – Я взяла еще хлеба. – Пойду соберу свои вещи.
Она глубоко вздохнула.
– Ну, если ты так считаешь, конечно… н-но, Нина, я думаю, что некоторые воспоминания искажаются со временем.
– Рождество 1999 года! – вдруг закричала я. – Ты провела весь день в постели, потому что не хотела спускаться вниз. Серьезно, ты собираешься притвориться, что этого не было? Ты делала это всю мою жизнь.
– Что?
– Подводила меня, когда ты была нужна мне больше всех.
Мы посмотрели друг на друга, и я думаю, мы обе были поражены, что я говорю такие вещи, но теперь я была как ребенок, который тычет палкой в осиное гнездо, не в силах остановиться. Я приложила ладонь к голове.
– На премьере школьной пьесы, когда я была Хеленой и говорила монолог, ты не пришла, потому что у тебя была лекция в Бристоле. Помнишь? И, мама, это действительно не имело бы значения, я знала, что ты должна работать, только ты кричала и устроила такую большую драму, что я попросила у тебя прощения за то, что премьера пьесы была в тот же день, что и лекция. Ты делаешь все только для себя! – Я уже кричала. – Все, черт возьми! Мой отец вернулся спустя двадцать пять лет, а ты все это время лгала мне, и это я чувствую себя виноватой, это меня отчитывает Малк, а ты просто уходишь в свою комнату и дуешься целыми днями. И не пытайся сделать вид, что это не просто обида. Ты была нужна мне. – Я была как пьяная, как под кайфом, адреналин бурлил во мне. – Я знаю, что все было невыносимо тяжело, мне жаль, что у тебя была передозировка. Мне жаль, что я была ужасным ребенком, который все время кричал, и мне жаль, что папа ушел, и он был дерьмом в первую очередь, мне жаль за все, но – мама! Я ведь ни в чем не виновата! – закричала я. – Ни в чем! Поэтому… – Я остановилась перевести дух. – Перестань вымещать все на мне. Я больше этим не занимаюсь. С меня хватит. Понятно?
Мама закрыла голову руками.
– Сядь, – сказала я. – Ради бога, посмотри на меня.
– Не разговаривай со мной так, – сказала она. – Не груби. Я не могу смотреть на тебя, не когда ты…
– Да ты просто не понимаешь! – Я даже топнула ногой. – Ты не слушаешь меня, мама! Дело не в тебе! На этот раз точно не в тебе!
Она подняла глаза и тихо рассмеялась.
– Почему ты смеешься?
– Просто это кажется забавным, вот и все. Милая, ты говоришь мне, что я не плохая мать, а потом перечисляешь кучу случаев, когда я тебя подвела. Как некому было за тобой присматривать. Это чудо, что ты такой выросла.
– У меня была миссис Полл, – сказала я, и наступило напряженное молчание.
Она кивнула:
– Конечно.
– Это не чудо. Это все она, – сказала я решительно. – Мы обе знаем, что она спасла нас обеих. Пока не появился Малк. Это все они. А вовсе не ты.
Я увидела, как лицо мамы сморщилось, и поняла, что зашла слишком далеко.
– Я знаю, – сказала она. Она нервно вытерла глаза и рот костяшками пальцев. – Эта женщина… Боже, я любила ее, но иногда мне кажется, что ее послали, чтобы выставить меня шарлатанкой. – Она встряхнулась. – Забудь. Ты права. Ты совершенно права.
– Мам, прости меня. Я зашла слишком далеко… Я… Я знаю, что все хорошее досталось миссис Полл.
– О, не обязательно. Она тоже много чего сделала. Это она сказала мне, что у тебя вши, а потом про твои кошмары. – Она пожала плечами. – Хотела бы я лучше во всем этом разбираться. Но я начала верить, что уже все испортила настолько, что было чертовски хорошо, что она была рядом, чтобы все поправить. Спасти тебя. Любить тебя.
– Это безумие, – сказала я, и у меня защипало глаза. – Да ладно, мам, она не была тобой, она никогда не была тобой.
– Ха. – Мама подняла брови. – Знаешь, когда я пыталась читать тебе, ты слезала с моих колен и кричала: «Мамочка Полл! Я хочу мамочку Полл!»
– Это ужасно, – сказала я, покраснев. Я осознала, что стою там в своем испорченном платье, мои волосы все еще влажные на затылке. – Мам, это только потому…
– У нее получалось гораздо лучше. У нее все получалось лучше. – Мама поморщилась. – Да благословит ее Бог, но иногда она действительно заставляла меня чувствовать себя паршиво. А потом, оставив нам квартиру и деньги, она стала святой. Ведь я никогда не смогу ей отплатить. Я знаю, что она не хотела так. Я так ей благодарна. – Она замолчала. – Забудь.
Это была наша первая критика в адрес миссис Полл в этом доме.
– Она просто хотела помочь, – сказала я растерянно.
– Да, я знаю. – Мама еще раз обняла меня и успокаивающе похлопала по спине. – Я знаю, милая. Но дело в том, что она… – Она замолчала. – Знаешь что? Теперь все в прошлом. Я не смогу ничего изменить. – Она стряхнула с кухонного стола весь мусор и протянула руку. – Ну, из меня не получилась мама, которая печет пироги и заплетает тебе волосы. Но могу ли я быть мамой, которая хороша в других вещах?
Я взяла ее за руку.
– Ты и была, мама, не глупи. Ты чуть не оторвала ухо Эми, когда она издевалась надо мной. Ты разрешала мне смотреть с тобой «Баффи», когда я была еще маленькая, потому что знала, что мне понравится, и ты была права. И ты напоила меня перед тем, как я поехала в колледж, чтобы я знала, как это ужасно, и никогда не захотела делать это снова. И когда я ушла от Себастьяна и приехала сюда, ты… Ты никогда не говорила то, что я тебе сказала. Ты никогда не отшивала его. – На глаза навернулись слезы, я сглотнула и потянулась за булочкой. – Ты только сказала мне, какой он хороший и как плохо, что ничего не вышло. Ты заставила меня почувствовать себя нормальной, впервые в жизни.
Она уставилась на меня:
– Но ты нормальная, милая.
Я рассмеялась.
– Но я не чувствую себя нормальной.
Мы все еще держались за руки. Я наклонилась через стойку и поцеловала ее в щеку, а она убрала прядь волос с моей челки.
– Ты все еще моя маленькая девочка, – прошептала она, и я услышала, как это сдерживаемое, наполненное болью напряжение лопнуло, как будто я наконец вдохнула после долгого пребывания под водой. Я снова сглотнула, всхлипнула, и она улыбнулась.
– Не плачь, милая. Не плачь из-за меня. Сейчас все хорошо, да?
Возможно, мы всю жизнь ждем, чтобы понять, что наши родители не идеальны. В тот момент я очень любила маму, потому что знала, что она старается. И я поняла, что она, скорее всего, снова подведет меня, и я могла либо позволить этому грызть меня, либо научиться с этим жить и быть благодарной ей за то, что она здесь, что она решила остаться. Я осторожно отодвинулась от нее.
– Давай выпьем чаю, – предложила она.
– Может, выпьем?
– Хорошая идея. – Она достала из холодильника бутылку вина и открыла ее. Первый глоток был восхитителен: пузырьки и прохлада ударили в голову. Мы чокнулись, не совсем понимая, за что пьем, и застенчиво улыбнулись друг другу.
– Этот дом, – сказала я наконец. – Вся эта история с моим отцом. Я не знаю, что делать. Сегодня я встретила кое-кого, кто сказал, что я должна спросить тебя. Что ты знаешь.
– Кто это был? – Мама говорила весело.
– Это долгая история, – сказала я. – Я сказала ей, что ты ничего не знаешь ни о нем, ни о доме. Никто из нас не знал. Это ведь так?
Мама снова глубоко вздохнула.
– Забавно, я кое-что вспомнила, – сказала она, отодвигая один из кухонных стульев. – На нашем третьем свидании твой отец так и не появился. Это должно было быть предупреждением, да? Мы должны были нанять лодку и поехать на пикник в Оксфорд, и он испугался всего этого. Подумал, что я слишком напориста, и уехал к другу на выходные. Я прождала там у моста со своими дурацкими бутербродами с пастой несколько часов. – Она покачала головой. – Я всегда думала, что не знаю о нем ничего жизненно важного. Думаю, мы и сейчас не знаем.
– Как будто есть другая история, которую мы не понимаем? – спросила я, снова задумавшись о Лиз и о книге Тедди…
– Это рамки внутри рамок, не так ли? Мы живем в одной рамке, и есть другие миры в других рамках. Но ты должна попытаться найти его. И этот дом.
– Ты действительно так думаешь?
Она кивнула.
– И я. Но я позвонила адвокатам, – сказала я. – И написала по электронной почте. Они ответили спустя сто лет.
– Это очень странно, – сказала мама, – потому что они смогли быстро связаться со мной по поводу документов о разводе.
– В конце концов они взяли трубку. Они назначили мне встречу с одним из их младших компаньонов через две недели, – сказала я. – Но даже этого я еле добилась.
– Они сказали тебе, где находится дом?
– Нет! Они не отвечают ни на один из моих вопросов. Это так странно. Как будто они не хотят, чтобы я туда ездила. Или как будто все это выдумано…
– Хм. – Мама мрачно улыбнулась. – Ты погуглила? Как он называется?
– Кипсейк. Может быть, он и отмечен на какой-нибудь топографической карте, но я не знаю, где она. А если почитать «Нину и бабочек», то Кипсейк спрятан где-то у широкой реки.
– Это та дурацкая книга, которую вы всегда читали с миссис Полл?
– Это была папина книга, он оставил ее, когда уезжал. – Она неопределенно пожала плечами. – Мам, ты помнишь что-нибудь о нем, о его семье? Хоть что-нибудь?
– Он говорил, что у него очень странная семейная ситуация… но он никогда об этом не рассказывал. Думаю, он любил отца, но к тому времени его отец уже давно умер. Говорил, что не был близок со матерью… И он не часто бывал дома. – Она прищурилась. – Послушай, это было в семидесятых. Люди занимались своими делами. Правда, я помню одну историю про его маму. – Она моргнула. – Пытаюсь вспомнить. Мой мозг затуманен отсутствием активности. Прости меня.
– Все в порядке – мы можем позже об этом поговорить…
– Нет. Сейчас. Что-то есть. – Она прищурилась, глядя на узлы и завитки на столе. – Что он сказал, когда вы встретились? Он сообщил тебе какие-нибудь подробности?
– Не совсем. Он сказал, что дом чудесный. И уединенный. На самом деле он почти ничего не говорил. Но есть фотография моей бабушки, одна из тех, что дала мне Лиз Трэверс, – она на лодке… это, ну, наверное, ручей. Река…
Мамины глаза были закрыты, но она открыла их и посмотрела на меня.
– Ручей. Да. Конечно. Боже.
– Мам?
– Это в Корнуолле, – медленно произнесла она. – Я была там. Он возил меня туда.
– Мам, ты серьезно?
Она дернула себя за волосы, широко раскрыв глаза.
– Как я могла об этом не подумать? Боже мой, так это он? – прошептала она. – Вот что он имел в виду?
Я схватила ее за руку.
– Когда? Когда ты туда ездила?
– Это был конец первого года, который мы провели вместе. Лето семьдесят девятого. – Она слегка поморщилась. – Боже, боже мой.
– Тебе не надо… – начала я, но она покачала головой.
– Мы ехали из Оксфорда. Ехали несколько часов. Мы остановились в этой деревушке. Хелстон. Хелдоне… Хелфорд. Красивое место. И однажды мы пошли… – Ее рука сжала мое запястье. – О, боже мой, Нинс. Мы пошли в этот дом. Он сказал, что они старые друзья его семьи. Что он читал об этом доме и никогда там не был. Вот трепло! – Она посмотрела на меня. – Прости, милая. Но, по-видимому, мы не смогли войти – нельзя добраться до него по дороге, если не пройдешь несколько миль. Он сказал, что там больше нет дороги, они замуровали ее кирпичом, так что придется плыть…
– На лодке, вниз по ручью, – закончила я за нее, и мы снова посмотрели друг на друга. – Мам, – очень осторожно сказала я. – Вы ходили в тот дом?
– Да, – медленно произнесла она. – Мы так и сделали. Мы наняли лодку, и Джордж отвез нас туда, и я помню, что была так впечатлена, немного удивлена, понимаешь? Потому что он был такой скрытный, понимаешь? Я понятия не имела, что он может делать такие вещи, грести, например. Я дразнила его. Он был очень сердит. Но ведь это так – он вел лодку вниз по реке, вдоль этого ответвления, по ручью. И это действительно было далеко, знаешь, с густыми деревьями на берегах по обе стороны. И мы наконец спустились немного ниже, и он привязал лодку и говорит:
– Мы можем просто подняться. Люди, которые здесь живут, они для меня как семья. – Вообще-то я думала, что он немного гордился, но он был таким, Джордж… Он казался напыщенным, а иногда… Неловким или застенчивым. Он был таким сложным мальчиком. Он был таким красивым, твой папа, но таким неуверенным в себе… – Она замолчала. – Как бы то ни было, мы поднимаемся по лестнице, вырубленной в скале. Мы поднимаемся на вершину, и там есть тропинка, покрытая плющом, и там действительно темно, и он говорит: «Осторожно, не поскользнись», и «Зимой вообще очень плохо», и все такое, а склон и правда крутой…
Она остановилась.
– Он бывал там раньше. Он знал это место. Понимаешь? Но тогда я этого не поняла. Мы целую вечность карабкались по этой тропинке, продираясь сквозь деревья, заборы и все такое, и вот этот… Этот дом. – Она сглотнула. – О, это было странно – смотреть сквозь него и видеть его вот так.
– Почему? Что странно?
Она пожала плечами:
– Не знаю. Дальше он не пошел. Внезапно он повернул. Сказал, что там кто-то есть и что мы зашли на чужую территорию. – Мамины глаза горели, ее щеки стали алыми. – Мы развернулись, спустились вниз, сели в лодку и поплыли обратно. Больше мы об этом не говорили. Я ничего не знала.
Я моргнула, у меня кружилась голова.
– Но ты видела дом? – сказала я. – Ты там кого-нибудь видела? Какой он?
– Там были ворота, большие каменные ворота с… со львом? Лев и лиса, бодающиеся друг с другом. – Мама говорила медленно. – Это я помню. За воротами виднелся дом – но… О, дорогая, я почти ничего не увидела. Он так зарос. Но из одной из труб шел дым.
– Значит, там кто-то жил.
– Эх. И у него были эти зубчатые стены, идущие вдоль вершины, и он был длинным и низким. Очень старый. А сбоку было эркерное окно. Я это запомнила, потому что училась в Ориел-колледже. Вот…
– Это мой дом, – сказала я. Мы смотрели друг на друга, слегка улыбаясь, не в силах скрыть волнение в голосах.
– Интересно, почему он хотел, чтобы я его увидела?
– Потому что он был влюблен в тебя, он хотел показать тебе его, – сказала я.
– Но потом повернуть назад, уйти…
– Мама. Как думаешь, ты помнишь, как туда добраться?
– Добраться туда? Милая. Ты имеешь в виду самим? – Мама сделала большой глоток вина.
– Я поеду одна, если ты чувствуешь, что не можешь. Но было бы намного лучше, если бы ты была там. – Я теребила кожу вокруг ногтей, не смея взглянуть на нее. Я хотела, чтобы она поехала, но в то же время я все еще немного боялась, что она что-нибудь натворит, все испортит.
– Конечно, конечно, я поеду, – сказала она.
– Ты уверена? – сказала я. – До Корнуолла далеко.
Мама держала меня за руки.
– Абсолютно. Так или иначе, мы найдем этот дом. – Она замолчала. – Если это так. Если это то место. Знаешь, я в это не верю. Я не понимаю, почему никто не говорит тебе о нем правду. Просто для меня это выглядит подозрительно почему-то.
– И для меня. Я не знаю, что мы будем делать, когда доберемся до этого места, – сказала я, отрезвев от этой мысли. – Или что мы там найдем.
– Не важно. Мы действуем! Мы уезжаем завтра! – воскликнула мама, театрально ударив кулаком по кухонному столу. – Я буду готовить еду! Я принесу пастрами и сэндвичи с огурцом из моей страны!
– Ладно, – сказала я. Я знала, что она забудет и я сама сделаю их утром. Но это было нормально. Все было в порядке.
Глава 22
Мы уехали до завтрака в мамином любимом, но потрепанном «Гольфе», после того как я очистила его от привычных остатков обертки от еды, салфеток, футляров для контактных линз и газетных вырезок, которые она вырвала, вероятно, за рулем. После того как мы сильно покачали его вверх и вниз, что было единственным способом запустить древний двигатель, мы уехали.
В дверях стоял Малк и махал рукой на прощание. Я чувствовала, что он, вероятно, думает, что все это предприятие безумное, но не сказал об этом вслух, а я не решилась спросить, чтобы это не услышать. Он отправился в кафе за углом и купил нам свежие круассаны и кофе в бумажных стаканчиках. И хотя мое сердце болело при виде его такой одинокой коренастой фигуры, обрамленной дверным проемом, он стоял, как маленький мальчик, пытающийся стать взрослым, нам пришлось помахать на прощание, и в конце концов мы поехали по пустынной улице.
Накануне вечером я написала Брайану Робсону по электронной почте, что срочные семейные дела заставили меня уехать из Лондона и что меня не будет два дня. И в порыве самосожжения добавила:
Я очень сожалею о том, что не предупредила, и о том, что последние два месяца я не была готова к работе. Я пойму, если вы посчитаете необходимым уволить меня.
Еще не было половины восьмого, когда мы проезжали через Блумсбери, и дороги были пусты, постепенно заполняясь по мере того, как мы двигались на запад, через Пиккадилли и Грин-парк, сворачивая, чтобы избежать огромных затемненных «Ренджроверов», которые даже в это время дня забивали Найтсбридж. Мы миновали «Хэрродз», который когда-то был моим любимым магазином, и «Фоссилз», который я не посещала уже много лет. Он все еще был закрыт. Молодой развязный плейбой сидел за витиеватыми окнами в ярко-желтом «Мазерати», не обращая внимания на окружающих и загораживая большую часть дороги. Мы просигналили ему, чтобы он отъехал в сторону, и, даже не глядя, он поднял средний палец и продолжил играть со своим телефоном.
– Эй, ты! – закричала мама. – Ты!
Он обернулся.
– Это город, мы все здесь живем. Имей какое-то уважение!
– Да пошла ты! – закричал он, все еще не глядя на нас. – Старая сука!
– Вонючий ублюдок! – мама завопила на него из окна. – С очень, очень маленьким членом!
– Не думаю, что здесь распознают такой язык, – сказала я, когда мы мчались к музею Виктории и Альберта.
– Люди всегда говорят: «Неужели не жалко, что города меняются?», и они имеют в виду мусор и небоскребы, а я думаю, что это чушь собачья. Вот что губит наш город, – сказала мама, откидывая голову назад. – Эти люди. Эти деньги. Говорю тебе, это не Лондон. Это салон первого класса в Эмиратах.
– С Олимпиадой в следующем году.
– Они все говорят, что Олимпиада все изменит. Это тоже чушь собачья. Все чушь. Вот увидишь, через три года Лондон развалится на куски, а мы все равно будем за все платить.
Я любила маму такой: бесстрашной, уверенной в себе.
– Ты ведь не нервничаешь? – спросила я ее, когда мы въехали в Ричмонд, и Лондон отступил, сменившись зелеными пригородами, вспышками Темзы, первыми признаками сельской местности.
– Нервничаю? Я ужасно боюсь, – сказала она, поднимая руку, чтобы поблагодарить водителя за то, что он пустил ее на скоростную полосу. – Понятия не имею, во что мы ввязываемся. Я даже не знаю, куда мы едем.
– Разберемся, когда будем ближе, – сказала я. Я опустилась на сиденье, глядя на дорогу. – Мы доберемся туда.
Мой телефон разрядился где-то по ту сторону моста Тамар, и к тому времени, как мы миновали Труро, я уже полагалась на наш древний дорожный атлас, который – тут надо признать победу моей мамы-технофобки – на самом деле оказался гораздо полезнее, чем телефонный навигатор. Было что-то бодрящее в том, как развивалось наше путешествие, в графствах, которые открывались для нас. Я никогда не покидала Лондон, и вот мы здесь, едем на запад с солнцем за спиной.
Мы остановились на бензоколонке в Хэмпшире, и там, сидя под флуоресцентными лампами, исподтишка поедая свои сэндвичи и попивая кофе с металлическим привкусом, окруженные либо пенсионерами, молча потягивающими чай, либо отчаявшимися семьями, ссорящимися из-за орущих малышей. Я неожиданно подумала, что вся эта задумка очень глупая. Даже если мы найдем дом, сможем ли мы просто так войти? Живет ли там сейчас кто-то еще, престарелый слуга, о котором местные рассказывают разные страшные истории, или дальний родственник, с которым нужно считаться?
А может, там мой отец?
Но мама снова удивила меня своей выносливостью в долгих поездках, а также жизнерадостностью и возбуждением.
К тому моменту, как мы проехали Фалмут, я устала и нервничала, и у меня болел лоб от долгого пребывания в машине. Мы проехали еще одну деревню и направились к реке – я видела, как она поблескивает вдалеке, а за ней – море, – а потом наткнулись на знак, который категорически запрещал нам ехать дальше в промежутке между маем и октябрем.
– Что же нам делать? – сказала я, глядя вперед на крутую дорогу, у которой виднелось несколько крыш. Я прислушалась к реву ветра в деревьях. На широкой пустынной дороге не было никакого движения – до школьных каникул оставалось еще несколько недель. Мама свернула на боковую дорогу, заглушила двигатель и вылезла из машины. Я последовала за ней и стояла, отряхивая затекшие ноги и оглядываясь по сторонам, пока она писала записку и засовывала ее под ветровое стекло.
– Вот, – сказала она, беря меня под руку. И она улыбнулась мне, и я почувствовала, что все хорошо, действительно хорошо, если она со мной. – Пойдем.
Только когда мы прошли несколько шагов по дороге, я оторвалась от нее, побежала назад и взглянула на записку. Она написала:
Ищу родовой дом единственного ребенка. Это звучит невероятно, но это правда. Надеюсь, здесь есть парковка. Уберу автомобиль, когда все закончу или найду его, смотря что раньше случится. Извините / Спасибо.
Мы пошли по дороге, которая сузилась до извилистого переулка. Широкие сине-зеленые воды реки, окаймленные густыми деревьями, то появлялись, то исчезали из виду, когда мы спускались вниз, окруженные живыми изгородями, на которых цвели сладкие мускусные цветы бузины. Внизу мы увидели широкое пространство реки Хелфорд. Было тихо, лишь изредка солнечные лучи, словно блики, отражались от мягко движущейся воды, а перед нами раскинулся крошечный пляж, покрытый галькой и песком. Там было несколько белых коттеджей, паб со столиками снаружи, киоск с мороженым, пристань и, на самом пляже, две рыжеволосые девочки, решительно бросающие камни в воду.
– Давай спросим в пабе, – предложила мама, поднимаясь по ступенькам.
Я схватила ее за руку:
– Ой, подожди, мам.
Она повернулась ко мне:
– В чем дело?
– Что… Они ведь не узнают, правда? Я имею в виду, это немного странно, просто зайти и начать задавать странные вопросы о доме, не так ли? Давай немного подождем.
Мама сжала мою руку и улыбнулась мне, яблоки на ее щеках сияли.
– Милая, мы ждем уже двадцать пять лет. Не будем больше ждать. – Она повернулась и пошла вверх по ступенькам.
Но в пабе не слышали ни о доме под названием Кипсейк, ни о семье Парр. Ни хозяин, ни один из завсегдатаев бара, краснощекий старик в выцветших синих брюках, который пил эль. Они подозвали симпатичного бармена с дредами и спросили его, и он с сожалением покачал головой.
– Я не могу вспомнить название ручья, – сказала мама, когда я отстала. – Здесь вообще есть ручей?
– Их около тридцати, – сухо ответил бармен.
– О. – Она не смутилась. – Иордан-Крик? Ханаан-Крик?
Но все покачали головами, а завсегдатай за стойкой озадаченно посмотрел. Здесь так много домов, что большинство людей не знают ничего, как раньше. Он бывал здесь всего несколько недель в году – и то чтобы плавать, а не смотреть на дома.
– Это точно недалеко от Хелфорда, – сказала мама, на что симпатичный бармен спросил, знаем ли мы, что находимся в Хелфорд-Пассаже, а не в Хелфорде, главной деревне.
– Где Хелфорд? – сказала я, и сердце у меня упало.
Он указал через реку на скопление домов и лодок, драматически прилепившихся к противоположному берегу.
– Это Хелфорд.
– Сколько времени нужно, чтобы туда доехать?
Он покачал головой:
– Нет смысла садиться за руль. Чтобы добраться до другой стороны, вам потребуется по крайней мере сорок минут. Снаружи есть пешеходный паром. Им управляет мой брат. Он знает каждый ручей и бухточку на этой реке. Если вы хотите пойти и спросить там, он отвезет вас, куда вам нужно.
Было уже далеко за полдень, и лодка ждала у пристани. Лодочник улыбнулся, когда мы объяснили ему нашу миссию.
– Я могу отвезти вас в Хелфорд, – сказал он. – И обратно, когда будете готовы.
Солнце было теплым, но туманным, и оно отбрасывало золотистую тень на прозрачные аквамариновые воды. Там, на реке, было так тихо, что слышался только шум мотора, позвякивание мачт, «клинк-клинк» на ветру и шелест деревьев.
Выплыв на середину реки, мы увидели ее просторы: лесистые бухточки, ручьи и заливы выше по течению и широкий открытый горизонт, ведущий к морю. Я никогда раньше не видела ничего подобного: вода, как в Карибском море, а не в Англии; великолепное ощущение пространства и тишины, и ощущение, что земля окутана историей. Я наблюдала за всем этим, как зачарованный ребенок.
– Что-то узнаешь? – спросила я маму.
Она что-то бормотала себе под нос, снова закусив губу.
– Вроде. И все же – это так трудно. Макао? Манна? О боже. Эй, – обратилась она к лодочнику, – ты знаешь какой-нибудь ручей под названием Манна-Манна?
– Похоже на то. – Лодочник улыбнулся. – Вы имеете в виду Манаккан-крик?
Мама захлопала в ладоши.
– Да! Вот он! Вы можете отвезти нас туда?
– Мам, он просто переправляет нас на другую сторону, – сказала я, и мое лондонское воспитание оказалось на первом плане. – Это не личное такси.
– Я могу, если вы меня наймете и если никого не окажется на обратном пути… – Он указал на другой берег реки. – И если прилив будет в нашу пользу. Я отвезу вас к ручью Манаккан.
– Как вас зовут? – спросила мама, беря его за руку.
– Джошуа, – сказал он немного застенчиво, прищурившись и улыбаясь ей в лицо. – А вас?
– Ну, меня зовут Дилл, а это Нина, моя дочь, и вы оказываете нам огромную услугу. Спасибо.
Джошуа сказал что-то в рацию, чтобы дать знать другому судну, где он, а затем изменил курс вверх по течению.
– Это займет минут пять. Расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой, – сказал он.
По дороге он показывал нам дома: вот здесь жил знаменитый ученый, удалившийся на покой в дом на холме; учитель, который каждый день плавал в школу по реке. Он показал нам устричные отмели, производящие миллионы устриц в год, канюков над головой, на которых нападают молодые вороны, и серебристый лишайник, похожий на желто-серые волосы, цепляющийся за деревья, нависающие над рекой. По обеим сторонам тянулись густые леса, кое-где виднелись странные дома и причалы. В остальном это была только свежая зелень деревьев раннего лета, темно-бирюзовая синева воды, яркая голубизна полуденного неба и мы.
Вскоре дома закончились, только мы и птицы направлялись к ручью Манаккан, широкому, как река, окаймленному деревьями.
– Как далеко вы хотите подняться вверх по ручью? – спросил Джошуа.
Мы с мамой переглянулись и рассмеялись.
– У тебя есть весло? – спросила мама. – Не уверена. Мы можем где-нибудь остановиться?
Он покачал головой:
– Не так уж много мест, где я могу вас высадить, особенно во время прилива. Если мы дойдем до самого истока ручья, он как бы иссякнет, превратится в чащу деревьев, ползучих растений и всякой всячины. Кричите, если увидите место, где захотите остановиться, а я посмотрю, что можно сделать. – Он продолжал: – Здесь нет ничего, кроме деревьев и воды.
Я сморщила нос, стараясь не выдать своего смущения.
– Нет… ни входа в дом, ничего?
– Дом? – Джошуа улыбнулся. – Я так не думаю.
– Кажется, когда-то здесь был дом, – сказала я.
Он пожал плечами. Он был очень спокойным человеком.
– Я всю жизнь провел на реке и ни разу не видел здесь дом.
И тут мама вдруг закричала:
– Вот! Вот он! – Она склонилась над лодкой.
Джошуа схватил ее за плечо.
– Отойдите, пожалуйста. – В его голосе слышалась нотка гнева – эти глупые лондонцы, которые возятся в моей лодке.
Но она не двигалась.
– Нина! Смотри. Я вижу его. О да, что-то вижу, а ты? – Она повернулась ко мне и сделала жест рукой, растрепанные волосы упали ей на лицо. – Смотри! Только посмотри.
Только посмотри. Я так и сделали. Я вскарабкалась на ее борт и обернулась посмотреть, куда она показывает.
Сквозь густые заросли, под ивой, которая за эти годы согнулась и скрутилась так, что свисала почти до самой воды, что-то торчало. Маленькая каменная платформа, три ступеньки, вода лижет темный шифер. И если оглянуться на все это, попытаться смотреть сквозь деревья, то можно различить что-то еще. Арка, выступающая с берега, достаточно широкая, чтобы через нее смог пройти человек, не более того, но настолько заросшая, что ее почти не было видно.
Мы повернулись к Джошуа.
– Ну, – сказал он, почесывая в затылке. – Раньше я его не замечал. Думаю, и вы случайно заметили. Смотрите, отлив начинается. Мы не можем оставаться здесь слишком долго, иначе я не смогу отвезти вас назад.
– Совсем чуть-чуть, – сказала мама и одарила его своей самой широкой щербатой улыбкой. – Мы бы не просили, если бы это не было так важно.
– Что именно вы ищете? – сказал он вежливо, и я внутренне съежилась от страха, что меня разоблачат как самозванку.
– Ничего… – начала я, но почувствовала прохладную руку на своем плече, и мама сказала:
– Джошуа, у семьи отца моей дочери был здесь дом. Мы пришли, чтобы найти его. Я думаю, что все это, наверное, пустяки, но мы ждали двадцать пять лет. Я понимаю, у вас нет причин помогать нам…
– Как вы сказали, ваша фамилия?
Что-то застряло у меня в горле.
– Парр. Меня зовут Нина Парр.
Он улыбнулся нам в ответ, и я поняла, что он на нашей стороне. Потом спокойно кивнул:
– Я слышал, что там, наверху, был большой дом, что там веками жила семья. Я понятия не имел, что вам нужно туда.
– Правда? – быстро сказала мама. – Так вы слышали о нем?
– Только слухи, полуправду. – Он слегка повернул румпель вправо. – Так вы Парр?
Я пожала плечами и кивнула, когда он развернул лодку и направился к крошечному причалу, стараясь не показать, как на меня подействовало то, что он узнал мое имя.
– Почему вы слышали о доме, а ваш брат нет?
– Он приезжает в Хелфорд только по работе. А я большую часть года провожу на реке. Не так уж много людей живет здесь из поколения в поколение. Все разъехались В основном тут отдыхающие. – Он улыбнулся. – Но есть несколько человек, которые мне кое-что рассказывали. Старики, большинство из них уже умерли. Есть люди, которые помнят Парров. Но я слышал, что их здесь больше нет. Что однажды последняя из них исчезла и… – Его лицо приняло строгое выражение. – Кто знает? Не могу сказать.
– Тогда что там наверху? – сказала мама, сжимая мое плечо.
Джошуа улыбнулся.
– Опять же, не знаю. Давайте посмотрим, насколько близко мы сможем подобраться, хорошо?
Сердце уже колотилось у меня в груди, в горле, кровь стучала в ушах. Мы пришвартовались.
– Смотрите, здесь крючки, – сказал Джошуа изменившимся голосом. – Кто-то пользовался этим местом. Место для большой лодки, если бы оно не было таким заросшим, я бы сказал. Я подожду здесь, если можно.
Я кивнула.
– Сколько у нас времени? – Я взобралась на короткий причал, держась за ивовую ветку, и протянула руку, чтобы помочь маме выбраться на берег.
– Тридцать, сорок минут? Нормально?
Должно хватить. Пока. В любом случае, что еще мы можем сделать?
Мы не знали, где находимся, а машина была на другом берегу реки, в другой жизни.
– Конечно, – сказала я и повернулась к берегу.
Вода плескалась у наших ног, когда мы поднимались по каменным ступеням, а затем через арку, которая была так овита плющом, что мы едва смогли протиснуться. Высоко на деревьях пели птицы. Едва заметная рябь ветра пробегала по воде позади нас, и я старалась не думать, что ступаю в другой мир.
– Ты готова? – спросила мама.
– Не уверена, – нервно улыбнулась я. Но на самом деле я была готова.
Мы поднялись по каким-то извилистым ступеням, вырубленным в камне, под потолком из ивняка и плюща, и оказались в темноте, где нам пришлось пробиваться наверх. Там были металлические перила. Кто-то когда-то позаботился об этом. Когда мы вышли, тяжело дыша, мы попали на крошечную тропинку, которая огибала край леса и смотрела вниз на реку. В нескольких метрах под нами на воде мы увидели Джошуа.
– Вот оно, – прошептала мама.
Я вздрогнула, и мы пошли дальше. Кое-где виднелись следы человеческого присутствия – деревянный столб с желудьком, обозначавшим тропинку, упавший ствол дерева, который кто-то обтесал для усталого путника. Но кроме этого, только деревья, поднимающиеся вдали от нас.
– Итак, куда теперь? – Мама огляделась. – О боже, Нинс. Я правда не помню, что мы делали, когда приехали сюда. Все было не так. Все не так… заросло. Может, я ошиблась.
– Он должен быть здесь, мам. Должен. – Я старалась говорить спокойно, пока мы осматривали лес в поисках знака, тропинки, чего-нибудь, но ничего не было. Я попыталась скрыть разочарование, и только когда мои глаза потеряли фокус, сквозь туман я что-то разглядела. Не тропа, ничего такого явного. Но что-то, что когда-то было здесь: тропинка, небольшой просвет в зарослях. Я показала пальцем: – Смотри.
– Кто-то ходил по этой тропинке совсем недавно, – сказала мама. – В некоторых местах проход свободнее.
– Ты уверена? – сказала я, стараясь не выдать страха.
– Да. Посмотри на траву и на то, как вытоптали мох. – Я всегда считала ее городской девчонкой, как и я, но сейчас она была в своей стихии, Дилайла Гриффитс, которая проводила лето в северной части штата Нью-Йорк, которая могла распознать клеща, застрелить енота.
Тропа бежала все выше и выше по мере того, как земля поднималась над водой. Воздух был насыщен запахом дикого чеснока, цветущего повсюду в лесной темноте. Он буйствовал над только что засохшими колокольчиками, крапивой и папоротниками.
– Как они вообще сделали тут проход? – воскликнула мама. – Через него невозможно таскать еду и все такое.
– Не думаю, что так было всегда, – сказала я, но тут она схватила меня за руку, и я остановилась.
За густым кустарником показались стена и ворота, выкрашенные в зеленый цвет много лет назад. Я обернулась: ручей уже скрылся из виду, только слабая зелено-голубая вспышка пробивалась сквозь деревья. Я положила руку на старую ржавую ручку. Петли были оранжевыми от ржавчины и наполовину отвалились: я не ожидала, что дверь откроется, и все же она открылась довольно легко.
– Это та самая дверь, я уверена, – сказала мама. – Это граница поместья, Нинс, должно быть… о!
По другую сторону двери воздух был тропический, влажный. Пальма, жимолость, снова дикий чеснок и какой-то запах, я не могла точно сказать какой. Что-то пролетело мимо нас, и я закричала.
– Это всего лишь бабочка, – улыбнулась мама. – Дорогая, разве ты не помнишь?
– Мне здесь не нравится, – сказала я, пожалев о своих словах, как только они сорвались с моих губ.
Сбоку виднелась каменная колонна, а впереди – поляна, что-то светлое, должно быть, вершина холма, – и я оттолкнула маму, потому что не была уверена, от чего именно, но хотела защитить ее, если придется.
И вот – вот оно.
Еще одна стена из крошащегося золотистого кирпича и арка. Плющ, ползучие усики, похожие на растопыренные пальцы. Какое-то каменное животное лежало на боку под аркой, преграждая нам путь.
Мы перешагнули через него, и только тогда я подняла глаза и увидела Кипсейк в первый раз.
– О нет, – прошептала мама у меня за спиной. Она схватила меня за плечо. – О Нина. Мне очень жаль.
Глава 23
Там был дом – это можно сказать точно. Там были стены, окна, двери. Но когда я посмотрела через усыпанный гравием двор, где одуванчики и крапива росли низкой стеной, мне стало холодно. Перед нами, за круглой подъездной дорожкой, вырисовывались очертания чего-то величественного: фасад из золотого камня, усеянный окнами, зубчатая крыша, идущая прямо по верху, и то, что когда-то было прямым портиком из колонн внизу, за которым была огромная дверь, ведущая во двор.
Но в большинстве окон не было стекол, и от портика остались только две колонны, которых должно было быть шесть. Из угла одного из подоконников торчало птичье гнездо, и одна сторона дома, слева, накренилась, что было видно даже невооруженным глазом. Я пошла вперед, хрустя гравием под ногами, вверх по осыпающимся ступеням и под портиком к большой дубовой двери, побелевшей от времени.
– Осторожно, – сказала мама, когда я дотронулась до нее.
Она открылась, и мы заглянули в пустой двор. Природа и здесь, за стенами, выиграла битву: плющ занял всю территорию. Казалось, он втягивает кирпичи и камни обратно в землю, щупальца тянутся вверх, чтобы снова выровнять почву. Мы стояли посреди двора и смотрели по сторонам, как будто были единственными живыми людьми на свете. Как будто все исчезло. В воздухе повисло ощущение запустения.
– Мам, подожди минутку, – сказала я, поворачиваясь. – Я собираюсь заглянуть внутрь. Не думаю, что там безопасно.
– Небезопасно почему? Опадающая каменная кладка – или злые духи?
Но больше всего меня беспокоило, что я что-то чувствовала, как будто кто-то наблюдал за мной. Как будто кто-то ждал меня, спешил что-то сообщить.
– Не надо, я пойду с тобой, – сказала мама. Она взяла меня за руку, и мы вместе пошли через двор.
Мышь, потревоженная нашим появлением, пробежала вдоль стены и исчезла внутри. В глубине двора была дверь, старая и хрупкая, но она все еще была на месте. Возможно, они живут не в передней части дома, сказала я себе. Возможно, все будет в конце.
На мгновение после того, как я открыла эту дверь, мне показалось, что я права. Кроме всего прочего, рядом с лестницей стояли вешалка для одежды и один резиновый сапог, который теперь служил кому-то гнездом. Там висели ватники и непромокаемые плащи. Я дотронулась до одного – он был потрескавшийся и затвердевший от плесени. На столике стояла чашка. За коридором была длинная комната, тянущаяся вдоль западной стороны дома.
– Какая комната, – сказала мама.
Я огляделась. Я предположила, что это, должно быть, был большой зал, огромное пространство без верхнего этажа, за исключением галереи, тянущейся вокруг задней части дома, по которой можно было перейти с одной стороны на другую. Но дерево сгнило, и большая дубовая лестница, украшенная резьбой из листьев, шлемов и щитов, тоже прогнила, ступенек не хватало, с одной стороны они потрескались, слегка накренившись: плющ и вьюнок отделяли каждую ступеньку от соседней. Я поставила ногу на первую – она угрожающе накренилась.
– Но… – я протерла глаза. – О мам. Что все это значит?
Оглядевшись вокруг, мы поняли, что здесь кто-то жил. И чем больше мы вглядывались, тем яснее понимали, что однажды кто-то просто встал, ушел и больше не вернулся. Когда мои глаза привыкли к масштабам и хаотичности дома, я начала замечать разные вещи. «Загадка» Найо Марш на маленьком барабанном столике. Заплесневелые стопки журналов, «Радио таймс» и «Кантри лайф», почти рассыпавшиеся в прах. На подлокотнике дивана лежали очки в форме полумесяца, покрытые пылью. На огромной каминной полке, куда попал дождь, стояли разбитые и прогнившие от воды рамки для фотографий. Кресла, обитые дорогим дамастом, разодранные мышами, выклеванные птицами – и бог весть кем еще – превратились в гнезда. На стенах висела пара старых порванных картин, сквозь которые проглядывали давно забытые лица. В доме стояла оглушительная тишина.
– Бессмыслица какая-то, – сказала мама, поднимая проржавевший подсвечник. – Как можно было… как это случилось?
– Здесь действительно никого нет? – спросила я через некоторое время.
– Думаю, что да. – Она взяла меня под руку. – Здесь уже много лет никого нет. Много десятков лет, Нина.
– Я все же не понимаю, как они это все запустили, – сказала я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул, чтобы не показать, как глупо я себя чувствую. Моя тайная мечта, что мы прогуляемся по аллее и там нас встретит милая старушка. Бабушка, о которой я всегда мечтала, у которой полно интересных историй и правды о том, откуда я родом. Я провела детство, играя с миссис Полл в игры, в которых мой отец воскресал из мертвых – и он действительно воскрес. Думаю, с тех пор, как он вернулся, с тех пор, как все это началось, я говорила себе, что, возможно, здесь тоже все будет по-настоящему.
– Эта страна полна разрушенных домов, милая, – сказала мама. – И мы с тобой в одном из самых труднодоступных мест в Англии.
– Но это же Корнуолл! – Мой голос повысился. – Да ладно. Это туристический центр.
Она пожала плечами:
– Это место не видно с дороги. Здесь нет ворот. Это бедное графство, куда ездят отдыхать богатенькие студенты. В течение года здесь не много людей, так же говорили парни?
– Но я все-таки не понимаю, что такое прекрасное место могло просто… развалиться. Неужели никому не было дела?
– Почти никто не работает на земле так, как раньше. А те, что все еще работают, ну, время идет, и люди могут знать, что что-то такое происходит, но ничего с этим не делать. Я уверена, есть местные, которые знали, что дом здесь, но не захотели его спасти. Думаю, дом англичанина – это его замок, – сказала мама с ноткой горечи в голосе.
– Но это мой дом, – сказала я. Я посмотрела вверх, на верхний этаж, размышляя, стоит ли рискнуть и подняться по лестнице, наполовину желая туда подняться, наполовину боясь того, что могу там обнаружить. Я увидела, что в одной из комнат с дверью, висящей на одной петле и накренившейся к полу, стоит огромный сундук, а со стены свисает грязный гобелен. Мои глаза бродили по галерее этажом выше нас… а потом я увидела лицо и резко вскрикнула.
Конечно, теперь я знаю, что это было, – и это было легко объяснить, – но я уверена, что она наблюдала за мной. Я знаю, что это правда.
– Что? – вскрикнула мама. – Что ты увидела?
Я показала наверх. Это был портрет, теперь я поняла. Это была старая, очень старая женщина в розовом шелковом платье, держащая дубовый лист, ее темные глаза казались черными даже в этом мрачном месте.
– Интересно, кто это? – сказала мама.
Я знала. Впервые с тех пор, как он исчез, я услышала голос отца. Нина Парр. Она висит в холле. Она очень похожа на тебя. Но что-то заставило меня промолчать. Держать это в секрете.
– Из комнат наверху можно увидеть реку, – сказала я вместо этого. – Если только… – Я посмотрела на лестницу. – Как думаешь, поднимемся по лестнице?
– Не думаю, – мама покачала головой. – Господи, что это? – Она указала на почерневшую, осыпающуюся дверь под лестницей, почти невидимую. Вездесущий плющ тянулся к ней, из него сочилась влага. Внутри капала вода, теперь мы ее услышали.
– Ну вот, мы видим главную проблему, – сказала мама. – Посмотри на это. – От двери через лестницу и вверх мимо большого окна зигзагами тянулась огромная трещина.
– Интересно, что там за дверью, – сказала я.
– По-моему, ее сто лет не открывали. Вода каким-то образом попала внутрь. – Она вернулась в холл и высунула голову из пустой оконной рамы. – В задней части дома какая-то выпуклость. Смотри. Окна, заостренные окна. Наверное, это какая-нибудь часовенка. Вода и плющ. Вот откуда гниль.
Я изумленно уставилась на нее:
– Когда ты стала экспертом по строительству домов?
С мрачным удовлетворением мама сказала:
– Когда мы переехали. Говорю тебе, я специалист по гнили и сырости. И по плющу. Он проникает в трещины и дыры. Он задушит все, на чем поселится. У меня была тетя в Райнбеке, которая распустила плющ и не боролась с ним. Дом развалился за пару лет. Должно быть, у плюща было несколько столетий, чтобы поработать здесь как следует, дорогая. И очевидно, никто ничего с этим не делал. – Она коротко рассмеялась. – Это даже забавно. Если он здесь вырос, это объясняет, почему твой отец понятия не имел о сырости.
– Да, мой отец вырос здесь. – Я огляделась. Это его энциклопедии, выцветшие и потрепанные, вон там, на большом подоконнике? Был ли он когда-нибудь счастлив здесь, чувствовал ли себя как дома? Сейчас все было по-другому. Я не могла представить, чтобы кому-нибудь было здесь уютно.
– Пойдем наверх, – сказала я, снова глядя на фотографию Нины Парр, на проблески чужих тайн.
Но мама сжала мое плечо.
– Дорогая, Джошуа ждет нас. Мы же договорились на полчаса, помнишь?
– Отпусти его, – сказала я, оглядываясь вокруг, магия этого места сжимала мое сердце. – Мне нужно остаться еще ненадолго. Посмотрим, смогу ли я понять, что случилось…
Мама подошла и встала передо мной.
– Нина, нам надо уходить. Прилив не задержится надолго, он же сказал. Мы понятия не имеем, как вернуться на другой берег реки. У нас нет ни карты, мы понятия не имеем, куда идти. Что будет, если мы пойдем пешком? Как мы доберемся до главной дороги?
– Я найду его, – сказала я. Я скрестила руки на груди. – Мам, ты иди. Все нормально. – Она посмотрела на меня, и я тихо сказала: – Я серьезно.
– Ты не можешь оставаться здесь одна, – сказала она, оглядываясь.
Я кивнула.
– Но я пока не могу уехать. Не сейчас, когда мы здесь.
– Мы можем вернуться завтра.
– Я знаю. – Я не хотела говорить, что не верю, что мы найдем дом завтра, что он уже кажется волшебным местом, которое мы не сможем отыскать дважды. – Иди и найди Джошуа. Встретимся позже.
– Дорогая…
– Мам. – Я протянула руку и сжала ее ладони. – Все хорошо, я останусь. Все будет в порядке.
– Как ты можешь так говорить? От этого места у меня мурашки по коже.
– Дай мне минут двадцать. Пожалуйста.
– Вот что я тебе скажу, – сказала она. – Я смотрела на карту Джошуа. По прибрежной тропинке можно дойти до деревни Хелфорд. Та, которую мы пересекли, чтобы добраться до дома, с желудями на доске. Тропинка огибает реку, я видела ее с лодки. Почему бы нам не встретиться в Хелфорде? Я могу попросить Джошуа отвезти меня туда, это его обычный маршрут, а потом он может забрать тебя и привезти нас обратно. Вон тот паб рядом с пристанью. Кажется, он называется «Корабельный герб».
– О, это отличная идея.
– Примерно через час? Если нет, мы вернемся за тобой. Как-нибудь. Дальше посмотрим. – Она обняла меня и посмотрела в лицо. – Я не хочу оставлять тебя, дорогая. Может, я просто сбегаю назад и скажу Джошуа, чтобы он уезжал без нас?
– Мне нужно побыть здесь немного одной, – сказала я, сама не зная почему.
Она кивнула:
– Конечно. Только береги себя, дорогая. Пожалуйста. Здесь что-то неладно.
Я точно знала, что она имеет в виду. Но теперь мне нравилось это странное, дикое чувство, что кто-то наблюдает за нами, что древние камни знают больше, чем мы. Мне нравилось, как спокойно я чувствовала себя здесь, за много миль от улиц и людей в желтых спортивных автомобилях, лондонского темпа, глаз Лиз, лица Себастьяна… Я чувствовала себя здесь хорошо.
Когда она ушла, я вернулась в центральный зал.
– Пока, мам! – закричала я.
Ответа не последовало: мой голос отдавался тяжелым эхом.
Я была здесь одна.
– Ты мой. – Я сказала это вслух, сначала тихо, потом нормальным голосом. – Мой.
Там, во дворе, в центре дома, я огляделась по сторонам и закрыла глаза. В тишине, казалось, вдруг открылась щель в прошлое, и на одно крошечное мгновение это место как будто ожило: я услышала крики слуг, лязг бочек, звуки из кухни, женщин, складывающих белье в огороженном саду позади меня. Треск мяса на вертеле, когда разводят огонь. Ржание лошадей, копошащихся в земле. Детский визг, когда я вернулась во двор и выглянула наружу из большой парадной двери. Пахнет мясом и навозом, свежим бельем, хлебом и сладким элем. Из высоких труб идет дым, мимо бежит собака. Старое, гнилое ореховое дерево во дворе густо усыпано зелеными волокнистыми орехами, лестница отполирована и излучает тепло в предвечернем свете. Лиса и единорог на входной арке гордо сражаются друг с другом.
И я стояла в дверях, протянув руки, разглаживая юбки, готовая приветствовать любого, кто придет сюда, как Нина Парр более трехсот пятидесяти лет назад стояла там, ожидая людей, которые пришли с реки, усталые, грязные, ищущие убежища в самом уединенном доме королевства.
Я снова крикнула: «Я здесь!» Но ничто не пробудилось от сна, как я и ожидала. Обойдя дом и направляясь к огороженному стеной саду, который я увидела через окно, я подняла голову и подпрыгнула. В высокой нише над первым этажом стояла безголовая статуя человека в камзоле и штанах, одна рука на бедре. Кто это? Строитель? Король? Он был моим родственником? Надписи не было, но он был покрыт лишайником, как и большая часть дома. Я лениво подергала дверь часовни в задней части дома, но она не поддалась. Я вернулась к краю стены, где были низкие ворота. Оттуда было видно тропинку, ведущую вниз с холма. Я отодвинула калитку в сторону, она с треском упала на землю, и я прошла сквозь внутренние стены в сад.
Я сразу поняла, что это не дикий лес. Это когда-то был настоящий рай. Высокие стены окружали его, вдали росли деревья, и здесь было на несколько градусов теплее, чем в Хелфорд-Пассаж или на пароме. Послеполуденное солнце било в эту квадратную площадку. В воздухе висел густой аромат: запах роз и жимолости, ползущий по старым стенам сада.
Тогда я едва могла вспомнить их названия. Теперь я знаю. Пальмы, фиговые деревья, бугенвиллеи – все здесь. Желтый, розовый и белый жасмин, его сладкий гнилостный запах наполнял воздух. Хризантемы – не безвкусные синие и малиновые, а брызги мягкого кремового и нежно-розового, а также пурпурная и красная вербена и серо-фиолетовые цветы лаванды всех видов. А посередине сада – путаница зелени, песка и серого с разноцветными пятнами – пурпурные, синие и розовые орлики и снова дикие цветы, маки, маргаритки, нежный горошек, темно-синяя и белая вероника, пышные пурпурные пионы, разноцветные, колышущиеся стебли травы всех цветов радуги. Теперь это была просто пустыня, и в этой пустыне таилось чудо. Там были бабочки.
Тучи бабочек. Танцующие, порхающие, с неповторимыми, необычными узорами. Одна как ярко-зеленая вспышка, другая – темно-пурпурная, некоторые пикировали, некоторые летали зигзагами, некоторые кружили высоко в безоблачном небе. Белые и желто-оранжевые Кругинницы, синие бабочки самого глубокого оттенка, Красные Адмиралы и ясноглазые Павлины, и желто-черные Краеглазки эгерии, стремительные, как феи. Отдыхая на цветах, скользя в сладком вечернем воздухе, сотни, возможно, тысячи из них, беззвучно наполняли скрытый сад красотой столь неожиданной, что мои глаза наполнились слезами. Я вошла в сад, в самую гущу. Я вспомнила вторую фотографию, присланную мне Лиз, чопорное чаепитие, маленькую девочку, которая была моей бабушкой, ее колючее платье. Она сидела здесь со своей бабушкой, а я сейчас была здесь.
Я читала дневники моей прапрабабушки Александры Парр. Я изучала бабочек. Я должна была сделать их делом всей жизни.
Теперь я знаю их, но ничто, ничто никогда не сравнится с тем первым открытием тайны Кипсейка, расстилающейся перед моими глазами: покатый, обширный сад, который очаровывал моих предков на протяжении многих лет, пока не стал их манией. Я знаю о Нине-Живописце и ее бесплодных попытках нарисовать бабочек, запечатлеть их красоту на бумаге, о Руперте Вандале, который разрушил крыло дома, чтобы дать бабочкам больше свободы и пространства, и косвенно разрушил дом так сильно, что тот стал неуклонно умирать. И я знаю об Александре, о ее бесконечной охоте и каталогизации, о ее безжалостных убийствах, о ящиках и коробках, заполненных мертвыми бабочками, где их сияющий цвет остался навсегда. Наконец, я знаю о Безумной Нине, прабабушке Александры. Я знаю, что она принесла в дом и что оно существует до сих пор.
Тогда я ничего этого не знала. Я ничего не знала об ананасовых косточках, впервые в стране посаженных Фредериком Парром. И о викторианских оранжереях с разбитыми окнами и гнилым деревом, в которых росли герань и камелии. И об огороде, заселенном бабочками, который в былые времена кормил целых тридцать человек.
Я просто стояла там, в этом радужном раю, наблюдая за бабочками, летающими вокруг меня. И в этот момент все – книга, фотографии Лиз, возвращение отца, секреты матери, вчерашняя ночь с Себастьяном, даже гроза – все это не было совпадением. Я должна была прийти сюда, и я принадлежала этому месту, и я это знала.
Со стороны огороженного стеной сада стояла старая каменная постройка, круглая, как хижина, с толстой лакированной деревянной дверью: старый Ледяной дом. Я заглянула в маленькое окошко, но оно было покрыто вековой грязью, и я ничего не смогла разглядеть внутри. Я подошла к нему и попробовала ручку. Мою руку покалывало на неожиданно холодном металле; я осторожно открыла дверь.
Там было пусто. Я шагнула внутрь, осторожно зафиксировав дверь камнем, предназначенным, очевидно, для этого. Внутри было сухо и тепло, из грязного окна лился янтарный свет. И он был безупречен. Каменная полка тянулась по кругу вдоль стены. Больше ничего не было – и тут я увидела коробку.
Аккуратный деревянный ящик. Позже я обнаружила, что он сделан из лаврового дерева, отполированного и гладкого. Никакой пыли – в этом месте не было ничего, что могло бы создать или вызвать пыль. Это была коробка для убийств, и аромат лавра – сильный и горький, как миндаль, дым, земля, – долетел до меня, когда я подняла крышку.
Внутри было:
Бабочка в футляре: синяя, как самое яркое летнее небо. Она была всего полтора дюйма в ширину, но чешуя на крыльях блестела в темноте.
Старая пачка бумаг, тусклая и холодная в моей теплой руке, и тонкая брошюра: «Английские бабочки, путеводитель по стране» Александры Парр.
Дневник в кожаном переплете с золотой бабочкой.
И, наконец, большой конверт из манильской бумаги, в котором лежала рукопись, перевязанная бечевкой. На первой странице – толстый лист с водяными знаками, влажный на ощупь.
«Лето бабочек» – гласила надпись, а под ней: Теодора Парр.
Но последней вещью в коробке была маленькая металлическая коробочка, и когда я открыла ее, то увидела в ней мелкий зернистый порошок. Я сделала шаг назад, глупо испугавшись.
Это была погребальная урна, а порошок – чей-то прах. Вокруг него тонкой эластичной лентой была обернута записка, написанная мелким, беспорядочным почерком на бланке «Мурблс и Рутледж».
Я не предполагала, что он может прийти сюда один.
Мама.
Я пишу эти строки в холодном и сыром Доме бабочек, у меня есть только эта бумага, и я еле вижу, что пишу.
Я понятия не имел, пока не добрался сюда, что тоже захочу что-нибудь оставить. И вот мы здесь.
Я наконец-то сделал то, о чем ты просила. Принес сюда твой прах. Через 15 лет после того, но ты заблуждаешься, если думаешь, что я бы бросил все, чтобы исполнить твое последнее желание в момент твоей смерти. Ты могла обратиться к кому угодно со своей предсмертной просьбой – почему именно я? Последняя шутка, наверное.
«Лето бабочек» я тоже оставляю здесь. Или «ЛБ», мне нравится его так называть, так принято говорить в Штатах. Почему ты думаешь, что я хочу прочитать историю о том, что вы сделали с каким-то сорванцом на войне, мне непонятно, но твои материнские инстинкты, даже из могилы, чертовски манят, как говорят американцы. Нет…
Нет. Нет.
Я не хотел, чтобы эта записка была такой. Я не уверен, что конкретно я хочу сказать. Это единственный лист бумаги, который у меня есть. Позволь мне начать снова.
Я хотел сказать, что вернулся, чтобы оставить здесь прах, как ты и хотела. Я прочитал «Лето бабочек» и тоже оставляю его здесь, эта книга принадлежит этому месту. Теперь я понимаю тебя лучше. Но все равно я не пойму тебя до конца. Думаю, это мой последний визит в Англию. Я знал, что должен вернуться, хотя бы раз, просто чтобы увидеть, просто чтобы положить всему этому конец – я теперь не знаю, было ли это ошибкой.
Но ты на всю жизнь сделала меня таким несчастным. Мое самое раннее воспоминание – это как я бежал к тебе по этой чертовой террасе, прямо там, где я пишу это, а ты пятилась назад с выражением ужаса на лице. Мне было 3 или 4 года. Я хотел показать тебе бабочку, которую поймал.
Ты всегда заставляла меня чувствовать, что я не должен быть в Кипсейке. Я думал о том, что без меня ты была бы счастлива. Мне не терпелось уехать отсюда, пойти в школу, попасть в Оксфорд. Я не могу простить тебя. Ты не была мне матерью. Ужасно это писать.
Ущерб, который ты нанесла, затронул всех нас, мама. Ты разрушила не только мою жизнь. Я читал твою историю. Ты убила Ашкенази, это все равно что подсыпать цианид им в кашу. Ты разрушила много жизней.
Я любил мать Нины больше, чем могу выразить словами. Она была солнышком, и все – все, что было у тебя с Эл тем летом, это то, что было у меня с Дилайлой. Моя прекрасная, кудрявая, золотая девочка. Но к тому времени ты так сильно изуродовала меня, что я не мог жить нормальной жизнью. Я пытался притвориться, что смогу: назвал ребенка Ниной, притворялся, постоянно притворялся, что все в порядке. Я не мог. Я ненавижу и презираю себя, и снова благодаря тебе. Я должен был заставить их ненавидеть меня, и они ненавидят. Ты сделала это со мной. Ты.
Я вернулся, чтобы все объяснить Дилайле и подать на развод, заполнить все бумаги.
На самом деле я лгу: я вернулся, потому что хотел еще раз увидеть ее и свою дочь. Не знаю, стоило ли или я опять напортачил.
Ты была бы рада, если бы знала Нину. Она такая же, как ты. Особенно меня возмутило, когда ты написала о том, что Кипсейк постепенно рассыпается, а она об этом не узнает. Ну, я сказал Нине. Думаю, она должна знать. Ты не можешь играть в Бога и хранить все свои секреты.
Я признаю, что вмешался в ее жизнь, рассказывая ей об этом месте. Не могу смириться с тем, что именно я впутываю ее во все это, в конце концов. Что касается ее матери, то она такая же, как раньше. Я никогда не буду тем, кто может с ней жить. Но я также знаю, что никогда не перестану любить ее. Ее волосы коротко острижены, она постарела, но она красивее, чем раньше; жизнь/боль выгравирована на ее лице, это моя вина. Я считаю, что не заслуживаю ни ее, ни своей дочери. Им гораздо лучше, если я буду жить на другом конце света.
До свидания, мама. Надеюсь, это принесет тебе покой. Я женюсь в следующем месяце: она молода, богата, детей не хочет. Я больше никогда сюда не приду. Возможно, я соглашусь с тобой: пусть этот проклятый дом снова погрузится в ничто. То, что любишь, исчезает, понимаешь, оно может исчезнуть, ты теряешь его навсегда. Я потерял то, что любил, и это моя вина. Вряд ли ты могла подумать, что я это признаю, но ты снова ошиблась. Что, как ни странно, не доставляет мне удовольствия.
Я закрою дверь Дома бабочек и сяду в машину, и, надеюсь, я буду последним человеком, который был здесь. Ты и призраки можете забирать его.
Твой сын ДжорджНекоторое время я стояла неподвижно после того, как расшифровала написанное, пытаясь понять, что еще я могу выудить из этого письма, когда это было все, что он оставил, и оно даже не было адресовано мне. Затем я взяла рукопись, бумаги, пролистала их. Я ужасно боялась того, что могу прочитать.
Я прочла первую страницу.
В галерее Кипсейк, выходящей окнами на море, висит портрет моего предка Нины Парр.
Через некоторое время я поняла, что по щекам у меня текут слезы. Это трудно объяснить, но большую часть жизни у меня было такое чувство, будто я нахожусь в крошечной комнате, окруженной дверьми, и только одна или две из них открыты. Я столько всего не понимала: и про отца, и про маму. О любви, о правде, о браке, о том, что ты – часть семьи. Я всегда знала, что чего-то не хватает. Оно было здесь. Эта история в моих руках. Я не чувствовала себя здесь чужой, в этом странном, тихом, скрытом месте. Я чувствовала себя естественно. Я больше не была чужаком – чужим это место было для других.
Где-то вдалеке вороны начали свой вечерний зов, и это в конце концов привело меня в чувство. Я посмотрела на деревянный ящик, рукопись, письмо.
– Извини, я должна их забрать, – сказала я вслух. – Я не могу их не забрать.
Было поздно. Я положила прах и бабочку в ящик на подоконнике, к свету, и осторожно закрыла дверь Ледяного дома. Затем, с коробкой в руках, я снова прошла через сад в дом, пробираясь по обломкам там, где упавшие балки крыши выбили кирпичи. Я взглянула на Нину и ее родственников в галерее наверху, лица были разорваны, некоторые портреты просто отсутствовали. Нина Парр снова тупо уставилась на меня.
Я осмотрела огромный вход, размышляя, как мне выйти: потрескавшийся, расщепленный кусок дерева все еще цеплялся за дверь. Надо ли потянуть за него, например, оставив дверь на защелке? Есть ли ключ? Нелепо было искать замочную скважину, и все же мне хотелось запереть ее, закрыть дверь, защитить дом.
Сжимая в руках деревянный ящик, я снова подошла к воротам и, проходя под аркой, подняла голову. Я оглянулась и посмотрела на Кипсейк, сияющий в лучах заходящего солнца. Затем я вышла из дома, обогнула фасад и направилась к восточной стороне, поднимаясь все выше и выше, пока не оказалась на широком открытом лугу, где танцевали бабочки, а также пчелы и первые мотыльки, где буйствовали трава и цветы. Я продолжала идти, наслаждаясь напряжением мышц ног, сухой грязью, которая налипла на мои кроссовки.
В конце дорожки, но внутри стены, стоял крошечный старый домик, который, как я догадалась, когда-то был чем-то вроде сторожки, заброшенный, с раскинувшейся по фасаду лимонной розой. Рядом была арка, широкая дверь, выкрашенная в шелушащуюся темно-зеленую краску, которая открылась после нескольких попыток. Я вышла на тихую улочку и закрыла за собой дверь. Впереди виднелась коричневая табличка, указывающая на тропинку и на то, что до Хелфорда три четверти мили.
Я обернулась и посмотрела на дверь, увитую плющом, почти невидимую с дороги. Вы бы, как и многие другие на протяжении веков, прошли мимо. Я была последней, кто там был. Последняя девушка.
Прошло уже три года, а я до сих пор последняя, кто ступал в Кипсейк. Я бы сказала, последний живой человек. Дом продолжает тихо умирать, хотя в других отношениях он продолжает жить. Многое изменилось за эти годы, и я тоже изменилась. Я пришла к пониманию того, какой жизни тебе может стоить Кипсейк.
Лето Бабочек
(продолжение)
Дождливый день, теплый книжный магазин, история многолетней давности.
Долгие годы я не знала, что случилось с тобой, с Михаилом и Мишей, и, погружаясь все глубже в дом, мне удалось выкинуть их и тебя из головы. Но вначале, в послевоенные годы, я искала тебя – искала, Эл, – и искала их. Я не возвращалась в Лондон несколько лет. Я писала в Красный Крест, в русское и австрийское посольства – что там вообще осталось от Австрии. Я писала письмо за письмом в Карляйль Мэншенз, тебе, им, но никто не ответил. Я даже писала твоей матери в Арнольд Серкус, но ничего не получила в ответ. А потом я вернулась.
Однажды унылым ноябрьским днем 1961 года, двадцать один год спустя, я обнаружила, что смотрю на новый бетонный блок, возводимый над почерневшей дырой того, что когда-то было Карляйль Мэншенз, и поняла, как бесполезны были мои письма и открытки. Что ты и Ашкенази давно ушли – живые или убитые во время Блица, я понятия не имела.
Возможно, мне следовало уехать, сесть на поезд до Корнуолла. Но мой врач сказал мне, чтобы я проводила время вдали от ребенка, что это поможет мне справиться с нервными расстройствами, которые сделали меня такой непохожей на прежнюю себя. С тех пор как я ушла от тебя, Эл, у меня как будто не хватает слоя кожи, который защищал меня от ран. Столько лет все причиняло мне боль, каждое воспоминание, каждая ошибка, каждый любопытный взгляд. Я приехала в Лондон, чтобы сменить обстановку. Наверное, я любила его, как не любила в то время ничего. Ну, или очень мало. Я, казалось, потеряла способность любить.
Мое последнее утро было одним из тех дождливых лондонских дней, когда улицы полны воды, зонтик упакован, и тепло освещенный магазин манит внутрь. Так много изменилось в Лондоне, что я вспомнила об этом месте только после того, как вбежала в двери: это был один из книжных магазинов на Чаринг-Кросс-роуд, где часто бывала Миша. Она приходила покупать стихи, с жаром обсуждая достоинства и недостатки каждой предложенной книги. Я с грустью думала об этом, когда увидела знакомую фигуру, и мне пришлось напрячь мозги, прежде чем я поняла, что это Джинни, бывшая жена Бориса, явно не уверенная, стоит ли ей поздороваться.
Я с удовольствием поприветствовала ее, радуясь дружескому лицу после нескольких дней одиночества. Мы разговорились немного неловко, и хотя я обрадовалась, когда она сказала, что Борис уехал из страны во время войны и она больше никогда о нем не слышала, мне стало не по себе. И до сих пор не по себе. Я предпочла бы знать, что такой человек уже лежит в земле.
– Они действовали нелегально, – сказала она немного натянуто, когда я спросила, почему бизнес Ашкенази потерпел крах, почему я не смогла найти никаких следов. – Видите ли, они были зарегистрированы как иностранцы всего два года. Их виза давно истекла.
– И все же они остались.
– Они не могли вернуться в Австрию. Им нужно было заработать побольше денег, и они ждали. Ждали, что им делать дальше, и, конечно… – Она замолчала.
– Кого они ждали? – с любопытством спросила я.
Джинни покачала головой:
– Значит, вы не знали?
– Не знала что, Джинни? Что с ними случилось? Что случилось с Эл?
Она сжала мои руки, ее худое лицо болезненно загорелось.
– Я так и думала. Конечно. Я надеялась, что вы так и не узнали. Я знала, что вы не можете быть такой эгоисткой.
Дождливый день, теплый книжный магазин, история многолетней давности. И она начала говорить.
Услышав все это, я пошла под дождем через весь Лондон к себе в отель и упала на продавленную кровать, но плакать не смогла. Потом я вернулась в Кипсейк, и наступила тьма депрессии, которая держит меня в плену вот уже два десятилетия. И я перестала искать тебя, Эл. Я вообще перестала пытаться.
Я лгала, когда писала эту историю. Для кого я это пишу? Для тебя, Эл, и для Джорджа тоже. Но для… кто-то еще, читателя? И поэтому я лгу и об этом. Я лгала все это время, и я думаю, что вы, должно быть, уже раскусили мою ложь. Я поняла, что больше не могу так писать, и когда мы вступаем в заключительную часть моего рассказа, я не могу продолжать лгать.
Она была Элис Грейлинг.
Она была Элис Грейлинг, но я называла ее Эл, потому что так мне было легче, легче произносить мужское имя, когда я любила ее. Она привыкла к тому, какая она, а я нет. Я считала это – о, напрасная трата времени, – я считала это ненормальным. Я не могу смириться, что я женщина, которая любит другую женщину, хотя я хотела этого больше всего на свете. Я хотела ее.
Видите ли, она терпела свист, мужчин, которые насмехались над ее короткими, зачесанными назад волосами и мальчишеской одеждой. Ей было все равно, ее воспитывали быть жесткой. У нее были подруги, девушки, разбирающиеся в лондонских делах и любовницах, девушки, которые знали клубы, разные места встреч, знали, как выразить себя, как дать понять другой девушке, что они доступны. Как-то раз она повела меня в такое место, в бар на Хеддон-стрит, но мне пришлось уйти. На самом деле, я просто сбежала оттуда.
– Как ты можешь ходить в такое место? – крикнула я, когда она вышла вслед за мной. – Все эти девушки там – эта женщина, ласкающая другую девушку под собой, – у всех на виду! Напитки – с такими названиями, Эл! Что, если нас поймают. Что если кто-то войдет?
– Но это не так, – сказала Эл, гася сигарету. Она держала мою голову в своих руках, пытаясь уговорить меня. – Дорогая Тедди, мы не делаем ничего плохого. Я люблю тебя. Все просто.
– Это незаконно, – прошипела я, оглядываясь по сторонам. – Это… Нас посадят в тюрьму. Скажут, что мы сумасшедшие.
– Это про мужчин, – сказала Эл. – Не про женщин. Они пытались сделать это незаконным, лет десять назад. – Теперь она взяла меня за руки. – Палата лордов не приняла законопроект, понимаешь? Эти старики не могли поверить, что женщины действительно могут так делать. – Она коротко и жестко рассмеялась. – Поверь мне, дорогая. Они не понимают. Никто из них не понимает. Я могу поцеловать тебя вот так. – Она прикоснулась своим носом к моему и улыбнулась, глядя в мое раскрасневшееся лицо. – Вот. – Она страстно поцеловала меня, бедра к бедрам, крепкие тела прижались друг к другу, а затем она обхватила мою попку, сжимая ее так, что я качнулась к ней, и облизала мой рот, улыбаясь, и я позволила ей, беспомощная, почти не в силах дышать от желания.
Мимо, не глядя на нас, торопливо прошел человек в цилиндре и вечернем плаще. Я безучастно посмотрела на него. Она всегда производила на меня такое впечатление – я не обращала внимания ни на кого вокруг.
Когда он ушел, она с горечью прошептала:
– Они думают, что это все в шутку. Мужчины не способны понять, что мы можем хотеть друг друга, а не их, идиотов.
Я отстранилась, пытаясь прийти в чувство и желая, чтобы у нее не было надо мной такой власти.
– В квартире это нормально. Но не здесь, дорогая. – Я прижала свою руку к ее. – Больше так не делай. Мы играем с огнем.
Она просто сказала:
– Мы все такие, дорогая. Скоро это не будет иметь никакого значения.
В то последнее утро, перед тем как появилось объявление, знала ли я? Я потянулась и улыбнулась, а ты повернулась ко мне в постели, притянув меня к себе. Неужели мы снова были вместе, теплые и болезненно тяжелые от сна, твои мягкие белые руки сжимали мои, и мы лежали бок о бок? Я в последний раз приподнялась на локтях, убирая волосы с твоего светлого лица? Была ли я сверху, когда мы занимались любовью, потому что нам обеим нравилось, когда я была сверху, была напориста и верила, что все могу? Был ли это один из тех сладких моментов, или ты взяла дело в свои руки, шепча мне что-то на ухо, увлекая меня вниз за собой?
Лоскутное одеяло – сине-зеленое, – порванное на углу, ватное, окаменевшее от времени.
Стеклянная черно-зеленая ваза на подоконнике, уродливая вещица, подарок от бывшей девушки, которая разбила тебе сердце.
«Девушка с креветками» на стене. Зеркало, круглое, обрамленное эбеновым деревом, подарок твоего благодетеля, в которое можно было смотреть, через коридор и балкон, на деревья на юге, на зелень Корам Филдс.
Теперь я стара и сижу здесь, и пишу это, в ожидании, когда смерть придет за мной, чтобы я больше о тебе не думала. Потому что мне все еще больно, и это единственное, что я не в силах исправить. Видите ли, я помню все – от светло-коралловых туфель, которые ты надевала в праздничные дни, до расшитого бисером перламутрового клатча с ржавой застежкой. Твои прелестные шляпки – та, что с пером, бирюзовый берет, от которого больно в глазах, твои волосы – какие они густые, темные и все равно непослушные, как бы ты их ни расчесывала. Твой выбитый зуб. Я помню каждую мелочь, но я не могу вспомнить, о чем мы говорили, что мы делали в то утро, когда пришло сообщение, когда все изменилось. А ты помнишь?
Был конец августа. Я помню, что у нас было два автора, встречи, за которые я отвечала, совпали, и за это меня жестоко отчитали (Миша) и долго дулись (Михаил). Я влюблена, поэтому делаю ошибки, говорила я себе. Я проигнорировала предостерегающие голоса в голове, которые кричали, что я заигралась, что я никогда не смогу остаться. А в последнее время я немного побаивалась Ашкенази и их нервозности – лица постоянно обращены к окну, глаза бегали при каждом звуке. Но день за днем я все больше привыкала к тому, кто я есть, привыкала к мысли, что должна признать: я люблю эту женщину, хочу быть с ней и не могу представить себе другой жизни. Так что да, в то утро я положила колонку с личными объявлениями на стол Ашкенази, потом взглянула на нее снова – кажется, я вырезала ее, не думая, – и, конечно, вскрикнула. Потому что в середине, между обращениями в хосписы и запросами о меблированных квартирах в Мейфэр, было это, и слова ударили прямо мне в лицо:
Теодора. Все бабочки умерли. Умоляю тебя срочно написать твой адрес. А/я 435. Мэтти.
Я огляделась, как будто кто-то наблюдал за мной. Тишина ревела у меня в ушах. Я снова взяла листок бумаги и уставилась на него, пытаясь извлечь смысл из черных, блестящих чернил.
Правда была в том, что в последнее время Мэтти постоянно была в моих мыслях, все время. Все лето я думала о ней, даже когда лежала голая с Эл. В ту ночь, когда мы с Мэтти поцеловались, я с ужасом поняла, кто я такая. Она олицетворяла мою прежнюю жизнь, которую я любила, мое дикое прошлое, элементарную часть меня, которая жаждала вырваться наружу и быть свободной. Мне так много хотелось у нее спросить. Неужели в том году Турл перекрасил «Красного адмирала»? Неужели Мэтти уже вывела ее в море, свободная, пьяная от возбуждения, с развевающимися на ветру волосами? Ее волосы – ее медового цвета волосы все еще длинные и волнистые? Согласилась ли она выйти замуж за Дэвида Чаллиса? Бабочки… что она имела в виду?
Пальцы размазали газетную бумагу, когда я сжала страницу, перечитывая объявление: Умоляю тебя срочно написать твой адрес.
Поля засеяны золотисто-серой кукурузой, пугала поставлены, фермеры готовятся к жатве. На мгновение я замерла. Я видела бабочек, я видела жимолость, раскинувшуюся вдоль древних стен, все это место было наполнено живым, густым, богатым, пьянящим ароматом. И я не могла вынести, что меня там не было, что что-то могло случиться… что каким-то образом они…
Что случилось? Я посмотрела в пустоту, покусывая мизинец, а затем встала. Я нацарапала в ответ записку, взяла куртку и побежала к двери.
Миша стояла в коридоре со своей собакой Гермией и смотрела на черно-белый кафель.
– О! Куда ты так спешишь? – спросила она, моргая и оглядываясь вокруг, словно не совсем понимая, где находится.
– Мне нужно сбегать в редакцию «Таймс», – сказала я. – Ничего, если я убегу? Я вернусь к обеду.
– «Таймс»? – Миша вытаращила глаза. – Могу я спросить?.. Нет. Надеюсь, что все будет хорошо. С тобой. – Она сглотнула, и я увидела, как страх исказил ее лицо.
Я нахлобучила шляпу.
– Нет, это семейное дело. – Теперь, когда я решила ответить, мне не хотелось долго думать, но, взглянув на ее лицо, я увидела, что она дрожит. – Извини. Я… Я знаю, что «Таймс» вас беспокоит… Я… это не мое дело, но я знаю, что вы там что-то ищете…
Миша закрыла глаза, как будто погас свет. Она обмотала поводок вокруг тонкого запястья, затягивая кожаный шнур все туже и туже, сжав губы. Я думала, она не ответит.
Но когда я уже взялась за ручку двери, она вдруг прошипела:
– Не волнуйся за нас. Нам не нужно, чтобы ты совала свой идеальный маленький английский нос в нашу жизнь.
Я тяжело сглотнула.
– Я… Я не сую. Кроме… вы… это моя работа…
– Суешь. – Миша подошла ближе, волоча Гермию за собой, так что она жалобно захромала у ее ног. – Ты крадешься, прокрадываешься в сердце Михаила. Он думает, раз ты рассказываешь истории о своем доме и жизни, значит, ты важная персона. Что ты можешь помочь нам, что ты будешь на нашей стороне, а я знаю, что это неправда. – Она дико рассмеялась. – Ты играешь в реальную жизнь, ты играешь с нами, ты играешь в любовь, с Эл, ты притворяешься перед этой бедной девушкой, которая влюблена в тебя. Но это же все не всерьез.
– Я… Все всерьез. Миша, не надо… Пожалуйста, не надо.
Миша вдруг злобно ткнула пальцем в вырванную колонку, которую я держала между пальцами. Она искоса посмотрела на меня, и я уловила кислый запах сигарет и кофе в ее дыхании.
– Хотела бы я, чтобы ты знала, каково это – быть похожим на нас. Постоянно оглядываться через плечо. Завести друзей, пустить корни, но знать, что в любой момент кто-то сотрет все это с лица земли. У тебя есть дом, малышка Теодора. – Она побледнела от гнева, ее тонкое тело вибрировало, как метроном. – А мы евреи. Нам некуда идти. Они уже забирают нас. Они вытаскивают нас из наших домов ночью, они разлучают матерей и детей, они убивают мужчин, они убивают нас всех. Они хотят уничтожить нас, ты знала об этом? А мы даже не знаем… Нет… – Она зажала рот рукой. – Нет!
Она оттолкнула меня и распахнула дверь. Я протянула руку, чтобы остановить ее.
– Миша, – сказала я, схватив ее за руку и ужаснувшись тому, как сильно ее расстроила. – Прошу прощения, если я сказала что-то не так. Миша…
– Нет! – Она была уже на полпути к лестнице.
– Это ваши дети? – тихо спросила я.
– У нас нет детей, – сказала она безразлично.
Мой голос дрожал.
– Я слышала, что есть.
– Кто тебе это сказал? Они лгут.
– Борис сказал Эл, что у вас двое…
– Борис? – Она была уже у подножия лестницы. – Мы все должны слушать Бориса, не так ли? Мы все должны ждать его и слушать… – И тут она, казалось, взяла себя в руки. – Я сказала слишком много, Тедди. Прошу прощения.
– Пожалуйста, если я что-то сделала…
– Думаю, тебе лучше уйти отсюда, моя дорогая. – Она посмотрела на меня с призрачной, жуткой улыбкой. На ее лице глаза казались огромными. Она так похудела в последнее время. – Возвращайся туда, откуда пришла, потому что тут тебе не место. – Она распахнула дверь и сбежала по ступенькам во двор.
Я села в автобус до Риджент-стрит, руки на коленях, мысли проносились у меня в голове. В офисе «Таймс персоналс» я дала объявление со следующим ответом:
Матильда: ужасно грустно насчет бабочек. Со мной все в порядке. Напиши в а/я 312 для проверки. Теодора.
Клерк за обшарпанной стойкой из красного дерева посмотрел на меня, когда я протянула бланк. Мои руки дрожали: тяга к Кипсейку стала сильнее, чем когда-либо, хотя я пыталась ее игнорировать. Он монотонно перечитал мне ответ, и я задумалась, что он об этом думает: это было безобидно по сравнению с некоторыми их объявлениями. Больше всего меня поразило: Мама потеряла девочку. Пожалуйста, пусть клоун, которого она встретила на ярмарке, вернет ее в целости и сохранности. Большевистские шпионы? Или домашняя трагедия?
Я шла домой, размышляя, как мне все уладить с Мишей. В удушливой жаре улицы были тихи, сухие листья неподвижны. Ветра не было.
Казалось, в те безумные августовские дни Ашкенази отдалились от нас еще больше. Однажды мы с Эл сопровождали их на концерт – любимую Михаилом рахманиновскую «Рапсодию на тему Паганини». Мы с Эл все время тайком держались за руки – я едва осмеливалась, получая удовольствие от такой конспирации, от любви и гордости в глазах Эл, когда наши теплые руки лежали, зажатые между ног, – и я видела взгляд Михаила, печальный, почти отеческий, тревожный. Я знала, что вечер не доставляет им удовольствия. Атмосфера изменилась. Тогда они постоянно были словно не здесь.
О войне говорили все время, шепотом, косыми взглядами. Это стало нормальным, эти необычные вещи, которые можно было видеть каждый день: окопы в парках почти закончены, мешки с песком свалены возле магазинов и учреждений – у кафе «Ройял», у джентльменского клуба в Сент-Джеймсе. Фабрики объявили о наборе рабочих, чтобы произвести достаточное количество противогазов для всех женщин, мужчин и детей в стране. Люди перестали шутить о старом мерзавце и его дурацких усах.
Теперь и Ашкенази, и я, вместе с сотнями, а может быть, тысячами людей по всей стране каждый день ждали личных писем и посланий, зашифрованных для нас. Однажды утром мы с Эл проснулись поздно, и я чуть не пропустила утренний – а это должен был быть именно утренний выпуск, как всегда напоминали мне Ашкенази, – поэтому я побежала в газетный киоск и попросила не отдавать последний экземпляр в отель за углом. Мне отдали газету только после того, как я поцеловала продавца в щеку, что было абсолютно отвратительно. Но я все равно это сделала. И правильно сделала. Конечно же, в колонке частных объявлений в тот день было следующее:
М&М: документы почти готовы. Ваш пакет будет доставлен в Париж. Ждите сигнала от Друбецкого.
Я вырезала колонку и положила ее на стол, как обычно. Я ничего не сказала – что я могла сказать? И я смотрела, как Михаил читал ее, медленно сжимая руку в крепкий белый кулак. Когда он подозвал Мишу, я занялась коробкой с только что доставленными книгами, демонстративно бросая их на стол, громоздя их в кучу, разрезая коричневую бумагу и перевязывая бечевкой, чтобы получились свертки. Я уловила полумесяц Мишиной щеки и профиля, огромные темные глаза, внезапно запавшие от ужаса.
– Гремальты нас не подведут, – услышала я шепот Миши, хотя старалась не слушать. Йозеф Гремальт продал часть работ Бориса. В «Пикчер Пост» я видела фотографию парижской мастерской Гремальтов, увешанную сенсационными картинами.
– Они наши друзья, Миша. Друбецкой даст нам знать, – тихо сказал он ей. – Почти готово, говорит Джозеф. Мы будем ждать сигнала от Друбецкого.
А потом голос Миши, тихий и грустный, сказал что-то по-русски, но я ее не поняла.
Когда я рассказала об этом Эл тем вечером, за чашкой какао, перед сном, я старалась, чтобы это прозвучало забавно. Потому что боялась того, что это на самом деле означало, а я не понимала.
– Это как в шпионском романе.
– Так всегда с Ашкенази, – сказала Эл. – Как будто они снимают кино. Иногда мне кажется, что появится режиссер и начнет говорить им, что делать дальше.
Примерно неделю мы пытались организовать доставку газеты к нам домой, но пришлось отказаться от этой идеи: если я не забирала ее в течение нескольких минут, клоун Джеки воровал ее прямо с крыльца. Это был пожилой и безобидный, но все же довольно странный бродяга, который набрасывался на все, что оставалось снаружи, с проворством обезьяны, заметившей орех.
– Дело в том, – сказала я, – чем больше я нервничаю насчет них, тем чаще я забываю о газете. Это маленькое задание, каждое утро, и я почти забываю о нем.
– Это ментальный блок, – сказала Эл. – Сегодня я писала об этом статью.
– Впечатляет, – ответила я. – А как насчет деревенского дневника, разве ты не этим занимаешься по пятницам?
– А я тебе не говорила? – сказала она небрежно, перекатываясь на живот. – Мне удалось перейти в отдел новостей. Им нужна смелая девушка-репортер, а Дафна вышла замуж на прошлой неделе, так что ее выкинули из газеты. Все это чепуха, и я уверена, что все ограничится репортажами о праздниках и визитах королевы Марии в школы, но…
Я обняла ее за плечи, легла на нее и крепко целовала по всей голове, пока она не взмолилась о пощаде.
– Ты чудесная девочка! Почему ты ничего не сказала? Ты работаешь в отделе новостей? Эл, дорогая, это здорово.
Я снова посмотрела на нее с благоговейным трепетом: она все делала так легко и в то же время работала днем и ночью. Ее острый, как бритва, ум мог анализировать все – от фильмов до книг и новостей, и я никогда не уставала спрашивать ее мнение.
На самом деле, я и по сей день придаю большое значение ее словам, хотя они больше не нужны мне в этом мире. Несмотря на мои мольбы, она никогда не зажигала свет, когда переводили часы. Она пила крепкое спиртное и никогда не пила вина, потому что говорила, что от него не бывает похмелья. Она не любила «Кардома» и предпочитала Лионс Корнер Хаус, потому что там была официантка, которая была добра к чудикам, как мы, и берегла для нас столы в «Лионсе» на площади Пиккадилли: «пруд с лилиями», как мы его называли. Она была превосходной экономкой, знала, как подешевле купить мясо, как хранить еду. Она знала, что лучшим торговцем углем был не человек с Джадд-стрит, к которому ходили Ашкенази и дамы из квартиры снизу, а чуть дальше, за Линкольнс-Инн. Я верила, что она все знает и всегда может все исправить.
– О, не стоит поднимать такой шум, – сказала она. – Я уверена, что, как только дело зайдет в тупик, меня выкинут, чтобы дать поиграть большим мальчикам.
– Если дела пойдут плохо, большие мальчики уйдут воевать и останутся только женщины, Эл, – сказала я, и мы удивленно посмотрели друг на друга, никогда прежде так серьезно не задумываясь о возможности войны, как бы ее ни хотелось избежать, поскольку она могла бы нам помочь. – Давай я приготовлю тебе еще немного праздничного какао. – Я встала с кровати. – Ты чудесная девочка.
– Перестань говорить «чудесная». – Эл не любила комплименты так же, как не любила дешевую обувь (пустая трата денег) и трамваи (смертельные ловушки – гораздо лучше сесть на автобус). Она пошла за мной в маленькую кухню и сменила тему: – Насчет Ашкенази, Тедди. Ты просто должна постоянно напоминать себе о том, что нужно забирать газету каждое утро. Беда в том, что твой разум отгораживается от них, потому что ты злишься на них за то, что они так бесцеремонно обошлись с тобой после того случая с Борисом и с тех пор стали натянуто с тобой общаться. И со мной.
– Но если честно, Эл, то да… иногда я боюсь Мишу. Она изменилась. Как и Михаил, но с ней все хуже. Она ужасно нервничает. Если я снова забуду… – Я замолчала, вытряхивая какао на сковородку. – Я не могу потерять эту работу.
– Ты можешь, теперь, когда у меня новая должность, у нас…
Я мягко положила свою руку на ее.
– Эл, я не могу жить за твой счет.
– Я не это имела в виду, – сухо сказала она. – Это всего лишь деньги. Ты найдешь другую работу.
– Я приехала сюда, чтобы быть независимой. Это мало о чем говорит, если… – Я поставила сковородку на стол.
– Ты бы оскорбилась, если бы кто-нибудь из твоих знакомых узнал, что ты спишь с лесбиянкой из Ист-Энда. Вот что ты имеешь в виду, да?
– Нет, нет, нет, – сказала я, быстро качая головой. Стены крошечной кухни показались ближе, и я оттолкнула ее. – Прекрати думать только об этом. Мне трудно смириться с тем, что я люблю тебя. – Я покачала головой, злясь на себя за то, что была такой эгоисткой. – Ты же знаешь. Я привыкаю к этому, честно. Это не значит, что я тебя не люблю, что я не хочу быть с тобой, что я не откажусь от всего ради тебя…
– От всего? – Глаза Эл сияли, лицо покраснело от волнения.
– Конечно! От всего. Ты же знаешь, я не хочу уезжать. – Я тяжело навалилась на плиту, стукнула по ручке кастрюли и пролила молоко. – Не хочу. Эта проклятая… ой! – Я обожгла палец и поморщилась. – Ой.
– Не кричи, это всего лишь молоко, – сказала Эл, и мы обе рассмеялись. – Прости, дорогая. Мне очень жаль.
– Нет. Ты не должна извиняться. – Я схватила ее за руку и потянулась за тряпкой. – Я не хочу уезжать, Эл. Вот и все. – И я нежно поцеловала ее хрупкое плечо.
Мы вместе вытерли молоко и сварили какао, застенчиво улыбаясь друг другу, потому что что-то изменилось, и мы знали, что связаны испытанием огнем на газовой плите.
Когда мы уже потягивали какао из наших кружек, Эл сказала:
– Послушай, у меня есть идея. Эта проблема с колонкой – если ты снова забудешь, почему бы тебе просто не заменить номер на тот, который у тебя лежит с апреля?
Конечно, она была права. В чемодане у меня до сих пор лежал номер «Таймс», который я получила по дороге в Лондон. Его принесли на серебряном подносе вместе с завтраком, и я сохранила его. Это как-то символизировало разрыв с домом: наконец-то мой собственный экземпляр, а не отцовский.
– Ты имеешь в виду, вырезать его, оставить на столе и не сказать им, что это не сегодняшний?
– Да.
– Но это же ложь, – сказала я. Втайне я тоже подумала: А что, если Мэтти снова написала мне?
– Ты всегда можешь пойти в библиотеку и посмотреть свежий «Таймс», чтобы убедиться, что для них нет сообщения. Я знаю, они настаивают на утреннем выпуске, но это ерунда.
– Да, – сказала я весело. – О, спасибо, ты такая умная.
Эл с любопытством посмотрела на меня.
– Знаешь, они тебя очень любят.
– Я в этом не уверена. Мне кажется, я их совсем не знаю, Эл.
– Признаю, что они довольно эфемерны.
Я поплотнее запахнула свой узкий кардиган под грудью.
– Для меня они совершенно реальны.
– Но ты больше никого не знаешь в Лондоне, – заметила Эл.
– Мари из «Хилс», хотя я понятия не имею, где она сейчас. Ашкенази. Тетя Гвен. И ты.
– Ты и я, – сказала Эл. – Только ты и я. Нам больше никто не нужен. – Она положила руки мне на талию. – Правда?
Я схватила ее за плечи, и мы посмотрели друг на друга.
– Нет. Нет, никто не нужен.
На следующий день, сама не знаю почему, я написала Мэтти. Письмо у меня. Мне его вернули, когда все было кончено.
Дорогая Мэтти.
Мне очень хорошо здесь, в Лондоне. Я работаю в забавном старом издательстве, которым управляют двое русских. Я довольно искушенная, вполне лондонская девушка, как видишь!
Я скучаю по тебе. Ты приедешь в Лондон, навестить меня и познакомиться с моим другом Эл? Думаю, вы поладите. Лондон – чудесное место, Мэтти. Я уверена, что ты могла бы найти здесь работу. Мы думаем, что война еще не скоро начнется.
С любовью, Тедди5 Карляйль Мэншенз Гендель-стрит WC1Телефонная линия 526И это все решило.
* * *
В тот мрачный сентябрьский день, когда Чемберлен впервые ехал в Мюнхен, Эл была одной из тысяч, которые стекались на Даунинг-стрит, чтобы проводить его. В последнее время мы почти ни о чем другом не говорили. Съезд НСДАП, будет ли Гитлер вторгаться в Чехословакию, насколько мы готовы и прав ли Дафф Купер? Мы могли вступить в войну уже через неделю.
Я бы сказала, что это было обычное утро, но это не так – в те дни ничто не казалось обычным.
– Помоги мне, я ужасно опаздываю, – сказала Эл, натягивая берет и шагая к вешалке, чтобы взять из сумки немного денег. – Слушай, увидимся позже, ладно?
– Конечно. Удачи тебе, дорогая. Передай ему привет от меня.
– Передам. Думаешь, надеть пальто?
– Нет, – ответила я. – Погода вроде хорошая.
– Ты же из деревни. Погода прекрасная. Я люблю тебя, Тедди.
– Я люблю тебя.
И она ушла.
Я съела еще один тост с мармеладом, думая о нас. О том, что нам делать дальше, что делать мне, уехать ли из Лондона или жить вот так старыми девами, как скучная Дора Мелюиш и ее подруга Иви, что жили двумя этажами ниже, которые изо всех сил старались убедить всех, что они просто подружки. Неужели жизнь держала нас в своих объятиях, обманывала, заставляя постоянно оглядываться через плечо, боясь, что нас раскусят? Я подумала о моей дорогой Эл. Поверила ли она тому, что я сказала ей в тот вечер, когда пролилось молоко, что я отдам все ради нее, что я верю – мы будем вместе? Мой взгляд упал на буфет и мягкий красный мешочек с бриллиантовой брошью-бабочкой. Я почти забыла про нее, и когда я посмотрела на нее снова и услышала жуткую тишину снаружи, что-то внутри меня оборвалось. Нам нужны были деньги: стипендия Эл скоро кончится, и кто знает, сможем ли мы остаться в Лондоне после начала бомбежек? Если бы я могла дать Эл немного денег в этот же вечер, это показало бы, что я настроена серьезно, что я действительно отбросила свои воспоминания, прошлое, которое держало всю мою семью в рабстве. У нас в Кипсейке не было ни Гейнсборо, ни яиц Фаберже, ни лестниц Гринлинга Гиббонса, ни других сокровищ. Но у нас было вот что: королевская брошь. Символ его любви.
Я держала крошечную вещицу на ладони, и алмазно-сапфировые крылья сверкали, и розово-золотая грудная клетка светилась, как будто она действительно была живой и могла вот-вот взлететь. Она и правда была крошечная, но каждый раз, когда я смотрела на нее, ее изысканность удивляла меня. То, что любят, никогда не исчезнет. Я вытерла руки, надела пиджак и наклонилась, чтобы вытащить сумочку из кучи нашей одежды на полу. Мы были, боюсь сказать, грязнулями. И в тот момент я заметила Михаила, идущего по тротуару с сигаретой в руке, и замерла.
Я опять забыла сходить за газетой.
При виде его, нервно расхаживающего взад и вперед, во мне снова зазвенела та нотка нетерпения, которая звучала во мне в последние несколько недель насчет Ашкенази. Эти ритуалы, ожидание газеты, вырезание, эта странная церемония. Почему они не могут просто пойти и взять свою чертову газету, почему они не могут сами проверить ее и вдобавок подышать свежим воздухом?
Так что в то утро – во всяком случае, уже неспокойное – мои внутренности были как жидкость, когда я обдумывала свой проступок. В оправдание я сказала себе, что это вполне простительно, что именно сегодня это вылетело у меня из головы: вырезки на столе казались ничтожными по сравнению с полумиллионом, который собрался из-за последнего Нюрнбергского съезда Гитлера. В воскресенье, накануне, мы все – светские девушки и почтенные барышни, старики, которые воевали в молодости, и молодые люди, рвущиеся в бой, – часами стояли в очереди перед Финсбери Таун Холл, чтобы получить противогазы.
Я потерла лицо руками, гадая, что они скажут, а затем неловкими пальцами вытащила из-под кровати викторианскую сумку в форме каравая. Она была вся в пыли. Прошло уже пять месяцев.
Я открыла ее и вынула «Таймс». Я аккуратно вырезала колонку из апрельского выпуска, проверила, нет ли в ней чего-нибудь, что могло бы меня выдать, – но нет: там были обычные вещи. Запрос на поиск марок. Ежегодное собрание Британского общества моряков. И еще уведомления от сбежавших людей: «уведомляем, что Оскар Буковиц из NW London подает заявку на натурализацию».
Сжимая в руке аккуратно вырезанную колонку, я сбежала вниз и распахнула дверь Ашкенази. «Газета!» – крикнула я Михаилу, стараясь говорить ровным голосом. Я положила колонку на стол, молясь, чтобы он не попросил показать всю газету – но они никогда не просили.
– Извините, я немного опоздала. Я взяла газету наверх. Эл уезжала на Даунинг-стрит, у Чемберлена сегодня встреча, и она хотела проверить маршрут…
Ложь. Она начинает медленно набирать скорость и вес, а затем катится так быстро, что уже слишком поздно ее остановить. И почему я солгала? Что бы случилось, если бы я сказала правду? Было бы уже слишком поздно?
В дверях появился Михаил.
– Я выйду ненадолго, я скоро вернусь, – сказала я. – Надеюсь, все в порядке.
Михаил молча прошел мимо, что-то пробормотал по-русски Мише в спальне. Я вышла. Я почувствовала острую боль, когда заглянула в квартиру с улицы. Они стояли там, обрамленные окном, оба в черном, согнувшись над столом почти единым силуэтом. Потом Михаил погладил Мишу по спине, и я увидела, как она подняла на него глаза и одарила его самой разрушительной улыбкой: ужас, красота, любовь смешались в ней. Я никогда не забуду, как она смотрела на него, когда они оба думали, что их никто не видит.
Я пошла к ювелиру на Тэвисток-Плейс, распахнула дверь, громко звякнул колокольчик, я уверенно направилась к прилавку, совсем не похожая на ту девушку, которая была здесь в прошлый раз. Сегодня на мне были новое темно-синее платье из крепдешина и голубые туфли. Тогда я была зудящей, голодной, грязной и совершенно не уверенной в том, что вообще делаю в этом городе, не подозревая о женщине, которой я должна была стать, любимой и любящей другую женщину.
– Доброе утро. – Я вежливо улыбнулась даме, записывающей цифры в гроссбух, и достала брошь из мягкого мешочка. – Не будете ли вы так любезны обозначить мне за это цену? – И я положила бриллиантовую брошь Нины Парр, подарок короля, на блестящий прилавок из красного дерева и с гордостью и опасением наблюдала, как ее глаза расширились при виде изящного, сверкающего маленького сокровища.
– О, – сказала она. – Это прекрасная вещь. – Потом она нервно посмотрела вверх, потому что выдала себя.
Я не могла смотреть на брошь. Я боялась передумать. Я согласилась на слишком низкую цену, но тогда я об этом не думала. Другое дело, как горько я потом сожалела об этом – я могла бы прожить за счет нее, она могла бы меня спасти, – но было уже слишком поздно. Я уловила мягкое свечение розово-золотой грудной клетки, сверкающие крылья, и когда женщина осторожно положила ее в сумку, она исчезла из виду навсегда.
С тех пор я часто думаю, кому принадлежит эта брошь, кто знает, что Нина Парр, любовница короля и хозяйка собственного замка, носила ее, когда умирала от голода триста пятьдесят лет назад. Кто-нибудь любит ее? Она все еще цела или распилена на три или четыре кольца с бриллиантами и сапфирами? Или, как я подозреваю, она где-то под землей, затерялась в развалинах магазина, который разрушили во время бомбежек?
Как и многие части этой истории, я никогда не узнаю правды. Война разрушает жизни, подбрасывает все в воздух, хоронит в разных местах. Но если однажды вы увидите девушку в парке, или мать, укачивающую ребенка, или молодую женщину в ресторане, и у нее на груди или на пальто будет брошка-бабочка, сделанная так изящно, что кажется, будто она движется, и если вы спросите ее и она скажет вам, что на спине есть крошечная надпись едва различимыми буквами: «то, что любят, никогда не исчезнет», тогда вы знаете историю броши лучше, чем она. Возможно, вам не стоит говорить ей. Пусть живет в неведении.
Некоторое время я бродила по Блумсбери, греясь на солнышке, и откладывала свое возвращение до тех пор, пока не убедилась, что Михаил и Миша уехали: сегодня утром в отеле «Рассел» они встречались с потенциальным автором. Потом я пошла обратно по Джадд-стрит, улыбаясь сыну мясника, который дерзко улыбнулся мне в ответ, зашла в бакалейную лавку и купила пучок кресс-салата, который напомнил мне о доме, где в это время года кресс-салат был повсюду. Я чувствовала себя невестой, идущей по Гендель-стрит со своим зеленым букетом, и улыбалась тому, как будет рада Эл, как приятно будет выложить на стол деньги – пятьсот фунтов, огромную сумму, – чтобы доказать, что мы делаем все вместе.
Когда я вернулась в Карляйль Мэншенз, все было тихо. Я подумала, что сейчас помчусь наверх и опущу кресс-салат в воду. Но, обернувшись, я увидела, что дверь Ашкенази приоткрыта. Я оставила ее на засове – они всегда забывали ключи, а Михаил однажды сильно потянул пах, пытаясь перелезть через перила и забраться в свою квартиру через окно.
Я заглянула внутрь и увидела тень, падающую на покрытый ковром пол. Я пошла наверх, притворяясь, что не увидела его, но он вышел в коридор. Это был Борис.
– Что вы здесь делаете? – сердито спросила я.
– Где они? – спросил Борис. Он повел меня за руку обратно в квартиру и закрыл дверь. – Ты одна? – Он оглядел меня с ног до головы.
– Они у себя в спальне, – солгала я. Как я уже сказала, одна ложь развязывает вам язык; солгав раз, вы обнаружите, что способны придумать что угодно. Так я и сделала.
– Скажи им, что я хочу их видеть. – Борис подался вперед и схватил меня за руку.
Я отстранилась от него, но его хватка была – как и раньше – мертвой. Я посмотрела на него. Он пьян, подумала я, или просто спятил. Он не брился уже несколько дней, и густые каштановые волосы торчали в самых неожиданных местах – на скулах, на ключицах. Его и без того желтые глаза были налиты кровью, одежда потрепана и местами порвана, как будто он спал прямо на земле.
– Они не хотят вас видеть, – сказала я. Мне было страшно, но я знала, что, как и в прошлый раз, я не должна показывать этого – и почему-то, даже больше, чем в прошлый раз, я не могла позволить ему изнасиловать меня. Не могла.
Он потянулся к моей шее, притягивая меня к себе. Его большие розовые руки сжали мои кости, выталкивая из меня дыхание. Я болталась перед ним, размахивая руками. Хрустальная ваза, стоявшая на каминной полке, разбилась – она была кузины Миши, как она всегда говорила. Она ухаживала за ней, потому что она очень ценной, стоила тысячи фунтов.
– Мне нужно их увидеть, – прошипел Борис мне в лицо. – Скажи мне, где они. – Я вздрогнула от его горячего, мясистого дыхания. – Джинни сказала, что поможет. Она ушла, и…
Он перешел на русский, когда мир поплыл у меня перед глазами. Я думала, что потеряю сознание, и, кажется, потеряла на мгновение, но, снова освободив руки, я потянулась вперед и ударила его ногой в пах, отскочив, так что упала на землю, а он упал на столик и на пол. Приземлившись, я почувствовала что-то острое и поморщилась, но встала и посмотрела на Бориса, который с трудом поднялся на ноги. Потом я поняла, что сильно просчиталась. Его лицо застыло с остекленевшим выражением, и он нащупал свой ремень, направляясь ко мне, и я попятилась к дивану. Это был конец.
Я пнула его еще раз, боль в ноге усилилась, и сказала:
– Хорошо. Они ушли. Они уехали сегодня утром.
Он помолчал.
– Они видели утреннюю газету? Сообщение от Друбецкого?
Если бы я спросила, это спасло бы их?
– Да, – сказала я. Еще одна ложь. – Да, все было хорошо. Они сразу уехали.
– Они уехали? – Борис хмыкнул. – Хорошо. – Одним движением руки он ущипнул меня под челюстью, по обе стороны от шеи, и у меня снова закружилась голова. – Ты уверена? Они уехали в Париж? У меня есть лишние деньги, им не нужны деньги?
Я моргнула, пытаясь не потерять сознание, и поняла, что не могу вернуться к тому, что сказала. Он убьет меня.
– Понятия не имею. Но они уехали.
– Что ж, хорошо.
Я потерла лицо руками, когда он повернулся к двери и крикнул через плечо:
– Я скоро приду за тобой, малышка. Я преподам тебе хороший урок. – Он улыбнулся, глядя на дверь. – В следующий раз не жалуйся, ладно?
Я ничего не ответила, и он захрустел разбитым стеклом на полу и захлопнул за собой дверь. Она громко стукнула, отскочив назад в раму. Мои руки дрожали, шея болела. Только когда я встала, я поняла, что из ноги идет кровь, и когда я сняла ботинок, то увидела, что осколок стекла из разбитой вазы застрял внутри моего правого ботинка и вонзился в лодыжку. Он торчал, окровавленный, слегка поблескивая.
Я хотела, чтобы Эл была здесь. Не чтобы вынуть стекло из ноги, каким-то волшебным образом. Нет, потому что я знала, что уже совершила ошибку, солгала слишком много – и это не было похоже на ложь, которую я говорила себе или скрывала от Эл. Она знает, что делать, она всегда знала, и она будет действовать спокойно, все будет хорошо. Если я не смогу пойти в библиотеку или как-то еще найти газету, Эл найдет ее. Теперь я должна была это сделать. Я должна была увидеть сообщение в сегодняшней газете.
Стараясь сохранять спокойствие, я сняла ботинок и наклонила голову, положив оба больших пальца на гладкий свод стопы по обе стороны отверстия, пытаясь вытолкнуть осколок.
Это было трудно, потому что я все время думала, что упаду в обморок. Я ясно видела отверстие; есть что-то нереальное в постороннем предмете, торчащем из вашей кожи. Но мой разум продолжал скакать, погружаясь в себя, перегруженный вопросами, и мои руки были скользкими от пота, когда я пыталась двигать осколок. Я чувствовала, как он все глубже погружается в мою тонкую плоть, двигаясь под кожей.
Желчь подступила к горлу. Моя рука соскользнула, и в этот момент раздался стук в дверь. Он был громким – почти бешеным. Я попыталась встать и поняла, что не могу.
– Эл? Это ты?
В дверь забарабанили громче. Я подумала, что это не может быть он, только не это.
Страх сделал меня честной. Потом, конечно, я поняла, что это Миша или Михаил без ключей.
– Толкайте! – закричала я. – Она на защелке!
Видите ли, я была рада. Я скажу им: я все им объясню. Сейчас они пойдут и найдут объявление, и у меня будут неприятности, возможно, серьезные, но все можно будет исправить. С легким щелчком дверь распахнулась, и я посмотрела на фигуру в дверном проеме, со шляпой в одной руке, полуденный свет ворвался вслед за ней.
– Вот ты где, – сказал он. – Встань, когда я с тобой разговариваю.
Это был мой отец.
* * *
Вот как это произошло. У Ашкенази было двое детей, Валентина и Томас. Им было, соответственно, двенадцать и пятнадцать лет, и они остались с сестрой Миши, Анной, в Вене, четыре года назад, когда их родители отправились в Англию, чтобы устроить лучшую жизнь для них всех.
Первоначально Вена, этот космополитичный, либеральный город, была безопасным местом, чтобы оставить там детей. В прошлом году, с Аншлюсом и ухудшением ситуации, все изменилось. Той осенью десятки тысяч евреев бежали из страны. До Хрустальной ночи, той страшной ночи, когда сотни еврейских магазинов были разгромлены, а тысячи людей жестоко вывезены из своих домов в Дахау и другие лагеря, оставалось еще два месяца, но ситуация уже была ужасной: сентябрь 1938 года был последним шансом для любого еврея, желавшего выбраться из Вены.
Если бы Михаил и Миша увидели объявление или поговорили с Борисом, они бы знали, что визы готовы и что для их получения достаточно дать кое-кому на лапу: три визы, которые позволят отвезти детей и их тетю в Париж. Но они также должны были узнать, что ситуация уже на грани: квартиру Анны разграбили, их имущество украли, мужа Анны, одного из тысяч, увезли в лагеря смерти. Что Анна и их дети теперь прячутся в подвале дома старого друга: шестнадцать человек, в темном подвале, под землей, без света. Если бы Ашкенази действовали немедленно, они могли бы уехать в Париж в тот же день.
Но они не узнали, и поэтому произошла задержка на четыре дня.
Гремальты все организовали. Будучи известными венскими арт-дилерами, они поддерживали хорошие отношения с нацистскими офицерами, снабжая их контрабандными картинами, но в то же время тайно помогая бесчисленным евреям из Германии, Австрии, Польши, Чехословакии, используя свое влияние и доброе имя до тех пор, пока удача не иссякнет или их тоже не арестуют, в зависимости от того, что раньше. Гремальты были старыми друзьями и земляками Ашкенази, такими же беженцами из Вены: Михаил затащил Йозефа Гремальта обратно в поезд, когда тот упал, и с тех пор Гремальты говорили, что они перед ними в большом долгу.
Так вот, это они организовали визы. Нацистский офицер, которому они обещали взамен картину, тоже хотел денег, и Ашкенази должны были их дать. У Йозефа и Иветты Гремальт не было денег, у них были картины. Поэтому Михаил и Миша должны были ехать в Париж немедленно, как только увидят объявление. Они передадут деньги тамошнему мастеру, который телеграфирует их офицеру в Вену. Он выдаст визы, и Михаилу с Мишей останется только дождаться приезда детей и Анны в Париж и привезти их обратно в Лондон. Это было, как и все отчаянные планы, довольно просто.
Без ведома нацистов Гремальты сами планировали уехать в Америку. Они обманули слишком много людей; немцы становились подозрительными. Гремальты не могли долго ждать своих друзей. И вот в том утреннем выпуске «Таймс» было написано:
Сейчас. Найдите Друбецкого. Отправляйтесь в Париж. Не медлите.
Так что звенья цепи должны были сработать, должны были держаться крепко. Анна, Валентина и Томас не могли долго скрываться; нацисты могли прийти и забрать их в любой момент.
Но Михаил и Миша так и не получили сообщение, первое звено в цепи, из-за меня. И когда Борис, исполняя свою роль, пришел на зов, я послала его – второе звено в цепи, которое могло бы спасти их всех.
Больше я их не видела. И об их местонахождении я ничего не слышала в течение многих лет, до того дня в книжном магазине на Чаринг-Кросс-роуд. Дождливый день, теплый книжный магазин, история многолетней давности.
* * *
Сначала мы мало о них разговаривали.
– Понимаешь, они ждали. Все то лето, ждали сообщения. Код. Я кое-что знала об этом… перед тем как я ушла от Бориса.
Я вспомнила Эл и себя, нашу шутку о том, что они самые худшие агенты большевиков, столь очевидные для всех, кроме них самих. Я сказала что-то о том, что они всегда были такими таинственными и мы думали, что они шпионы или преступники. Джинни нахмурилась, но потом ее лицо прояснилось.
– Значит, вы ничего не знали. Конечно, вы не виноваты, но я подумала, что вы могли донести. Они были очень расстроены. Они думали, что вы предали их.
– Нет! Никогда. Мой отец… – Я заморгала. – Мне пришлось вернуться вместе с ним. П-пожалуйста, Джинни, скажи мне. Что с ними случилось?
Она моргнула.
– Мне очень жаль, но я должна вам это сказать, – сказала она в тишине. И в моей голове зазвучал марш, барабанящий по черепу. – У них были сын и дочь, вы знали об этом?
Я покачала головой:
– Я… Я не была уверена.
Она откашлялась, прежде чем продолжить. Я помню руки Джинни, тонкие, переплетенные вместе. Я заставила ее повторить историю, когда она закончила. Я хотела запомнить, что произошло, что я наделала.
Когда она закончила, мы обе замолчали. Я почувствовала, как чернота обволакивает мои плечи. В желтом свете тесной лавки нас было только двое.
– По какой-то причине утром вы дали им устаревшую газету. – Она виновато улыбнулась, когда я почувствовала, как мои ноги, руки, живот превратились в воду и ее тяжесть надавила на меня. – И вот они вышли и не были дома, когда Борис пришел проверить, перепроверить. Я зашла к ним через пару дней, так как Борис вернулся к нам домой, чтобы забрать кое-какие свои работы. Видите ли, он сказал об этом при мне, сказал, что его долг Гремальту выплачен, и ему не нравится быть мальчиком на побегушках, и он больше ничего не сделает для них. Он сказал, что они уехали, уехали в Париж, что вы ему так сказали. – Она коснулась щеки. – Но я знала, что это неправда. Я видела Мишу за день до этого. Я поняла, что что-то пошло не так. Я бегом бежала к ним домой, большую часть пути из Челси. Я сказала им – сказала, что Борис пытался встретиться с ними, что вы отослали его. Мы побежали в Британскую библиотеку и заглянули в газету – трех-четырехдневной давности. Мы увидели сообщение, которое оставили Гремальты. – Она отвернулась от меня и посмотрела на полки. – Было слишком поздно. Офицеру надоело ждать денег, и он отказал Гремальтам. Они сбежали ночью, сначала в Швейцарию, потом в Америку. Визы, конечно, не были выданы, потому что офицер не получил своих денег, и никто в Париже не мог помочь им связаться с ним. Он отрицал, что когда-либо общался с ними. Конечно. Так что Михаил и Миша пытались попасть в Австрию, умоляли разрешить им поехать туда, когда тысячи, наоборот, уезжали каждый день. Они отправились в Голландию, но были вынуждены повернуть назад; я думаю, к тому времени они уже знали, что было слишком поздно, но они все еще пытались. Контрабандисты помогали людям пересечь границу Германии и Австрии. Они пытались пойти другим путем – в Германию, навстречу верной смерти, – чтобы найти своих детей. Контрабандисты смеялись. Я помню, как Михаил говорил мне. «Вы дураки, – сказал ему один из них. – Вы свободны. Если вы пересечете границу, вас отвезут в лагерь».
На следующий день после того, как дети и Анна должны были уехать из Вены, на дом был совершен налет. Анна была на вокзале, пошла узнавать о визах; она отчаянно ждала новостей, и они последовали за ней домой. Если бы она уже ушла… – Джинни уставилась на свои ноги. – Там было шестнадцать человек – дети, младенец. Они забрали всех мужчин. В том числе и Томаса. Их отвезли в Маутхаузен[3]. Вот где они взяли большую часть… образованных. Они взяли Анну и Валентину, а также других женщин и детей, слишком маленьких, чтобы ехать в лагерь. Они отправили их на остров посреди Дуная, выше по течению. Около сотни, все евреи. И оставили там умирать с голоду.
Я всегда буду слышать то жужжание, сопровождающее любую мысль, которая у меня тогда возникала, тот безжалостный монотонный звук этих мягких слов, капающих в уютное тепло книжного магазина, со скрипом половиц, отдаленными голосами на улице и усыпляющим дождем, шелестящим снаружи.
– В счастливые времена я жила в Вене с Анной. Я познакомилась с Валентиной. Томас с другими ребятами отправился в горы. Валентине тогда было лет десять. Милая девочка. Очень старательная. Очень застенчивая. Она писала в своем дневнике. Она показала мне несколько своих набросков. Она рисовала своих родителей по памяти – не видела их уже два года, но да, это был их образ. Необычное сходство. Я… Я пытаюсь вспомнить ее, понимаете, вспомнить их всех.
Она склонила голову.
– Скажите мне, пожалуйста, Джинни, пожалуйста, продолжайте.
– Берта, хозяйка дома, ее не забрали. Она была блондинкой, арийкой, не еврейкой. Она смогла написать Михаилу и Мише, рассказать им о случившемся; иногда мне кажется, что ей не следовало рассказывать.
Нацистские офицеры привозили свои семьи на берег реки, показывали им этих людей для развлечения, чтобы они услышали, как они кричат, просят еды или просто стоят на краю острова, глядя в никуда. Некоторые пытались утопиться, привязывали камни к остаткам одежды и прыгали в реку. К тому времени уже наступила зима. Той зимой было так холодно. Берта не видела Анну. Она уверена, что видела Валентину… она была… – Джинни посмотрела на меня. – Она уже лежала на земле. Надеюсь, она умерла быстро. Ей было двенадцать, Тедди. Боже мой.
Мы обе молчали. Я положила руку на полку, чтобы не упасть. Я не имела права падать в обморок, закрывать глаза и сгибаться под тяжестью ее истории. Я стиснула зубы.
– Что… что случилось с Михаилом и Мишей?
Она сказала очень тихо:
– Эл нашла их.
– Что вы имеете в виду?
– Шесть месяцев спустя. – Джинни положила свою руку на мою. – О дорогая Тедди. – Ее щеки были мокрыми от слез. – После того как они получили письма об острове, после того как узнали, что там ничего не осталось. Да, бедная Элис нашла их. Они повесились. Она слышала их, когда вернулась с работы. Они плакали – Михаил очень громко. Но к тому времени это уже вошло в привычку, и они не позволяли ей навещать их из-за ее связи с… – Джинни колебалась.
– Со мной.
Она не ответила.
– Они рассердились на Элис и отвернулись от нее. Она хотела войти, но не вошла. А потом у нее появилось это чувство, я помню, как она это говорила. Ужасное чувство. Поэтому она сбежала вниз – они всегда оставляли дверь на защелке, вы знаете…
– Я знаю. – Я подавила рыдание. – Знаю.
– Они оба свисали с книжных шкафов под потолком. Просверлили дырки в дереве. Я часто думаю, что они могли бы остановиться, просто в любой момент поставить ноги на полку. – Она покачала головой. – Должно быть, они очень хотели уйти. Да, я часто думаю об этом. Я не знаю – не знаю, насколько это хорошо, что они умерли. Иногда я могу понять, почему они хотели этого.
Джинни снова взяла меня за руку, но я вздрогнула, как будто я была нечистая, прокаженная, и она отпустила свою. Она была последним человеком, который прикасался ко мне с любовью в течение многих лет.
– Я… Я не знала, – сказала я.
– Откуда вы могли знать, Тедди?
– Мне следовало узнать. И Эл – Эл нашла их. Я этого не знала.
Я посмотрела на мрачный нуар-роман с тенью мужчины в фетровой шляпе, крадущейся по стене. Шестнадцать человек… дети, взрослые… младенец. Михаил и Миша тоже. Десять или около того человек были вовлечены в этот тщательно разработанный план, работая через страх и ужас, чтобы освободить двух детей и их тетю, и я все это разрушила.
– Я убила их, – сказала я.
– Нет, – сказала Джинни, тряхнув головой так, что волосы разлетелись вокруг нее, как яркое пламя. – Вы не должны так думать, Тедди. – Она улыбнулась. – Я не могу считать их мертвыми, понимаете? Это так на них не похоже.
Я кивнула. Но я не знала, что сказать. У меня на руках была не только смерть одной семьи, которую я знала, но и жизни двенадцати или около того других людей, которых я никогда не встречала.
– Что случилось с Эл? – сказала я. – Она… Вы знаете?
Джинни обхватила себя руками.
– Не уверена, – ответила она. – Вы знаете, что Карляйль Мэншенз разбомбили? Выживших нет. – И, когда я посмотрела на нее, она сказала: – Я не знаю, была ли она там, я имею в виду – я не знаю, дорогая Тедди. Я потеряла с ней связь. Война… – Она провела рукой по лицу. – Бедная девушка. Она через многое прошла. Потерять брата и отца, потерять тебя, найти Михаила и Мишу вот так. Она не заслуживала смерти в этой квартире. Она действительно этого не заслуживала.
Как я уже сказала, когда она закончила, я попросила ее рассказать мне еще раз, чтобы я запомнила, что я сделала. Но после этого я помню очень мало. Не знаю, попрощалась ли я с Джинни. На самом деле я ничего не помню об этой встрече, кроме самой истории, проливного дождя снаружи, уютного тепла внутри, когда ее сладкий, нерешительный голос рассказывал мне эти ужасные, бесчеловечные факты, которые застряли, как осколки стекла, и их невозможно теперь удалить.
Оттуда я направилась в Карляйль Мэншенз, по пути снимая пальто, снимая шляпу и бросая их на землю. Я думала, что горю, и только потом поняла, что промокла до нитки. Я не помню ни возвращения в Корнуолл, ни периода выздоровления. На самом деле я подхватила воспаление легких, из-за которого потом неделями лежала в постели, а когда поправилась, снова заболела, и болезнь, захватившая мой разум, десятилетиями держала меня в плену собственных мучений. Но я чувствовала, что заслужила это наказание.
И все же я снова солгала. Я помню еще кое-что из того дня. Когда я протянула руку Джинни и вышла из магазина, я поняла, что никогда не смогу искупить то, что сделала. И с того дня я не знала покоя, все эти тридцать лет.
* * *
Через несколько дней после моего отъезда из Лондона, 30 сентября 1938 года, я услышала, как Невилл Чемберлен по радио обращается к нации после того, как двадцать-тридцать тысяч человек выстроились вдоль дорог от Хестонского аэродрома до Лондона, размахивая руками и крича ему спасибо, спасибо за мир. Слова, которые он сказал, принесли нам большое утешение: «Мы благодарим вас от всего сердца. Теперь я советую вам всем пойти домой и спокойно спать в своих постелях».
Какое-то время все ему верили. Кипсейк не изменился за пять месяцев, прошедших с тех пор, как я уехала. Несколько бабочек все еще летали в саду. Пара красивых Червонцев, Репницы, Уклокрыльницы и Павлиньи Глаза, но больше ничего. Однажды утром я увидела величественную Перламутровую Большую, похожую на темного тигра, коричнево-красного с черным, летящую прямо на меня, преследуемую более светлым самцом, пикирующим и кружащим вокруг нее, пытаясь спариться. Я отвернулась от этого редкого, необыкновенного зрелища и вернулась в дом.
Сад, густой и наполненный увядающими цветами, почти мертвыми, был теплым, как всегда, и я провела много часов в шезлонге, не ища бабочек, просто глядя перед собой, думая. Я устала и не могла перестать спать.
Конечно, не Мэтти поместила объявления в «Таймс». Это был мой отец. Я больше никогда не видела Мэтти: она с матерью были выселены из сторожки до того, как меня с позором привезли домой. Я так и не узнала, что с ней случилось. У ее матери было очень мало денег, и они жили на подачки от Кипсейка, она немного зарабатывала шитьем. Дэвид Чаллис, сын викария, ухаживал за дочерью почтенного учителя в Монен Смит и утверждал, что ничего не знает о ней, несчастный трус. Когда я плавала вверх по реке до Хелфорд, или Хелфорд-пассажа, или даже до Фалмута, я спрашивала о ней. Я узнала, что ее или ее мать, бедную женщину, выгнали из дома в начале войны. Ее брат уехал в Америку несколько лет назад. Мне нравится думать, что Мэтти с матерью уехали к нему, оставив сторожку такой, какой она была, когда они уходили. Мне нравится думать о Мэтти, знатной даме с Манхэттена, которая идет по Пятой авеню в сапогах на высоких каблуках, отражается в витринах магазинов и улыбается.
Джесси, которой я доверяла, была слишком напугана, чтобы говорить со мной теперь, так как в мое отсутствие она очень страдала от рук отца. Турл присоединился к военно-морскому флоту, когда война вспыхнула, год спустя, и был убит в битве при Крите. Я была вдали от воды и ветра, дома, наедине с отцом, человеком, который нисколько не заботился обо мне и лишь хотел сохранить в качестве посредника своего ежегодного жалованья. Я не сомневаюсь в этом: если бы ему было легче убить меня, я была бы мертва в течение месяца. Но мне, конечно, предстояло дожить до двадцати шести. Он перейдет во владение наследницы, когда ей исполнится двадцать шесть лет, при условии, что в этот день она хотя бы раз побывает в пределах Кипсейка.
Когда Кипсейк погрузился в зимнюю дремоту, а я снова поймала его ритм, я перестала сопротивляться и думать. Когда вы нелюбимы и невидимы, это легко сделать. После войны я вышла замуж за Уильяма Клаузнера, энтузиаста лишайников. Он служил в армии на протяжении всей войны, он был в День Д, на пляже Юты. Он потерял ногу и всю оставшуюся жизнь страдал от слепящих головных болей, которые приковывали его к постели. Он был слабым человеком, умственно и физически, и я никогда не любила его, но я хорошо к нему относилась. Он нуждался во мне. Мы оба нуждались друг в друге.
Как и моя мать, я много страдала, пытаясь подарить Кипсейку наследницу, девочку. Я потеряла много детей – четырех или пятерых, – и каждый раз это меня очень расстраивало. Кровь, боль, тайна, стыд. Я обнаружила, что Уильям по-своему понимает меня. Он тоже страдал.
Мой отец умер после продолжительной болезни, в 1947 году, и к тому времени ущерб моему сознанию уже был нанесен. Я пробыла там достаточно долго, чтобы из меня испарился дух борьбы: я видела это у перепуганных собак, которых годами бьют хозяева. Отец отвешивал мне пощечину, когда я выказывала несогласие, и это продолжалось, когда я вернулась, теперь при малейшей возможности. То же самое действие: широкая, открытая ладонь, его большая рука на моей голове, так что кости хрустели, голова заваливалась в сторону, глаза закатывались. Я отступала, но коридоры отдавались эхом, и он всегда находил меня: легче было принять насилие, чем бежать. Я ненавидела звук собственного плача. Мне это надоело. Он сломил мой дух, как много лет назад сломил мою мать.
Я ничего не знала о его молодости, пока он не умер. Он вырос в Северо-Западной пограничной провинции, на территории, которая сейчас является незаконным племенным районом Пакистана. Он видел, как пуштуны убили его отца, а мать забрали и казнили. Когда ему исполнилось тринадцать, он застрелил троих и был отправлен домой к родственникам в Йоркшир – я нашла переписку о приготовлениях к его возвращению в Англию между любезной дамой из Шимлы, которая взяла его к себе, и кузеном его отца, когда просматривала его бумаги. Он хранил их все эти годы и никогда не говорил мне об этом. Это одна из многих историй, которых мы никогда не знали, история детства моего отца, что сделало его таким, каким он был.
Мы похоронили его в частной часовне в манакканской церкви: «Джордж Фаррарс, 1880–1947» – все, что было вырезано на надгробии. Мы не стали хоронить его рядом с моей матерью; я подумала, что она бы этого не хотела. Уильям, Джесси и я были единственными людьми на похоронах. Война смешала людей. Парры считались местной диковинкой: отца не любили и к этому времени многие семьи эмигрировали. Новые местные жители почти все были художниками, скульпторами, странниками, отдыхающими. Уильям и я были предоставлены сами себе, в относительном покое.
В 1959 году у нас родился сын. Джордж. Пару лет спустя я приехала в Лондон, встретила Джинни и узнала правду об Ашкенази. После этого я не возвращалась в Лондон, но и не очень хорошо справлялась, оставшись дома. Ты не узнаешь моего сына, Эл, – та, кто читает это.
Видишь ли, я пренебрегла всем, чему научилась у тебя. Я была зла и сердилась на своего маленького сына. Он это знает. У меня не было терпения. Я боялась его, боялась того, что ему было нужно, боялась того, что была назначена ему матерью. Он ужасал меня, его маленькие, извивающиеся ручки, протянутые ко мне из старой резной кроватки. Крепкие ноги, ковыляющие мне навстречу, его тревожная улыбка. Его вопросы, когда он научился говорить. Почему это наш дом? Почему в саду так много бабочек? Кто эта статуя без головы? Почему мы здесь живем? Встреча с Джинни в тот день лишь подтвердила то, что я знала: я плохая. Что я никогда не смогу быть хорошим человеком, не говоря уже о том, чтобы вырастить ребенка. Что этот дом прогнил до основания. Поэтому я пыталась заставить сына ненавидеть меня. Я сделала его таким. Я исказила его маленький разум холодностью и критикой. Я отослала его в школу, как только стало можно. Он был моим живым упреком, потому что я его создала, и я чувствовала, что никогда не должна была его иметь. Я не должна была продолжать род.
Каждые несколько недель я обходила дом, обращая внимание на трещины, плющ, сырость. Я ничего не говорила. Но постепенно наступил день, когда я начала верить, что должна убить этот дом, разорвать порочный круг и позволить ему снова кануть в небытие; и все же, сделав это, я снова заставила сына страдать, и я сожалею об этом.
О Джордж. Мне очень жаль. Я хорошо поработала над тобой. Я не торопилась. Я была абсолютно уверена, что ты ненавидишь меня, и дом, в котором ты вырос, и жизнь, которая у тебя была. У тебя были ночные кошмары, ты был одиноким и неуверенным в себе. Из-за меня, человека, который должен был заботиться о тебе, ты был застенчивый, печальный и несчастный большую часть своего детства – пока я не отправила тебя в школу. Думаю, я была рада, что ты ушел, потому что знала, что должна отпустить тебя. Чтобы заставить тебя уйти, убежать и не оглядываться. Я учила тебя очень, очень хорошо, не так ли?
О мой дорогой. Я желаю тебе счастья.
* * *
Я видела твое лицо, когда меня тащили в такси, заместитель моего отца, вцепившись мне в руку, вел меня, как маленькая девочка волочит куклу по тротуару. Я видела тебя, Эл. Как ты шла ко мне, руки в карманах, стройные ноги прыгают через пять ступенек к парадной двери Карляйль Мэншенз. Пять шагов, второй скол, и ты преодолеваешь их одним прыжком, или два четных, один нечетный, или нечетный – четный – четный: мы делали по очереди. Я слышала знакомый тихий, нежный свист, когда ты закрывала дверь, а меня держали в кабине, и рука отца зажимала мне рот.
Водитель, слепой ко всему, в общем мировом заговоре, просто сказал мягким тоном: «Вокзал Паддингтон, сэр?»
Сейчас ты смотрела на открытую дверь квартиры Ашкенази, вглядываясь в хаос внутри. Почесывая затылок, осматриваясь умными глазами, переступая через стекло (на него ты бы не наступила – ты все поняла). Когда машина отъехала от тротуара, отец отпустил мою руку. Мы молча ехали на юг, к центру города, прочь от пугающе тихих улиц Блумсбери.
Наконец он сказал:
– Мне нужно сказать тебе две вещи, и мы никогда больше не будем говорить об этом. Во-первых, ты снова напишешь этому человеку – на этот раз не просто записку, – с которым вы жили таким отвратительным, неестественным образом, и подтвердишь, что между вами все кончено.
– Нет, – сказала я и попыталась подергать ручку двери, но такси тревожно подпрыгнуло на боку. – Нет, я не стану. Выпустите меня. Ты не можешь это делать. Ты не имеешь права. Отец… – Я отчаянно толкнула дверь. – Выпустите меня!
Он засмеялся, и я навсегда запомню этот смех. Он был искренне удивлен. Почти весел. Я никогда раньше не видела его таким счастливым. Как будто наконец у него появился противник, готовый сразиться с ним.
– Да, ты женщина, – сказал он, – и ты моя дочь, и я имею право объяснить тебе, что, если ты не сделаешь то, что я хочу, ты будешь страдать. Я написал попечителям, которые присматривают за этой квартирой и пособием. Я сообщил им о хищническом поведении, что тебя заставили вступить в эти незаконные отношения. Они договорились, что траст, учрежденный Томасом Фишером для Элис Грейлинг, и аренда квартиры в Карляйль Мэншенз немедленно будут прекращены, в свете такого поведения.
Я сжала руки, одна сомкнулась на костях другой так, что кости щелкнули.
– Этого нельзя делать.
– Можно, и я уже сделал, но, пожалуйста, дай мне закончить. И прекрати пытаться убежать к ней. – Немного другим тоном, но он продолжал: – Тебе придется вернуться в Кипсейк, Теодора. Когда тебе исполнится двадцать шесть, поместье будет твоим, и если ты не будешь в Корнуолле, мы потеряем все.
– Почему ты… почему тебя это волнует? – сказала я сквозь стиснутые зубы. – Ты ненавидел мамину семью. Ты ненавидишь все, за что мы боремся. Почему тебя волнует, там я или нет?
Он отвесил мне традиционную пощечину, сильную и грубую, так что моя шея щелкнула от удара, и я мельком увидела сверкающие звезды в черном небе.
– Не говори, как продавщица. Меня это волнует, как ты выразилась, потому что я двадцать пять лет управлял поместьем и вкладывал в него свое время и деньги. Если ты все потеряешь, у меня ничего не останется. – Он рассмеялся. – Ты глупая сука. Мне плевать на Парров и их историю. Я хочу иметь крышу над головой, под которой можно умереть. Твоя глупая мать не оставила мне в завещании ни гроша… – Он замолчал, качая головой. – Мы больше не будем это обсуждать. Тебе просто нужно вернуться в Кипсейк. Иначе и быть не может. И то, что ты сбежала, доставило нам немало хлопот. Ты должна знать свои обязанности.
Я ничего не сказала и уставилась на широкие, спокойные дороги Мэрилибон и Риджентс-парк. У ворот стояла горничная и флиртовала с телеграфистом. Я слышала ее высокий смех, плывущий по ветру.
Эл сейчас была в квартире, увидела окровавленный башмак, корзину и кресс-салат в тазу, который я купила на ужин. Возможно, она уже увидела записку, которую я ей оставила.
– Но это не значит, что через несколько лет, после свадьбы, ты не вернешься в Лондон, не останешься с тетей Гвен, не будешь ходить по магазинам, как делала твоя мать. Но до тех пор, пока тебе не исполнится двадцать шесть и ты не станешь настоящей хозяйкой Кипсейка, ты моя дочь и будешь подчиняться моему слову.
Эл всегда прежде всего клала шляпу на вешалку. Мягкий, самый мягкий темно-синий фетр, окаймленный лентой в крупный рубчик, отделанный красивым маленьким пером, красно-зелено-оранжево-бирюзово-кремовым, ярким, как бабочка, сидящая на голове человека. Я не очень хорошо описываю, но с ее блестящими глазами и сияющими темными волосами она была очаровательна. Она была красива; ей не хотелось, чтобы ей об этом говорили, но она была красива.
Теперь я могла представить Эл, и я знала, что это происходит в тот самый момент. Что она снимает шляпу, увидев мою записку.
– Можно сказать, – продолжал отец, когда мы с грохотом проехали последний отрезок дороги, ведущей к Паддингтону, – что лето в Лондоне пошло тебе на пользу. Конечно, тетя Гвен сказала, что ты была на концерте, когда она впервые увидела тебя. Но в будущем ты поймешь, почему я должен быть таким строгим.
И все же, когда мы подъехали к широкой боковой двери вокзала и меня вывели, я могла бы сбежать. Я почти сумела. Шофер помог мне выйти из такси, избегая моего взгляда, и через секунду я уже была готова швырнуть его на отца и помчаться в сторону Гайд-парка.
Я оставила совсем небольшую записку: всего лишь одну строчку. Понимаешь, я хотела, чтобы Эл меня возненавидела, подумала, что я сбежала. Я даже не скажу тебе, что там было написано, потому что боюсь твоего суждения, и уже сейчас, рассказывая эту историю, я понимаю, как я была слаба. Я должна была бороться, выцарапать ему глаза. Забыть про свою кровоточащую ногу! Я должна была мчаться к тебе, в Карляйль Мэншенз, с окровавленными, ободранными ногами, вместо того чтобы обречь себя на годы страданий, черной депрессии, потери самой себя. Это было похоже на еще одно погребение при жизни, только на этот раз была моя очередь. Я должна была попытаться, должна была бороться за тебя, моя дорогая Эл. Я была слаба.
Но что бы я сделала? Эти маленькие зазубренные факты не давали мне покоя. Эл потеряла бы квартиру, работу, которую с таким трудом завоевала, шанс стать единственной в семье, кто вырвался из ужасающей нищеты, убившей старого Алана Грейлинга, и его отца, и отца его отца. Мы бы нашли, где жить, или, может быть, поехали бы к матери Эл. Но приняла бы она и меня – подружку Эл? Не думаю, что так. И что я могла сделать? Как я осталась бы с ней, веря, что то, что мы делаем, любя друг друга, так неправильно?
Когда мы шли к вокзалу и отец забрал у меня неуклюжий коричневый чемодан, я с мрачной уверенностью поняла, что должна вернуться. Как и Нина, я замуровывалась и пыталась забыть, каково было этим летом – быть свободной и любить, – и я говорила себе, что, возможно, это к лучшему – все забыть.
Нас проводили к вагону, и носильщик взял наши вещи. Отец опустил жалюзи купе. Мы остались одни, и я села на мягкое сиденье. Он ударил меня снова, глухим ударом, который не издал ни звука.
– Это чтобы напомнить тебе, какие неприятности ты мне причинила, поняла?
Но на этот раз я ничего не почувствовала. Не снаружи. Внутри боль была невероятно глубокой. И тут я все поняла. Только настоящая любовь может так ранить.
* * *
Когда я начала писать, я собиралась все объяснить, но писать оказалось труднее, чем я думала, и секреты, которые я надеялась сохранить, почти все вышли наружу. Видишь ли, я умираю. У меня не так много времени. Я почти дошла до конца своего рассказа – во всяком случае, до конца, который выбрала сама.
Я вернулась в Кипсейк в сентябре 1938 года и почти тридцать лет была едва жива. Я заблокировала так много вещей: я не помню, как мой сын уехал в школу или как я забирала его на каникулы; я помню один зимний день, когда мы вместе ходили ловить крабов и разводили костер на пляже, но теперь я не знаю, я не могу быть уверена, что я это не выдумала, приятное воспоминание, ложь, чтобы заставить чувствовать себя лучше. Я не помню никого из викариев в церкви, хотя видела одного, который ушел на пенсию молодым и, как мне показалось, исчез из моей жизни, когда он шел по улице, и он позвал меня по имени – Теодора! Миссис Парр! Это Адам Драйсдейл! Викарий манакканской церкви! И мне пришлось прятаться, пока он не ушел. Я больше не хожу в этот район. Я не могу рисковать, что он меня узнает.
Почти пятьдесят лет я управляла домом, получала скромную пенсию от давно умершего короля, ухаживала за садом. Джесси умерла, мой отец и муж умерли. Мой сын поступил в университет и не вернулся, а помощники разного рода приходили и уходили – трубочисты, уборщики, садовники, строители, – все уходили, никто не оставался. После того как Джордж уехал в школу, у меня появились собаки, всего три: Шарлотта, Руперт и Туги. Я гуляла с ними, вниз по ручью, вверх по лугу, в переулках. Нужно выходить из дома, когда у вас есть собака.
Постепенно, очень постепенно, со временем я осознала, что чернота ослабила свою хватку только немного, чтобы я могла совершить путешествие дальше Фалмута и Труро. Я поехала в Эксетер на поезде.
Я пошла в кино и увидела «Крестного отца». Я купила телевизор и смеялась над «Полдарком». Я даже голосовала на выборах 1979 года. Я отправила «Красного адмирала II» в Гуик и снова пустилась в плавание – дальше, чем за многие годы. Я больше не была робкой, лишенной матери девочкой, но была отважной, крепко сложенной вдовой. Я считала себя довольно чудной. Мне понравилось. Однажды, под дождем на Хелфорд, с Шарлоттой, дрожащей от холода, я снялась с якоря и подошла к пабу «Корабельный герб». Я заказала напиток – портвейн – и села у огня, Шарлотта сушилась у моих ног. Никто не смотрел на меня – еще одна пожилая, потрепанная непогодой деревенская дама в графстве, тут их полно. Я плыла домой, под слабым солнцем, и, когда я ходила вокруг задней части дома, я заметила акацию, растущую в трещинах стен. Думаю, в тот день я была счастлива.
Каждую неделю я чувствовала себя немного лучше. Я становилась сильнее, когда дом начал тонуть. Я черпала силы из его гибели. Я стала достаточно сильной, чтобы понять, что могу уйти. Возможно, так и должно было быть.
И с годами, которые превратились в десятилетия, времена и сезоны, я больше не чувствовала отвращения от любви к тебе. Я должна была быть честной, рассказывая нашу историю, но простой пересказ напомнил мне девушку, которой я когда-то была. Девушку, которая считала себя злой и неестественной, потому что любила женщин. Девушку, которая любила тебя.
Я не знала, мертва ты или нет. А потом, в 1972-м – это было тогда? – я просматривала «Радио Таймс» и увидела твое интервью. Лиз Трэверс, это была ты. Я сразу поняла, что это ты. Писательница, сценаристка, первая женщина, номинированная на премию BAFTA за телевизионный сценарий. Только фотография и один абзац, но это была ты. Все та же улыбка, завиток уха, выражение глаз. На тебе были белая рубашка и крошечные серьги из агата. Ты была такой же элегантной и мальчишеской, как всегда. Я вырезала фотографию и каждую ночь смотрела на нее, пока это не потеряло всякий смысл. Я тебя больше не знала.
Это не имело никакого значения. Я не могла связаться с тобой; ты вышла замуж за человека, ты изменилась, ты, кто, как я думала, никогда не выйдет замуж. Но я знала, что ты жива. Возможно, сам факт твоего существования – столь неопределенный в течение многих лет – это то, что мне было нужно, хотя я и понимала, что ты, должно быть, отвернулась от меня, и это давало мне надежду.
Много лет спустя я увидела тебя. На улице. Я была кое с кем и не могла объяснить себя ни одному из вас. Я не могу объяснить это и сейчас; это мой последний секрет. Ты меня не видела. Ты была такой же: ясноглазой, волосы собраны в серебряный пучок, целеустремленно бегущей по улице. Знай, что моя любовь к тебе никогда не исчезала, и я надеюсь, что хоть что-то согревало тебя, когда тебе было холодно, грустно или страшно. Знай это сейчас. Спасибо, дорогая. Я закончила свою жизнь счастливой благодаря тебе.
Если это не так, позволь мне сказать это снова. Я люблю тебя. Всегда буду, моя красавица. Прошлое – это только прошлое для живых. Когда мы умираем, оно снова становится нашим. Однажды я снова буду с тобой, в этом я уверена. То, что любят, никогда не исчезнет.
Теодора Парр1996Часть четвертая
Глава 24
Июль, 2011
– Но я не хочу там жить, – сказала я. И ремонт… – Я уронила руки на колени с глухим смехом, и молодой человек напротив бесстрастно посмотрел на меня. – Ремонт обойдется в миллионы фунтов. У меня нет ни фунта.
– Тем не менее, вы – законный наследник, – сказал Чарльз Ламберт. Он побарабанил ручкой по столу и посмотрел сквозь стеклянные окна, которые от пола до потолка открывались в город. – Это интересная юридическая головоломка. Цель вашей бабушки состояла в том, чтобы вы ничего не знали о Кипсейке до своего двадцать шестого дня рождения, после чего мы могли бы предоставить вам пенсию, но оставить вас без обязательств. Ваш отец был очень не прав, когда решил рассказать вам о Кипсейке. Мы подробно рассказали ему о распоряжениях вашей бабушки оставить дом как есть. Но вы были там, и, объявив себя единственным наследником Теодоры Парр, вы теперь по умолчанию владеете им и имеете обязательства перед поместьем. Что нам и нужно установить, действуя в соответствии с пожеланиями вашей бабушки, по природе данного обязательства.
– Что ж, я счастлива быть наследницей, – сказала я более определенно, чем чувствовала.
Он кивнул:
– Конечно.
Я прищурилась.
– Но, мистер Ламберт…
– Чарльз, пожалуйста, – перебил он плавно.
– Чарльз. Послушайте, дело в том, что я не хочу туда возвращаться, это звучит безумно?
– Не мне это комментировать, – сказал Чарльз Ламберт. – Конечно, мы будем действовать в соответствии с вашими пожеланиями, мисс Парр.
Я посмотрела на него, на его тонкие светлые волосы, совершенно правильную позу, вежливый профессионализм: неужели он не понимает, что мне нужен кто-то, кто просто скажет, что делать? Это была моя вторая встреча с ними. За пятнадцать лет, прошедших после смерти бабушки, то, что когда-то было скромной семейной юридической фирмой с офисами в Мейфэре, теперь превратилось в международный конгломерат с офисами в Шанхае и Сан-Паулу и, конечно же, налоговой гаванью Барбадоса. Чарльз Ламберт сообщил мне, в виде исключения раскрытия личной информации, что он с женой недавно вернулись после двух лет работы на Барбадосе, «поскольку хотели завести детей в Великобритании, что очевидно».
Очевидно. Блокнот, в котором я обычно писала в Лондонской библиотеке, заполняя его идеями и полуфразами о всяких вещах, теперь был моей записной книжкой для Кипсейка, заполненной расплывчатыми, нацарапанными заметками. Я снова посмотрела на то, что записала; теперь мне было известно следующее.
1. НАСЛЕДСТВО
Из-за особенностей поместья пенсия моего отца была довольно значительной (20 000 фунтов в год), тогда как я получала доход только с дома и с земли. Когда-то это обеспечило бы мне значительную прибыль, но не сейчас. Рудники Парр, из которых происходила большая часть семейного богатства, были выведены из строя почти сто лет назад. Кроме того, пахотные и другие обширные сельскохозяйственные угодья вокруг нас были распроданы по частям Джорджем Фаррарсом, отцом Тедди, чтобы обеспечивать его пристрастие к азартным играм. Оба эти факта означали, что я обладала недвижимостью, которая, по сути, ничего не стоила. Земля стоила очень дорого, но невозможно было получить разрешение на строительство домов на этой земле, не говоря уже о том, чтобы снести Кипсейк; и я не хотела ничего с этим делать. Дом нельзя было отремонтировать, но даже если бы и удалось, я не была уверена, что хочу этого.
2. ДОМ
Чарльз Ламберт сказал, что, если в доме найдутся ценные вещи, мы можем продать их с аукциона. Но мне почему-то это не понравилось: объявление о продаже дома и просмотр предметов, которые я никогда не знала или не обращалась с ними, чтобы заработать немного денег. И, как говорила моя бабушка, там не было ничего ценного. Ни Чиппендейлов, ни диадем. Я пыталась привыкнуть к тому, что теперь я та девушка, которая встречается с адвокатами, у которой есть готовый семейный миф, в который она уже вплетена, которая происходит от рода женщин, по-разному повлиявших на эту историю. Я не могла просто сидеть в аукционном зале и смотреть, как незнакомец забирает то, что от нее осталось.
Поскольку Кипсейк никогда не был включен в списки и не изучен «Английским наследием», мы не были обязаны ремонтировать его и поддерживать в нем жизнь. Однако факт остается фактом, и нас бы обязали, если бы его обнаружили. Но Чарльз Ламберт, возбужденно поджав губы, сказал мне, что это не является законным требованием «в настоящий момент».
3. НАМЕРЕНИЯ МОЕЙ БАБУШКИ
Самый важный факт из всех: я читала мемуары своей бабушки. Я понимала, что Лиз пыталась мне сказать, и все же я не должна была читать это: Тедди не хотела, чтобы я узнала или поехала в этот дом. Ей хотелось, чтобы Кипсейк рассыпался в прах, затерялся в тумане времени. Но и отец, и Лиз Трэверс, по-своему ненадежные свидетели, не согласились с ней. Я посмотрела на размазанный почерк, на бумагу, порванную в нескольких местах оттиском моей шариковой ручки, на слова, написанные и зачеркнутые снова и снова. Я не знала, что написать о бабушке. Я знала ее и в то же время совсем не знала. Она всё четко спланировала, и вот я здесь, врываюсь, и вся ее прекрасная работа разрушена.
– Итак, мой вам совет, – сказал Чарльз Ламберт, приводя меня в чувство. Он сложил пальцы вместе, в форме крыши, и выглядел задумчивым. – Я бы оставил дом как есть. Мы свяжемся с вашим отцом в Университете штата Огайо. Мы объясним ему, что вы отменяете его пенсию. Вы имеете право на этот доход до своего двадцать шестого дня рождения. Пенсия выплачивается только как подарок с вашей стороны, и вообще довольно спорно, что он имел право заявлять о ней все эти годы. Возможно, оплошность с нашей стороны. И мы пошлем кого-нибудь в дом, чтобы составить список активов собственности и земли. У нас уже есть один документ со времен вашей бабушки – она была очень педантична во всем, – но было бы разумно обновить его. Есть ли что-то конкретное, что, по вашему мнению, может представлять ценность?
Я покачала головой, думая о бриллиантовой броши.
– Даже не знаю. И удачи тому, кого вы туда пошлете; я дам вам подробные указания. Его невозможно найти.
– Мы найдем его, не беспокойтесь, мисс Парр, – сказал Чарльз Ламберт, как мне показалось, несколько покровительственно. – Мы позаботимся о страховке и о том, чтобы вам не нужно было возвращаться, если только не будет острой необходимости. И пока вы не решите, что делать с этим местом.
– До этого времени, – сказала я.
– Отлично. – Некоторое время он молча писал. Я посмотрела в окно на тепло, мерцающее над городом. Вдруг он сказал, скорее с любопытством:
– Дом выглядит довольно удивительно.
Я кивнула. Я поняла, что, как бы мне ни хотелось держаться подальше от этого места, я жаждала поговорить о нем с людьми, которые понимают. «Должно быть, когда-то. Когда вы будете там… это как в другом мире. Там все такое – все эти вещи».
Он отложил ручку. Например?
– Он живой. Горгульи над дверями смотрят на вас, портреты следуют за вами по комнате, растения стреляют сквозь щели.
– Очень интересно. Как необычно. – Он был похож на маленького мальчика. – А вам не было страшно? Звучит довольно жутко.
– Может, это и пугает, но нет… – Я запнулась, пытаясь объяснить. – Не могу описать. Я чувствовала себя – хорошо. Что мое место там. Вот что я чувствовала.
В кабинете с кондиционером меня пробрала дрожь.
– Могу я спросить: вы действительно не думаете, что сможете там жить? – Чарльз Ламберт снова взялся за перо и поправил очки.
Я колебалась.
– Нет, я так не думаю. Я не могу – не могу себе это представить.
Я прикусила кончик пальца, стараясь справиться с головокружением. С тех пор как я вернулась из Кипсейка, я почти не спала. Я была полна решимости держать все под контролем, не прятаться от этого, я начала вести все эти записи, читая до глубокой ночи, чтобы в моей голове все прояснилось. Я чувствовала себя одурманенной, как будто могла упасть в любой момент. Мама сказала, что это из-за того, что я плохо дышу, что я нервничаю, но я знала, что это было: в тот день, в тот самый день, когда я стояла там и думала, что слышу дом, как он снова оживает, увидела трещину во времени, часть Кипсейка вошла в меня. На самом деле, я не могу объяснить это, это звучит безумно. Кто-то залетел в меня – одна из этих женщин или гусеница, высиживающая бабочек, – и это дало мне то трепещущее чувство возможности, страха, возбуждения и нерешительности, которое, казалось, теперь окончательно укоренилось во мне.
Звучит немного безумно, я знаю.
Но что-то в этом доме и во всей этой истории сводило их с ума. Я несколько раз перечитывала мемуары Тедди, высасывая из них весь смысл, и, кроме того, в коробке было множество дневников и писем: я читала об умной, красивой бабушке Тедди, Александре, истинном коллекционере бабочек, о Руперте Вандале, который снес половину Кипсейка, положив начало его медленному умиранию, об Одинокой Анне, матери Александры, которая не выходила из дома и отказывалась принимать посетителей после того, как побывала в часовне и увидела там кости своих предков… о Безумной Нине, живущей в Доме бабочек, разговаривающей только с бабочками, которые знали о ее жизни в Турции, о годах, проведенных в качестве рабыни в гареме… Я знала их все, я знала мелодию, которую Лиз пела в тот день в библиотеке, я выучила ее наизусть.
Но я не могла рассказать об этом Чарльзу Ламберту. Не могла сказать: большинство из них заперлись в часовне и умерли от голода. Есть комнаты, к которым не прикасались в течение двух столетий. Вы можете открыть это место для посетителей и сделать его самой большой достопримечательностью к западу от лондонских подземелий! Да!
Снаружи пролетел самолет, сверкнув на солнце, ослепив меня. Я моргнула, а Чарльз встал и пожал мне руку.
– Мы свяжемся с вами, когда пенсия будет переведена на ваше имя и когда мы пошлем нашего эксперта, чтобы убедиться, что в доме нет конкретных предметов, которые необходимо застраховать или удалить. И мы свяжемся с вашим отцом.
– Половину пенсии, – вдруг сказала я. – Половину. Я не хочу отнимать у него все.
– Вы уверены?
– Абсолютно, – я кивнула. – Не сейчас.
Он отступил на шаг и молча сделал пометку в блокноте.
– Мои извинения, еще кое-что. Боюсь, я не помню вашего рода занятий. Для документов.
– Я была помощником адвоката, – сказала я.
Он слегка улыбнулся.
– Значит, теперь у вас каникулы.
– Вроде того. На самом деле… – Я сглотнула. В какой-то момент я должна была рассказать кому-то, что я сделала вчера. – Я подала заявление об уходе. Я… что ж… – Я почувствовала, что краснею. – Меня приняли в педагогический колледж. В сентябре. Я подала заявку на следующий год, но у них было два отчисленных, так что есть места, и… У меня было собеседование вчера, и хотя я не очень хорошо подготовилась… Я имею в виду я читала материалы и национальный учебный план и, конечно же, просмотрела тексты, потому что я… – Ему не интересно, Нина, замолчи. Я коротко и весело улыбнулась. – Я буду учителем английского!
Он слегка улыбнулся.
– Преподавание. Вы храбрец!
– О. Ну, это то, чем я всегда хотела заниматься, – сказала я.
– Ух. Должен сказать, я бы ни за что не согласился. Вы молодец!
– Спасибо, – сказала я, не уверенная, то ли он делает мне комплимент, то ли говорит, что я идиотка, которой следовало бы стать управляющей хедж-фондом. Я встала, чтобы уйти, пока мы не поняли друг друга еще больше, сжимая бумаги насчет Кипсейка, которые я принесла с собой. – Тогда буду ждать от вас новостей.
Прогуливаясь по городу, мимо дорогих баров, магазинов, бутиков, винных лавок, в черных байкерских ботинках и черно-сером коротком платье в цветочек, в кожаной куртке, с длинными волосами, взъерошенными на ветру, я поймала свое отражение в зеркале и чуть не рассмеялась, потому что в то утро я приложила немало усилий, чтобы выглядеть умной и деловой, и все же здесь, в городе, я все еще была похожа на опасного революционера или бродягу. Все рядом со мной были в сером или в черном – но аккуратные, ни одного волоска не выбилось из прически, безупречные. Тротуары без единого пятнышка, сверкающие стекла, ни цветочных коробок, ни пробковых досок с забавными надписями, ни неопрятных бород у прохожих, ни птиц. Люди шли быстро, опустив головы.
И это все меньше, чем в миле от дома, вернее, от маминого дома. Я медленно прошла через Банхилл-Роу и остановилась у надгробия Уильяма Блейка. Я купила кофе и булочку на продуктовом рынке на Уайткросс-стрит, затем побрела мимо церкви Святого Луки и новых поместий с многовековыми именами, спешно построенных после войны, плохо спроектированных тогда, нелюбимых сегодня. И вдруг я что-то услышала.
– Помогите! Помогите!
Голос раздавался над головой: я вытянула шею вверх, на одну из самых высоких многоэтажек. Это был женский голос.
– Помогите мне!
Я спустилась к подножию башни. Перед ним стояла очень молодая на вид мама, вяло толкая коляску вокруг прямоугольника высохшей травы.
– Там наверху леди зовет на помощь… – Я вдруг почувствовала себя немного глупо. – Можно мне подняться туда и посмотреть?
– Не беспокойтесь об этом, – сказала она. – Она там уже два дня.
– Что?
– Лифты сломаны. Она не может спуститься вниз. Она не может ходить, поэтому не может ходить по лестнице, понимаете? Она на восемнадцатом этаже. Они все говорят, что скоро все починят, но они, мать их, просто не приходят!
– Это ужасно.
– Она в порядке. Ее дочь приносит ей какие-то вещи. – Девушка пожала плечами и накрутила волосы на руку.
– Есть еще кто-нибудь…
Она перебила меня:
– Она живет здесь много лет, с тех пор как была девочкой, все ее знают, у нее есть друзья.
– Но все же она… нужно, чтобы кто-нибудь поднялся и проверил, все ли с ней в порядке?
Девушка посмотрела на меня, и ее ребенок издал тихий протестующий крик.
– Думаю, с ней все в порядке, спасибо, – вежливо сказала она.
Когда я вышла на Холл-стрит, у ворот бесцельно стояли два мальчика. «Пока», – сказал один из них бесцветным голосом.
– Пока, – ответила я. Я посмотрела на старую леди, запертую восемнадцатью этажами выше, как Рапунцель. Я видела, как она машет мне рукой в сиреневом кардигане. «Помогите! Помогите!»
Я все равно позвонила в Совет по дороге домой. Женщина по телефону была вежлива, но тверда. «Это частные подрядчики. Мы трижды говорили им, чтобы они выехали, но они не выезжают».
– Но это ужасно, – сказала я. Мысль о том, что она там, наверху, совершенно не в состоянии спуститься, вызывала у меня приступ панической атаки. – Кто-нибудь может спустить ее вниз? Вы можете что-нибудь сделать?
– Там отдельная регистрация, мисс Парр, – сказала женщина по телефону. – Это действительно так. Большое спасибо, что позвонили нам.
Все было как-то не так, и жара, чистота лифтов в «Мурблс и Рутледж», хриплый, ревущий голос старой леди в тишине поместий – все это меня разозлило. Мне все больше и больше не нравилось, во что превращался Лондон. То, что казалось важным в городе в эти дни – деньги, зарабатывание денег, защита миллиардеров, которые хотели заработать больше денег, – не было важно в реальной жизни, не помогало людям.
– Я… – начала я и поняла, что голова кружится сильнее, чем обычно.
– Я могу вам еще чем-нибудь помочь? – сказала женщина по телефону. – Алло? Что-нибудь еще, мисс?
Я слышала ее голос, металлический и слабый, когда телефон выпал из моей руки, и это свистящее, кружащееся чувство ударило меня снова. Я встала, моргая, и опустилась на пол.
Глава 25
Беспорядки того лета – 2011 года, которые начались на следующей неделе, – казалось, возникли совершенно неожиданно. Никто их не ждал, и пока они происходили, никто не знал, как их объяснить, да и потом долго не мог. Для меня они не были сюрпризом; я всю жизнь прожила в центре города и привыкла к его истории и красоте наряду со случайной жестокостью и неожиданными и ужасающими вспышками не поддающегося объяснению насилия. Последние несколько недель я чувствовала, что что-то изменилось, что-то тревожное витало в воздухе. Но по всей стране люди были возмущены. Они были недовольны по очереди: фактическим расстрелом Марка Даггана, потерей контроля, бессмысленным разрушением, бессмысленным насилием, молодежью, совершающей бессмысленное разрушение, полицией, которая их не понимала, политиками, которые были оторваны от общества, расизмом, присущим системе, отсутствием четких правил и структуры в обществе, которые привели ко всему перечисленному.
Некоторые из тех, кто учинял беспорядки, злились. Кому-то просто нужно было покричать, пошуметь, кто-то был занят разбитыми витринами и хаосом, который приходит с любым беспорядком, а некоторые просто были плохими людьми. Но только некоторые.
Я встретила Себастьяна в среду днем, на третий день после того, как начались неприятности, посреди всеобщей шумихи, задаваясь вопросом, насколько опасно будет ночью. В новостях говорили о домах и магазинах, сожженных дотла по всему Лондону, кто-то погиб в Илинге, в Кройдоне, Бирмингеме и Клапхэме, полиция не могла справиться в Восточном Лондоне, Тоттенхэме и Ливерпуле. Триста человек устроили беспорядки в Хакни прошлой ночью, и все гадали, доберутся ли они до Ислингтона, где уже произошло несколько вспышек. По всему Лондону магазины закрывались рано.
Август – любопытный месяц. Ночи начинают затягиваться, и вечером холодно, но днем все еще кажется, что лето. В тот день было жарко – слишком жарко. Что-то странное витало в воздухе, можно было почти почувствовать его вкус. Летнее безумие. Накануне я поехала в «Горингс», чтобы забрать оставшиеся вещи. Брайан Робсон был великолепен: он выплатил мне месячную зарплату и сказал, что я могу уехать через неделю. Вместо меня он нанял временного рабочего. Ее звали Шерри, она была из Хануэлла, у нее было двое детей, и к обеду она успела разобраться с канцелярским шкафом и выяснить, что ее дети и дети Сью учатся в одной школе.
Бекки выходила в декретный отпуск со следующей недели, поэтому мы разделили неловкий маленький прощальный чай вместе, она, я и Сью, Шерри и партнеры: пирожные и чашки поставили прямо на стойке регистрации. Они подарили Бекки радионяню, завернутую в большую целлофановую ленту, и немного масла для ванны; а у меня появилась красивая кожаная сумка. Я была очень тронута.
Брайан говорил о Бекки, о том, как им будет не хватать ее хорошего настроения и как ей придется поскорее вернуться обратно, иначе кто организует ставки на Евровидение?
– И наконец, я хотел бы попрощаться с Ниной и пожелать ей удачи, – сказал Брайан, поднимая кружку. – Нина покидает нас после двух счастливых лет, чтобы стать учителем. Разве не здорово? – Он оглядел небольшую, не слишком воодушевленную группу. – Мы всегда говорили, что она предназначена для великих свершений, ведь так? Ну вот, это день настал. Удачи, Нина, будь на связи.
Я подняла глаза и кивнула, стараясь не покраснеть от такого внимания. Интересно, что они обо мне думают, эти мужчины и женщины, шаркающие к своим столам? Бекки любила все это – она получала поцелуи и комплименты своему животу, как профессионал. У Бекки на столе лежала фотография со дня свадьбы. И когда нам велели сфотографироваться на новые пропуска, ей это нравилось, она улыбалась и принимала позу, когда Сью держала камеру; она, конечно, понимала, что в определенные периоды жизни надо быть в центре внимания. Ненадолго, и, надеюсь, по уважительным причинам, но это факт: не всегда можно избежать внимания. Так что я смущенно улыбнулась и поблагодарила, затем проглотила кусок пирога, хотя слишком нервничала, чтобы есть, а потом подошла к Брайану и поцеловала его в щеку.
– Большое спасибо за все, – сказала я. – Вы были очень добры ко мне. Я этого не заслужила.
У него в глазах блеснули слезы.
– Иногда так и было, но я всегда считал, что ты того стоишь. В тот день, когда я взял тебя, я сказал себе: Брайан, это может быть ужасной ошибкой, но ты чему-нибудь научишься у нее.
– Чему же вы научились? – спросила я, забавляясь, когда Сью позади нас, пытаясь починить ксерокс, рассмеялась.
– Стоять прямо, – сказал он. – Ты сутулишься. Ты хмуришься. Ты даже не понимаешь, что делаешь, вот! Прямо сейчас. – Я рассмеялась, и он похлопал меня по спине. – Вы будете замечательным учителем, юная леди. Думаю, тебе понравится. Я прямо вижу тебя сейчас, за городом, в какой-нибудь милой деревушке, на велосипеде, ты едешь в школу. О да. – Он закрыл глаза и тихонько замурлыкал. – О да, Нина. У тебя будет собака. Я вижу.
Я фыркнула:
– Я? Ненавижу сельскую местность!
– Кому вообще нравится Лондон? – сердито спросил Брайан, когда Сью кивнула, широко раскрыв глаза. – Что творится на этой неделе – люди сходят с ума, всякие происшествия каждую ночь. Тебе лучше уехать из Лондона, милая. Ты больше не ребенок. Ты взрослеешь. Все меняется. Ты думаешь, что любишь город, а потом однажды: БАМ! – Он сжал кулаки, а затем развел их в стороны взрывным жестом. – Просыпаешься и понимаешь, что не видела того, что у тебя под носом.
– Скорее у меня вырастут крылья, и я полечу, – сказала я, но это прозвучало как оправдание. И вскоре после этого, в последний раз выйдя из офиса и шагая по Риджент-стрит в плотном потоке туристов со своей новой сумкой, я остановилась на улице, часто моргая и думая, не грохнусь ли снова в обморок, как на прошлой неделе. Всегда ли я так себя чувствовала? Что-то и правда со мной не так? Мне было интересно, что произойдет этой ночью, насколько близок город к критической точке.
И тогда мысль, осознание, которое навсегда изменит мою жизнь, пришло ко мне, маленький красный шарик, плывущий в поле моего зрения. Я стояла неподвижно перед магазином «Эппл», рассматривая гигантские фотографии семей на пляжах и различные приложения, которые сделают вашу жизнь красивой. Календарь. Контакты. Фото. Календарь. Фото. Календарь.
Как же я раньше не догадалась?
Слегка вспотев и дрожа, я перешла дорогу, внезапно уверенная в том, что должна сделать, прежде чем увижу его. Я прошла мимо киоска «Ивнинг Стандард» на Оксфорд-Серкус: «Вторая ночь лондонских беспорядков?» Но я едва могла думать: О боже. Что, если я права?
Поэтому на следующий вечер я заскочила на кухню за яблоком – я поняла, что яблоко помогает мне справляться с головокружением, – перед тем как выйти навстречу Себастьяну, я, к своему удивлению, увидела маму, сидящую на кухонном табурете и пьющую чай. Последние два дня она провела в Оксфорде, посещая школы и библиотеки.
– Привет! – сказала она с удовольствием. – Извини. Я не слышала, как ты вошла.
– Я не знала, что ты вернулась. Как Оксфорд? – Я поцеловала ее и бросила в сумку еще одно яблоко из вазы.
– Это было чудесно. Я встретила другую Нину.
– Правда?
– Да, ей пять лет, и у нее брат по имени Альфи. Она очаровательна. Она была очень рада, что у меня есть дочь по имени Нина.
– Это здорово, – сказала я и откусила яблоко.
– Ты в порядке?
– Просто устала. Было приятно вернуться туда?
– Ох. – Она положила руки на кухонный стол. – Знаешь, это было чудесно. Я пошла в Ориел Колледж и Бодлианскую библиотеку. Я даже снова съездила в Брасенос. Сказала портье, что это колледж моего мужа, и он позволил мне осмотреть двор. – Она остановилась и улыбнулась. – Я забыла, что оттуда можно увидеть библиотеку. И небо – его комната была наверху, и мы смотрели на звезды. – Она теребила ожерелье. – Я кое-что вспомнила, когда мы были там. Кое-что, что он мне рассказывал.
– Что рассказывал?
– Он сказал, что дома ему было всегда холодно. А в Оксфорде тепло. Когда он рос, он совсем не видел солнца, потому что его комната выходила окнами в лес, а в доме всегда было сыро. – Ее глаза наполнились слезами. – Вот почему ему нравилось находиться в этой комнате. Небо. И с тех пор, как мы съездили в Кипсейк, прошло уже почти два месяца, но я продолжаю об этом думать. И, читая мемуары твоей бабушки: «его тревожная улыбка», – вот что она сказала о своем сыне, Нина, о его тревожной улыбке, и я не могу перестать слышать эту фразу, как это грустно, как она поступила с ним, ведь у него не было ни шанса. Помнишь?
– Да. – К тому времени я столько раз перечитала «Лето бабочек», что запомнила все. – Хотя не знаю. Бедная Тедди. Думаю, она хотела как лучше.
– Нет, не хотела! – сказала мама с легким смешком. – Я думаю, она была очень плохим человеком, Нина. Извини. Так с ним поступить – и я все думаю о том, каким неуверенным в себе он был, когда мы впервые встретились. Каким милым. В нем был какой-то шарм, но он как будто научился этому, как импрессионист учится голосу или когда ребенок копирует другого ребенка в школе.
Я пожала плечами:
– Думаю, он всегда был таким.
– Каким?
– Ну… слабым, – осторожно сказала я, – немного лжецом. Слишком привык полагаться на свое обаяние и шикарный акцент.
Она покачала головой:
– Не думаю, что он всегда был таким. – Она улыбнулась, и я уловила что-то в ее взгляде, когда она вспоминала о нем.
Я так и не рассказала ей о его письме, о том, как он написал, что всегда будет любить ее. Я знаю, это было правильное решение. Развод состоялся, и я надеюсь, что они больше никогда не встретятся, но, как бы наивно это ни звучало, я верю, что они все еще любят друг друга, даже после всего, что было. Не думаю, что когда-нибудь пойму их по-настоящему – ведь чужих отношений не понять, верно? Не говоря уже о собственных родителях. Кто может понять мои отношения с Себастьяном, кроме нас двоих?
– Я даю твоему отцу поблажку, – сказала мама. Он отвез прах и мемуары обратно в Кипсейк. Он выполнил последнюю волю твоей бабушки. В конце концов, он попытался исправиться.
Но я ничего не ответила. Мы по-прежнему не получали от него никаких известий по поводу развода, кроме как через адвокатов. И я держусь такой установки в отношении моего отца, невидимого Джорджа Парра: скорее всего, я больше его не увижу. И это, по крайней мере, странная ментальная перестройка: отец, который был мертв, но жив в моем воображении, теперь жив и здоров, но для меня умер. Не знаю, как я к этому отношусь. Может быть, когда-нибудь, через пару лет, я просто сяду в самолет и полечу в Огайо, попытаюсь познакомиться с ним, познакомиться с дочерью миллионера Мэрилин. Возможно, все это тоже ложь. Возможно, он совсем другой человек. Это ненормально, как ненормально все то, что связано с историей моей семьи. Я всю жизнь мечтала о большой семье, а теперь понимаю, что наличие и количество родственников не делает тебя нормальным. Совсем не делает.
– Я рада, что ты вернулась в Оксфорд, – сказала я.
– Я тоже рада, – сказала мама. Она встала и поцеловала меня, пальцами смахнув блеск для губ с моей щеки. – Я рада, что вспомнила о нем, о твоем отце. Я хочу, чтобы ты тоже это запомнила, Нина. Что бы ни случилось потом, в то лето он любил меня, а я любила его. В день свадьбы мы были так счастливы. Я хочу, чтобы ты поняла, Нина, откуда ты.
– Мама… – начала я и замолчала.
– Что?
– Ничего. – Я посмотрела на часы. – Мне нужно идти. Я опоздаю.
– Будь осторожна, – сказала она, когда я поднималась по лестнице.
Я рассмеялась.
– Перестань, мам. Я уже большая девочка.
– Я имела в виду Себастьяна, – сказала она. – Полегче с ним.
В тот вечер, когда я шла по каналу к Себастьяну, навстречу мне проехали два мальчика на велосипедах, они громко закричали мне вслед. Один из них был с заячьей губой.
– Прочь с дороги, сука! – закричал он, почти срывающимся от истерики голосом.
Я попятилась к стене, испугавшись до смерти. Потом они уехали, и туманная безмятежность канала воцарилась снова, одинокий мурен кудахтал среди пластиковых пакетов и подпрыгивающих пивных бутылок, душный запах угольного дыма плыл по воздуху.
Как я ему объясню? Как мне заставить его понять? Я ускорила шаг, направляясь к улице.
Глава 26
Хотя я рано пришла в милый уютный паб на Камден-Пассаж, Себастьян уже был там – он всегда приходил рано, хотя никогда не сердился, если я опаздывала. Я взяла его за руки и посмотрела на него, задаваясь вопросом, как мы проведем следующий час.
– Ты в порядке? – спросил он, когда я поцеловала его в щеку. – Ты, кажется, немного…
– Что?
– Ну, не в себе.
– В последнее время я чувствую себя совершенно сумасшедшей, – сказала я. – Теперь мне лучше. Кое в чем разобралась. – Я вдруг почувствовала, что не могу просто смотреть на него.
– Иди садись, – сказал он, все еще с любопытством глядя на меня. – Я нашел нам столик. Хочешь выпить?
– Я хочу что-нибудь поесть. Я умираю с голоду. Смотри…
Кто-то с громким криком пробежал мимо окна, и все в пабе вскочили на ноги. Но это была смеющаяся девушка с матерчатой сумкой, бегущая куда-то – за автобусом, на свидание, в кино.
– Сегодня немного напряженно, – сказал Себастьян. – Разве не безумие? – Все так и говорили: Разве не безумие? Разве это не странно? Мы смотрели на каждого человека, которого встречали на улице, с подозрением, загруженные мыслями о том, что очередное насилие может произойти прямо на наших глазах.
– Давно пора, – коротко ответила я. – Послушай, Себастьян…
– Сначала я закажу нам выпить. Давай отпразднуем. Ты и твои волнующие новости. Может, бокал шампанского? – Его добрые карие глаза смотрели нерешительно. – Будешь, Нинс?
Мне пришлось согласиться. «Конечно». Я взяла его за руку.
Когда принесли бокалы, я сделала маленький глоток и чокнулась с ним.
– За тебя.
Я поставила бокал на стол.
– Извини. Я не знаю, за что мы пьем.
– Ну, за тебя. За педагогический колледж. – Он выглядел удивленным. – И за то, что ты нашла Кипсейк. И – сегодня прекрасная ночь. Почему бы нам не выпить шампанского?
– Конечно, – ответила я. – Не думаю, что найденный Кипсейк стоит праздника.
– Ты всегда смотришь на вещи с отрицательной стороны.
– Тебя там не было, – сказала я. – Вот увидишь.
– Я жду приглашения, – сказал он. – Не забывай, я собираюсь переехать туда с тобой и быть твоим слугой, обслуживать тебя и твоих близких… – Он замолчал, глядя на меня. – Это была просто шутка.
– Извини. – Я хотела бы не быть такой загадочной, просто решиться и сказать ему, что я хочу. – Странный день. Послушай, Себастьян…
– Я тут подумал, – сказал он. – Давай немного побудем серьезными.
Появилась официантка с меню, и мы оба одновременно повернулись, чтобы принять их, и улыбнулись друг другу, когда она отошла, бросив на нас любопытный взгляд.
– Она думает, что мы играем механических роботов в пантомиме, – сказала я.
– В пантомиме не бывает механических роботов, ты, несчастное, обездоленное дитя.
Я расхохоталась и беспомощно улыбнулась ему.
– Ты была права, Нина, – поспешно сказал он.
– В чем?
– В том, чтобы снова быть вместе.
– И насчет чего я оказалась права? – осторожно спросила я.
– Ну, что мы не должны этого делать, что это ошибка. Разве не так ты думаешь? Я ждал ответа все это время, с тех пор как мы переспали, и ты совершенно права. О нас. Пришло время. Я не все понимал. Я думал о старых нас, а ведь мы изменились, правда? Мы больше не те.
– О нет, – сказала я и сделала глоток шампанского.
– Я рад, что мы… Я рад, что мы провели ту ночь вместе. Это было невероятно. – Он взял меня за руку, и я почувствовала, как горит мое лицо. – Разве нет?
Я кивнула:
– Конечно.
– Хорошо. Потому что это было похоже на прощание, да? И ты со своим преподаванием, и я уезжаю в Америку на пару месяцев – я ведь говорил? – Я кивнула. – Ты знаешь, если бы мы снова были вместе, это было бы ошибкой, нам надо устраивать свои жизни.
Я отодвинула шампанское.
– Себастьян…
– Нет, дай мне закончить. Пожалуйста. – Он прикусил губу. – Мне нужно это сказать. Я… Я всегда буду любить тебя, Нинс, это звучит глупо?
Я молча покачала головой. Он казался совершенно другим человеком, далеким от меня, от нашей старой жизни. Я посмотрела в свой стакан, думая, смогу ли я сказать ему или нет.
– Нет. Нет, это не звучит глупо.
– Я так рад. – И он поцеловал мне руку.
– Я тоже рада, – сказала я и была рада. Я любила его и хотела, чтобы он был счастлив, и тогда я, конечно, поняла – мы не можем быть вместе, несмотря ни на что. Тогда я видела только его доброту.
Он откинулся на спинку стула.
– Я очень хочу есть. Мы будем заказывать? На нас не нападет разъяренная толпа, правда?
– Вряд ли. – Я протянула ему меню, все думая, смогу ли выдержать это.
– Слышала о ресторане в Ноттинг-Хилл? Они просто вбежали и начали грабить людей прямо там, когда все ели. Вчера.
– О, там одни миллионеры, – сказала я. – Они могут позволить себе потерять пару десяток.
– Ты – старый коммунист. Ты бы была великим разбойником, воровала бы у любовниц Карла II и прятала в карманы их драгоценности. Ой. Я не должен говорить плохо о семье, не так ли? Итак, леди Нина, дом. Скажи мне, что происходит.
Я положила салфетку, чувствуя, как от адреналина кружится голова. «Дом…»
Он наморщил лоб.
– Эй. Ты правда в порядке? Ты ужасно бледная, Нинс.
Я кивнула:
– В порядке. Какой дом?
– Кипсейк. Что происходит с…
Но я не могла так больше. Я думала, что расскажу ему немного позже, когда мы будем более расслаблены, когда он сможет успокоиться. Я уставилась на него, губы приоткрылись, в горле пересохло.
– Себастьян. Я должна тебе кое-что сказать.
– Что? – Он наклонился ко мне. – Я принесу тебе воды. Ты белая как полотно…
Я положила свою руку на его, наблюдая за последними мгновениями перед тем, как сказать ему, и посмотрела в его глубокие, добрые глаза.
– Нет. Дело не в этом. Я беременна.
Его пальцы сжались под моей рукой.
– Что?
– Я беременна. – Я закрыла глаза. – Я… очевидно, он твой.
– Очевидно?
Мое сердце бешено колотилось, и я резко сказала:
– У меня никого не было, ты знаешь. Больше двух месяцев назад. Это было в тот день.
– Но мы использовали презерватив.
– Вроде. Один раз. А потом он сполз – разве ты не помнишь? – Я покраснела. Кто-то за соседним столиком оглянулся на слово «презерватив».
– Нет, не помню… мы были… – Он сглотнул. – Ладно. Как давно ты знаешь?
– Я узнала вчера. Так что для меня это тоже шок! – Я улыбнулась ему, и это прозвучало глупо. – Я почти ничего не ела, чувствовала себя странно и пару недель назад упала в обморок. Я думала, что просто нервничаю из-за всей этой истории с домом. Во всяком случае, у него, вероятно, три головы, и он выйдет в виде комка волос.
– Значит, ты его оставляешь?
Мы посмотрели друг на друга.
– Себастьян, я не прошу тебя вмешиваться. – сказала я. – Но я думаю, что хочу, чтобы ты участвовал в его жизни. В этом есть смысл. – Я протерла глаза. – Ну, нет, это не имеет никакого смысла, потому что в следующем месяце начинается PGCE, и я, вероятно, пропущу большую часть летнего семестра, но они говорят, что я могу компенсировать на дополнительных занятиях после апреля – если все в порядке, если у меня будет ребенок, – знаешь, еще только девять недель…
– Да.
– Дело в том, что мне нравится сама мысль о том, что у нас с мамой будет ребенок. Мама очень взволнована. Она говорит, что будет новой миссис Полл. – Я говорила слишком быстро, надеясь, что он не поймет, как явно я лгала. Я должна была заставить его думать, что все в порядке, что ему не нужно предлагать, что он не привязан ко мне, а я к нему. Он должен быть свободен, если хочет. Я думала о маме и папе, о том, что они не связаны, но все равно любят друг друга.
Кто-то сзади меня получил гамбургер с ягненком и картошкой фри и начал громко есть.
Я сказала поспешно:
– Малк на седьмом небе. Он говорит, что поедет со мной на курсы NCT, но я твердо сказала «нет». Ведь это будет выглядеть странно! Поэтому я думаю, что останусь с ними на некоторое время, и, возможно, если мы когда-нибудь переедем в Кипсейк, чего мы, вероятно, не сделаем, я могу взять его – ребенка – туда, или получить там работу, или что-то еще – я пока не знаю.
– Переедете в Кипсейк?
– Это уже другая история, – сказала я. – Боже. Много чего случилось. – Я выглянула в окно, стараясь не обращать внимания на пожирателя гамбургеров, удивленная собственной реакцией. – Мы можем отсюда выбраться? Мне нужен свежий воздух.
Себастьян кивнул, все еще слегка ошеломленный.
– Конечно. Ты в порядке?
– Когда я сижу рядом со всей этой едой, меня немного тошнит. Извини. – Когда я встала, я увидела, что он смотрит на мой живот. – Пока не на что смотреть, – сказала я и застенчиво улыбнулась.
– Ты – господи, ты вынашиваешь нашего ребенка. – Он сказал это медленно. – Ух, ты, Нина.
Мы положили деньги на стол и ушли. Была влажная, облачная ночь, на улице было очень тихо. Мы медленно пошли по Эссекс-роуд, и я рассказала ему о Кипсейке и обо всем, что там произошло. О письме, которое я получила в тот день от Чарльза Ламберта: что-то о благотворительной организации под названием «Общество защиты бабочек», которую вызвали, чтобы идентифицировать некоторых из них, и о чем-то еще волнующем. О том, что земля, на которой стоит Кипсейк, охраняется.
– Я звонила ему, но его не было. Хотя было восемь тридцать вечера; я рада, что даже Чарльз Ламберт не работает так поздно.
– Кто?
Я покачала головой:
– Мой адвокат. Не важно.
– Ты видела бабочек, когда была там? Каких-нибудь очень красивых?
– Их было сотни. Наверное, тысячи. Но мне трудно рассказывать. Прошли годы. Там так дико, и все заросло, и тепло, и пышно, почти тропический лес, а флора и фауна… – Я замолчала и рассмеялась. – Ну, это долгая история.
Себастьян вежливо кивал, но я знала, что он не слушает. Он опустил голову, но при звуке чего-то похожего на фейерверк вдалеке мы оба остановились, вскинув головы. Потому что звуки фейерверков редко оказывались настоящими фейерверками.
– Может быть, сейчас не время выходить из дома, – сказала я, вспоминив истерические сообщения и электронные письма, которые мы получали от соседей, предупреждающих не выходить на улицу ночью, и размышляя, правы ли они. – Послушай, я все равно уже должна идти домой. Я правда очень устала за последние пару дней. Я едва могу не спать после половины девятого. И я думаю, тебе нужно время, чтобы все обдумать. Когда ты скажешь семье… если ты скажешь – все равно.
– Конечно, я скажу им. – Лицо Себастьяна было неподвижно. – Давай не будем сейчас об этом думать. – Он пристально посмотрел на меня. – Сначала я провожу тебя домой.
Я схватила его за руку:
– Нет. Не надо. Правда не надо. Я пойду по улице Святого Петра, все будет хорошо. Все уже сходит на нет, сегодня все закончится. Слушай, мы встретимся завтра или в пятницу? После обеда?
Он медленно покачал головой:
– Нет.
– Нет?
– А если я скажу, что хочу быть с тобой? Начать сначала, Нинс? Что бы ты сказала? Есть ли в этом смысл? – Он замолчал. – Просто скажи мне.
– Я не знаю. – Мы стояли на улице, соприкасаясь тыльными сторонами ладоней, и вся моя прежняя решимость исчезла. Внезапно мне захотелось, чтобы он остался со мной, всегда был рядом, так сильно, что у меня защемило сердце. – Не знаю, – повторила я срывающимся, тихим голосом.
Он убрал прядь моих волос за плечо.
– Я… Я… знаю тебя, Нинс. Просто знаю. Хотя мы такие разные. Если у нас будет ребенок… Ребенок, – прошептал он с улыбкой, – разве мы не должны попытаться?
Его ребенок, мой ребенок, наш ребенок, и мы были женаты, и еще мы были единственными друг для друга, во многих отношениях. Крупные слезы упали с моих глаз на пол.
Он выглядел безумным.
– О Нина, дорогая, Не плачь. Мне так жаль…
– Я все время плачу, – сказала я. – Это как головокружение и тошнота. Я думала, что со мной что-то не так, прежде чем узнала, что именно. Я плакала четыре раза, когда смотрела новости сегодня утром.
– Послушай, – сказал он, – почему бы нам обоим не переспать это? Я приду к тебе завтра, потому что это все меняет. Может, нам не стоит попытаться, но знаешь что? Может, и стоит.
Он поцеловал меня в губы. Я все еще чувствую его поцелуй, когда пишу это сейчас, три года спустя. Я знаю, что имела в виду Тедди, когда писала, что прекрасно все помнит. Я помню этот момент, в точности, во всех деталях. Он пошел, повернулся и радостно улыбнулся мне, как в тот самый день, когда я впервые увидела его у доски объявлений Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а потом он скрылся из виду.
Жизнь зависит от крошечных вещей, которые заставляют нас делать выбор, – молния на ботинке, гроза в Хите и направление, которое мы выбираем на развилке дороги. Если бы он пошел в другую сторону, вверх по Аппер-стрит, это все равно случилось бы?
Странная вещь – случайность – как совпадения, хотя нет никаких совпадений, не так ли? В тот день я в любом случае должна была встретиться с Лиз в библиотеке. Она должна была найти меня. И почему Себастьян был там в тот день, когда все началось, когда мы увидели друг друга впервые за несколько месяцев? Я знаю – это потому, что он искал меня. Это не совпадение. Вот почему я считаю, что мы так или иначе должны были иметь этого ребенка… и, возможно, Себастьяну все равно пришлось бы уйти вот так, хотя в это я никогда не поверю.
Там, откуда доносились звуки фейерверков, группа мальчишек, ободренных беспорядками и хаосом, разбили витрину и стащили коробку фейерверков из супермаркета. Они запустили их на пустынном, дальнем отрезке Кэнонбери-роуд, ведущем к Хайбери и Ислингтон-Стейшн. Один фейерверк попал в автобус, другой – в бегуна. Себастьян подбежал к ним и велел прекратить. Полиция сказала, что он бежал почти так же быстро, как они ехали в своей машине: Себастьян, который знал, когда надо оставить все как есть, а когда вмешаться.
Еще один фейерверк, и мальчишки в ужасе разбежались. И когда Себастьян добрался до них, еще два фейерверка, оба вместе, ударили по стройплощадке за Юнион Чейпел. Архитектурная вывеска, вся покрытая нецензурными отзывами о строителях, я видела все это на дознании, свалилась, и высоко-высоко над ней какой-то кирпич и металлическая вывеска откололись от стены, быстро полетели вниз, ударив Себастьяна по затылку и сбив его на землю, и он упал назад, тяжело приземлившись на голову. Его череп был сильно поврежден в нескольких местах. Он перенес внутричерепное кровотечение, а затем кровоизлияние в мозг.
Через неделю Цинния – великолепная посреди беды, спокойная, невыносимо задумчивая и добрая – попросила отключить систему жизнеобеспечения. Он умер через пару дней в больнице Университетского колледжа, где через семь месяцев родилась наша дочь, напротив того самого места, где впервые встретились ее родители. Ее зовут Элис Фэрли Парр, и она всегда будет знать, кто ее отец. Я говорю с ней о нем каждый день. У нее в комнате есть наша с ним фотография.
В жизни мы не смогли найти способ быть вместе. Но потом он умер и оставил мне дочь. Так он всегда в моем сердце, со мной, каждый день. Не странно ли?
Глава 27
Август, 2014
Лето в Корнуолле наступает рано. Ласточки и стрижи летают уже с апреля, а к маю деревья покрываются листвой, и, конечно, в тяжелом, сладком воздухе порхают бабочки, ожидая, когда остальная часть страны – и свет, потому что по утрам все еще темно, – догонит их.
Последние два года, с тех пор как родилась Элис, я провела там довольно много времени. Не в доме – это невозможно. Дальше, на опушке леса, у выезда на дорогу, ведущую в Манаккан, есть сторожка, где жила настоящая Мэтти, до того как ее с матерью выселил мой прадед. Она была в плохом состоянии и до сих пор зимой там довольно неприятно, когда дорожка, ведущая к входной двери, становится непроходимой, покрывается грязью, льдом и листьями. Летом еще темно, не ловит сеть, в тени деревьев слышны только козодои и совы. Но сейчас здесь тепло и уютно. Есть две милые спальни, и я вычистила дымоход, чтобы мы могли развести огонь. На кухне есть вода, и я нагреваю воду для ванны на огне. Это тоже мое, часть моего состояния: приданое, оставленное мне женщинами моего рода. Я счастлива, что все так. Кому-то наверняка не захочется оставаться здесь больше пары недель, но когда вокруг тепло, уютно и аккуратно, здесь волшебно. Элис здесь нравится.
Именно здесь моя мать и Малк решили провести свой медовый месяц, и для меня это очень много значит. К августу в Корнуолле уже как несколько месяцев тепло, поэтому даже в той части коттеджа, что в тени деревьев, становится жарко. Мы с Элис приехали пораньше и присоединились к маме с Малком, вместе сев за обеденный стол. Малк жарил сардины с травами, крошащиеся местные сосиски, и мы ели как короли. Элли съела больше всех. У нее отменный аппетит: она может слопать две большие миски пасты за несколько минут. Она очень похожа на своего отца.
После обеда Малк сдвинул шляпу чуть дальше на голову и скрестил руки на груди.
– Я закончил, – сказал он. – Теперь моя очередь отдохнуть перед отъездом. Вы, девочки, собираетесь?
Мама посмотрела на меня.
– Я могу пойти одна, – сказала я, – если ты не против, мам?
Она кивнула.
– Конечно, конечно! – сказала она, немного напряженным, взволнованным голосом, потому что только она одна знала, зачем я туда иду. – Я имею в виду, я пойду с тобой, если хочешь, дорогая.
Я колебалась. Я хотела вернуться туда только с Элис. Я имею в виду, что это будет символический момент, последние две женщины Парр, но потом я поняла, что не могу пойти без мамы.
Гены, семьи, предки – это все забавные вещи, не так ли? Я была уверена, что мне не нравится «Птицы мычат», когда я была моложе. Потом, когда родилась Элис, я поняла, какая это замечательная книга. Я просто не смогла разглядеть этого раньше, это было так похоже на нашу эксцентричную маленькую жизнь. Теперь я читаю ее своей дочери, это ее самая любимая книга, так же как «Нина и бабочки» была моей любимой книгой, и я думаю, она уже понимает, что ее написала ее бабушка, и мне это нравится, мне это очень нравится. Моя замечательная мама.
До двадцати пяти лет я мечтала побольше узнать о человеке, который, как мне казалось, умер вскоре после моего рождения. Теперь, если уж на то пошло, я слишком много знаю о нем и об истории нашего рода. Теперь мне жаль свою мать и её семью – этих недооцененных американцев с Восточного побережья, ученых, сухих, рыжеволосых. Мамин отец умер в прошлом году, и она поехала на похороны, но я не смогла быть вместе с ней, поэтому мы с ней планируем съездить вместе в следующем году, если позволит отпуск. Я оставлю Элли с Циннией, ее другой бабушкой (никогда не было на свете более любящей бабушки, чем Цинния, никто не был более убежден в совершенстве своей внучки – но ей можно так думать). Мы поедем на Манхэттен и отдадим дань уважения молодости мамы, а потом отправимся в Калифорнию, чтобы навестить ее тетю и кузенов, которых я никогда не видела, и она не виделась с ними уже несколько десятков лет. Возможно, это будет наша единственная встреча, а может, и нет. Теперь я понимаю, что вы можете завязать себя в узлы, пытаясь воссоединить свою семью. А иногда можно просто все оставить в покое.
Вот что я собираюсь сделать сегодня. Я собираюсь оставить кое-кого в покое.
Все, что началось с того, когда Лиз подошла ко мне в тот день в библиотеке, все, что произошло потом, случилось из-за моего странного представления о семье. Я нервничаю, потому что не сказала маме, что именно собираюсь сделать, и не уверена на сто процентов, что права, но не могу не сделать этого. Я должна запереть Кипсейк и оставить его, оставить его бабочкам и природе, чтобы они закончили свою работу к его возвращению, возвращению земле.
Короткие, толстые ножки Элис дрожат, когда мы срезаем через покатую, хорошо протоптанную дорожку от домика через луг, но она не жалуется. Она настаивает на том, чтобы везде ходить пешком, несмотря на то что у меня есть рюкзак-слинг. Она смеется и показывает на пчел, жужжащих над ней, на ярко-желтую амброзию, похожую на маленькие подсолнухи, и плачет, когда уколет свои гладкие розовые пальцы о чертополох. Она никогда раньше его не видела и не понимает, в чем дело. Но она не боится. Она совсем не похожа на меня, у нее нет страха. Она похожа на своего папу. У нее его золотые кудри и его огромные глаза, и иногда, когда я смотрю на нее, мое сердце рвется на части.
День стоит неподвижный, и туманное золотое сияние опустилось на поля. Вдалеке – так далеко, что почти не слышно – я слышу кого-то на реке. Интересно, смотрят ли когда-нибудь прохожие на деревья, думая, что там за ними? Догадаются ли они когда-нибудь, что здесь руины дома, что когда-то это был один из величайших домов в стране?
Мама держит Элли за руки и тащит ее по грязи. Недавно, на прошлой неделе, прошел дождь, и земля стала пухлой и сочной. Мы стоим на мелово-гравийной дорожке, которая вьется и ведет к Кипсейк, к лугам, где мой отец охотился на бабочек, а моя прапрабабушка Александра научила Тедди всему, что знала.
Элис говорит: «Хочу пить».
Мы обе, мама и я, тут же начинаем суетиться, как ковбои в перестрелке, соревнуясь, кто из нас первой вручит ей свою бутылочку с водой, и я думаю, пока мама помогает Элис пить из своей, о том, как повезло моему светловолосому решительному ребенку. Я думаю о своем отце, играющем здесь в одиночестве, заброшенном матерью и отцом, ищущем бабочек, боящемся ночи, одиночества. О Тедди, убегающей с Мэтти на станцию Труро глубокой ночью, садящейся в поезд, который отвезет ее в Лондон, подальше от дома-магнита. Я думаю о Безумной Нине, которая при лунном свете скачет верхом, бежит в Персию, чтобы воскресить сломленную женщину внутри себя. О бабочках, которых она тайком привезла домой в виде личинок, в коробках для своих детей, что моя бабушка, и ее мать, и ее мать делали, чтобы показать свою любовь. Я думаю о своем отце, о письмах, которые я ему посылала, о фотографиях его внучки, которые так и остались нераскрытыми, о том, как это глупо, что мне больно, и я думаю о Тедди. Интересно, что бы она сказала обо всем этом. Куда она пошла, как закончила свои дни, была ли она счастлива.
Я думаю обо всем этом, когда мы идем сквозь последние лучи великолепного солнца, наши плечи теплые, моя маленькая девочка крепко сжимает мою руку, она напевает и болтает.
Мама говорит:
– Знаешь, тебе не обязательно это делать.
– Я хочу, – говорю я. – Это моё решение.
Мне придется предать забвению эту семью, чтобы мы могли жить своей жизнью. Я не хочу, чтобы Элис чувствовала то же, что и я, – что у нее не хватает половины самой себя. Она узнает правду о своем отце. Конечно, у нее есть супербабушка – теперь Цинния не может ненавидеть меня, потому что я подарила ей единственный памятник Себастьяну, который помогает ей пережить агонию его потери. И я могу сказать Элис, как сильно я любила ее отца. У нас все случилось в неподходящее время – все было не в порядке, еще до ее рождения, и она исправила это странным, болезненным способом. Я знаю, что любила его и никогда не смогу заполнить пустоту в моем сердце, которая была занята любовью к нему. У меня было много времени подумать, когда я была беременна. Себастьян, ты ведь знаешь это, правда?
Я закончила свой педагогический курс после того, как Элис исполнилось шесть месяцев; у меня новая работа в Лондоне, в начальной школе в Хакни. Мой второй год начинается в сентябре. В прошлом году я начала сотрудничать с книжным трестом, чтобы убедиться, что каждому ребенку в моем классе кто-то читает перед сном. Я до сих пор хожу к двум детям раз в неделю, чтобы почитать им книги, потому что их родители не читают по-английски. Я живу с мамой и Малком, но теперь это огромное счастье – делить с ними дом, чтобы Элис знала их обоих и они о ней заботились. Мы занимаем два верхних этажа – один я, другой она. Старая квартира миссис Полл вернулась, и ее старая кухня снова стала нашей кухней, я отремонтировала ее на деньги, полученные в наследство. Интересно, что бы подумала обо всем этом миссис Полл? Я думаю, она улыбнулась бы своей спокойной улыбкой и сказала: «Ну разве ты не чудесная, дорогая?»
Итак, сегодня мы возвращаемся в Кипсейк из-за двух вещей, с которыми я еще не разобралась. Последние из моих задач, и тогда я почувствую, что сделала все, что должна была сделать.
Через три месяца после смерти Себастьяна, когда туман еще не рассеялся, мне позвонил Чарльз Ламберт. Я едва вспомнила, кто он такой: иногда было трудно уследить за всем.
– Послушайте, мисс Парр, я должен был вам позвонить, – сказал Чарльз. – Простите меня. Но вы не ответили ни на сообщение, ни на письмо – насчет бабочек. Помните, собирался приехать кто-то из «Охраны бабочек Корнуолла», чтобы осмотреть это место? Парень, которого мы изначально послали для оценки, был чем-то вроде эксперта-любителя. Он видел сад – есть ли там какой-нибудь дикий сад?
Я так ясно помню, где была во время этого разговора. Я сидела на кухне, закинув усталые ноги на стул.
– Можно и так сказать.
– Интересно. Знаете ли вы какую-нибудь причину, по которой можно считать, что там обитают бабочки, ранее не известные в Великобритании?
– Хм, – тупо сказала я, глядя на стариков, рыбачивших на берегу канала. – Нет, понятия не имею, извините.
– Я читаю отчет того парня. «Дальнейшие наблюдения необходимы как окончательное подтверждение того, что это единственная естественная среда обитания Харакса Европейского в Западной Европе, и это будет прорыв в энтомологии и таксономии. Это указывает на необычные, можно сказать, совершенно уникальные условия сада Кипсейка. Годы запустения, наклонная долина, которая ловит солнце, богатая минералами почва и теплый, влажный климат вместе создали почти тропическую среду, которая позволила редкому Хараксу Европейскому, не замеченному за пределами Средиземноморья и Африки, размножаться здесь. Неизвестно, как этот вид сюда попал. Он…» Простите, что вы хотели сказать?
– Я это знаю, – сказала я. Я сидела. – Я знаю, как они туда попали.
– Ах. Ну, это будет долгий процесс, чтобы установить происхождение бабочек, и я уверен…
– Нет, – сказала я, смеясь. – Я действительно знаю, как они туда попали. Мой предок… – Потом я замолчала. – Вообще-то, это долгая история. Продолжайте.
– Это хорошие новости, мисс Парр. Они хотят подать заявку на специальный охранный ордер, чтобы запретить публичный доступ. Они должны будут тщательно охранять место и продолжать следить за популяциями бабочек. Он говорит, что там не только бабочки. Здесь полно зимородков, сов, козодоев и так далее. Это довольно необычно.
– Да, – сказала я. – Так и есть.
– И интересно, как это сработает на вас. Я думаю – и я тут строю дикие предположения, – что Национальный фонд, возможно, захочет выкупить у вас землю.
– Я не продам его, – ответила я. – Я сдам его им в аренду, и они смогут им управлять. Я не хочу, чтобы они что-нибудь в Кипсейке уничтожили. Она оставила все как есть не просто так. Я до сих пор не совсем понимаю, почему она это сделала, но я уважаю ее волю.
– Она?
– Моя бабушка.
– О… Конечно.
– Чарльз, – сказала я. – Вы что-нибудь знаете о ней? Где она умерла? Что с ней случилось?
– Я не могу разглашать эту информацию. Жаль, что не могу. – Помнится, мне показалось, что в его голосе не было особого сожаления. – Наш первый долг перед клиентом.
– Я ваш клиент.
– Да, но не в данном случае. И… – Он остановился.
– Что?
– Ну, я тоже не знаю. Я имею в виду, все эти документы были подписаны много лет назад. Так что, даже если бы это не было противозаконно, мне бы тоже пришлось выяснять.
Я была погружена то в шок от своей беременности, то в траур по Себастьяну. Все изменилось, когда я впервые прошла УЗИ, увидела ребенка, которого мне суждено было родить. К моменту этого телефонного разговора я уже знала, что у меня будет девочка. Я была взрослой, со своей историей и наследием, и я готовилась стать матерью. Я смогла справиться с этим. Я смогла это сделать.
– Понимаю. Слушайте, раз уж мы заговорили об этом, мне, вероятно, придется составить завещание. Хм… в нем должно быть кое-что странное. Я имею в виду, я не собираюсь умирать, но все, что связано с домом… – Я остановилась. – У вас когда-нибудь были такие странные случаи?
– Мисс Парр, некоторые дела, которыми мы занимаемся, такие, что вы и ваша бабушка еще вполне простой случай. Я могу составить любое завещание. Хорошо, – сказал он, и я услышала щелканье клавиатуры, стук пера, которое ему так нравилось, и представила его в сером костюме, с мальчишеским возбуждением, возможно, снова ожившим на его лице. – Могу я попросить прислать команду из Национального фонда? Они свяжутся с вами при первой возможности? Как вы можете себе представить, они все абсолютно в восторге от своего открытия. Это вызвало чертовски много волнений…
Я прервала его, волна тошноты захлестнула меня:
– Попросите их. Конечно. Скажите мне, что им нужно.
Я снова откинулась на спинку стула: по правде говоря, в тот день все это казалось таким глупым – трепещущие насекомые и взрослые люди, карабкающиеся по камням, когда Себастьян все еще лежал целым в земле, а у его ребенка не было отца. Тогда я этого не понимала.
А еще была Лиз. Когда Элис исполнилось шесть месяцев и я старалась быть независимой – я дважды ходила в магазины, чтобы купить молока, и пила кофе с Элизабет, – я получила странную просьбу. Мама предложила как-то вечером искупать Элис, и когда я вернулась на Ноэль-роуд, совершив редкую прогулку в одиночестве, то обнаружила, что Малк стоит на кухне в некотором замешательстве.
– В чем дело? – спросила я, пытаясь скрыть ужас, который испытываешь, когда оставляешь ребенка и возвращаешься к кому-то с таким выражением на лице. – Все в порядке, Малк?
– Абсолютно. Слушай, Нинс. Кто-то по имени Эбби звонил тебе на мобильный, – сказал он, почесывая в затылке. – Я ответил. Она… она сказала, что ты должна прийти. Прямо сейчас. Я сказал – я сказал, что это чушь, нельзя просто бросить все и убежать. Но она сказала, что ты поймешь, чтобы я передал тебе и она должна с тобой увидеться.
Он протянул мне телефон. Эбби написала мне.
Привет, Нина. Извини за беспокойство. Лиз уже уходит. Ей осталось недолго. Если ты прочитаешь это, не могла бы ты прийти сегодня вечером? Спасибо.
Я уже была на полпути к лестнице и бежала в ванную, где мама весело ворковала с Элис, которая лежала в неглубокой ванночке, яростно колотя ножками в воздухе и крича от восторга.
– Только посмотрите на эти булочки, – говорила мама, почти пьяная от радости. – Посмотрите на это нежное личико! Посмотри на себя!
– Мам, – сказала я. – Мне нужно идти. Это Лиз. Элис Грейлинг. Она умирает… Ее сиделка хочет, чтобы я пришла. Можешь уложить Элли?
– О. – Мама встала. – О, конечно.
– Дай ей бутылочку, она в морозилке. И убедись, что температура в комнате в порядке – прошлой ночью была жара. И мам, молния на ее гро-бэг очень…
– Боже, со мной все будет в порядке, – сказала мама, закатывая глаза. – У меня был ребенок, ты ведь выжила, правда?
– Ну… – начала я.
– Не хами. И если ты собираешься упомянуть миссис Полл, я не хочу об этом слышать.
Я поцеловала ее и побежала вниз, оставив Элис в неведении, пускать пузыри и с удивлением смотреть на свою ручку, которую она то и дело прижимала к лицу.
Глава 28
Через час шторы в спальне Лиз все еще не были задвинуты. В окна лился вечерний свет с Хит. Деревья качались на вечернем ветру. Все было спокойным, безмятежным, торжественным: в отличие от классической сцены на смертном одре, которую я себе представляла. Комната была красивой, от пола до потолка шли книжные полки, заставленные картинами, наградами, фотографиями.
Ее кровать смотрела на Хит. «Девушка с креветками» висела над каминной полкой, поблекшая, но все еще улыбающаяся. Там же стояла фотография Эл и Тедди, держащихся за руки. Я никогда не видела их вместе и долго рассматривала ее. Внешне похожие – короткие черные волосы, стройные, молодые, – но все же совершенно разные: Тедди – застенчивая и милая, Эл – дерзкая и провокационная. И одежда: Эл – элегантная и модная, в мужских брюках, Тедди – скромная в своем простом, черно-белом узорчатом платье-рубашке. Они улыбаются камере, но совершенно понятно, что их улыбки предназначены только друг другу. Они такие милые.
– Почему она не… она не должна быть в больнице? – прошептала я, взглянув на Лиз, тяжело дышащую, крошечную в своей слишком большой ночной рубашке из ворсистого хлопка, едва замечающую нас обеих, когда мы ютились в глубине большой светлой спальни.
– Я медсестра, – быстро ответила Эбби. – У нас по очереди дежурят еще две. Она все очень тщательно спланировала. Она очень организованна.
– Да, была. Есть, – я быстро исправила.
– Она не реагирует, ни сейчас, ни в последние пару часов. Но она часто говорила о тебе, когда была в сознании. Я не была уверена, поняла ли она, что встретила тебя, а иногда она так этому радовалась. Что она заставила тебя понять ее и твою бабушку. Видишь ли, ты была связующим звеном с Тедди, но она этого не осознавала. Даже в первый раз, когда вы встретились, она была так счастлива, но потом не смогла вспомнить почему. Если бы вы встретились год назад. Ну, да ладно. – И она подошла к ней, заботливо укрыла одеялом, пригладила волосы.
Небо было усеяно абрикосовыми и розовыми крапинками, и я понимала, что время не может – не должно – тянуться слишком долго и помешать ей.
– Почему вы попросили меня прийти именно сейчас? – сказала я.
– Ну… – Эбби прикусила губу. – Сегодня мне пришлось заглянуть в ее сумочку. Я так давно этого не делала – она уже много лет не пользуется своими кредитными картами. Но была одна пропавшая кредитка, которую я пыталась аннулировать. Я проверила ее сумочку и нашла вот это.
Она сунула руку в карман и достала тонкий кремовый квадратик бумаги, записку, сложенную в несколько раз. Эбби вложила квадратик мне в руку. «Остальное она сожгла. Она мне сказала».
– Что сожгла?
– Книгу, книгу твоей бабушки – это была твоя бабушка, не так ли?
Я кивнула.
– Она хранила ее много лет, а когда ей поставили диагноз «слабоумие», бросила ее в огонь вместе с рукописью. Вообще-то, мы делали это вместе. В камине в гостиной. Она сказала, что больше не хочет ее видеть, когда ей станет хуже, не хочет знать, что это такое. И чтобы другие люди не прочитали книгу из любопытства. Она сказала, что лучше запереть это в памяти и постепенно забыть. Но она, должно быть, сохранила это.
Я развернула письмо и остановилась.
– Можно мне прочитать?
– Прочти, когда вернешься домой, – сказала Эбби. – Не здесь… – Она помолчала. – Знаешь, мне кажется, что от встречи с тобой стало только хуже. Это все ускорило.
Я прижала пальцы к губам. «Ох».
– Нет, это хорошо. – Эбби провела рукой по лбу. – Она хотела уйти. Она хотела, чтобы все поскорее кончилось, а это заняло так много времени. – Ее глаза наполнились слезами: холодная, практичная Эбби. – Это жестокая, жестокая болезнь, Нина. Я думаю, что ты надломила ее, и наступила последняя стадия. Знаешь, она через многое прошла. Тогда она была лесбиянкой и пыталась это скрыть, хотя никогда ничего не скрывала. Потеряла Тедди. Потеряла брата, отца… нашла тех людей, которые повесились в квартире. Я имею в виду, это же нехорошо, правда?
Я покачала головой, мне хотелось смеяться, хотелось плакать.
– Ничего из этого не было хорошим.
– Но я думаю, что все это лежало где-то глубоко в ее памяти, и ты вернула ей воспоминания. Ты так похожа на Тедди в молодости, и для Лиз встреча с тобой стала чудом. Но думаю, ее разум к тому времени уже был слишком слаб. – Эбби фыркнула. – В любом случае… Я… Я чувствовала себя виноватой. Я думала, это причиняет ей вред.
– Уверена, вы поступили правильно, – сказала я.
– Да, но не мне играть в Бога. Бог жесток.
– Бог жесток, он дал нам испортиться, – прошептала я.
– Что это?
– «Колодец одиночества», – сказала я. – Мы читали это в университете. Я навсегда запомнила эту строчку. – Но Эбби выглядела озадаченной, и я продолжила: – Моя бабушка считала, что у нее есть недостатки. Она даже не мечтала о мире, где можно любить кого хочешь, жить с кем хочешь. Но Эл, она знала, что любить Тедди – правильно. Она понимала, для чего мы здесь.
– Мы все испорчены, не так ли? Не думаю, что эта цитата верна, – сказала Эбби.
– Вот именно, – сказала я. Мы обе замолчали.
– Послушай, не думаю, что она осознает, что ты здесь, но ты можешь подойти и попрощаться с ней. На всякий случай.
Я медленно подошла к кровати и встала рядом. Пуховое одеяло было покрыто покрывалом из голубого шелка, старого и тонкого. Я погладила ее и посмотрела на нее сверху вниз. Ее глаза были открыты, крошечные ручки вцепились в шелк, пальцы методично сцеплялись и расцеплялись, снова и снова. Я подумала о своей Элис, которая булькает в ванне, моргает, глядя на свои пальчики, смущенная, но решительная. Я в последний раз посмотрела в эти прекрасные черные глаза.
– Теперь я понимаю, – сказала я. – Все. Прости, что не сделала этого раньше. Я позабочусь, чтобы ты была с ней. Чтобы вы были вместе.
Я тихо наклонилась, поцеловала ее в мягкий лоб и тоже погладила по волосам. Брошь в виде бабочки лежала на краю кровати, тусклая в вечернем свете. На секунду мне показалось, что она отреагировала, улыбнулась мне, очень, очень легким движением губ, но я в это не верю. В реальной жизни так не бывает, все не так просто.
Уходя, я в последний раз пересекла Хит. Я разрешила себе вспомнить о том, как мы развеивали прах Себастьяна на Парламентском холме, как развевались радужные ленты на ветру в руках у Шарлотты, как Джуди кивала, скрестив руки на груди, а Цинния была неподвижна, как кочерга. Я думала о том, как мы лежим на траве и шепчем друг другу всякие глупости. А она, думала я о Лиз, все эти годы была одна в этой светлой, заставленной книгами комнате с видом на Хит, наедине с воспоминаниями. И не только с ними.
Я села читать письмо. Сначала я ничего не поняла, но потом догадалась, что это была записка, которую написала моя бабушка, когда посылала Лиз «Лето бабочек». Ее держали при себе, читали и перечитывали, складывали столько раз, и теперь она разваливалась на части. Она висела у меня на пальцах, как паутина.
Эл.
Полагаю, ты с трепетом открыла пакет. Кто же прислал мне эту плохо напечатанную рукопись и что ему нужно?
Далее следует рассказ о моей жизни. Я написала его для тебя, моя дорогая, и для моего сына Джорджа. Чтобы объяснить (или попытаться объяснить). Прилагаю фотографию сына. Он похож на меня, правда? Мне хотелось, чтобы ты его увидела. Очень хотелось. Прочти это, подумай о нем, и, пожалуйста, если ты меня ненавидишь, постарайся меня простить.
Я умираю и больше не увижу тебя. Я скучала по тебе все время: я смеюсь над людьми, которые говорят «я думал о тебе каждый день». Раз в день! Каждый день без тебя казался мне вечностью. Я думала о тебе каждый час, большинство минут в час. Тяжесть бытия без тебя – это нечто физическое, осязаемое. Сеть, наполненная камнями, которые я тащу за собой, куда бы ни пошла. Быть без тебя – это медленная, бесконечная пытка.
И все же я не печалюсь. Когда придет смерть, я буду помнить добро, которое ты сделала, и добро, которое я сделала ради тебя.
Дорогая Эл. То, что любят, никогда не исчезнет. Думаю, мы больше не встретимся, но я всегда буду любить тебя. Я всегда буду тебе благодарна. Ты заразила меня тем летом. Ты посеяла во мне семя добра. Мне потребовалась целая жизнь, но я умираю, зная, что сделала все правильно, в конце концов, что я сделала что-то хорошее.
Я любила тебя, я все еще люблю тебя, и после того, как я уйду, я буду любить тебя.
Навсегда твоя ТеддиГлава 29
Когда мы спускаемся к памятнику в этом нашем последнем путешествии, мое сердце бешено бьется. С тех пор я много раз пересекала луг и входила в сад, но больше не заходила в дом.
Я пишу историю нашей семьи, и она подходит к концу. Может быть, когда-нибудь я ее опубликую. Но, скорее всего, оставлю ее в развалинах Дома бабочек, чтобы она канула в небытие. Когда Элис вырастет, я скажу ей, что она из королевского рода, что, если бы мы жили в другое время, мы с ней были бы королевами этой страны. Я многое смогу рассказать ей, когда она подрастет. Она будет знать, откуда она.
Мама с Элис остались на лугу, а я открываю калитку и выхожу в сад. Волонтеров сегодня нет, они приходят раз в неделю. Бабочки повсюду, как и цветы: пурпурные буддлеи, сладкие розово-красные розы и жимолость. Теперь я знаю достаточно, чтобы опознать ярко-синих Полиомматусов и Голубянок, Рептиц, Махаонов и Крушинниц – белых, оранжево-черных, фиолетовых и щербетно-лимонных, – когда прохожу мимо покрытого лишайником Дома бабочек. Тени удлиняются, совсем чуть-чуть. Некоторые бабочки любят раннее утро, некоторые вылетают вечером. Я постепенно снова узнаю, кто из них кто. Я хочу знать их всех – они проникли в мое сердце. Они тоже мое наследство.
Что-то шуршит, когда я распахиваю боковую дверь. Потревоженная мышь, или лиса, или другое дневное существо – а может быть, кто-то из другого времени, кто жил в этом месте. Но я чувствую, что кто-то наблюдает за мной, и снова меня накрывает чувство, что этот дом жив в других мирах, просто вне досягаемости. Если бы я пришла в нужный момент и вошла в нужную дверь, я смогла бы шагнуть назад во времени и быть там, услышать звон лодки внизу, везущей товары и гостей, воркование голубей в голубятне, шелест юбок миледи, когда она идет по коридорам. Я знаю, знаю теперь, что все они живы – где-то. И может быть, они все сумасшедшие, и может быть, я такая же, но в этот момент я понимаю, почему они добровольно вошли в эту часовню и умерли.
Моя рука дрожит, когда я поднимаю ключ к ржавому замку комнаты под лестницей. Но она не поддается, несмотря на мои усилия. Может быть, из-за дождя он насквозь проржавел; во всяком случае, я понимаю, что не могу оставить ее там. Моей мечте похоронить Тедди и Лиз в этой комнате с ее предками не суждено сбыться.
И я понимаю, что это неправильно. Они с Лиз должны остаться снаружи, не здесь, не в этом доме смерти. Они должны быть свободны.
Я выхожу на улицу, в сад бабочек, где меня окружают высокие стены, и чувствую себя в безопасности. Я достаю из сумки пепел Тедди и Лиз, смешанные вместе.
Я хожу по саду, разбрасывая его по цветам, тревожа бабочек. Пыльца, пепел и яркие трепещущие существа поднимаются в янтарный воздух, когда Теодора Парр и Элис Грейлинг обретают покой в саду бабочек, наконец-то вместе. Затем я выхожу из сада. Закрываю наружную дверь и возвращаюсь в дом через боковой вход. Снова шорох, ощущение, что за мной наблюдают. Я прикасаюсь к древнему дереву лестницы, оглядываюсь по сторонам, смотрю на небо сквозь проломленную крышу.
– Можете выходить, – громко говорю я. – Все вы. Я ухожу, и мы вас больше не побеспокоим. Вы можете снова здесь жить.
Я выхожу через парадный зал, пересекаю поросший травой двор, прохожу под полуразрушенной аркой, и, когда мои ботинки хрустят по камням, я явно слышу, как они бегут, летят обратно в дом. Вверх, вверх – назад, на свежий воздух, где мама и Элис стоят и ждут меня. Мы поплывем на пляж и купим мороженое, и будем бросать камешки в реку, а потом вернемся в домик и будем пить чай.
Мы больше не войдем в этот дом. Мы оставим их там.
Мы уходим вместе, навстречу солнцу.
Эпилог
123 Ноэль-роад (верхний этаж) Лондон, апрель, 1996
Дорогой мистер Рутледж.
Я должна написать это; я должна написать это кому-то, и вы единственный человек, который знает всю правду.
Я всегда говорила себе, что должна понять, когда пора уходить. Сейчас ей десять. Десять лет маленькому темноволосому человечку. Она любит свои истории, те, которые я читаю ей, которые она сама сочиняет. О, она моя милая девочка.
Вчера я приготовила ей особый чай, ее любимый. Лимонад, сосиски, картофельные вафли, яичницу. Она всегда голодная: за десять месяцев она выросла на два дюйма, у нас есть зарубки на стене, где мы отмечаем ее рост.
Мы праздновали, потому что она получила пятерку за контрольную по географии, которую, я знаю, она ненавидит. Но она очень старается, разве это не здорово? В этом отношении она похожа на свою мать. Она унаследовала это не от меня.
Я всегда говорила себе, что должна понять, когда пора уходить.
И вчера время пришло, на короткое мгновение, но я сразу все поняла. Итак, моя запоздалая карьера Мэри Поппинс подходит к концу. Я должна улетать. В окно, в ясное голубое небо. Но – куда?
Это мелочи, которые наполняли мое сердце радостью, все эти десять лет. Просто сидеть за столом, где мы сидели день за днем, когда ее ноги были еще слишком короткие и не доставали до пола, до сегодняшнего дня, до этого момента, когда я уже вижу проблеск женщины, которой она скоро станет. Эти дни, ее быстрые шаги по лестнице, мое сердце, бьющееся при мысли о ее приезде, счастье, наполняющее всю квартиру. Видите ли, теперь все время есть счастье. Я просыпаюсь по утрам и улыбаюсь. Я не делала этого с лета бабочек.
– Малк кое-что перевез, – сказала она, и когда я повернулась к ней, она ела пончик, который я купила у «Рааба» и который ей удалось стащить из бумажного пакета так, что я не заметила.
– О, Нина. Как здорово.
– Он принес много классных книг, кое-какую одежду и кучу кассет. Миссис Полл, у него есть проигрыватель компакт-дисков. Это потрясающе. И еще у него есть кофеварка. Она делает пенистое молоко. Она свистит. Вчера он разрешил мне помогать – она дует паром на молоко. Это так классно. Разве не здорово, миссис Полл?
Она вернулась к пончику, как будто этого было достаточно. Но я заметила, как она бросила на меня застенчивый взгляд, как делала всякий раз, когда не была уверена в моей реакции.
Я ответила не сразу. Я наслаждалась последними мгновениями нормальной жизни. Ходила по своей коричнево-оранжевой кухоньке, ставила чашку в раковину с водой, брызгала в нее жидкостью для мытья посуды: разве пена – это не здорово? В Кипсейке у нас не было ничего подобного. Я быстро посмотрела в окно. Красная баржа ползет к туннелю. Прекрасная вещь – туннель Брюнель. Бабушка Александра однажды с ним встречалась, на обеде в доме лорда Керзона. Кто вообще теперь знает, кто такой Брюнель, или заботится о бедном старом Керзоне? Или Александра Парр, эта необыкновенная женщина – кто, кроме меня, знает о ней, ее книгах, ее записях? Через пятьдесят лет ее все забудут.
Меня пугает мысль, что, когда я уйду, не останется никаких записей. Об Эл и обо мне, о том, что у нас было – как сильно я любила ее, как добра она была ко мне. Она понятия не имеет, что она сделала. Как она спасла меня. Она понятия не имеет, жива я или умерла. Интересно, где она сейчас? Я видела ее однажды, два года назад. Она совсем не изменилась, хотя и старше меня примерно на год. Те же волосы, но коротко подстриженные, те же бегающие глаза, изящные, беспокойные движения, та же милая улыбка. Она шла к нам, и мне показалось, что она смотрит на меня.
Но я была с Ниной – я не могла подойти к ней, рискнув всем. Не могла.
Несколько секунд я смотрела на нее и снова думала о том, какое мощное излучение у любви, как любовь может все изменить. Просто видеть ее, по-прежнему красивой, такой счастливой, самой собой, было достаточно.
Я вдруг чувствую панику, когда смотрю на Нину, счастливо жующую свою еду.
Я права, что сделала так?
Я права, что лишила Нину дома, ее истории? Оставила ее ни с чем, кроме «Нины и бабочек», книги, которую я привезла сюда сама и притворилась, что это книга ее отца, что он, должно быть, забыл ее на книжной полке? Это моя единственная ложь – нет, это неправда. Я лгала им без остановки – истории о моем русском муже (девичья фамилия Миши), моем детстве в Ист-Энде, учебе на медсестру (придумала на месте). Я знаю, Дилл гадает, откуда взялась эта книга. Она не припомнит, чтобы видела ее до моего приезда. Это единственный большой риск, на который я пошла. Я хотела, чтобы Нина знала эту историю, хотя я не хочу, чтобы она жила такой жизнью. Я правильно поступила?
Еще один риск – членство в Лондонской библиотеке, которое я купила ей и которым можно было начать пользоваться, когда ей исполнится шестнадцать. Это будет выглядеть как подарок ее отца, и поэтому она будет любить память о нем, старательно привитую ее матерью, хотя ее мать и я, без ведома их обоих, знаем, что это ложь.
Все ложь.
Теперь я начинаю сомневаться в себе; мой ум мчится вскачь. Я должна все записать. Я должна вернуться домой, забрать цианистые палочки, чтобы умереть, когда и где захочу. Потом поеду на побережье, в Лайм. Я всегда мечтала поехать в Лайм.
И моя маленькая Нина, она все еще болтает о Малке, когда эти мысли мелькают у меня в голове, как тонкие облака на солнечном голубом небе, которое она мне подарила.
– Миссис Полл, у нас было совещание по этому поводу. У нас с мамой. Насчет его переезда. Мы проголосовали. Может, тебе тоже следовало проголосовать, но…
Я засмеялась.
– Крошка, это не мое дело. Но это так мило, дорогая.
Ее лицо прояснилось.
– Ты думаешь? Я боялась, что ты… – Она замолчала. – Не важно.
– Конечно, я хочу! – И я наклонилась вперед, прижала к себе ее худенькую фигурку, почувствовала, как ее плечо уперлось мне в грудь, почувствовала сладкий миндальный запах ее головы, ее волос. Моя дорогая девочка, моя внучка, моя Нина.
Ей было семь месяцев, когда я приехала сюда. Вы когда-нибудь видели семимесячного ребенка, вы знаете, какие они милые? Какие пухлые, улыбчивые? Они могут сидеть, хотя по-прежнему постоянно падают. Они любят свои пальчики, их щеки пылают после сна, у них есть на затылке мягкие локоны, они смотрят на вас и смеются без причины. По крайней мере, Нина так делала. Она была идеальным ребенком, красивой, очаровательной девочкой. Я, десятилетиями считавшая свою жизнь мраком, теперь могу покончить с ней, зная, что мне повезло больше, чем я заслужила. Поэтому я никогда не должна сомневаться в том, что сделала. Я должна идти дальше.
В первый раз, когда я постучала в дверь Дилл и она открыла, на ее усталом, сером лице выступили слезы, я сказала: «Я только хотела узнать, не для вас ли это письмо».
Она держала свою голубоглазую, темноволосую девочку, покрытую морковным пюре, крепкие пальчики сжимали ложку, язык высунут, она булькала от радости, и я поняла, что права. Что мой третий и последний акт того стоит. Что я могу пожить здесь какое-то время, могу помогать, пока не перестану быть нужной, а потом улететь, испариться. Я знала, что в какой-то момент мне придется уйти. Что будет мучительно оставлять их, но это была сделка, которую я заключила сама с собой.
Видите ли, я больна. Странный вкус во рту, постоянные спазмы и боли в спине, потеря веса, желтизна на коже. Две недели назад мне сказали. У меня есть семь месяцев, в лучшем случае восемь. «Может, вы застанете Рождество, но я не люблю полагаться на даты. Давайте просто посмотрим».
Она милая, хоть и бойкая женщина, эта докторша. Мой типаж. Разумная прическа, твидовая юбка, одета просто и мило. Она все сделала, как надо. Трудно объявлять кому-то, что у него рак поджелудочной железы. Я знаю, что это такое.
Так что сейчас самое подходящее время уйти: как я уже сказала, я всегда говорила себе, что я пойму, когда настанет момент.
Теперь, вытирая руки кухонным полотенцем, я встала и обернулась. Я снова обняла ее за плечи и быстро поцеловала в голову.
Она посмотрела на меня и улыбнулась. Вытянув ноги, она сказала:
– Малк делает маму такой счастливой. Теперь она ходит по всему дому и поет эти ужасные песни.
– Боб Дилан. Я знаю.
– Миссис Полл? Я все еще могу подниматься к тебе? Навещать вас? И… Мэтти?
– Конечно, можешь. Мэтти всегда здесь, когда она тебе нужна.
– Ты не скажешь маме… или Малку… ты не расскажешь им о Мэтти? И про то, как мы читали книгу, обо всем этом?
– Конечно, не скажу. Это наш секрет, детка.
– Она мне больше не нужна, на самом деле, – сказала она, и лицо ее прояснилось.
– Я знаю, что не нужна. Но если вдруг будет нужна, то она здесь.
– Так и будет, – сказала Нина, и ее личико посмурнело от обиды. – Обещаю.
– Все может измениться, – сказала я. – Все меняется, любовь моя. Теперь можешь спуститься и поставить тарелку в раковину.
Она встала, подошла ко мне, крепко обняла и сказала что-то, чего я не расслышала. Поглаживая ее мягкие черные волосы, я прикусила губу, чтобы не всхлипнуть. Да, впервые за много лет я дала слабину. Я не могла себе представить, что сказала бы миссис Полл в этот момент. Последние драгоценные годы она была хорошим человеком. Я заимствовала факты у Эл, у Миши, чтобы быть ею, и это заставляло меня чувствовать себя ближе к ним, с девичьей фамилией Миши, с историей семьи Эл, кое-что добавив от себя. Мне нравилась миссис Полл. Но в эти последние мгновения я не хотела быть в этой роли, даже зная, что все кончено.
Нет. Я возместила ущерб. Я изменила историю своей семьи. Я стара, и я умираю, и мне пора уходить. Вы можете спросить, как я вообще здесь оказалась.
Все произошло вот так.
Письмо от моего сына пришло совершенно неожиданно. Там говорилось, что у меня есть внучка – Нина, что он бросил ее и ее мать, что он переезжает в Штаты. Что ему дали должность где-то в середине страны – я забыла, как называется то место.
Я знала, что Джордж женился. Он написал мне об этом. Кроме этого, у нас не было никакой связи. Видите ли, он не хотел возвращаться в Кипсейк. Он не переносил этого места – если не считать бабочек. И все же ему так и не удалось обнаружить в саду настоящее сокровище – Европейского Харакса Безумной Нины, которые живут там уже почти двести лет и больше нигде в Англии. Наш секрет. Он всегда хотел денег. Всегда хотел более легкой жизни. Он ленив, мой сын. Не могу винить его за многое, но за это могу. Он ленив.
Его письмо пришло в то время, когда я, постепенно приходя в себя, застряла в так называемом обратном движении вперед – мой прогресс замедлился, мой разум отключился, снова стал пуст. Иногда я не выходила из комнаты неделями.
У меня был свой распорядок. Радио, чай в начале дня. Прогулка с собакой, легкий обед – бутерброд или что-то в этом роде, снова прогулка, чай, огород, одинокий ужин, отбой к девяти. Туги умер два года назад, и я не буду притворяться, что не скучала по нему. Я скучаю. Собака спасает от одиночества, так ты хотя бы не один в целом доме. Я стала пуглива, еще больше замкнулась. Воспоминания о Михаиле и Мише мучили меня: я видела их силуэты, склонившиеся над столом, без конца просматривающие частные объявления в газете. Интересно, как они выглядели, когда Эл их нашла, как они повесились, кто кому помогал… каково ей было… иногда это все, о чем я могла думать. Я не могла выбросить это из головы. В мягком свете лампы в книжном магазине я снова видела Джинни с золотисто-рыжими волосами, изливающую на меня последствия моих действий.
Я видела плющ, ползущий по стенам, тела моих предков под домом, и подумала, что, может быть, когда-нибудь я действительно срежу плющ, запрусь, сломаю цианидную палочку пополам и съем ее. Сяду с костями в темноте и буду ждать, когда смерть заберет меня. Мучительная смерть, но быстрее, чем от голода. Иногда это казалось единственно разумным шагом.
Но понимаете, он бросил ее. Он оставил бедную женщину и ребенка. Он сбежал; не смог справиться. Я знала почему. Ведь Нина стала для него тем, чем он стал для меня: он не мог понять, какова должна быть его роль в жизни Нины и Дил. Я причинила ему боль, выбросила в мир как сломанную игрушку, и теперь из-за меня он делает то же самое, делает это со своим ребенком и ее матерью. Когда я читала его письмо, полное самооправдания, гордости за свои достижения, с просьбой о деньгах в конце, я знала, что виновата.
В тот день, когда пришло письмо, я его выбросила. Спустилась к ручью, скомкала бумагу и бросила ее в воду. Но она зацепилась за одно из голых, корявых деревьев и застряло, и я не могла оставить его там, чтобы кто-нибудь нашел:
…Кстати, я думаю, она сумасшедшая. Квартира наверху пуста, и она клянется, что жильцы еще не уехали, что все это обман. Она сует записки под дверь. Она не в себе с тех пор, как родилась Нина. Да, мы назвали ее Ниной. Бог знает почему. Какое-то похмелье прошлой жизни. Сейчас я жалею об этом, но не могу объяснить ей почему.
Я спустилась с берега на зеленую, мшистую, скользкую грязь – тогда я не была такой скрюченной, как сейчас, и у меня была трость с новым наконечником, которую я купила в Фалмуте, и у нее была чертовски хорошая хватка.
Квартира наверху пуста. Я ткнула веткой в письмо, и что-то как будто упало мне на голову, как яблоко на Ньютона, и я все придумала.
Мы можем искупить свою вину, если действительно захотим. Мы можем все изменить. Но мы должны искренне хотеть помогать другим. Мы все время так делаем, здесь, в деревне, не так ли? Часы, которые я провела, помогая бабочкам, подрезая плющ, пропалывая медосос, сажая викторию и буддлею. Сколько раз я переносила гнездо с яйцами скворцов подальше от кошки на высокую живую изгородь, уносила усталого шмеля с дороги и поливала его сахарной водой, сколько часов проводила с Туги, когда он был стар, слаб и страдал недержанием, – я делала все это, не ожидая награды.
Легко помогать животным, труднее помогать людям. Люди грязные и сложные, и они не поблагодарят вас в ответ. Но потом я поняла, что могу помочь, что я могу быть матерью, которой должна была быть, что я могу поднять это птичье гнездо, уберечь его от опасности – но я знала, что это можно сделать, только если они не будут знать.
Другое осознание, которое пришло ко мне на берегу, было такое: я могу оставить Кипсейк. Я могу оставить его разваливаться и возвращаться к земле. Я знала условия Указа. Знала, что, если она не появится здесь до своего двадцать шестого дня рождения, у Нины не будет никаких обязательств перед домом. Дом прогнил. Я знала. Я отдала ему свою жизнь, я потеряла все, я потеряла способность любить, заботиться, видеть вещи такими, какими они есть на самом деле. Я не хотела, чтобы моя внучка выросла такой. Я хотела, чтобы она знала, что ее любят. И, наконец, я гнила здесь большую часть своих семидесяти семи лет. Я хотела вернуться в Лондон. Я хотела приключений.
Дорогой мистер Рутледж, спасибо, что дочитали до этого места. Еще раз спасибо за все. Вы, наверное, подумали, что я сошла с ума, уговорив вас помочь мне с покупкой квартиры на верхнем этаже, но вы никогда не спрашивали меня и не говорили, что это непрактично. Спасибо, что помогли мне стать ее владелицей.
Я переехала в мае, и к концу этого первого, волшебного лета, я думаю, миссис Полл несколько раз спасала Дилайлу. Не какими-то особенными подарками, а потому, что я знаю, когда у меня появился мой собственный ребенок, тьма, накрывшая меня, долго не рассеивалась, у меня были няня и деньги, и это все равно было ужасно. Я нашла ее, когда у нее была уже вторая передозировка. Я осталась с ней в больнице, держа худую костлявую руку Дилайлы в своей, наблюдая, как она пытается улыбнуться, пока я трясла и смешила ее дочь. Я варила ей суп, заставляла выходить из дома, подкладывала монетки в кошелек, когда она не видела, – время от времени. Я заставляла ее писать, я донимала ее родителей письмами и звонками, чтобы они интересовались ее делами. Я присматривала за Ниной, следила, чтобы у нее было достаточно еды. Днем я водила ее гулять, расстилая изъеденное молью одеяло, которое привезла из Кипсейка, на траве маленького парка за церковью Святой Марии, смотрела, как она радуется, что может сидеть, темные кудри обрамляли ее идеально круглую головку. Просто смотрела на нее, улыбалась ее блестящей, липкой улыбке, и это делало меня счастливее, такой счастливой я не помнила себя уже много десятилетий.
Труднее всего было не дать Дилайле понять, как много я делаю для них. Думаю, я правильно все делала. Только однажды она сказала, когда я купила ей сумку с одеждой в благотворительном магазине: «Это уже слишком, я думаю, нам с Ниной нужно немного побыть наедине».
О, я отступила, я убежала. Я не беспокоила их две недели. Я увиделась со своими приятелями в церкви (я предупредила их, что не до конца религиозна) и со своей новой подругой Роуз, с которой я время от времени пила чай и проводила время, гуляя по городу, посещая старые места, куда мы любили ходить с Эл, на фильм или на выставку. А неделю спустя, когда я сидела там, читая и размышляя, что делать дальше, я услышала ее шаги на лестнице и робкий стук. И когда я открыла дверь, Нина вскрикнула от восторга, увидев меня, и, вырвавшись из объятий матери, бросилась в мои, прижимаясь ко мне своим крепким маленьким телом.
Это был самый счастливый момент в моей жизни.
Дилайла сказала, что пришла извиниться, но я и слышать об этом не хотела.
– Ох, я должна перестать так беспокоиться обо всем, – сказала она, смеясь и безвольно убирая свои непослушные волосы с лица в своей милой, суетливой манере. – Просто вы так много для нас делаете, миссис Полл, дорогая, и я иногда чувствую себя паршиво.
Поэтому я сказала ей правду. Я сказала:
– Я была очень одинока. – Я остановила на ней взгляд. Я понимала, что я пыталась ей сказать. – Временами мне было очень грустно. У меня никого нет, кроме вас двоих. Это вы делаете мне одолжение, понимаешь? Это помогает мне настолько, насколько это помогает тебе, дорогая.
С того момента все было в порядке. Время от времени мы все становимся хрупкими.
Смешно плакать на этом этапе игры. Встряхнись, Тэа! Я им больше не нужна. У них есть хороший мистер Малькольм, и он позаботится о них, но более того, они могут позаботиться о себе сами. Обе.
И она взрослеет. Ей почти одиннадцать, моей темноглазой внучке. Ей не нужно, чтобы я гладила ее волосы, пока читаю «Нину и бабочек», или «Балетные туфли», или – конечно – «Тайный сад». Если бы только у меня была еще одна ночь с ней, еще разок сыграть в Скрэббл и приготовить тосты с сыром…
Нет.
Она хочет проводить время со своей матерью и друзьями, а не со старой леди с верхнего этажа. Ей не нужно, чтобы я сидела у ее кровати и смотрела, как она засыпает, пока ее мать работает, или кормила куриным супом, когда ей грустно после школы, или водила ее за ручку, когда она едва могла ходить и радостно показывала пухлыми ручками на все вокруг, к каналу смотреть на лодки, на уток, цветы, воду. Я нужна ей все меньше и меньше… и однажды я ей совсем не понадоблюсь.
Так что я могу идти. Большую часть времени мне больно. Оно болит, как проклятый винт, вращающийся во мне, зарывающийся в меня, все глубже и глубже, с каждым днем. Я поеду в Кипсейк, еще раз посмотрю на него, возьму цианидные палочки. Потом я поеду в Лайм и напишу. Я напишу свою историю для Эл, для Джорджа, для себя.
Уважаемый мистер Рутледж, держите этот документ отдельно от остальных. Сожгите его, если нужно. Пожалуйста, не забудьте о моих инструкциях. Чтобы похороны были закрытыми. Проследите, чтобы условия завещания имущества и 50 000 фунтов стерлингов Дилайле Парр и Нине Парр были соблюдены; они больше не будут беспокоиться о деньгах. Чтобы моя внучка никогда не узнала, откуда она.
Возможно, мне следует сказать ей. Возможно, ей следует знать, что я ее бабушка, что я любила ее все эти годы. Но теперь я вижу, что разоблачение разрушило бы все. Я зашла слишком далеко и упустила свой шанс. Что это будет для нее значить, когда она станет старше? В какой-то момент мы должны оставить наше прошлое позади. Мы должны идти вперед с оптимизмом. Правильно ли это? Думаю, что правильно.
Т.П.Прощай, милая Нина. Может быть, я хочу, чтобы ты поехала туда однажды, хотя бы один раз. В отпуск, побрела по тенистой тропинке. Ты не будешь знать, что это могло быть твоим. Если ты когда-нибудь придешь, моя дорогая девочка, ты услышишь меня, услышишь в ветре. Ты оглянешься, но ничего не увидишь, и удивишься, почему ты чувствуешь, что кто-то рядом. Посмотри на реку, на море, и ты увидишь меня. Не меня сегодняшнюю, старую и съеденную жизнью, а Тедди Парр, маленькую девочку, которой я была до того, как все изменилось. Ты увидишь меня – темная челка, счастливые глаза, скорчившись в лодке, высматриваю маму и бабушку, высматриваю тебя. Я всегда буду рядом. Плыть навстречу восходящему солнцу золотым летним утром, ветер будет трепать мои волосы, ласкать мне руки – руки, которые гладили твои волосы все эти годы, сейчас лежат на румпеле, и я наконец на свободе.
Благодарности
Спасибо: Джо Робертс-Миллеру, как это принято говорить, за то, что рискнул и полз со мной через заросли в поисках Кипсейка. Кэти Казинс и Лейле Д'Суза за то, что были отличными компаньонами в походе по музеям. Маме за то, что прочитала черновик и не отреклась от меня. Нику Кэнти из Калифорнийского университета за то, что показал мне город.
Всем в «Кертис Браун», особенно Джонатану Ллойжу, Люсие Рей и Мелиссе Пиментел. Ким Уизерспун и Дэвиду Форреру в «Инквелл», и Карен Коштольник, Бекки Прагер, Луизе Берк, Джен Бергстром и Джин Энн Роуз в галерее.
Во время подготовки к написанию этой книги я стала одержима бабочками, и это было прекрасно. Так что спасибо Крису и Коре за то, что они терпели меня, пока я прыгала по проселочной дороге, когда замечала Краеглазку эгерию, или прочесывала крапиву в поисках коконов Павлиньего глаза, бормоча как сумасшедшая. Если кто-то хочет отличную книгу для начинающих, я могу порекомендовать виртуозного Джереми Томаса и его «Руководство по бабочкам Филиппс».
Наконец, всем в «Хедлайн Букс» за эти счастливые два года. Фрэнки Эдвардсу за абсолютно все, Элизабет Мастерс, Вивиан Бассет и Барбаре Ронан, Йети Ламбрегтс, Фрэнсису Дойлу, Джейн и Джорджу и всем остальным. Наконец, моя самая большая благодарность удивительной, проницательной, доброй и блестящей Мари, и единственный раз в жизни я понимаю, что не могу записать, скольким я ей обязана, потому что это невозможно выразить словами. Большая любовь и вечная благодарность, тезка.
Примечания
1
Британские женские журналы о домоводстве.
(обратно)2
Британский производитель роскошной одежды.
(обратно)3
Немецкий концлагерь около г. Маутхаузен в 1938–1945 гг.
(обратно)

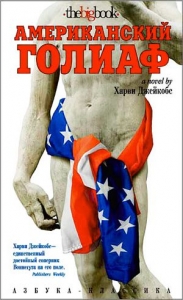

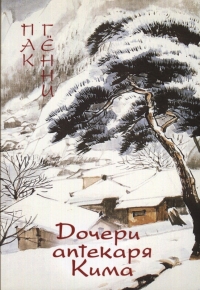


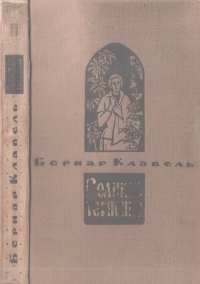




Комментарии к книге «Лето бабочек», Хэрриет Эванс
Всего 0 комментариев