Грэм Грин • БРАЙТОНСКИЙ ЛЕДЕНЕЦ
Глава первая
1
Хейл знал, что они собираются убить его в течение тех трех часов, которые ему придется провести в Брайтоне. По его измазанным чернилами пальцам и обкусанным ногтям, по его развязной и нервной манере держаться сразу было видно, что все здесь для него чужое — и утреннее летнее солнце, и свежий ветер, всегда дующий с моря, и Троицын день, и праздничная толпа. Каждые пять минут люди прибывали на поезде с вокзала Виктория,[1] ехали по Куинз-роуд, стоя качались на верхней площадке местного трамвая, оглушенные, толпами выходили на свежий, сверкающий воздух; вновь выкрашенные молы блестели серебристой краской, кремовые дома тянулись к западу, словно на поблекшей акварели викторианской эпохи; гонки миниатюрных автомобилей, звуки джаза, цветущие клумбы, спускающиеся от набережной к морю, самолет, выписывающий в небе бледными, тающими облачками рекламу чего-то полезного для здоровья.
Хейлу казалось, что ему легко будет затеряться в Брайтоне. Кроме него в тот день сюда приехало пятьдесят тысяч человек, так что на время он забыл обо всем и наслаждался прекрасной погодой, попивая джин и фруктовые соки во всех барах, куда мог заходить, не отклоняясь от своей программы. А следовать программе он должен был точно: от десяти до одиннадцати — Куинз-роуд и Касл-сквер, от одиннадцати до двенадцати — Аквариум и Дворцовый мол, от двенадцати до часу — набережная между «Старым кораблем» и Западным молом, затем — завтрак от часу до двух в любом ресторане близ Касл-сквер. После завтрака он должен был еще пройти по всей набережной до самого Западного мола и оттуда на вокзал по улицам Хоува. Таковы границы его нелепого и широко разрекламированного маршрута.
Повсюду расклеены объявления газеты «Мессенджер»: «Колли Киббер сегодня в Брайтоне». В кармане у него была пачка карточек, которые он должен был разложить по укромным местам на своем пути: каждому, кто найдет такую карточку, газета выплачивала десять шиллингов, но главный приз предназначался тому, кто окликнет Хейла и, держа номер «Мессенджера» в руке, обратится к нему с такими словами: «Вы — мистер Колли Киббер. Мне причитается приз „Дейли Мессенджер“».
В этом и состояла работа Хейла: он должен был двигаться по определенному маршруту до тех пор, пока какой-нибудь претендент на приз его не узнает; он приезжал по очереди во все приморские города: вчера Саутенд, сегодня Брайтон, завтра…
Когда часы пробили одиннадцать, он торопливо проглотил свой джин с тоником и ушел с Касл-сквер. Колли Киббер всегда работал честно, всегда носил шляпу такого фасона, как на фотографии, напечатанной в «Мессенджере», всегда вовремя оказывался на месте. Вчера в Саутенде его никто не окликнул; газета ничего не имела против того, чтобы иногда сэкономить свои гинеи, но не следовало допускать это слишком часто. Сегодня его должны были узнать — он и сам хотел этого. По некоторым причинам он не чувствовал себя в безопасности в Брайтоне, даже среди праздничной толпы в Духов день.[2]
Он прислонился к перилам у Дворцового мола и повернулся лицом к толпе, которая беспрерывно раскручивалась перед ним, словно моток двухцветного провода, — люди шли парами; по лицу каждого было видно, что он твердо решил сегодня как следует повеселиться. Всю дорогу от вокзала Виктория они простояли в переполненных вагонах; чтобы позавтракать, им придется долго ждать своей очереди; в полночь, полусонные, они будут трястись в набитом поезде, опаздывающем на целый час, и по узким улицам, мимо закрытых баров, устало побредут домой. С огромным трудом и огромным терпением они выискивали зерна удовольствия, рассеянные на протяжении этого длинного дня: солнце, музыку, шум миниатюрных автомобилей, поезд ужасов, проносящийся между рядами скалящих зубы скелетов под набережной у Аквариума, палочки Брайтонского леденца, бумажные матросские шапочки.
Никто не обращал внимания на Хейла, ни у кого в руках не видно было «Мессенджера». Он аккуратно положил одну из своих карточек на крышку корзины для мусора и пошел дальше, одинокий, с обкусанными ногтями и пальцами в чернильных пятнах. Он ощутил одиночество только после того, как выпил третью рюмку джина: до этого он презирал толпу, а теперь почувствовал в ней что-то родное. Он происходил из тех же кварталов, что и все эти люди, его всегда тянуло к аттракционам, к дешевым увеселительным заведениям на молу, хотя более высокий заработок обязывал его делать вид, что он стремится к чему-то другому. Он хотел бы вернуться к этим людям… но теперь ему оставалось только прогуливаться по набережной, и на губах его застыла насмешливая улыбка — знак одиночества. Где-то, невидимая ему, пела женщина: «Когда я в поезде из Брайтона неслась…» Звучный, бархатистый, как пиво, голос доносился из общего зала бара. Хейл завернул в малый зал и оттуда через два других зала, сквозь стеклянную перегородку стал смотреть на ее пышные прелести.
Женщина была еще не старая, хотя ей было далеко за тридцать, а может быть, лет сорок с небольшим, и лишь слегка под хмельком, в добродушном, общительном настроении. Ее вид наводил на мысль о матери, кормящей грудью младенца, но если эта женщина и рожала детей, то она все же не давала себе опускаться и продолжала следить за собой. Об этом свидетельствовали ее накрашенные губы, а также уверенность, исходившая от всего ее крупного тела. Она была полная, но не расплылась и сохранила фигуру — это было очевидно любому знатоку.
Хейл принадлежал к таким знатокам. Он был мужчина небольшого роста и взирал на нее с завистливым вожделением поверх движущегося желоба с опрокинутыми в нем пустыми стаканами, поверх пивных кранов, между плечами двух официантов в общем зале бара.
— Спойте мне еще. Лили, — сказал один из тех, кто был с ней, и она начала:
Той ночью, в аллее, Лорд Ротшильд мне сказал…Она никак не могла пропеть больше нескольких строк. Ей было смешно, это мешало ей петь в полный голос, но она помнила множество разных баллад. Ни одной из них Хейл никогда раньше не слышал; поднеся рюмку к губам, он с тоской смотрел на нее, а она запела новую песню.
— Фред, — произнес чей-то голос позади, — Фред.
Джин выплеснулся из бокала Хейла на стойку бара. Из дверей на него пристально смотрел юноша лет семнадцати. Потертый щегольской костюм, служивший так долго, что материал его совсем износился, лицо, исполненное жадного напряжения и какой-то отталкивающей и противоестественной гордыни.
— Какого тебе Фреда? — спросил Хейл. — Я не Фред.
— Это неважно, — ответил юноша. Он повернулся к двери, оглядываясь на Хейла через узкое плечо.
— Куда ты?
— Сообщить твоим приятелям, — ответил юноша.
Они были в зале одни, не считая старика посыльного, спавшего над пинтой выдержанного некрепкого пива.
— Слушай, — сказал Хейл, — хочешь выпить? Иди сюда, садись и выпей.
— Мне надо идти, — ответил юноша. — Ты ведь знаешь, я непьющий, Фред. Ты вроде многое забыл?
— Ну разве нельзя выпить чего-нибудь безалкогольного?
— Только быстро, — согласился юноша. Он все время смотрел на Хейла не отрываясь, с интересом, словно охотник, выслеживающий в джунглях какого-то полулегендарного зверя: пятнистого льва или карликового слона, — прежде чем убить его. — Грейпфрутовый сок, — сказал он.
— Ну спойте же еще. Лили, — умоляли голоса в общем зале. — Спойте еще одну, Лили. — И юноша впервые отвел глаза от Хейла и посмотрел через стеклянную перегородку на пышные формы женщины.
— Двойную порцию виски и один грейпфрутовый, — сказал Хейл, взял бокалы и отнес их на столик.
Но юноша не пошел за ним. Он с гневным отвращением смотрел на женщину. Хейл почувствовал, что ненависть, обращенная к нему, на мгновение ослабла, будто с него сняли наручники и теперь они сомкнулись на чужих запястьях. Он попробовал пошутить:
— Душа бабенка.
— Душа, — повторил юноша. — Тебе-то не стоило бы говорить о душе.
Его ненависть снова вернулась к Хейлу. Он залпом выпил грейпфрутовый сок.
— Я здесь только по делам службы, — сказал Хейл. — Всего на один день. Я — Колли Коббер.
— Ты — Фред, — возразил юноша.
— Ладно, — ответил Хейл, — я — Фред. Но в кармане у меня карточка, по которой ты можешь получить десять монет.
— Знаю про твои карточки, — сказал юноша. У него была светлая гладкая кожа, покрытая легким пушком, а выражение глаз безжалостное, как у старика, в котором уже умерли все человеческие чувства. — Мы читали о тебе в газете, — продолжал он, — сегодня утром, — и вдруг захихикал, как будто до него только что дошел смысл какого-то грязного анекдота.
— Можешь получить одну карточку, — предложил Хейл. — Вот, возьми этот «Мессенджер». Прочитай, что здесь сказано. Можешь получить весь приз. Десять гиней, — сказал он. — Тебе надо будет только заполнить и послать этот бланк в редакцию «Мессенджера».
— Так, значит, тебе наличных денег не доверяют, — заметил юноша, а в другом зале Лили запела:
Мы встретились с ним, это было в толпе. И не думала я, что ко мне подойдет он.— Господи Иисусе, неужели никто не может заткнуть рот этой шлюхе! — воскликнул юноша.
— Я дам тебе пятерку, — предложил Хейл. — Это все, что у меня есть при себе. И еще мой обратный билет.
— Билет тебе не понадобится, — сказал юноша.
Я в платье была подвенечном. С ним поспорить могла белизною…Юноша в бешенстве вскочил со стула и, дав волю злобному порыву ненависти — к песне ли? к своему ли собеседнику? — швырнул пустой бокал об пол.
— Этот джентльмен заплатит, — сказал он бармену и хлопнул дверью маленького зала. И тут Хейл осознал, что они хотят убить его.
Венок из флердоранжа Белел у нее в волосах. Когда мы с ней встретились снова. И грусть затаилась в глазах.Посыльный все еще спал, Хейл смотрел на Лили из пустого сверкающего бара и думал: «Я должен выбраться отсюда, я должен выбраться отсюда»; он смотрел на нее печально и без надежды, как будто сама жизнь была только там, в общем зале. Но он не мог уехать, ему нужно было выполнить свою работу, начальство там, в «Мессенджере», очень требовательно, это хорошая газета, за нее следует держаться, и в сердце затеплился огонек гордости, когда он подумал о том, какой длинный путь он уже прошел; продавал газеты на углах, был репортером за тридцать шиллингов в неделю в маленькой местной газетке с десятитысячным тиражом, затем пять лет работал в Шеффилде. Будь он проклят, сказал он себе в порыве храбрости, подогретой еще одной рюмкой виски, если позволит банде запугать его и из-за этого потеряет работу. Что они могут сделать, пока он окружен толпой? Они не посмеют убить его среди бела дня при свидетелях, он в безопасности среди пятидесяти тысяч приезжих.
— Иди-ка сюда поближе, одинокая душа.
Сначала он не понял, что она обращается к нему, но потом увидел, как все лица в общем зале, улыбаясь, повернулись в его сторону; вдруг он представил себе, как легко могла бы банда разделаться с ним здесь, где нет никого, кроме спящего посыльного. Чтобы перейти в общий зал, незачем было выходить на улицу, для этого достаточно было только сделать полукруг, пройти через три двери и пересечь следующий зал «Только для дам».
— Что бы вы хотели выпить? — спросил он с порывистой благодарностью, подходя к полной женщине. «Она могла бы спасти мне жизнь, если бы позволила побыть с ней», — подумал он.
— Рюмку портвейна.
— Один портвейн, — заказал Хейл.
— А вы разве не хотите выпить?
— Нет, — ответил Хейл, — я уже достаточно выпил. Боюсь, меня развезет.
— Ну и что же, ведь сегодня праздник. Выпейте пива за мой счет.
— Не люблю пива.
Он взглянул на свои часы. Час пополудни. Из головы не выходила программа, которую он должен выполнить. Надо оставлять карточки на каждом отрезке маршрута, газета таким образом проверяет его; если он начинает работать кое-как, это всегда становится там известно.
— Пойдем куда-нибудь перекусить, — умоляюще сказал он.
— Послушайте-ка его, — обратилась она к своим друзьям. Ее грудной, насыщенный портвейном смех разносился по всем залам бара. — Как он осмелел, правда? Я просто ушам своим не верю!
— Не ходите, Лили, — отговаривали они. — Он ненадежный.
— Я просто ушам своим не верю, — повторила она, прищурив один глаз, добродушный и ласковый, как у коровы.
Есть способ заставить ее пойти. Хейл когда-то знал этот способ. За тридцать шиллингов в неделю он мог бы подружиться с ней, он нашел бы подходящее слово, подходящую шутку, чтобы увести ее от приятелей и уютно посидеть с ней где-нибудь в кафе. Но сейчас он забыл, как это делается, и не мог найти нужный тон. Ему нечего было сказать, он повторил только:
— Пойдем перекусим.
— Куда же мы пойдем, сэр Гораций? В «Старый корабль»?
— Да, — подхватил Хейл. — Если хотите. В «Старый корабль».
— Слышите? — сказала она, обращаясь ко всем посетителям всех залов, к двум старушкам в черных чепцах, сидевшим в «зале для дам», к посыльному, все так же одиноко спавшему в маленьком зале, и к полдюжине своих приятелей. — Этот джентльмен приглашает меня в «Старый корабль», — повторила она притворно жеманным тоном. — Завтра я буду в восторге, но сегодня меня уже пригласили в «Грязную собаку».
Хейл уныло направился к двери. «Парень, наверное, еще не успел предупредить других. Можно позавтракать спокойно», — подумал он, но тот час, который ему еще предстояло пробыть в Брайтоне после завтрака, был страшнее всего. Женщина спросила:
— Что с вами? Вам нехорошо?
Он перевел глаза на ее пышную грудь; эта женщина была для него как прибежище, как спасительный полумрак, как сгусток житейского опыта, здравого смысла; он взглянул, и у него заныло сердце; но в этом маленьком циничном костлявом существе с обкусанными ногтями и пальцами в чернилах шевельнулась гордость и стала его поддразнивать: «Ах так? Назад, в материнское лоно… она будет тебе матерью… сам ты не можешь постоять за себя…»
— Нет, — ответил он. — Я не болен. Я совершенно здоров.
— У вас какой-то странный вид, — сказала она ласково-озабоченным тоном.
— Я совершенно здоров, — повторил он. — Просто я голоден.
— Почему бы вам не перекусить здесь? — спросила женщина. — Вы не могли бы сделать ему сандвич с ветчиной, Билл? — И бармен подтвердил: да, он мог бы сделать сандвич с ветчиной.
— Нет, — сказал Хейл, — мне надо идти.
Идти. По набережной. Как можно быстрее смешаться с толпой и все время смотреть направо, налево и назад, то через одно плечо, то через другое. Нигде не было видно ни одного знакомого лица, но ему от этого не стало легче. Он думал, что будет в безопасности, затерявшись среди людей, но теперь толпа, окружавшая его, стала казаться ему густым лесом, в котором туземцам легко устраивать засады и разить своим отравленным оружием. Впереди ему ничего не было видно за человеком в летнем костюме, шедшим как раз перед ним, а обернувшись, он уперся взглядом в ярко-красную блузку. Три старые дамы проехали в открытой, запряженной лошадьми коляске; приятный стук копыт замер, словно унося с собой спокойствие. Вот какую жизнь еще ведут некоторые люди.
Хейл пересек дорогу и ушел с набережной. Здесь было меньше народу, он мог шагать быстрее и уйти дальше. На террасе «Гранд-Отеля» пили коктейль, там был изящный тент в ложно-викторианском стиле, увитый лентами и цветами и залитый солнцем, и какой-то человек, по-видимому, сановник в отставке — серебристая седина, напудренные щеки и старомодное пенсне; — сидя над бокалом шерри, медленно и с достоинством провожал уходившую от него жизнь. По ступеням «Космополитена» спускались две шикарные кокотки с яркими медно-рыжими волосами, в горностаевых накидках; близко наклонив друг к другу головы, они, как попугаи, резкими голосами поверяли друг другу свои секреты.
— Дорогой мой, ответила я ледяным тоном, если вы не научитесь делать перманент Дел-Рей, то все, что я могу вам сказать…
Они сверкали друг перед другом остро отточенными, яркими ногтями и хихикали. Впервые за пять лет Колли Киббер опаздывал с выполнением своей программы. У подножия лестницы «Космополитена», стоя в тени огромного, причудливой архитектуры здания, он вспомнил, что кто-то из банды купил номер его газеты. Им незачем было искать его в барах и ресторанах: они знали, где его поджидать.
По мостовой ехал верховой полисмен; красивая, холеная, караковой масти лошадь изящно ступала по горячему асфальту, похожая на дорогую игрушку — такие миллионер покупает своим детям; эта же была просто загляденье; шерсть ее отливала глубоким блеском, как поверхность старинного стола красного дерева, на груди сверкала серебряная бляха; никому и в голову не приходило, что эта игрушка может служить для какого-то дела. Это не пришло в голову и Хейлу, смотревшему, как проезжал полисмен; он не мог обратиться к нему за помощью. На краю тротуара стоял человек, продававший с подноса разную мелочь; у него не хватало почти половины тела — ноги, руки и плеча; и красивая лошадь, проходя мимо, деликатно отвернулась, как вдовствующая императрица.
— Шнурки для ботинок, — безнадежным тоном сказал Хейлу инвалид. — Спички. — Хейл не слушал его. — Лезвия для бритв.
Хейл прошел мимо, и слова эти прочно засели в его мозгу: они вызвали мысль о ране от тонкого лезвия и об острой боли в момент агонии. Так был убит Кайт.
На улице, на расстоянии двадцати ярдов, он увидел Кьюбита. Кьюбит был крупный мужчина с рыжими волосами, подстриженными ежиком, весь в веснушках. Он заметил Хейла, но не подал вида, что узнал его, и продолжал стоять, небрежно прислонившись к почтовому ящику и наблюдая. Подошел почтальон, чтобы вынуть письма, и Кьюбит отодвинулся от ящика. Хейл видел, как он шутил с почтальоном, как почтальон смеялся, наполняя свой мешок, а Кьюбит все время смотрел не на него, а на дорогу, ожидая Хейла. Хейл точно знал, что он будет делать дальше; он знал всю эту компанию; Кьюбит медлительный и всегда держится с ним по-приятельски. Он просто возьмет Хейла под руку и потащит его куда захочет.
Но, как и прежде, его не покидало чувство отчаянной гордости, гордости, которую он поддерживал в себе рассудком. Его мутило от страха, но он повторял себе: «Я не собираюсь умирать». Он даже заставлял себя шутить: «Не хочу стать сенсацией для первой страницы газеты». Две женщины, садившиеся в такси, джаз, игравший на Дворцовом молу, слово «таблетки», тающее, как белый дымок в бледном чистом небе, — это и была реальность, а не рыжий Кьюбит, ждавший возле почтового ящика. Хейл повернул обратно, снова пересек дорогу и быстро пошел назад, к Западному молу; он не убегал, у него был свой план.
Нужно только найти себе девушку, думал он, тут, наверно, их сотни, и все мечтают познакомиться с кем-нибудь в Троицын день; каждая хочет, чтобы с ней выпили, потанцевали у Шерри, а потом проводили ее домой в дачном поезде, подвыпившую и ласковую. Это — самое верное дело, всюду ходить со свидетелем. На вокзал идти сейчас не следовало, даже если бы против этого не восставала его гордость. Его, конечно, будут подстерегать именно там; легче всего убить одинокого человека на железнодорожной станции: им стоит только стать плечом к плечу у двери вагона или прижать его в толкотне к барьеру, ведь именно на станции банда Коллеони прикончила Кайта. Вдоль всей набережной во взятых напрокат за два пенса шезлонгах сидели девушки, мечтая с кем-нибудь познакомиться, — все, кто приехал без своего дружка: секретарши, продавщицы, парикмахерши — последних можно было узнать по свежему и модному перманенту, по тщательно наманикюренным ногтям; вчера они долго оставались в своей парикмахерской, до полуночи готовя друг друга к празднику. Теперь они разомлели и вспотели на солнце.
Мимо их шезлонгов по двое и по трое прогуливались мужчины; они впервые надели свои летние костюмы, на них были серебристо-серые брюки с острой, как нож, складкой и нарядные рубашки; они ходили с таким видом, как будто им совершенно безразлично — познакомятся ли они с девушкой или нет. Хейл в своем поношенном костюме, скрученном галстуке и полосатой рубашке был на десять лет старше-их всех, и у него не было никакой надежды понравиться кому-нибудь из девушек. Он предлагал им сигареты, но они смотрели на него, как герцогини, широко раскрытыми холодными глазами и отвечали: «Спасибо, я не курю», — а он знал, что на расстоянии двадцати ярдов за ним тащится Кьюбит.
От этого Хейл держал себя как-то странно. Он не мог скрыть своего отчаяния. Он слышал, как девушки смеялись за его спиной над его одеждой и странной манерой говорить. Хейл вообще был о себе невысокого мнения: он гордился только своей профессией, но не нравился себе самому, когда смотрелся в зеркало, — худые ноги, впалая грудь, — и одевался он плохо и небрежно, потому что не верил, что какая-нибудь женщина заинтересуется им. Теперь он обходил хорошеньких и шикарных и безнадежно искал на шезлонгах девушку, достаточно некрасивую, чтобы ее могло обрадовать его внимание.
«Вот эта, конечно», — подумал он, с жадной надеждой улыбаясь толстому прыщавому существу в розовом, чьи ноги едва доставали до земли. Он сел на пустой шезлонг рядом с ней и уставился на отступившее далеко от берега и не привлекавшее ничьего внимания море, которое билось о сваи Западного мола.
— Хотите сигарету? — предложил он ей, немного помедлив.
— Пожалуй, хочу, — ответила девушка. Слова эти были сладостны, как весть об отмене приговора. — Хорошо здесь, — сказала толстуха.
— Приехали из города?
— Да.
— Ну что ж, — спросил Хейл, — вы так и будете сидеть весь день одна?
— Не знаю, право, — ответила девушка.
— Я подумал, что хорошо бы пойти куда-нибудь перекусить, а потом мы могли бы…
— «Мы»? — прервала его девушка. — Вы слишком самонадеянны.
— Так вы ведь не будете сидеть здесь весь день одна?
— Кто сказал, что я буду сидеть здесь одна? — ответила толстуха. — Но это не значит, что я пойду с вами.
— Пойдем, выпьем где-нибудь и поговорим.
— Ну что ж, можно, — сказала девушка, открывая пудреницу и накладывая еще один слой пудры на свои прыщи.
— Так пойдемте же, — настаивал Хейл.
— Есть у вас приятель? — спросила девушка.
— Нет, я совсем один, — ответил Хейл.
— Ну, тогда я не смогу. Невозможно. Я не могу оставить свою подругу одну.
И тут впервые Хейл заметил в шезлонге за ее спиной бледное, малокровное существо, жадно ожидающее его ответа.
— Но вы же хотели пойти? — взмолился Хейл.
— Хотела, но никак не могу.
— Ваша подруга не обидится. Она найдет себе кого-нибудь.
— Ну нет. Я не могу оставить ее одну.
Она вяло и тупо уставилась на море.
— Ведь вы не обидитесь? — Хейл наклонился вперед, умоляя малокровное создание, а оно ответило ему пронзительным восклицанием и смущенным смехом.
— Она никого тут не знает, — сказала толстуха.
— Найдет кого-нибудь.
— Ну как, Делия? — Девушка наклонилась к подруге, и они стали совещаться; время от времени Делия что-то пищала.
— Так все в порядке? Вы идете? — спросил Хейл.
— А не могли бы вы найти приятеля для нее?
— Я здесь никого не знаю, — ответил Хейл. — Пойдемте. Я поведу вас завтракать, куда вам угодно. Все, чего я хочу, — продолжал он с жалкой улыбкой, — это побыть с вами вместе.
— Нет, — сказала толстуха. — Это невозможно. Не могу без подруги.
— Ну что ж, тогда пойдемте все вместе, — предложил Хейл.
— Это будет не очень-то интересно для Делии, — ответила толстуха.
Их прервал юношеский голос:
— Так ты здесь, Фред, — произнес он, и глаза Хейла встретились с серыми, жестокими семнадцатилетними глазами.
— Ну вот, — завизжала толстуха, — а говорит, что у него нет приятеля.
— Фреду нельзя верить, — произнес тот же голос.
— Теперь у нас будет хорошая компания, — продолжала толстуха. — Это моя подруга Делия, а я Молли.
— Рад познакомиться с вами, — сказал юноша. — Куда мы пойдем, Фред?
Делия в ответ заерзала и что-то пропищала.
— Я знаю хорошее место, — сказал юноша.
— А там есть пломбир?
— Там самый лучший пломбир, — заверил он ее серьезным безжизненным голосом.
— Я обожаю пломбир. Делия больше любит лимонад.
— Так пойдем, Фред, — сказал юноша.
Хейл встал. Руки его дрожали. Вот она — реальность! Юноша, рана, нанесенная бритвой, жизнь, вытекающая вместе с кровью и болью, а вовсе не эти шезлонги, не завивка перманент, не миниатюрные автомобили, описывающие дугу на Дворцовом молу. Земля закачалась у него под ногами, и только мысль о том, куда его могут унести, если он потеряет сознание, спасла Хейла от обморока. Но даже и тут природная гордость, инстинктивное отвращение к скандалу победили в нем все остальные чувства; стыд пересилил ужас, не позволил Хейлу громко закричать от страха и даже принудил его внешне остаться спокойным. Если бы юноша не заговорил снова, Хейл, может быть, и пошел бы с ним.
— Ну что ж, пошли, Фред, — сказал юноша.
— Нет, — проговорил Хейл. — Я не пойду. Я не знаю его. Меня зовут не Фред. Я в первый раз его вижу. Это какой-то нахал. — И он быстро зашагал прочь, опустив голову и теперь уже совсем потеряв надежду. Время его истекало; он хотел только одного: двигаться, оставаться на ярком солнце; и вдруг он услышал, как далеко на набережной поет хмельной женский голос, поет о невестах и букетах, о лилиях и траурной вуали — какой-то романс времен королевы Виктории; и он пошел на этот голос, как человек, долго блуждавший в пустыне, идет на мерцающий вдали огонек.
— А! Да это «одинокая душа»! — воскликнула Лили, и, к своему удивлению, он увидел, что она совсем одна среди пустыни шезлонгов. — Они пошли в туалет, — добавила она.
— Можно мне присесть? — спросил Хейл.
Голос его дрогнул, такое он почувствовал облегчение.
— Если у вас есть два пенса, — ответила она. — У меня нет. — Она засмеялась, и платье ее натянулось на пышной груди. — Кто-то стащил мою сумочку, — добавила она, — все мои деньги, до последнего пенни. — Он с удивлением взглянул на нее. — Да бог с ними, с деньгами, — продолжала она. — Но там были письма. Вор теперь прочтет все письма Тома. А эти письма такие страстные! Том с ума сойдет, когда узнает.
— Может, вам нужно немного денег? — предложил Хейл.
— Да нет, я устроюсь, — ответила она. — Кто-нибудь из этих славных парней одолжит мне десять шиллингов — сейчас они вернутся из туалета.
— Это ваши приятели? — спросил Хейл.
— Я встретила их в баре, — ответила она.
— Вы надеетесь, что они вернутся из туалета?
— Боже мой! Неужели вы думаете? — Она посмотрела на набережную, затем взглянула на Хейла и опять рассмеялась. — А ведь вы правы! Ловко они меня облапошили. Но там было только десять шиллингов… и письма Тома.
— Теперь вы позавтракаете со мной? — спросил Хейл.
— Я уже перекусила в баре, — ответила она. — Они меня угостили, значит, я все-таки выручила кое-что из своих десяти шиллингов.
— Ну, закусите еще.
— Нет, больше не хочется, — сказала она, раскинувшись в шезлонге так, что юбка ее поднялась до колен, открыв красивые ноги, и с каким-то плотским наслаждением добавила: — Какой чудесный день! — Она оглянулась назад, на сверкающее море. — Все равно они об этом пожалеют, да еще как! Там, где дело касается честности, я непреклонна.
— Вас зовут Лили? — спросил Хейл. Юноши не было видно, он исчез, Кьюбит тоже исчез. Вокруг не было ни одного знакомого лица.
— Так называли меня они, — ответила женщина. — Мое настоящее имя Айда.
К избитому древнегреческому имени сейчас, показалось Хейлу, вернулось что-то от его прежнего величия.
Она сказала:
— Вы плохо выглядите. Вам надо пойти куда-нибудь и поесть.
— Без вас я не пойду, — возразил Хейл. — Я хочу только одного — остаться здесь с вами.
— Вот это приятные речи, — сказала она. — Хотела бы я, чтобы Том вас послушал… писать он умеет очень страстно, а вот говорить…
— Он хочет жениться на вас? — спросил Хейл.
От нее пахло мылом и вином, она воплощала уют, покой и ленивое сонное физическое блаженство; от ее крупных хмельных губ, от ее роскошной груди и ног веяло чем-то, напоминающим детство и материнскую ласку, и это находило отклик в измученном и смятенном мозгу Хейла.
— Он уже был женат на мне один раз, — ответила Айда. — Но не ценил тогда своего счастья. Теперь хочет вернуться. Почитали бы вы его письма! Я бы показала вам, если бы их не украли. Как ему не стыдно писать такие вещи. — Она одобрительно засмеялась. — Просто поверить невозможно. А вообще-то он такой спокойный малый. Нет, все-таки я всегда говорю: забавно жить на свете.
— Ну и что же, вы примете его обратно? — спросил Хейл, с угрюмой завистью глядя на нее из своей юдоли мрака и отчаяния.
— Не думаю, — ответила Айда. — Я слишком хорошо его знаю. Блаженства вместе у нас не получится. Если бы я захотела, то могла бы теперь выйти замуж удачнее. — Она не хвастала, просто немного подвыпила и была счастлива. — Я могла бы выбрать мужа с деньгами.
— А как же вы живете теперь? — спросил Хейл.
— День прошел и ладно, — ответила она и подмигнула ему, сделав вид, что опрокидывает рюмку. — Как вас зовут?
— Фред.
Он ответил машинально. Это имя он всегда называл случайным знакомым; из какой-то необъяснимой склонности к тайне он скрывал свое настоящее имя Чарлз; он с детства любил секреты, укромные места, мрак, но ведь именно во мраке он встретился с Кайтом, с этим юношей, с Кьюбитом и со всей бандой.
— А вы чем живете? — добродушно спросила она.
Мужчины всегда охотно рассказывали ей о себе, а она любила слушать. У нее уже собрался огромный запас историй о мужских переживаниях.
— Играю на бегах, — быстро ответил он, привычно прячась за барьером лжи.
— Я сама люблю поволноваться. Интересно, не могли бы вы дать мне совет насчет брайтонских бегов на субботу?
— Черный Мальчик, — ответил Хейл. — Заезд в четыре часа.
— У него шансов один против двадцати.
Хейл посмотрел на нее с уважением.
— Ну, как хотите, можете на него не ставить.
— О, я поставлю, — сказала Айда. — Я всегда слушаюсь совета.
— Кто бы вам его ни дал?
— Да, это мой принцип. Вы там будете?
— Нет, не получится.
Хейл прикрыл ладонью ее руку. Он не хотел больше рисковать. Он заявит редактору, что заболел, откажется от места, что-нибудь да придумает. Жизнь была здесь, рядом с ним, он не собирался играть со смертью.
— Поедем со мной на вокзал, — сказал он. — Вернемся вместе в город.
— В такой-то чудный день? — воскликнула Айда. — Ни за что. С вас тоже хватит города! У вас такой вид, будто вы сыты им по горло. Вам будет полезно прогуляться по набережной. А кроме того, мне хочется посмотреть кучу вещей. Я хочу заглянуть в Аквариум и на Черную скалу, и я еще не ходила сегодня на Дворцовый мол. На Дворцовом молу всегда бывает что-то новенькое. Я приехала немного развлечься.
— Мы все это сделаем, а потом…
— Если я решила посвятить день развлечениям, так я уж хочу развлекаться по-настоящему. Я вам сказала: я упорная.
— Я не против, если вы будете со мной.
— Ну что ж, вы-то уж не сможете стащить мою сумочку, — сказала Айда. — Но предупреждаю вас: я люблю мотать деньги. Мне недостаточно накинуть кольцо и пострелять в тире, мне нужны все аттракционы подряд.
— Слишком долго идти пешком до Дворцового мола по такому солнцу. Давайте лучше возьмем такси, — предложил Хейл.
Но в такси он сначала не прикасался к Айде, а сидел неподвижно, притаившись и не спуская глаз с набережной; нигде не было и следа того юноши или Кьюбита среди стремительно проносившегося мимо них ясного дня. Хейл неохотно обернулся и, чувствуя близость ее пышной, ласково открытой груди, прильнул губами к ее губам, ощутив на языке вкус портвейна; тут же он увидел в зеркальце шофера, что за ними едет старый «моррис» выпуска 1925 года с порванным и хлопающим верхом, помятым радиатором и тусклым, потрескавшимся ветровым стеклом. Он смотрел на этот автомобиль, не отнимая губ от ее рта, его кидало в ее сторону, пока такси медленно ползло по шоссе вдоль набережной.
— Так я могу задохнуться, — сказала она наконец, отталкивая его и поправляя шляпу. — Ты круто берешься за дело. Все вы такие, парни маленького роста.
Она почувствовала, что он дрожит всем телом, и быстро крикнула шоферу:
— Не останавливайтесь. Поверните назад и сделайте еще круг.
Казалось, его била лихорадка.
— Ты болен, — сказала она. — Тебя нельзя оставлять одного. Что с тобой такое?
Он не мог больше скрывать.
— Я скоро должен умереть. Я боюсь.
— Ты был у врача?
— Все они никуда не годятся. Ничего не могут сделать.
— Тебе нельзя выходить одному, — сказала Айда. — Они тебе говорили это, врачи?
— Да, — ответил он и опять прильнул к ее губам, потому что, целуя ее, он мог наблюдать в зеркало за старым «моррисом», трясущимся вслед за ними вдоль набережной.
Она опять оттолкнула его, но руки ее по-прежнему лежали у него на плечах.
— Они с ума сошли. Не так уж ты болен. Я бы, конечно, заметила, если бы с тобой было неладно. Не люблю, когда человек сразу сдается. На свете жить совсем не плохо, не нужно только унывать.
— Все хорошо, — сказал он, — пока ты здесь.
— Вот так-то лучше, — подхватила она, — не нужно выдумывать. — И, рывком опустив стекло, чтобы дать доступ свежему воздуху, она взяла его под руку и сказала встревоженно и ласково: — Ведь ты все придумал насчет врачей, да? Это была неправда?
— Конечно, неправда, — устало проговорил он.
— Ну то-то же! — сказала Айда. — А я-то перепугалась. В хорошенькую историю я бы попала, если бы ты отправился на тот свет здесь, в такси! Да уж, Тому пришлось бы почитать кое о чем в газетах. Но мужчины часто надо мной так подшучивают. Всегда стараются показать, что у них где-то неладно, то с деньгами, то с женой, то с сердцем. Ты уж не первый, кто говорит мне, что умирает. Хотя у них никогда не бывает ничего заразного. Хотят провести как можно лучше свои последние часы, ну и так далее. Наверно, это оттого, что я такая крупная. Они думают, я буду с ними нянчиться. Должна тебе признаться, вначале я попадалась на эту удочку. «Врачи говорят, что я и месяца не протяну», — сказал мне один приятель. Это было пять лет тому назад. Теперь я постоянно встречаюсь с ним в баре Хенеки. «Привет, старый призрак», — всегда говорю я ему, а он ставит мне устриц и стакан бархатного пива.
— Нет, я не болен, — сказал Хейл. — Не бойся.
Он не хотел больше унижаться, даже в обмен на спокойные, дружеские объятия. Мимо промелькнул «Гранд-Отель», где старый сановник проводил целый день все в той же дреме, потом «Метрополитен».
— Вот мы и приехали, — сказал Хейл. — Ты ведь останешься со мной, хоть я и не болен?
— Конечно, останусь, — ответила Айда, выходя из такси, и тихонько икнула. — Ты мне нравишься, Фред. Ты хороший парень, Фред. Что это там за толпа? — спросила она с радостным любопытством, указывая на скопление опрятных и щегольских брюк, ярких блузок и обнаженных рук, обесцвеченных и напомаженных волос.
— Каждый раз, как я продаю часы, — кричал человек, стоявший в центре толпы, — я дарю вам в двадцать раз больше, чем они стоят. Только один шиллинг, леди и джентльмены, только шиллинг. Каждый раз, как я продаю вам часы…
— Купи мне часы, Фред, — сказала Айда, легонько подталкивая его, — но прежде дай мне три пенса. Я хочу помыться.
Они стояли на мостовой у входа на Дворцовый мол; толпа окружала их плотным кольцом, люди проходили туда и обратно через турникеты, глазея на торговца часами; нигде не было никаких признаков старой машины марки «моррис».
— Тебе незачем умываться, Айда, — взмолился Хейл. — Ты и так прекрасно выглядишь.
— Нет, мне надо умыться, — ответила она. — Я вся в поту. Подожди меня здесь. Я только на две минуты.
— Здесь негде как следует помыться, — настаивал Хейл. — Пойдем в отель, там выпьем…
— Я не могу терпеть, Фред. Правда, не могу. Ну, будь умницей.
Хейл сказал:
— Вот тебе десять шиллингов. Лучше возьми их сейчас, пока я не забыл.
— Право, это очень мило с твоей стороны, Фред. Это тебя не разорит?
— Так поскорее, Айда, — повторил Хейл. — Я буду здесь. На этом самом месте. Возле этого турникета. Ты ведь недолго, правда? Я буду здесь, — повторил он, положив руку на барьер у турникета.
— Знаешь, — сказала Айда, — можно подумать, что ты влюбился.
И она с нежностью пронесла в себе его образ вниз по ступеням к дамскому туалету: маленький, изрядно потрепанный человек с обкусанными ногтями (от нее ничто не ускользнуло), с чернильными пятнами на пальцах, схватившийся рукой за железный барьер. «Хороший старикан, — подумала она. — Мне он понравился еще в том баре, хотя я и посмеялась над ним».
И она снова запела, на этот раз потихоньку, своим теплым хмельным голосом: «Той ночью, в аллее, лорд Ротшильд мне сказал…» Давно уже она так не торопилась из-за мужчины, и не прошло и четырех минут, как, свежая, напудренная и сияющая, она опять поднялась на свет яркого Троицына дня, но Хейла уже не было. Его не было около турникета, его не было в толпе возле продавца; она протолкалась поближе, чтобы убедиться в этом, и оказалась лицом к лицу с вспотевшим торговцем, беспрерывно и с раздражением выкрикивавшим:
— Как? Не хотите дать шиллинг за часы и бесплатный подарок, который стоит ровно в двадцать раз дороже, чем сами часы? Я не утверждаю, что часы стоят намного больше шиллинга, хотя они стоят столько уже из-за одного своего вида, ну а вместе с бесплатным подарком, стоящим в двадцать раз…
Она вынула десятишиллинговую бумажку и получила маленький пакет и сдачу, думая: «Он, наверно, пошел в туалет, он вернется», — и, снова водворившись у турникета, развернула конвертик, в который были вложены часы. «Черный Мальчик, — прочла она, — заезд в четыре часа, в Брайтоне», — и подумала нежно и с гордостью: «Такой совет и он дал мне. Этот парень понимает, что к чему». Счастливая, она приготовилась терпеливо ждать его возвращения. Она была упорная. Где-то далеко в городе часы пробили половину второго.
2
Малыш заплатил три пенса и прошел через турникет. Деревянной походкой прошагал он мимо стоявших в четыре ряда шезлонгов, где люди ждали, когда начнет играть оркестр. Сзади он казался моложе своих лет, в темном легком костюме, купленном в магазине готового платья и слишком свободном в бедрах; но из-за выражения лица он казался старше: из темно-серых глаз его глядела всепоглощающая вечность, откуда он явился и которая должна была поглотить его. Оркестр начал играть, он ощущал музыку всем своим нутром; скрипки словно плакали в его кишках. Он не смотрел ни налево, ни направо и шагал вперед.
Во Дворце развлечений он прошел мимо стереоскопов, игровых автоматов и киосков к стрелковому тиру. С полок невинно-ледяным взглядом смотрели куклы, как пречистые девы в церковной кладовой. Малыш взглянул на них: каштановые локоны, синие глаза, накрашенные щеки; он подумал: «Аве Мария… в час нашей смерти…»
— Шесть выстрелов, — сказал он.
— А, это ты… — протянул хозяин тира, глядя на него с тревожным неодобрением.
— Да, это я, — ответил Малыш. — У тебя есть часы, Билл?
— Какие тебе часы? Вон там, в холле, разве нет часов?
— На них почти без четверти два. Я не думал, что уже так поздно.
— Эти часы всегда идут верно, — сказал хозяин тира. Он подошел с ружьем в руке. — Они не годятся ни для каких липовых алиби. Больше этого не будет. Без четверти два — это верное время.
— Ну и хорошо, Билл. Без четверти два. Я только это и хотел узнать. Дай-ка мне ружье, — сказал Малыш.
Он поднял ружье; юношеская худощавая рука была тверда, как скала; все шесть раз он попал в «яблочко».
— Заработал приз, — сказал он.
— Можешь забирать свой чертов приз и подавиться им. Что ты возьмешь? Шоколад?
— Я не ем шоколада, — ответил Малыш.
— Пачку «Плейерз»?
— Я не курю.
— Тогда придется тебе взять куклу или стеклянную вазу.
— Давай куклу, — сказал Малыш. — Я хочу вон ту… там, наверху, с каштановыми волосами.
— Ты что, обзаводишься семьей? — спросил хозяин, но Малыш не ответил и деревянной походкой пошел дальше, мимо других киосков; пальцы его пахли порохом. Богоматерь он держал за волосы. Вода плескалась вокруг свай в конце мола, темная, ядовитого, бутылочно-зеленого цвета, с пятнами водорослей; соленый ветер жег ему губы. Он поднялся по трапу на террасу, где пьют чай, и посмотрел вокруг: почти все столики были заняты. Он прошел в стеклянную галерею и, обойдя ее кругом, попал в длинный и узкий зал кафе с окнами на запад, поднятыми на пятьдесят футов над медленно отступающим морем: был отлив. Он нашел свободный столик и сел; с этого места ему был виден весь зал и за полоской воды — смутные очертания набережной.
— Я подожду, — сказал он подошедшей к его столу девушке. — Должны прийти приятели.
Окно было открыто, и до него доносились шум медлительных волн, бьющихся о сваи, и музыка оркестра, неясная и печальная; ветер уносил ее прочь к берегу.
— Они опаздывают. Который теперь час? — спросил он. Его пальцы машинально крутили волосы куклы, отрывая коричневые клочки шерсти.
— Почти без десяти два, — ответила девушка.
— Все часы на этом молу спешат, — сказал он.
— Ну нет, — возразила девушка, — это точное лондонское время.
— Возьмите эту куклу, — сказал Малыш. — Она мне ни к чему. Я только что выиграл ее в тире. Она мне ни к чему.
— Правда, можно взять? — спросила девушка.
— Берите, берите же. Поставьте ее у себя в комнате и молитесь. — Он сунул ей куклу, нетерпеливо поглядывая на дверь. Он прекрасно владел своим телом. Единственным признаком нервного напряжения было легкое подергивание щеки под мягким цыплячьим пушком, в том месте, где могла находиться ямочка. Щека задергалась еще нетерпеливее, когда появился Кьюбит, а с ним Дэллоу, высокий крепкий человек со сломанным носом, с грубым невыразительным лицом.
— Ну как? — спросил Малыш.
— Все в порядке, — сказал Кьюбит.
— Где Спайсер?
— Сейчас придет, — ответил Дэллоу. — Он только зашел в туалет помыться.
— Он должен был прямо прийти сюда, — сказал Малыш. — Вы опоздали. Я сказал — ровно без четверти два.
— Да что ты заводишься? — спросил Кьюбит. — Тебе-то нужно было только прийти прямиком сюда.
— И проследить, чтобы все было в порядке, — сказал Малыш. Он поманил официантку. — Четыре порции рыбы с жареной картошкой и чай. Сейчас еще один придет.
— Спайсер не захочет рыбы с картошкой, — сказал Дэллоу. — У него совсем аппетит пропал.
— Лучше бы он не терял аппетита; — сказал Малыш. Подперев голову руками, он стал смотреть на бледного Спайсера, шедшего через зал, и почувствовал, как гнев заплескался у него внутри, словно прилив внизу возле свай.
— Уже без пяти два, — заметил он. — Верно? Сейчас без пяти два? — обратился он к официантке.
— Ушло больше времени, чем мы думали, — сказал Спайсер, мрачный, бледный и прыщавый. Он опустился на стул и с отвращением посмотрел на поджаренную, хрустящую рыбу, которую девушка поставила перед ним.
— Я не хочу есть, — сказал он. — Я не могу есть. Вы думаете, я кто?
И все трое, не прикасаясь к рыбе, уставились на Малыша, как дети под взглядом взрослого.
Малыш полил свою картошку анчоусным соусом.
— Ешьте, — сказал он. — Ну же, ешьте.
Неожиданно Дэллоу усмехнулся.
— У него пропал аппетит, — заявил он, а сам стал набивать себе рот рыбой.
Все они говорили тихо, слова их терялись среди звона тарелок и беспрерывного плеска моря. Кьюбит последовал примеру Дэллоу, и только седой Спайсер не хотел есть. Он упрямо смотрел перед собой; его мутило.
— Дай мне выпить, Пинки, — попросил он. — Я не могу проглотить эту дрянь.
— Сегодня ты не будешь пить, — возразил Малыш. — Давай ешь.
Спайсер положил в рот кусочек рыбы.
— Я буду блевать, — сказал он, — если поем.
— Ну и блюй, — ответил Малыш. — Блюй, если хочешь. Только для этого у тебя кишка тонка. — Он обратился к Дэллоу: — Ну как, все сошло гладко?
— Великолепно, — сказал Дэллоу. — Мы с Кьюбитом пришили его. А карточки отдали Спайсеру.
— Ты разложил их как следует?
— Конечно, разложил, — ответил Спайсер.
— По всей набережной?
— Конечно, разложил. Не понимаю, почему ты шумишь из-за этих карточек.
— Ничего ты не понимаешь, — сказал Малыш. — Ведь это алиби, ясно? — Он понизил голос и прошептал, наклонившись над рыбой: — Доказательство, что он выполнил программу. По ним будет видно, что он умер после двух. — Он опять заговорил громче: — Слышите? Ясно?
Где-то далеко в городе заиграли куранты и пробили дважды.
— А если они уже нашли его? — спросил Спайсер.
— Тогда нам труба, — сказал Малыш.
— А как с той бабой, что была с ним?
— На нее нам плевать, — сказал Малыш. — Это просто шлюха — он дал ей полфунта. Я видел, как он давал ей бумажку.
— Все-то ты замечаешь, — с восхищением сказал Дэллоу. Он налил себе чашку крепкого чая и положил в нее пять кусков сахара.
— Я все замечаю, когда делаю что-нибудь сам, — возразил Малыш. — Куда ты положил карточки? — спросил он Спайсера.
— Одну я оставил в кафе Сноу, — ответил тот.
— Как? В кафе Сноу?
— Ведь он должен был где-то поесть, да? Так написано в газете. Ты сказал, чтобы я делал все, как в газете. Было бы странно, если бы он ничего не ел, правда? А он всегда кладет одну карточку там, где ест.
— Еще более странно было бы, — возразил Малыш, — если бы официантка заметила, что лицо у тебя не Колли Киббера, а сразу после того, как ты ушел, нашла бы карточку. Куда ты положил ее в кафе?
— Под скатерть, — ответил Спайсер. — Он всегда так делает. После меня за тем столом перебывает много народу. Она не догадается, что это не он положил карточку. Я думаю, она найдет ее только вечером, когда будет снимать скатерть. Может быть, это будет уже другая девушка.
— Иди обратно, — сказал Малыш, — и принеси сюда карточку. Я не желаю рисковать.
— Не пойду, — чуть громче сказал Спайсер, и опять все трое в молчании уставились на Малыша.
— Пойди ты, Кьюбит, — сказал Малыш. — Может быть, ему и лучше там больше не показываться.
— Только не я, — возразил Кьюбит. — Вдруг они уже нашли карточку и увидят, что я ищу ее. Лучше рискнем и оставим все как есть, — шепотом настаивал он.
— Разговаривайте нормально, — напомнил Малыш, когда официантка снова направилась к их столику, — нормально говорите.
— Хотите еще чего-нибудь, ребята? — спросила она.
— Да, — ответил Малыш, — мы хотим мороженого.
— Брось это, Пинки, — запротестовал Дэллоу, когда девушка отошла от них, — мы не хотим мороженого. Что мы, шлюхи, что ли?
— Если не хочешь мороженого, Дэллоу, — сказал Малыш, — пойди в кафе Сноу и достань карточку. Что у тебя, смелости не хватает?
— Я думал, мы уже развязались со всем этим, — сказал Дэллоу, — я достаточно сделал. Я не из боязливых, ты это знаешь, но я здорово струхнул… Понимаешь, если его найдут раньше времени, соваться в кафе Сноу просто безумие.
— Не говори так громко, — напомнил Малыш. — Если никто больше не хочет идти, пойду я. Я не боюсь. Мне только иногда надоедает работать с такими трусами, как вы. Иногда я думаю, что лучше бы мне работать одному. — Послеполуденное солнце сияло над морем. — Кайт был настоящий парень, но Кайта уже нет, — сказал он. — За каким столом ты там сидел? — спросил он Спайсера.
— Как раз посредине. Направо от двери. Стол для одного человека. На нем стоят цветы.
— Какие цветы?
— Не знаю, какие. Желтые цветы, — ответил Спайсер.
— Лучше не ходи, Пинки, — сказал Дэллоу, — лучше брось это. Неизвестно, что может случиться.
Но Малыш был уже на ногах и своей деревянной походкой шел вдоль длинного узкого зала над морем. Невозможно было сказать, боялся ли он; его юное и в то же время старчески неподвижное лицо ничего не выражало.
В кафе Сноу час пик был уже позади, и столик оказался свободным. По радио гремела какая-то мрачная музыка, передавали записанный на пленку концерт органиста — громкий vox humana вибрировал над усеянной крошками и пятнами пустыней грязных скатертей; казалось, уста целого мира оплакивали жизнь и горести человечества. Официантки сдергивали скатерти, по мере того как освобождались столы, и накрывали к чаю. Никто не обратил внимания на Малыша; когда он смотрел на них, они поворачивались к нему спиной. Он подсунул руку под скатерть, но там ничего не было. Вдруг он Снова ощутил прилив злобы и гнева и стукнул солонкой по столу так сильно, что дно ее треснуло. Одна девушка отделилась от группы болтавших официанток и подошла к нему; это была пепельная блондинка с холодными, корыстными глазами.
— Что вы хотите? — спросила она, окинув взглядом потертый костюм и слишком юное лицо.
— Хочу, чтобы меня обслужили, — ответил Малыш.
— Вы опоздали к обеду.
— Я не хочу обедать, — возразил Малыш. — Я хочу чашку чая и печенье.
— Будьте добры, перейдите к тому столу. Там накрыто к чаю.
— Нет, — ответив Малыш, — мне нравится этот столик.
Она отплыла прочь с высокомерным и осуждающим видом, и он крикнул ей вслед:
— Вы примете заказ?
— Сейчас придет официантка, которая обслуживает ваш стол, — ответила она и направилась к сплетницам у служебного выхода.
Малыш отодвинул свой стул, щека его нервно задергалась, он снова подсунул руку под скатерть: это было неуловимое движение, но если бы кто-нибудь следил за ним, оно могло привести Малыша к виселице. Он опять ничего не нащупал и с бешенством подумал о Спайсере: «Слишком часто путает, придется нам от него отделаться».
— Вы хотели чаю, сэр?
Все еще держа руку под скатертью, он окинул официантку пронзительным взглядом; одна из тех девчонок, подумал он, что ходят так неслышно, как будто боятся собственных шагов: тощая, бледная, еще моложе его.
— Я уже сделал заказ, — сказал он.
Она стала старательно извиняться.
— Здесь было столько народа. А я сегодня с самого утра работаю. Только сейчас могла передохнуть. Вы что-то потеряли?
Он отдернул руку, глядя на нее с угрозой в холодных глазах; щека его снова задергалась; именно мелочи всегда могут подвести: в голову ему не приходило никакого объяснения, почему он держал руку под скатертью. Она пришла ему на помощь:
— Сейчас я положу другую скатерть для чая, и если вы что-нибудь потеряли…
В один миг она сняла со стола перец, соль и горчицу, ножи, вилки, соус «О'кей» и желтые цветы, собрала вместе углы скатерти и одним движением подняла ее вместе с оставшимися крошками.
— Здесь ничего нет, сэр, — сказала она.
Он посмотрел на непокрытый стол и ответил:
— Я ничего не потерял.
Она начала стелить свежую скатерть для чая. Казалось, он чем-то ей понравился, и от этого она стала словоохотливой, — вероятно, в нем было что-то общее с ней самой: молодость, бледность, оба были как-то не на месте в этом шикарном кафе. По-видимому, она уже забыла, что рука его только что шарила под скатертью. Но вспомнит ли она, подумал Малыш, если потом ее станут расспрашивать? Он презирал ее спокойствие, ее бледность, ее желание понравиться ему; а что если она замечает, запоминает все так же, как он?…
— Ни за что не угадаете, — сказала она, — что я нашла здесь десять минут назад? Когда меняла скатерть.
— Вы все время меняете скатерти? — спросил Малыш.
— О нет, — ответила она, ставя чайный прибор, — но тут один клиент опрокинул стакан, и когда я меняла скатерть, под ней оказалась карточка Колли Киббера, которая стоит десять шиллингов. Меня просто сразило, — доверительно продолжала она, задерживаясь у стола с подносом в руках, — а другим это не нравится. Видите ли, я сегодня здесь первый день. Говорят, я глупо сделала, что не окликнула его и не получила приз.
— А почему же вы его не окликнули?
— Потому что мне это и в голову не пришло, он совсем не был похож на фото в газете.
— Может быть, карточка лежала здесь все утро.
— О нет, — возразила она, — этого быть не могло, он первый сел за этот стол.
— Ну что ж, — сказал Малыш, — это не играет роли. Главное, что вы карточку нашли.
— О да, я нашла ее. Только, по-моему, это не совсем честно, — вы понимаете, ведь он так не похож на фото. Я могла бы получить приз. По правде сказать, я сразу побежала к двери, когда увидела карточку; я не стала терять времени.
— И вы его увидели?
Она отрицательно покачала головой.
— Наверно, вы его не рассмотрели. А то бы вы узнали его.
— Я всегда смотрю на вас, я имею в виду клиентов. Видите ли, я здесь недавно, и мне еще страшновато. Я хочу делать все как нужно. Ах да, — спохватилась она, — вот и сейчас, стою тут и разговариваю, когда вы просили чашку чаю.
— Ничего, это неважно, — сказал Малыш. Он натянуто улыбнулся ей, он не умел управлять мышцами лица, они всегда двигались у него неестественно. — Мне нравятся такие девушки, как вы… — Он выразился неудачно, но сразу заметил это и поправился. — То есть я люблю приветливых девушек. Здесь есть такие, что прямо замораживают.
— Они и меня замораживают.
— Вы слишком чувствительны, вот в чем дело, — сказал Малыш, — так же, как и я. — Он вдруг отрывисто спросил: — А сейчас вы не узнали бы этого человека из газеты? Может быть, он еще где-нибудь неподалеку?
— Почему же, — ответила она. — Я узнала бы его. У меня хорошая память на лица.
Щека Малыша задергалась. Он сказал:
— Мне кажется, у нас с вами есть что-то общее. Мы должны встретиться как-нибудь вечером. Как вас зовут?
— Роз.
Он положил на стол монету и встал.
— А как же ваш чай? — спросила она.
— Мы здесь заболтались, а ровно в два у меня назначена встреча.
— Ах, извините меня, пожалуйста, — воскликнула Роз. — Почему вы меня не остановили?
— Ничего, — успокоил ее Малыш. — Мне это было приятно. Сейчас всего лишь десять минут третьего — по вашим часам. Вы вечером когда освобождаетесь?
— Кафе закрывается только в половине одиннадцатого, кроме воскресенья.
— Я хочу с вами встретиться, — сказал Малыш. — У нас с вами много общего.
3
Айда Арнольд решительно пошла через Стрэнд, у нее не хватало терпения ждать сигналов, разрешающих переход, да она и не доверяла автоматическим светофорам. Она сама прокладывала себе дорогу перед самыми радиаторами автобусов; шоферы тормозили и бросали на нее свирепые взгляды, а она в ответ улыбалась им. Когда часы били одиннадцать и она подходила к бару Хенеки, ее всегда охватывало легкое возбуждение, будто с ней только что приключилось что-то, поднимавшее ее в собственных глазах. В баре Хенеки уже были первые посетители.
— Привет, старый призрак! — сказала она, и мрачный худощавый человек в черном, с котелком на голове, сидевший возле винной бочки, ответил ей:
— Забудь уж об этом, Айда, хватит.
— Ты что, надел траур по самому себе? — спросила Айда, остановившись перед зеркалом с рекламой виски «Белая лошадь» и заламывая шляпу так, как ей больше шло; она выглядела никак не старше тридцати пяти.
— У меня жена умерла. Хочешь пива, Айда?
— Да, пива я выпью. А я и не знала, что у тебя была жена.
— Видишь ли, Айда, мы очень мало знаем друг о друге, — сказал он. — Я вот даже не знаю, как ты живешь и сколько у тебя было мужей.
— Муж у меня был только один. Том, — ответила Айда.
— Но в жизни-то у тебя был не один Том.
— Кому и знать это, как не тебе, — подтвердила Айда.
— Дайте мне стакан красного, — сказал мрачный человек. — Когда ты вошла, Айда, я как раз думал, почему бы нам опять не сойтись?
— Что Том, то и ты — всегда хотите начинать сначала. Почему вы не можете наладить прочную жизнь, когда у вас уже есть девушка?
— С моими небольшими деньгами и с твоими…
— Я бы лучше хотела чего-нибудь новенького, — сказала Айда. — Зачем тянуть старое и отказываться от нового?
— Но ведь у тебя доброе сердце, Айда.
— «Ну, это только ты так думаешь, — ответила Айда, и из темной глубины пивной кружки ей словно подмигнула ее доброта: немного застенчивая, немного суетная, всегда готовая поразвлечься. — Ты когда-нибудь играл на бегах? — спросила она.
— Я не признаю бегов. Это игра для простофиль.
— Вот именно, — подтвердила Айда. — Игра для простофиль. Никогда не знаешь, повезет тебе или нет. Я люблю это, — сказала она с воодушевлением, глядя поверх бочонка с вином на худощавого, бледного человека; лицо ее раскраснелось больше обычного, стало моложе, добрее. — Черный Мальчик, — тихо произнесла она.
— Это еще что такое? — резко спросил Призрак, взглянув на себя в зеркало с рекламой виски „Белая лошадь“.
— Так зовут одну лошадь, вот и все, — ответила она. — Один парень посоветовал мне поставить на нее в Брайтоне. Интересно, увижу ли я его на скачках. Он куда-то исчез. Он мне нравился. Никогда нельзя было угадать, что он вдруг скажет. К тому же, я должна ему деньги.
— Ты читала в газете, что случилось на днях с этим Колли Киббером в Брайтоне?
— Его нашли мертвым, да? Я видела объявление.
— Было дознание.
— Что, он покончил с собой?
— Да нет. Разрыв сердца. Его сгубила жара. Но газета заплатила приз тому, кто его нашел. Десять гиней, — продолжал Призрак, — за то, что нашли мертвое тело. — Он с горечью положил газету на винный бочонок. — Дайте мне еще стакан красного.
— Как! — воскликнула Айда. — Это фото человека, который нашел его? Ах, плутишка, маленький, а хитрый! Значит, вот куда он отправился. Неудивительно, что он не беспокоился о своих деньгах.
— Нет, нет, это не он, — пояснил Призрак. — Это Колли Киббер. — Он вынул из бумажного конвертика маленькую деревянную зубочистку и начал ковырять в зубах.
— Так вот оно что! — протянула Айда. Ее как громом поразила. — Значит, он говорил правду, — продолжала она. — Он в самом деле был болен. — Она вспомнила, как дрожала его рука в такси и как он умолял ее, чтобы она его не оставляла, как будто знал, что умрет, прежде чем она вернется. Но он не поднял шума. — Он был джентльмен, — тихонько сказала она. Он, должно быть, упал там же, возле турникета, как только она повернулась к нему спиной, а она ушла вниз, в дамский туалет, ничего не подозревая. Теперь, в баре Хенеки, слезы навернулись у нее на глаза; те белые полированные ступени, по которым она спускалась вниз, туалет, показались ей амфитеатром, перед которым разыгрывалась сейчас какая-то медлительная трагедия.
— Что же делать, — мрачно сказал Призрак, — все там будем.
— Да, — ответила Айда, — но он хотел жить нисколько не меньше, чем я. — Она начала читать и тут же воскликнула: — Зачем же он пошел так далеко по этой жаре? — Ведь упал он не возле турникета: он прошел обратно путь, который они проехали вместе, посидел под навесом…
— Ему нужно было закончить работу.
— Он мне ничего не говорил о работе. Он сказал: «Я буду здесь. Вот на этом месте. У турникета». Он сказал: «Не задерживайся, Айда. Я буду здесь». — И когда она повторяла то, что могла вспомнить из его слов, у нее было такое чувство, что потом, через час или два, когда все выяснится, ей захочется поплакать по этому испуганному и взволнованному костлявому существу, называвшему себя…
— Ну а это что значит? — сказала она. — Прочти здесь.
— А что такое? — спросил Призрак.
— Вот суки! — воскликнула Айда. — Зачем они наврали с три короба?
— Чего наврали? Выпей-ка еще пива. Нечего тебе из-за этого поднимать шум.
— А пожалуй, стоит, — сказала Айда и, сделав большой глоток, снова углубилась в газету. У нее была сильно развита интуиция, и теперь она подсказывала ей, что дело это какое-то странное и здесь что-то неладно. — Эти девицы, — продолжала она, — которых он хотел подцепить, говорят, что к ним подошел какой-то человек, назвавший его Фредом, а он сказал, что он не Фред и что он не знает этого человека.
— Ну и что ж тут такого? Послушай, Айда, пошли в кино.
— Но его как раз звали Фред. Он сказал мне, что его зовут Фред.
— Его звали Чарлз. Видишь, здесь напечатано: Чарлз Хейл.
— Это ничего не доказывает, — возразила Айда. — У мужчины всегда есть другое имя для чужих. Не вздумай уверять меня, что твое настоящее имя Кларенс. И мужчина не станет называть себя по-разному каждой новой девушке. Он просто запутается. Ты ведь сам всегда называешь себя Кларенсом. Я-то уж мужчин знаю.
— Да какое это имеет значение! Можешь прочитать, как там все было. Девушки сказали насчет имени между прочим. Никто не обратил на это никакого внимания.
— Никто ни на что не обратил внимания, — печально сказала она. — Здесь все так и написано. У него не было никого, кто стал бы поднимать шум вокруг его смерти. Судья спросил, присутствует ли кто-нибудь из родственников покойного, а из полиции заявили, что не обнаружено никаких родственников, кроме троюродного брата в Миддлсборо. Видно, он был какой-то одинокий, — грустно продолжала она. — Некому было даже задать вопросы.
— Я знаю, что такое одиночество, Айда, — сказал мрачный человек. — Я ведь уже целый месяц одинок.
Она не обратила внимания на его слова: мысленно она была там, в Брайтоне, в Духов день, и думала о том, как, пока она ждала его, он, должно быть, медленно умирал, бредя по набережной к Хоуву, — умирал, и эта мысль, и эта несложная мелодрама тронули ее сердце жалостью к нему. Она была из народа, она плакала в кино на «Дэвиде Копперфилде», когда была под хмельком, с ее уст лились все старые баллады, слышанные ею от матери, и ее жалостливое сердце отозвалось на слово «трагедия».
— Троюродный брат в Миддлсборо… вместо него приехал адвокат, — сказала она. — Как это понять?
— Я думаю, если этот Колли Киббер не оставил завещания, то этот брат получит все его деньги. Его не устраивают никакие разговоры о самоубийстве — он, конечно, хочет получить деньги по страховому полису.
— Он не задавал никаких вопросов.
— Потому что в этом не было надобности. Никто не высказывал предположения, что Хейл покончил самоубийством.
— А может быть, он как раз и покончил, — сказала Айда. — Что-то странное с ним произошло. Я хотела бы кое-что выяснить.
— А что? Все и так ясно.
В бар вошел человек в широких бриджах и полосатом галстуке.
— Привет, Айда, — воскликнул он.
— Привет, Гарри, — ответила она печально, глядя в газету.
— Хотите выпить?
— Я уже пью, спасибо.
— Так проглотите это и выпейте еще.
— Нет, я больше не хочу, спасибо, — сказала она. — Если бы я была там…
— Ну и что тут было бы хорошего? — спросил мрачный человек.
— Я могла бы задать несколько вопросов.
— Вопросы, вопросы, — раздраженно перебил он. — Заладила — вопросы. О чем, скажи, пожалуйста?
— Почему он сказал, что его зовут не Фред.
— Его и звали не Фред. Его звали Чарлз.
— Это странно.
Чем больше она думала об этом, тем больше жалела, что ее там не было; сердце у нее щемило при мысли, что никто не интересовался дознанием, троюродный брат даже не приехал из Миддлсборо, его адвокат не задал ни одного вопроса, даже газета, где работал Фред, посвятила ему только полстолбца. На первой странице была другая фотография: новый Колли Киббер; завтра он собирался приехать в Борнмут. «Могли бы подождать хоть неделю, подумала она. В знак уважения к нему».
— Мне хотелось бы спросить их, почему он оставил меня там и удрал на набережную по такому солнцепеку.
— Ему нужно было выполнить свою работу. Нужно было разложить эти карточки.
— А почему он сказал, что подождет меня?
— Ну, это уж тебе надо было спросить у него самого, — ответил мрачный человек. И при этих словах ей почудилось, что Фред пытается ответить ей, ответить по-своему, чем-то вроде иероглифов, отзывающихся в ней смутной болью, пытается говорить, находя отклик в ее душе, как мог бы говорить дух. Айда верила в духов.
— Он многое рассказал бы, если бы мог, — заметила она. Снова взяв газету, она стала медленно читать ее. — Он выполнил свою работу до конца, — мягко проговорила она; ей нравились люди, выполняющие свою работу: в этом была какая-то жизнестойкость. Он раскладывал свои карточки всю дорогу, пока шел по набережной; они возвратятся в редакцию из-под лодки, из мусорной корзины, из детского ведерка. У него оставалось только несколько штук, когда «мистер Альфред Джефферсон, оказавшийся заведующим канцелярией в Клэфеме», нашел его тело. — Если бы он действительно покончил самоубийством, — сказала Айда (она была единственным адвокатом умершего), — он сначала выполнил бы свою работу.
— Так он и не покончил с собой, — сказал Кларенс. — Ты ведь только что читала. Было вскрытие, и установлено, что он умер своею смертью.
— Странно, — возразила Айда, — он пошел и оставил одну карточку в ресторане. Я знала, что он голоден. Он все время повторял, что хочет есть, но почему же он улизнул один и заставил меня ждать? Это просто дико.
— Я думаю, он в тебе разочаровался, Айда.
— Не нравится мне все это. Как-то странно. Жаль, что меня там не было. Я бы задала им несколько вопросов.
— А что если нам с тобой сходить в кино, Айда?
— У меня нет настроения, — ответила Айда. — Ведь не каждый день теряешь приятеля. Да и у тебя тоже не должно быть настроения — твоя жена умерла так недавно.
— Вот уже месяц, как ее не стало, — сказал Кларенс, — нельзя требовать от человека, чтобы он вечно скорбел.
— Месяц — это не так уж долго, — печально возразила Айда, задумчиво глядя в газету. «Всего лишь один день, сказала она себе, как он умер, и вот теперь, думается мне, ни одна живая душа и не вспоминает о нем, кроме меня: а кто я ему? Женщина, с которой он познакомился, чтобы выпить вместе и потискать ее». И опять немудреный трагизм происшедшего тронул ее простое, отзывчивое сердце. Она не стала бы думать обо всем этом, если бы у него были родственники, кроме этого троюродного брата в Миддлсборо. Если бы он просто умер и не был бы, кроме того, еще так одинок. Она чуяла здесь что-то подозрительное, хотя и не могла ни за что ухватиться, кроме имени — Фред… Но ведь каждый скажет: «Его и звали не Фред. Можешь прочесть в газете. Чарлз Хейл».
— Нечего тебе беспокоиться об этом, Айда. Это тебя не касается.
— Я знаю, — ответила она, — это меня не касается.
«Но это никого не касается», — твердило ее сердце; вот что больше всего ее волновало: никто, кроме нее, не хотел задавать никаких вопросов. Когда-то она знала женщину, которая видела своего мужа после его смерти: он будто стоял у радиоприемника и пытался включить его. Она сама повернула ручку, как ему хотелось; он тут же исчез, а она услышала голос диктора, объявляющего по местному радио: «Предупреждение о шторме в Ла-Манше». А она собиралась в воскресенье совершить морскую прогулку в Кале — в этом и было все дело. Вот вам и доказательство: нечего смеяться над теми, кто верит в духов. И если бы Фред, думала она, хотел сказать что-то, он не стал бы обращаться к своему троюродному брату из Миддлсборо; почему бы ему не обратиться к ней? Он заставил ее ждать, она ждала около получаса, может быть, он хочет объяснить ей, почему так вышло.
— Он был джентльмен, — сказала она громко и с твердой решимостью поправила шляпу, пригладила волосы и встала из-за винной бочки. — Мне надо идти, — сказала она. — Пока, Кларенс.
— Куда ты? Прежде ты никогда так не торопилась, Айда, — с горечью посетовал он.
Айда указала пальцем на статью в газете.
— Кому-то надо быть там, — ответила она, — даже если эти троюродные братья и приедут.
— Ему все равно, кто закопает его в землю.
— Как знать, — возразила Айда, вспомнив о призраке у радиоприемника. — Нужно отдать долг уважения. А кроме того, я люблю похороны.
Но в светлом, новом, полном цветов пригороде, где он жил, его, строго говоря, и не закопали в землю. Здесь не приняты были погребения — считалось, что это негигиенично. Две величественные кирпичные башни, похожие на башни ратуши в скандинавских странах, крытые галереи с вделанными в стены дощечками, вроде военных мемориальных досок, пустая и холодная государственная часовня, которую легко и просто можно было приспособить к любому вероисповеданию; никакого кладбища, восковых цветов, скучных банок от варенья с увядшими полевыми цветами. Айда опоздала. Она чуть помедлила за дверью, боясь, что в часовне окажется много друзей Фреда; ей показалось, что кто-то включил радио и передают лондонскую программу. Ей был знаком этот поставленный, невыразительный, лишенный тепла, голос; но когда она открыла дверь, оказалось, что это не репродуктор, а человек в черной рясе стоит на возвышении и как раз произносит слова «загробная жизнь». В часовне никого не было, кроме женщины, похожей на хозяйку меблированных комнат, служанки, оставившей на улице детскую коляску, и двух нетерпеливо шептавшихся мужчин.
— Наша вера в загробную жизнь, — продолжал священник, — вовсе не опровергается нашим неверием в старый средневековый ад. Мы верим, — он бросил беглый взгляд на гладкие полированные рельсы, ведущие к дверям в стиле модерн, через которые гроб должен был отправиться в пламя, — мы верим, что этот брат наш уже соединился с единым. — Он фасовал слова, словно кусочки масла в упаковку со своей торговой маркой. — Брат наш слился с ним воедино. Нам неведомо, кто такой этот единственный, с которым (или с чем) составляет он теперь одно целое. Мы не придерживаемся старой средневековой веры в зеркальные моря и золотые короны. Правда, есть красота, и для нас, поколения, любящего правду, более прекрасна уверенность в том, что наш брат в настоящий момент вновь поглощен всемирным духом, из которого он вышел.
Он нажал кнопку, двери в стиле модерн распахнулись, пламя взвилось, и гроб мягко покатился в огненное море. Двери затворились, нянька встала и направилась к выходу, священник мило улыбнулся из-за рельсов, как фокусник, который только что, не моргнув глазом, вытащил из своего мешка девятьсот сорокового кролика.
Все было кончено. Айда с трудом выдавила последнюю слезу в платок, надушенный «Калифорнийским маком». Она любила похороны, хотя они всегда внушали ей ужас, — так иные любят рассказы о привидениях. Смерть казалась ей неуместной, ведь важнее всего жизнь. Она не была религиозной и не верила ни в рай, ни в ад, а только в духов, в спиритические столики, в таинственные постукивания и в слабые голоса, жалобно говорящие о цветах. Пусть католики легко относятся к смерти: жизнь для них, может быть, не так важна, как то, что наступает потом; но для нее смерть была концом всему. Слияние с единым для нее не значило ничего по сравнению со стаканом пива в солнечный день… Она верила в духов, но ведь нельзя же было назвать их хрупкое, призрачное существование вечной жизнью; скрип спиритического столика, кусок мозговой оболочки в банке за стеклянной витриной Института психологических исследований, голос, который она слышала однажды во время сеанса, произнесший; «Все очень красиво в высших сферах. Повсюду цветы».
Цветы. Ведь не это жизнь, с презрением подумала Айда. Жизнь — это солнечный свет на медных столбиках кровати, рубиновый портвейн, замирание сердца, когда лошадь, на которую ты поставила, почти не надеясь выиграть, приходит к финишу, и вымпел толчками поднимается вверх. Жизнь — это губы бедного Фреда, прижавшиеся в такси к ее губам и вздрагивавшие вместе с машиной, когда они неслись вдоль набережной. Какой смысл умирать, если это приводит вас только к лепету о цветах. Фред не хотел цветов, он хотел… И приятная тоска, которую она чувствовала в баре Хенеки, вновь охватила ее. Она смотрела на жизнь с глубокой серьезностью: она готова была причинить кому угодно любые неприятности для защиты того единственного, во что верила. Если кого-нибудь из ее подруг бросал любовник, она утешала ее: разбитые сердца всегда склеиваются; если она слышала, что кто-то искалечен или ослеп, она говорила: счастье еще, что он остался жив. В ее оптимизме было нечто опасное и безжалостное, смеялась ли она в баре Хенеки, плакала ли на похоронах или на свадьбе.
Она вышла из крематория и здесь увидела, как у нее над головой над башнями-близнецами поднимаются последние останки Фреда: тонкая струйка серого дыма из печи. Люди, проходившие по обрамленной цветами пригородной дороге, смотрели вверх и замечали дымок; то был горячий день для крематория. Фред опустился неразличимым серым пеплом на розовые цветы; он стал частью дымового бедствия над Лондоном, и Айда заплакала.
Она плакала, но в ней крепла решимость, крепла все время, пока она шла к трамваю, который должен был увезти ее в родные места; к барам, световым рекламам и к театрам-варьете. Человек создается обстановкой тех мест, где он живет, и ум Айды работал с простотой и точностью световой рекламы: стакан, из которого беспрестанно льется напиток, беспрестанно вращающееся колесо, пошлый вопрос, то вспыхивающий, то гаснущий: «Пользуетесь ли вы эликсиром Форана для укрепления десен?» «Я сделала бы то же самое для Тома, думала она, для Кларенса, этого старого обманщика. Призрака из Хенеки-бара, для Гарри». Это самое малое, что можно сделать для кого-нибудь, — задавать вопросы, вопросы на дознаниях, вопросы на спиритических сеансах. Кто-то причинил Фреду зло, и кому-то надо за это тоже причинить зло. Око за око. Если верить в Бога, можно предоставить заботу о мести ему, но нельзя же доверять этому единому, этому всемирному духу. Месть выпала на долю Айды, точно так же, как ей досталась награда: мягкие, влажные губы, прижавшиеся к ее губам в такси, теплое рукопожатие в кино, — это была единственная награда. Месть и награда — и то, и другое ее влекло.
Трамвай зазвонил и, рассыпая искры, двинулся по набережной. Если несчастным сделала Фреда женщина, Айда скажет, что она о ней думает. Если Фред покончил с собой, она докажет это, об этом напечатают в газетах, кто-то от этого пострадает. Айда собиралась начать с самого начала и трудиться упорно. Она была непреклонна.
Первым этапом (в течение всей панихиды она не выпускала из рук газету) была Молли Пинк, о которой упоминалось как о «личном секретаре», директоров фирмы «Картер и Гэллоуэй».
Айда шла от станции метро Черинг-Кросс; ее обдувал горячий ветер; солнечный свет, заливая Стрэнд, бликами дрожал на радиаторах автомобилей; в одном из верхних этажей пансиона Стэнли Гиббонса у окна сидел человек с длинными седыми усами по моде времен короля Эдуарда и рассматривал в лупу почтовую марку; прогрохотала большая подвода, груженая бочками, а на Трафальгарской площади били фонтаны, словно прохладные прозрачные цветы распускались и падали в тусклые, закопченные бассейны. «Это будет стоить денег, — повторяла себе Айда, — если хочешь узнать правду, это всегда стоит денег». И она медленно пошла по переулку св. Мартина, подсчитывая возможные расходы, но сквозь грусть и решимость к ней беспрестанно возвращалась мысль: это увлекает, это жизнь, — и сердце ее билось сильнее. На улице Севен Дайлз около дверей «Королевского дуба» бродили негры в плотно облегающих опрятных костюмах и старых форменных галстуках школы, где они когда-то учились. Айда узнала одного из них и остановилась с ним поболтать.
— Как дела, Джо? — Над яркой полосатой рубашкой, словно ряд огней в темноте, засверкали крупные белые зубы.
— Прекрасно, Айда, прекрасно.
— А что ваша сенная лихорадка?
— Все мучит, Айда, все мучит.
— Ну, всего хорошего, Джо.
— Всего хорошего, Айда.
До конторы господ «Картера и Гэллоуэя» было четверть часа ходьбы, она помещалась на самой верхотуре высокого здания недалеко от Грейс-Инн. Теперь ей нужно было экономить: она не хотела тратиться даже на автобус; когда она добралась до пыльного старинного здания, там не оказалось лифта. Крутые марши каменной лестницы утомили Айду. Весь этот долгий день во рту у нее ничего не было, кроме булочки, съеденной на станции. Она села на подоконник и сняла туфли. Ступни у нее горели; она принялась растирать пальцы на ногах. Вниз по лестнице шел какой-то старый джентльмен с длинными усами. Он искоса, каким-то порочным взглядом посмотрел на Айду, на нем были клетчатый пиджак, желтый жилет и серый котелок. Он снял котелок.
— Попали в беду, мадам? — спросил он, глядя на Айду маленькими тусклыми глазками. — Может быть, я могу помочь?
— Я никому не позволяю чесать мне ноги, — ответила Айда.
— Ха-ха, — засмеялся старик, — вам очко. Вот это мне по сердцу. Вы наверх или вниз?
— Наверх. Под самую крышу.
— «Картер и Гэллоуэй». Солидная фирма. Скажите им, что это я вас послал.
— А как вас зовут?
— Мойн. Чарли Мойн. Я вас здесь уже видел раньше.
— Не может этого быть.
— Значит, где-нибудь в другом месте. Никогда не забываю женщину с хорошей фигурой. Скажите им, что вы от Мойна. Сделают в срочном порядке.
— Почему здесь нет лифта?
— Старомодные люди. Я и сам старомодный. Я видел вас в Эпсоме.
— Возможно.
— Я всегда замечаю интересных женщин. Пригласил бы вас выпить за углом бутылочку шипучего, если бы эти попрошайки не выманили у меня последнюю пятерку, с которой я вышел из дома. Хотел пойти поставить парочку на одну лошадь. Но сначала должен зайти домой. А пока я хожу, выплата снизится. Вот увидите. Вы, наверно, не сможете меня выручить? Два фунта, меня зовут Чарли Мойн.
Воспаленные глаза смотрели на нее без надежды, даже равнодушно и небрежно; пуговицы желтого жилета приподнимались в такт стуку его старого сердца.
— Вот могу дать вам фунт, — сказала Айда, — бегите быстрее.
— Ужасно мило с вашей стороны. Дайте мне вашу карточку. Сегодня же вечером пришлю вам чек.
— У меня нет карточки, — ответила Айда.
— Я тоже не взял с собой. Ну, ничего. Меня зовут Чарли Мойн. Связаться можно через Картера и Гэллоуэя. Меня здесь все знают.
— Ну, так все в порядке, — сказала Айда. — Мы еще увидимся. Мне надо идти наверх.
— Обопритесь на меня. — Он помог ей подняться. — Скажите им, что вы от Мойна. Сделают срочно.
Она посмотрела назад, на поворот лестницы. Он засовывал фунтовую бумажку в карман жилета, поглаживая усы, кончики которых еще золотились, как пальцы курильщиков сигарет. Бедный старикашка, он никак не надеялся получить столько, подумала Айда, глядя, как он спускается по лестнице, беззаботный, несмотря на вечную нужду.
На верхней площадке было всего две двери. Она открыла ту, на которой была надпись «Стол справок». Здесь, без сомнения, и обитала Молли Пинк. В маленькой комнатке, едва ли больше чулана и швабр, она сидела возле газовой горелки и сосала конфетку. Когда Айда вошла, на нее зашипел чайник. Одутловатое прыщавое лицо безмолвно повернулось к ней.
— Извините, — сказала Айда.
— Хозяев нет.
— Мне надо поговорить с вами.
Рот слегка приоткрылся, кусок конфеты повернулся на языке, чайник засвистел.
— Со мной?
— Да, — ответила Айда. — Смотрите-ка. Чайник убежит. Вы и есть Молли Пинк?
— Хотите чашку чая?
Стены каморки от пола до потолка были уставлены папками. Сквозь не мытое много лет, маленькое, запыленное окошко, как отражение в зеркале, виднелись другие здания с тем же расположением окон. В разорванной паутине висела мертвая муха.
— Не люблю чай, — ответила Айда.
— Тем лучше. У меня всего одна чашка, — заметила Молли, заваривая чай в толстом коричневом чайнике с отбитым носиком.
— Один мой приятель по имени Мойн… — начала Айда.
— Ах, он! — протянула Молли. — Мы как раз выставили его.
К ее машинке был прислонен открытый журнал «Женщина и красота», и глаза ее постоянно возвращались к нему.
— Выставили?
— Выставили. Он приходил к хозяевам. Пытался к ним подлизаться.
— Видел он их?
— Они ушли. Хотите конфетку?
— Вредно для фигуры, — ответила Айда.
— А я зато не завтракаю.
Над головой Молли Айда видела наклейки на папках: «Рента 1–6 Мад-лейн», «Рента Уэйнидж Истейт, Бэлэм», «Рента…». От них веяло высокомерным богатством, собственностью…
— Я пришла к вам, — сказала Айда, — потому что вы встречались с одним моим приятелем.
— Садитесь, — предложила Молли, — это стул для клиентов. На нем удобнее. Мистер Мойн… какой он приятель!
— Не Мойн. Некто по имени Хейл.
— Не хочу я больше связываться с этим делом. Вы бы видели хозяев. Они просто взбесились. Им пришлось отпустить меня на целый день из-за этого дознания. На следующий день они заставили меня работать допоздна.
— Так что же произошло?
— Что произошло? Хозяева просто ужас как обозлились.
— Меня интересует Фред… Хейл.
— Я с ним, собственно говоря, и не знакома.
— А этот мужчина, про которого вы сказали на дознании, что он подошел…
— Это был не мужчина. Парнишка. Он знал мистера Хейла.
— Но в газете написано…
— О, это мистер Хейл сказал, что он его не знает. Я это и повторила. Они меня ни о чем и не спрашивали. Только поинтересовались, не было ли чего странного в его поведении. Ну, в нем не было ничего, что могло бы показаться странным. Он просто был напуган, вот и все. К нам сюда много таких приходит.
— Но вы им об этом не сказали?
— Здесь нет ничего особенного. Я сразу догадалась, в чем тут дело. Он был должен деньги этому парнишке. У нас здесь таких много бывает. Вроде Чарли Мойна.
— Он был напуган, правда? Бедняга Фред.
— Он сказал: «Я не Фред», да еще как резко. Но, по-моему, он был совершенно нормальный. И моя подруга говорит то же.
— А какой был этот парнишка из себя?
— Ну, обыкновенный парнишка.
— Высокий?
— Не особенно.
— Блондин?
— Не сказала бы.
— Каких лет?
— Приблизительно моих, кажется.
— А сколько вам?
— Восемнадцать, — ответила Молли, вызывающе глядя поверх пишущей машинки и кипящего чайника и продолжая сосать конфету.
— Просил денег?
— У него не было времени просить денег.
— А больше вы ничего не заметили?
— Мистер Хейл очень хотел, чтобы я пошла с ним. Но я не смогла, ведь со мной была подруга.
— Спасибо, — сказала Айда, — все-таки я кое-что узнала.
— Вы сыщик?
— О нет. Я просто его приятельница.
Здесь действительно было что-то не так, теперь она в этом убедилась. Она опять вспомнила, как он нервничал в такси, и, шагая в лучах вечернего солнца по Холборну к своему жилью за Рассел-сквер, она снова подумала о том, как он протянул ей десять шиллингов, прежде чем отпустил ее в туалет. Он был настоящий джентльмен; возможно, это были его последние несколько шиллингов, а эти люди — этот парень — требовали с него деньги. Может быть, он тоже был разорившийся бедняк, вроде Чарли Мойна, и теперь, когда лицо его уже начало расплываться у нее в памяти, она невольно наделяла его некоторыми чертами Чарли Мойна, во всяком случае, его воспаленными глазами. Галантные джентльмены, щедрые джентльмены, настоящие джентльмены. В холле «Империала» со стен свисали напыщенные рекламы, солнце бросало отлогие лучи сквозь ветви платанов, и колокольчик звонил и звонил, призывая к чаю, в каком-то пансионе на Корэм-стрит.
«Попробую-ка я столик, — подумала Айда, — и тогда уж буду знать».
Когда она добралась до дома, в передней лежало письмо — открытка с изображением Брайтонского мола. Если бы я была суеверной, подумала она, если бы я была суеверной… Она перевернула открытку. Это писал всего лишь Фил Коркери, который просил ее приехать. Каждый год она получала такую же открытку из Истборна, из Гастингса, а однажды получила из Аберистуита. Но она ни разу не поехала. Он был не из тех, кому ей хотелось бы подавать надежды. Слишком уж тихий. Таких она не считала мужчинами.
Она вышла на лестницу, ведущую в подвал, и позвала старика Кроу. Ей нужны были еще две руки для спиритического сеанса, и она знала, что старику это доставит удовольствие.
— Дедушка Кроу, — позвала она, глядя вниз на каменную лестницу. — Дедушка Кроу.
— Что вам, Айда?
— Я собираюсь повертеть столик.
Она не стала ждать его, а поднялась к себе, чтобы все приготовить. Комната выходила на восток, и солнца в ней уже не было. Стало прохладно и сумрачно. Айда включила газовый камин и задернула старые портьеры из пурпурного плюша, чтобы закрыться от серых небес и дымовых труб. Затем она поправила диван-кровать и подвинула к столу два стула. Из-за стекла буфета на нее взглянула ее жизнь, уютная жизнь: фарфоровые безделушки, купленные на побережье, фотография Тома, книги Эдгара Уоллеса[3] и Нетты Сиретт,[4] приобретенные у букиниста, ноты, журнал «Добрые друзья», портрет ее матери, опять фарфоровые безделушки, несколько стоявших вместе зверушек из дерева и резины, мелочи, подаренные приятелями; спиритическая доска.
Она осторожно вынула доску и заперла буфет. Плоская овальная доска из полированного дерева на маленьких колесиках была похожа на какое-то насекомое, выползшее из ящика в подвале на кухне. Но на самом деле ее сделал старик Кроу; он тихонько постучался в дверь и вошел бочком: седые волосы, бледное лицо, близорукие, подслеповатые глазки, щурящиеся на голый светлый шар настольной лампы. Айда бросила на лампу розовый вязаный шарф, чтобы смягчить свет и поберечь его глаза.
— Вам нужно спросить у него что-нибудь, Айда? — поинтересовался старик Кроу. Он слегка дрожал от нетерпения, испуганный и заинтригованный. Айда очинила карандаш и вставила его в отверстие на узком конце доски.
— Садитесь, дедушка Кроу. Что вы сегодня днем делали?
— У жильцов двадцать седьмого номера были похороны. Умер один из этих студентов-индийцев.
— Я тоже была на похоронах. У вас были хорошие?
— В наше время не бывает хороших похорон. Лошади всегда без плюмажей.
Айда подтолкнула доску, она покатилась вбок по полированному столу, больше, чем когда-либо, похожая на какого-то жука.
— Карандаш слишком длинный, — сказал старик Кроу. Он сидел, зажав руки между коленями, и, нагнувшись вперед, следил за прибором. Айда привинтила карандаш немного выше.
— О прошлом или о будущем? — спросил старик Кроу; у него еще не прошла легкая одышка.
— Сегодня я хочу вызвать духа, — ответила Айда.
— Живого или умершего?
— Умершего. Я видела, как его сожгли сегодня днем. В крематории. Идите сюда, дедушка Кроу, положите пальцы.
— Лучше снимите кольца, — сказал старик Кроу. — Золото его смущает.
Айда сняла кольца, положила кончики пальцев на доску, которая заскрипела и покатилась прочь от нее по большому листу писчей бумаги.
— Ну давайте, дедушка Кроу.
Старик Кроу захихикал.
— Она ведь упрямая, — сказал он и положил свои костлявые пальцы на самый краешек доски, выбивая мелкую нервную дробь. — Что вы хотите спросить его, Айда?
— Ты здесь, Фред?
Доска, скрипя, завертелась под их пальцами, чертя по бумаге длинные линии то в том, то в другом направлении.
— Она хочет сделать по-своему, — заметила Айда.
— Тише! — прошептал старик Кроу.
Заднее колесико доски немного застопорилось, и она остановилась.
— Теперь можно и посмотреть, — сказала Айда.
Она оттолкнула доску в сторону, и оба стали разглядывать сеть линий, проведенных карандашом.
— Здесь можно различить Д, — заметила Айда.
— А может, это Н.
— Во всяком случае, что-то тут есть. Попробуем еще раз.
Она решительно положила пальцы на доску.
— Что случилось с тобой, Фред?
И прибор тотчас же дернулся и покатился. Вся ее неукротимая воля словно сосредоточилась в кончиках пальцев; на этот раз она не потерпит никакой бессмыслицы; бледное лицо старика Кроу, сидевшего с другой стороны, тоже сосредоточенно нахмурилось.
— Пишет… Настоящие буквы, — с торжеством сказала Айда, и, когда ее пальцы на мгновение легли свободнее, она почувствовала, как доска решительно покатилась прочь, будто повинуясь еще чьей-то воле.
— Тише, — шепнул старик Кроу, но доска застопорилась и остановилась. Они отодвинули ее, и тут уж бесспорно — большими тонкими буквами было выведено незнакомое им слово: «Сакилл».
— Это похоже на имя, — заметил старик Кроу.
— Оно должно что-то значить, — сказала Айда. — То, что пишет доска, всегда что-то значит. Попробуем еще.
И опять деревянный жучок бросился бежать, чертя свой запутанный след. Лампа излучала розовый свет из-под наброшенного на нее шарфа; старик Кроу свистел зубом.
— Ну а теперь, — сказала Айда и подняла доску. На бумаге было наискось начертано длинное неразборчивое слово: «Фресамоллоко».
— Вот и все сообщение, — сказал старик Кроу. — Вам ничего больше не выжать из этого, Айда.
— А я все-таки попробую, — возразила Айда. — Ну, да это яснее ясного. «Фре» — сокращенно Фред, «само» — самоубийство, и «око» — это то, что я всегда говорю: око за око и зуб за зуб.
— А что значат эти два Л?
— Пока еще не знаю, но подумаю. — Она откинулась на спинку стула, ощущая свою силу и торжествуя. — Я не суеверна, — сказала она, — но против этого ничего не скажешь. Доска-то уж знает.
— Уж она-то знает, — повторил старик Кроу, свистя зубом.
— Попробуем еще раз.
Прибор покатился, заскрипел и резко остановился. Яснее ясного на нее смотрело имя: «Фил».
— Ладно, — сказала Айда, — ладно. — И слегка покраснела. — Хотите сахарного печенья?
— Спасибо, Айда, спасибо.
Айда вынула из буфета жестянку и подала ее старику Кроу.
— Они довели его до смерти, — сказала она счастливым голосом. — Я знала, здесь что-то не так. Посмотрите на это «око». Оно как будто подсказывает мне, что я должна делать. — Ее взгляд задержался на слове «Фил». — Уж я заставлю этих людей пожалеть, что они родились на свет. — Она с наслаждением вздохнула и вытянула свои стройные ноги. — Добро и зло, — сказала она. — Я верю в то, что существуют добро и зло. — И, откинувшись немного глубже в кресле, со вздохом счастливого удовлетворения она проговорила: — Это будет увлекательно, это будет интересно, это будет кусок жизни, дедушка Кроу. — Она высказала самую высокую оценку, которую вообще способна была чему-нибудь дать, а старик в это время причмокивал губами, и розовый свет струился над книгой Уорика Дипинга.
Глава вторая
1
Малыш стоял спиной к Спайсеру, глядя вдаль на темную полосу прибоя. На конце мола не было никого, кроме них; в такой час и при такой погоде все были в концертном зале. Молния то вспыхивала, то гасла на горизонте; накрапывал дождь.
— Где ты был? — спросил Малыш.
— Так, походил кругом, — ответил Спайсер.
— Ты ходил туда?
— Хотел посмотреть, все ли в порядке, не забыл ли ты чего-нибудь.
Перегнувшись через перила в моросящий дождь, Малыш произнес:
— Я читал, что когда люди совершают убийство, им иногда приходится совершить и второе, чтобы замести следы.
Слово «убийство» значило для него не больше, чем слова: «бокс», «ошейник», «жираф». Он сказал:
— Спайсер, держись оттуда подальше.
Он не обладал воображением. В этом была его сила. Он не умел смотреть глазами других, ощущать их нервами. Только от музыки ему становилось не по себе, сердце начинало дрожать, как струна; нервы теряли свою молодую выносливость, он становился взрослее, и переживания других словно стучались в его душу.
— Где остальные ребята? — спросил он.
— В баре Сэма, пьют.
— А почему ты с ними не пьешь?
— Не хочу, Пинки. Вышел подышать свежим воздухом. Этот гром как-то плохо на меня действует.
— Когда они прекратят этот проклятый шум, там, в зале? — сказал Малыш.
— Ты не пойдешь в бар Сэма?
— У меня есть тут дельце, — сказал Малыш.
— Все в порядке, правда, Пинки? После вердикта на дознании ведь все в порядке? Никто не задавал никаких вопросов.
— Все же я хочу быть уверенным, — ответил Малыш.
— Наши больше не пойдут на убийство.
— А кто сказал, что нужно кого-то убивать?
Вспыхнула молния и осветила его узкий потертый пиджак, хохолок мягких волос на затылке.
— У меня здесь свидание, вот и все. Не распускай язык, Спайсер. Ты что, сдрейфил, что ли?
— Я не сдрейфил. Ты неправильно меня понял, Пинки. Я просто не хочу больше убийств. Это заключение судьи на дознании поразило нас всех. Что оно значит? Ведь на самом деле мы убили его, Пинки?
— Теперь нам нужно действовать осторожно. Вот и все.
— Но все-таки, в чем там дело? Я не верю докторам. Все обернулось слишком хорошо для нас.
— Нам нужно быть осторожными.
— Что это у тебя в кармане, Пинки?
— Я не ношу с собой револьвер, — ответил Малыш. — Ты что вообразил? — В городе часы пробили одиннадцать; гром, прокатившийся над Ла-Маншем, заглушил три последних удара. — Ты бы лучше убрался отсюда, — сказал Малыш. — Она уже опаздывает.
— У тебя с собой бритва, Пинки.
— Зачем мне бритва, если я имею дело с бабой. Если хочешь знать, что это такое, это склянка.
— Ты же не пьешь, Пинки.
— Ну, этого не стал бы пить никто.
— А что это, Пинки?
— Серная кислота, — ответил Малыш. — Бабы боятся ее больше ножа. — Он нетерпеливо отвернулся от моря и опять пожаловался: — Ох, эта музыка… — Она стонала у него в голове, сливаясь с ярким электрическим светом; из всех чувств, на которые он был способен, это больше всего походило на грусть, — точно так же, как для него было почти что плотской страстью то неясное и тайное чувственное наслаждение, которое он ощутил, коснувшись пальцами склянки с серной кислотой в тот момент, когда Роз торопливо вышла из концертного зала.
— Ну, катись, — сказал он Спайсеру. — Она пришла.
— Ох, я опоздала, — проговорила Роз. — Всю дорогу бежала. Я думала, вы подумаете…
— Я бы подождал, — сказал Малыш.
— Ужасный был вечер сегодня в кафе, — продолжала девушка. — Все шло из рук вон плохо. Я разбила две тарелки. И сливки прокисли. — Все это она выпалила одним духом. — Кто этот ваш приятель? — спросила она, глядя в темноту.
— Неважно, — ответил Малыш.
— Я почему-то подумала… Как следует не рассмотрела, но…
— Неважно, — повторил Малыш.
— Что мы будем делать?
— Ну что ж, я думаю, сначала немного поболтаем здесь, — ответил Малыш, — а потом сходим куда-нибудь… К Шерри? Мне все равно.
— Я бы очень хотела к Шерри, — сказала Роз.
— Вы уже получили деньги за ту карточку?
— Да. Получила сегодня утром.
— Никто не приходил к вам и ни о чем не расспрашивал?
— Нет, нет. Но какой ужас, что он умер таким образом! Правда?
— Вы видели его фото?
Роз подошла вплотную к перилам и подняла бледное личико к Малышу.
— Да ведь это был не он. Вот чего я не понимаю.
— Люди часто иначе выглядят на фотографиях.
— У меня хорошая память на лица. Это был не он. Они, наверное, плутуют. Газетам нельзя верить.
— Идите сюда, — сказал Малыш. Он отвел ее за угол, подальше от музыки, в еще более уединенное место, где молния на горизонте и гром казались еще ближе. — Вы мне нравитесь, — продолжал он, и неуверенная улыбка искривила его губы, — и я хочу предупредить вас. Этот парень, Хейл, я о нем кое-что слышал. Он был замешан в разные дела.
— В какие дела? — прошептала Роз.
— Неважно, в какие. Я только хочу предупредить вас для вашей же пользы… Вы получили деньги… На вашем месте я забыл бы об этом, забыл бы все об этом парне, который оставил карточку. Он умер, правильно? Вы получили деньги. И дело с концом.
— Все это правильно, — проговорила Роз.
— Можете называть меня Пинки, если хотите. Мои друзья так меня называют.
— Пинки, — робко повторила Роз, и в тот же миг удар грома разразился у них над головой.
— Вы читали о Пэгги Бэрон?
— Нет, Пинки.
— Это было во всех газетах.
— Я не читала никаких газет, пока не получила эту работу. Дома мы не могли выписывать газеты.
— Она связалась с одной шайкой, и к ней потом приходили разные люди и допытывались. Это опасно.
— Я бы никогда не стала связываться с такой шайкой, — сказала Роз.
— Иногда это не от нас зависит. Просто так получается.
— А что с ней произошло?
— Испортили ей физиономию. Она потеряла один глаз. Плеснули ей в лицо серной кислотой.
Роз прошептала:
— Серной кислотой? Что такое серная кислота? — И молния осветила деревянную смоляную сваю, разбивающуюся об нее волну и ее бледное, худенькое, испуганное лицо.
— Вы никогда не видели серной кислоты? — спросил Малыш, усмехаясь в темноте. Он показал ей маленькую склянку. — Вот серная кислота. — Он вытащил пробку и налил немного на деревянную обшивку мола; кислота зашипела и задымилась. — Она горит, — сказал Малыш. — Понюхай. — И он поднес склянку к ее носу.
Задыхаясь, она прошептала:
— Пинки, вы ведь не хотите…
— Я тебя разыграл, — ловко солгал он. — Это не серная кислота, это просто спирт. Я хотел предостеречь тебя, вот и все. Мы с тобой подружимся. А я не хочу, чтобы у моей подружки было обожженное лицо. Ты мне скажешь, если кто-нибудь станет расспрашивать тебя. Кто бы то ни был. Запомни. Сразу же звякни в пансион Билли. Три шестерки. Легко запомнить.
Он взял ее под руку и повел прочь с пустынного края мола назад, мимо освещенного концертного зала, сквозь музыку, несущуюся к берегу, наводящую на него щемящую тоску.
— Пинки, — сказала она, — я не хочу ни во что вмешиваться. Я никогда не вмешиваюсь ни в какие дела. Я никогда не была любопытной. Вот вам крест.
— Ты хорошая девочка, — сказал он.
— Вы ужасно много знаете обо всем, Пинки, — воскликнула она со страхом и восхищением. И вдруг, когда оркестр заиграл избитый лирический мотив: «Прелестна на взгляд, так сладко обнять и небо само…», яд злобы и ненависти подступил к губам Малыша.
— Приходится много знать, а то пропадешь. Пошли, сходим к Шерри.
Как только они сошли с мола, им пришлось пуститься бегом: такси окатывали их водой; гирлянды цветных лампочек вдоль набережной Хоува светили тускло, как керосиновые лампы, сквозь пелену дождя. Они отряхнулись, как собаки, в нижнем зале кафе Шерри, и Роз увидела, что на лестнице, ведущей на галерею, стоит очередь.
— Здесь полно, — разочарованно сказала она.
— Ну что ж, останемся внизу, — ответил Малыш и так непринужденно заплатил три шиллинга, как будто был здесь завсегдатаем.
Они прошли мимо столиков, где сидели девушки с яркими, отливающими металлическим блеском, волосами, с маленькими черными сумочками в руках — платные партнерши, ожидавшие приглашения. Горели цветные фонарики: зеленые, розовые и синие.
— Как здесь чудесно, — сказала Роз. — Это напоминает мне…
И пока они шли к столику, она вслух рассказывала обо всем, что напоминали ей огни, мотив, который наигрывал джаз, толпа на танцевальной площадке, пытающаяся отплясывать румбу. У нее был огромный запас немудреных воспоминаний, и когда она не жила в будущем, она жила в прошлом. Что до настоящего… Она проходила сквозь него так быстро, как только могла, убегая от одного, стремясь к другому, и поэтому говорила всегда слегка запыхавшись, и сердце ее колотилось от жажды избавления или от ожидания. «Я сунула тарелку под передник, а она и говорит: „Роз, что это вы там прячете?“» А мгновение спустя она уже с глубоким восхищением устремила на Малыша свои широко раскрытые, наивные глаза, полные уважения и надежды.
— Что ты будешь пить? — спросил Малыш.
Она не знала даже названий напитков. На Нелсон-Плейс, откуда она появилась у Сноу и на Дворцовом молу, словно крот, выбравшийся из норы на дневной свет, она никогда не была знакома с мальчиком, у которого хватало бы денег, чтобы предложить ей что-нибудь выпить. Она сказала бы: «Пиво», — но у нее еще не было случая выяснить, любит ли она пиво. Мороженое за два пенса с трехколесной тележки «Эверест» — дальше этого ее представления о роскоши не простирались. Она беспомощно таращила глаза на Малыша. Он резко спросил:
— Что ты любишь? Я же не знаю, что ты любишь.
— Мороженое, — сказала она разочарованно, но заставлять его ждать дольше не могла.
— Какое мороженое?
— Обыкновенное мороженое, — ответила она. За все годы, проведенные в трущобах, «Эверест» не мог предложить ей большого выбора.
— Ванильное? — спросил официант. Она кивнула; она подумала, что это будет такое, какое ей всегда приходилось есть прежде; так оно и оказалось, только его было больше, а в остальном с таким же успехом, держа его между двумя вафлями, она могла бы сосать это мороженое возле трехколесной тележки.
— Ты покладистая девочка, — сказал Малыш. — Сколько тебе лет?
— Семнадцать, — вызывающе ответила она; по закону мужчине нельзя было встречаться с девушкой моложе семнадцати лет.
— Мне тоже семнадцать, — сказал Малыш, и серые глаза, никогда не бывшие юными, с презрением посмотрели в глаза, только сейчас начавшие кое-что узнавать. Он спросил: — Ты танцуешь?
И она смиренно ответила:
— Мне мало приходилось танцевать.
— Пустяки… — сказал Малыш. — Я не очень-то гожусь для танцев.
Он взглянул на медленно движущиеся пары, похожие на животных с двумя спинами; удовольствие, подумал он, они называют это удовольствием; его охватило чувство одиночества, ужасное сознание того, что его никто не понимает. Площадку освободили для последнего отделения ночной программы. Светлое пятно прожектора выхватило кусок пола, певца в смокинге, микрофон на длинном гибком черном стержне. Певец взял его нежно, словно это была женщина, и стал осторожно покачивать из стороны в сторону, лаская его губами, а из громкоговорителей над галереей его хриплый шепот звучал над залом, словно голос диктора, возвещающий о победе, словно официальное сообщение, объявленное после долгой проверки цензурой.
— Вот здорово, просто здорово, — сказал Малыш, поддавшись непреодолимому воздействию этого беззастенчивого рева.
Музыка мне о любви говорит, Свищет скворец возле нашей тропинки — Он мне о нашей любви говорит. Если такси загудит, Или сова закричит, Поезд метро прогрохочет средь мрака, Иль прожужжит мне пчела-работяга — Все мне о нашей любви говорит. Западный ветер у нашей тропинки, Он говорит, говорит без запинки, Он о любви говорит. И соловей, что ночами поет, И почтальон, что сигнал подает, Электросверла своим скрежетаньем И телефоны звонков дребезжаньем — Все мне о нашей любви говорит.Малыш смотрел на светлое пятно: «музыка», «любовь», «соловей», «почтальон» — слова эти трепетали в его мозгу, как стихи; одной рукой он ласкал склянку с серной кислотой, лежавшую у него в кармане, другой — держал руку Роз. Нечеловеческий голос завывал над галереей, а Малыш сидел молча. На этот раз он сам получил предупреждение — жизнь показывала ему склянку с серной кислотой и предупреждала: «Я испорчу тебе физиономию». Она говорила с ним языком музыки, и когда он уверял ее, что никогда больше не будет ввязываться в такие дела, у музыки наготове был ответ: «Иногда это от нас не зависит. Просто так получается».
Сторожевая залает собака Там, возле тропки, но знаю, однако, Пес мне о нашей любви говорит.Толпа, как по команде «смирно», стояла в шесть рядов за столиками (на площадке не хватало мест для такой массы народа). Никто не шелохнулся. Это было как торжественный гимн в день перемирия, когда король снимает свой венок победителя, все обнажают головы, а войска словно каменеют. Такая любовь, такая правда, такая музыка были понятны этим людям.
Грэйси Филдс людей смешит, В жертву целится бандит, Но любой всегда и всюду О нашей любви говорит.Музыка гремела под китайскими фонариками, и в розовом пятне прожектора резко выделялся певец, прижавший микрофон к своей крахмальной рубашке.
— Ты была влюблена? — спросил Малыш отрывисто и смущенно.
— Ну да, конечно, — ответила Роз.
Малыш продолжал с внезапной язвительностью:
— Ну да, конечно, ты еще неопытная. Не знаешь, что люди творят на свете. — Музыка смолкла, и в тишине он громко засмеялся. — Ты еще невинная. — Люди поворачивались на стульях и смотрели в их сторону; какая-то девица захихикала. Его пальцы ущипнули Роз за руку. — Ты еще неопытная, — повторил он. Он приводил себя в легкое чувственное бешенство, как бывало, когда он дразнил слабых ребят в городской школе. — Ты ничего не знаешь, — повторил он с презрением и вонзил ей в руку ногти.
— Ну нет, — запротестовала она. — Я многое знаю.
Малыш усмехнулся.
— Ничего ты не знаешь. — И он так ущипнул ее за руку, что ногти его почти встретились под кожей. — Хочешь, я буду твоим дружком? Будем водить с тобой компанию?
— Конечно, я очень хотела бы, — ответила она. Слезы гордости и боли защекотали ее опущенные веки. — Если тебе нравится это делать, продолжай.
Малыш отпустил ее руку.
— Не будь такой покладистой, — сказал он. — Почему мне должно это нравиться? Ты думаешь, что много понимаешь, — упрекнул он ее. Гнев жег его внутри, как раскаленные угли, а музыка снова заиграла; все удовольствие, испытанное им в прежние времена от щипков и выворачивания рук, шуток с лезвием бритвы, которым он научился позже, — что было бы во всем этом забавного, если бы жертвы не визжали? Он с бешенством проговорил: — Пойдем отсюда. Терпеть не могу этот кабак.
И Роз послушно принялась убирать в сумочку свою пудреницу и носовой платок. Что-то звякнуло у нее в сумочке.
— Что это? — спросил Малыш, и она показала ему кончик шнурка с четками.
— Ты католичка? — спросил Малыш.
— Да, — ответила Роз.
— Я тоже католик, — сказал Малыш.
Он схватил ее за руку и вытолкнул на темную улицу, где шел мелкий дождь. Он поднял воротник и побежал; вспыхнула молния, раздались раскаты грома; они перебегали от подъезда к подъезду, пока опять не оказались на набережной в одной из пустых стеклянных беседок. Здесь они были одни в эту бурную, душную ночь.
— Ну да, я даже когда-то пел в хоре, — признался Малыш и вдруг тихо запел своим ломающимся мальчишеским голосом: — «Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem».[5]
В его голосе звучал целый потерянный мир: светлый угол под органом, запах ладана и накрахмаленных стихарей и музыка. Музыка, безразлично какая: «Agnus Dei», «прелестна на взгляд, так сладко обнять», «свищет скворец возле нашей тропинки», «credo in unum Deum»,[6] — всякая музыка волновала его, говорила ему о чем-то таком, чего он не мог понять.
— Ты ходишь к мессе? — спросил он.
— Иногда, — ответила Роз. — Это зависит от работы. Большей частью бывает так, что если я иду к мессе, то совсем не высыпаюсь.
— Мне наплевать, что ты там делаешь, — резко сказал Малыш. — Я-то не хожу к мессе.
— Но ведь ты веришь, правда? — взмолилась Роз. — Ты веришь, что Бог есть?
— Конечно, есть, — ответил Малыш. — Что еще может там быть, если не Бог? — продолжал он презрительно. — Ведь это единственное, что, возможно, имеет смысл. Эти атеисты, они ничего не знают. Конечно, есть ад, геенна огненная и вечное проклятие, — сказал он, глядя на темную бурную воду, на молнии и фонари, качающиеся над черными сваями Дворцового мола, — конечно, есть адские муки.
— И рай тоже, — тревожно сказала Роз.
Дождь лил, не переставая.
— Может быть, — ответил Малыш, — может быть.
* * *
Малыш промок до костей, брюки прилипли к его худым ногам; он поднимался по длинной, не покрытой дорожкой лестнице к себе в комнату в пансионе Билли. Перила шатались под его рукой, и, когда он открыл дверь и увидел, что все ребята здесь и курят, сидя на его медной кровати, он гневно крикнул:
— Когда же починят перила? Ведь это опасно. В конце концов, кто-нибудь свалится.
Шторы не были опущены, и за закрытым окном, на фоне серых крыш, доходящих до самого моря, полыхали последние молнии. Малыш подошел к своей кровати и смахнул с нее крошки булки с колбасой, которую ел Кьюбит.
— Что это тут, — спросил он, — собрание?
— Да неладно со взносами, Пинки, — ответил Кьюбит, — двое не заплатили. Бруер и Тейт. Они говорят, что теперь, раз Кайта не стало…
— Давай порежем их, Пинки? — предложил Дэллоу.
Спайсер стоял у окна и смотрел на грозу. Он промолчал, глядя на молнии, разрывающие небо.
— Спроси Спайсера, — ответил Малыш, — он последнее время что-то много раздумывает.
Все обернулись и посмотрели на Спайсера. Спайсер сказал:
— Может, пока что не надо так нажимать. Вы же знаете, многие ребята смылись, когда Кайта убили.
— Давай, давай, — сказал Малыш. — Послушайте-ка его. Таких, как он, называют философами.
— Ну что ж, — сердито возразил Спайсер. — Есть свобода слова в этой шайке или нет? Потому они и смылись, что не могли себе представить, как это такой шкет будет управлять всей лавочкой.
Малыш сидел на кровати и смотрел на него, засунув руки в мокрые карманы. Один только раз он вздрогнул от озноба.
— Я всегда был против убийства, — продолжал Спайсер. — Мне наплевать, пусть все это знают. На что нужна месть? Подумаешь, благородство какое!
— Ты просто злишься и трусишь, — сказал Малыш.
Спайсер вышел на середину комнаты.
— Слушай, Пинки, — сказал он. — Будь благоразумен. — Он обратился ко всем: — Будьте благоразумны.
— А ведь кое в чем он прав, — неожиданно вставил Кьюбит. — Нам повезло, что все мы так выскочили. Незачем привлекать к себе внимание. Лучше на время оставить Бруера и Тейта в покое.
Малыш встал. К его мокрому костюму прилипло несколько крошек.
— Ты готов, Дэллоу? — спросил он.
— На все, что ты скажешь, Пинки, — ответил Дэллоу, улыбаясь, как большая преданная собака.
— Куда ты идешь, Пинки? — спросил Спайсер.
— Хочу сходить к Бруеру.
Кьюбит сказал:
— Ты ведешь себя так, как будто мы убили Хейла в прошлом году, а не на прошлой неделе. Нам надо быть осторожными.
— Это дело конченное, — сказал Малыш — Вы слышали заключение суда. Он умер своей смертью, — добавил он, глядя в окно на затихающую грозу.
— А ты забыл об этой девчонке из кафе Сноу? Из-за нее нас могут повесить.
— Девчонку я беру на себя. Она ничего не скажет.
— Ты женишься на ней, что ли? — спросил Кьюбит. Дэллоу засмеялся.
Малыш вынул руки из карманов и сжал их так, что побелели костяшки.
— Кто говорит, что я женюсь на ней? — спросил он.
— Спайсер, — ответил Кьюбит.
Спайсер попятился от Малыша.
— Слушай, Пинки, — сказал он, — я подумал об этом только потому, что тогда она стала бы безопасной. Жена не имеет права давать показания.
— Мне не нужно жениться на этой никудышной девчонке, чтобы сделать ее безопасной. Как нам сделать безопасным тебя, Спайсер? — Он провел языком по сухим потрескавшимся губам. — Если для этого достаточно полоснуть бритвой…
— Это была просто шутка, — вмешался Кьюбит. — Не надо принимать это всерьез. Ты шуток не понимаешь, Пинки.
— Ты думаешь, это было бы забавно, а? Чтобы я женился, да еще на такой паршивой девчонке? Ха, ха, — засмеялся он каркающим смехом. — Придется мне кое-чему научиться. Пошли, Дэллоу.
— Подожди до утра, — сказал Кьюбит. — Подожди, пока вернутся остальные ребята.
— Ты что, тоже дрейфишь?
— Ты вот не веришь, Пинки. Но мы должны действовать полегоньку.
— Ты со мной, Дэллоу? — спросил Малыш.
— Я с тобой, Пинки.
— Тогда пошли, — сказал Малыш.
Он направился к умывальнику и открыл маленькую дверцу, за которой стоял ночной горшок. Он пошарил за горшком и вытащил тоненькое лезвие, такое, каким женщины подбривают себе брови, но с одного края затупленное и обернутое изоляционной лентой. Он сунул его под длинный ноготь большого пальца, единственный ноготь, который не был у него обкусан, и натянул перчатку.
— Через полчаса мы вернемся с деньгой, — сказал он, вышел из комнаты, хлопнув дверью, и спустился по лестнице пансиона Билли. Холод от мокрой одежды проникал до самых костей, лицо сморщилось от озноба, узкие плечи вздрагивали. Он бросил через плечо шагавшему за ним Дэллоу:
— Мы пойдем к Бруеру. Довольно будет проучить его одного.
— Как знаешь, Пинки, — ответил Дэллоу.
Дождь перестал; был отлив, и мелкое море отступало вдали от песчаной отмели. Где-то часы пробили полночь. Дэллоу вдруг захохотал.
— Что это тебя разбирает, Дэллоу?
— Я вот о чем думаю, — ответил Дэллоу. — Ты мировой парень, Пинки. Кайт правильно сделал, что принял тебя. Ты идешь напролом, Пинки.
— Ты молодец, — сказал Пинки, глядя вперед; лицо его передергивалось от озноба.
Они прошли мимо «Космополитена», мимо фонарей, горевших там и здесь на огромной набережной, к башенкам, выделявшимся на фоне быстро бегущих облаков. Когда они проходили мимо кафе Сноу, там погасло последнее окно. Они повернули на Олд-Стейн. У Бруера был дом возле трамвайной линии на Льюис-роуд, почти под железнодорожным мостом.
— Он уже лег спать, — сказал Дэллоу.
Пинки позвонил, не отнимая пальца от кнопки. По обеим сторонам дороги тянулись ряды низеньких, закрытых ставнями, лавочек; по безлюдному шоссе, звеня и качаясь, прошел пустой трамвай с надписью «В парк»; пассажиров в нем не было, кондуктор дремал на одной из скамеек, крыша блестела от ливня. Пинки все держал палец на кнопке звонка.
— Почему Спайсер сказал это… о том, что я женюсь? — спросил Малыш.
— Он просто подумал, что это заткнет ей глотку, — ответил Дэллоу.
— Такие, как она, меня не волнуют, — сказал Малыш, нажимая на кнопку звонка.
На лестнице зажегся свет, скрипнула оконная рама, и чей-то голос окликнул:
— Кто это?
— Это я, — ответил Малыш, — Пинки.
— Что тебе надо? Почему ты не мог прийти утром?
— Мне нужно поговорить с тобой, Бруер.
— Какие это у нас срочные разговоры, Пинки? Неужели нельзя подождать до утра?
— Открывай-ка лучше, Бруер. Ты же не хочешь, чтобы сюда явилась вся банда.
— Старуха ужасно больна, Пинки. Я не хочу ее тревожить. Она заснула. Не спала три ночи.
— Так это ее разбудит, — ответил Малыш, держа палец на кнопке звонка.
Через мост медленно проехал товарный поезд, дым от него заволок Льюис-роуд.
— Отпусти звонок, Пинки, я открою.
Пока Пинки ждал, его пробирала дрожь; он засунул руку в перчатке глубоко в мокрый карман. Бруер отворил дверь; это был тучный пожилой человек в грязной белой пижаме. Нижняя пуговица была оторвана, и из-под куртки виднелся толстый живот с глубоко ушедшим пупом.
— Входи, Пинки, — сказал он, — только тихонько. Старуха совсем плоха. Я с ней вконец измучился.
— Поэтому ты и не заплатил свой взнос, Бруер? — спросил Малыш.
Он презрительно осмотрел узкую переднюю — ящик от устриц, превращенный в стойку для зонтов, поеденная молью оленья голова, на один из рогов которой надет котелок, стальная каска, используемая как цветочный горшок. Кайт мог бы заполучить кого-нибудь побогаче. Бруер только недавно перестал принимать ставки на углах улиц и в барах. Мастер обжуливать клиентов. Нечего было и пытаться вытянуть больше десяти процентов с его выручки.
— Заходите и располагайтесь, — сказал Бруер. — Здесь тепло. Какая холодная ночь!
Даже дома, в пижаме, он оставался притворно веселым. Он был, как надпись на карточке, где помечают ставки на бегах: «Старая фирма. Вы можете доверять Биллу Бруеру». Он зажег газовый камин, включил торшер под красным шелковым абажуром с бахромой. Свет блеснул на посеребренной коробке для печенья, на свадебной фотографии в рамке.
— Хотите рюмочку виски? — предложил Бруер.
— Ты знаешь, я непьющий, — ответил Малыш.
— Ну, так Тэд выпьет, — сказал Бруер.
— Что ж, я могу выпить, — отозвался Дэллоу. Он усмехнулся и сказал: — Вот какое дело.
— Мы пришли за взносом, Бруер, — сказал Малыш.
Человек в белой пижаме нацедил содовой воды себе в стакан. Он повернулся к Пинки спиной и наблюдал за ним в зеркало над буфетом, пока они не встретились глазами.
— У меня что-то душа неспокойна, Пинки, — сказал он. — С тех самых пор, как пристукнули Кайта.
— А что? — спросил Малыш.
— Да вот что. Я все думаю, если ребята Кайта не могут защитить даже… — Он вдруг замолк и стал прислушиваться. — Что это, старуха? — Из комнаты наверху донесся слабый кашель. — Она проснулась, — сказал Бруер. — Мне нужно пойти поглядеть, что с ней.
— Оставайся здесь, — приказал Малыш, — поговорим.
— Ее надо повернуть на бок.
— Кончим, тогда и пойдешь.
Кашель все не прекращался. Было похоже, будто у какой-то машины никак не заведется мотор. Бруер с отчаянием проговорил:
— Будь человеком. Она ведь не знает, куда я девался. Я вернусь через минуту.
— Через минуту мы кончим разговор, — сказал Малыш. — Мы требуем только то, что нам положено. Двадцать фунтов.
— У меня дома нет денег. Честно.
— Ну так пеняй на себя.
Малыш сорвал перчатку с правой руки.
— Это правда, Пинки. Я вчера все отдал Коллеони.
— Господи Иисусе! А при чем тут Коллеони?
Бруер торопливо и с отчаянием продолжал, прислушиваясь к кашлю, доносившемуся сверху:
— Ну, посуди сам, Пинки, не могу же я платить вам обоим. Меня бы порезали, если бы я не заплатил Коллеони.
— Он в Брайтоне?
— Остановился в «Космополитене».
— А Тейт… Тейт тоже уплатил Коллеони?
— Конечно, Пинки. У Коллеони дело поставлено на широкую ногу.
На широкую ногу… Это звучало как обвинение, как напоминание о медной кровати в пансионе Билли, о крошках на матрасе.
— Ты что, думаешь, я конченый человек? — спросил Малыш.
— Послушай моего совета, Пинки, объединись с Коллеони.
Вдруг Малыш взмахнул рукой и полоснул лезвием бритвы, спрятанным у него под ногтем, по щеке Бруера. Хлынула кровь.
— Не надо, — крикнул Бруер, — не надо! — Он попятился к буфету, уронив коробку с печеньем. — У меня есть защитники. Поосторожнее. У меня есть защитники.
Дэллоу опять налил виски Бруера себе в стакан.
— Посмотри-ка на него, — сказал Малыш, указывая на Бруера. — У него есть защитники.
Дэллоу плеснул в стакан содовой воды.
— Может, хочешь еще? — спросил Малыш. — Это я только показал тебе, кто тебя защищает.
— Я не могу платить вам обоим, Пинки. Ради бога, отступись.
— Мы пришли за двадцатью фунтами, Бруер.
— Коллеони выпустит из меня кровь, Пинки.
— Можешь не беспокоиться. Мы защитим тебя.
«Кхе, кхе, кхе», — продолжала кашлять женщина наверху, а потом послышался тихий плач, как будто во сне хныкал ребенок.
— Она зовет меня, — сказал Бруер.
— Двадцать фунтов.
— Я не держу здесь деньги. Пусти меня, я схожу, принесу.
— Иди с ним, Дэллоу, — сказал Малыш. — Я подожду здесь.
Он сел на резной стул с прямой спинкой, какие бывают в столовых, и устремил взгляд на глухую улицу, на урны для мусора, стоявшие вдоль тротуаров, на широкую тень от железнодорожного моста. Он сидел совершенно спокойно, и по его серым, совсем стариковским глазам нельзя было прочесть того, что он чувствовал.
Поставлено широко… У Коллеони дело поставлено широко… Он знал, что никому в банде не мог доверять… кроме, пожалуй, Дэллоу. Это неважно. Никогда не ошибешься, если никому не будешь доверять. С урны для мусора на панель осторожно спустилась кошка: вдруг она остановилась, попятилась назад, и в полутьме ее агатовые глаза уставились на Малыша. Малыш и кошка, не шевелясь, глядели друг на друга, пока не вернулся Дэллоу.
— Деньги у меня, Пинки, — сказал Дэллоу.
Малыш повернул к нему голову и улыбнулся; вдруг лицо его сморщилось, и он два раза громко чихнул. Кашель наверху замер.
— Долго он будет помнить наше посещение, — сказал Дэллоу и добавил с тревогой: — Тебе надо выпить виски, Пинки. Ты простудился.
— Ничего со мной не будет. Я здоров, — ответил Малыш. Он встал. — Не будем терять тут время, уйдем, не прощаясь.
Малыш шел впереди посреди пустынной улицы, между двумя трамвайными линиями. Вдруг он спросил:
— Ты думаешь, я конченый человек, Дэллоу?
— Ты? — ответил Дэллоу. — Да ты что? Ты ведь только начинаешь.
Несколько минут они шагали молча; вода из водосточных труб капала на панель. Потом Дэллоу заговорил:
— Ты что, беспокоишься из-за Коллеони?
— Ничего я не беспокоюсь.
— Коллеони тебе в подметки не годится! — вдруг воскликнул Дэллоу. — «Космополитен»! — добавил он и сплюнул.
— Кайт думал, он занимается автоматами. А выходит — другое. Теперь Коллеони считает, что побережье освободилось. Вот он и выпускает щупальца.
— А он не боится, что с ним будет то же, что с Хейлом?
— Хейл умер своей смертью.
Дэллоу засмеялся.
— Скажи это Спайсеру.
Они повернули за угол к «Ройал Альбион», и море снова оказалось рядом… начался прилив… какое-то движение, плеск, темнота. Малыш вдруг обернулся и поднял глаза на Дэллоу… Он мог доверять Дэллоу… С чувством торжества и превосходства он дружелюбно посмотрел на некрасивое лицо с перебитым носом. Словно он был физически слабым, но хитрым школьником, который сумел привязать к себе самого сильного мальчика в школе, и тот стал ему беспредельно верен.
— Эх ты, простофиля, — сказал он и ущипнул Дэллоу за руку. Это было похоже почти на ласку.
В меблированных комнатах Билли до сих пор горел свет, и Спайсер ждал их в передней.
— Все в порядке? — спросил он тревожно. На его бледном лице вокруг рта и носа высыпали прыщи.
— А чего ты боялся? — спросил Малыш, поднимаясь по лестнице. — Мы принесли деньги.
Спайсер пошел за Малышом в его комнату.
— Сразу после того, как ты ушел, тебе звонили.
— Кто?
— Девушка, ее зовут Роз.
Малыш сел на кровать и стал развязывать башмаки.
— Что ей нужно? — спросил он.
— Она сказала, что пока вы с ней гуляли, кто-то ее спрашивал.
Малыш сидел спокойно с башмаком в руке.
— Пинки, — проговорил Спайсер, — это та самая девушка? Девушка из кафе Сноу?
— Конечно, та.
— Я подходил к телефону, Пинки.
— А она узнала твой голос?
— А мне откуда знать, Пинки?
— Кто ее спрашивал?
— Она не знает. Она сказала, что передает тебе это, потому что ты просил ее позвонить. Пинки, вдруг шпики уже что-то пронюхали?
— Ну, на это у них не хватит ума, — ответил Пинки. — Может, это кто-нибудь из ребят Коллеони хотел разведать насчет своего приятеля Фреда. — Он снял второй башмак. — Нечего тебе трусить, Спайсер.
— Ее спрашивала женщина, Пинки.
— Я не беспокоюсь. Фред умер своею смертью. Таково заключение дознания. Можешь забыть об этом. Теперь мы должны подумать о другом. — Он аккуратно поставил башмаки под кровать, снял пиджак, повесил его на медный шарик, снял брюки и лег поверх одеяла в трусах и рубашке. — Я думаю, Спайсер, тебе надо отдохнуть. У тебя вид совсем измотанный. Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь увидел тебя в таком состоянии. — Он закрыл глаза. — Иди, Спайсер, и успокойся.
— Если эта девушка когда-нибудь узнает, кто положил карточку…
— Она никогда не узнает. Выключи свет и убирайся.
Свет погас, а за окном, как лампа, появилась на небе луна и поплыла над крышами, отбрасывая тени от облаков на меловые холмы, освещая над Уайтхок-Боттом пустые белые трибуны ипподрома, похожие на камни Стоунхенджа,[7] сияя над морем, приливающим от Булони и плещущимся вокруг Дворцового мола. Она освещала и умывальник, и открытую дверцу, за которой стоял ночной горшок, и медные шарики по углам кровати.
2
Малыш лежал на постели. Чашка кофе стыла на умывальнике, постель была усыпана крошками от печенья. Он лизнул химический карандаш, углы его губ были выпачканы лиловым. Он написал: «Учтите наши предупреждения в моем последнем письме», — и в конце поставил: «П. Браун, секретарь. Защита букмекеров»… На умывальнике лежал конверт, адресованный мистеру Дж. Тейту; угол конверта был залит кофе. Окончив писать, Малыш опять положил голову на подушку и закрыл глаза. Он тотчас же заснул, как будто щелкнул затвор экспонометра при фотосъемке. У него не было сновидений. Сон его был просто отправлением физической потребности. Когда Дэллоу открыл дверь, он сразу проснулся.
— Ну? — спросил он, лежа неподвижно, совершенно одетый, среди крошек печенья.
— Тебе письмо, Пинки. Джуди принесла его наверх.
Малыш взял письмо.
— Какое шикарное письмо, Пинки, — заметил Дэллоу. — Понюхай его.
Малыш поднес к носу розоватый конверт. Он пах, как драже для освежения дыхания.
— Ты что, не можешь отшить эту шлюху? — спросил Малыш. — Если Билли узнает…
— Кто мог написать такое шикарное письмо, Пинки?
— Коллеони. Он хочет, чтобы я зашел поговорить с ним в «Космополитен».
— В «Космополитен», — с отвращением повторил Дэллоу. — Ты ведь не пойдешь, правда?
— Конечно, пойду.
— Не такое это место, где чувствуешь себя как дома.
— Шикарное, как его почтовая бумага, — заметил Малыш. — Стоит кучу денег. Он думает припугнуть меня.
— Может быть, нам лучше оставить Тейта в покое.
— Снеси мой пиджак вниз к Биллу. Скажи ему, чтобы он почистил его и отутюжил. Вычисти мне ботинки. — Он вытолкнул их ногой из-под кровати и сел. — Он хочет посмеяться над нами. — Малыш видел себя в зеркале, наклонно висящем над умывальником, но быстро отвел взгляд от отражения своих гладких, еще не знавших бритвы, щек, мягких волос, стариковских глаз; все это его не интересовало. Гордость не позволяла ему заботиться о своей внешности.
Поэтому он был совершенно спокоен и уверен в себе, когда немного спустя ждал Коллеони под куполом большого, освещенного сверху вестибюля; мимо него проходили молодые люди в свободных спортивных пальто, в сопровождении маленьких накрашенных существ, которые звенели, как хрусталь, когда до них дотрагивались, но казались острыми и жесткими, как жесть. Они ни на кого не смотрели, проносясь через вестибюль так же, как они проносились в гоночных машинах по Брайтон-роуд, заканчивающейся для них высокими стульями Американского бара в «Космополитене». Из лифта вышла тучная женщина в белых песцах; она посмотрела на Малыша, потом снова вошла в лифт и грузно поднялась наверх. Какая-то маленькая еврейка повертелась вокруг Малыша с вызывающим видом, затем села на диванчик и вместе с другой, такой же маленькой еврейкой, стала обсуждать его внешность. Мистер Коллеони шел к нему через целый акр пушистого ковра из гостиной в стиле Людовика XVI,[8] ступая на носки своих лакированных ботинок.
Коллеони, еврей небольшого роста, с аккуратным круглым животиком, был одет в серый двубортный пиджак; глаза его поблескивали, как изюминки. Волосы у него были жесткие и седые. Шлюхи на диванчике перестали болтать, когда он проходил, и внимательно на него посмотрели. При каждом его шаге слышалось легкое позвякивание — единственный звук в царившей вокруг тишине.
— Вы меня спрашивали? — сказал он.
— Это вы меня спрашивали, — ответил Малыш. — Я получил ваше письмо.
— Но, конечно, вы не мистер П.Браун? — спросил он, легким, растерянным движением разведя руки, и объяснил: — Я ожидал увидеть кого-нибудь гораздо старше.
— Вы хотели видеть меня, — повторил Малыш.
Глазки-изюминки окинули его взглядом: отпаренный костюм, узкие плечи, дешевые черные башмаки.
— Я думал, мистер Кайт…
— Кайт умер, — сказал Малыш, — вы же знаете.
— Я упустил это из вида, — ответил мистер Коллеони. — Ну, конечно, тогда дело другое…
— Вы можете говорить со мной вместо Кайта, — сказал Малыш.
Мистер Коллеони усмехнулся.
— Вряд ли это необходимо, — ответил он.
— А стоило бы, — возразил Малыш.
Из Американского бара доносились негромкие взрывы смеха и — динь, динь, динь — позвякивал лед. На пороге кабинета в стиле Людовика XVI появился мальчик-рассыльный. «Сэр Джозеф Монтегью, сэр Джозеф Монтегью», — прокричал он и прошел в маленькую гостиную в стиле Помпадур. Мокрое пятно около нагрудного кармана Малыша, куда не попал утюг Билли, медленно испарялось в теплом воздухе «Космополитена».
Мистер Коллеони вынул руку из кармана и быстро похлопал Малыша по плечу.
— Пойдемте со мной, — сказал он.
Он шел впереди, ступая на носки своих лакированных ботинок, мимо диванчика, где шептались маленькие еврейки, мимо столика, у которого какой-то человек говорил: «Я сказал ему, что не дам больше десяти тысяч», мимо старика, сидевшего с закрытыми глазами над остывающей чашкой чая. Мистер Коллеони посмотрел на него через плечо и любезно сказал:
— Обслуживание здесь уже не то, что было прежде.
Он заглянул в кабинет в стиле Людовика XVI. Там, среди множества китайских безделушек, женщина в розовом, со старомодной тиарой на голове, писала письмо. Мистер Коллеони не стал входить.
— Мы пойдем в такое место, где можно поговорить спокойно, — сказал он и, повернув обратно, все так же на цыпочках прошел через холл.
Старик уже открыл глаза и пробовал пальцем свой чай. Мистер Коллеони направился к позолоченной решетке лифта.
— Номер пятнадцатый, — сказал он. Они, словно ангелы, стали возноситься вверх, к тишине и покою. — Хотите сигару? — спросил мистер Коллеони.
— Я не курю, — ответил Малыш.
Снизу, из Американского бара, донесся последний взрыв смеха, послышался последний слог имени, произнесенного мальчиком-рассыльным, вернувшимся из маленькой гостиной в стиле Помпадур: «…гью». Дверцы лифта раздвинулись, и они очутились в обитом чем-то мягким, непроницаемом для звука коридоре. Мистер Коллеони остановился и закурил сигару.
— Разрешите взглянуть на вашу зажигалку, — сказал Малыш.
Маленькие острые глазки мистера Коллеони тускло поблескивали в рассеянном электрическом свете невидимых ламп. Он подал Малышу зажигалку. Тот повертел ее и посмотрел на пробу.
— Настоящее золото, — сказал он.
— Я люблю хорошие вещи, — ответил мистер Коллеони, отпирая дверь. — Присаживайтесь.
Кресла, величественные троны, обитые красным бархатом, украшенные коронами из золотого и серебряного шитья, стояли напротив широких окон, выходивших на море, и балкончиков с чугунными решетками.
— Хотите выпить?
— Я не пью, — ответил Малыш.
— Ну, так кто же вас послал? — спросил мистер Коллеони.
— Никто меня не посылал.
— Я имею в виду, кто возглавляет вашу организацию с тех пор, как нет Кайта?
— Я возглавляю ее, — ответил Малыш.
Мистер Коллеони вежливо подавил улыбку, постукивая золотой зажигалкой по ногтю большого пальца.
— Что случилось с Кайтом?
— Вы же знаете эту историю, — сказал Малыш. Он смотрел на наполеоновские короны, на серебряное шитье. — Зачем вам подробности? Этого не случилось бы, если бы нам не стали поперек дороги. Один журналист думал, что сумеет припугнуть нас.
— Что это за журналист?
— Можете прочесть материалы дознания, — ответил Малыш, глядя в окно на бледное небо, где скользили несколько светлых облаков.
Коллеони посмотрел на пепел своей сигары, который был уже длиною в полдюйма. Он откинулся в кресле и удовлетворенно скрестил коротенькие толстые ножки.
— Кайта я не защищаю, — сказал Малыш. — Он нарушил границы.
— Вы хотите сказать, что вы не заинтересованы в автоматах? — спросил Коллеони.
— Я хочу сказать, — продолжал Малыш, — что переходить границы опасно.
Легкий запах мускуса поплыл по комнате от носового платка мистера Коллеони, лежавшего в нагрудном кармане его пиджака.
— Вам может понадобиться защита, — сказал Малыш.
— Я располагаю всей той защитой, которая мне нужна, — ответил Коллеони.
Он закрыл глаза; ему было уютно: огромный дорогой отель окружал его, он был дома. Малыш сидел на краешке стула, потому что он не любил распускаться в деловые часы; он, а не Коллеони, выглядел чужим в этой комнате.
— Вы напрасно теряете время, дитя мое, — сказал Коллеони. — Вы не можете причинить мне никакого вреда. — Он тихо засмеялся. — Но если вы хотите получить работу, приходите ко мне. Я люблю напористых. Думаю, что найду для вас место. Миру нужны энергичные молодые люди.
Рука с сигарой выразительно двигалась, как бы рисуя карту мира, такого, как себе представлял его Коллеони: множество маленьких электрических часов, проверяемых по Гринвичу, кнопки на письменном столе, роскошный номер во втором этаже, оплата по счетам, донесения агентов, серебро, столовые приборы, зеркала…
— Увидимся на бегах, — сказал Малыш…
— Вряд ли, — ответил Коллеони. — Я не был на бегах… дайте-как подумать… наверно, лет двадцать.
Вертя в пальцах свою золотую зажигалку, он, казалось, хотел подчеркнуть, что их миры не имели между собой ничего общего: уик-энд в «Космополитене», портативный диктофон у письменного стола не имели никакого отношения к Кайту, наспех зарезанному бритвами на железнодорожной платформе, к грязной руке на фоне неба, сигнализирующей букмекерам с трибуны, к жаре, к пыли, поднимающейся над местами за полкроны, к запаху бутылочного пива.
— Я ведь деловой человек, — мягко объяснил Коллеони, — мне незачем присутствовать на бегах. И что бы вы ни пытались сделать моим людям, вы не сможете повредить мне. Сейчас у меня двое в больнице. Это ничего. Уход за ними самый лучший. Цветы, виноград… я могу себе это позволить. Мне нечего беспокоиться. Я деловой человек. — Коллеони продолжал пространно и благодушно: — Вы мне нравитесь. Вы многообещающий юноша. Поэтому я говорю с вами как отец. Вы не можете повредить такому предприятию, как мое.
— Я могу повредить вам, — сказал Малыш.
— Игра не стоит свеч. Вам не удастся состряпать ни одного фальшивого алиби. Я деловой человек. — Глаза-изюминки заблестели в солнечных лучах, заглянувших в окно сквозь цветы в вазе и упавших на пушистый ковер. — В этой комнате обычно останавливался Наполеон Третий,[9] — сказал он. — И Евгения.[10]
— А кто она такая?
— Ну, одна заграничная бабенка, — уклончиво ответил Коллеони.
Он сорвал цветок и воткнул его себе в петлицу; и что-то похотливое глянуло из его черных, похожих на пуговки, глаз, что-то, напоминающее о гареме.
— Я пошел, — сказал Малыш. Он встал и направился к двери.
— Вы меня поняли, правда? — спросил Коллеони, не поднимаясь с кресла; он держал руку очень спокойно, так что пепел его сигары, теперь образующий длинную палочку, не отваливался. — Бруер жаловался. Не делайте этого больше. И Тейт… оставьте ваши шутки с Тейтом.
Его старое библейское лицо было почти бесстрастно, он только слегка забавлялся и был настроен в меру дружелюбно; но вдруг в этой роскошной комнате в викторианском стиле что-то переменилось: этот человек с золотой зажигалкой в кармане и ящиком для сигар на коленях стал казаться властелином мира, всего здешнего мира — кассовых аппаратов и полисменов, проституток, парламента и законов, которые решают: это хорошо, а это дурно.
— Я прекрасно понял, — сказал Малыш. — Вы думаете, что мы слишком ничтожны для вас.
— У меня работает великое множество людей, — ответил Коллеони.
Малыш закрыл за собой дверь; развязавшийся шнурок хлопал по его башмаку все время, пока он шел по коридору; огромный холл был почти пуст, только какой-то человек в широких гольфах ждал девушку. Весь внешний мир воплотился в Коллеони. Влажное пятно, куда не попал утюг, все еще виднелось на груди Малыша.
Чья-то рука тронула его за плечо. Малыш обернулся и узнал человека в котелке. Он настороженно кивнул.
— Привет.
— У Билли мне сказали, что ты пошел сюда, — ответил человек в котелке.
Сердце у Малыша замерло: почти впервые он представил себе, что по закону его могут повесить, вынести во двор и бросить в яму, закопать в извести, положить конец беспредельному будущему…
— Я вам нужен?
— Да.
Он подумал: Роз, эта девчонка, кто-то у нее выпытывал. Его мысль метнулась назад — он вспомнил, как она застала его, когда он шарил рукой под скатертью. Он мрачно усмехнулся и сказал:
— Ну что ж, во всяком случае, это не вызов на заседание «Большой четверки».
— Пойдем в участок?
— А ордер имеется у вас?
— Да это Бруер пожаловался, что ты порезал его. Ты оставил ему хороший шрам.
Малыш рассмеялся.
— Бруера? Я? С чего бы я стал его трогать?
— Пойдешь к инспектору?
— Конечно, пойду.
Они вышли на набережную. Уличный фотограф увидел их и снял колпачок с объектива. Малыш, проходя мимо, закрыл лицо рукой.
— Вы должны запретить такие вещи, — сказал он. — Очень мне надо, чтобы на молу торчала открытка; мы с вами идем в участок.
— Как-то в городе поймали убийцу с помощью такого моментального снимка.
— Читал я об этом, — сказал Малыш и умолк. «Это дело Коллеони, — подумал он, — он хочет показать себя, он подговорил Бруера подать жалобу».
— Говорят, что у Бруера жена совсем плоха, — мягко заметил сыщик.
— Да? — сказал Малыш. — Я не знал.
— Ты, наверно, подготовил алиби?
— Откуда я знаю? Я же не знаю, что он там говорит, в котором часу я его порезал. Ни один ловкач не может иметь алиби на каждую минуту дня.
— Ты хитрый паренек, — сказал сыщик, — но сейчас тебе нечего волноваться. Инспектор хочет с тобой по-дружески побеседовать, вот и все.
Он первый прошел через кабинет. За письменным столом сидел пожилой человек с усталым лицом.
— Садись, Браун, — предложил он.
Он открыл портсигар и пододвинул его к юноше.
— Я не курю, — сказал Малыш. Он сел и тревожно посмотрел на инспектора. — Вы собираетесь начать против меня дело?
— Никакого дела нет, — сказал инспектор. — Бруер не так уж серьезно на это смотрит. — Он казался более усталым, чем когда-либо. — Давай поговорим начистоту. Мы знаем друг о друге больше, чем нужно. Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела с Бруером. У меня есть занятия поважнее, чем следить за тем, чтобы вы с Бруером не… ссорились. Но ты не хуже меня знаешь, что Бруер не пришел бы сюда жаловаться, если бы его не заставили это сделать.
— Вы, конечно, уже до всего додумались, — сказал Малыш.
— Если бы его не заставил сделать это кто-то, кто не боится твоей банды.
— От вас, шпиков, ничего не скроешь, — заметил Малыш с насмешливой гримасой.
— На той неделе начинаются бега, и я не хочу, чтобы крупные банды затеяли драку здесь, в Брайтоне. Мне наплевать на то, что вы режете друг друга втихую, я не дам и пенни за вашу негодную шкуру, но когда начинают драться две банды, могут пострадать люди, к которым надо относиться бережно.
— Кого вы имеете в виду? — спросил Малыш.
— Я имею в виду приличных, ни в чем не повинных людей. Бедных людей, приехавших, чтобы поставить шиллинг на тотализатор. Клерков, поденщиц, моряков. Людей, которые вовсе не должны умирать из-за тебя… или из-за Коллеони.
— К чему вы клоните? — спросил Малыш.
— А вот к чему. Ты еще молод для своего дела, Браун. Где тебе тягаться с Коллеони. Если будет заваруха, я рухну, словно тонна кирпича, и придавлю вас обоих… но алиби окажется у Коллеони. Послушайся моего совета. Выметайся из Брайтона.
— Здорово, — сказал Малыш. — Шпик работает на Коллеони.
— Это частный и неофициальный разговор, — возразил инспектор. — Сейчас я отношусь к тебе по-человечески. Мне наплевать, если порежут тебя или порежут Коллеони, но я не собираюсь допускать, чтобы пострадали невинные люди, раз я могу этому помешать.
— Вы думаете, я конченый человек? — спросил Малыш. Он беспокойно усмехнулся, глядя в сторону, на стены, где висели объявления, разрешения для владельцев собак, для владельцев огнестрельного оружия, оповещения о найденных утопленниках. Со стены неестественным, остекленевшим взглядом на него смотрело лицо мертвеца. Растрепанные волосы. Шрам у рта.
— Вы думаете, при Коллеони в Брайтоне будет спокойнее?
Перед его глазами висел перечень: «Одни никелированные часы, жилет и брюки из серого сукна, рубашка в голубую полоску, трикотажные кальсоны».
— Ну, так как?
— Это ценный совет, — сказал Малыш, усмехаясь полированному столу, пачке сигарет «Плейерз», хрустальному пресс-папье. — Я должен обдумать его. Я еще слишком молод, чтобы идти в отставку.
— Если хочешь знать, ты слишком молод, чтобы заниматься рэкетом.
— Значит, Бруер не подал жалобы?
— Но он и не побоялся бы подать. Я отговорил его. Я хотел побеседовать с тобой начистоту.
— Ладно, — сказал Малыш, вставая, — может, я к вам еще зайду, а может, и нет.
Он опять усмехнулся, проходя через кабинет, но на обеих его скулах выступили красные пятна. В жилах его будто тек яд, хотя он скрывал это под усмешкой. Его оскорбили. Он еще покажет себя миру. Они думают, если ему только семнадцать… Он расправил узкие плечи при мысли, что он уже убил человека, а у этих шпиков, которые считают себя очень умными, не хватает соображения, чтобы уличить его. Он влачил за собой ореол собственной славы: его с раннего детства окружал ад.[11] Он был готов к новым убийствам.
Глава третья
1
Айда Арнольд проснулась и села на кровати в комнате пансиона. Несколько мгновений она не могла понять, где находится. Голова у нее болела после кутежа в баре Шерри. Она понемногу пришла в себя, увидев на полу тяжелый кувшин, таз с мыльной водой, в которой она наскоро помылась, пунцовые розы на обоях, фотографию каких-то молодоженов… Она вспомнила, как Фил Коркери мялся на улице у входной двери, как он чмокнул ее в губы и быстро умчался по бульвару, словно это было все, на что он мог рассчитывать; а море тем временем отливало от берега, Айда осмотрелась: при утреннем свете комната выглядела не такой приятной, как вечером, когда она сняла ее. «Но здесь уютно, — подумала она удовлетворенно, — мне здесь нравится».
Солнце сияло. В Брайтоне было чудесно. На полу в коридоре у ее комнаты скрипел песок; она чувствовала его под подошвами туфель все время, пока шла по лестнице; в передней стояли детское ведерко, две лопатки, а у дверей вместо барометра висели длинные морские водоросли. Вокруг лежало несколько пар пляжных туфель, а из столовой доносился капризный детский голосок, без конца повторявший:
— Я не хочу играть в песок. Я хочу в кино. Я не хочу играть в песок.
В час она должна была встретиться с Филом Коркери в кафе Сноу. До этого ей нужно было кое-что сделать; приходилось экономить, нельзя было тратить слишком много на пиво. Жить в Брайтоне было недешево, а она не собиралась брать деньги у Коркери, у нее была совесть, у нее были свои правила, и если она брала деньги, она что-то давала взамен. Все свои надежды Айда возлагала на Черного Мальчика; нужно было поскорее заняться этим, прежде чем уменьшится выплата; это были материальные ресурсы ее войны; и она пошла через Кемп-Таун к единственному букмекеру, которого знала: к старому Джиму Тейту, к Честному Джиму, с трибуны, где места стоили полкроны.
Как только она вошла в его контору, он, переврав ее фамилию, закричал:
— А вот и Айда. Садитесь, миссис Тернер. — Он протянул ей через стол коробку «Голд флейкс». — Закурите сигару.
Он был немного, выше среднего роста. Голос его после двадцати лет работы на бегах мог издавать только громкие и хриплые звуки. Надо было смотреть на него с другого конца бинокля, чтобы поверить, что он такой красивый и здоровый малый, каким хотел казаться. Вблизи же видны были толстые синие жилы на лбу, красная паутина на белках глаз.
— Так что же, миссис Тернер… Айда, что вас интересует?
— Черный Мальчик, — ответила Айда.
— Черный Мальчик, — повторил Джим Тейт. — Это десять к одному.
— Двенадцать к одному.
— Выплата уменьшилась. На этой неделе на Черного Мальчика поставили целую кучу денег. Вы и десять-то к одному можете получить только от такого старого приятеля, как я.
— Ладно, — сказала Айда. — Я поставлю двадцать пять фунтов. И фамилия моя не Тернер, а Арнольд.
— Двадцать пять фунтов. Солидная ставка, миссис Какбы-вас-там-ни-звали.
Он послюнявил палец и начал считать бумажки. Просчитав половину, он остановился — за письменным столом он был похож на большую жабу — и прислушался. Через открытое окно доносился шум: шаги по камню, голоса, вдалеке звучала музыка, звонили звонки, неумолчно роптал Ла-Манш. Он сидел не шевелясь, держа в руке половину ассигнаций. Вид у него был встревоженный. Зазвонил телефон. Он не брал трубку секунды две, устремив на Айду взгляд своих испещренных красными жилками глаз; потом снял трубку.
— Алло, алло. У телефона Джим Тейт.
Телефон был старомодный. Тейт плотно прижал трубку к уху и сидел неподвижно; чей-то голос в трубке жужжал, как пчела.
Держа одной рукой трубку у уха, Джим Тейт другой собрал ассигнации и выписал квитанцию. Он хрипло сказал:
— Хорошо, мистер Коллеони. Я сделаю это, мистер Коллеони, — и положил трубку.
— Вы написали Черный Пес, — сказала Айда.
Он посмотрел на нее через стол. Прошло несколько секунд, пока он понял, что она сказала.
— Черный Пес, — повторил он и засмеялся хриплым, глухим смехом. — О чем это я думал? Черный Пес, в самом деле.
— Вот что значат заботы, — заметила Айда. — Папу римского они не оставляют даже во сне.
— Ну, у нас всегда есть о чем беспокоиться, — пролаял он с напускным добродушием.
Снова зазвонил телефон. Джим Тейт посмотрел на него так, как будто телефон мог его ужалить.
— Вы заняты, — сказала Айда. — Я пойду.
Выйдя на улицу, она осмотрелась, пытаясь разгадать причину беспокойства Джима Тейта, но ничего не заметила: вокруг был только Брайтон, занятый своими делами в этот погожий день.
Айда зашла в бар и выпила рюмку портвейна Доуро. Он был сладкий, густой и теплый. Она взяла еще рюмку.
— Кто такой мистер Коллеони? — спросила она бармена.
— Вы не знаете, кто такой Коллеони?
— Я только что впервые о нем услышала.
Бармен сказал:
— Он прибирает к рукам предприятие Кайта.
— А кто такой Кайт?
— Вы хотите сказать, кто был Кайт? Вы читали в газетах о том, что его укокошили на вокзале Сент-Пэнкрас?
— Нет.
— Не думаю, что они сделали это умышленно, — продолжал бармен. — Они хотели только порезать его, да бритва соскочила.
— Выпейте со мной.
— Спасибо. Выпью рюмку джина.
— За ваше здоровье.
— За ваше здоровье.
— Я ни о чем этом не слышала, — сказала Айда. Она посмотрела через плечо на часы; ей нечего было делать до часу; она могла выпить третью рюмку и немного поболтать.
— Дайте мне еще один портвейн. Когда все это случилось?
— Да еще до Троицы.
Слово «Троица» теперь всегда резало ей ухо — оно значило для нее очень многое: затертую десятишиллинговую бумажку, белые ступени, ведущие в дамский туалет, слово «трагедия», напечатанное крупным шрифтом.
— Ну, а что же товарищи Кайта? — спросила она.
— Вряд ли они уцелеют без Кайта. У банды нет вожака. Ну, у них теперь верховодит семнадцатилетний мальчишка. А что такой мальчишка может сделать против Коллеони? — Он перегнулся через стойку и прошептал: — Сегодня ночью он порезал Бруера.
— Кто? Коллеони?
— Нет, этот мальчишка.
— Я не знаю, кто такой Бруер, но, видно, здесь заварилась каша.
— Подождите, начнутся бега, — сказал бармен. — Вот когда пойдет заваруха. Коллеони хочет царить безраздельно. Быстро, посмотрите в окно — и вы его увидите.
Айда подошла к окну и выглянула на улицу, но опять увидела только знакомый ей Брайтон; она не замечала ничего другого даже и в тот день, когда умер Фред; две девушки в пляжных костюмах шли под руку, автобусы ехали в Роттингдин, какой-то человек продавал газеты, шла женщина с корзинкой для провизии, юноша в потертом костюме, прогулочный катер отходил от мола, длинного, светлого и прозрачного, похожего на креветку на солнце.
— Я никого не вижу, — сказала она.
— Теперь он уже прошел.
— Кто? Коллеони?
— Нет, мальчишка.
— А, вот этот паренек, — сказала Айда, возвращаясь к стойке и к своему портвейну.
— Пари держу, что он сейчас здорово озабочен.
— Такой мальчишка не должен был бы вмешиваться в подобные дела, — сказала Айда. — Если бы он был моим сыном, уж я бы выбила из него дурь. — И она хотела уже забыть о мальчике, переключить свое внимание, отвести свою мысль в сторону, словно ковш большого стального экскаватора, но вдруг вспомнила; лицо в баре, замеченное за плечом Фреда, звук разбитого стекла… «Этот джентльмен заплатит»… У нее была великолепная память. — Вы когда-нибудь встречали этого Колли Киббера? — спросила она.
— Не приходилось, — ответил бармен.
— Странный это случай с его смертью. Наверно, об этом много болтали.
— Я ничего не слышал, — сказал бармен. — Он был не из Брайтона. Никто не знал его здесь в округе. Он был чужой.
Чужой — она не понимала смысла этого слова: на свете не было места, где она чувствовала бы себя чужой. Вертя в пальцах рюмку с остатками дешевого портвейна, она, ни к кому не обращаясь, заметила:
— Жизнь — хорошая штука.
Все вокруг было ей близко и понятно: зеркало с рекламой за спиной бармена посылало ей ее собственное изображение; девушки со смехом шли через набережную с пляжа; на пароходе, уходящем в Булонь, звучал гонг — жизнь была хороша. Только мрак, в котором двигался Малыш, уходя из пансиона Билли, возвращаясь обратно в пансион Билли, был ей чужд; она не испытывала жалости к тому, чего не могла понять.
— Ну, мне пора, — сказала она.
Ей было еще рано, но она хотела получить ответ на некоторые вопросы, прежде чем придет мистер Коркери. Она обратилась к первой попавшейся официантке со словами:
— Это вам здесь так повезло?
— Не знаю, в чем, — холодно ответила официантка.
— Я думала, вы нашли карточку… карточку Колли Киббера.
— А, так это вон та, — презрительно сказала официантка, вскинув напудренный острый подбородок.
Айда пересела за другой столик.
— Ко мне сюда должен прийти приятель, — сказала она. — Мне надо подождать его, но я попробую что-нибудь выбрать. Картофельный пирог с мясом хороший?
— С виду он чудесный.
— Вкусный и подрумяненный сверху?
— Он просто картинка.
— Как вас зовут, милочка?
— Роз.
— Так, значит, это вам посчастливилось найти карточку?
— Это они вам сказали? — спросила Роз. — Они не могут мне этого простить. Считают, что я не заслужила такого счастья на второй день работы.
— На второй день? Ну, тогда вам действительно повезло. Этот день вы вовек не забудете.
— Конечно, — сказала Роз, — я всегда буду помнить его.
— Мне не следует задерживать вас разговорами.
— Пожалуйста, если вам угодно. Только сделайте вид, будто вы что-то заказываете. Сейчас мне больше некого обслуживать, а я прямо с ног валюсь из-за этих подносов.
— Вам не нравится ваша работа?
— Нет, почему же? — быстро возразила Роз. — Место хорошее. Я бы не променяла его ни на что другое. Я не хотела бы служить в гостинице или у Чессмана, даже если бы мне платили вдвое больше, чем здесь. Здесь так красиво, — сказала она, глядя на пустыню выкрашенных в зеленый цвет столов, на бледно-желтые нарциссы, на бумажные салфетки, на бутылочки с соусом.
— Вы здешняя?
— Я всегда жила здесь… всю жизнь, — ответила Роз. — На Нелсон-Плейс. Эта работа для меня выгодна, потому что мы здесь и ночуем. Нас только трое в комнате, и у нас два зеркала.
— Сколько вам лет?
Роз доверчиво наклонилась к Айде через стол.
— Шестнадцать, — ответила она. — Я от них это скрываю. Говорю, что мне семнадцать. Они бы сказали, что я слишком молодая, если бы узнали. Отослали бы меня… — Она запнулась и долго не могла выговорить этого мрачного слова. — Домой.
— Вы, наверное, обрадовались, — сказала Айда, — когда нашли эту карточку.
— Ну конечно!
— Как вы думаете, милочка, могу я здесь выпить стакан крепкого пива?
— Придется послать за ним, — ответила Роз. — Если вы дадите мне деньги…
Айда раскрыла свой кошелек.
— Наверное, вы никогда не забудете этого маленького человечка.
— Да ведь он был не такой уж… — начала Роз и вдруг запнулась, устремив взгляд в окно кафе Сноу, через набережную на мол.
— Он был не такой уж?… — повторила Айда. — Что вы хотели сказать?
— Не помню, — ответила Роз.
— Я вас спросила, забудете ли вы когда-нибудь этого маленького человечка?
— Вылетело из головы, — сказала Роз. — Я пойду вам за пивом. Неужели он стоит столько… стакан крепкого пива? — спросила она, взяв со стола две монеты по шиллингу.
— Одна из них вам, милочка, — ответила Айда. — Я любопытная. Ничего не могу с собой поделать. Такой уж у меня характер. Скажите, как он выглядел?
— Не знаю. Не могу вспомнить. У меня совсем нет памяти на лица.
— Конечно, милочка, а то бы вы его окликнули. Вы ведь, наверное, видели его фото в газетах.
— Я и сама знаю, что глупо поступила.
Она стояла бледная и решительная, с виноватым видом, затаив дыхание.
— Тогда вы получили бы десять фунтов, а не десять шиллингов.
— Я пойду вам за пивом.
— Пожалуй, я лучше подожду. Пускай за пиво заплатит тот джентльмен, который угощает меня завтраком. — Айда взяла обратно обе монеты, и глаза Роз проследили за ними до сумочки, куда она их спрятала. — Деньги целее будут, — тихо сказала Айда, внимательно разглядывая худое лицо, большой рот, слишком далеко расставленные глаза, бледность, несформировавшуюся фигуру, и, вдруг снова став шумной и веселой, она помахала рукой и громко позвала: — Фил Коркери, фил Коркери!
Коркери был одет в блейзер с какой-то эмблемой на кармане и в рубашку с крахмальным воротничком. Он выглядел так, как будто нуждался в дополнительном питании, как будто был изнурен страстями, удовлетворить которые у него не хватало мужества.
— Не хмурься, Фил. Что ты будешь есть?
— Бифштекс и почки, — мрачно сказал Коркери. — Девушка, мы хотим выпить.
— За пивом придется послать.
— Хорошо, тогда принесите две большие бутылки.
Когда Роз вернулась, Айда представила ее Коркери.
— Это та девушка, которой так повезло. Она нашла карточку.
Роз попятилась, но Айда задержала ее, цепко ухватившись за рукав черного бумажного платья.
— А много он ел? — спросила Айда.
— Я ничего не помню, — ответила Роз, — право, ничего.
Их лица, слегка раскрасневшиеся от теплого летнего солнца, казались ей светофорами, предупреждающими об опасности.
— Как он выглядел? Было похоже, что он скоро умрет? — спросила Айда.
— Как я могу это сказать? — ответила Роз.
— Ведь вы, наверное, разговаривали с ним?
— Я с ним не разговаривала. Я совсем замоталась. Я только сунула ему пиво Басс и булочку с колбасой и больше его не видела.
Она вырвала из руки Айды свой рукав и убежала.
— Не много ты от нее узнаешь, — сказал Коркери.
— Ну нет, я узнала даже больше, чем надеялась.
— И что же тут странного?
— Как раз то, что сказала эта девушка.
— Немного она сказала.
— Она сказала достаточно. Я всегда чувствовала, что здесь что-то не так. Видишь ли, он говорил мне в такси, что умирает, и на минуту я ему поверила: меня прямо трясло, пока он не признался, что это выдумки.
— Да он же в самом деле умирал.
— На он имел в виду не такую смерть. Я это нутром чувствую.
— Как бы то ни было, установлено, что он умер своею смертью. И я не вижу, о чем тут беспокоиться. Сегодня чудесный день, Айда. Давай покатаемся на «Брайтонской красавице» и обсудим все это. На море всегда открыто, без перерыва. В конце концов, если и вправду он покончил с собой, это уж его дело.
— Если он покончил с собой, — возразила Айда, — то, значит, его довели до этого. Я слышала, что сказала девушка, и теперь я знаю: это не он оставил здесь карточку.
— Боже милостивый! — воскликнул Коркери. — Что это ты придумала? Не говори таких вещей. Это опасно.
Он сделал нервный глоток, и адамово яблоко заходило вверх и вниз под кожей его птичьей шеи.
— Это, правда, опасно, — сказала Айда, глядя на худенькую шестнадцатилетнюю фигурку, затянутую в черное хлопчатобумажное платье, слыша, как — динь-динь-динь — звякал стакан на подносе, который несла нетвердая рука, — но для кого — это другой вопрос.
— Выйдем на солнце, — сказал Коркери. — Здесь не так уж тепло.
Он был без нижней сорочки, без галстука; ему было холодновато в рубашке без рукавов и блейзере.
— Я должна подумать, — повторила Айда.
— Я не стал бы ни во что вмешиваться, Айда. Какое тебе до него дело?
— До него никому нет дела, вот в чем беда, — ответила Айда. Она погрузилась в самые глубины своего сознания, в область воспоминаний, инстинктов, надежд, и вынесла из всего Этого единственную философию, которой она жила. — Я люблю честную игру, — сказала она. Произнеся эти слова, она воодушевилась и добавила с жестким прямодушием: — Око за око. Фил. Поможешь мне?
Адамово яблоко снова заходило. Солнце скрылось. Порыв сквозного ветра метнулся через вращающуюся дверь, и мистер Коркери почувствовал его на своей костлявой груди.
— Не знаю, что привело тебя к этой мысли, — сказал он, — но я за закон и порядок. Я буду с тобой. — Собственная отвага ударила ему в голову. Он положил руку ей на колено. — Для тебя я готов на все, Айда.
— После того, что она здесь говорила, остается только одно, — сказала Айда.
— Что же?
— Пойти в полицию.
* * *
Айда влетела в полицейский участок. Она улыбнулась одному, помахала рукой другому, хотя в жизни не встречалась ни с кем из них. Она была весела и решительна и в своем возбуждении увлекла за собой Фила.
— Мне надо видеть инспектора, — сказала она сержанту, сидевшему за письменным столом.
— Он сейчас занят, мадам; по какому вопросу хотите вы его видеть?
— Я могу подождать, — ответила Айда, усаживаясь возле вешалки с полицейскими плащами. — Садись, Фил. — Она улыбнулась всем уверенно, не стесняясь. — Бары откроются только в шесть. До тех пор нам с Филом делать нечего.
— По какому вопросу вы хотите видеть инспектора, мадам?
— Самоубийство под самым вашим носом, — ответила Айда, — а вы называете это естественной смертью.
Сержант уставился на нее, и Айда ответила ему таким же взглядом. Ее большие ясные глаза (легкие выпивки, которые она позволяла себе время от времени, на них не повлияли) не говорили ничего, не выдавали никаких тайн. Чувство товарищества, добродушие, веселость заслоняли ее тайны, как железные шторы заслоняют зеркальную витрину. Можно было только догадываться о товарах, лежавших там: солидные старомодные высококачественные товары — справедливость, око за око, закон и порядок, смертная казнь, время от времени немного развлечений, ничего грязного, ничего темного, ничего постыдного, ничего тайного.
— А вы меня не дурачите? — спросил сержант.
— Нет, мне сейчас не до этого, серж.
Он прошел в кабинет и закрыл за собой дверь, а Айда уселась поудобнее на скамейке, устроилась на ней, как дома.
— Здесь душновато, мальчики, — сказала она. — Что если открыть и другое окно? — И они послушно его открыли.
Сержант окликнул ее, стоя в дверях.
— Вы можете войти, — объявил он.
— Пойдем, Фил, — сказала Айда и потащила его с собой в крошечный узкий кабинет, где пахло политурой и рыбным клеем.
— Итак, — начал инспектор, — вы хотели рассказать мне о каком-то самоубийстве, миссис… — Он пытался спрятать за телефоном и книгой записей жестянку с фруктовыми леденцами.
— Арнольд, Айда Арнольд. Мне почему-то показалось, что это по вашей части, инспектор, — сказала она с едким сарказмом.
— Это вам муж?
— Нет, это приятель. Я просто хотела привести с собой свидетеля.
— А о ком же вы беспокоитесь, миссис Арнольд?
— Его фамилия Хейл. Фред Хейл. Простите, Чарлз Хейл.
— О Хейле нам все известно, миссис Арнольд. Он умер совершенно естественной смертью.
— Ну нет, — возразила Айда, — вам не все известно, Вам не известно, что я была с ним за два часа до того, как его нашли.
— Вы не были на дознании?
— Я не знала, что это его нашли мертвым, пока не увидела его фото.
— А почему вы думаете, что здесь что-то неладно?
— Слушайте, — сказала Айда. — Он был со мной и был чем-то напуган. Мы приехали к Дворцовому молу. Мне нужно было помыться и причесаться, но он не хотел, чтобы я оставляла его одного. Я ушла только на пять минут, но он уже исчез. Куда он пошел? Вы говорите, он пошел позавтракать в кафе Сноу, а потом по молу в Хоув и под навес. Вы думаете, он просто надул меня, но это не Фред… то есть не Хейл… завтракал в кафе Сноу и оставил там карточку. Я только что видела эту официантку. Хейл не любил пиво Басе… он не стал бы пить Басс… а этот человек; который был в кафе Сноу, послал за бутылкой Басса.
— Это ничего не значит, — сказал инспектор. — День был жаркий. К тому же он плохо себя чувствовал. Он устал от всего того, что ему нужно было делать. Я не удивился бы, если бы он сплутовал и послал в кафе Сноу кого-нибудь другого вместо себя.
— Девушка не хочет ничего о нем говорить. Она знает, но не хочет говорить.
— Я могу легко найти объяснение, миссис Арнольд. Может быть, этот человек оставил карточку при условии, что она ничего не скажет.
— Нет, тут не то. Она напугана. Кто-то напугал ее. Может быть, тот же человек, который довел Фреда… Да есть и еще кое-что.
— Мне очень жаль, миссис Арнольд. Вы зря теряете время, зря поднимаете шум. Видите ли, ведь после его смерти было вскрытие. Точно установлено, что он умер естественной смертью. У него было плохое сердце. В медицине это называется миокардит. Я бы назвал это просто жарой, и толкотней, и переутомлением… и слабым сердцем.
— Можно мне посмотреть медицинское заключение?
— Это не полагается.
— Видите ли, он был моим другом, — тихо сказала Айда. — Я бы хотела удостовериться.
— Ну, хорошо, я сделаю исключение, чтобы успокоить вас. Эта бумага как раз здесь, у меня на столе.
Айда внимательно прочла заключение.
— А этот врач знает свое дело? — спросила она.
— Он первоклассный врач.
— Как будто все ясно, — сказала Айда. Она снова углубилась в чтение. — Они входят во все подробности. Я не знала бы о нем больше, даже если бы была за ним замужем. Рубец от аппендицита, излишние бугры — это еще что такое? — страдал от газов; я тоже страдаю от них по праздникам. Это звучит как-то непочтительно. Ему это, наверное, не понравилось бы. — Она грустно, с неподдельным состраданием разглядывала заключение. — Варикозные вены. Бедняга Фред. А что это здесь сказано относительна печени?
— Слишком много пил, вот и все.
— Это меня не удивляет. Бедный Фред. Так, значит, у него были вросшие ногти на пальцах ног. Вряд ли это нужно знать.
— Вы очень с ним дружили?
— Да нет, мы познакомились как раз в тот день. Но он мне понравился. Он был настоящий джентльмен. Если бы я ненадолго не отлучилась, с ним бы этого не произошло. — Она выпятила грудь. — При мне с ним не случилось бы ничего плохого.
— Вы кончили читать заключение, миссис Арнольд?
— Он ведь обо всем упоминает, этот ваш доктор, правда? Синяки и ушибы поверхностные, на предплечьях — что бы это значило? Что вы об этом думаете, инспектор?
— Да ровно ничего. Праздничная толпа, вот и все. Его толкали то здесь, то там.
— Ну уж бросьте, — сказала Айда, — бросьте. — Она вспылила. — Будьте же человеком! Гуляли вы сами когда-нибудь в праздник? Где вы видели такую толпу? В Брайтоне достаточно места. Это не эскалатор в метро. Я была здесь. Я знаю.
Инспектор упрямо сказал:
— Вы что-то вообразили себе, миссис Арнольд.
— Значит, полиция ничего не хочет делать? Вы не допросите эту девушку из кафе Сноу?
— Дело закончено, миссис Арнольд. И даже если это было самоубийство, зачем бередить старые раны?
— Кто-то довел его… Может быть, это совсем и не самоубийство… может быть…
— Я уже сказал вам, миссис Арнольд, дело закончено.
— Это вы так думаете, — возразила Айда. Она встала, движением подбородка подозвала Фила. — Оно и наполовину не закончено. Мы еще увидимся. — Стоя в дверях, она оглянулась на пожилого человека за письменным столом, угрожая ему своей непреклонной жизнеспособностью. — А может быть, и нет, — продолжала она. — Я обойдусь своими силами. Не нужна мне ваша полиция. — Полицейские в приемной беспокойно задвигались, кто-то засмеялся, кто-то уронил банку с сапожной мазью. — У меня есть друзья.
Ее друзья… Они были повсюду в ярком сверкающем воздухе Брайтона. Они послушно сопровождали своих жен к торговцам рыбой, они несли на пляж детские ведерки, они слонялись вокруг баров, ожидая часа открытия, они платили пенни за то, чтобы посмотреть в стереоскоп «Ночи любви» на молу. Ей стоило только обратиться к кому-нибудь, потому что на стороне Айды Арнольд была правда. Веселая, здоровая, Айда могла даже немного развлечься с лучшими из них. Она любила позабавиться, не стесняясь, несла свою пышную грудь по Олд-Стейн, но достаточно было взглянуть на нее, чтобы сразу понять: на эту женщину можно положиться. Она не станет сплетничать вашей жене, не станет напоминать вам на следующее утро то, что вы хотели бы забыть; честная и добрая, она принадлежала к людям многочисленного среднего, уважающего законы класса; ее развлечения были их развлечениями, ее суеверия их суевериями (дощечка на колесиках, царапающая полировку стола, и соль, брошенная через плечо), и ее человеколюбие было такое же, как у всех…
— Расходы растут, — сказала Айда. — Ничего. Все будет в порядке после бегов.
— Ты что, знаешь, кто выиграет?
— Из самого верного источника. А то бы я так не сказала. Бедный Фред.
— Скажи уж по-приятельски, — взмолился мистер Коркери.
— Все в свое время, — ответила Айда. — Будь хорошим мальчиком, ты не знаешь, что еще может произойти.
— Неужели ты все еще думаешь?… — стал допытываться мистер Коркери. — После того что написал врач?
— Я никогда не обращала внимания на врачей.
— Но почему?
— Мы должны все выяснить.
— А как?
— Дай мне время. Я еще не начала.
В конце улицы море казалось куском яркой дешевой ткани, повисшей между жилыми домами.
— В цвет твоих глаз, — задумчиво произнес Коркери, и в голосе его прозвучала тоска. Он сказал: — Не можем мы теперь… просто пойти ненадолго на мол, Айда?
— Да, — ответила Айда. — На мол. Мы пойдем на Дворцовый мол, Фил.
Но когда они пришли туда, она не захотела проходить через турникет, а остановилась там, где обычно стояли мелочные торговцы, напротив «Аквариума» и женского туалета.
— Вот отсюда я пошла, — сказала она. — Вот здесь он ждал меня, Фил. — И она смотрела на красные и зеленые огни светофора, на машины, мчавшиеся по полю ее битвы, и составляла планы, выстраивала свои войска, а на расстоянии пяти ярдов от нее стоял Спайсер, ожидая неприятеля. Только легкое сомнение смущало ее уверенность в успехе. — Эта лошадь должна выиграть, Фил, — сказала она. — Иначе мне не продержаться.
2
В эти дни Спайсер не знал покоя. Он томился от безделья. Если бы уже начались бега, он не чувствовал бы себя так скверно, не думал бы так много о Хейле. Больше всего его угнетало заключение медицинской экспертизы: «Смерть от естественных причин», а ведь он своими глазами видел, как Малыш… Здесь было что-то не так, здесь было что-то подозрительное. Он говорил себе, что не испугался бы допроса в полиции. Хуже всего было неведение, эта обманчивая безопасность после такого заключения судьи на дознании. Где-то была ловушка, и целый длинный летний день Спайсер беспокойно бродил, пытаясь обнаружить признаки неблагополучия: он побывал у полицейского участка, у места, где это свершилось, прогулялся даже до кафе Сноу. Он хотел удостовериться в том, что сыщики ничего не предприняли (он знал в лицо каждого полицейского в штатском из брайтонской полиции), что никто из них ничего не выпытывал и не слонялся там, где ему незачем было слоняться. Он знал, что все это просто нервы. «Я успокоюсь, когда начнутся бега», — говорил он себе, словно человек, у которого отравлен весь организм, а он думает, что выздоровеет, если ему вырвут зуб.
Он осторожно прошел по набережной со стороны Хоува, от застекленного навеса, куда принесли убитого Хейла, бледного, с воспаленными глазами и пожелтевшими, от никотина, кончиками пальцев. На левой ноге у Спайсера была мозоль, и он слегка хромал, волоча ногу в ярком оранжево-желтом башмаке. Вокруг рта у него высыпали прыщи, и причиной этому тоже была смерть Хейла. От страха у него нарушилось пищеварение, поэтому и появились прыщи: так бывало всегда.
Подойдя к кафе Сноу, он осторожно прохромал через дорогу на другую сторону: это тоже было опасное место. Солнце било в большие зеркальные стекла и, отражаясь, падало на него, как свет автомобильных фар. Проходя мимо кафе, он покрылся мокрой испариной. Какой-то голос произнес:
— А, да это Спайси!
В тот момент он смотрел через дорогу на кафе и не заметил, кто стоит рядом с ним на набережной, прислонившись к зеленому барьеру над прибрежной полосой гальки. Он резко повернул вспотевшее лицо.
— Ты что здесь делаешь, Крэб?
— Приятно вернуться в родные края, — ответил Крэб, молодой человек в лиловатом костюме, с плечами наподобие вешалки для платья и узкой талией.
— Мы же тебя выгнали, Крэб. Я думал, ты не будешь сюда соваться. А ты изменился…
У него были волосы цвета морковки, черные только у корней, нос стал прямее, и на нем были шрамы. Когда-то он был евреем, но парикмахер и хирург сделали свое дело.
— Испугался, что мы тебя застукаем, если не изменишь морду?
— Ты что, Спайсер? Чтобы я испугался вашей своры? Да вы все скоро будете говорить мне «сэр». Я — правая рука Коллеони.
— То-то я слышал, что он левша, — отозвался Спайсер. — Подожди, вот Пинки узнает, что ты вернулся.
Крэб засмеялся.
— Пинки в полицейском участке, — сказал он.
В полицейском участке! Челюсть у Спайсера отвисла, он бросился прочь, волоча по тротуару свой оранжевый башмак; мозоль его стреляла острой болью. Он слышал хохот Крэба у себя за спиной. Его преследовал запах дохлой рыбы, он был больной человек. «Полицейский участок», «полицейский участок» — эти слова, словно гнойник, изливали свой яд на его нервы. Когда он пришел в пансион Билли, там никого не было. Он с трудом поднялся по скрипучей лестнице, мимо подгнивших перил, в комнату Пинки: дверь была открыта, пустота отражалась в висячем зеркале; никакой записки, крошки на полу — все выглядело так, как бывает в комнате, из которой кого-то неожиданно вызвали.
Спайсер стоял у комода, неровно выкрашенного под орех; в ящиках не было даже записки, которая могла бы его успокоить. Никакого предупреждения. Он посмотрел вверх и вниз, мозоль стреляла через все его тело прямо в мозг, и вдруг он увидел в зеркале собственное лицо: жесткие черные волосы, седеющие у корней, мелкие прыщи, воспаленные глаза, и ему показалось, что перед ним кинокадр крупным планом, что такое лицо может быть у доносчика, у полицейского шпика.
Он отошел прочь; крошки печенья хрустели у него под ногами. «Я не такой человек, чтобы предать, — подумал он. — Пинки, Кьюбит и Дэллоу — мои друзья. Я не стану доносить на них, хотя ведь не я совершил убийство. Я с самого начала был против этого; я только раскладывал карточки. Я только был в курсе дела». Спайсер стоял на верхней площадке лестницы, глядя вниз, на шаткие перила. «Я скорее на себя руки наложу, чем донесу», — говорил он шепотом пустой площадке, но на самом деле знал, что у него не хватит храбрости промолчать. Уж лучше; смыться отсюда, и он с тоской подумал о Ноттингеме и о баре, который он там знал, о баре, который он когда-то надеялся купить, если накопит деньги. Хороший город Ноттингем, воздух там чистый, нет этой соли, разъедающей сухие губы, и девушки там добрые. Если бы он мог выбраться отсюда… Но они ни за что его не отпустят: он знает слишком много о слишком многом. Теперь он всю жизнь должен оставаться в этой банде; он посмотрел на уходившую вниз лестницу, на крошечную переднюю, на дорожку из линолеума, на полочку со старомодным телефоном возле двери.
Пока он смотрел, телефон начал звонить. Спайсер взглянул на него со страхом и подозрением. Он не мог вынести больше ни одного плохого известия. Куда это все подевались? Неужели сбежали без предупреждения и оставили его одного? Даже Фрэнка не было в первом этаже. Пахло паленым, как будто он оставил где-то горячий утюг. Телефон все звонил и звонил. «Пусть себе звонят, — подумал он. — В конце концов им надоест; почему я один должен делать всю работу в этой проклятой лавочке?» Звонки не прекращались. Кто бы это ни был, ему, видно, не скоро надоест. Он поднялся на верхнюю площадку и угрожающе посмотрел вниз на эбонитовый предмет, распространяющий звон по притихшему дому.
— Все горе в том, — сказал он громко, как будто репетируя речь, которую он собирался произнести перед Пинки и другими, — что я становлюсь слишком стар для этой игры. Мне пора на покой. Поглядите на мои волосы. Я ведь уже поседел, правда? Мне пора на покой.
Но единственным ответом было мерное: «динь, динь, день».
— Почему никто не берет эту проклятую трубку? — заорал он в пролет лестницы. — Что, я должен один делать здесь всю работу, что ли? — И он представил себе, как он кладет карточки в детское ведерко, подсовывает под перевернутую лодку — карточки, из-за которых его могут повесить. Вдруг он побежал вниз по лестнице и с какой-то напускной яростью схватил трубку.
— Ну, — заорал он, — какого черта вы тут звоните?
— Это пансион Билли? — спросил чей-то голос.
Он сразу узнал ее голос. Это была девушка из кафе Сноу. Он в ужасе опустил трубку, из которой доносился тонкий кукольный голосок:
— Пожалуйста, позовите к телефону Пинки. — Ему показалось, что он ослышался. Он снова прижал трубку к уху, и встревоженный голосок повторил с безнадежным упорством: — Это пансион Билли?
Держа трубку далеко ото рта, неестественно подвернув язык, грубым измененным голосом Спайсер, стараясь, чтобы его не узнали, ответил:
— Пинки нет дома. Что вы хотите?
— Мне нужно поговорить с ним.
— Говорю вам, его нет дома.
— А кто это? — вдруг спросила девушка испуганным голосом.
— Я тоже хочу знать, кто вы такая?
— Я приятельница Пинки. Мне нужно найти его. Это срочно.
— Ничем не могу вам помочь.
— Пожалуйста. Найдите Пинки. Он просил меня сказать ему… если когда-нибудь… — Голос замер.
Спайсер кричал в трубку:
— Алло! Куда вы пропали? Если когда-нибудь что? — Ответа не было. Прижав трубку к уху, он слушал молчание, гудящее в проводах. Он стал нажимать на рычаги. — Центральная? Алло! Алло! Центральная!
И вдруг голос послышался опять, как будто кто-то опустил иголку на нужное место пластинки:
— Вы слушаете? Скажите, пожалуйста, вы слушаете?
— Конечно, слушаю. Так что сказал вам Пинки?
— Вы должны найти Пинки. Он сказал, что ему надо это знать. Здесь была женщина. С мужчиной.
— Что вы сказали… женщина?
— Выпытывала, — ответил голос.
Спайсер положил трубку, и если девушка хотела сказать еще что-то, ее слова заглохли в проводах. Найти Пинки? А что это даст ему, если он найдет Пинки? Шпики уже открыли все. А Кьюбит и Дэллоу — они смылись, даже не предупредив его. Если он донесет, он только заплатит им той же ценой. Но он не собирается доносить. Он не шпик. Они думают, он сдрейфил. Они думают, он донесет. Они даже не доверяют ему… Скупые слезы жалости к себе выступили на его сухих стареющих глазах.
— Мне надо все обдумать, — повторял он себе, — мне надо все обдумать.
Он открыл входную дверь и вышел на улицу. Он так торопился, что даже не взял шляпу. Волосы его, сухие и ломкие, поредели на макушке, голова была вся в перхоти. Он шел быстро, не выбирая направления, но все дороги в Брайтоне ведут на набережную. «Я слишком стар для этой игры, я должен выбраться отсюда… Ноттингем…» Ему хотелось быть одному, он спустился по каменным ступеням до пляжа; был предпраздничный день, когда лавочки на берегу под набережной закрываются рано. Спайсер шел по краю асфальтированной дорожки, волоча ноги по гальке. «Я не буду доносчиком, — повторял он про себя, обращаясь к набегавшим и уходившим волнам, — но это не моих рук дело, я не хотел убивать Фреда». Спайсер зашел под мол, и как раз в тот момент, когда на него упала тень, уличный фотограф с аппаратом щелкнул его и сунул ему в руку талончик. Спайсер даже не заметил этого. Вниз сквозь мокрую тусклую гальку уходили железные столбы, державшие над его головой автомобильное шоссе, тиры и стереоскопы, модели различных машин, «человека-робота, который предскажет вам судьбу». Ему навстречу между столбами стремительно пронеслась чайка — так бывает, когда птица с перепугу залетит в собор, — затем она вырвалась из темного железного нефа назад на солнечный свет.
— Я не переметнусь, — сказал Спайсер, — если только меня не… — Он споткнулся о старую лодку и, чтобы не упасть, оперся рукой о камни: они вобрали в себя всю прохладу моря — солнце, не попадавшее под мол, никогда не нагревало их.
Он думал: «Эта женщина… откуда могла она узнать что-то?… Зачем она допытывается? Я не хотел, чтобы убивали Хейла; будет несправедливо, если меня повесят вместе с остальными, я ведь их отговаривал». Он вышел на солнечный свет и снова выбрался на набережную. «Тот же путь проделали бы сыщики, — подумал он, — если бы что-нибудь знали; они всегда воссоздают обстоятельства преступления». Он встал между турникетом мола и дамским туалетом. Вокруг было немного народа: он мог бы легко обнаружить сыщиков, если бы они появились. В стороне виднелся «Ройал Альбион»; перед ним открывалась вся главная набережная до Олд-Стейн. Бледно-зеленые купола Павильона парили над пыльными деревьями; в этот жаркий пустынный послеполуденный час будничного дня он мог видеть всех, кто шел мимо «Аквариума», белая площадка которого была уже готова для танцев, к маленькой крытой галерее, где в дешевых лавчонках между морем и каменной стеной продавали Брайтонский леденец.
3
Яд бродил в крови Малыша. Его оскорбили; ему нужно было доказать кому-то, что он мужчина. Он угрюмо вошел в кафе Сноу, юнец в потрепанном костюме, не внушающий доверия, и все официантки, точно сговорившись, повернулись к нему спиной. Он стоял, пытаясь отыскать столик (кафе было полно), и никто его не обслуживал. Они как будто сомневались, есть ли у него деньги, чтобы заплатить за еду. Он представил себе, как Коллеони расхаживает по огромным комнатам, вспомнил вышитые короны на спинках кресел. Вдруг он громко крикнул:
— Мне нужен столик! — И щека его задергалась.
Лица вокруг разом зашевелились и повернулись к нему, но затем все успокоились — так бывает, если бросить в воду камушек, — все отвели глаза. Никто не обращал на него внимания. Он почувствовал себя так, как будто прошел великое множество миль только для того, чтобы быть всеми отвергнутым.
Какой-то голос произнес:
— Нет ни одного свободного столика. — Они были еще настолько чужими друг другу, что он не узнал ее голоса, пока она не прибавила: — Пинки.
Он обернулся и увидел Роз, собиравшуюся уходить; она была в потертой черной соломенной шляпе, в которой выглядела так, как, наверно, будет выглядеть, проработав двадцать лет и родив несколько детей.
— Меня должны обслужить, — сказал Малыш. — Что они воображают, кто они здесь такие?
— Нет ни одного свободного столика.
Теперь все смотрели на них с неодобрением.
— Выйдем отсюда, Пинки.
— Почему ты так нарядилась?
— У меня сегодня свободный вечер. Выйдем отсюда.
Он вышел за ней на улицу, схватил ее за руку, и яд вдруг подступил к его губам.
— Так бы и сломал тебе руку.
— А что я сделала, Пинки?
— Нет столика! Они не хотят обслуживать меня; я для них недостаточно шикарный. Они увидят… когда-нибудь…
— Что?
Но он сам был поражен необъятностью своего честолюбия.
— Ничего… Они еще узнают…
— Тебе передали, Пинки?
— Что?
— Я звонила тебе в пансион Билли. Я просила его передать тебе.
— Кого ты просила?
— Не знаю. — Она осторожно добавила: — По-моему, это был тот человек, который оставил карточку.
Он опять схватил ее за руку.
— Человек, который оставил карточку, умер, — сказал он. — Ты же все это читала.
Но на этот раз она не проявила признаков страха. Он был с ней слишком ласков. Она не обратила внимания на его слова.
— Он нашел тебя? — спросила она, а он подумал про себя: «Надо опять напугать ее».
— Никто меня не нашел, — ответил Малыш. Он грубо толкнул ее вперед. — Пошли. Погуляем. Я приглашаю тебя.
— Я хотела идти домой.
— Ты не пойдешь домой. Ты пойдешь со мной. Я хочу прогуляться, — сказал он, глядя на свои остроносые ботинки, никогда не ходившие дальше конца набережной.
— А куда мы пойдем, Пинки?
— Куда-нибудь, — ответил Пинки, — за город. В такой день, как сегодня, все туда едут. — На мгновение он задумался о том, куда же это именно, за город? Бега — это был его «за город», а потом подошел автобус с надписью «Писхейвен», и он махнул рукой. — Вот туда, — сказал он, — туда, за город. Там мы сможем поговорить. Нам нужно кое-что выяснить.
— Я думала, мы пойдем гулять.
— Это и есть прогулка, — сказал он грубо, толкая ее на подножку. — Ты еще глупая. Ничего не знаешь. Ты что думаешь, туда добираются пешком? Так ведь это за несколько миль отсюда.
— Когда говорят: пойдем погуляем — это значит, что поедут на автобусе?
— Или на машине. Я бы повез тебя на машине, но ребята на ней уехали.
— У тебя есть машина?
— Мне бы не обойтись без машины, — ответил Малыш, пока автобус взбирался на гору за Роттингдином: красные кирпичные здания за оградой, большой парк, девушка с хоккейной клюшкой разглядывает что-то в небе, стоя на холеной подстриженной лужайке. Яд вобрался обратно в испускавшие его железы: Малышом восхищались, никто не оскорблял его, но когда он взглянул на ту, кому он внушал восхищение, яд снова выступил наружу. Он сказал: — Сними эту шляпу. Ты выглядишь в ней ужасно.
Она послушалась: ее мышиного цвета волосы были гладко прилизаны на маленьком черепе; он смотрел на нее с отвращением. Вот на этой он женится, смеялись они, вот на этой. Оскорбленный в своем целомудрии, он смотрел на нее, как человек смотрит на микстуру, которую ему подносят, но которую он ни за что, ни за что не выпьет; скорее умрет или заставит умереть других. Меловая пыль поднималась за окнами.
— Ты просил меня позвонить, — сказала Роз, — поэтому, когда…
— Не здесь, — прервал ее Малыш. — Подожди, пока мы будем одни.
Голова шофера, казалось, медленно поднималась на фоне чистого неба; в синеве летело всего несколько белых перышек. Автобус достиг вершины меловых холмов и повернул на восток. Малыш сидел, плотно приставив друг к другу свои остроносые ботинки, держа руки в карманах; сквозь тонкие подошвы он чувствовал, как дрожит машина.
— Как чудесно, — сказала Роз, — быть здесь… за городом, с тобой.
Маленькие просмоленные дачные домики под жестяными крышами убегали назад, мелькали сады, словно нарисованные на меловых холмах, сухие цветочные клумбы, похожие на эмблемы саксонского фарфора, вырезанные на склонах меловой гряды. Виднелись надписи: «Сверните сюда», «Чайная Мазаватти», «Настоящая старина», а на сотни футов ниже светло-зеленое море плескалось у скалистого неприглядного берега Англии. Сам Писхейвен кончался там, где начинались холмы; незастроенные улицы переходили в поросшие травой проселочные дороги. Они пошли вниз между рядами дач к обрыву; вокруг никого не было; в одном из домиков были выбиты стекла, в другом спущены жалюзи: там кто-то умер.
— У меня кружится голова, когда я смотрю вниз, — сказала Роз.
В тот день магазин закрывался рано, бар был тоже заперт, в гостинице ничего нельзя было выпить; ряд дощечек с надписью «Сдается» уходил назад вдоль меловой колеи немощеной дороги. Через плечо Роз Малыш видел крутой обрыв, а под ним гальку.
— У меня такое чувство, что я упаду, — сказала Роз, отворачиваясь от моря.
Он позволил ей отойти; не нужно торопиться, может быть, и не придется испить эту горькую чашу.
— Скажи мне теперь, — начал он, — кто звонил, кто и зачем?
— Я тебе звонила, но тебя не было. Ответил он.
— Он? — повторил Малыш.
— Человек, который оставил карточку в тот день, когда ты пришел. Помнишь… ты еще искал что-то.
Он очень хорошо помнил — рука под скатертью, глупое невинное лицо; а он-то думал, что она так легко все забудет.
— Ты много чего помнишь, — сказал он, нахмурившись при этой мысли.
— Я никогда не забуду тот день, — сказала она отрывисто и запнулась.
— Но многое ты забываешь. Я ведь говорил тебе, что к телефону подходил не тот человек. Тот человек умер.
— Ну, все равно, это не важно, — сказала она. — Важно то, что меня расспрашивали.
— Про карточку?
— Да.
— Мужчина?
— Женщина. Та, толстая, все время смеется. Ты, наверное, слышал, как она смеется. Как будто у нее никогда не было забот. Я ей не доверяю. Она не такая, как мы.
— Не такая, как мы? — Он опять нахмурился при напоминании о том, что между ними есть что-то общее, и, глядя на подернутое рябью море, резко спросил: — А что ей надо?
— Все ей надо! Допытывалась, какой был с виду человек, который оставил карточку.
— Что ты ей сказала?
— Я ровно ничего ей не сказала, Пинки.
Малыш ковырял остроносым ботинком низкий сухой дерн, он поддал ногой пустую жестянку от говядины, и она задребезжала вдоль колеи.
— Ведь я только о тебе думаю, — ответил он. — Мне-то что? Меня это не касается. Но я не хочу, чтобы ты вмешивалась в дела, которые могут оказаться опасными. — Он бросил на нее быстрый косой взгляд. — Ты как будто и не боишься. Я ведь тебе серьезно говорю.
— Я не боюсь, Пинки… Когда я с тобой, я не боюсь.
С досады он вонзил ногти себе в ладонь. Она помнила все, что должна была забыть, и забыла все, что должна была помнить, — склянку с серной кислотой. Тогда он ее как следует напугал; а потом был с ней слишком ласков; она и впрямь поверила, что он от нее без ума. Это потому, что он позвал ее за город, и он опять вспомнил шутку Спайсера. Он взглянул на мышиного цвета волосы, на худенькое тело, на потертое платье и невольно вздрогнул: дурочка, мечтает о свадебной постели. «Суббота, — подумал он, — сегодня суббота». Он вспомнил комнату, где жил с родителями, их жуткие еженедельные забавы, которые он наблюдал со своей узкой кровати. Вот чего они ждут от тебя, каждая баба, которую ты встречаешь, думает только о постели; его целомудрие восстало в нем, готовое дать отпор. Вот за что они ценят тебя, а не за то, что ты способен убить человека, управлять бандой, победить Коллеони. Он сказал:
— Нечего нам здесь болтаться. Поехали обратно.
— Мы же только что приехали, — возразила девушка. — Побудем здесь немного, Пинки. Мне так нравится за городом.
— Ну, так ты все уже посмотрела, — сказал он. — А делать нам здесь нечего. Бар закрыт.
— Можно просто посидеть тут. Все равно нам надо ждать автобуса. Ты какой-то странный. Ты чего-нибудь боишься?
Он притворно захохотал и неловко сел на землю против домика с выбитыми стеклами.
— Я боюсь? Вот забавно.
Он лег на спину, расстегнув жилет; его узкий измятый галстук ярко выделялся своими полосками на меловом берегу.
— Так-то лучше, чем идти домой, — сказала Роз.
— А где твой дом?
— На Нелсон-Плейс. Ты знаешь, где это?
— Ну да, я там бывал мимоходом, — беззаботно ответил он; на самом же деле он мог не хуже любого топографа нарисовать на дерне план: на углу огороженный зубчатым забором Дом Армии спасения,[12] позади, на участке, отведенном для квартала Парадиз, жил он с родителями; дома имели такой вид, как будто они подверглись сильной бомбежке: расшатанные водосточные трубы и окна без стекол, железная кровать, ржавеющая в палисаднике, напротив — разрытый пустырь, где все было снесено, чтобы освободить место для домов с показательными квартирами, которых так никогда и не построили.
Они лежали рядом на меловом берегу; оба происходили из одного места на земле, и к его презрению примешивалась теперь ненависть. Он думал, что навсегда сбежал оттуда, а оказывается, родной дом был здесь, совсем рядом, и требовал его обратно.
Вдруг Роз сказала:
— Она-то никогда там не жила.
— Кто?
— Та женщина, что расспрашивала меня. У нее никогда не было забот.
— Ну так не могут же все родиться на Нелсон-Плейс.
— А ты не там родился… или, может быть, где-нибудь поблизости?
— Я? Конечно, нет. Почему ты подумала?
— Я подумала… может быть, и ты там родился. Ты ведь тоже католик. Там все католики, на Нелсон-Плейс. Все-таки во что-то веришь. Например, в ад. Ну а по ней сразу видно, что она ни во что не верит. Можно сказать, что у нее все идет как по маслу, — добавила она с горечью.
Стремясь оградить себя от всякой связи с Нелсон-Плейс, он сказал:
— Я не очень-то силен в религии. Ад, он, конечно, есть. Но незачем думать о нем… пока не умрешь.
— Можно умереть неожиданно.
Он закрыл глаза под ярким пустым небосводом; что-то неясно всплыло у него в памяти и вылилось в слова:
— Знаешь, говорят: «Пока нога его была между стременем и землей,[13] он о чем-то просил и что-то ему было даровано».
— Милосердие.
— Правильно: милосердие.
— А все-таки ужасно, если у нас не будет времени, — медленно сказала она. И, повернувшись к нему, добавила, как будто он мог помочь ей: — Об этом я всегда молюсь. Чтобы мне не умереть внезапно. А ты о чем молишься?
— Я не молюсь, — ответил он, но на самом деле он беспрестанно молился об одном: только бы ему не пришлось и дальше возиться с ней, опять иметь что-то общее с этим унылым разоренным клочком земли, который они оба называли домом.
— Ты на что-то сердишься? — спросила Роз.
— Человек иногда хочет, чтобы его оставили в покое.
Он неподвижно лежал на меловом берегу, замкнутый и необщительный. В тишине хлопал ставень и шуршал прибой; парочка на прогулке — вот кто они были, и воспоминание о роскоши, окружавшей Коллеони, и о стульях с коронами в «Космополитене» снова стало терзать его.
— Ты что молчишь? — сказал он. — Говори что-нибудь.
— Ты же хотел, чтобы тебя оставили в покое, — ответила она с неожиданным гневом, заставшим его врасплох. Он не думал, что она способна на это. — Если я не подхожу тебе, отвяжись от меня. Я не просилась на прогулку. — Она села, охватив руками колени, и на скулах у нее появились красные пятна: гнев заменял румяна на ее худеньком лице. — Если я недостаточно шикарна… для твоей машины… и для всего остального…
— Кто тебе это сказал?
— О, я ведь не такая уж дура. Я видела, как ты смотрел на меня. Моя шляпа…
Вдруг он представил себе, что она может сейчас встать и уйти от него, вернуться в кафе Сноу и рассказать свою тайну первому, кто будет ласково ее расспрашивать; нужно помириться с ней, они на прогулке, он должен делать то, что от него ожидают. Он с отвращением протянул руку; она легла к ней на колено, как холодная рыба.
— Ты не так поняла меня, — сказал он, — ты милая девушка. У меня неприятности, вот и все. Деловые неприятности. Мы с тобой, — с трудом проговорил он, — должны быть вместе до гроба.
Он увидел, как кровь отлила у нее от лица, как она обернулась к нему со слепой готовностью быть обманутой, понял, чего ждут ее губы. Он быстро потянул к себе ее руку и прижался ртом к ее пальцам; все что угодно, только не губы; кожа на ее пальцах была грубая, они отдавали мылом.
— Пинки, — сказала она, — прости меня… Ты так ласков со мной.
Он нервно засмеялся.
— Мы с тобой, — начал он и, услышав гудок автобуса, обрадовался, как осажденный, внимающий фанфарам войск-освободителей. — Идет автобус, — сказал он. — Поедем. Я не очень-то люблю природу. Городская птица. Да и ты тоже.
Она встала, и на мгновение он увидел ее голую ногу над искусственным шелком чулка, и порыв вожделения охватил его, как приступ слабости. Так вот что в конце концов ждет мужчину? Душная комната, крикливые дети, ночные забавы по субботам, которые он наблюдал с другой кровати. Неужели нельзя уйти от этого… никуда… никому?… Лучше уж перерезать всех на свете.
— А все-таки здесь красиво, — сказала она, глядя на меловые колеи между дощечками с надписью «Сдается», а Малыш опять засмеялся над красивыми словами, которыми люди называют грязное занятие: любовь, красота… Вся его гордость собралась, как часовая пружина, вокруг той мысли, что его не обманешь, что он не собирается опуститься до брака и рождения детей, он хочет достичь того, чего достиг теперь Коллеони, и даже большего… Он знал все, он наблюдал во всех подробностях то, что они называют любовью, его не проведешь прекрасными словами, тут нечем восторгаться, тут нет ничего такого, что вознаградило бы тебя за то, что ты теряешь; но когда Роз опять потянулась к нему, ожидая поцелуя, он все же убедился в своем страшном неведении. Его рот не встретился с ее губами, он отшатнулся. Он никогда еще не целовался с девушкой.
— Мне очень жаль, — сказала она. — Я такая глупая. Я еще никогда… — И вдруг запнулась, глядя на чайку, поднявшуюся из чахлого садика над обрывом и камнем упавшую в море.
В автобусе он не разговаривал с ней и сидел угрюмый, чувствуя себя неловко, засунув руки в карманы и плотно сдвинув ноги; он не мог понять, зачем он заехал с ней в такую даль и теперь возвращается обратно, ничего не решив; и тайна, и воспоминание обо всем по-прежнему крепко сидели у нее в голове. Пейзаж разворачивался в обратном направлении: «Чайная Мазаватти», антикварная лавочка, бары с надписью «Сверните сюда», хилая травка, пробивающаяся сквозь асфальт, там, где начинался город.
Брайтонские рыболовы забрасывали с мола свои удочки. Тихая музыка печально звучала среди ветра и яркого дневного света. Они пошли по солнечной стороне мимо варьете «Ночи любви», «Только для мужчин», «Танцовщица с веером».
— Что, у тебя дела идут плохо? — спросила Роз.
— У каждого человека есть заботы, — ответил Малыш.
— Я хотела бы помочь тебе, быть чем-нибудь полезной.
Он ничего не сказал и продолжал шагать. Она протянула руку к его тонкой, неестественно прямой фигуре, глядя на гладкую щеку, на хохолок белокурых волос на затылке.
— Ты еще такой молодой, Пинки, а у тебя уже заботы. — Она взяла его под руку. — Мы оба еще молоды, Пинки. — И почувствовала, как тело его отчужденно отпрянуло.
Подошел фотограф.
— Щелкнуть вас вместе у моря? — спросил он, поднимая колпачок своего аппарата, но Малыш быстро закрыл лицо руками и прошел мимо.
— Разве ты не хочешь, чтобы нас сфотографировали, Пинки? Нашу карточку могли бы выставить, и все смотрели бы на нас. Это ничего бы нам не стоило.
— Мне наплевать, сколько что стоит, — ответил Малыш и позвенел монетами в кармане, показывая, что денег у него хватит.
— Нас могли бы выставить здесь, — продолжала Роз, останавливаясь у киоска фотографа, возле снимков купающихся красавиц, знаменитых комиков и никому не известных пар, — рядом с… — И вдруг она воскликнула: — Смотри, это он!
Малыш глядел в ту сторону, где зеленый прибой, словно мокрый рот, лизал и обсасывал сваи. Он невольно обернулся, чтобы посмотреть, и увидел Спайсера, выставленного в витрине фотографа напоказ публике: он был снят в тот момент, когда сворачивал с солнечного света в тень под мол, торопливый, озабоченный и загнанный, — забавная фигура, над которой могли бы посмеяться приезжие: он, видно, здорово озабочен. Его застали врасплох.
— Это тот, кто оставил карточку, — сказала Роз. — Тот, про которого ты сказал, что он умер. А он не умер. Хотя у него такой вид, — она весело рассмеялась над черно-белым расплывчатым изображением, — как будто он боится, что умрет, если не поторопится.
— Это старое фото, — сказал Малыш.
— Ну нет, не старое. Здесь выставлены только снимки, сделанные сегодня. Можешь купить его.
— А ты много чего знаешь.
— Конечно, тебе надо купить его, — настаивала Роз. — Он такой смешной. Шагает себе. Весь погружен в заботы. Даже не видит аппарата.
— Побудь здесь, — сказал Малыш.
В киоске было темно после залитой солнцем набережной. Человек с тонкими усиками, в очках с железной оправой разбирал снимки.
— Я хочу выставленный там снимок, — сказал Малыш.
— Квитанцию, пожалуйста, — ответил фотограф и протянул желтые пальцы, слегка пахнувшие гипосульфитом.
— У меня нет квитанции.
— Я не могу дать снимок без квитанции, — сказал фотограф и поднес негатив к электрической лампочке.
— Какое вы имеете право, — крикнул Малыш, — выставлять снимки без разрешения? Отдайте мне этот снимок!
Но железная оправа блеснула на него равнодушно: какой-то хулиган мальчишка.
— Принеси квитанцию, — сказал фотограф, — и получишь снимок. Теперь катись отсюда, я занят.
Позади него висели в рамках уже пожелтевшие от дешевых химикалий и времени моментальные снимки короля Эдуарда VIII,[14] в бытность его принцем Уэльским, в морской фуражке, на фоне стереоскопов, Веста Тилли, дающая автографы, Генри Ирвинг, закутанный по случаю сильного ветра с пролива, — целая история нации. Лили Ленгтри была в страусовых перьях, миссис Пенхерст в узкой юбке, английская королева красоты 1923 года в купальном костюме. Не утешало даже то, что Спайсер оказался среди бессмертных.
4
— Спайсер, — крикнул Малыш, — Спайсер! — Он поднялся из маленькой темной передней пансиона Билли на лестничную площадку, оставляя за собой на линолеуме следы меловых холмов пригорода. — Спайсер!
Подгнившие перила дрожали под его рукой. Он открыл дверь комнаты Спайсера и увидел его на кровати. Спайсер спал, лежа лицом вниз. Окно было закрыто, какое-то насекомое жужжало в спертом воздухе, от кровати шел запах виски. Пинки стоял, глядя на седеющие волосы; он совсем не чувствовал жалости; он был слишком молод для жалости. Он повернул спящего лицом кверху; вокруг рта у Спайсера высыпали прыщи: «Спайсер!»
Спайсер открыл глаза. Некоторое время он ничего не видел в полутемной комнате.
— Мне нужно поговорить с тобой, Спайсер!
Спайсер сел на кровати.
— Господи, Пинки, как я рад тебя видеть.
— Ты ведь всегда рад видеть дружка, Спайсер.
— Я встретил Крэба. Он сказал, что ты в полицейском участке.
— Крэба?
— Так, значит, ты не был в полицейском участке?
— У меня там был разговор по душам… о Бруере.
— А не о…
— О Бруере. — Малыш вдруг положил руку на руку Спайсера. — У тебя нервы совсем расшатались, Спайсер. Тебе нужен отдых. — Он с презрением втянул зловонный воздух. — Ты слишком много пьешь. — Он подошел к окну и толчком распахнул его; открылся вид на серую стену. Большая муха билась о стекло, и Малыш поймал ее. Она трепетала в его руке, как крошечная часовая пружина. Он начал одну за другой обрывать ей лапки, потом крылышки. — Любит, не любит, — приговаривал он. — Я гулял со своей девушкой, Спайсер.
— С той самой, из кафе Сноу?
Малыш повернул оголенное тельце у себя на ладони и сдул его на кровать Спайсера.
— Ты знаешь, о ком я говорю, — сказал он. — Ты должен был мне что-то передать, Спайсер. Почему ты этого не сделал?
— Я не мог найти тебя, Пинки. Честно, не мог. Да это было не так уж и важно. Какая-то старая любопытная баба расспрашивала ее.
— А все-таки ты струсил, — сказал Малыш. Он сел на жесткий сосновый стул, стоявший против зеркала, положив руки на колени, он смотрел на Спайсера. Щека его слегка дергалась.
— Ничуть я не струсил, — возразил Спайсер.
— Ты напрямик и вслепую пошел прямо туда.
— Что ты хочешь этим сказать — туда?
— Для тебя существует лишь одно туда, Спайсер. Ты только и думаешь об этом, только это и видишь во сне. Ты слишком стар для такой жизни.
— Для такой жизни? — повторил Спайсер, испуганно глядя на него с кровати.
— Конечно, для того, чтобы заниматься шантажом. Ты нервничаешь и потому делаешь все как попало. Сначала оставил эту карточку у Сноу, а теперь допустил, что твое фото выставлено на молу, чтобы все на него смотрели. Чтобы на него смотрела Роз.
— Клянусь богом, Пинки, я и знать не зал об этом.
— Ты забыл, что мы должны быть очень осторожны.
— Она безопасна. Она в тебя втюрилась, Пинки.
— Ничего я не знаю о женщинах. Предоставляю это тебе, Кьюбиту и остальным. Я знаю только то, что вы мне о них говорите. А вы все время твердили мне, что еще не было на свете надежной бабы.
— Ну, это все болтовня.
— Вы думаете, я еще мальчишка, и рассказываете мне сказки на сон грядущий. Но я такой, что верю этим сказкам, Спайсер. Мне кажется, опасно, что ты и Роз живете в одном городе. А тут еще эта другая шлюха, которая вздумала ее расспрашивать. Тебе надо исчезнуть, Спайсер.
— Что ты имеешь в виду — исчезнуть? — спросил Спайсер. Он стал шарить у себя в пиджаке, а Малыш не сводил с него глаз, положив руку на колени. — Ты ведь ничего не задумал? — спросил Спайсер, шаря в кармане.
— А ты что, испугался? Я хотел сказать: отдохни, съезди куда-нибудь на время.
Спайсер вынул руку из кармана. Он протянул Малышу серебряные часы.
— Ты можешь доверять мне, Пинки. Посмотри, что ребята мне подарили. Прочти надпись: «Десять лет дружбы. От ребят с ипподрома». Я никогда не подвожу друзей. Это было пятнадцать лет тому назад. Я уже двадцать пять лет на скачках. Когда я начал, ты еще и не родился.
— Тебе нужен отдых, — сказал Малыш. — Я только это и хотел сказать.
— Я с удовольствием отдохну, — ответил Спайсер, — но я не хочу, чтобы ты думал, будто я сдрейфил. Я поеду сейчас же. Уложу чемодан и смотаюсь сегодня же вечером. Ну что ж, я с радостью уеду.
— Нет, — сказал Малыш, глядя на свои ботинки. — К чему такая спешка. — Он поднял ногу. Подошва была проношена, на ней виднелась дыра величиной с шиллинг. Он опять подумал о коронах на стульях Коллеони в «Космополитене». — Ты мне понадобишься на скачках. — Спайсер заметил, что Малыш улыбнулся. — Мне нужен дружок, которому можно доверять.
— Ты можешь доверять мне, Пинки. — Пальцы Спайсера гладили серебряные часы. — Почему ты улыбаешься? Что у меня — грязь на лице, что ли?
— Я как раз думал о бегах, — ответил Малыш. — От них для меня очень многое зависит. — Он поднялся со стула и стал спиной к меркнущему свету, к стене дома напротив, к покрытым сажей стеклам, глядя на Спайсера с каким-то особым любопытством. — А куда ты поедешь, Спайсер? — спросил он.
Решение его было принято, и во второй раз за несколько последних недель он видел перед собой человека, который должен умереть. Невольно у него возникали вопросы… Ну что ж, возможно даже, что старого Спайсера и не ожидала геенна огненная, он был честный старик, он сделал не больше зла, чем всякий другой, он мог бы проскользнуть через врата… Но Малыш не представлял себе загробную жизнь иначе, как с вечными муками. Он слегка нахмурился от напряжения — зеркальное море, золотая корона и… старик Спайсер.
— В Ноттингем, — ответил Спайсер. — Мой приятель держит там бар «Голубой якорь», на Юнион-стрит. Без лицензий. Высший класс. Горячие завтраки. Он часто говорил мне: «Спайсер, почему ты не станешь моим компаньоном? Мы бы сделали из этого старого кабака отель, будь у нас несколько лишних фунтов в кассе». Если бы не ты и не ребята, я бы сюда и не вернулся. Я бы с удовольствием остался там навсегда.
— Ладно, — сказал Малыш. — Ну, я пошел. Во всяком случае, мы договорились.
Спайсер снова лег на подушку и поднял ногу, на которой болела мозоль. В шерстяном носке была дыра, и оттуда высунулся большой палец, заскорузлая кожа с годами потрескалась.
— Спи спокойно, — сказал Малыш.
Он спустился по лестнице; парадная дверь выходила на восток, и в передней было темно. Он зажег свет возле телефона и потом снова, сам не зная почему, выключил его. Затем он позвонил в «Космополитен». Когда коммутатор отеля ответил, он услышал отдаленную музыку, доносившуюся из Пальмового зала (thes dansants,[15] три шиллинга за вход) за кабинетом в стиле Людовика XVI.
— Мне нужен мистер Коллеони.
«И соловей, что ночами поет, и почтальон, что сигнал подает». Мотив резко, оборвался, и низкий голос с еврейским акцентом замурлыкал в трубке.
— Это мистер Коллеони?
Ему было слышно, как звенел стакан, как в шейкере стучал лед для коктейля. Он сказал:
— Это мистер Пинки Браун. Я все обдумал, мистер Коллеони. — За стеною маленькой, темной, устланной линолеумом передней бесшумно прошел автобус, фары его тускло светились в серых сумерках. Малыш прильнул губами к трубке и сказал: — Он не хочет слушать уговоров, мистер Коллеони. — Тот же голос что-то удовлетворенно замурлыкал ему в ответ. Малыш медленно и отчетливо объяснил: — Я пожелаю ему удачи и хлопну его по спине. — Он вдруг замолчал и потом резко спросил: — Что вы сказали, мистер Коллеони? Нет. Мне показалось, что вы смеетесь. Алло! Алло!
Малыш бросил трубку на рычаг и с каким-то тревожным чувством направился к лестнице. Золотая зажигалка, серый двубортный пиджак, широко поставленный рэкет, приносящий богатство и роскошь, — на мгновение все это покорило его; наверху были медная кровать, склянка с фиолетовыми чернилами на умывальнике, крошки от булки с колбасой. Он напроказничал, как школьник, но злорадство его постепенно исчезло; затем он включил свет — он был у себя дома. Он поднялся по лестнице, тихонько напевая: «И соловей, что ночами поет, и почтальон, что сигнал подает», но по мере того, как мысли его все теснее смыкались вокруг темного, опасного и смертоносного замысла, мотив изменился: «Agnus Dei qui tollit peccata mundi…» Он шел деревянной походкой, пиджак свисал с его узких плеч, но когда он открыл дверь своей комнаты… «Dona nobis pacem…»,[16] неясное отражение бледного лица, полного гордыни, глянуло на него из зеркала над умывальником, над мыльницей, над тазом с грязной водой.
Глава четвертая
1
То был прекрасный день для бегов. Публика хлынула в Брайтон с первым поездом; казалось, будто снова наступил праздник; однако на сей раз люди не тратили своих денег, а помещали их в дело. Они стояли плотной толпой на верхних площадках трамваев, которые, покачиваясь, спускались к «Аквариуму», они двигались взад и вперед по набережной — это походило на какое-то естественное и бессознательное переселение насекомых. Около одиннадцати часов невозможно было сесть в автобусы, идущие на бега. В саду при Павильоне на скамейке сидел негр в ярком полосатом галстуке и курил сигару. Несколько ребятишек играло в пятнашки, перескакивая со скамьи на скамью, и он весело окликнул их, гордо и осторожно держа сигару в вытянутой руке; его крупные зубы сверкали, как на рекламе. Они прекратили игру и уставились на него, медленно пятясь назад. Он снова обратился к ним на их родном языке, но говорил он глухо, нечленораздельно, по-детски, как они сами, и дети смотрели с тревогой и все пятились от него. Он снова спокойно взял сигару в толстые губы и продолжал курить. По тротуару на Олд-Стейн двигался оркестр; это был оркестр слепых, игравших на барабанах и трубах; музыканты шли вдоль сточной канавки гуськом, ощупывая башмаками край панели. Музыка долго доносилась издалека, несмотря на шум толпы, залпы выхлопных труб и скрежет автобусов, поднимавшихся по холму к ипподрому. Оркестр играл с воодушевлением, слепые шли вдоль канавки, как полк солдат, и прохожие поднимали глаза, ожидая увидеть тигровую шкуру и танцующие палочки барабанов, а вместо этого встречали взглядом слепые глаза, похожие на глаза работающих в шахтах пони.
Над морем, в саду на площадке знаменитой школы-пансиона девочки торжественно выстраивались для игры в хоккей: впереди, словно броненосцы, выступали голкиперы с щитками на коленях; капитаны обсуждали тактику игры со своими лейтенантами; младшие девочки просто носились, как очумелые, в ярком свете солнечного дня. За аристократической лужайкой через железную решетку главных ворот они могли видеть процессию плебеев, тех, кого не вмещали автобусы: люди взбирались на меловые холмы, поднимая пыль, ели булочки с изюмом, которые вынимали из бумажных кульков. Автобусы шли кружным путем через Кемп-Таун, а на крутой холм поднимались набитые такси (каждое место стоило девять пенсов), «паккард», обслуживающий членов клуба, старые «моррисы» с целыми семьями — смешные высокие машины, колесившие по дорогам уже в течение двадцати лет. Казалось, будто в пыли, пронизанной солнечным светом, все шоссе двигалось наверх, словно эскалатор, и вместе с ним со скрипом, с криками двигалась теснящаяся масса машин. Младшие девочки мчались со всех ног, точно пони, догоняющие друг друга на лужайке: им словно передалось возбуждение толпы на дороге. Казалось, будто в жизни всех этих людей в тот день наступил какой-то перелом. Выплата на Черного Мальчика уменьшилась: все переменилось с тех пор, как на Веселого Монарха неожиданно поставили пять фунтов. Сквозь поток автомобилей дерзко пробивалась ловкая красная гоночная машина, маленькая и стремительная; при виде ее в воображении вставали бесчисленные туристские отели, девушки, собравшиеся у плавательных бассейнов, мимолетные встречи на дорогах, ответвляющихся от Большого Северного шоссе. Лучи солнца попали на эту машину, и она отбросила зайчика до самых окон столовой в женской школе. Машина была битком набита: на коленях у мужчины сидела женщина, другой мужчина примостился на подножке; автомобиль лавировал, гудел и метался то вправо, то влево, взбираясь на холм. Женщина пела, голос ее звучал неясно, его то и дело заглушали автомобильные гудки; она пела что-то старинное о невестах и букетах, что-то напоминающее пиво и устриц, и старый Лестер-бар, что-то несовместимое с маленькой яркой гоночной машиной. С вершины меловой гряды ветер относил слова обратно вдоль пыльной дороги навстречу старому «моррису», с хлопающим верхом, с погнутым крылом и тусклым передним стеклом, катившемуся следом, качаясь и отставая, со скоростью сорок миль в час.
Сквозь хлопанье старого брезента слова песни доносились до ушей Малыша. Он сидел рядом со Спайсером, управлявшим машиной. Невесты и букеты; он с угрюмой неприязнью подумал о Роз. Совет Спайсера не выходил у него из головы; на него как бы наступала невидимая сила: глупость Спайсера, фотография на молу, эта женщина… Кто она такая? Черт ее возьми… Выпытывает у Роз. Если он и женится, то, конечно, ненадолго: просто для того, чтобы заткнуть ей рот и выиграть время. Он не желал таких отношений ни с кем; двуспальная кровать, близость — его тошнило от этого, как от мысли о старости. Забившись в угол, подальше от места, где пружина проткнула сиденье, он покачивался вверх и вниз; его озлобленное целомудрие бунтовало. Жениться… это все равно что испачкаться в нечистотах.
— Где Дэллоу и Кьюбит? — спросил Спайсер.
— Я не хотел брать их с собой сегодня, — ответил Малыш. — Сегодня нам надо кое-чем заняться, и лучше, чтобы наши ребята в это не вмешивались. — Как жестокий мальчишка, прячущий за спиной циркуль, он с притворным дружелюбием положил руку на плечо Спайсера. — Тебе я могу сказать. Я хочу договориться с Коллеони. Им я не доверяю. Они слишком горячие. Мы с тобой чисто обделаем это вдвоем.
— Я всей душой за мир, — сказал Спайсер, — всегда был за мир.
Малыш, усмехаясь, посмотрел через треснувшее ветровое стекло на длинную беспорядочную вереницу машин.
— Об этом я и хочу договориться, — сказал он.
— Но надо, чтобы мир был прочный, — добавил Спайсер.
— Никто и не думает нарушать его, — сказал Малыш. Еле слышное пение замерло среди пыли и яркого солнца; последний раз донеслось; «невеста», последний раз «букет» и какое-то слово, похожее на «венок».
— Как надо действовать, если хочешь оформить брак? — вырвалось вдруг у Малыша. — Если бы пришлось срочно жениться?
— Для тебя это не так легко, — ответил Спайсер. — Из-за твоего возраста. — Он притормозил старую машину, когда они поднялись на последний уступ мелового холма к белой ограде, к повозкам цыган. — Надо мне это обдумать.
— Думай скорее, — сказал Малыш. — Не забудь, что сегодня вечером ты выметаешься.
— Конечно, — ответил Спайсер. Из-за своего отъезда он стал немного сентиментальным. — В восемь десять. Вот бы тебе поглядеть на этот бар. Всегда будешь дорогим гостем. Ноттингем хороший город. Приятно отдохнуть там немного. Воздух там чистый, а лучшего горького пива, чем в «Голубом якоре», нигде не найти. — Он усмехнулся. — Я и забыл, ты ведь непьющий.
— Желаю тебе всего хорошего.
— Ты всегда будешь дорогим гостем, Пинки.
Они отогнали свою старую машину на стоянку и вышли. Малыш взял Спайсера под руку. Жизнь была хороша: он шел вдоль белой, высушенной солнцем стены — мимо фургонов с громкоговорителями, мимо человека, разглагольствовавшего о втором пришествии, навстречу самому приятному из всех ощущений: причинять боль.
— Ты славный парень, Спайсер, — сказал Малыш, сжав его локоть, а Спайсер тихо, дружески и доверительно начал рассказывать ему о «Голубом якоре».
— Это не то, что какое-нибудь дело, зависящее от кого-то, у него хорошая репутация. Я всегда думал: когда накоплю достаточно денег, войду в дело моего дружка. Он и сейчас мне это предлагает. Я уж почти решил ехать, когда они убили Кайта.
— Тебя легко напугать, правда? — спросил Малыш.
Громкоговорители с фургонов советовали им, на какую лошадь поставить деньги; цыганята с криками гонялись за кроликом по утоптанной меловой площадке. Они прошли через туннель под ипподромом и выбрались из мрака на короткую серую травку, спускавшуюся вниз, к загородным домикам и к морю. В меловой пыли валялись старые рекламные карточки букмекеров: самодовольное улыбающееся сектантское лицо на желтом фоне — «Баркер примет вашу ставку», «Не беспокойтесь, я плачу»; среди чахлых платанов были разбросаны старые билеты тотализатора. Они прошли через проволочное заграждение на места стоимостью в полкроны.
— Выпей стакан пива, Спайсер, — сказал Малыш, подталкивая его.
— Вот это мило с твоей стороны, Пинки. С удовольствием выпью стаканчик. — И пока он пил у деревянных подмостков, Малыш оглядывал ряд букмекеров. Там были Баркер, и Макферсон, и Джордж Бил («Старая фирма»), и Боб Тевел из Клептона, все знакомые лица, льстивые и фальшиво-приветливые. Первые два заезда уже прошли; у окошек тотализаторов стояли длинные очереди. Напротив, на другой стороне ипподрома, виднелась залитая солнцем трибуна лондонского конского рынка; несколько лошадей галопом мчались к старту.
— Вон Генерал Бергойн, он просто неутомим, — сказал какой-то человек и направился к будке Боба Тевела, чтобы сделать ставку.
Букмекеры стирали цифру выплаты и меняли ее, когда лошади проносились мимо финиша, словно боксерскими перчатками колотя копытами по дерну.
— Думаешь много поставить? — спросил Спайсер, выпив пива и дохнув солодом в сторону букмекеров.
— Я не играю, — ответил Малыш.
— Это последний мой шанс в добром старом Брайтоне, — сказал Спайсер. — Ничего не случится, если я рискну парой фунтов. Не больше. Хочу сохранить свои деньги до Ноттингема.
— Давай, — сказал Малыш, — развлекайся, пока можешь.
Они пошли вдоль ряда букмекеров к будке Бруера; вокруг нее было много народа.
— Его дела идут хорошо, — заметил Спайсер, — видишь Веселого Монарха? Вон он поскакал. — И пока он говорил, по всему ряду букмекеры стирали старую цифру выдачи — шестнадцать к одному. — Десять к одному, — сказал Спайсер.
— Развлекайся, пока ты здесь, — повторил Малыш.
— Почему бы не поддержать старинную фирму? — сказал Спайсер, освобождая руку и направляясь к будке Тейта. Малыш улыбнулся. Ему это было так же легко, как вылущить стручок гороха. — Мементо Мори,[17] — произнес Спайсер, отходя от будки с карточкой в руке. — Забавное имя для лошади. На этот раз пять к одному. Что значит Мементо Мори?
— Это что-то заграничное, — ответил Малыш. — Выплата на Черного Мальчика уменьшается.
— Лучше бы я поставил на Черного Мальчика, — сказал Спайсер. — Там одна женщина, говорят, поставила двадцать пять бумаг на Черного Мальчика. По-моему она с ума сошла. Но подумай, вдруг она выиграет. Господи, я бы уж знал, что делать с двумястами пятьюдесятью фунтами! Я бы сразу внес пай за «Голубой якорь». Только меня тут и видели бы. — И он посмотрел вокруг, на сверкающее небо, на пыльный ипподром, на разорванные карточки со ставками и на низкую травку, спускающуюся к медлительному темному морю под грядой холмов.
— Черный Мальчик не выиграет, — сказал Малыш. — Кто это поставил на него двадцать пять бумаг?
— Какая-то баба. Она была вон там, в баре. А почему бы тебе не поставить пять бумажек на Черного Мальчика? Сыграй разок, чтобы отпраздновать…
— Что отпраздновать? — быстро спросил Малыш.
— Да я и сам не знаю, что ляпнул, — ответил Спайсер. — Я так рад этому отпуску, вот мне и кажется, что у всех праздник.
— Ну, если бы я захотел отпраздновать, — сказал Малыш, — так уж не Черным Мальчиком. Ведь это всегда был фаворит Фреда. Он говорил, что эта лошадь еще будет побеждать на Дерби. Вот бы не назвал такую лошадь удачливой. — Но он все-таки следил, как ее проводят у барьера: пожалуй, слишком уж молодая, слишком уж беспокойная. Наверху трибуны с местами за полкроны стоял какой-то субъект и сигнализировал рукой Бобу Тевелу из Клептона, а маленький человечек, изучавший в бинокль десятишиллинговую трибуну, вдруг начал сильно жестикулировать, привлекая внимание «Старинной фирмы».
— Вот видишь, что я тебе говорил, — сказал Малыш. — Выплата за Черного Мальчика снова снижается.
— Двенадцать к одному, Черный Мальчик, двенадцать к одному, — закричал агент Джорджа Била, и кто-то сказал:
— Пошли.
Люди отвалили от ларьков с напитками к барьерам, неся с собой стаканы пива и булочки с изюмом. Баркер, Макферсон, Боб Тевел — все стерли цифры выплаты со своих досок, но «Старая фирма» продолжала игру до конца: пятнадцать к одному за Черного Мальчика; а в это время маленький человечек подавал таинственные знаки с верхнего ряда трибуны. Лошади неслись, сбившись в кучу, с резким топотом, казалось, что на ипподроме колют дрова; вот они уже промчались мимо.
— Генерал Бергойн, — сказал кто-то, а еще кто-то другой прибавил:
— Веселый Монарх.
Любители пива пошли обратно к ларькам и выпили еще по стакану, а букмекеры выставили имена лошадей, участвующих в заезде, назначенном на четыре часа, и начали выписывать мелом некоторые цифры выплаты.
— Вот видишь? — сказал Малыш. — Что я тебе говорил? Фред никогда не умел отличить хорошую лошадь от плохой. Эта сумасшедшая баба зря выложила двадцать пять бумаг. Сегодня счастливый день вовсе не для нее. Ну что ж…
Однако тишина, бездействие, после того как заезд уже кончился, а результаты еще не объявлены, повлияли на всех удручающе. У тотализаторов стояли очереди; все на бегах вдруг притихло, ожидая сигнала начать снова; в тишине раздавалось ржание какой-то лошади, не умолкавшей все время, пока ее вели от помещения для взвешивания.
Внезапно среди покоя и яркого света Малыша охватила тревога. Озлобленный, преждевременно состарившийся, он вдруг ощутил всю тяжесть своего жизненного опыта, ограниченного брайтонскими трущобами. Ему захотелось, чтобы здесь были Кьюбит и Дэллоу. Он слишком много взял на себя в свои семнадцать лет. Дело было не только в Спайсере. В Духов день он начал нечто такое, чему не было конца. Смерть не была концом; кадило раскачивалось, и священник поднимал чашу с причастием, а громкоговоритель нараспев объявлял имена победителей:
— Черный Мальчик, Мементо Мори, Генерал Бергойн.
— Господи! — вскричал Спайсер. — Я выиграл! Вот так Мементо Мори. — И вспомнив, что говорил Малыш, он добавил: — И она тоже выиграла. На двадцать пять бумаг. Вот куча денег! Ну, что ты теперь думаешь о Черном Мальчике?
Пинки молчал. Он подумал: «Лошадь Фреда. Будь я одним из этих полоумных типов, которые стучат по дереву, бросают соль через плечо, боятся проходить под стремянкой, я бы сейчас испугался…»
Спайсер дернул его за рукав.
— Я выиграл, Пинки. Десятку. Что ты на это скажешь?
…Выполнить то, что он так тщательно продумал. Откуда-то издалека, с трибуны, послышался смех, смех женщины, сочный, доверчивый, — вероятно, та баба, что поставила двадцать пять бумаг на лошадь Фреда. Он обернулся к Спайсеру со скрытой злобой; от жестокости все его тело напряглось, как от вожделения.
— Здорово! — сказал он, обняв Спайсера за плечи — Ну, так получай свой выигрыш.
Они вместе направились к будке Тейта. На деревянной ступеньке стоял молодой человек с напомаженными волосами и выплачивал деньги. Сам Тейт ушел на десятишиллинговую трибуну, но оба они знали Сэмюела. Когда они приблизились, Спайсер радостно окликнул его:
— Ну что ж, Сэмми, придется платить.
Сэмюел смотрел, как Спайсер и Малыш шли по низкой вытоптанной траве, под руку, точно добрые старые друзья. Вокруг стояли с полдюжины людей и ждали чего-то; последний счастливчик отошел; они ждали молча; какой-то маленький человечек, держа в руках бухгалтерскую книгу, высунул кончик языка и облизал запекшиеся губы.
— Тебе везет, Спайсер, — сказал Малыш, сжимая ему локоть. — Желаю повеселиться на эту десятку.
— Но ты ведь еще не прощаешься со мной? — спросил Спайсер.
— Я не буду ждать заезда четыре тридцать. Мы уже больше не увидимся.
— А как же с Коллеони? — спросил Спайсер. — Разве мы с тобой…
Лошадей прохаживали перед новым стартом; выплата росла, толпа хлынула к тотализатору и оставила Малышу и Спайсеру свободный проход. Маленькая группа в конце прохода все ждала чего-то.
— Я передумал, — сказал Малыш. — Схожу к Коллеони в его отель. Получай свои деньги.
Их остановил человек без шляпы, из тех, что собирают сведения о лошадях перед бегами.
— Хотите совет на следующий заезд? Только шиллинг. Сегодня те две лошади, на которых я советовал ставить, выиграли. — Из башмаков у него торчали пальцы.
— Советуй сам себе и катись, — ответил ему Малыш.
Спайсер не любил расставаний. У него была чувствительная натура; он переминался с ноги на ногу — болела мозоль.
— Смотри-ка, — сказал он, глядя вдоль прохода на будку, — ребята Тейта до сих пор еще не выставили цифру выплаты.
— Тейт всегда медлит. Медлит и тогда, когда нужно платить. Получай-ка лучше свои деньги.
Он подталкивал Спайсера, держа его за локоть.
— А что, там ничего не случилось? — спросил Спайсер. Он взглянул на ожидающих людей. Они смотрели мимо него.
— Ну что ж, прощай, — сказал Малыш.
— Так не забудь же адрес, — повторил Спайсер. — «Голубой якорь», не забудь, Юнион-стрит. Напиши, что будет новенького, хотя вряд ли будут какие-нибудь новости, касающиеся меня.
Малыш поднял руку, словно собираясь хлопнуть Спайсера по плечу, и снова опустил ее: группа людей стояла, сбившись в кучу, чего-то ожидая.
— Может, и так, — сказал Малыш; он посмотрел вокруг: не было конца тому, что он начал. Порыв жестокости охватил его. Он опять поднял руку и хлопнул Спайсера по спине. — Желаю удачи, — сказал он высоким, ломающимся голосом подростка и снова хлопнул его по спине.
Стоявшие группой люди как по команде подошли и окружили их. Малыш услышал, как Спайсер крикнул: «Пинки!» — и увидел, как он упал; кто-то поднял ногу в тяжелом, подбитом гвоздями сапоге; а потом Пинки почувствовал, как боль, словно кровь, побежала по шее у него самого. Вначале удивление было хуже боли (его как будто только обожгло крапивой).
— Вы что, спятили, что ли? — закричал Малыш. — Ведь вам нужен не я, а он. — И, обернувшись, увидел, что его плотным кольцом обступили смуглые лица. Они скалили зубы ему в ответ: у каждого была наготове бритва; и тут он впервые вспомнил смех Коллеони, донесшийся к нему по телефонному проводу. Толпа рассыпалась при первых признаках драки; он слышал, как Спайсер крикнул: «Пинки, ради Христа!» Какая-то непонятная борьба в стороне достигла крайнего напряжения, но он ничего не видел. Он должен был следить за другим: ему угрожали длинные опасные бритвы, блестевшие на солнце, которое спускалось от Шорхема к гряде меловых холмов. Он сунул руку в карман, чтобы достать свое лезвие, но человек, стоявший прямо против него, наклонился и полоснул его по костяшкам пальцев. Боль пронзила Малыша; его охватили ужас и изумление, как будто какой-то запуганный пацан в школе вдруг первым вонзил в него циркуль.
Они не пытались схватить и прикончить его. Задыхаясь, он проговорил:
— Я отомщу за это Коллеони. — И дважды крикнул: «Спайсер!» — прежде чем вспомнил, что Спайсер не может ответить.
Банда забавлялась точно так же, как прежде всегда забавлялся он сам. Один из них наклонился вперед и порезал ему щеку, а когда он поднял руку, закрывая лицо, они снова полоснули его по пальцам. Он заплакал, и в это время за барьером послышалась барабанная дробь копыт по земле. Было четыре тридцать. Начался заезд.
Тут с трибуны кто-то крикнул:
— Шпики!
И они все вместе быстро приблизились к нему вплотную. Кто-то ударил его ногой в бедро, он схватил рукой чью-то бритву и порезался до кости. Они рассыпались во все стороны — на край беговой дорожки выбежали полицейские, медлительные в своих тяжелых сапогах. Малыш проскочил между ними. Несколько полицейских погнались за ним и, миновав проволочное заграждение, кинулись вниз, по склону меловой гряды к домикам и к морю. На бегу он плакал; он хромал на ту ногу, по которой его ударили; он даже пытался молиться. Ты можешь быть спасен и в последнюю минуту «между стременем и землей», но ты не можешь спастись, если не раскаешься, а у него не было времени почувствовать хотя бы малейшее угрызение совести, пока он с трудом спускался по меловому холму. Он бежал неуклюже, ковыляя, кровь текла у него по лицу и из обеих рук.
Теперь его преследовали только двое; для них это была просто забава — они гнались за ним, как гнались бы за кошкой. Он достиг первых домиков на берегу, но вокруг никого не было; все ушли на бега, дома были пусты — ничего, кроме неровной мостовой и маленьких лужаек, дверей с цветными стеклами да косилки для газона, брошенной на посыпанной гравием дорожке. Он не осмелился укрыться в доме — если бы он стал звонить и ждать, пока откроют, они настигли бы его. Теперь он вынул свою бритву, но до сих пор ему никогда не приходилось применять ее против вооруженного врага. Ему нужно было спрятаться, но он оставлял за собой на дороге кровавый след.
Двое полицейских запыхались; они вдобавок все время хохотали, а у него были молодые легкие. Они остались далеко позади. Малыш обернул руку носовым платком и откинул голову так, чтобы кровь текла ему за шиворот; он завернул за угол и вбежал в пустующий гараж, прежде чем они показались из-за угла. Так стоял он в полутемном сарае, с бритвой наготове, пытаясь раскаяться. Он думал: «Спайсер. Фред». Но мысли его простирались не дальше, чем за угол, откуда вновь могли появиться его преследователи; он понял, что у него не хватит силы воли раскаяться.
И когда долгое время спустя опасность, казалось, миновала и на руки его легли длинные тени, он стал думать не о загробной жизни, а о собственном унижении. Он плакал, просил пощады, бежал; Дэллоу и Кьюбит узнают об этом. Что теперь будет с бандой Кайта? Он старался думать о Спайсере, но земные заботы не отпускали его. Он не мог управлять своими мыслями. Он стоял с подгибающимися коленями у бетонной стены, держа бритву наготове и не спуская глаз с угла. Мимо прошли какие-то люди, едва различимые звуки музыки с Дворцового мола стучали у него в мозгу, как будто там зрел нарыв; на чистой пустой дачной улице загорелись огни.
Гараж этот никогда не служил гаражом; из него сделали что-то вроде оранжереи; зеленые росточки вылезали, как гусеницы, в низких ящиках с землей; тут же были лопата, заржавленная косилка для газона и весь тот хлам, для которого не хватило места в крошечном домике: старая лошадь-качалка, детская коляска, превращенная в тачку, стопка старинных пластинок фирмы «Александр»: «Рэгтайм джаз», «Танцевальные мелодии», «Забудьте ваши заботы», «Если бы ты была единственной девушкой»; они лежали вместе с садовыми совками на потрескавшемся полу, и тут же валялась кукла с одним стеклянным глазом, в платье, покрытом плесенью. Он окинул все это быстрым взглядом, держа бритву наготове, кровь запеклась у него на щеке, капала с руки, откуда соскользнул платок. Какой бы неудачник ни владел этим домом, к его собственности прибавилось и это: маленькое высыхающее пятно на бетонном полу.
Кем бы ни был этот владелец, по-видимому, он уже давно обосновался здесь. Детская коляска, превращенная в тачку, вся была покрыта наклейками — свидетельствами бесчисленных путешествий по железной дороге: Донкастер, Личфилд, Клектон (туда, наверное, ездили на время летнего отпуска), Ипсвич, Нортхемптон; грубо сорванные перед следующим путешествием, эти наклейки наложили неизгладимый отпечаток на оставшийся здесь хлам. И вот это — маленькая дача под ипподромом — было лучшим финишем, к которому мог прийти ее владелец. Без сомнения, этот заложенный домик под меловой грядой и был концом всему, как неровный след прибоя на песке; хлам этот свалили здесь и больше его уж никуда перевозить не будут.
И Малыш ненавидел хозяина домика. Безымянного и безликого. Малыш все-таки ненавидел его. Кукла, детская коляска, сломанная лошадь-качалка. Маленькие, вылезшие из земли ростки раздражали его, как само неведение. Он чувствовал себя голодным, слабым, потрясенным. Он познал боль и страх.
Теперь, когда мрак застилал подножие холмов, ему пора было успокоиться. Между стременем и землей оставалось мало времени: в одно мгновение невозможно сломать привычный ход мысли — привычка крепко держит нас, когда мы умираем, и он снова вспомнил Кайта, как на него напали и как он умирал на вокзале Сент-Панкрас в зале ожидания, где носильщик сыпал угольную пыль на решетку погасшего камина и при этом все время говорил о чьих-то девках.
Но Спайсер… Мысли Малыша неизбежно возвращались к нему, принося облегчение. Они покончили со Спайсером. Невозможно раскаиваться в том, что приносит безопасность. У той пронырливой женщины теперь не будет свидетеля, разве только Роз, а с Роз он поладит; а затем, когда он будет в полной безопасности, он сможет подумать о том, чтобы угомониться, вернуться домой, и сердце его замирало от неясной тоски по крошечной темной исповедальне, где слышится голос священника и люди, стоя перед распятием у ярких огней, горящих в розовых подсвечниках, ждут спасения от вечных мук. Раньше он не мог представить себе вечные муки, теперь же они воплощались для него в нескончаемом лязге бритв.
Он осторожно выскользнул из гаража. Новая мощеная улица, проложенная среди меловых холмов, была пуста, только какая-то пара стояла, тесно прижавшись друг к другу, у деревянного забора, куда не достигал свет фонарей. От этой картины его затошнило, он ощутил прилив злобы. Он прохромал мимо них, крепко держа бритву в порезанной руке, полный жестокого целомудрия; оно тоже искало удовлетворения, но не такого грубого, обыденного, короткого, к которому стремились они.
Он знал, куда идти. Он не собирался возвращаться в пансион Билли в таком виде — с паутиной из гаража на одежде, с порезами на лице и руках, свидетельствующими о его поражении. На белой каменной крыше «Аквариума» танцевали на открытом воздухе; он спустился вниз, к пляжу, где было меньше народа; сухие водоросли, принесенные прошлогодними зимними штормами, хрустели у него под ногами. До него доносилась музыка: «Та, которую я люблю», «Заверни его в целлофан», он подумал: «Положи его в серебряную бумажку». Ночная бабочка, обжегшись о фонарь, ползла по куску дерева, выброшенному на берег морем, и он прикончил ее, раздавив испачканным мелом, башмаком. Когда-нибудь, когда-нибудь и я… Он хромал по песку, спрятав окровавленную руку, — юный диктатор. И глава банды Кайта. Поражение это только временное. Исповедуюсь, когда буду в такой безопасности, что смогу искупить все. Одной исповеди вполне достаточно. Желтый месяц поднялся над Хоувом, над математически правильной площадью Регентства, а он, хромая, шел по сухому песку, куда не достигали волны, мимо запертых купальных кабинок и грезил наяву: «Я пожертвую в церковь статую».
Он поднялся с пляжа как раз в том месте, где кончался Дворцовый мол, и продолжал свой мучительный путь через набережную. Кафе Сноу было залито светом. Играло радио. Малыш стоял на тротуаре, пока не увидел Роз, подававшую на стол возле самого окна; тогда он подошел и прильнул лицом к стеклу. Она сразу заметила Малыша; его взгляд сигнализировал ее мозгу так быстро, как будто Малыш позвонил ей по автоматическому телефону. Он вынул руку из кармана, но и его пораненное лицо уже достаточно напугало ее. Она пыталась сказать ему что-то через стекло, но он не мог ничего разобрать, словно с ним говорили на иностранном языке. Ей пришлось повторить три раза: «Иди с заднего хода», — прежде чем он прочел это по ее губам. Боль в ноге усилилась; он протащился вокруг здания, а когда поворачивался, мимо проезжал автомобиль, «ланчия», с шофером в ливрее, и мистер Коллеони, мистер Коллеони в смокинге и белом жилете, откинувшись на спинку сиденья, улыбался старой даме, одетой в пурпурный шелк. А может, это был совсем и не мистер Коллеони, — они так мягко и быстро пронеслись мимо, — а какой-нибудь другой богатый пожилой еврей, возвращающийся в «Космополитен» из Павильона с концерта.
Малыш нагнулся и посмотрел через щель почтового ящика в задней двери. Роз шла к нему по коридору, сжав руки, с сердитым лицом. Доверие его поколебалось: она заметила, как его отделали… Он всегда знал, что для девушек очень важно, какие у тебя ботинки и пиджак. «Если она прогонит меня, — подумал он, — я плесну на нее серной кислотой…» Но дверь открылась, и Роз была безмолвна и покорна, как всегда.
— Кто это сделал? — прошептала она. — Попадись они мне!
— Ничего! — сказал Малыш и привычно похвастал: — Я сам с ними разделаюсь.
— Боже, что у тебя с лицом, бедняжка?
Он с отвращением вспомнил, что женщинам, говорят, нравятся шрамы, они считают это признаком мужества, силы.
— Можно здесь помыться?
Она прошептала:
— Входи тихонько. Вот сюда, здесь кладовая, — и повела его в чуланчик, через который проходили трубы с горячей водой и где на маленьких полках в гнездах лежало несколько бутылок.
— А сюда не придут? — спросил он.
— Вино здесь никто не заказывает, — ответила она. — У нас нет разрешения. А это осталось нам от прежнего владельца ресторана. Управляющая пьет себе на здоровье. — Каждый раз, упоминая кафе Сноу, она с легким самодовольством говорила «мы» и «нам». — Садись, — сказала она. — Я принесу воды. Придется погасить свет, а то еще кто-нибудь увидит.
Но луна освещала каморку так, что он мог осмотреться в ней и даже прочесть этикетки на бутылках: имперские вина, австралийский рейнвейн, бургундское.
Она вышла совсем ненадолго, но, вернувшись, начала робко извиняться:
— Один клиент попросил счет, а тут еще повар на меня уставился. — Она принесла горячую воду в белой миске для пудинга и три носовых платка. — Это все, что у меня нашлось, — сказала она, разрывая платки. — Белье еще не принесли из стирки. — И, промывая длинный неглубокий порез, похожий на линию, проведенную иглой по его шее, добавила твердо: — Попадись они мне…
— Не болтай так много, — сказал он и протянул ей порезанную руку. Кровь начала уже запекаться, она неумело сделала перевязку.
— Болтался тут еще кто-нибудь, говорил с тобой, расспрашивал?
— Мужчина, с которым была та женщина.
— Шпик?
— Не похоже. Сказал, что его зовут Фил.
— Можно подумать, что это ты его расспрашивала.
— Все они любят поболтать.
— Не понимаю, — сказал Малыш. — Чего они хотят, если они не шпики? — Он протянул здоровую руку и ущипнул Роз повыше локтя. — Ты им ничего не сказала?
— Ничего, — ответила она и в темноте преданно посмотрела на него. — А ты перепугался?
— Меня ни в чем не могут обвинить.
— Я хочу сказать, — пояснила она, — когда те люди сделали это, — и она тронула его руку.
— Перепугался? Конечно, нет, — солгал он.
— Почему они напали на тебя?
— Я тебе велел не задавать вопросов. — Он встал, покачиваясь из-за ушибленной ноги. — Почисти мне пиджак. Не могу я выйти в таком виде. Мне нужно выглядеть прилично.
Он прислонился к полке с молодым бургундским, пока она ладонью чистила пиджак. Лунный свет заливал каморку, маленькую полку с гнездами, бутылки, узкие плечи, гладкое лицо перепуганного подростка.
Он понял, что ему не хочется выходить на улицу, отправляться назад в пансион Билли, к бесконечным совещаниям с Кьюбитом и Дэллоу о том, что делать дальше. Жизнь была рядом сложных тактических ходов, таких же сложных, как маневрирование войск при Ватерлоо; их обдумывали на железной кровати среди объедков булки с колбасой. Одежду то и дело приходилось утюжить; Кьюбит и Дэллоу бранились, или Дэллоу таскался за женой Билли; старомодный телефон под лестницей звонил и звонил, а Джуди всегда разбрасывала окурки, даже на его кровати, — она слишком много курила и без конца приставала, требуя советов, на какую лошадь ей поставить. Как при такой жизни можно было думать о более глубокой стратегии? Ему вдруг мучительно захотелось остаться в маленькой темной кладовой, где тишина и бледный свет на бутылках молодого бургундского. Побыть одному хоть немножко…
Но он был не один. Роз тронула его за руку и спросила со страхом:
— А они не караулят тебя там, на улице?
Малыш отдернул руку.
— Нигде они не караулят. Я их отделал получше, чем они меня, — похвастал он. Они и не на меня собирались нападать, а только на беднягу Спайсера.
— На беднягу Спайсера?
— Бедняги Спайсера нет в живых. — И как раз в тот момент, когда он произнес это, по коридору из кафе донесся громкий смех, напоминавший о пиве, о добрых приятельских отношениях, смех женщины, которой не о чем жалеть. — Это опять она, — сказал Малыш.
— И правда, она.
Такой смех можно было услышать в сотне мест: смех радостный, беззаботный, принимающий только светлую сторону жизни, смех, звучащий, когда уходят корабли и другие люди плачут; смех, одобряющий непристойную шутку в мюзик-холле; смех у постели больного и в переполненном купе на Южной железной дороге; смех на бегах, когда выигрывает не та лошадь, смех веселой общительной женщины.
— Я боюсь ее, — прошептала Роз. — Не знаю, чего она хочет.
Малыш притянул ее к себе; тактика, тактика — никогда не хватало времени на стратегию; и в смутном ночном свете он увидел, как она подняла лицо для поцелуя. Он с отвращением заколебался — ничего не поделаешь, тактика. Он хотел бы ударить ее, заставить визжать, но вместо этого неумело чмокнул ее мимо рта. Поморщившись, он отнял губы и сказал:
— Послушай…
— У тебя ведь немного было девушек? — спросила она.
— Разумеется, много, — ответил он, — но послушай…
— Ты у меня первый, — сказала она. — Мне это приятно.
Стоило ей произнести эти слова, как он снова возненавидел ее. Ею даже нельзя похвастать. Он у нее первый; он ни у кого ее не отнял, у него не было соперника, никто другой и не посмотрел бы на нее, Кьюбит и Дэллоу не удостоили бы ее и взглядом… ее белесые волосы, ее простодушие, дешевое платье, которое он ощущал под рукой. Он ненавидел ее, как прежде ненавидел Спайсера, и поэтому действовал осмотрительно; он неловко сжал ее груди ладонями, подражая бурной страсти какого-то другого человека, и подумал: «Лучше, если бы она была пошикарнее, немного румян и волосы подкрасить, но она… самая дешевая, самая молодая, самая неопытная девчонка во всем Брайтоне… и чтобы я оказался в ее власти!»
— О господи, — сказала она, — ты такой ласковый со мной, Пинки. Я люблю тебя.
— Так ты не выдашь меня — ей?
В коридоре крикнули: «Роз!» Хлопнула дверь.
— Мне нужно идти, — сказала она. — О чем это ты… выдать тебя?
— Да все о том же. Если ты будешь болтать с ней. Если проговоришься, кто оставил карточку. Что это был не тот… ты знаешь кто.
— Не проболтаюсь. — По Вест-стрит проходил автобус; свет его фар упал через маленькое закрытое решеткой окошко прямо на ее бледное решительное лицо; она была как ребенок, складывающий руки и приносящий тайную клятву. — Мне все равно, что бы ты ни сделал, — тихо сказала она. Вот так же она не осудила бы его за разбитое стекло или за непристойное слово, написанное мелом на чужих дверях. Он молчал; и то, что она оказалась такой проницательной при всем своем простодушии, долгий жизненный опыт ее шестнадцати лет, преданность, глубину которой он угадывал, тронули его, как простая музыка;[18] свет перебегал с одной ее щеки на другую и потом на стену — на улице тормозила машина.
— Ты про что? Я ничего не сделал, — сказал он.
— Не знаю, — ответила она. — Мне все равно.
— Роз! — крикнул чей-то голос. — Роз!
— Это она меня зовет, — сказала Роз. — Точно, она. Все выпытывает. И голос такой медовый. Что она знает о нас? — Роз вплотную приблизилась к Малышу. — Когда-то я тоже совершила кое-что, — прошептала она. — Смертный грех! Когда мне было двенадцать лет. Но она, она-то не знает, что такое смертный грех.
— Роз! Где ты? Роз!
Тень от ее юного лица метнулась по стене, залитой лунным светом.
— Добро и зло. Вот о чем она все твердит. Я слышала, как она говорила это за столом. Добро и зло. Как будто она что-нибудь знает! — Роз с презрением прошептала: — Ну, она-то не будет гореть в аду. Не смогла бы гореть, даже если бы захотела попробовать. — Таким же тоном она говорила бы о подмокшем фейерверке. — Молли Картью — та горит. Она была такая хорошенькая! Покончила с собой. Отчаялась. Это смертный грех. Ей нет прощенья. Если только… что это ты говорил о стремени?
— Между стременем и землей, — неохотно ответил он. — Это ни к чему.
— А что сделал ты? Сознался в этом на исповеди?
Мрачный, упрямый, положив забинтованную руку на австралийский рейнвейн, он ответил уклончиво:
— Я уже много лет не хожу в церковь.
— А мне безразлично, — повторила она. — Лучше уж мне гореть вместе с тобой в аду, чем быть такой, как она. Она же непросвещенная, — повторила девушка своим детским голоском и запнулась на слове «непросвещенная».
— Роз! — Дверь в их убежище отворилась. Вошла управляющая в строгом зеленом форменном платье; на груди у нее с пуговицы свисало пенсне; вместе с ней в каморку проникли свет, голоса, радио, смех; их мрачный разговор о религии оборвался. — Дитя мое, — сказала управляющая. — Что ты тут делаешь? А это что еще за девчонка? — добавила она, всматриваясь в худенькую фигуру, прячущуюся в тени; но когда он вышел на свет, она поправилась: — Что это за мальчик? — Взгляд ее пробежал по бутылкам, как бы пересчитывая их. — Сюда нельзя водить ухажеров.
— Я пошел, — сказал Малыш.
Она подозрительно и с неодобрением посмотрела на него; его одежда все еще была в паутине.
— Не будь вы таким юным, я бы позвала полицию.
— А я бы доказал свое алиби, — ответил он, впервые обнаружив чувство юмора.
Управляющая повернулась к Роз.
— Ну а ты… — сказала она, — о тебе мы потом поговорим. — Она внимательно оглядела Малыша, когда он выходил из каморки, и добавила с отвращением: — Вы еще не доросли до таких дел.
Не доросли — в этом и было затруднение. Спайсер не успел перед смертью придумать, как его обойти. Она была слишком молода, чтобы заткнуть ей рот при помощи женитьбы, слишком молода, чтобы можно было помешать полиции привлечь ее в качестве свидетельницы, если когда-нибудь до этого дойдет дело. Она может дать показания… ну, например, сказать, что совсем не Хейл оставил ту карточку, что ее оставил Спайсер, что он, Малыш, приходил и искал ее под скатертью. Она помнила даже эту подробность. А смерть Спайсера еще усилит подозрения. Он должен заткнуть ей рот любым способом; он должен обрести покой.
Малыш медленно поднялся по лестнице в свою комнату в пансионе Билли. Он почувствовал, что начинает понемногу отходить; телефон беспрерывно звонил; а когда Малыш совсем успокоился, он стал замечать то, на что годами не обращал внимания. Кьюбит вышел из комнаты внизу с куском яблока за щекой и сломанным перочинным ножом в руке и снял трубку.
— Нет, — сказал он, — Спайсера тут нет. Он еще не возвращался.
— Кому это понадобился Спайсер? — крикнул Малыш с площадки лестницы.
— Она уже повесила трубку.
— А кто это?
— Не знаю. Какая-то из его девчонок. Он тут к одной неравнодушен; встречается с ней в «Червонной даме». Где же это Спайсер, Пинки?
— Он мертвый. Банда Коллеони его прикончила.
— Господи, — проговорил Кьюбит. Он сунул нож в карман и выплюнул яблоко. — Говорил я, надо оставить Бруера в покое. Что же нам теперь делать?
— Поднимись сюда, — сказал Малыш. — А где Дэллоу?
— Ушел куда-то.
Малыш первым прошел в свою комнату и зажег единственную лампочку. Ему вспомнился номер Коллеони в «Коспомолитене». Но нужно же с чего-то начинать.
— Вы опять ели на моей кровати, — заметил он.
— Это не я, Пинки. Это Дэллоу. Слушай, Пинки, тебя они тоже порезали?
Малыш опять солгал:
— И я в долгу не остался. — Но ложь эта была признаком слабости. Он не привык лгать. — Нечего нам особенно сокрушаться о Спайсере, — продолжал Малыш. — Он сдрейфил. И хорошо, что он на том свете. Ведь девушка у Сноу видела, как он оставил там карточку. Ну а когда он будет похоронен, никто уж его не опознает. Можно будет даже сжечь его в крематории.
— Ты что, думаешь, шпики уже…
— Шпики мне не страшны. Тут другие вынюхивают.
— Так ведь против докторов не попрешь!..
— Ты-то знаешь, что мы его убили, а доктора признают, что он умер своею смертью. Вот и разберись сам. Я, например, не могу. — Он сел на кровать и стряхнул с нее крошки, оставшиеся после Дэллоу. — Без Спайсера нам безопасней.
— Тебе, конечно, виднее, Пинки. Но зачем Коллеони понадобилось…
— Наверное, он испугался, что мы расправимся с Тейтом на бегах. Нужно срочно найти Друитта. Хочу, чтобы он мне кое-что устроил. Уж если есть здесь хоть один адвокат, которому можно доверять, так это он.
— А что случилось, Пинки? Что-нибудь серьезное?
Малыш прислонился головой к медному столбику кровати.
— Может, мне все-таки придется жениться.
Кьюбит вдруг разразился хохотом, широко раскрыв большой рот и показав гнилые зубы. Штора за ним была полуспущена; она закрывала ночное небо, но позволяла видеть трубы, черные, торчавшие вверх, бледный дым поднимался в воздухе, пронизанном лунным светом, Малыш молча и пристально смотрел на Кьюбита, прислушиваясь к его хохоту, словно в нем звучала насмешка всего мира.
Когда Кьюбит перестал хохотать, Малыш сказал:
— Давай, позвони мистеру Друитту. Пусть он придет сюда, — и, скользнув взглядом по Кьюбиту, уставился на шишечку, привязанную к шнурку шторы и слегка постукивавшую по стене, на трубы, выделявшиеся на фоне летней ночи.
— Он сюда не пойдет.
— Должен прийти. Не могу же я выходить в таком виде. — Он потрогал порезы у себя на шее. — А мне нужно все устроить.
— Ах ты, кутенок! — воскликнул Кьюбит. — Ты еще не дорос до этой игры.
Игра… И Малыш с любопытством, смешанным с отвращением, вновь представил себе маленькое, невзрачное, простодушное лицо, лунный свет, скользящий по бутылкам на полках, и повторяющиеся слова: «гореть, гореть в аду». Что люди понимают под этим словом — «игра»? Он все знал в теории и ничего на практике: весь его опыт состоял только из того, что ему было известно о вожделениях других людей, тех незнакомцев, которые пишут о своих желаниях на стенах общественных уборных. Он знал все ходы, но сам никогда не играл в эту игру.
— Может быть, до этого и не дойдет, — сказал он. — Но все-таки найди Друитта. Он все знает.
Друитт знал. Это было ясно с первого взгляда. Он мог добиться чего угодно, выкрутиться из любого положения, применить совсем не подходящую статью, использовать лжесвидетельство. Выигранные им дела оставили глубокие морщины на его желтом, гладко выбритом лице пожилого человека. В руках у него был коричневый кожаный портфельчик; полосатые брюки казались слишком новыми по сравнению с его потрепанным лицом. Он вошел в комнату с каким-то неестественно веселым видом, какой бывает у сидящих на скамье подсудимых; остроносые начищенные ботинки сияли. Все в нем, от улыбки до светлого пиджака, было новеньким, с иголочки, кроме него самого, постаревшего на многих судебных процессах, одержавшего много побед, более разрушительных, чем поражения. Он приобрел привычку никого не слушать: к этому его приучили бесчисленные замечания, раздававшиеся из-за судейского стола. Предупредительный, осторожный, он всегда был полон сочувствия и тверд, как камень.
Малыш кивнул ему, не вставая с кровати, на которой сидел.
— Привет, мистер Друитт.
Друитт сочувственно улыбнулся, поставил портфельчик на пол и уселся на стул возле умывальника.
— Прелестный вечер, — начал он. — Боже мой, вы попали в переделку! — Сочувствие как-то не вязалось с обликом адвоката; его можно было соскоблить с глаз Друитта, как ярлычок с ценой со старого кремневого ружья, купленного на аукционе.
— Я не из-за этого хотел вас повидать, — ответил Малыш. — Не пугайтесь. Просто хочу посоветоваться.
— Надеюсь, никаких неприятностей? — спросил Друитт.
— Я как раз хочу избежать неприятностей. Предположим, я решил жениться, что мне нужно сделать?
— Подождать годик-другой, — не задумываясь, ответил Друитт, как будто подсказал ему ход в карточной игре.
— А если через неделю? — спросил Малыш.
— Вся беда в том, — задумчиво проговорил Друитт, — что вы несовершеннолетний.
— Поэтому я и позвал вас.
— Бывают, конечно, случаи, когда люди не правильно указывают возраст. Имейте в виду, я вам этого не предлагаю. А сколько лет девушке?
— Шестнадцать.
— Вы в этом уверены? Потому что, если ей нет шестнадцати, брак будет незаконным, даже если вас обвенчает сам архиепископ в Кентерберийском соборе.
— Тут все в порядке, — сказал Малыш. — Ну а если мы неправильно укажем возраст, поженят нас по всем правилам?… По закону?
— Поженят накрепко.
— И полиция тогда не сможет вызвать девушку?
— В качестве свидетельницы против вас? Только с ее согласия. Конечно, это будет правонарушением. Вас могут посадить в тюрьму. А кроме того… есть и другие трудности.
Друитт прислонился спиной к умывальнику, так что его седые прилизанные волосы коснулись кувшина; он многозначительно посмотрел на Малыша.
— Вы ведь знаете, я заплачу, — сказал Малыш.
— Во-первых, — возразил Друитт, — вам следует иметь в виду, что на это потребуется время.
— Тянуть-то здесь нельзя.
— Вы хотите венчаться в церкви?
— Ясное дело, нет, — ответил Малыш. — Это ведь не настоящий брак.
— Но все-таки законный!
— Ну, не совсем. Священник же нас венчать не будет!
— Ваши религиозные чувства делают вам честь, — сказал Друитт. — Это, как я понимаю, будет гражданский брак. Пожалуй, можно получить разрешение… Надо не меньше пятнадцати дней прожить на одном месте… в этом отношении вы подходите… ну и подать заявление за один день до свадьбы. Это все просто, вы могли бы уже послезавтра пожениться… в местной мэрии. Но есть другое затруднение. Брак несовершеннолетних — нелегкая штука.
— Давайте дальше. Я заплачу.
— Не стоит говорить, что вам двадцать один. Все равно никто не поверит. Но если вы скажете, что вам восемнадцать, то сможете жениться, получив разрешение родителей или опекуна. Ваши родители живы?
— Нет.
— А кто вам опекун?
— Не понимаю, о чем вы говорите?
— Ну, опекуна можно устроить, — подумав, сказал Друитт. — Хотя это рискованно. Лучше вам, пожалуй, потерять с ним связь. Допустим, он уехал в Южную Африку, а вас оставил здесь. Из этого может получиться хорошая версия, — задумчиво добавил Друитт. — Брошенный в этом мире совсем младенцем, вы мужественно прокладывали себе дорогу в жизни. — Его глаза перебегали от одного шарика кровати к другому. — Будем надеяться, что чиновник-регистратор возьмет решение на себя.
— Вот уж никогда не думал, что это так трудно, — сказал Малыш. — Может быть, мне лучше действовать другим путем?
— Дайте срок, — возразил Друитт, — все можно устроить. — Отеческая улыбка обнажила винный камень на его зубах. — Скажите только одно слово, дитя мое, и я вас быстро поженю. Доверьтесь мне. — Он встал; его полосатые брюки напоминали брюки свадебного гостя, взятые напрокат у Мосса[19] специально ради этого торжества; он прошел через комнату, улыбаясь желтозубой улыбкой, как будто направлялся к невесте, чтобы поцеловать ее. — Не дадите ли вы мне гинею за консультацию, нужно сделать кое-какие покупки… для супруги…
— Вы что, женаты? — спросил Малыш с неожиданным интересом. Ему никогда и в голову не приходило, что Друитт… Он вглядывался в его улыбку, в желтые зубы, в изборожденное морщинами, потрепанное, не внушающее доверия, лицо, как будто все это могло подсказать ему…
— В будущем году моя серебряная свадьба, — ответил Друитт. — Двадцать пять лет играю я в эту игру.
В дверь просунул голову Кьюбит и сказал:
— Пойду пройдусь. — Он усмехнулся. — Ну, как дела с женитьбой?
— Подвигаются, — ответил Друитт. — Подвигаются. — Он похлопал по портфелю, как будто это была пухлая щечка смышленого ребенка. — Скоро нашего юного друга окрутят, вот посмотрите.
Во время этого разговора Малыш думал, откинувшись на грязную подушку и положив ногу в ботинке на розовое стеганое одеяло: «Это ведь не настоящая женитьба, это только для того, чтобы хоть на время заткнуть ей рот».
— Ну, пока, — сказал Кьюбит, стоя в ногах кровати и ухмыляясь.
Роз, маленькое преданное невзрачное личико, сладковатый вкус человеческой кожи, волнение в темной каморке возле полки с молодым бургундским… Он лежал на кровати, и в нем поднималось чувство протеста: только не теперь, только не с ней. Если это когда-нибудь и должно случиться, если по примеру всех и ему придется вступить в эту скотскую игру, то пусть это будет, когда он состарится, когда ему уже не к чему будет стремиться, и с кем-нибудь таким, из-за кого другие смогут ему позавидовать. Только не с такой недозрелой, простоватой, с такой же неопытной, как он сам.
— Скажите одно слово, — продолжал Друитт, — и мы это обделаем.
Кьюбит ушел.
— Возьмите фунтовую бумажку, вон там, на умывальнике, — сказал Малыш.
— Я тут ничего не нахожу, — угодливо ответил Друитт, перекладывая зубную щетку с места на место.
— В мыльнице… под крышкой.
В дверях показалась голова Дэллоу.
— Привет, — сказал он Друитту. — Что там такое со Спайсером? — обратился он к Малышу.
— Дело рук Коллеони. Пришили его на ипподроме, — ответил Малыш. — Меня тоже чуть было не пришили. — И он поднял забинтованную руку к порезанной шее.
— Так ведь Спайсер в своей комнате. Я слышал, как он там возится.
— Слышал?! — воскликнул Малыш. — Ты что выдумываешь?
Второй раз за этот день он испугался; тусклая лампочка освещала коридор, лестницу и стены, небрежно покрашенные коричневой краской. Он почувствовал, что кожа у него на лице передернулась, как будто ее коснулось что-то отвратительное. Ему захотелось узнать, можно ли увидеть и потрогать этого Спайсера или его можно только слышать. Он встал с кровати. Что бы там ни было, а это нужно встретить лицом к лицу… Не говоря ни слова, он прошел мимо Дэллоу. Дверь в комнату Спайсера хлопала от сквозняка. За ней ничего не было видно. Это была крошечная каморка. У всех у них были крошечные каморки, кроме Кайта, а комната Кайта перешла к Малышу по наследству. Вот почему там всегда все и болтались. А у Спайсера места хватило бы только для Малыша… и для самого Спайсера. Когда дверь открывалась, до него доносилось резкое поскрипывание чего-то кожаного. Ему снова вспомнились слова: «Dona nobis pacem», во второй раз он испытал неясную тоску — как будто он что-то потерял, что-то забыл или от чего-то отрекся.
Пройдя вдоль коридора, он вошел в комнату Спайсера.
Когда он увидел Спайсера, который, наклонившись, затягивал ремни своего чемодана. Малыш прежде всего почувствовал облегчение — это был несомненно живой Спайсер, до него можно было дотронуться, его можно было напугать, ему можно было приказывать. Щеку Спайсера пересекала длинная полоска пластыря. Стоя в дверях, Малыш глядел на нее со все возрастающей злобой; ему хотелось сорвать пластырь и увидеть, как вскрывается рана. Спайсер поднял глаза, положил чемодан, беспокойно отступил к стене.
— Я думал… я боялся… — пробормотал он, — что Коллеони пришил тебя.
По его страху было ясно, что он все знает. Малыш ничего не ответил и продолжал наблюдать за ним, стоя в дверях. Словно извиняясь за то, что остался Жив, Спайсер объяснил:
— Я выбрался…
Его слова увяли перед молчанием, равнодушием и решительностью Малыша, как вянет ветка водорослей, прибитая морем к берегу.
По коридору доносились стук передвигаемой посуды и голос Друитта:
— В мыльнице. Он сказал, что деньги в мыльнице.
2
— Я без устали буду обрабатывать эту девчонку, пока не добьюсь своего.
Она встала с угрожающим видом и прошла через кафе, словно военный корабль, идущий в бой за правое дело в войне, которая должна положить конец всем войнам, и поднявший сигнал: каждый исполнит свой долг. Ее большая грудь, которой она никогда не кормила ребенка, была полна безжалостного сострадания. Завидя ее, Роз бросилась прочь, но Айда неумолимо направилась к служебной двери. Теперь дело пошло в ход, она начала задавать вопросы, которые пришли ей на ум еще в баре Хенеки, когда она прочла в газете о дознании, и уже получала ответы. Фред тоже помог делу, посоветовав поставить на ту лошадь, которая выиграла, так что теперь у нее были не только друзья, но и деньги: беспредельные возможности для подкупа — двести фунтов.
— Добрый вечер, Роз, — сказала она, открыв дверь кухни и загородив ее собой.
Роз поставила поднос и обернулась со страхом, упрямством и враждебностью дикого зверька, не понимающего, что ему хотят добра.
— Опять вы тут? — сказала она. — Мне некогда. Не могу я болтать с вами.
— Но управляющая мне разрешила, милочка.
— Здесь нам нельзя разговаривать.
— А где мы можем поговорить?
— В моей комнате, если только вы пропустите меня.
Роз прошла вперед и поднялась по лестнице за рестораном на маленькую, покрытую линолеумом, площадку.
— Вам хорошо здесь, правда? — спросила Айда. — Я когда-то жила в общежитии, еще до того, как встретила Тома… Том это мой муж, — терпеливо, ласково и настойчиво объясняла она спине Роз. — Но там было похуже, чем здесь. А тут даже цветы на площадке! — радостно воскликнула она, заметив увядший букет на сосновом столе; она потрогала лепестки.
Дверь хлопнула. Роз закрыла ее перед Айдой, и когда та тихонько постучала, в ответ послышался упрямый шепот.
— Уходите. Не желаю я разговаривать с вами.
— У меня к вам серьезный разговор. Очень серьезный.
Пиво, выпитое Айдой, слегка подступило ей к горлу; она подняла руку ко рту и, машинально сказав: «Простите», — рыгнула в сторону закрытой двери.
— Я ничем не могу вам помочь. Я ничего не знаю.
— Впустите меня, милочка, и я вам все объясню. Не могу же я кричать отсюда, с площадки.
— Какое вам до меня дело?
— Я не хочу, чтобы пострадала невинная.
— Как будто вы знаете, кто невинный! — упрекнул ее тихий голосок.
— Откройте дверь, милочка. — Айда начала, правда понемногу, терять терпение; оно было почти такое же беспредельное, как и ее добрые намерения. Она взялась за ручку и толкнула дверь; она знала, что официанткам не разрешается запирать дверь на ключ; но на ручку был повешен стул. — Таким путем вы от меня не избавитесь, — сказала она с раздражением. Всей своей тяжестью она навалилась на дверь, стул затрещал и немного отклонился, образовалась щель.
— Я все равно заставлю вас слушать, — сказала Айда. Когда спасаешь жизнь человеку, не надо раздумывать; существует правило: оглушить утопающего, которого тащишь из воды. Айда просунула в щель руку, отцепила стул и прошла в отворившуюся дверь. Три железные кровати, комод, два стула, пара дешевых зеркал; она сразу заметила все это, а также Роз, прижавшуюся как можно дальше от нее к стене и с ужасом глядевшую на дверь своими невинными и простодушными глазами, которые словно сопротивлялись, отказываясь что-либо воспринимать.
— Не будьте же дурочкой, — сказала Айда. — Я вам друг. Я только хочу спасти вас от этого мальчишки. Вы ведь от него без ума? Не правда ли? Но разве вы не понимаете, что он — нехороший?
Она села на кровать, мягко, но безжалостно настаивая на своем.
— Вы совсем ничего не знаете, — прошептала Роз.
— У меня есть доказательства.
— Я не про это говорю, — ответила девочка.
— Он вас ни в грош не ставит, — сказала Айда. — Послушайте. Я ведь понимаю ваши чувства. Даю вам слово, я тоже в свое время не раз влюблялась в мальчишек. Конечно, это естественно. Это все равно что дышать. Но все-таки вы не должны терять голову. Этого никто не стоит, а уж о нем и говорить нечего. Он нехороший человек. Я не пуританка, не думайте. Я тоже не один раз в жизни увлекалась. Это же естественно. Ну, словом, — она покровительственно протянула к девочке свою массивную лапу, — я-то уж понимаю, что значит власть Венеры. Но я всегда стояла за правду. Вы еще такая молодая. У вас еще будет куча мальчиков, пока доживете до старости. Вы еще повеселитесь… Если только не позволите им помыкать собой. Это всем необходимо. Все равно что дышать. Не подумайте, что я против любви. Уж конечно, нет. Я, Айда Арнольд. Надо мной стали бы смеяться, если бы я сказала такое. — Пиво снова подступило ей к горлу, и она поднесла руку ко рту. — Простите, милочка. Вот видите, мы прекрасно можем договориться, когда мы заодно. У меня никогда не было своих детей, и я к вам привязалась. Вы милая девочка. — И вдруг она гаркнула: — Отойдите от стенки и ведите себя разумно. Он вас не любит.
— Мне все равно, — упрямо пробормотал детский голосок.
— Что значит — вам все равно?
— Я люблю его.
— Вы погубите себя. Будь я вашей матерью, я задала бы вам хорошую трепку. Что сказали бы ваши отец и мать, если бы они знали?
— Им все равно.
— А как вы думаете, чем это кончится?
— Не знаю.
— Вы еще молоды. В этом все и дело. Вы романтичны. Я тоже была такая. Когда вы вырастете, это с вас соскочит. Вам не хватает только немного жизненного опыта.
Глаза девочки с Нелсон-Плейс уставились на нее, не понимая; загнанный в свою норку зверек выглядывал в яркий веселый мир; в норе были убийство, совокупление, нужда, верность, любовь и страх Божий; зверек не обладал знанием, которое позволило бы ему отрицать, что только в сверкающем широком мире, там, за пределами его норы, существует нечто такое, что люди называют жизненным опытом.
3
Малыш смотрел вниз на тело, распростертое у подножия лестницы в пансионе Билли, словно Прометей на скале под орлом.[20]
— Боже мой, как же это случилось? — воскликнул Друитт.
— Давно уже надо было починить эту лестницу, — ответил Малыш. — Я говорил Билли, но этот подлец ни за что не хочет тратить деньги.
Он уперся забинтованной рукой в перила и толкал их, пока они не полетели вниз; выкрашенный в коричневую краску орел попал как раз на поясницу Спайсеру.
— Но ведь это случилось уже после того, как он упал, — запротестовал Друитт; его вкрадчивый голос законника прерывался от волнения.
— Вам это только показалось, — возразил Малыш. — Вы были здесь, в коридоре, и видели, как он прислонил свой чемодан к перилам. Напрасно он это сделал. Чемодан был слишком тяжелый.
— Боже мой, вам не удастся впутать меня в эту историю, — сказал Друитт. — Я ничего не видел. Я смотрел, что там в мыльнице. Вместе с Дэллоу.
— Вы оба видели, как он упал, — возразил Малыш. — И это хорошо. Нам повезло, что здесь как раз оказался уважаемый представитель закона. Одно ваше слово, и все будет в порядке.
— Я буду отрицать это, — сказал Друитт. — Я уйду отсюда. Я присягну, что никогда не был в этом доме.
— Оставайтесь на месте, — приказал Малыш. — Нам ни к чему еще один несчастный случай. Дэллоу, пойди позвони в полицию… и вызови врача, это будет солиднее.
— Вы можете задержать меня здесь, — проговорил Друитт, — но не можете заставить меня сказать…
— Я хочу, чтобы вы сказали только то, что сами хотите сказать. Не очень хорошо это выглядело бы, если бы меня обвинили в убийстве Спайсера, причем, когда я убивал его, вы были здесь… Искали что-то в мыльнице?… Этого было бы достаточно, чтобы погубить любого адвоката.
Друитт пристально посмотрел на сломанные перила на повороте лестницы над тем местом; где лежало тело.
— Вы бы лучше подняли тело, а обломки перил подложили бы под него, — медленно сказал он. — У полиции возникнет множество вопросов, если они увидят его в таком положении. — Он вернулся в спальню, сел на кровать и обхватил голову руками. — У меня голова разболелась, — сказал он, — мне надо домой. — Никто не обращал на него никакого внимания. Дверь в комнату Спайсера скрипела на сквозняке. — Голова у меня просто раскалывается, — повторил Друитт.
Дэллоу потащил по коридору чемодан; из него торчали тесемки от пижамы Спайсера; прижатые крышкой, они были похожи на выдавленную из тюбика зубную пасту.
— Куда он собрался ехать? — спросил Дэллоу.
— В Ноттингем, Юнион-стрит, «Голубой якорь», — ответил Малыш. — Надо им телеграфировать. Может, они захотят прислать цветы.
— Будьте осторожны с отпечатками пальцев, — умоляюще сказал Друитт, сидя рядом с умывальником; он не поднимал головы, по-видимому, от боли. Но услышав, как Малыш спускается по лестнице, он все-таки поднял глаза.
— Куда вы идете? — резко спросил он.
— Ухожу, — ответил Малыш.
— Вам нельзя сейчас уходить, — сказал Друитт.
— Меня здесь не было, — возразил Малыш. — Были только вы с Дэллоу. Вы ждали, пока я вернусь домой.
— Вас увидят.
— Ну что ж, тут придется рискнуть, — ответил Малыш. — У меня есть дела.
— Не говорите мне! — поспешно крикнул Друитт, но тут же, овладев собой, добавил уже негромко: — Не говорите мне, какие у вас дела…
— Нам нужно устроить все со свадьбой, — угрюмо сказал Малыш.
Он на мгновение остановил глаза на Друитте… у него супруга… он уже двадцать пять лет играет в эту игру… Казалось, Малыш хотел задать какой-то вопрос, казалось, он был почти готов принять совет от человека, значительно старше; казалось, он ожидал хоть немножко человеческой мудрости от изворотливого ума этого старого законника.
— Лучше уж поскорей покончить с этим, — мягко и грустно продолжал Малыш.
Он все еще смотрел в лицо Друитту, ища в нем хоть какого-нибудь отражения мудрости, приобретенной за двадцать пять лет участия в игре, но видел только испуганное лицо, замкнутое, словно витрина лавки, забитая досками во время уличных боев. Он продолжал спускаться по лестнице, погружаясь в глубокий колодец, на дно которого упало тело Спайсера. Он принял решение; теперь ему нужно было только двигаться к своей цели; он чувствовал, как кровь его отливала от сердца и вяло двигалась по жилам, словно поезда по внутреннему кольцу. Одна станция приближала его к безопасности, а следующая вновь удаляла от нее, пока он не огибал всю дугу, — тогда безопасность опять приближалась, как Ноттинг-Хилл,[21] а потом снова удалялась. Пожилая проститутка на набережной Хоува даже не обернулась, когда он оказался позади нее: как между электрическими поездами, идущими в одном направлении, столкновение между ними было невозможно. У них обоих была конечная цель, если можно говорить о конечной цели, когда речь идет о движении по кольцу.
У бара «Норфолк», возле тротуара, словно две парные кровати, стояли два ярко-красных гоночных автомобиля; Малыш машинально скользнул по ним взглядом, но вид их непроизвольно запечатлелся у него в мозгу, и в нем шевельнулась зависть.
Кафе Сноу было почти пусто. Он сел за тот столик, где когда-то сидел Спайсер, но к нему подошла не Роз. Его заказ приняла незнакомая девушка. Он неловко спросил:
— А Роз нет?
— Она занята.
— Можно ее видеть?
— Она с кем-то беседует в своей комнате. Вам туда нельзя. Придется подождать.
Малыш положил на стол полкроны.
— А где ее комната?
Девушка заколебалась.
— Управляющая просто взбесится.
— А где управляющая?
— Ушла.
Малыш положил на стол еще полкроны.
— Идите через служебный ход, — сказала девушка, — и прямо поднимитесь по лестнице. Хотя у нее там какая-то женщина…
Он услышал голос той женщины прежде, чем поднялся до конца лестницы. Она говорила:
— Я убеждаю тебя, желая тебе лишь добра…
Но услышать ответ Роз он смог, только напрягая слух:
— Оставьте меня в покое, почему вы не хотите оставить меня в покое?
— Каждый здравомыслящий человек поступил бы так же на моем месте.
Теперь Малыш мог заглянуть в комнату с верхней площадки лестницы, хотя массивная спина, широкое платье, квадратные бедра женщины почти заслоняли от него Роз, которая стояла у стены в позе, выражавшей угрюмый вызов. Маленькая и худенькая, в своем черном бумажном платье и белом переднике, с покрасневшими, но сухими глазами, испуганная, решительная и мужественная, она представляла какой-то странный контраст с Айдой, словно человечек в котелке, которого владелец балагана на ярмарке заставляет вызывать на борьбу силача.
— Оставьте меня наконец в покое, — повторила она.
Это были Нелсон-Плейс и Мэнор-стрит; они столкнулись здесь, в комнате служанки; на мгновение неприязнь исчезла, и он почувствовал неясную тоску. Он понял, что Роз неотделима от его жизни, как комната или стул: она была чем-то, что дополняло его. Он подумал: «А она крепче Спайсера». Даже самое скверное в нем нуждалось в ней: ведь и он не мог обойтись без добра.
— Чем это вы расстраиваете мою девушку? — тихо сказал он, и этот вопрос прозвучал для него неожиданно приятно, как утонченная жестокость. В конце концов, хоть он и метил выше Роз, у него было то утешение, что она не могла спуститься ниже его. Так он стоял, ухмыляясь, когда женщина обернулась. Между стременем и землей… Он уже убедился в несостоятельности этого утешения; в конце концов, если бы к нему привязалась какая-нибудь бесстыдная рыжая шлюха, из тех, что он видел в «Космополитене», его торжество было бы неполным. Он усмехнулся им обеим; тоску его прогнал порыв окрашенной грустью чувственности. Она — праведница — он убедился в этом, — а он — погибшая душа; они созданы друг для друга.
— Оставьте ее в покое, — сказала женщина. — Я все о вас знаю. — Она словно попала в чужую страну; типичная англичанка за границей. У нее даже не было с собой разговорника. Она была так же далека от них обоих, как от ада… или от рая. Добро и зло жили в одной стране, говорили на одном языке, ходили вместе, как друзья, вместе наслаждались, подавали друг другу руку здесь, у железной кровати. — Вы же не хотите идти против Добра, Роз? — умоляюще спросила она.
— Оставьте нас в покое, — опять прошептала Роз.
— Ты хорошая девочка, Роз. И у тебя с ним нет ничего общего.
— Вы ровно ничего не понимаете.
Сейчас ей оставалось только пригрозить, уходя.
— Я не отступлюсь от вас так просто. У меня есть друзья.
Малыш с удивлением посмотрел ей вслед.
— Что за черт! Кто она такая?
— Не знаю, — ответила Роз.
— Я ее раньше никогда не видел. — В нем вспыхнуло смутное воспоминание и сразу же исчезло. — Что ей нужно?
— Не знаю.
— Ты хорошая девочка, Роз, — сказал Малыш, схватив пальцами ее маленькую, костлявую руку.
Она покачала головой.
— Я дурная. Я хочу быть дурной, — умоляюще сказала Роз, — если она хорошая, а ты…
— Ты всегда будешь только хорошей. Некоторым это может не понравиться, а мне наплевать, что они подумают.
— Я все для тебя сделаю. Скажи мне, что нужно сделать. Я не хочу быть такой, как она.
— Тут важно не то, что ты делаешь, — ответил Малыш, — а то, что ты думаешь. У меня это в крови, — хвастливо продолжал он. — Наверное, когда меня крестили, святая вода не подействовала. Я никак не мог криком изгнать из себя дьявола.
— А она-то хорошая? — нерешительно спросила Роз, боясь высказать свое мнение.
— Она? — Малыш засмеялся. — Она просто ничто.
— Нам нельзя здесь оставаться, — сказала Роз. — А как было бы хорошо. — Она посмотрела вокруг: на плохую подделку офорта «Победа» Ван Тромпа, на три железные кровати, два зеркала, единственный комод, пучки светло-розовых цветов на обоях, как будто здесь она чувствовала себя безопаснее, чем на улице, в этот ветреный летний вечер. — У нас красивая комната. — Она желала бы разделить ее с ним, пока у него не будет домашнего очага для них обоих.
— Хотела бы ты уйти с этого места?
— От Сноу? Ну нет, это хорошее место. Я не хотела бы служить нигде, кроме как у Сноу.
— А если ты выйдешь за меня замуж?
— Нам слишком мало лет.
— Это можно устроить. Есть кое-какие способы. — Он отпустил ее руку и принял беспечный вид. — Если бы ты захотела. Я ничего не имею против.
— Я-то хотела бы. Но нам ни за что не разрешат.
— В церкви нельзя, — беззаботно объяснил он. — Во всяком случае, сначала. Там могут быть затруднения. Ты боишься?
— Нет, не боюсь. Но разве нам разрешат?
— Мой адвокат как-нибудь устроит.
— А у тебя есть адвокат?
— Конечно, есть.
— Это звучит… важно… как будто ты уже взрослый.
— Мужчина не может вести свои дела без адвоката.
Она сказала:
— Я никогда не думала, что это будет здесь.
— Что?
— Что мне сделают предложение здесь. Я думала… в кино или, может быть, вечером на набережной. Но так лучше, — добавила она, переводя взгляд с «Победы» Ван Тромпа на оба зеркала. Она отошла от стены и подняла к нему лицо; он знал, чего она от него ожидает, и с легким отвращением посмотрел на ее полуоткрытый рот. Суббота, одиннадцать часов вечера, извечные забавы… Он прижал свои твердые пуританские губы к ее губам и опять ощутил сладковатый запах человеческой кожи. Он предпочел бы вкус пудры Коти, или несмывающейся губной помады, или другой косметики. Он закрыл глаза, а когда снова открыл их, увидел, что она, как слепая девушка, ждет новой милостыни. Его поразило, что она не способна заметить его отвращение.
— Ты знаешь, что это значит? — спросила она.
— Что?
— Это значит, что я никогда не предам тебя, никогда, никогда, никогда.
Она принадлежала ему, как комната или стул; Малыш заставил себя улыбнуться ее растерянному, как у слепой, личику; он улыбнулся смущенно, с неясным чувством стыда.
Глава пятая
1
Все обошлось как нельзя лучше — материалы дознания даже не попали на газетные стенды, никого не допрашивали. Малыш возвращался пешком вместе с Дэллоу, он мог бы чувствовать себя победителем.
— Хорошо, что Кьюбит не знает, как все было, он не очень-то надежный, — заметил Малыш.
— А Кьюбит ничего и не узнает. Друитт пикнуть побоится, а я, как тебе известно, не из болтливых, Пинки.
— Мне все кажется, Дэллоу, что за нами следят.
Дэллоу осмотрелся.
— Никого. Я знаю в Брайтоне каждого шпика.
— Женщины не видно?
— Нет. На кого это ты думаешь?
— Сам не знаю.
Вдоль края тротуара двигались слепые музыканты. В ярком свете дня они шаркали подошвами, нащупывая дорогу, лица у них покрылись испариной. Малыш двинулся по мостовой им наперерез; они играли что-то заунывное и жалобное, вероятно, один из псалмов о тяготах жизни; это звучало, как глас, предвещающий несчастье в минуту победы. Малыш подошел к поводырю и оттолкнул его в сторону, тихо обругав; и все музыканты, услышав, что их поводырь отошел, тоже неловко сделали шаг назад, прямо на мостовую. Там они остановились в замешательстве, как баркасы, попавшие в штиль в суровом и безбрежном Атлантическом океане; только когда Малыш миновал их, они успокоились и стали бочком взбираться назад, ощупывая край тротуара.
— Что это на тебя нашло, Пинки? — неодобрительно спросил Дэллоу. — Ведь они же слепые.
— Зачем это я буду уступать дорогу всякому нищему? — Но он сначала не заметил, что они слепые, и устыдился своего поступка. Получалось так, как будто его слишком далеко понесло на пути, по которому он хотел пройти только определенное расстояние. Он остановился, прислонившись к парапету набережной; будничная толпа спешила мимо, палящее солнце постепенно опускалось к горизонту.
— Что у тебя на уме, Пинки?
— Подумать только о всей этой заварухе с Хейлом. Он-то получил по заслугам, но знай я, как все это обернется, может, и оставил бы его в живых. Может, и не стоило его убивать. Этот паршивый репортеришка играл на руку Коллеони, из-за него и Кайта пришили. Кто станет переживать за него? — Вдруг он оглянулся через плечо. — Где я раньше видел этого типа?
— Скорей всего приезжий.
— Мне показалось, что я уже видел этот галстук.
— В магазинах сотни таких. Будь ты пьющий, я посоветовал бы тебе хватить чего-нибудь. Послушай, Пинки, все же идет прекрасно. Никто ни до чего не докапывался.
— Только два человека могли довести нас до петли — Спайсер и девчонка. Я убил Спайсера и женюсь на девчонке. Уж кажется, я делаю все, что надо.
— Ну, ясно, теперь мы будем в безопасности.
— Ты-то, конечно, будешь в безопасности. Это только я всем рискую. Вот ты знаешь, что я убил Спайсера. Друитт тоже. Не хватает только Кьюбита, и тогда мне придется и его укокошить, чтобы на этот раз уж наверняка спрятать концы в воду.
— Тебе ни к чему так со мной разговаривать, Пинки. Очень уж ты стал подозрительным после смерти Кайта. Тебе просто нужно немного развлечься.
— Я ведь так любил Кайта, — ответил Малыш. Он пристально смотрел вдаль, в сторону Франции, неведомой страны. Позади него, за отелем «Космополитен», за Олд-Стейн, за Люис-роуд, простирались меловые холмы, поселки, скот бродил вокруг запруд — там была тоже неведомая страна. А здесь он чувствовал себя как дома: многолюдное побережье, несколько тысяч акров жилых домов, узкая полоска электрической железной дороги, ведущей в Лондон, две-три станции с буфетами и сдобными булочками. Это были владения Кайта, они были достаточно хороши для Кайта, а когда Кайт умер в зале ожидания на вокзале Сент-Панкрас. Малыш как будто лишился отца, завещавшего ему никогда не покидать родных мест. Он унаследовал даже привычки Кайта: обкусывал ногти, никогда не пил спиртного. Солнце, как каракатица, скользя опускалось за море, в мучительной агонии. Сопротивляясь, оно, словно кровью, окрашивало небо своими лучами.
— Встряхнись, Пинки. Отвлекись немного. Тебе надо развлечься. Поедем-ка со мной и Кьюбитом в «Червонную даму» и отпразднуем нашу удачу.
— Ты же знаешь, я в рот не беру спиртного.
— Все равно на свадьбе придется. Где это слыхано, чтобы свадьба без попойки?
По берегу, согнувшись, медленно брел старик; он переворачивал камни, отыскивая среди сухих водорослей окурки и объедки. Чайки, до его приближения как свечи стоявшие у самой воды, поднялись и с криками улетели под мол. Старик подобрал какой-то башмак и сунул его в мешок; одна чайка слетела с набережной, в темноте она пронеслась между железными сваями Дворцового мола, белая и стремительная, полустервятник, полуголубь… В конце концов, человек ведь должен когда-то все познать…
— Ладно. Поеду, — согласился Малыш.
— Лучший кабак на пути отсюда в Лондон, — подзадоривал его Дэллоу.
Они выехали на шоссе в своем старом «моррисе».
— Люблю кутнуть за городом, — сказал Дэллоу. Был тот час, когда зажигаются фонари, но полная темнота еще не наступила, и в сероватых сумерках свет автомобильных фар казался таким же слабым и ненужным, как свет ночника в детской. Рекламные плакаты тянулись вдоль автострады; дачные домики, заброшенная ферма, густая, засыпанная мелом трава у повалившейся ограды, ветряная мельница с огромными растопыренными крыльями — там можно выпить чаю или лимонаду.
— Бедному старику Спайсеру по душе бы пришлась такая езда, — вздохнул Кьюбит.
Малыш сидел рядом с Дэллоу, который вел машину, а Кьюбит поместился сзади на откидном сиденье. В зеркальце водителя Малышу было видно, как он слегка подпрыгивал вверх и вниз на сломанных пружинах.
«Червонная дама», залитая потоками света, находилась сразу за бензоколонкой. Ресторан когда-то перестроили из амбара тюдоровских времен, старая планировка двора определила расположение главного зала и баров, на месте бывшего загона для скота был устроен плавательный бассейн.
— Зря мы не захватили с собой каких-нибудь девочек, — пожалел Дэллоу, — в этом притоне их невозможно подцепить. Тут все уж очень шикарное.
— Зайдем-ка в бар, — предложил Кьюбит и пошел вперед. На пороге он остановился и мотнул головой в сторону девушки, одиноко сидевшей со стаканом в руке у длинной хромированной стойки под старыми стропилами.
— Надо бы сказать ей пару слов, Пинки. Знаешь, что-нибудь вроде того, что он был мировой парень, мы, дескать, сочувствуем твоему горю.
— О чем это ты болтаешь?
— Это девушка Спайсера, — объяснил Кьюбит.
Стоя в дверях. Малыш неохотно оглядел девушку: волосы светлые, как серебро, высокий чистый лоб, аккуратный маленький зад, обрисовывающийся на высоком табурете; одинокая со своим стаканом и своим горем.
— Как дела, Сильвия? — спросил Кьюбит.
— Кошмарно.
— Вот ужас! Хороший он был парень. Лучше не найти.
— Ты ведь был там? — повернулась она к Дэллоу.
— Билли давно следовало починить эти перила… — сказал Дэллоу. — Познакомься с Пинки, Сильвия, он самый главный в нашей шайке.
— И вы тоже там были?
— Его там не было, — ответил Дэллоу.
— Хотите еще выпить? — спросил Малыш.
Сильвия осушила свой стакан.
— Ничего не имею против. Коктейль «мотоцикл».
— Два виски, один «мотоцикл», один грейпфрутовый сок.
— Как? — удивилась Сильвия. — Вы что, не пьете?
— Нет.
— Могу поспорить, вы и с девочками не водитесь.
— Убила ты его, Сильвия, — захохотал Кьюбит, — с первого выстрела.
— Обожаю таких мужчин, — продолжала Сильвия, — по-моему, так чудесно быть стойким. Спайси всегда говорил, что вы когда-нибудь развернетесь… а потом… ох, черт, как чудесно! — Она хотела поставить стакан, но, не рассчитав, пролила свой коктейль. — Я не пьяная, — попыталась она оправдаться, — я просто расстроена из-за бедного Спайси.
— Давай выпей, Пинки, — убеждал Дэллоу, — это тебя встряхнет… Пинки тоже расстроен, — объяснил он Сильвии.
В дансинге оркестр играл:
Лишь ночью мечтаю, чтоб любила, А днем мечтаю, чтоб забыла Все то, что счастьем нашим было…— Выпейте, — предложила Сильвия. — Я была страшно расстроена. Вы же видите — я плакала. Посмотрите, во что у меня превратились глаза… Господи, я еле-еле отважилась показаться сюда. Теперь мне понятно, почему люди идут в монастырь.
Музыка ломала сопротивление Малыша; с ужасом и любопытством он наблюдал за подругой Спайсера — она-то знала толк в игре. Он покачал головой, безмолвный в своей ущемленной гордости. Он знал, в чем его сила — он был главарем; тщеславию его не было пределов, он не мог допустить, чтобы люди, более опытные, чем он сам, сделали из него посмешище… сравнили его со Спайсером и обнаружили, что он еще не… Он страдальчески отвел глаза, а музыка все завывала свое «а днем мечтаю, чтоб забыла» — о той игре, которую все они знали несравненно лучше, чем он.
— Спайси был уверен, что вы никогда не заведете себе девочку, так он мне говорил, — продолжала Сильвия.
— Мало ли чего Спайси не знал.
— Вы ужасно молодой и такой уже знаменитый.
— Лучше нам с тобой уйти, — предложил Кьюбит, обращаясь к Дэллоу. — Кажется, мы тут лишние. Пойдем-ка поглазеем, как там купаются красотки.
Они вышли, тяжело ступая.
— Дэлли всегда замечает, когда мне нравится какой-нибудь мальчик, — сказала Сильвия.
— Кто это — Дэлли?
— Глупенький, да это ваш дружок, мистер Дэллоу. Вы танцуете?… Подумать только, я даже не знаю вашего настоящего имени!
Он наблюдал за ней с робким вожделением. Она раньше была любовницей Спайсера, это ее голос пронзительно звучал по телефонным проводам, назначая свиданья, от нее Спайсер получал таинственные письма в розовых конвертах, адресованные лично ему; даже у Спайсера было что-то такое, чем он мог гордиться, чем мог похвастать перед приятелями — «моя девушка». Он вспомнил, что в пансион Билли иногда присылали цветы с запиской «от разбитого сердца». Он был заворожен ее непостоянством. Она никому не принадлежала, не то что какой-нибудь стол или стул. Он потянулся к ее стакану, попутно обняв ее рукой и неловко сжав ей грудь. Затем медленно проговорил:
— На днях я собираюсь жениться.
Он сказал это так, как будто тоже сделал ставку в этой игре в непостоянство; он не хотел спасовать перед видавшей виды девушкой. Подняв ее стакан, он выпил его; сладкий напиток заструился у него в горле, первый раз в жизни алкоголь обжег его небо, ему стало противно. И люди называют это удовольствием, это и еще те забавы. С каким-то ужасом он положил ей руку на бедро… Роз и он… через двое суток после того, как Друитт все уладит, одни, бог знает под какой крышей… а потом, что потом? Он знал, как обычно ведут себя в таких случаях, подобно человеку, который знает законы артиллерийской стрельбы по чертежам, сделанным мелом на доске, но связать эти знания с практикой, с разрушенными деревнями и разорванными на клочки женщинами — для этого требовались крепкие нервы. Его собственные нервы онемели от отвращения — он не хотел ничьих прикосновений, никаких приступов откровенности, он воздерживался от близости как можно дольше, хотя и шел уже по острию ножа.
— Пойдемте-ка. Потанцуем, — предложил он.
Они медленно закружились по залу… Беда если осрамишься перед опытной красоткой, но осрамиться перед этой желторотой, этой невинной девчонкой, которая носит тарелки у Сноу, перед маленькой шестнадцатилетней сучкой…
— Спайси вас так ценил, — сказала Сильвия.
— Выйдем-ка и пройдемся к машинам, — предложил Малыш.
— Не могу, ведь Спайси только вчера умер.
Они постояли, аплодируя, и танец начался снова. В баре трещал шейкер; к окну над огромным барабаном и саксофоном прижимались листья маленького деревца.
— Люблю деревню. Я здесь становлюсь романтичной. А вы любите деревню?
— Нет.
— Здесь ведь настоящая деревня. Только что видела тут курицу. Вы подумайте, в коктейль с джином здесь кладут яйца от собственных кур.
— Пойдемте к машинам.
— Я вообще-то не прочь. Ох, черт, это было бы очень мило. Но не могу я, ведь бедняга Спайси…
— Ну так вы ведь и цветы послали, и поплакали…
— Глаза у меня — просто кошмар.
— Ну, что же вы еще можете сделать?
— Это разбило мне сердце. Бедный Спайси, так уйти из жизни!
— Понятно… Я видел ваш венок.
— Какой все-таки ужас! Мы тут с вами танцуем, а он…
— Пойдемте к машинам.
— Бедный Спайси.
Но, говоря все это, она шла впереди него, и он со смущением заметил, что она даже побежала, буквально перебежала через освещенный угол бывшего скотного двора, по направлению к темной стоянке автомашин, навстречу этим забавам. «Через три минуты я все узнаю», — подумал он, чувствуя, что в нем поднимается тошнота.
— Которая ваша машина? — спросила Сильвия.
— Вон тот «моррис».
— Не подойдет, — сказала Сильвия. Она ринулась к шеренге автомобилей. — Вот этот «форд». — Рывком отворив дверцу, она воскликнула: — Ой, простите! — и быстро захлопнула ее, затем забралась на заднее сиденье соседней машины и уселась там, ожидая его. — Ой, — тихо и с чувством произнес ее голос в сумраке машины, — как мне нравится «ланчия»!
Он остановился у дверки, темнота между ним и ее миловидным, невыразительным лицом рассеивалась. Юбка ее задралась выше колен, она ждала его со щедрой покорностью. Перед ним вихрем пронеслись его беспредельные честолюбивые мечты, заслоненные этим отвратительным, низменным актом: номер в «Космополитене», золотая зажигалка, стулья, украшенные коронами в честь иностранки по имени Евгения. Хейл появился в его сознании и тут же исчез, будто камень, брошенный со скалы; сам он стоял в начале длинного коридора с натертым паркетом; вдруг появилась толпа влиятельных лиц, раздались приветственные крики, мистер Коллеони, отступая назад, кланялся ему, как рассыльный из универмага, за ним виднелась целая армия бритв — триумф победителя! На скаковой дорожке перед финишем забарабанили копыта, а по радио объявили имя лошади, выигравшей заезд; грянула музыка. Грудь его заныла от жажды овладеть всем миром.
— Ты что, не можешь, что ли? — спросила Сильвия.
А он со страхом и смятением думал: «Какой же следующий ход?»
— Быстро! — сказала Сильвия. — Пока нас тут не увидели.
Паркетный пол начал скатываться, как ковер. Лунный свет упал на дешевое кольцо и на круглое колено. Он сказал с горькой и мучительной яростью:
— Подожди тут, я приведу тебе Кьюбита.
Он повернулся спиной к «ланчии» и зашагал по направлению к бару. Но тут же пошел в другую сторону, услышав смех, доносившийся из бассейна. Стоя у входа и ощущая во рту вкус спиртного, он смотрел на девушку в красной резиновой шапочке, хихикавшую в потоках света. Но мысли его метались к Сильвии и обратно — так работает безотказный двигатель с электрическим мотором. Страх и любопытство разъедали его честолюбивые мечты о будущем, к горлу подступила тошнота, его чуть не вырвало. «Жениться — нет, черт побери, пусть меня лучше повесят», подумал он.
Мужчина в плавках добежал до края трамплина, прыгнул, перекувыркнулся в ярком жемчужном свете и нырнул в темную воду; двое купающихся плавали вместе; взмах за взмахом доплывали они до мелкого места, поворачивали и возвращались рядом, ровно, неторопливо, занятые собой, счастливые и спокойные.
Малыш стоял и наблюдал за ними; когда они во второй раз переплывали бассейн, он увидел на залитой светом поверхности воды свое собственное отражение, дрожавшее от взмахов их рук, — узкие плечи, впалая грудь, и вдруг почувствовал, что его остроносые коричневые ботинки скользят по мокрому и блестящему кафелю.
2
Всю дорогу обратно подвыпившие Кьюбит и Дэллоу болтали; шоссе было едва освещено. Малыш вглядывался вперед, в яркую полосу света, рассекавшую темноту. Вдруг он с яростью сказал:
— Смейтесь сколько влезет.
— А что, ты не так уж плохо все проделал, — ответил Кьюбит.
— Смейтесь. Воображаете, что вы в безопасности. Но вы все мне осточертели. Я решил развязаться с вами.
— Устрой-ка себе медовый месяц подлиннее, — посоветовал Кьюбит и усмехнулся.
Низко паря над заправочной станцией, с надрывным голодным криком пролетела сова, она взмахивала мохнатыми крыльями хищника и то появлялась в свете фар, то улетала прочь.
— А я не собираюсь жениться, — отрезал Малыш.
— Знал я одного типа, — сказал Кьюбит, — так он до того перетрусил, что даже руки на себя наложил. Пришлось отсылать обратно свадебные подарки.
— Я не собираюсь жениться.
— С людьми это частенько случается.
— Ничто не может заставить меня жениться.
— А жениться тебе все-таки придется, — вставил Дэллоу.
Из окна кафе для автомобилистов «Чарли, притормози здесь» выглянула женщина, ожидавшая кого-то, — она даже не посмотрела на проезжавшую машину.
— На-ка выпей, — предложил Кьюбит, он был пьянее, чем Дэллоу, — я прихватил с собой фляжку. Теперь-то ты уже не можешь говорить, что не пьешь, — мы ведь все видели, и Дэллоу, и я.
— Я не женюсь. Зачем мне жениться? — проговорил Малыш, обращаясь к Дэллоу.
— Ты сам все затеял, — ответил Дэллоу.
— Что это он затеял? — спросил Кьюбит.
Дэллоу не ответил, только дружески опустил тяжелую руку на колено Малыша. Малыш искоса посмотрел на его добродушную преданную физиономию, в нем вспыхнула ненависть: чья-то верность может связать его, повлечь за собой. Дэллоу был единственным человеком, которому он доверял, но он ненавидел его, как будто Дэллоу был его строгим наставником.
— Ничто не заставит меня жениться, — неуверенно повторил он, разглядывая ряды рекламных щитов, проносящихся мимо и освещенных призрачным светом: «Пиво Гиннесс полезно для вас», «Попробуйте пиво Уортингтон», «Сохраняйте юный цвет лица» — целая серия заклинаний. Мелькали советы: обзаведитесь собственным домом, обручальные кольца покупайте только у Беннета.
А в пансионе Билли ему сказали:
— Твоя девушка здесь.
С чувством безнадежного протеста он поднимался в свою комнату: вот он войдет и скажет: «Я передумал. Я не могу на тебе жениться». Или, может быть, так: «Адвокаты говорят, что это все-таки нельзя устроить…» Перила все еще были сломаны, он глянул вниз, в глубокий пролет, туда, где недавно лежало тело Спайсера. Как раз на этом месте стояли Кьюбит и Дэллоу и смеялись над чем-то… Острый край сломанных перил оцарапал ему руку. Он поднес ладонь ко рту и вошел в комнату. В голове его пронеслась мысль: «Нужно быть спокойным, держать язык за зубами». Но ему казалось, что выпитое в баре вино замарало его чистоту. Человек может избавиться от порока так же легко, как и расстаться с добродетелью, — достаточно одного дуновения, чтобы она испарилась.
Он посмотрел на Роз. На ней была шляпа, которая ему не нравилась, и она сорвала эту шляпу с головы, как только он взглянул в ее сторону. Ей стало страшно, когда он тихо сказал:
— Что ты здесь делаешь… в такое позднее время? — добавил он уже возмущенно, надеясь, что между ними может вспыхнуть ссора, если он поведет себя как нужно.
— Ты видел это? — умоляюще спросила Роз. В руках она держала местную газету. Малыш до сих пор не потрудился прочесть ее. На первой странице была фотография Спайсера, в смятении бегущего под железные сваи… Репортерам больше повезло у фотографа, чем ему.
— Здесь сказано… это случилось… — пробормотала Роз.
— На лестнице, — прервал ее Малыш. — Я все время твердил Билли, чтобы он починил эти перила.
— Но ты говорил, что с ним расправились на скачках. Ведь как раз он-то и…
Он взглянул на нее с напускным спокойствием.
— Оставил у тебя карточку? Это ты хочешь сказать? Может, он и знал Хейла. Он водился с массой всяких типов, о которых я и понятия не имел. Ну и что с того? — Он уверенно повторил свой вопрос под ее молчаливым взглядом: — Ну и что же с того? — Он знал, что ум его может распознать любое предательство, но она была хорошей девочкой, ее защищала собственная порядочность; были вещи, которых она не могла себе даже и представить, ему казалось, что он видит, как мысли ее приходят в смятение, погружаясь в бездонную пучину страха.
— Я думала… я думала… — пробормотала она, глядя поверх его головы на сломанные перила лестницы.
— Что ты думала!
Пальцы его с бешеной ненавистью вертели в кармане маленькую бутылочку.
— Не знаю. Я не спала всю ночь. Видела такие сны.
— Какие еще?
Она со страхом посмотрела на него.
— Мне приснилось, что ты умер.
— Я молодой и прыткий, — рассмеялся он, с отвращением вспомнив стоянку автомобилей и приглашение в «ланчию».
— Ты ведь больше не собираешься здесь оставаться?
— А почему бы и нет?
— Я подумала, что… — начала она, опять уставившись на перила, и добавила: — Я боюсь…
— Нечего тут бояться, — сказал он, сжимая в руке бутылочку с серной кислотой.
— Я боюсь за тебя, — объяснила она. — Ох, я знаю, что для тебя я пустое место. Знаю, что у тебя есть адвокат, машина, приятели. Но этот дом. — Она беспомощно умолкла, пытаясь выразить те чувства, которые вызвала в ней его жизнь, — с ним были связаны разные странные события и катастрофы: незнакомец с карточкой, драка на бегах, злосчастное падение с лестницы. Ее лицо вдруг стало твердым и решительным, и в Малыше внезапно возник слабый порыв чувственного влечения. — Тебе нужно выбраться отсюда. Ты должен жениться на мне, как обещал.
— Сейчас окончательно выяснилось, что нельзя. Я говорил со своим адвокатом. Слишком уж мы молоды.
— Ну, это меня не беспокоит. В конце концов, это ведь не настоящее замужество. Регистрация ничего не значит.
— Убирайся откуда пришла, — грубо оборвал он, — шпионка ты несчастная.
— Не могу, — ответила она, — меня выгнали.
— За что это? — Ему показалось, что у него на руках захлопнулись наручники. В нем вспыхнуло подозрение.
— Я нагрубила клиентке.
— Из-за чего? Какой клиентке?
— Ты что, не догадываешься? — спросила она и запальчиво продолжала: — В конце концов, кто она такая? Вмешивается… Пристает… тебе-то уж, наверное, известно.
— Никогда в жизни не знал ее, — ответил Малыш.
Всю свою осведомленность, извлеченную из грошовых романов, вложила Роз в этот вопрос:
— Она что, ревнует? Это та самая?… Понятно, что я хочу сказать? — В ее взволнованном вопросе прозвучало запрятанное в душе, словно орудие, замаскированное на военном корабле, чувство собственности. Она принадлежала ему как стол или стул; но и стол владеет нами тоже — на нем остаются отпечатки наших пальцев.
Он принужденно засмеялся:
— Кто, она? Да она мне в матери годится.
— Тогда чего она хочет?
— Откуда мне знать?
— Как ты думаешь, нужно мне пойти с этим в полицию? — Она протянула ему газету.
Простота или коварство вопроса поразили его. Можно ли считать себя с ней в безопасности, если она так плохо представляет, насколько сама уже замешана в темные дела?
— Тебе нужно действовать осторожно, — предостерег он и тут же подумал с тупым безразличием, смешанным с отвращением (целый день он был как в аду): «Мне все-таки придется на ней жениться?…» Он выдавил из себя улыбку — мышцы снова становились послушными — и сказал: — Видишь ли, тебе незачем над всем этим задумываться. Я все-таки женюсь на тебе. Есть способы обойти закон.
— А зачем нам соблюдать законы?
— Не хочу никаких кривотолков. Меня устраивает только женитьба, — ответил он с напускным возмущением. — Мы поженимся по-настоящему.
— Настоящим-то это не будет, что бы мы ни сделали. Священник в соборе Святого Иоанна… он говорит…
— Нечего тебе попов слушать, — прервал он, — они не разбираются в жизни так, как я. Взгляды меняются, жизнь идет вперед… — Слова его разбивались о ее непоколебимую покорность. Лицо ее лучше слов утверждало, что взгляды никогда не меняются, что земля не движется — что она застыла на месте, что из-за этого разоренного пространства идет спор между двумя вечными началами — Добром и Злом. Они смотрели друг на друга, как обитатели разных миров, но, подобно воюющим сторонам на Рождество, они заключили временное перемирие.
— В конце концов, тебе это все равно, — сказал он, — а я хочу жениться… по закону.
— Ну, раз тебе хочется… — сказала она, кивнув головой в знак полного согласия.
— Может, мы могли бы все устроить таким путем, — предложил он, — если бы твой отец написал письмо…
— Он не умеет писать.
— Ну хорошо, но может же он подписаться; если я приготовлю письмо? Понятия не имею, как такие дела делаются. Может, он сходит в мэрию? Мистер Друитт мог бы это устроить.
— Мистер Друитт? — быстро переспросила она. — Не тот ли это… не тот ли, кто был здесь и говорил на дознании?…
— Ну и что с того?
— Ничего, — ответила она, — я просто подумала…
Но он почувствовал, как у нее вдруг заработала мысль, как она устремилась из комнаты к перилам, к падению, к тому самому дню… Кто-то внизу включил радио, может быть, это Кьюбит постарался создать поэтическую обстановку. Музыка с воем поднималась мимо телефона вверх по лестнице, проникала в комнату; где-то в отеле играл оркестр, заканчивалась дневная программа. Радио отвлекло ее, и он стал размышлять о том, сколько недель или месяцев — о годах он боялся и думать — ему придется отвлекать ее мысли в сторону при помощи игры в благородство или любовных утех. Но наступит день, когда он снова будет свободен… Протянув к ней руки, как будто она была сыщиком, готовым надеть ему наручники, он сказал:
— Завтра мы подумаем о делах, поговорим с твоим отцом. Уж конечно, — губы его дрогнули при этой мысли, — нам потребуется пара дней, не больше, чтобы пожениться.
3
Когда он одиноко брел по направлению к тем местам, которые покинул… ох, давным-давно, его охватила тревога. Бледно-зеленое море плескалось по гальке, зеленая вышка «Метрополя» напоминала выкопанную из земли позеленевшую монету, пролежавшую там целую вечность. Чайки летели к верхней набережной, пронзительно крича и кувыркаясь в солнечных лучах; известный писатель, всматриваясь в морскую даль, выставил свое одутловатое, чересчур знаменитое лицо в окне «Ройал Альбион». День был такой ясный, что можно было разглядеть берега Франции.
Медленно шагая, Малыш пошел по направлению к Олд-Стейн. На верху холма за Олд-Стейн улицы становились все уже: убогость, скрытая, как обвислая грудь за роскошным корсажем. Каждый его шаг был отступлением. Он думал, что навсегда избавился от всего этого, находясь на другом конце бескрайней главной набережной, но сейчас страшная нищета опять тащила его к себе: лавчонка Саломеи, где за пару шиллингов можно подстричься, в том же помещении гробовщик, делающий гробы из дуба, вяза или свинца, на витрине ничего нет, кроме детского гробика, покрытого давней пылью, да прейскуранта Саломеи. Цитадель Армии спасения с зубчатыми стенами стояла прямо на подступах к его дому. Он узнавал все вокруг, и ему было стыдно, как будто они, его родные места, должны были простить его, а не он имел право укорять их за свое мрачное и безрадостное прошлое. Он миновал дом для приезжих «Альберт» (прекрасные условия для путешественников) и, наконец, добрался до вершины холма — самого центра разрушения. Болтающийся водосточный желоб, окна с выбитыми стеклами, железная кровать в палисаднике величиной не больше стола. Половина участка района Парадиз была разворочена, как от бомбежки, дети играли на покатой куче булыжника, остатки очага напоминали о том, что здесь когда-то были дома; на столбе, вкопанном в развороченный гравий и асфальт, — щит, обращенный к грязной, разрытой дороге; на нем — объявление муниципалитета о новых квартирах — вот и все, что осталось от района Парадиз. Его дом исчез — яма между булыжниками, быть может, обозначала место бывшего очага, комната у поворота лестницы, та самая, где происходили субботние ночные забавы, теперь просто исчезла. Он с ужасом подумал: «Неужели это все опять будет построено для таких, как я… как пустое место оно выглядит лучше».
Накануне вечером он отправил Роз домой и теперь неохотно тащился туда же. Не к чему больше бунтовать, придется жениться на ней, нужно обеспечить себе безопасность. Мальчишки с игрушечными пистолетами рыскали между кучами булыжника, группа девочек угрюмо следила за ними. Ребенок с железным обручем на ноге, хромая, налетел на него, он оттолкнул его прочь; кто-то пронзительно крикнул: «Уймите их!»… Эти люди вернули его мысли к прошлому, и он ненавидел их за это. То был словно зов его кошмарного детства, поры его невинности, но невинности здесь не было. Пришлось бы вернуться к самым истокам человеческой жизни, чтобы обнаружить ее; невинным был только слюнявый рот грудного ребенка, беззубые десны, хватающиеся за сосок, пожалуй, даже и не это — невинность была только в первом крике сразу после появления на свет.
Он отыскал ее дом на Нелсон-Плейс, но не успел постучать, как дверь отворилась, Роз высматривала его сквозь разбитое окошко.
— Ох, как я рада! — воскликнула она. — Я подумала, может…
В мерзком коридорчике, где пахло уборной, она торопливо и горячо продолжала:
— Ужас, что было вчера вечером… видишь ли, я всегда посылала им деньги… они ведь не понимают, что иногда человек остается без работы.
— Я уговорю их, — успокоил ее Малыш. — Где они?
— Будь поосторожней, — предупредила Роз. — На них нашла хандра.
— Где они?
Но было и так ясно, куда идти, — из коридорчика вела только одна дверь и лестница, устланная старыми газетами. На верхних ступеньках среди грязных пятен с газеты глядело смуглое детское личико Вайолет Кроу, изнасилованной и зарытой под Западным молом в 1936 году. Он отворил дверь: у закопченного кухонного очага с холодным погасшим углем сидели на полу родители Роз. У них был приступ хандры — они молча взглянули на него, равнодушные и надменные: маленький, тощий пожилой мужчина, лицо, как иероглифами, изборождено морщинами страданий, терпения и подозрительности; женщина — средних лет, тупая, злобная… Посуда была невымыта, печка нетоплена.
— У них хандра, — громко объяснила ему Роз. — Они не позволяют мне ничего делать, даже разжечь огонь. Честное слово, я люблю, когда в доме чисто. Наш дом таким не будет.
— Послушайте, мистер… — начал Малыш.
— Уилсон, — подсказала Роз.
— Уилсон. Я хочу жениться на Роз. Но поскольку она еще такая молодая, мне нужно получить ваше разрешение.
Они и не подумали ему ответить. Они охраняли свою хандру, как будто это была блестящая фарфоровая безделушка, принадлежавшая только им одним, что-то такое, что они могли показать соседям как «свое собственное».
— Бесполезно разговаривать с ними, когда у них хандра, — сказала Роз.
Из деревянного ящика на них смотрела кошка.
— Да или нет? — спросил Малыш.
— Ничего не получится, — повторила Роз, — пока хандра не пройдет.
— Ответьте на простой вопрос, — настаивал Малыш, — можно мне жениться на Роз или нет?
— Приходи завтра, — предложила Роз, — тогда у них не будет хандры.
— Не собираюсь я распинаться перед ними, — возразил он, — они должны гордиться…
Вдруг мужчина поднялся и отшвырнул ногой кусок угля, отлетевший в другой конец комнаты.
— Эй, ты, убирайся отсюда, — заорал он, — не хотим мы иметь с тобой дела. Не хотим, не хотим, не хотим!
В его застывшем, бессмысленном взгляде мелькнул какой-то пугающий фанатизм, напомнивший Малышу Роз.
— Замолчи, отец, не разговаривай с ним, — вмешалась женщина, оберегая свою хандру.
— Я пришел по делу, — ответил Малыш. — Если вы не хотите подзаработать… — Он оглядел грязную и жалкую комнату. — Я думал, может, вам пригодятся десять фунтов… — Он видел, как сквозь тупое, злобное молчание просачиваются недоверие, жадность, подозрительность.
— Не желаем мы… — начал было снова мужчина, но постепенно замолк, как граммофонная пластинка. Он погрузился в раздумье, видно было, как мысли его теснили одна другую.
— Не хотим мы ваших денег, — отрезала женщина. У каждого из них было свое упорство.
— Не обращай внимания на то, что они говорят. Все равно я здесь не останусь.
— Постой, постой, — остановил ее отец. — И ты помолчи, мать. — Затем он обратился к Малышу: — Мы не можем отпустить Роз… даже за десять бумажек… да еще с неизвестным человеком. Откуда мы знаем, что ты будешь хорошо с ней обращаться?
— Я дам вам двенадцать, — предложил Малыш.
— Дело не в деньгах, — возразил мужчина. — С виду ты мне нравишься. И мы не станем препятствовать, если Роз устроится получше… только очень уж ты молод.
— Пятнадцать — мое последнее слово, — предложил Малыш. — Берите или отказывайтесь.
— Ты ведь ничего не можешь сделать без моего согласия, — заметил мужчина.
Малыш слегка отодвинулся от Роз.
— А я не очень-то и рвусь…
— Давай в гинеях.
— Я вам сказал свои условия… — Он с ужасом оглядел комнату — никто не может упрекнуть его, что он не сделал все возможное, чтобы избежать этого, не совершать больше преступлений… Когда мужчина открыл рот, ему показалось, что он слышит голос собственного отца, и эта женщина в углу — его мать, он торгуется из-за своей сестры и не испытывает никакого желания получить ее в жены…
Он повернулся к Роз.
— Я пошел, — и почувствовал, как в нем шевельнулась жалость к добродетели, которую не смогли ни исковеркать, ни уничтожить. Говорят, что у святых есть… как это?… «героические добродетели», героическое терпение, героическая выносливость, но он не мог разглядеть ничего героического в этом костистом лице, в выпуклых глазах; во время перебранки, когда в денежной сделке ее жизнь ставилась на карту, на лице ее отразилась только робкая тревога.
— Ну ладно, — добавил он, — с тобой мы скоро увидимся, — и пошел к двери. У порога он оглянулся — можно было подумать, что здесь собралась дружная семья. И тут он уступил, нетерпеливо и презрительно:
— Ладно. В гинеях. Я пришлю своего адвоката, — и вышел в зловонный коридор. Роз последовала за ним, задыхаясь от благодарности.
Он довел игру до последней карты, даже нашел в себе силы усмехнуться и сказать ей приятное:
— Я бы для тебя и на большее пошел.
— Ты вел себя просто чудесно, — с обожанием воскликнула она, проходя мимо вонючей уборной, но восторг ее был ядом — он как бы утверждал ее право на него, прямо вел к тому, чего она от него ожидала, — к ужасающему акту вожделения, которого он не испытывал. Она шла за ним, пока они не выбрались на свежий воздух Нелсон-Плейс. Среди развалин района Парадиз играли дети, на пустыре, где когда-то был его дом, дул морской ветер. Смутный инстинкт разрушения шевельнулся в нем, словно радость наслаждения открытым пространством.
Она повторила слова, уже сказанные ею когда-то:
— Даже представить себе не могла, как все устроится.
Мысли ее блуждали среди событий этого дня и вдруг пришли к неожиданному выводу:
— Вот никогда не думала, что хандра может пройти так быстро. Ты им, должно быть, понравился.
4
Айда Арнольд надкусила пирожное так, что крем выступил между крупными передними зубами. Она засмеялась немного развязно для маленькой гостиной в стиле Помпадур и сказала:
— Никогда не могла позволить себе тратить столько денег с тех пор, как рассталась с Томом. — Она откусила еще кусочек, немного крема застряло на пухлом языке. — Отчасти я обязана этим Фреду. Если бы он не дал мне совета насчет Черного Мальчика…
— Отступилась бы от этого дела, — предложил Коркери, — и просто повеселилась бы немножко. Ведь это же опасно.
— Ну, конечно, опасно, — согласилась она, но в ее больших глазах не было видно настоящего ощущения опасности. Ничто не могло заставить ее поверить, что и она, подобно Фреду, может попасть червям на съедение… Мысли ее не шли в этом направлении; как только они слегка отходили в сторону, стрелка автоматически включалась и возвращала ее, трепещущую от радости, на привычные рельсы, на пригородную линию с нарядными домиками, увеселительными заведениями для туристов и маленькими, тенистыми рощами для любовных утех на лоне природы. Она продолжала, разглядывая пирожное: — Я никогда не отступаю. Они даже представить себе не могут, какую кучу неприятностей на себя навлекли.
— Предоставь это полиции.
— Ну, нет уж. Я сама знаю, что мне делать. Можешь мне не советовать… Как ты думаешь, кто это такой?
Пожилой господин в лакированных ботинках, с белой манишкой над жилетом и булавкой из драгоценного камня шествовал через гостиную.
— Изысканный, — заметила Айда Арнольд.
Позади него семенил секретарь, читая по списку: «Бананы, апельсины, виноград, персики…»
— Из оранжереи?
— Из оранжереи.
— Кто это? — спросила Айда Арнольд.
— Это все, мистер Коллеони? — осведомился секретарь.
— Какие цветы? — требовательно спросил Коллеони. — И неужели вы не могли достать немного медовых персиков?
— Никак нет, мистер Коллеони.
— Моя дорогая жена… — начал Коллеони, но продолжения нельзя было расслышать. До них донеслось только слово «страсть». Айда Арнольд обвела взглядом изящную обстановку маленькой гостиной Помпадур. Как лучом прожектора, глаза ее осветили подушку, диван, тонкие аскетические губы мужчины, сидевшего напротив нее.
— Мы могли бы повеселиться и здесь, — сказала она, глядя на его губы.
— Дорого, — нервно возразил Коркери, но ее рука успокаивающе потрепала его по тощему бедру.
— Черный Мальчик выдержит. А в «Бельведере»… знаешь… там не удастся повеселиться… Строгие нравы.
— Ты, значит, не против того, чтобы немножко повеселиться здесь? — спросил Коркери. Он заморгал глазами. По выражению его лица трудно было догадаться, обрадует или испугает его ее согласие.
— Почему я должна быть против? Насколько мне известно, такое никому не приносит вреда. Это в природе человеческой натуры. — Она снова откусила кусочек пирожного и повторила свои любимые присказки: — В конце концов, мы ведь только доставляем себе радость. Приятно стоять за правое дело, приятно быть во всем человеком… Поди-ка и притащи мой чемодан, а я пока добуду комнату.
Коркери зарделся.
— Платим пополам, — сказал он.
— Это за счет Черного Мальчика, — широко улыбнулась ему Айда.
— Мужчины любят… — неуверенно пробормотал Коркери.
— Поверь мне, я знаю, что любят мужчины. — Пирожное, мягкая кушетка, вычурная мебель были как любовный напиток, подлитый ей в чай. Ее охватило вожделение и вакхический порыв. В каждом слове, произнесенном кем-нибудь из них, она улавливала лишь определенный смысл.
Коркери густо покраснел и еще больше смутился.
— Мужчина всегда испытывает… — Он был обескуражен ее безудержным весельем.
— Кому ты рассказываешь? — повторяла она. — Кому ты рассказываешь?
Когда Коркери ушел, Айда стала готовиться к празднеству, все еще ощущая во рту вкус сладкого пирожного. Мысль о Фреде Хейли отступила назад, как фигура на платформе, когда поезд отходит от станции. Хейл принадлежал к тем, кто оставался: поднятая на прощанье рука только усиливает остроту новых волнующих приключений. Новых… и в то же время беспредельно старых… Опытным взглядом оглядела она просторную, обитую атласом спальню, словно располагающую к наслаждению, трюмо, шкаф, огромная кровать. Она непринужденно уселась на нее, в то время как рядом стоял рассыльный, ожидая распоряжений.
— Ну и пружины! — воскликнула она. — Ну и пружины!
Айда еще долго сидела на кровати после его ухода, планируя вечернее празднество. Если бы кто-нибудь сказал ей тогда: «Фред Хейл», — она с трудом узнала бы это имя; в тот момент она была увлечена совсем другим делом — а Фредом пока что пусть занимается полиция.
Потом она медленно встала и начала раздеваться. Она никогда не любила надевать на себя много вещей — почти моментально она нагою предстала перед трюмо: тело крепкое, хоть и полноватое, в общем то, что надо. Она стояла на мягком, пушистом ковре, окруженная золочеными рамами и красными бархатными портьерами, в голове ее возникали десятки избитых банальных фраз: «Ночь любви», «Живешь только однажды» и тому подобное. Для Айды страстные слова были все равно что взгляд в стереоскоп. Она сосала шоколадную конфетку и улыбалась, пухлые пальцы на ее ногах нетерпеливо зарывались в ковер, она ожидала Коркери — вся она была большим, роскошным, цветущим сюрпризом.
А за окном начинался отлив, море шуршало по гальке; отступая, оно оставило на берегу сапог, кусок ржавого железа, и тот же старик, согнувшись, выискивал что-то среди камней. Солнце опускалось за дома Хоува, наступали сумерки, тень Коркери, медленно бредущего с чемоданами из «Бельведера» — он экономил на такси, — удлинилась. Резко крича, чайка метнулась вниз к мертвому крабу, которого волны колотили о железные сваи мола. Был час надвигающейся темноты, вечернего тумана над проливом, был час любви.
5
Малыш закрыл за собой дверь, и, обернувшись, увидел глядевшие на него с веселым интересом лица.
— Ну как? — спросил Кьюбит. — Все улажено?
— Конечно, — ответил Малыш, — уж если я чего-нибудь захочу… — Голос его неуверенно дрогнул.
На умывальнике стояло полдюжины бутылок, в комнате пахло застоявшимся пивом.
— Чего-нибудь захочешь, — подхватил Кьюбит, — это здорово… — Он открыл новую бутылку; в теплой, душной комнате пена поднялась мгновенно и расплескалась по мраморной доске.
— Что это вы тут вытворяете? — спросил Малыш.
— Празднуем, — ответил Кьюбит. — Ты ведь католик? Обручение — вот как это называется у католиков.
Малыш оглядел присутствующих: Кьюбит слегка навеселе, Дэллоу поглощен чем-то, и еще пара худых, голодных типов — он их едва знал, прихлебатели, вертящиеся возле крупной игры, они смеются, когда смеешься ты, и хмурятся, когда ты хмуришься. Но теперь они улыбались когда улыбался Кьюбит, и вдруг Малыш понял, как низко он пал с того дня на моле, когда устраивал алиби, приказывал, делал то, на что у других не хватало мужества.
Джуди, жена Билли, сунула голову в дверь. Она была в утреннем халате. Ее тициановские волосы у корней были темные.
— Желаю счастья, Пинки! — воскликнула она, моргая накрашенными ресницами. Джуди только что выстирала свой лифчик — вода капала с маленького комочка розового шелка прямо на линолеум. Никто не предложил ей выпить.
— Только и знай что работай, — пробормотала она и пошла по коридору к батареям парового отопления.
Низко пал… и все-таки он не сделал ни одного ложного шага: если бы он не пошел тогда к Сноу и не поговорил бы с девушкой, все они были бы сейчас на скамье подсудимых. Если бы он не убил Спайсера… Ни одного ложного шага, каждый шаг вызван необходимостью, которую он подчас не в силах разгадать: выпытывающая женщина, звонки по телефону, пугавшие Спайсера. «А когда я женюсь на девушке, разве все это прекратится? — подумал он. — Куда это еще может меня завести?» Рот его передернулся… «Кажется, дальше уж некуда».
— Когда же счастливый день? — спросил Кьюбит, и все, кроме Дэллоу, покорно заулыбались.
Малыш очнулся. Он медленно двинулся к умывальнику.
— У вас что, нет для меня стакана? — спросил он. — Мне-то разве не нужно хоть как-нибудь отпраздновать?
Он заметил, что Дэллоу удивился, Кьюбит перестал паясничать, прихлебатели заколебались, на чью сторону переметнуться; он ухмыльнулся им — ведь только у него одного была голова на плечах.
— Как, Пинки… — начал Кьюбит.
— Я ведь не пью и не хочу жениться — прервал его Малыш, — так, что ли? Но мне уже пришлось по вкусу одно, так почему же и другое не понравится? Дайте-ка мне стакан.
— Понравится… — неловко усмехнулся Кьюбит, — тебе-то и вдруг понравится…
— Разве ты ее не разглядел? — спросил Малыш.
— Ну как же, мы с Дэллоу поглазели на нее. На лестнице. Только вот темновато было…
— Она милашка, — перебил его Малыш, — на койке не скупится. И соображает. Не так уж плоха, как вы думаете. Конечно, мне вроде бы и ни к чему жениться, но раз уж на то пошло… — Кто-то протянул ему стакан, он сделал большой глоток, от горькой и пенистой влаги его затошнило… Так вот что им нравится… Он напряг мускулы рта, чтобы скрыть свое состояние. — Ну, в общем, — продолжал он, — я доволен… — Он со скрытым отвращением посмотрел на остаток светлой жидкости в стакане, прежде чем проглотить ее.
Дэллоу молча наблюдал за происходящим, и Малыш чувствовал, что сейчас этот друг бесит его больше, чем враг; как и Спайсер, он знал слишком много, и то, что он знал, было опаснее всего, что было известно Спайсеру. Спайсер знал только такое, из-за чего можно угодить на скамью подсудимых, а Дэллоу разгадал то, что знают лишь зеркало и простыни, — тайный страх и унижение.
— Что с тобой делается, Дэллоу? — спросил он, едва сдерживая ярость. Глупая физиономия со сломанным носом выразила крайнюю растерянность.
— Завидуешь? — хвастливо начал Малыш. — И правильно. Ведь ты видел ее. Она не то, что ваши крашеные шлюхи. Она — первый сорт. Я женюсь на ней из-за вас, но положу ее в постель для себя. — Он злобно повернулся к Дэллоу. — А у тебя что на уме?
— Слушай, — спросил Дэллоу, — ведь это та самая, что ты встретил на молу? Мне не показалось, что она такая уж распрекрасная.
— Ты… ты же ни черта не понимаешь, — разразился Малыш, — ты же лопух. Ты не можешь отличить первый сорт, даже когда на него глазеешь.
— Герцогиня! — заметил Кьюбит и расхохотался.
Безграничное возмущение пронизывало Малыша с головы до пят. У него было такое чувство, будто оскорбили его любимого человека.
— Полегче, Кьюбит, — пригрозил он.
— Не обращай на него внимания, — успокаивал его Дэллоу, — мы ведь не знали, что ты втрескался…
— У нас есть для тебя подарочки, Пинки, — не унимался Кьюбит, — обзаведение для дома. — Он указал на две непристойные безделушки, стоявшие на умывальнике рядом с пивом, — их было полно в брайтонских галантерейных магазинах: миниатюрный радиоприемник в виде кукольного стульчика с наклейкой «Самый маленький в мире двухламповый приемник А-1» и горчичница в виде ночного горшка с надписью «Для меня и моей девочки». Малыша охватил такой ужас, какого он никогда не испытывал, отвратительное сознание того, что он среди всех них единственный девственник. Он хотел ударить Кьюбита по физиономии, но Кьюбит, смеясь, увернулся. Оба прихлебателя выскользнули из комнаты — они не любили домашних потасовок. Малыш услышал, как на лестнице они захохотали.
— Тебе это в хозяйстве пригодится, — не унимался Кьюбит, — ведь в доме должна быть не только кровать! — Он и подтрунивал и подбадривал.
— Ей-богу, я сделаю с тобой то же, что сделал со Спайсером, — пригрозил Малыш.
Смысл его слов не сразу дошел до Кьюбита. Наступила длинная пауза. Кьюбит было захохотал, но увидел испуганное лицо Дэллоу и только тут понял.
— Что, что? — переспросил он.
— Да он рехнулся, — вмешался Дэллоу.
— Думаешь, ты больно уж ловкий, — продолжал Малыш, — Спайсер тоже так думал.
— Это же из-за перил, — сказал Кьюбит, — тебя же здесь и не было. К чему ты клонишь?
— Конечно, его тут не было, — подтвердил Дэллоу.
— Ты думаешь, тебе все на свете известно? — Всю свою ненависть Малыш вложил в слово «известно», и свое отвращение тоже: Кьюбит ведь знал все о «забавах», как и Друитт за свои двадцать пять лет брака. — Не все-то тебе известно… — Он хотел пробудить в себе гордость, но испытывал только унижение. «Самый маленький приемник А-1». Человек может знать все на свете, но раз он не попробовал этих грязных делишек, то он ни в чем не разбирается.
— К чему это он клонит? — спросил Кьюбит.
— Нечего тебе его слушать, — уговаривал Дэллоу.
— А вот к чему, — продолжал Малыш. — Спайсер оказался слабаком, а во всей банде только я знаю, что делать в таких случаях.
— Очень уж ты ретив, — огрызнулся Кьюбит, — ты что, хочешь сказать, что перила тут ни при чем? — Вопрос напугал его самого, ему не хотелось услышать ответ. Он стал неловко продвигаться к двери, не спуская глаз с Малыша.
— Ну, ясно, все дело в перилах; — примирительно сказал Дэллоу. — Я-то ведь там был.
— Не знаю, не знаю, — пробормотал Кьюбит, продолжая продвигаться к двери. — Для него всего Брайтона мало. Хватит с меня.
— Давай, — крикнул Малыш, — катись! Катись и помирай с голоду.
— Не буду я голодать, — возразил Кьюбит, — в этом городе есть кое-кто другой…
Когда дверь захлопнулась. Малыш повернулся к Дэллоу.
— Давай и ты уходи; — сказал он. — Вы думаете, что проживете и без меня; ну а мне стоит только свистнуть…
— Зачем ты так со мной разговариваешь? — обиделся Дэллоу. — Я тебя не оставлю. Я вовсе не собираюсь так скоро мириться с Крэбом.
Но Малыш не слушал его. Он повторил:
— Стоит мне только свистнуть! Они приползут обратно, — хвастливо добавил он. Затем подошел к железной кровати и улегся на нее… Какой долгий день!
— Быстренько звякни Друитту. Скажи ему, что с ее стороны нет никаких затруднений. Пусть он поспешно все улаживает.
— Если сможет, то на послезавтра? — спросил Дэллоу.
— Ну да, — согласился Малыш. Он слышал, как захлопнулась дверь, щека его подергивалась, он лежал, глядя в потолок, и думал: «Не моя вина, что они доводят меня до бешенства и толкают на такие дела; хоть бы люди оставили меня в покое…» При этом слове воображение его иссякло. Он лениво попытался представить себе этот «покой» — глаза его закрылись, и за сомкнутыми веками он увидел в бесконечной серой мгле страну, каких он не знал даже по открыткам, — места, еще менее известные, чем Большой Каньон[22] или Тадж-Махал.[23] Он опять открыл глаза, и мгновенно по его жилам снова потек яд — там, на умывальнике, стояли подарки Кьюбита. Он был как ребенок, больной гемофилией, — от каждого прикосновения выступала кровь.
6
В коридоре отеля «Космополитен» приглушенно прозвенел звонок; сквозь стену, к которой примыкало изголовье кровати, Айда Арнольд услышала голос, звучавший без перерывов: за стеной была, наверное, комната для заседаний и кто-то делал доклад, а может быть, говорил в диктофон. Фил спал, рот его был слегка приоткрыт, в нем виднелся пожелтевший зуб с металлической пломбой… Повеселились… человеческая природа… никому не причиняет вреда… В настороженной, печальной, неудовлетворенной душе с точностью часового механизма возникали старые оправдания. Что может сравниться с порывом вожделения? Мужчины, правда, всегда подводят, когда доходит до дела. С таким же успехом она могла бы посмотреть все это в кино.
Но вреда такое никому не приносило, этого требовала человеческая природа, никто ведь не мог назвать ее испорченной — может, просто слегка беспутной и легкомысленной, есть в ней немножко вольности, но нельзя сказать, что она, как некоторые, извлекает из этого выгоду, выжимает из мужчины все соки и вышвыривает его, как изношенную перчатку. Она знала, где Добро и где Зло. Бог совсем не против того, чтобы люди поступали, как требует их природа, он против того… Ее мысли отвлеклись от Фила, лежавшего рядом, к ее Миссии — творить добро, добиться, чтобы зло было наказано…
Она села на постели и охватила руками круглые голые колени; в ее неудовлетворенном теле снова росло волнение. Бедный старина Фред — его имя больше не звучало ни горестно, ни возвышенно. Она помнила его очень смутно — только монокль и желтый жилет, совсем такой же, как у старого Чарли Мойна. Все это было несущественно, важна была охота за преступниками. Она чувствовала себя так, как будто поправлялась после болезни.
Фил приоткрыл глаза, покрасневшие от непосильных ему любовных утех, и понимающе посмотрел на Айду.
— Проснулся, Фил? — спросила она.
— Пожалуй, дело уже подходит к обеду, — сказал Фил. Он нервно улыбнулся. — О чем ты думаешь, Айда?
— Я только что подумала, — ответила Айда, — что сейчас нам больше всего на свете нужен один из сообщников Пинки, кто-нибудь, кто струсил или разозлился. Ведь они рано или поздно начинают трусить. Нам только нужно подождать.
Она встала с постели, открыла чемодан и стала вынимать платья, подходящие, по ее мнению, для обеда в отеле «Космополитен». Розовый свет настольной лампы затмил слабо мерцающий ночник. Она потянулась; у нее больше не было ни вожделения, ни разочарования — рассудок был ясен. На берегу почти стемнело, край воды был похож на нанесенные белилами письмена — большие расползающиеся буквы. На таком расстоянии их невозможно было прочесть. Чья-то тень склонилась с безграничным терпением книзу и извлекла из-под гальки какие-то отбросы.
Глава шестая
1
Когда Кьюбит вышел из дома, прихлебатели уже исчезли. Улица была пуста. Его охватило безмолвное чувство горечи, подобное тому, которое испытывает человек, разрушивший свой дом, не подготовив себе нового. С моря поднимался туман, а он не надел пальто. Он был рассержен, как ребенок; ни за что он не вернется за пальто, ведь это было бы признанием собственной неправоты. Единственное, что ему оставалось, это пойти в «Корону» и выпить рюмку неразбавленного виски.
В баре перед ним почтительно расступились. В зеркале, на котором красовалась реклама джина Бута, он увидел собственное отражение. Коротко остриженные рыжие волосы, грубоватое открытое лицо, широкие плечи; он внимательно рассматривал себя, как Нарцисс в своей заводи,[24] и на душе у него становилось легче — не такой он человек, чтобы не постоять за себя, он тоже кое-что стоит.
— Выпьем по рюмочке виски? — спросил кто-то.
Это был приказчик из зеленой лавки на углу. Кьюбит опустил ему на плечо свою тяжелую лапу, благосклонно, покровительственно, — человек, много повидавший на своем веку, почувствовал расположение к этому худосочному глуповатому парню, в своем узком, торгашеском мирке мечтавшему о жизни настоящего мужчины. Такие взаимоотношения нравились Кьюбиту. Он выпил за счет зеленщика еще две рюмки виски.
— Узнали, на кого поставить, мистер Кьюбит?
— У меня есть дела поважнее, чем думать о том, на кого поставить, — мрачно ответил Кьюбит, плеснув в виски немного содовой воды.
— Тут у нас был спор насчет Веселого Попугая, заезд в два тридцать. Я думаю…
Веселый Попугай… имя ничего не говорило Кьюбиту; выпивка согрела его, мозг затуманился, он наклонился вперед к зеркалу и увидел надпись: «Джин Бута… Джин Бута», подобно ореолу над головой. Он был втянут в высокую политику, сколько людей поубивали… бедный старина Спайсер… На чью же сторону встать? В его сознании словно качались чаши весов, он почувствовал себя таким важным, как премьер-министр, заключающий разные договоры.
— Кое-кто еще отправится на тот свет, прежде чем нас прикончат, — таинственно произнес он. Кьюбит знал, что делал, — он ведь не выдал никаких тайн, но ничего худого не будет, если эти жалкие, отупевшие от пьянства типы немного понюхают настоящей жизни. Он поднял свой стакан и сказал: «Угощаю всех!» — но, осмотревшись, увидел, что все ушли; какая-то физиономия украдкой заглянула через стеклянную дверь бара и исчезла — они не могли выносить общества настоящего мужчины.
— Наплевать, — сказал он, — наплевать…
Осушив свой стакан, он вышел из бара. Теперь, разумеется, надо будет повидаться с Коллеони. Вот что он ему скажет: «А я к вам, мистер Коллеони. Я порвал с бандой Кайта. Не желаю я работать на такого мальчишку. Дайте мне дело, достойное настоящего мужчины, я с ним справлюсь».
Туман пронизывал его до самых костей, он невольно вздрогнул… «Старый я дурак…» И подумал: «Вот если бы и Дэллоу тоже…» Вдруг чувство одиночества рассеяло всю его самоуверенность из тела, согретого выпивкой, быстро улетучивалось тепло и на его место проникал дьявольский холод. А что, если Коллеони наплевать на все это?… Он сошел на главную набережную и сквозь дымку тумана увидел яркие огни «Космополитена» — был час коктейлей.
Продрогший Кьюбит сел в стеклянной беседке и стал глядеть в морскую даль. Был отлив, и мгла окутывала море; вода, шипя, скатывалась вниз. Он закурил сигарету, спичка на мгновение согрела его сложенные ковшиком ладони. Затем он протянул пачку пожилому джентльмену, который сидел тут же в беседке, закутавшись в теплое пальто. «Не курю», — резко отказался джентльмен и закашлялся: его «кхе, кхе, кхе», не умолкая, понеслось к невидимому морю.
— Холодная ночка, — сказал Кьюбит.
Старый джентльмен навел на него свои выпуклые глаза, точно театральный бинокль, и продолжал кашлять: «кхе, кхе, кхе!» Его голосовые связки шуршали, как солома. Где-то далеко в море заиграла скрипка, словно какое-то морское чудовище, тоскуя, стремилось к берегу. Кьюбит вспомнил о Спайсере, который любил хорошие мелодии. Бедный старина Спайсер… Туман несся к берегу большими плотными полосами, похожими на какие-то призрачные тени. Однажды в Брайтоне Кьюбит попал на спиритический сеанс — ему хотелось вызвать дух матери, умершей двадцать лет назад. На него точно что-то нашло — а вдруг старушка сообщит ему что-нибудь хорошенькое. Вот она и сказала: пребывает на седьмом небе, там распрекрасно, только голос у нее был слегка пропитой, но ведь в этом не было ничего удивительного… Ребята тогда вдоволь потешились над ним, особенно старик Спайсер. Да уж, больше Спайсеру не посмеяться. Спайсера теперь самого в любой момент могут вызвать, чтобы он позвонил в звонок или потряс тамбурином. Хорошо еще, что он любил музыку.
Кьюбит поднялся с места и побрел к турникету на Западном молу. Мол был окутан туманом и уходил туда, где играла скрипка. Он зашагал к концертному залу: вокруг никого не было — в такую погоду даже влюбленные парочки не сидят на скамейках. Все, кто был на молу, забрались в концертный зал; Кьюбит обошел помещение кругом и заглянул внутрь: какой-то человек во фраке пиликал на скрипке, но только в первых рядах сидели слушатели — люди в пальто; все напоминало маленький островок, затерявшийся в морском тумане в пятидесяти ярдах от берега. Где-то в проливе завыла сирена парохода, за ней другая, и еще одна — они, как сторожевые псы, будили друг друга.
Пойти к Коллеони и сказать… это так просто; старикан должен быть благодарен… Кьюбит взглянул в направлении к берегу и увидел сквозь туман яркие огни «Космополитена»; они пугали его. Он не привык к такой компании. Спустившись вниз по железному трапу в мужской туалет, он отлил из себя виски в желоб между перегородками и вернулся наверх еще более одиноким. Вынув из кармана пенни, он опустил его в автомат — лицо робота с вращающейся за ним электрической лампочкой, железные руки, готовые загрести Кьюбита. Маленькая голубая карточка вылетела к нему из автомата: «Описание вашего характера». Кьюбит прочел: «На вас сильно влияют окружающие, у вас есть склонность быть капризным и неуравновешенным. Ваши чувства сильны, но непостоянны. У вас легкий, общительный и веселый нрав. Вы всегда великолепно делаете все, за что принимаетесь. И постоянно берете лучшее от жизни. Недостаточная активность возмещается у вас здравым смыслом, вы добиваетесь успеха там, где другие терпят неудачу».
Он медленно поплелся мимо игровых автоматов, оттягивая минуту, когда ему ничего другого не останется, как только пойти в «Космополитен»… «Ваша недостаточная активность…» За стеклом две свинцовые футбольные команды ждали, когда кто-нибудь опустит пенни и приведет их в движение. Старая ведьма, из клешни которой вылезала пакля, предлагала погадать ему. Около автомата «Любовное письмо» он остановился. Доски были влажны от тумана, длинный мол пуст, пиликала скрипка. Его влекло к глубокому, сердечному чувству, к цветущим апельсиновым деревьям, к объятьям в укромном уголке. Огромная его лапа тосковала по нежной ручке. По подруге, которую не раздражали бы его шутки, которая смеялась бы вместе с ним, сидя у двухлампового приемника. Он никому не желал зла. От холода он весь застыл, винный перегар подступал к горлу. Его уже тянуло назад, в пансион Билли. Но тут он вспомнил о Спайсере. Малыш спятил, убивает всех, как помешанный, это становится опасным. Одиночество снова погнало его к бездействующим автоматам. Он вынул последний медяк и бросил в щель. В ответ вылетела маленькая розовая карточка с изображением девичьей головки с длинными волосами и надписью «Верная любовь». Она предназначалась «Моей дорогой и любимой, в гнездышко влюбленных, с нежностью Купидона». Тут же была картинка, изображающая молодого человека в вечернем костюме, опустившегося на колени перед девушкой, закутанной в меха, и целующего ей руку. Наверху в уголке два сердца, пронзенные стрелой, как раз над регистрационным номером 745812. Кьюбит подумал: здорово запущено. И дешево — всего пенни. Он бросил быстрый взгляд через плечо — ни души, — затем торопливо перевернул карточку и принялся читать. Письмо было от Крыльев Купидона из Переулка Любви. «Моя дорогая крошка. Итак, ты сменила меня на помещичьего сынка. Ты не представляешь себе, что разбила мою жизнь и уничтожила всякую надежду, растоптала душу мою, словно бабочку, попавшую под колесо. Но даже теперь я желаю тебе только счастья».
Кьюбит смущенно ухмыльнулся. Он был глубоко растроган. Так всегда бывает, когда имеешь дело не со шлюхами, и сам-то становишься благороднее. Слова вроде «великое самоотречение», «трагедия», «красота» проносились в сознании. Когда имеешь дело со шлюхами, то уж непременно возьмешься за бритву, порежешь ей физиономию, а вот любовь, о которой здесь написано, — высший класс. Он принялся читать дальше, это было совсем как в книжках, вот так он хотел бы писать сам. «Когда я думаю о твоей дивной, пленительной красоте и о твоем уме, то понимаю, каким глупцом я был, воображая, что ты меня когда-нибудь по-настоящему полюбишь». Как ей не стыдно! Глаза его увлажнились от избытка чувств, все перед ним затуманилось, его пробирала дрожь от холода и от преклонения перед красотой. «Но запомни навсегда, дорогая, что я люблю тебя, и если тебе когда-нибудь понадобится друг, пришли мне только тот знак любви, который я дал тебе, я стану твоим слугой и рабом. Твой Джон — разбитое сердце». Его тоже звали Джон — это было как знамение.
Он снова прошел мимо освещенного концертного зала и спустился с безлюдного мола… Любимый и покинутый… Печаль и скорбь горели в его мозгу под рыжими волосами. Что тут делать человеку, как не пьянствовать? Он выпил еще одну стопку виски напротив входа на мол и направился к «Космополитену»; ноги его ступали подчеркнуто твердо — топ, топ, топ по тротуару, как будто к башмакам его были привязаны железные гири; так двигалась бы Статуя, состоящая наполовину из плоти, наполовину из камня.
— Я хочу поговорить с мистером Коллеони, — вызывающе сказал он.
При виде плюша и позолоты он сразу же потерял всю свою уверенность. Он смущенно ожидал у конторки, пока мальчик-рассыльный искал Коллеони в барах и гостиных. Клерк полистал страницы огромной книги приезжих, затем стал просматривать справочник. В это время вернулся рассыльный, а за ним по пушистому ковру следовал Крэб; он скользил бесшумно и самодовольно, от его черных волос шел запах помады.
— Я ведь сказал, что мне нужен мистер Коллеони, — повторил Кьюбит клерку, но тот не обратил на него никакого внимания и, послюнив палец, продолжал перелистывать справочник.
— Вы хотите видеть мистера Коллеони? — спросил Крэб.
— Вот именно.
— Это невозможно. Он занят.
— Занят? — переспросил Кьюбит. — Здорово сказано. Занят.
— Ба, да ведь это Кьюбит, — воскликнул Крэб, — наверно, тебе нужна работа. — Он оглянулся с деловым видом, как будто был чем-то озабочен, и спросил клерка: — Кто это там, лорд Фивершем?
— Да, сэр, — ответил клерк.
— Я частенько встречал его в Донкастере, — заметил Крэб, рассматривая ноготь на левой руке. Он величественно взглянул на Кьюбита. — Следуй за мной, дружище. Здесь неудобно говорить. — И, прежде чем Кьюбит смог ответить, он заскользил прочь, ловко лавируя между позолоченными стульями.
— Дело вот в чем, — начал Кьюбит. — Пинки…
Дойдя до середины холла, Крэб приостановился, отвесил поклон, затем продолжал путь, заметив неожиданно доверительным тоном: «Шикарная женщина». Он весь задергался, как в старинном кинематографе. Слоняясь из Лондона в Донкастер и обратно, он нахватался самых разнообразных манер. Путешествуя в первом классе после успешно обделанного дельца, он слышал, как лорд Фивершем обращается к носильщику, видел, как старый Дигби оглядывал женщин.
— Кто она такая? — спросил Кьюбит.
Но Крэб не обратил внимания на его вопрос.
— Можно поговорить здесь.
Это была маленькая гостиная в стиле Помпадур. Через стеклянную с позолотой дверь за столиком буль виднелись дощечки, указывающие путь по целой серии проходов. Это были изящные, как китайские безделушки, указательные дощечки — они пришлись бы к месту и в Тюильри:[25] «Дамский туалет», «Мужской туалет», «Дамская парикмахерская», «Мужская парикмахерская».
— Я ведь хочу поговорить с мистером Коллеони, — сказал Кьюбит. От него шел запах виски, распространявшийся над мебелью маркетри,[26] он был смущен и обескуражен. Ему с трудом удалось удержаться от искушения добавить «сэр». Крэб сильно возвысился со времени своей работы у Кайта, он стал почти недосягаемым. Теперь он был участником большого рэкета — вместе с лордом Фивершемом и этой шикарной женщиной; он здорово вознесся.
— У мистера Коллеони нет времени, он никого не принимает, — ответил Крэб, — он человек занятой. — Вытащив из кармана одну из сигар Коллеони, он сунул ее в рот, но Кьюбиту сигары не предложил. Кьюбит неуверенно протянул ему спички. — Не трудись, не трудись, — проговорил Крэб, шаря в карманах своего двубортного жилета. Разыскав золотую зажигалку, он, чиркнув, поднес ее к сигаре. — Что тебе нужно, Кьюбит? — спросил он.
— Я думал, может быть… — начал Кьюбит, слова его прозвучали робко среди позолоченных стульев. — Ты ведь знаешь, как обстоят дела, — сказал он, с отчаянием оглядываясь вокруг. — Как насчет того, чтобы выпить?
Крэб с готовностью поддержал его:
— Я не прочь выпить рюмочку… просто в память о старых временах.
Он позвонил официанту.
— О старых временах, — повторил Кьюбит.
— Присаживайся, — предложил Крэб, хозяйским жестом указывая на позолоченные стулья. Оживившийся Кьюбит присел. Стулья были маленькие и жесткие. Он заметил, что официант наблюдает за ними, и покраснел.
— Ты что будешь пить? — спросил он.
— Рюмку хереса, — ответил Крэб, — сухого.
— Мне виски и немного соды, — заказал Кьюбит.
Он молча сидел, ожидая свое виски, зажав руки между коленями, опустив голову. Украдкой он осматривался вокруг. Так вот куда Пинки приходил повидаться с Коллеони… У него-то выдержки хоть отбавляй!
— Здесь живешь с комфортом, — заметил Крэб. — Конечно, мистер Коллеони признает все только самое шикарное. — Он взял свою рюмку, глядя, как Кьюбит расплачивается. — Он любит жить широко. Ну, да ведь он и стоит не меньше, чем пятьдесят тысяч бумажек. Хочешь знать мое мнение? — продолжал Крэб, развалившись в кресле, попыхивая сигарой и наблюдая за Кьюбитом своими черными широко поставленными, наглыми глазами. — Он когда-нибудь займется политикой. Консерваторы очень высокого мнения о нем… у него есть связи.
— Пинки… — начал было Кьюбит, но Крэб только рассмеялся.
— Послушай моего совета, — сказал он, — развяжись ты с этой шайкой, пока еще не поздно. Никаких перспектив… — Он искоса посмотрел поверх головы Кьюбита и заметил: — Видишь вон того человека, что идет в мужской туалет? Это Мейс. Пивовар, стоит сто тысяч бумажек.
— Я вот раздумывал, — пробормотал Кьюбит, — не захочет ли мистер Коллеони…
— Вряд ли, — прервал его Крэб. — Сообрази-ка сам, ну какая от тебя польза мистеру Коллеони?
Смирение Кьюбита уступило место сдерживаемому гневу.
— Для Кайта я был достаточно хорош.
Крэб захохотал.
— Уж извини меня, — сказал он, — но Кайт… — Он стряхнул пепел на ковер и продолжал: — Послушай моего совета. Развяжись с ними. Мистер Коллеони собирается расчистить себе здесь место. Он ведь любит, чтобы все делалось как надо. Без насилия. Полиция очень доверяет мистеру Коллеони. — Он взглянул на свои часы. — Ох, мне пора. У меня деловое свидание на ипподроме. — Он покровительственно потрепал Кьюбита по плечу. — Вот что, — добавил он, — я замолвлю за тебя словечко… По старой дружбе. Толку-то никакого не будет, но я все-таки поговорю. Поклон от меня Пинки и ребятам.
Крэб удалился, оставив за собой запах помады и гаванской сигары и отвесив в дверях легкий поклон даме и старику с моноклем на черной ленте.
— Кто это, черт возьми?… — проговорил старик.
Кьюбит осушил свой стакан и тоже пошел прочь. Он опустил рыжую голову с чувством беспредельной подавленности; сознание незаслуженной обиды пробивалось сквозь винные пары — всегда кому-то приходится расплачиваться. Все, что он видел вокруг, разжигало пламя гнева в его груди. Он вышел в вестибюль… Вид мальчика-рассыльного с подносом привел его в ярость. Все тут следят за ним, ждут, когда он уберется, но ведь он имеет такое же право, как и Крэб, быть здесь. Он оглянулся и увидел женщину, с которой был знаком Крэб, — она в одиночестве сидела за столиком за стаканом портвейна.
Женщина улыбнулась ему… «Вспоминаю твою дивную, пленительную красоту, твой ум…» Гнев его сменился сознанием беспредельной несправедливости. Он хотел поделиться с кем-нибудь, излить душу… Он рыгнул… «Я буду твоим слугой и рабом…» Его огромная фигура повернулась, как створка двери, тяжелые ступни изменили направление и побрели к столу, за которым сидела Айда Арнольд.
— Я случайно услышала, что вы знаете Пинки, — сказала она.
Когда она заговорила, он ощутил огромное удовольствие от того, что она вовсе не важная дама. Для него это была словно встреча двух соотечественников вдали от родины. Он сказал:
— Вы что, приятельница Пинки? — и почувствовал, что ноги его обмякли от виски. Затем добавил: — Разрешите присесть?
— Устали?
— Точно! — подтвердил он. — Устал. — Он присел и уставился на ее большую, уютную грудь. Ему вспомнились слова из описания его характера: «У вас легкий, общительный и веселый нрав». Ей-богу, так оно и есть. Нужно только, чтобы к человеку хорошо относились.
— Хотите выпить?
— Ну что вы, — возразил он с грубоватой галантностью, — угощаю я.
Но когда принесли вино, он вспомнил, что остался без денег. Хотел одолжить у кого-нибудь из ребят… а тут эта ссора… Он следил за тем, как Айда Арнольд расплачивается пятифунтовой бумажкой.
— Знакомы с мистером Коллеони? — спросил он.
— Нельзя сказать, что мы по-настоящему знакомы, — уклончиво ответила она.
— Крэб сказал, вы шикарная женщина. Это правильно.
— А… Крэб, — нерешительно проговорила она, как будто не могла припомнить это имя.
— Вам-то лучше бы оставаться в сторонке, — заметил Кьюбит, — ни к чему вам вмешиваться во все эти дела. — Он заглянул в свой стакан, как в глубокую пропасть… С виду простая, славная красивая, умная… Как ей не стыдно… Слезы защекотали его воспаленные глаза.
— Вы приятель Пинки? — спросила Айда Арнольд.
— О господи, нет, — ответил Кьюбит и отпил еще немного виски.
В памяти Айды Арнольд возникли смутные воспоминания о чем-то из Библии, лежавшей в буфете рядом со спиритической доской, Уориком Диппингом журналом «Добрые друзья».
— Я видела вас вместе, — солгала она.
— Я не приятель Пинки.
— Быть приятелем Пинки небезопасно, — сказала Айда Арнольд. Кьюбит глядел в свой стакан, как ясновидящий заглядывает в душу, читая судьбы неизвестных ему людей. — Фред был приятелем Пинки, — затем добавила она.
— Что вы знаете о Фреде?
— Ходят разные слухи, — сказала Айда Арнольд, — все время ходят, разные слухи.
— Вы правы, — согласился Кьюбит. Он поднял покрасневшие глаза; ему хотелось, чтобы его поняли и утешили… Он недостаточно хорош для Коллеони… с Пинки он порвал… Поверх ее головы, сквозь окна холла, он видел темноту, отступающее от берега море, разрушенную арку Тинтерн, всегда украшающую открытки, — пустыня. — Господи! — повторил он. — Вы правы. — У него появилась непреодолимая потребность излить душу, но в голове все перемешалось. Он знал только, что наступил момент, когда мужчине требуется, чтобы ему посочувствовали. — Я никогда не стоял за это, — сказал он. — Полоснуть бритвой — это ведь совсем другое дело.
— Конечно, полоснуть бритвой — совсем другое дело, — мягко и искусно поддержала Айда Арнольд.
— А с Кайтом — это несчастный случай. Они ведь только хотели порезать его. Коллеони не дурак. Просто у кого-то соскользнула бритва. Не было причин для злого умысла.
— Выпьете еще?
— Платить-то следовало бы мне, — стал оправдываться Кьюбит, — да у меня в кармане пусто. Пока не увижу ребят.
— Вы молодец, что вот так взяли и порвали с Пинки. Для этого нужна храбрость после того, что случилось с Фредом.
— Ну меня-то он не запугает. Никаких сломанных перил…
— О чем это вы говорите, о каких сломанных перилах?
— Я хотел все по-хорошему, — продолжал Кьюбит. — Шутка есть шутка. Когда человек собирается жениться, над ним все подшучивают.
— Жениться? Кто это собирается жениться?
— Ну, ясное дело. Пинки.
— Уж не на девочке ли из кафе Сноу?
— Точно.
— Вот дурочка! — не скрывая гнева, проговорила Айда Арнольд. — Ох, вот дурочка-то.
— Но он-то не дурак, — возразил Кьюбит, — знает, что делает. Если бы она захотела кое-что сказать…
— Сказать, что не Фред оставил карточку?
— Бедняга Спайсер, — пробормотал Кьюбит, разглядывая пузырьки, поднимающиеся в стакане с виски. И вдруг его осенило: — А откуда вы?… — Но все опять спуталось в затуманенном мозгу. — Выйти бы на воздух; очень здесь душно. Что вы скажете, если мы с вами?…
— Погодите немножко, — попросила Айда Арнольд, — я поджидаю одного приятеля. Мне бы хотелось вас с ним познакомить.
— Это все центральное отопление, — сказал Кьюбит, — оно вредно для здоровья. Выйдешь на улицу и схватишь простуду, а потом, знаете ли…
— Когда же свадьба?
— Чья свадьба?
— Пинки.
— Я с Пинки не дружу.
— Вы ведь не одобряете смерть Фреда? — мягко настаивала Айда Арнольд.
— Вы разбираетесь в людях.
— Вот если бы полоснули бритвой — это другое дело.
Вдруг Кьюбит яростно заговорил:
— Как увижу кусок Брайтонского леденца, так сразу… — Он рыгнул и со слезами в голосе повторил: — Полоснуть бритвой — совсем другое дело.
— Доктора установили естественную смерть. У него было слабое сердце.
— Выйдем на улицу, — пробормотал Кьюбит, — мне нужно воздухом подышать.
— Ну подождите немножко. При чем тут Брайтонский леденец?
Он тупо уставился на нее и повторил:
— Мне нужно воздухом подышать. Даже если это меня убьет. Тут центральное отопление… — пожаловался он, — а я так легко простужаюсь.
— Подождите минутку. — Она в глубоком волнении положила ему руку на плечо — на горизонте забрезжила разгадка… Тут она сама впервые ощутила, как от скрытых батарей их обдает теплым душным воздухом, и ее тоже потянуло на улицу. Она сказала: — Я выйду с вами. Прогуляемся…
Он смотрел на нее, кивая головой с таким глубоким безразличием, как будто потерял способность соображать, — так выпускаешь из рук поводок, и собака исчезает из вида, убегает далеко, в лес, ее уж и не догнать… Он был поражен, когда она вдруг добавила:
— Я дам вам… двадцать фунтов.
Что он такое сказал, за что можно заплатить столько денег? Она соблазнительно улыбнулась ему.
— Позвольте мне только помыться и напудрить нос.
Он ничего не ответил, он испугался, но и ей было не до ответа — она ринулась вверх по лестнице — ждать лифта нет времени… Ей надо помыться! Эти же слова она сказала и Фреду. Айда бежала наверх по лестнице, навстречу ей спускались, люди, переодетые к обеду. Она заколотила в дверь, и фил Коркери впустил ее.
— Быстро, — скомандовала она, — мне нужен свидетель.
Слава богу, он был одет, и Айда потащила его вниз, но стоило ей войти в холл, как она увидела, что Кьюбит исчез. Она выбежала наружу, на ступеньки «Космополитена», но его нигде не было видно.
— Ну, в чем дело? — спросил Коркери.
— Ушел. Ну ладно, — сказала Айда Арнольд. — Теперь-то я знаю все точно. Никакое это не самоубийство. Они убили его. — Она говорила медленно, точно сама вслушивалась в свои слова. — Брайтонский леденец…
Многим женщинам показалось бы невозможным разгадать смысл этих слов, но Айда Арнольд привыкла разгадывать загадки спиритического столика. Ее пальцы вместе с пальцами старого Кроу распутывали более непонятные вещи. Ум ее заработал совершенно уверенно.
Ночной ветерок зашевелил жидкие светлые волосы Коркери. Быть может, ему пришло в голову, что в такой вечер, после любовных утех, всякой женщине нужна романтика. Он робко дотронулся до ее локтя.
— Какая ночь — проговорил он, — я даже не мечтал о таком… Какая ночь… — Но слова замерли у него на губах, когда она устремила на него большие задумчивые глаза, не понимая его, полная совсем других мыслей. И медленно сказала:
— Вот дурочка… выйти за него замуж… ведь не угадаешь, на что он еще пойдет… — С радостной жаждой справедливости она взволнованно добавила: — Мы должны спасти ее. Фил.
2
Малыш ждал у подножия лестницы. Огромное здание мэрии как тень нависло над ним — отделы регистрации рождения и смерти, выдачи разрешений на вождение автомобиля, взимания налогов, и где-то в одном из длинных коридоров затерялась комната регистрации браков. Он взглянул на свои часы и сказал Друитту:
— Опаздывает, черт ее дери.
— В этом преимущество невесты, — ответил Друитт.
Невеста и жених, кобыла и жеребец, который покрывает ее; мысль эта была, как звук пилы, режущей металл, как прикосновение ворсинок ткани к порезу на руке.
— Мы с Дэллоу… мы пойдем ей навстречу, — сказал Малыш.
Друитт спросил вдогонку:
— А что, если она придет другой дорогой? Вы разминетесь с ней? Я подожду здесь.
Они свернули с главной улицы налево.
— Она пойдет не этой дорогой, — заметил Дэллоу.
— А мы вовсе не обязаны к ней подлаживаться, — возразил Малыш.
— Теперь-то тебе от этого не отвертеться.
— Никто и не собирается! Я что, не могу немножко пройтись?
Он остановился и стал разглядывать витрину писчебумажного магазина: двухламповые радиоприемники, всюду пачки газет и журналов.
— Видел Кьюбита? — спросил он, заглядывая внутрь магазинчика.
— Нет, — ответил Дэллоу, — и никто из ребят не видел.
Стенды с ежедневными столичными и местными газетами были полны сообщений о разных происшествиях: скандал на заседании городского совета, около Черной скалы найдена утопленница, авария на улице Кларенс… Журнал «Дикий Запад», номер «Любителям кино», засунутый за чернильницы, вечные ручки, бумажные тарелки для пикников и маленькие топорные игрушки, роман Марии Стоупс «Супружеская любовь». Малыш внимательно разглядывал все это.
— Мне знакомо, что сейчас с тобой творится, — проговорил Дэллоу, — я и сам один раз был женат. Это у тебя прямо в печенке сидит. Нервы. Знаешь, — продолжал Дэллоу, — я даже пошел и купил одну из таких вот книжонок. Но не узнал из нее ничего нового. Вот только насчет цветов. Про их пестики. Просто не верится, какие чудеса творятся среди цветов.
Малыш повернулся и открыл было рот, чтобы ответить, но зубы его снова сжались. Он умоляюще и с ужасом смотрел на Дэллоу. Если бы Кайт был здесь, подумал он, тот бы ему все рассказал… хотя, будь здесь Кайт, в разговоре этом и нужды бы не было… ни за что бы не влип он в такую историю.
— А вот пчелы… — начал было объяснять Дэллоу, но замолк. — Что с тобой, Пинки? Вид у тебя не особенно важный.
— Я хорошо знаю все правила, — сказал Малыш.
— Какие правила?
— Тебе нечего учить меня правилам, — продолжал Малыш в порыве гнева, — что я, не следил за ними каждую субботнюю ночь?… Не слышал, как скрипела кровать? — Глаза его стали круглыми, как будто он видел что-то ужасное. — Когда я был маленьким, то поклялся, что стану священником, — глухо добавил он.
— Священником? Ты — священником? Вот здорово! — воскликнул Дэллоу. Он необидно захохотал, расставив ноги так неуклюже; что ступил в собачье дерьмо.
— А что плохого быть священником? — удивился Малыш. — Они знают, что к чему. Держатся в стороне от всего этого. — Его губы и скулы задрожали, казалось, он сейчас разрыдается, кулаки его бешено застучали по витрине: утопленница, приемник и этот ужас — «Супружеская любовь».
— Что плохого в том, чтобы немного позабавиться? — покровительственно сказал Дэллоу, очищая подметку о край панели. Но при слове «позабавиться» юноша затрясся, как в лихорадке.
— Тебе ведь не приходилось знать Анни Коллинз? — спросил он.
— Никогда не слыхал о такой.
— Она училась со мной в одной школе, — продолжал Малыш. Он уставился на грязную мостовую; в витрине с «Супружеской любовью» отразилось его полное отчаяния юношеское лицо. — Так она положила голову на рельсы, там, где проходит поезд на Хассокс. Да ей пришлось еще ждать минут десять до поезда семь пять… Он из-за тумана позже отошел от вокзала Виктория. Голову отрезало начисто. Ей было пятнадцать. У нее должен был родиться ребенок, а она знала, чем это пахнет. У нее уже был ребенок за два года до этого, так его могли бы пришить дюжине мальчишек.
— Да, бывает, — согласился Дэллоу, — есть такой шанс в этой игре.
— Читал я всякие любовные истории, — продолжал Малыш. Прежде он никогда не был таким разговорчивым; говоря, он рассматривал бумажные тарелочки с гофрированными краями и двухламповый приемник; тарелочки такие изящные, приемник такой топорный. — Жена Билли зачитывается ими. Знаешь, какого они сорта? «Леди Ангелина подняла сияющие глаза на сэра Марка». Тошнит меня от них. Тошнит больше, чем от других… — Дэллоу с изумлением следил за этим прорвавшимся потоком красноречия. — От тех, что покупают из-под прилавка. Спайсер их частенько доставал. О том, как побеждают девушек… «Стыдясь показаться в таком виде перед молодыми людьми, она остановилась…» Все это одно и то же, — сказал он, отведя полный ненависти взор от витрины и пробежав глазами из конца в конец длинную грязную улицу: запах рыбы, неровный тротуар, засыпанный опилками… — Это и есть любовь, — сказал он Дэллоу, невесело усмехнувшись. — Это и есть забава… Это и есть игра.
— Но должна же жизнь продолжаться? — смущенно пробормотал Дэллоу.
— А зачем? — спросил Малыш.
— Чего ты меня спрашиваешь, — ответил Дэллоу, — тебе лучше знать. Ты ведь католик? А вы верите…
— Credo in unum Satanam,[27] — произнес Малыш.
— Меня латыни не обучали. Я знаю только…
— Выкладывай, — подхватил Малыш, — давай потолкуем. Вероучение Дэллоу.
— Мир в порядке, если ты слишком далеко не заглядываешь.
— И все?
— Тебе пора уже быть в мэрии. Слышишь, часы бьют. Два… — Надтреснутый звон колоколов прекратился, пробило два.
Лицо Малыша опять стало жалким, он положил руку на плечо Дэллоу.
— Ты хороший парень, Дэллоу. И так много знаешь. Скажи-ка мне… — Рука его упала, он посмотрел мимо Дэллоу вдоль улицы. И проговорил безнадежно: — Вот и она. Что ей на этой улице надо?
— Она тоже не больно торопится, — заметил Дэллоу, наблюдая-за медленно приближающейся тоненькой фигуркой. На таком расстоянии она выглядела даже моложе своих лет. Он добавил: — А все-таки Друитт здорово умно поступил, достав разрешение на брак.
— Есть согласие родителей, — хмуро ответил Малыш, — самое главное для тех, кто соблюдает приличия. — Он рассматривал девушку, как будто это незнакомка, с которой у него назначено свидание. — Видишь ли, тут еще в одном деле повезло. Меня не зарегистрировали при рождении. Во всяком случае, не в таком месте, где это можно проверить. Вот мы и добавили пару годков. Родителей нет. Опекуна нет. Старый Друитт наплел целую трогательную историю.
Роз прифрантилась по случаю свадьбы: она сняла шляпку, которая не нравилась Малышу; новый плащ, немножко пудры, дешевая губная помада. Она была похожа на маленькую аляповатую статую в какой-то жалкой церквушке — бумажная корона не показалась бы на ней странной, да и раскрашенное сердце тоже; на нее можно было молиться, но нечего было ждать от нее помощи.
— Где это ты пропадаешь? — спросил Малыш. — Тебе непонятно, что опаздываешь?
Они даже не пожали друг другу руки. Ими овладела страшная скованность.
— Извини меня, Пинки. Видишь ли… — она стыдливо выдавила из себя эти слова, как будто призналась, что пошла на переговоры с его врагом, — я ходила в церковь.
— Зачем это? — спросил он.
— Не знаю, Пинки. Мне стало как-то не по себе. Вот я и надумала пойти исповедаться.
Он усмехнулся, глядя на нее.
— Исповедаться? Шикарно.
— Видишь ли, я хотела… я думала…
— Господи Боже, что ты там думала?
— Я хотела преисполниться благодати, когда буду выходить за тебя замуж. — Она даже не взглянула в сторону Дэллоу. Религиозный термин прозвучал в ее устах странно и педантично. На грязной улице стояли два католика. Они понимали друг друга. Она произносила слова, обычные и для рая и для ада.
— Ну, и что же, исповедалась?
— Нет. Я пошла, позвонила в звонок и спросила отца Джеймса. Но вдруг сообразила. Нельзя мне исповедаться. И ушла прочь. — Она прибавила со страхом и вместе с тем с грустью: — Мы ведь совершаем смертный грех.
Малыш ответил с горьким и невеселым злорадством:
— Нам никогда не придется больше ходить на исповедь, пока мы живы. — Теперь он заслуживал кару пострашнее: школьный циркуль был далеко позади, да и бритва тоже. Сейчас у него было такое чувство, будто убийство Хейла и Спайсера обычное дело, детская забава, и он уже далеко от всего этого ребячества. Убийство, только привело его к этому… этому падению. Сознание собственной значительности наполнило его благоговейным трепетом.
— Нам, пожалуй, нужно трогаться, — заметил он, почти нежно коснувшись ее локтя. Снова, как уже было однажды, он почувствовал, что нуждается в ней.
Друитт приветствовал их оживлением, приличествующим официальному лицу. Казалось, что он произносит все эти свои шутки во время процесса с тайным намерением довести их до слуха судьи. В бесконечном коридоре мэрии, ведущем к смертям и рождениям, стоял запах дезинфекции. Стены были облицованы плитками, как в общественной уборной. Кто-то обронил на пол розу. Друитт продекламировал торопливо и небрежно:
— Всюду розы и розы, и ни веточки тиса.[28]
Мягкая рука с фальшивой услужливостью взяла Малыша за локоть:
— Нет, нет, не сюда. Здесь налоги. Это будет позже.
Он повел их вверх по огромной каменной лестнице.
— А о чем задумалась маленькая леди? — спросил Друитт.
Девушка ему не ответила…
В церкви только жениху и невесте разрешается подняться по ступеням святилища, опуститься на колени у решетки алтаря перед священником и святыми дарами.
— Родители придут? — спросил Друитт. Она отрицательно покачала головой.
— И прекрасно! — воскликнул Друитт. — Тем скорее все кончится. Подпишитесь на этой строчке. Сядьте здесь. Нам ведь нужно дождаться своей очереди.
Они сели. В углу к облицованной плитками стене была прислонена швабра. По скользкому полу соседнего коридора скрипели шаги какого-то клерка. Вскоре открылась большая коричневая дверь, и они увидели за ней целый ряд клерков, не поднимавших головы от своих бумаг; в коридор вышли новобрачные. За ними следовала женщина, она взяла швабру. Новобрачный, он был средних лет, сказал «спасибо» и протянул ей шесть пенсов.
— Мы еще, пожалуй, успеем на три пятнадцать, — обратился он к новобрачной.
Лицо новобрачной выражало робкое удивление, она была смущена, но нельзя было сказать, что разочарована. На ней была коричневая соломенная шляпка, в руках саквояж.
Она тоже была уже немолода. Вероятно, в этот момент она думала: «Только-то и всего, после всех этих лет».
Они спускались вниз по огромной лестнице, держась несколько поодаль друг от друга, как чужие люди в универсальном магазине.
— Наша очередь, — проговорил Друитт, вскакивая.
Он повел их через комнату, в которой работали клерки. Никто даже и не взглянул на них. Перья пронзительно скрипели, бегая по бумаге и выводя цифры. В маленькой задней комнате со стенами, выкрашенными, как в больнице, в зеленый цвет, где стоял только стол и у стены три или четыре стула, их ждал регистратор. Роз совсем не такой представляла себе свадьбу; казенная бедность гражданского бракосочетания на миг обескуражила ее.
— Здравствуйте, — сказал чиновник, — пусть свидетели присядут… а вы двое… — и пальцем поманил их к столу. Что-то в нем напоминало провинциального актера, слишком уж уверенного в том; что он хорошо играет свою роль — он важно уставился на них сквозь очки в золотой оправе, считая себя кем-то вроде священнослужителя. Сердце Малыша колотилось, его мутило от сознания того, что эта минута все-таки наступила. Взгляд его стал тупым и угрюмым.
— Оба вы уж очень молоды, — заметил чиновник.
— Мы все уже решили, — ответил Малыш, — вам незачем рассуждать об этом. Мы все уже решили.
Чиновник бросил на него откровенно неприязненный взгляд, сказал язвительно:
— Повторяйте за мной, — а затем затараторил: — Торжественно заявляю, что нет никаких известных мне законных препятствий… — так стремительно, что Малыш не мог за ним поспеть. Чиновник сказал резко: — Это же очень просто. Вам нужно только повторять за мной.
— Давайте медленней, — попросил Малыш. У него была потребность остановить гонку, прекратить ее, но она продолжалась, — все произошло мгновенно, оказалось делом нескольких секунд, он повторял уже вторую формулу: «Моя законная жена…» Малыш старался говорить небрежно, отводя взгляд от Роз, но стыд словно отягощал его слова.
— Колец нет? — резко спросил чиновник.
— Нам не нужны кольца, — ответил Малыш, — это ведь не церковь. — Он почувствовал, что из его памяти никогда не изгладится холодная зеленая комната и тусклый взгляд этого человека. И услышал как Роз повторяла, стоя рядом с ним:
— Призываю этих людей, присутствующих здесь, быть свидетелями… — при слове «муж» он быстро взглянул на нее. Будь на ее лице хоть тень самодовольства, он бы ее ударил. Но оно выражало только удивление, как будто она читала книгу и слишком быстро дошла до последней страницы.
— Распишитесь здесь. Платите семь с половиной шиллингов. — С отсутствующим видом государственного чиновника при исполнении обязанностей он ждал, пока Друитт рылся в карманах.
— Эти люди, — повторил Малыш и отрывисто засмеялся, — это вы, Друитт, и ты, Дэллоу. — Он взял ручку — казенное перо заскрипело по странице, царапая бумагу; ему пришло в голову, что в былые времена такие соглашения скреплялись кровью. Он отступил назад и стал следить за тем, как неуклюже подписывается Роз — под его временной безопасностью, купленной ценою вечных мук для них обоих. Он нисколько не сомневался в том, что совершает смертный грех, и его охватило злорадное веселье и гордость. Он видел себя теперь вполне зрелым человеком, по которому рыдают ангелы.
— Эй вы, эти люди, — повторил он, не обращая никакого внимания на чиновника, — пойдем выпьем.
— Вот это да, — удивился Друитт, — какой сюрприз!
— Ну, Дэллоу может вам рассказать, как я пристрастился к выпивке за эти дни, — ответил Малыш. Он в упор посмотрел на Роз. — Я теперь все постиг, — добавил он. Взяв девушку за локоть, он повел ее через облицованный плитками коридор на огромную лестницу; швабра исчезла, и кто-то подобрал цветок. Следующая пара поднялась, как только они вышли, — дела на брачном рынке шли хорошо.
— Вот свадьба так свадьба, — сказал Малыш. — И никуда не денешься! Теперь мы… — Он хотел сказать «муж и жена», но сознание его уклонилось от этого определения. — Нам нужно отпраздновать, — продолжал он, но в мозгу его, как придирки старого родственника, от которого всегда можно ожидать бестактности, звучали слова «что отпраздновать?», и тут же он вспомнил о девице, разлегшейся в «ланчии», и о приближающейся долгой ночи.
Они зашли в кабачок за углом. Время близилось к перерыву, и он поставил им по пинте горького пива, а Роз взяла себе рюмку портвейна. Она молчала с той самой минуты, когда чиновник заставил повторить ее за собой слова клятвы. Друитт бросил быстрый взгляд вокруг и пристроил Около себя свой портфель. В темных полосатых брюках он выглядел бы вполне прилично и на настоящей свадьбе.
— За здоровье новобрачной — произнес он с шутливостью, которая тотчас же испарилась, как будто он хотел вызвать судью на ответную шутку, но встретил отпор — его морщинистое лицо моментально настроилось на серьезный лад. Он почтительно сказал: — За ваше счастье, дорогая моя.
Роз не ответила. Она рассматривала свое лицо в зеркале с надписью «Крепкое пиво — высший сорт». В этой странной оправе, на фоне пивных кружек лицо ее выглядело необычно. Казалось, на него легла огромная тяжесть ответственности.
— О чем задумались? — спросил ее Дэллоу. Малыш поднес к губам стакан с пивом и снова отпил — тошнота подступила у него к горлу… Что здесь другим так нравится? Он угрюмо наблюдал, как Роз время от времени бросала безмолвные взгляды на своих спутников, и опять почувствовал, что между ними существует какая-то тесная связь. Он-то знал ее мысли — те же мысли лихорадочно проносились и в его голове. С торжествующей злобой Малыш заговорил:
— Могу сказать, о чем она размышляет. Она думает: не очень-то это похоже на свадьбу. Она думает: я себе это совсем не так представляла. Верно ведь?
Она кивнула, держа рюмку с портвейном так, как будто до этого ей никогда не приходилось пить.
— «Тело мое одарит тебя всеми своими земными дарами»,[29] — начал он декламировать. — А теперь, — продолжал он, повернувшись к Друитту, — я подарю ей золотую монету.
— Время закрывать, джентльмены, — сказал бармен, споласкивая грязные стаканы в цинковой лохани и вытирая их липкой салфеткой.
— Мы в святилище, понятно, со священником…
— Допивайте, джентльмены.
Друитт смущенно сказал:
— В глазах закона все свадьбы одинаковы. — Он ободряюще кивнул девушке, смотревшей на него пытливыми, юными глазами. — Вы теперь замужем по всем правилам. Можете мне поверить.
— Замужем? — вмешался Малыш. — Вы называете это быть замужем? — Он задержал во рту слюну, смешанную с пивом.
— Ну, хватит, — сказал Дэллоу, — не приставай к девочке. Ни к чему заходить слишком далеко.
— Давайте, джентльмены, допивайте ваше пиво.
— Замужем? — повторил Малыш. — Спросите-ка ее. — Двое мужчин торопливо и смущенно осушили свои стаканы.
— Ну, мне надо двигаться, — сказал Друитт.
Малыш презрительно посмотрел на них — они ведь ни в чем не разбираются. У него снова пробудилось едва ощутимое чувство общности с Роз — она ведь тоже знала, что этот вечер ровно ничего не значит, что не было никакого бракосочетания. Он сказал с грубоватой нежностью:
— Пойдем. Надо трогаться, — и поднял было руку, чтобы взять ее под локоть, но увидел себя с ней рядом в зеркале «Крепкое пиво — высший сорт», и рука его опустилась. Новобрачные… зеркало подмигивало ему.
— Куда? — спросила Роз.
Куда? Он не подумал об этом — новобрачную всегда куда-то везут: медовый месяц, уик-энд на море, сувенир с Маргейт,[30] который стоял у его матери на камине… от одного моря к другому, от одного мола к другому — вот и все.
— Ну, пока, — сказал Дэллоу; на минуту он помедлил в дверях, встретив взгляд Малыша, увидел в нем мольбу о помощи, но, ничего не поняв, бодро помахал рукой и удрал вслед за Друиттом, оставив их одних.
Казалось, они впервые остались наедине, хоть тут и был бармен, вытиравший стаканы; они не были по-настоящему наедине ни в кладовой у Сноу, ни над обрывом в Писхейвене — вот так наедине, как теперь.
— Пойдем, пожалуй, — предложила Роз.
Стоя на панели они услышали, как за их спиной захлопнули и заперли двери «Короны» — со скрежетом задвинули засов. Им показалось, что за ними захлопнулись двери рая неведения. В этом мире им ничего не оставалось, как приобретать опыт.
— Мы пойдем к Билли? — спросила девушка.
Была минута внезапной тишины, вдруг наступающей в середине самого делового дня: ни одного трамвайного звонка, ни одного гудка паровоза на вокзале; стая птиц стремительно взлетела над Олд-Стейн и заметалась в небе, как будто на земле только что свершилось преступление. Малыш с тоской вспомнил комнату Билли — там он мог на ощупь отыскать в мыльнице деньги, все там было привычное, ничего незнакомого, все разделяло с ним его горькое целомудрие.
— Нет, — проговорил он. И когда возобновился полуденный шум, лязг и грохот, опять повторил: — Нет.
— Куда же?
Он улыбнулся с бессильной злобой. Куда же еще приводят шикарных блондинок, как не в «Космополитен»? Их привозят на субботу и воскресенье в спальном вагоне или мчат через меловые холмы в алом спортивном автомобиле. Благоухая дорогими духами, закутанные в меха, вплывают они в ресторан, как свежевыкрашенный катер, им дают покрасоваться за ночные утехи. Он окинул Роз долгим взглядом — нищета ее была для него словно покаяние.
— Мы возьмем номер, — ответил он, — в «Космополитене».
— Нет, правда, куда мы пойдем?
— Ты же слышала — в «Космополитен», — взорвался он. — Ты что же думаешь, я недостаточно хорош для этого?
— Ты-то хорош, — ответила она, — а я вот нет.
— Мы пойдем туда, — повторил он, — я могу себе это позволить. Как раз такое место, как нужно. Была тут одна женщина, ее звали Евгень, она всегда там останавливалась. Из-за нее у них и короны на стульях.
— Это кто такая?
— Одна заграничная шлюха.
— Значит, ты там бывал?
— Конечно, бывал.
Вдруг она взволнованно всплеснула руками.
— Я как во сне, — сказала она и пристально взглянула на него, чтобы разгадать, не насмехается ли он над ней.
— Мой автомобиль в ремонте, — небрежно сказал он, — мы пройдемся пешком и пошлем кого-нибудь из отеля за моим чемоданом. А где твой?
— Что мой?
— Твой чемодан.
— Он такой потрепанный, грязный…
— Ничего, — сказал он с безрассудной хвастливостью, — мы тебе другой купим. Где твои вещи?
— Вещи?…
— Господи, какая ты глупая! — воскликнул он. — Я говорю о… — Но воспоминание о предстоящей ночи сковало его язык. Он побрел по тротуару, лицо его отражало угасающий дневной свет.
— У меня нет ничего… ничего, в чем я могла бы выйти за тебя замуж, кроме вот этого, — прошептала она. — Я просила у них хоть немножко денег. Но они уперлись и не дали. Ну что ж, это их право. Это же их деньги.
Они шли по тротуару на небольшом расстоянии друг от друга. Слова ее просительно скреблись о преграду между ними, как когти птицы об оконное стекло, — он чувствовал, что она изо всех сил старается завладеть им, даже ее покорность казалась ему западней. Жестокий, торопливый обряд связал его с ней. Она-то ведь не знала причин, она думала… что он желает ее… избави Боже от этого.
— Ты не воображай, что у нас будет медовый месяц, — грубо заметил он, — это все чепуха. Я человек занятой. Мне нужно заниматься делом. Мне нужно… — Он запнулся и посмотрел на нее с какой-то скрытой мольбой… пусть все останется по-прежнему… — Я должен много разъезжать.
— Я буду ждать тебя, — прошептала она. Он чувствовал, что в ней растет долготерпение, присущее беднякам и людям, давно женатым. Скромно и в то же время не стыдясь, оно проступало, словно вторая натура.
Они вышли на набережную, надвигался вечер, море слепило глаза, она смотрела на него с такой радостью, как будто это было какое-то незнакомое море.
— А что твой папаша говорил сегодня?
— Ничего не говорил. На него сегодня опять нашла хандра.
— А старуха?
— На нее тоже нашла хандра.
— Ну, а деньги-то они взяли без всяких.
Они остановились на набережной, как раз напротив «Космополитена», и в тени его громады подошли еще на несколько шагов ближе. Он вспомнил, как мальчик-рассыльный выкрикивал чье-то имя, вспомнил золотой портсигар Коллеони… Медленно и раздельно, стараясь справиться с волнением, он проговорил:
— Ну что ж, нам здесь будет неплохо. — Затем пригладил рукой вылинявший галстук, одернул пиджак, неуверенно расправил узкие плечи. — Ну, входи же… — Она робко пошла за ним через дорогу, потом вверх по широким ступеням. На террасе, в плетеных креслах, греясь на солнышке, сидели две старые дамы, обмотанные шарфами; от них веяло полным благополучием, разговаривая, они не смотрели друг на друга, а просто с понимающим видом бросали реплики: «А вот Вилли…», «Мне всегда нравился Вилли…»
Поднимаясь по ступеням, Малыш нарочно топал ногами. Он пересек огромный холл и подошел к конторке портье. Роз шла вслед за ним. Там никого не было. Малыш ожидал с бешенством, для него это было как личное оскорбление. Рассыльный выкликал на весь холл: «Мистер Пайнкоффин, мистер Пайнкоффин!» А Малыш все ждал. Зазвонил телефон. Когда опять распахнулась парадная дверь, донесся обрывок разговора старых дам: «Это был страшный удар для Бэйзила…» Затем появился мужчина в черном пиджаке и спросил:
— Чем могу служить?
— Я жду здесь уже… — начал с бешенством Малыш.
— Вы могли бы позвонить, — холодно прервал его портье и открыл большую книгу для регистрации приезжих.
— Мне нужен номер, — продолжал Малыш, — двойной номер.
Портье внимательно осмотрел Роз, стоявшую за спиной Малыша, и перевернул страницу.
— У нас нет свободных номеров, — ответил он.
— Мне не важно сколько это будет стоить, — настаивал Малыш, — я возьму люкс.
— Ничего свободного нет, — сказал портье, не поднимая глаз от книги. Пробегавший мимо рассыльный с подносом остановился, глядя на них. Малыш продолжал тихо, но в голосе его звучало бешенство.
— Вам не удастся спровадить меня отсюда. Мои деньги не хуже, чем у других.
— Безусловно, — согласился портье, — но бывает так, что нет свободных номеров. — Он повернулся к ним спиной и взял в руки банку с клеем.
— Пошли из этой вонючей ямы, — обратился Малыш к Роз.
Он сбежал вниз по ступенькам, мимо старых дам, слезы унижения навернулись ему на глаза. У него было безумное желание крикнуть всем, что они не имеют права так с ним обращаться, что он убийца, не боится убивать людей, а поймать его не могут. Его так и подмывало похвастать этим. Он не хуже других мог позволить себе пожить в таком месте — у него ведь были машина, адвокат, двести фунтов в банке…
— Вот если бы у меня было обручальное кольцо… — начала Роз.
— Кольцо?… Какое еще кольцо? — бешено набросился на нее Малыш. — Мы не женаты. Запомни это. Мы не женаты… — Но внизу на улице он с огромным напряжением взял себя в руки и с горечью вспомнил, что ему и дальше предстоит притворяться. «Заставить жену давать показания, конечно, нельзя, но ничто не может остановить жену, кроме любви… похоти», — подумал он с смутным страхом и, повернувшись к ней, неумело извинился.
— Они меня разозлили, — с трудом выговорил он, — видишь ли, я ведь обещал тебе…
— Это неважно, — ответила девушка. И вдруг, взглянув на него широко открытыми, удивленными глазами, она бодро заявила: — Ничего не может испортить сегодняшний день.
— Нам нужно найти пристанище, — сказал он.
— Мне все равно где… пойдем к Билли?
— Только не сегодня, — возразил он, — не хочу, чтобы сегодня вокруг слонялись наши ребята.
— Тогда поищем какое-нибудь местечко, — успокоила она, — еще ведь и не стемнело.
В этот час, когда не было заездов на бегах и не предстояло никаких деловых встреч, он обычно лежал, растянувшись на постели, в пансионе Билли. Сейчас он жевал бы шоколадные конфеты из пакетика или булку с колбасой, наблюдая, как солнце скрывается за трубами, потом заснул бы, проснулся и снова поел и снова заснул бы, убаюканный темнотой, струящейся сквозь окошко. Тут и ребята вернулись бы с вечерними газетами, жизнь началась бы снова. А теперь он был растерян, не знал, что делать со свободным временем — ведь он был уже не один.
— Давай когда-нибудь поедем за город, как тогда, — предложила Роз… Глядя в морскую даль, она строила планы на будущее… Он догадывался, что перед ее мысленным взором, подобно приливу, проходили годы.
— Все будем делать, как ты захочешь, — согласился он.
— А не пойти ли нам сейчас на мол, — сказала она, — я не была там с тех пор, как мы ходили туда в тот день, помнишь?
— И я тоже не был, — быстро и не задумываясь солгал Малыш, он вспомнил их первую встречу, Спайсера, грозу на моле, начало всего того, чему он не видел конца… Они прошли через турникет; кругом было много народу; рыболовы, стоя в ряд, следили за своими поплавками, колыхающимися в темно-зеленой спокойной воде; под их ногами плескалось море.
— Ты знаком с этой девицей? — спросила Роз. Малыш безразлично повернул голову.
— С какой? — спросил он. — Я тут никаких девиц не знаю.
— Вон с той, — показала Роз, — ручаюсь, она говорит про тебя.
В его памяти всплыло пухлое, невыразительное прыщавое лицо, словно притаившаяся за стеклом аквариума огромная рыба, опасная ядовитая хищница, приплывшая из неведомого океана. Фред разговаривал с ней, он подошел к ним на набережной, она еще давала показания — он никак не мог припомнить, что она говорила, видимо, ничего существенного… А сейчас она следила за ним, подталкивая локтем свою толстую подругу, рассказывала что-то, плела бог весть какие небылицы… «Боже, — подумал он, — неужели мне суждено перерезать весь свет?»
— Она тебя наверняка знает, — настаивала Роз.
— Никогда ее даже и не видел, — солгал он, проходя мимо.
— С тобой приятно гулять, — заметила девушка, — все тебя знают. Вот никогда не предполагала, что выйду замуж за знаменитость.
«Кто же следующий, — думал он, — кто же следующий?»
Прямо перед ним один рыболов отступил на другой край дорожки, чтобы закинуть удочку; раскрутив леску, он забросил ее далеко в море, поплавок попал в пену волны и понесся к берегу. На теневой части мола было прохладно, с одной стороны стеклянной стенки стоял еще ясный день, с другой уже надвигался вечер.
— Давай перейдем туда, — предложил он. Ему опять вспомнилась девушка Спайсера. Почему я тогда сбежал, оставив ее в машине? Черт возьми, ведь она знала толк в этих забавах!
— Слушай, — остановила его Роз, — не подаришь ли ты мне такую пластинку? На память. Они ведь не дорогие, — добавила она, — всего шесть пенсов. — Они остановились перед небольшой стеклянной будкой, похожей на телефон-автомат. На будке была надпись: «Запишите на пластинку свой собственный голос».
— Иди, иди, — оборвал он ее, — не валяй дурака. Зачем это нужно?
И тут во второй раз он увидел, как она вдруг рассердилась, став почти невменяемой. Покладистая, безответная, добрая, она в такие минуты становилась опасной. Тогда из-за шляпы, теперь из-за пластинки.
— Ну и ладно, — заговорила она, — катись! Ты мне ни разу ничего не подарил. И даже сегодня. Раз я тебе не нужна, чего же ты не убираешься? Почему не оставишь меня в покое? — Прохожие оборачивались и глядели на них, на его растерянное и недовольное лицо, на ее безудержный гнев. — Зачем я тебе понадобилась? — кричала она на него.
— Ради Христа… — пробормотал он.
— Я лучше утоплюсь… — начала она, но он прервал ее:
— Можешь получить свою пластинку, — он нервно усмехнулся, — похоже, что ты рехнулась. Зачем тебе слушать меня на пластинке? Ты что, и так не будешь меня слышать каждый день? — Он крепко сжал ей руку выше локтя. — Ты ведь паинька. Мне для тебя ничего не жалко. Можешь получить все, что желаешь. — Ему пришло в голову: «Она вертит мной, как хочет… долго так будет?» — Ну, ты ведь говорила все это не всерьез? — заискивающе спросил он. От этой попытки говорить ласково лицо его сморщилось, как у старика.
— На меня что-то нашло, — проговорила она, отведя от него глаза; он не мог ничего прочесть в ее взгляде, мрачном и отчаянном.
Малыш почувствовал облегчение, но все еще внутренне сопротивлялся. Ему не хотелось записывать свой голос — это напоминало ему об отпечатках пальцев.
— Ты что, и вправду хочешь, чтобы я подарил тебе такую штуку? — спросил он. — У нас ведь и патефона нет. Ты даже не сможешь ее слушать. Какой же в этом толк?
— Мне и не нужен патефон, — сказала она, — мне просто хочется, чтобы она была у меня. Может, ты куда-нибудь уедешь, и я смогу одолжить патефон. Вот ты и поговоришь со мной. — Она произнесла все это с таким воодушевлением, что он даже испугался.
— А что ты хочешь, чтобы я сказал?
— Ну, все равно что, — попросила она. — Скажи что-нибудь для меня. Скажи Роз, ну… и еще что-нибудь.
Малыш вошел в будку и закрыл за собой дверь. В будке был ящик со щелью для его шестипенсовика, микрофон и инструкция: «Говорите ясно и прямо в аппарат». Мудреная штука привела его в смущение, он оглянулся через плечо — там, снаружи, она без улыбки наблюдала за ним, он посмотрел на нее, как на незнакомое существо, как на маленькую нищенку с Нелсон-Плейс. И тут его охватила страшная злость. Опустив шестипенсовик и произнося слова приглушенным голосом, чтобы не было слышно снаружи, он запечатлел на эбоните свое обращение к ней: «Будь ты проклята, дрянь ты этакая, хоть бы ты убралась восвояси и оставила меня навсегда в покое!» Он слышал, как скрипела игла и вращалась пластинка, затем что-то щелкнуло, наступила тишина.
Малыш вышел к Роз, неся в руке черный диск.
— На вот, держи, — сказал он, — я тут кое-что наговорил… приятное.
Она осторожно взяла у него пластинку и понесла так, как будто защищала ее от толпы… Даже на солнечной стороне мола становилось прохладно; этот холод был как непререкаемый приказ им обоим — отправляйтесь-ка домой!.. У него было ощущение как будто он гуляет, когда нужно заниматься делом… нужно идти в школу, а он не приготовил уроков…
Они прошли через турникет; он искоса взглянул на нее, пытаясь угадать, чего она ждет дальше — если бы она проявила хоть малейшее нетерпение, он отвесил бы ей оплеуху, но она прижимала к себе пластинку, охваченная таким же унынием, как и он.
— Ну что ж, надо нам все-таки куда-нибудь пойти, — сказал он.
Она указала пальцем на ступеньки, ведущие вниз к крытой галерее под набережной.
Малыш пристально взглянул на нее — она как бы намеренно испытывала его. С минуту он колебался, потом произнес с усмешкой:
— Ладно, пойдем туда. — В нем возникло что-то похожее на чувственное желание — совокупление добрых и злых сил.
На деревьях в Олд-Стейн зажглись разноцветные огни, но было еще рано, и их свет не выделялся на фоне угасающего дня. В длинном туннеле под набережной были собраны все самые шумные, примитивные и дешевые развлечения Брайтона; мимо них проносились дети в бумажных матросских шапочках с надписью: «Я не ангел», поезд ужасов прогремел совсем рядом, унося влюбленные парочки в темноту, полную криков и визга. Во всю длину туннеля, около стенки, примыкающей к откосу, помещались аттракционы, с другой стороны — ларьки: мороженое, весы с фотоавтоматом, ракушки, леденцы. Полки доходили до потолка, маленькие дверки вели в темные кладовые, а на стороне, выходящей к морю, не было ни дверей, ни окон, ничего, кроме множества полок от самой гальки до крыши, целый волнорез из Брайтонских леденцов, выходящий в море. В туннеле всегда горели огни, воздух был спертый, душный, отравленный человеческим дыханием.
— Ну, что же будет дальше? — спросил Малыш. — Ракушки или Брайтонский леденец? — Он посмотрел на нее так, как будто от ее ответа зависело что-то очень важное.
— Я не прочь пососать палочку Брайтонского леденца, — согласилась она.
Он снова усмехнулся. Только дьявол, подумал он, мог подтолкнуть ее на такой ответ. Она, конечно, праведница, но уже неотделима от него, словно он вкусил ее, как Бога, вместе с причастием. Бог не может освободить тебя от грешных уст, избравших уделом вкусить собственное проклятье… Он медленно перешел на другую сторону туннеля и заглянул в дверку.
— Девушка, — позвал он, — девушка! Две палочки леденца.
Он хозяйским взглядом оглядел маленький, выкрашенный в розовый цвет ларек с перегородкой; лавчонка запечатлелась у него в памяти — на полу следы. Один кусочек пола приобрел вечную значительность, — если бы кассу передвинули на другое место, он бы сразу заметил.
— А это что такое? — спросил он, кивнув в сторону единственного незнакомого ему предмета — какого-то ящика.
— Ломаные леденцы, — объяснила продавщица, — отдаем по дешевке.
— От фабрики?
— Нет. Разбили тут. Какие-то неуклюжие болваны, — пожаловалась она.
Малыш взял леденцы и повернулся. Он знал, что ничего не увидит — там, за ящиками с Брайтонскими леденцами набережная была не видна. Его вдруг охватило сознание своей беспредельной сообразительности.
— До свиданья, — сказал Малыш; нагнувшись, он прошел сквозь маленькую дверцу и вышел наружу. Если бы только он мог похвастать своим умом, излить свою безграничную гордость…
Они стояли рядышком, посасывая палочки леденцов. Какая-то женщина торопливо оттолкнула их в сторону: «Пропустите-ка, ребятки!» Они взглянули друг на друга — супружеская пара.
— Куда теперь? — неуверенно спросил он.
— Может попробовать поискать где-нибудь? — предложила она.
— Не к чему спешить. — Голос его звучал немного тревожно. — Ведь еще рано. Хочешь в кино? — Он снова заговорил вкрадчивым тоном. — Я ведь тебя никогда не водил в кино.
Но чувство превосходства оставило его. Ее взволнованное восклицание «Какой ты хороший!» снова вызвало у него отвращение.
В полумраке, угрюмо сидя на местах за три с половиной шиллинга, он горько и безжалостно спрашивал себя, на что она надеется, а рядом с экраном светящиеся часы показывали время. Фильм был любовный: роскошные лица, бедра, снятые со знанием дела, таинственные кровати, похожие на крылатые челны. Кого-то убили, но это не имело значения. Важна была только эта игра. Два главных героя величественно продвигались к простыням на постели: «Я полюбил тебя с первого взгляда в Санта-Моника…» Серенада под окном, девица в ночной рубашке… а стрелки рядом с экраном все движутся. Вдруг он с бешенством сказал Роз: «Как кошки!» Это была самая привычная игра на свете, зачем же бояться того, что собаки делают прямо на улице? А музыка стонала: «Я сердцем угадал, что божество ты». Он продолжал шепотом: «Может нам все же пойти к Билли?» — а сам подумал: «Мы там не будем одни, может, что-нибудь случится, может, ребята устроят пьянку, захотят отпраздновать… и никому не придется сегодня ложиться в постель». Актер с прилизанной прядью черных волос над бледным изможденным лицом говорил: «Ты моя. Вся моя». И опять пел под мерцающими звездами в лучах неестественного лунного света. И вдруг, непонятно почему, Малыш заплакал. Он закрыл глаза, чтобы удержать слезы, но музыка продолжала играть — это было как видение свободы для заключенного. Внутри у него все сжалось, он представил себе эту недосягаемую свободу: без страха, ненависти, зависти. Ему казалось, что он умер и вспоминает, как он чувствовал себя после предсмертной исповеди, вспоминает слова отпущения грехов. Но смерть была только воображаемой, он не чувствовал раскаяния, ребра его тела, как стальные обручи, приковывали его к вечному греху. Наконец он сказал:
— Пойдем. Пора двигаться.
Стало совсем темно. Разноцветные огни тянулись вдоль набережной до самого Хоува. Они медленно прошли мимо кафе Сноу, мимо отеля «Космополитен». Низко над морем с шумом пролетел самолет, красный огонек исчез вдали. Под одним из стеклянных навесов какой-то старик зажег спичку, чтобы закурить трубку, и осветил мужчину и девушку, забившихся в угол. С моря доносились жалобные звуки музыки. Они пересекли Норфолк-сквер и повернули на Монпелье-роуд; какая-то блондинка со скулами Греты Гарбо остановилась на ступеньках бара Норфолк и стала пудриться. Где-то звонил похоронный колокол, а в подвале патефон играл гимн.
— Сегодняшнюю ночь уж проведем здесь, а завтра, может, и найдем какое-нибудь пристанище, — сказал Малыш.
У него был свой ключ от входной двери, но он позвонил в звонок. Его влекло к людям, хотелось поговорить… но никто не отозвался. Он снова позвонил. Это был один из тех старинных звонков, за который нужно дергать, он звенел на конце проволоки; такой звонок по долгому опыту общения с пылью, пауками и необитаемыми комнатами знает, как сообщать, что дом пуст.
— Не может быть, чтобы все ушли, — сказал он, вставляя ключ в замок.
В холле горела лампочка, он тут же заметил записку, приклеенную под телефоном: «Вдвоем вам лучше, — он сразу узнал неуклюжий, размашистый почерк жены Билли, — а мы ушли праздновать свадьбу. Заприте свою дверь. Желаем хорошо провести время». Он смял бумажку и бросил ее на линолеум.
— Пошли наверх, — сказал он.
Наверху он положил руку на новую перекладину перил и сказал:
— Видишь, мы их починили.
В темном коридоре пахло стряпней, капустой и паленым сукном. Он кивнул головой в сторону одной двери.
— Это комната старины Спайсера. Ты веришь в привидения?
— Не знаю.
Распахнув дверь своей комнаты, Малыш зажег пыльную лампочку без абажура.
— Ну вот, лучшего предложить не можем, — сказал он, отступив в сторону, чтобы не загораживать широкую медную кровать, умывальник с разбитым кувшином и лакированный платяной шкаф с дешевым зеркалом.
— Здесь лучше, чем в любом отеле, — заметила она, — больше похоже на дом.
Они стояли посреди комнаты, словно не зная, что дальше делать.
— Завтра я немножко здесь приберусь, — наконец проговорила она.
Он с силой хлопнул дверью.
— Не смей здесь ничего трогать! — воскликнул он. — Это мой дом, слышишь? Я не позволю тебе лезть сюда и менять тут все…
Малыш со страхом следил за ней… каково это, прийти в собственную комнату, в свое логово и обнаружить там чужого…
— Чего ты не снимаешь шляпу? — спросил он. — Ведь ты останешься здесь?
Она сняла шляпу и плащ… Так начинается смертный грех. «Вот за что людей обрекают на адские муки», — подумал он… В передней зазвенел колокольчик. Малыш не обратил на него внимания.
— Субботний вечер, — проговорил он, ощущая горечь во рту, — пора ложиться в постель.
— Кто это? — спросила девушка, когда колокольчик снова зазвенел; он с уверенностью сообщал тому, кто стоял снаружи, что дом уже больше не пуст. Она пересекла комнату и подошла к Малышу, лицо ее было бледно.
— Это полиция? — спросила она.
— Почему это должна быть полиция? Кто-нибудь из приятелей Билли. — Но ее предположение поразило его. Он стоял и ждал звонка. А тот больше не звонил.
— Ну, не можем же мы стоять так всю ночь, — сказал он, — давай лучше ляжем спать. — Он почувствовал сосущую пустоту внутри, как будто несколько дней ничего не ел. Снимая пиджак и вешая его на спинку стула, он старался делать вид, что все идет своим чередом. Обернувшись к ней, он увидел, что Роз не сдвинулась с места; тоненькая, полуребенок, она стояла, дрожа, между умывальником и кроватью.
— Ага, — начал он издеваться над ней, а у самого во рту пересохло, — значит ты трусишь! — Он как бы вернулся на четыре года назад и подбивал школьного товарища на какую-то проделку.
— А ты разве не трусишь? — ответила Роз.
— Я? — Он неуверенно засмеялся в ответ и шагнул вперед, в нем едва лишь теплилась чувственность; как насмешка вспомнилось ему вечернее платье, обнаженная спина, «Я полюбил тебя с первого взгляда в Санта-Моника…»
В каком-то порыве гнева Малыш взял ее за плечи и подтолкнул к кровати… Он спасся от района Парадиз, а пришел вот к этому…
— Смертный грех, — проговорил он, впитывая в себя аромат невинности, стараясь ощутить вкус чего-то похожего на причастие… Медный шар кровати, безмолвный, испуганный и покорный взгляд Роз… Он сокрушил все в безрадостном, грубом и решительном объятии… крик боли, а потом снова трезвон колокольчика.
— Боже мой, — проговорил Малыш, — неужели нельзя оставить человека в покое? — Он открыл глаза в полумраке комнаты, чтобы посмотреть, что он наделал, — это показалось ему больше похожим на смерть, чем конец Хейла и Спайсера.
— Не ходи, Пинки, не ходи! — умоляла Роз.
Его охватило странное чувство торжества: вот он и достиг вершины человеческого бесстыдства — в конце концов это не так уж и сложно. Он подверг себя этому испытанию, и никто не посмеялся над ним. Не нужно ему ни Друитта, ни Спайсера, только… В нем проснулась слабая нежность к соучастнице его подвига. Он протянул руку и ущипнул ее за мочку уха. А в пустом холле заливался колокольчик… С Малыша как будто свалилась огромная тяжесть. Теперь он мог встретиться с кем угодно.
— Придется пойти узнать, что этот стервец хочет.
— Не ходи, Пинки, я боюсь!
Но он чувствовал, что больше никогда ничего не будет бояться; убегая с ипподрома, он боялся, боялся боли, а еще больше боялся вечного проклятья — внезапной смерти без отпущения грехов. А теперь ему казалось, что он уже проклят, и больше ему никогда не придется ничего бояться… А мерзкий звонок все звенел, проволока гудела в передней… Над кроватью горела лампочка без абажура — девушка, умывальник, закопченное окно, неясное очертание какой-то трубы, голос, шепчущий: «Я люблю тебя, Пинки». Так вот что такое ад, нечего тут беспокоиться, ведь это его собственная, привычная комната. Он сказал:
— Я сейчас вернусь. Не бойся. Я сейчас вернусь.
На верхней площадке лестницы Малыш положил руку на новую, еще не окрашенную перекладину починенных перил. Он слегка потряс ее, чтобы убедиться в ее прочности. Его подмывало ликующе закричать от сознания собственной сообразительности. А внизу заливался звонок. Малыш глянул вниз — расстояние большое, но нельзя было с уверенностью сказать, что, упав с такой высоты, человек расшибется насмерть. Раньше эта мысль никогда не приходила ему в голову, но бывает ведь, что люди с переломанным позвоночником живут несколько часов, он знает одного старика, тот до сих пор бродит с проломленным черепом, который трещит на морозе когда старик чихает. Малышу казалось, что кто-то невидимый ей помогает… Звонок все звенел, точно зная, что он дома. Он спустился вниз по лестнице и споткнулся на рваном линолеуме — это жилье не подходит для такого человека, как он. Малыш ощущал беспредельную энергию, там, наверху, он не только не потерял жизнеспособности, а приобрел ее. Исчез только страх. Он не имел представления, кто там стоит за дверью, но испытывал злобную радость. Протянув руку к старому звонку и схватив его, он почувствовал, как за проволоку дергают. Пока он не прошел всю переднюю, продолжался этот странный поединок с незнакомцем, и Малыш одержал победу. Дергать за веревку перестали, в дверь застучали кулаком. Малыш выпустил звонок из рук и подкрался к двери, но тут же за его спиной опять начался звон, надтреснутый, глухой, настойчивый. Скомканная бумажка со словами «Заприте свою дверь. Желаем хорошо провести время» попалась ему под ноги.
Он резко распахнул дверь и увидел за ней Кьюбита, хмурого и совершенно пьяного; кто-то поставил ему синяк под глазом, дыхание у него было зловонное — выпивка всегда портила ему пищеварение.
У Малыша еще усилилось чувство торжества: его победа была беспредельной.
— Ну, а тебе что здесь нужно? — спросил он.
— У меня тут вещи, — ответил Кьюбит, — хочу забрать свои вещи.
— Тогда входи и забирай их, — сказал Малыш.
Кьюбит бочком вошел. Он начал было:
— Я не думал, что увижу тебя…
— Давай, давай, — прервал его Малыш, — забирай свои манатки и уматывайся.
— А где Дэллоу?
Малыш не ответил.
— А Билли?
Кьюбит откашлялся. Малыш ощутил его зловонное дыхание.
— Послушай, Пинки, — пробормотал он, — ты да я… почему нам не быть приятелями? Какими всегда были.
— Никогда мы не были приятелями, — отрезал Малыш.
Кьюбит как будто не расслышал. Он прислонился спиной к телефону и пристально смотрел на Малыша хмельным и настороженным взглядом.
— Ты да я, нас нельзя разлучить, — сказал он хриплым, от застрявшей в горле мокроты, голосом, — мы ведь вроде братьев. Связаны одной веревочкой.
Малыш следил за ним, прислонясь к противоположной стене.
— Мы ведь с тобой, вот что я скажу… Нас нельзя разлучить, — повторял Кьюбит.
— Думаю, Коллеони не захотел прикоснуться к тебе даже тросточкой, — сказал Малыш. — Ну, и я не подбираю его отбросов, Кьюбит.
Кьюбит прослезился, у него дело всегда кончалось этим; по его слезам Малыш мог определить, сколько стаканов он выпил. Кьюбит плакал против воли, две слезы, как капли воды, вытекали из желтоватых белков его глаз.
— Тебе не за что так со мной обращаться, Пинки, — сказал он.
— Лучше забирай свои вещи.
— Где Дэллоу?
— Он ушел, — ответил Малыш, — все ушли. — В нем опять зашевелилось чувство жестокого озорства. — Мы совсем одни, Кьюбит, — продолжал он. И взглянул в глубину передней на новую заплату линолеума в том месте, где упал Спайсер. Но это не подействовало, слезливость у Кьюбита прошла, он стал угрюмым, злым…
— Нельзя относиться ко мне, как будто я дерьмо какое-то, — сказал Кьюбит.
— Это так к тебе Коллеони отнесся?
— Я пришел сюда как друг, — продолжал Кьюбит, — ты не можешь себе позволить не принимать моей дружбы.
— Я могу позволить себе больше, чем ты думаешь, — ответил Малыш.
— Тогда одолжи мне пять бумажек, — быстро подхватил Кьюбит.
Малыш покачал головой. Его вдруг охватило нетерпение и гордыня — он заслуживал большего, чем эта перебранка на потертом линолеуме под запыленной лампочкой без абажура, да еще с кем? — с Кьюбитом.
— Ради Христа, — сказал он, — забирай свои вещи и уматывай.
— Я ведь кое-что могу порассказать про тебя…
— Ничего ты не можешь.
— Фред…
— Вот тебя-то за это и повесят, — усмехнувшись прервал его Малыш. — А не меня. Я слишком молод, меня не повесят.
— Есть еще и Спайсер.
— Спайсер свалился вон оттуда.
— Я слышал, что ты…
— Слышал, что я?… Кто же этому поверит?
— Дэллоу тоже слышал.
— С Дэллоу все в порядке, — ответил Малыш. — Дэллоу можно доверять. Послушай, Кьюбит, — продолжал он спокойно, — если бы ты мне был опасен, я бы нашел, что с тобой сделать. Только благодари Бога — мне ты не опасен. — Малыш повернулся к Кьюбиту спиной и стал подниматься по лестнице. Он слышал, как позади тяжело дышит, прямо задыхается, Кьюбит.
— Я пришел сюда не ругаться. Одолжи мне пару бумажек, Пинки. Я издержался… В память старой дружбы.
Малыш не ответил. Он уже поднялся до поворота лестницы, ведущей в его комнату.
— Подожди-ка минутку, я тебе кое-что скажу, — закричал Кьюбит, — ты, кровожадный тип. Один человек обещал мне много денег — двадцать бумаг… Ты… эх, ты… я тебе скажу, что ты такое.
Малыш остановился на пороге комнаты.
— Валяй, — подзадорил он, — ну-ка, скажи.
Кьюбит силился продолжать, но не находил нужных слов. Он изливал свою ярость и обиду в отрывистых выкриках.
— Ты негодяй, — кричал он, — ты трус. Ты такой трусливый, что прикончишь лучшего друга, лишь бы спасти собственную шкуру. Вон, ты даже девчонок боишься, — он пьяно захохотал. — Сильвия мне рассказала…
Но это обвинение запоздало. Теперь Малыш уже приобщился к познанию последней людской слабости. Он слушал с удовольствием, с каким-то бесчеловечным торжеством; картина, нарисованная Кьюбитом, не имела к нему никакого отношения — все равно, как изображение Христа, в которое люди вкладывают свои собственные чувства. Кьюбиту этого не понять. Он похож на ученого, описывающего незнакомцу места, которые он сам знал только по книгам: цифры импорта и экспорта, грузооборот, минеральные ресурсы, сбалансирован ли бюджет, а незнакомец по собственному опыту досконально знал эту страну так как умирал от жажды в ее пустынях, и в него стреляли у подножья ее холмов… Негодяй… трус… боишься. Он тихо, язвительно засмеялся. У него было такое чувство, что он может перещеголять Кьюбита, какую бы ночь тот ни припомнил. Он открыл свою комнату, вошел, закрыл дверь и запер ее на ключ.
Роз сидела на постели, болтая ногами, как школьница, ожидающая в классе прихода учителя, чтобы ответить свой урок. За дверью Кьюбит сначала орал, стучал ногой, гремел ручкой, а потом убрался. Роз сказала со вздохом облегчения — она ведь привыкла к пьяным:
— Ох, так это не полиция?
— А почему это должна быть полиция?
— Не знаю, — призналась она, — я подумала, может…
— Может, что?
Он едва расслышал ее ответ:
— Колли Киббер…
На минуту Малыш замер от изумления. Потом тихо засмеялся с беспредельным презрением и превосходством над тем миром, который употребляет такие слова, как невинность.
— Ну и ну, — воскликнул он. — Вот здорово, выходит ты все время знала? Ты догадывалась! А я-то думал, ты совсем желторотая, еще из яйца не вылупилась. А ты вон какая… — Он создал себе ее образ в тот день в Писхейвене, а потом среди бутылок с имперским вином у Сноу. — А ты, оказывается, все знала.
Роз и не отрицала; она сидела, зажав руки между коленями, и как будто со всем соглашалась.
— Здорово, — продолжал он, — ну, раз ты додумалась до этого, значит ты такая же испорченная, как и я. — Он пересек комнату и прибавил с оттенком уважения: — Между нами нет никакой разницы.
Она посмотрела снизу вверх своими детскими глазами и серьезно подтвердила:
— Никакой разницы.
Он почувствовал, что в нем опять поднимается желание, как приступ тошноты.
— Вот так брачная ночь! — сказал он. — Ты думала, что брачная ночь будет такая?… — Золотая монета, зажатая в ладони, коленопреклонение в святилище, благословение. Опять шаги в коридоре, Кьюбит заколотил в дверь, и потом, шатаясь, убрался прочь, скрипнула лестница, хлопнула дверь… Она точно снова поклялась, обхватив его руками, в смертном грехе. «Никакой разницы».
Малыш лежал на спине в одной рубашке и видел сон. Он был на спортивной площадке, залитой асфальтом, один из платанов засох; вдруг раздался надтреснутый звонок, к нему подбежали дети, а он был новенький, не знал никого из них, его мутило от страха — они ведь подбежали к нему с дурными намерениями. Затем он почувствовал, как кто-то осторожно потянул его за рукав, и в зеркале, висевшем на дереве, увидел свое отражение и Кайта, стоявшего позади, — средних лет, добродушного, изо рта у него лилась кровь. «Вот сосунки», — сказал Кайт и вложил ему в руку бритву. Тут-то он и понял, что ему делать; нужно было сразу же показать им, что он ни перед чем не остановится, для него не существует никаких преград.
Он выбросил вперед руку, как будто хотел нанести удар, пробормотал что-то невнятное и повернулся на бок. Край одеяла закрыл ему рот, дышать стало трудно… Ему снилось, что он на моле и видит, как ломаются сваи; вдруг с пролива налетела черная туча, и море поднялось, а мол весь накренился и осел. Он хотел закричать во всю мочь — нет страшнее смерти, чем утонуть. Настил мола накренился так круто, как у парохода, навеки погружающегося в пучину; он стал карабкаться по гладкой поверхности прочь от моря и скользил обратно, все ниже и ниже, пока не оказался в своей постели в районе Парадиз. Он все еще лежал, думая: «Какой сон!» — и тут услышал, как на другой кровати воровски зашевелились родители. Была субботняя ночь. Отец тяжело дышал, как бегун у финиша, мать стонала от наслаждения, смешанного с болью. Его охватило чувство ненависти, отвращения, одиночества — он был совершенно покинут, в их мыслях не осталось для него места; несколько минут ему казалось, что он умер и похож на душу умершего, попавшую в чистилище, наблюдающую за бесстыдными действиями любимого существа.
Вдруг Малыш открыл глаза, кошмар становился невыносимым; была темная ночь, он ничего не видел вокруг, и на минуту ему показалось, что он снова в районе Парадиз. Но тут часы пробили три, зазвенев совсем рядом, — звук их напоминал опустившуюся с шумом крышку бака помойки на заднем дворе. И Малыш с огромным облегчением подумал, что он один. В полудремоте выбрался он из постели (во рту пересохло и отдавало горечью) и стал ощупью пробираться к умывальнику. Нащупав кружку, он стал было наливать в нее воду, как вдруг услышал голос:
— Пинки, что случилось, Пинки?
Малыш выронил кружку и, когда вода расплескалась по ногам, с горечью припомнил все.
Он осторожно сказал в темноту:
— Все в порядке. Спи.
Чувство торжества и превосходства над другими испарилось. Несколько последних часов возникли в его памяти, как будто все это время он был пьян или спал, — необычность происходящего ненадолго придала ему бодрости. А теперь уже не будет ничего необычного — он пробудился ото сна. Но нужно вести себя осторожно — ей ведь все известно. Темнота расступалась под его пристальным взглядом, глаза его могли рассмотреть шары на кровати и стул, сон прошел, и он прикидывал, что делать. Он выиграл один ход, но и потерял один; теперь ее не могут заставить давать показания, но зато он узнал, что ей все известно… она любит его, что бы это ни значило, но любовь не вечна, как ненависть или отвращение. Она может увидеть более смазливое лицо, более шикарный костюм…
Он с ужасом осознал ту истину, что ему всю жизнь придется удерживать ее любовь, он никогда не сможет развязаться с ней, даже если выкарабкается наверх, то и тогда ему придется тащить за собой Нелсон-Плейс; место это, точно шрам, на всю жизнь оставит на нем свой след. Ведь гражданский брак так же нерасторжим, как и церковный. Только смерть может принести ему свободу.
Его непреодолимо потянуло на свежий воздух, и он медленно направился к двери. В коридоре ничего не было видно, лишь слышалось сонное дыхание — и из комнаты, откуда он только что вышел, и из комнаты Дэллоу. У него было такое чувство, что он слеп, а за ним наблюдают люди, которых он не видит. Ощупью добравшись до верхней площадки лестницы, он спустился в переднюю по скрипящим ступенькам. Протянув руку, он дотронулся до телефона, затем, также ощупью, добрался до двери. Фонари на улице уже были погашены, но темнота, уже не ограниченная четырьмя стенами, казалось, рассеивалась в безграничном просторе города. Он мог разглядеть решетки на окнах подвалов, бегущую кошку и в темном небе отсвет фосфоресцирующего моря. Это был незнакомый ему мир, никогда раньше не бывал он здесь один. Когда он бесшумно зашагал по направлению к приливу, его охватило призрачное чувство освобождения.
На Монпелье-роуд все еще горели огни, вокруг никого не было видно, около магазина граммофонных пластинок стояла пустая молочная бутылка; вдали виднелись освещенная башня с часами и общественная уборная; воздух был свеж, как за городом. Малышу показалось, что он спасен.
Для того чтобы согреться, он сунул руки в карманы брюк и нащупал клочок бумаги, которого раньше там не было. Он вытащил его; это был листок, вырванный из блокнота, — почерк незнакомый, крупные неуверенные буквы. Он поднял листок к глазам в предрассветной мгле и с трудом разобрал: «Я люблю тебя, Пинки. Мне все равно, что ты делаешь. Я люблю тебя навек. Ты меня жалеешь. Куда бы ты ни пошел, я пойду за тобой». Должно быть она написала это, пока он толковал с Кьюбитом, и сунула ему в карман, когда он заснул. Он сжал листок в кулаке и хотел уже выбросить его в урну, стоявшую возле рыбной лавки, но передумал. Неясное чувство подсказало ему: как знать, что с тобой будет, когда-нибудь это может пригодиться.
Вдруг он услышал чье-то бормотание, круто повернувшись, оглянулся вокруг и сунул бумажку обратно в карман. На земле, в проходе между двумя лавками, сидела старуха; он увидел сморщенное, увядшее лицо — оно как бы воплощало проклятье ада. Затем до него донесся шепот:
— Благословенна ты в женах. — И он увидел, как темные пальцы перебирают четки. Она-то уж не могла быть проклята. Он смотрел на нее со страхом и любопытством — это была одна из спасенных.
Глава седьмая
1
Проснувшись в одиночестве, Роз совсем не удивилась — она ведь была новичком в царстве смертного греха и считала, что все идет как нужно. Он, наверное, ушел по делам, подумала она. Ее разбудил не назойливый треск будильника, а утренний свет, лившийся сквозь незавешенное окно. Спустя некоторое время в коридоре послышались шаги и повелительный голос позвал: «Джуди». Она лежала, раздумывая над тем, что должна делать жена… или, скорее, любовница.
Но ей не лежалось — в этом непривычном безделье было что-то пугающее. Когда ничего не делаешь — жизнь как будто не настоящая. А вдруг они считают, что она знает свои обязанности, и ждут, что она затопит печку, соберет на стол, вынесет мусор. Часы где-то пробили семь — звон был незнакомый; за всю жизнь она привыкла к звону только одних часов, никогда еще ей не приходилось слышать, чтобы часы били так неторопливо и приятно в утреннем летнем воздухе. Ей было хорошо, но немножко страшно: ведь семь часов — это ужасно поздно. Она вылезла из постели и, одеваясь, уже собралась было наспех пробормотать «Отче наш» и «Аве Мария», как вдруг снова вспомнила… Какой теперь смысл молиться? Со всем этим у нее покончено — она выбрала свой путь, если Пинки обречен на муки ада, пусть будет проклята и она.
В кувшине было только на вершок мутной, застоявшейся воды; приподняв крышку мыльницы, она обнаружила там три фунтовые бумажки и завернутые в них две полукроновые монеты. И тут же снова прикрыла мыльницу крышкой — к этому ее тоже приучили. Потом осмотрела комнату, заглянула в шкаф, нашла там жестянку с печеньем и пару сапог, под ногами у нее захрустели крошки. Взгляд ее упал на граммофонную пластинку, лежавшую на том стуле, куда она ее вчера положила, — нужно спрятать ее в шкаф, для большей сохранности. Затем она приоткрыла дверь — ни звука, никаких признаков жизни; посмотрела через перила — свежая древесина заскрипела под ее тяжестью. Где-то внизу должны быть кухня, общая комната — те места где ей следует трудиться. Она осторожно спустилась вниз. Семь часов! Какие злющие лица встретят ее сейчас! В холле ей попал под ноги комочек бумаги. Расправив его, она прочла нацарапанную карандашом записку: «Запри свою дверь. Желаем хорошо провести время». Смысл был ей непонятен, но ведь это мог быть какой-нибудь шифр. Ей пришло на ум, что это, вероятно, имеет отношение к тому странному миру, где в постели совершают грех, где люди внезапно расстаются с жизнью и где среди ночи ломятся в дверь и осыпают тебя проклятьями.
Роз отыскала спуск в подвал. На лестнице, проходившей под передней, было совсем темно, но она не знала, где выключатель. Она споткнулась и чуть не упала, но схватилась за стенку, сердце у нее забилось — ей вспомнились показания на дознании о том, как свалился Спайсер. Смерть его накладывала на дом печать значительности — ей никогда еще не приходилось бывать в таком месте, где кто-то недавно умер. Спустившись вниз, она осторожно приоткрыла первую попавшуюся дверь, готовая к тому, что сейчас ее обругают; слава богу, это была кухня, но в ней никого не оказалось. Кухня совсем не походила на все те, которые она до сих пор видела: кухня у Сноу была чистая, сверкающая, оживленная, а дома кухня была общей комнатой, где протекала вся жизнь, — там готовили и ели, хандрили, согревались в морозные вечера и дремали в креслах. Здесь же все было как в доме, предназначенном для продажи; очаг полон потухшего угля, на подоконнике пустые жестяные банки из-под сардин, под столом грязное блюдце для кошки, хоть кошки нигде не видно, в настежь открытом буфете виднелись пустые бутылки.
Она подошла и поковыряла кочергой в потухших углях, печка была на ощупь холодная — огонь не зажигали много часов или даже дней… У Роз мелькнула мысль, что ее покинули, — может, и такие вещи случаются в этом странном мире: внезапный побег, когда бросают все — пустые бутылки, свою девушку, оставив записку с тайным шифром на клочке бумаги. Когда дверь отворилась, она ожидала, что увидит полисмена.
Но это был мужчина в пижамных брюках. Он заглянул внутрь и спросил:
— Где это Джуди? — и тут только заметил ее. — Ты рано встаешь — сказал он.
— Рано? — Она не поняла, что он имеет в виду.
— Я думал, что это Джуди тут возится. Ты узнаешь меня? Я Дэллоу.
— Я подумала, может, мне печь затопить, — неуверенно объяснила она.
— Зачем это?
— Приготовить завтрак.
— Если эта баба ушла и забыла… — проворчал он. Подойдя к кухонному столу, он отодвинул ящик. — Вот, пожалуйста. И что это тебе вздумалось? Зачем тебе печка? Здесь всего хватает. — В ящике стояли стопки консервных банок — сардины, селедка…
— А чай?
Он взглянул на нее с недоумением.
— Можно подумать, что ты нарочно ищешь себе работу. Здесь никто не пьет никакого чаю. Зачем канителиться? Вон в буфете пиво, а Пинки пьет молоко прямо из бутылки. — Он поплелся обратно к двери. — Угощайся, детка, если проголодалась. А Пинки что-нибудь нужно?
— Он уже ушел.
— Господи Боже, что только творится в этом доме? — Он остановился на пороге и еще раз взглянул на нее, она стояла с беспомощно повисшими руками около потухшей печки. — Ты-то ведь не горишь желанием поработать?
— Нет, — с сомнением в голосе ответила она.
Дэллоу был озадачен.
— Не хочу я к тебе приставать, — сказал он, — ты девушка Пинки. Давай, начинай, растопляй печку, если хочешь. Я утихомирю Джуди, если она разлается, но одному Богу известно, где ты достанешь уголь. Ведь эту печку с марта не топили.
— Я не хочу занимать чужое место, — возразила Роз. — Я спустилась вниз… Я думала… надо растопить ее.
— Не к чему тебе и стараться, — ответил Дэллоу. — Вот что я тебе скажу, это дом полной свободы… — И добавил: — Ты не видала, не возится где-нибудь такая рыжая потаскушка?
— Я не видала ни души.
— Ну ладно, — сказал Дэллоу. — Мы еще увидимся.
Она снова осталась одна в холодной кухне. Не к чему стараться… Дом полной свободы… Она прислонилась к выбеленной стене и заметила старую липкую бумагу от мух, висевшую над кухонным шкафом; кто-то давным-давно поставил мышеловку около дыры в полу, но приманку стащили, а капкан захлопнулся впустую… Люди лгут, утверждая, что неважно, спишь ли ты с мужчиной или нет. После боли к тебе приходит все — свобода, независимость, новизна. В груди ее шевельнулась робкая радость и что-то похожее на гордость. Она решительно открыла дверь кухни и там, на лестнице ведущей в подвал, увидела Дэллоу и ту самую рыжую потаскушку, которую он называл Джуди. Они стояли, слившись в поцелуе, поза их выражала неистовую страсть — они словно стремились нанести друг другу величайший вред, на который каждый из них был способен. На женщине был темно-розовый халат с пучком пыльных бумажных маков — реликвия, сохранившаяся еще со Дня поминовения. В то время как их губы впивались друг в друга, часы приятно пробили половину. Роз смотрела на них, стоя у подножья лестницы. За одну ночь она прожила целую вечность. Теперь она знала об этом все.
Женщина заметила ее и оторвала губы от губ Дэллоу.
— Ну вот, — проговорила она, — а это еще кто такая?
— Это девушка Пинки, — объяснил Дэллоу.
— Рановато ты поднялась. Проголодалась, что ли?
— Нет. Просто я подумала… может, мне печку растопить.
— Мы не часто топим эту печку, — ответила женщина, — жизнь слишком коротка.
Вокруг рта у нее были маленькие прыщики. Она казалась чрезвычайно общительной. Пригладив рукой свои волосы, она спустилась вниз по лестнице к Роз и прижала к ее щеке губы, влажные и цепкие, как морской анемон. От нее слегка пахло застоявшимися духами «Калифорнийский мак».
— Ну, дорогая, — воскликнула она, — теперь ты одна из наших. — Широким жестом она как бы представила Роз полуголого мужчину, темную пустую лестницу, убогую кухню. Затем зашептала тихо, так, чтобы Дэллоу не мог ее расслышать: — Ты ведь никому не скажешь, милочка, что видела нас? Билли взбесится, а ведь в этом ничего нет плохого, право же, совсем ничего.
Роз молча кивнула головой; эта чужая страна слишком быстро ее засасывала — едва успела пройти через таможню, как уже подписаны документы о гражданстве и она внесена в список призывников…
— Ты просто прелесть, — воскликнула женщина. — Любой друг Пинки — всем нам тоже друг. Скоро ты увидишь наших мальчиков.
— Сомневаюсь, — заметил Дэллоу с верхней площадки.
— Почему ты так думаешь?…
— Нам придется серьезно потолковать с Пинки.
— Был здесь Кьюбит вчера вечером? — спросила женщина.
— Понятия не имею, — ответила Роз, — я ведь не знаю, как кого зовут. Кто-то долго звонил, страшно ругался и колотил в дверь ногами.
— Это Кьюбит, — невозмутимо объяснила женщина.
— Нам придется серьезно потолковать с Пинки. Ведь это опасно, — повторил Дэллоу.
— Ну, милочка, мне, пожалуй, пора вернуться к Билли. — Она помедлила на ступеньке как раз над Роз. — Если тебе когда-нибудь понадобится почистить платье, лучше всего отдать его Билли. Хотя мне бы, наверно, не следовало бы об этом говорить. Никто лучше Билли не выводит жирные пятна. И со своих жильцов он почти ничего не берет. — Она наклонилась и положила веснушчатый палец на плечо Роз. — Твое-то вполне можно просто погладить.
— Но у меня нечего больше надеть, только это.
— Ну, в таком случае, милочка, — она придвинулась еще ближе и доверительно зашептала, — заставь своего муженька купить тебе новое. — Затем, подобрав полы полинявшего халата, она взбежала по лестнице. Роз увидела мертвенно-бледную ногу, покрытую рыжеватыми волосами и похожую на какое-то подземное существо; стоптанная домашняя туфля захлопала по толстой пятке. Ей казалось, что здесь все очень добрые, — как будто их объединяло братство смертного греха.
Поднимаясь из подвала. Роз чувствовала, что грудь ее наполняется гордостью. Она стала одной из посвященных. И уже испытала все то, что знает каждая женщина. Вернувшись в комнату, она уселась на кровать, посидела и услышала, как часы пробили восемь; есть ей не хотелось ее охватило чувство безграничной свободы — ничего не нужно делать в положенное время, не нужно ходить на работу. Перетерпишь немного боли, зато сразу же попадешь в мир полной независимости. Сейчас ей хотелось только одного: чтобы другие узнали, как она счастлива. Она ведь может теперь прийти к Сноу, как любой посетитель, постучать ложкой по столу, чтобы ее обслужили. Она может похвастать… Сначала это казалось несбыточным. Но, сидя на кровати и не замечая, как бежит время, она пришла к мысли, что это вполне может осуществиться. Меньше чем через полчаса кафе откроют к завтраку. Вот только как с деньгами… Роз задумчиво остановила взгляд на мыльнице. Она подумала: «В конце концов, мы ведь вроде бы женаты… так или иначе; а он мне ничего не подарил, кроме этой пластинки, не пожалеет же он для меня… полкроны…» Встав с постели, она прислушалась, затем, тихо ступая, подошла к умывальнику. Но, держа пальцы на крышке мыльницы, она помедлила — кто-то шел по коридору: пожалуй, не Джуди и не Дэллоу, может, это человек, которого звали Билли. Когда шаги затихли, она подняла крышку и, развернув бумажки, достала полкроны. Ей и раньше случалось таскать печенье, но деньги она никогда не воровала. Она ожидала, что почувствует стыд, но стыда не было, только странный прилив гордости. Такое чувство испытывает новенькая, когда ей удается сразу самой разгадать таинственную игру с паролями в которую играют школьники на спортивной площадке.
Во внешнем мире было воскресенье — она совсем забыла об этом и вспомнила, только услышав звон церковных колоколов, разносившийся над Брайтоном. Утреннее солнце вернуло ей чувство свободы, чувство освобождения от безмолвных молитв у алтаря, от страшных клятв, которые даешь в исповедальне. Теперь она навсегда связана с иным миром. Монета в полкроны была как бы медалью за заслуги… Люди возвращались с ранней мессы, начинавшейся в половине восьмого, другие шли на позднюю, к половине девятого; она, словно шпион, следила за тем, как они идут в темной одежде. Она не завидовала им и не презирала их — у них был свой путь к спасению, у нее же был Пинки и вечные муки.
В кафе Сноу только что подняли шторы. Знакомая ей официантка по имени Мейси накрывала несколько столиков — единственная девушка, которая ей нравилась, новенькая, как и она сама, и, пожалуй, немного постарше. Роз наблюдала за ней с тротуара… Вот появилась Дорис, старшая официантка, со своей обычной усмешкой; она совсем ничего не делала, только провела тряпкой там, где Мейси уже прибрала. Роз плотно зажала в руке полкроны; ну что ж, теперь ей нужно войти, сесть, сказать Дорис, чтобы та подала ей чашку кофе и булочку, дать ей на чай пару медяков. Она всех их может облагодетельствовать. Она теперь замужем. Уже женщина. Она счастливая. Что-то они подумают, когда увидят, как она входит через парадную дверь?
Но она не решилась войти. В том-то и беда. А вдруг Дорис начнет причитать? Как ей тогда вести себя, как похвастать своей свободой? Сквозь окно витрины она встретилась взглядом с Мейси, та застыла, уставившись на нее, с тряпкой в руках, худенькая, юная, как будто ее собственное отражение в зеркале. А она стояла там, где когда-то стоял Пинки, на улице, и глядела в зал. Вот это священники и называют единой плотью. И так же; как она сама несколько дней назад, Мейси подала ей знак — скосила глаза и незаметно кивнула головой в сторону боковой двери. Она, конечно, могла бы войти и в парадную дверь, но подчинилась призыву Мейси. Как будто делала привычное дело.
Дверь отворилась. Мейси была уже тут.
— Роз? Что с тобой стряслось?
Ей следовало бы рассказать о каких-нибудь неприятностях и было не по себе, оттого что ее переполняло только счастье.
— Мне просто захотелось повидать тебя, — объяснила она; — я вышла замуж.
— Замуж?
— Вроде того.
— Ох, Роз, ну и как это все?
— Очень мило.
— И у тебя есть своя квартира?
— Да.
— А что же ты целый день делаешь?
— Ровно ничего. Просто валяюсь.
Юное личико, глядевшее на нее, сморщилось от горестной зависти.
— Господи, Роз, вот повезло-то тебе! И где это ты его подцепила?
— Здесь.
Пальцы, еще более костлявые, чем ее собственные, схватили ее за руку.
— Ох, Рози, а нет ли у него приятеля?
— Он не водится с приятелями, — пренебрежительно ответила Роз.
— Мейси! — позвал из кафе пронзительный голос. — Мейси!
Слезы показались у нее на глазах, у Мейси, а не у Дорис. Роз совсем не хотела обидеть подружку. В порыве жалости она проговорила:
— Не так уж это чудесно, Мейси! — Она попыталась разрушить нарисованную ею картину собственного счастья. — Иногда он плохо со мной обращается. Ох, прямо тебе скажу, — убеждала она, — не всегда это так уж сладко.
Но если не всегда сладко, размышляла она, выйдя опять на набережную, если не всегда сладко, тогда что же? Она машинально возвращалась в пансион Билли, так и не позавтракав, и все продолжала думать: а что же я сделала, чтобы заслужить такое счастье? Согрешила — вот где была разгадка, получила свой кусок пирога в этом мире, а не загробном; но ее это не пугало. Проклятье легло печатью на них обоих, подобно тому, как его голос отпечатался на эбонитовой пластинке.
За несколько домов от пансиона Билли, из лавочки, где продавали воскресные газеты, ее окликнул Дэллоу:
— Эй, малышка. — Она остановилась. — К тебе там пришли.
— Кто?
— Твоя мамаша.
В ней всколыхнулось чувство благодарности, смешанное с жалостью, — ее мать никогда не была так счастлива.
— Дайте мне «Всемирные новости», — попросила она. — Мама любит полистать какую-нибудь воскресную газету. — В комнате за лавкой кто-то заводил патефон. Она спросила у хозяина: — Можно мне как-нибудь прийти сюда послушать пластинку, которую мне подарили?
— Конечно, можно, — уверил ее Дэллоу.
Роз пересекла улицу и позвонила в дверь пансиона Билли. Открыла Джуди, она все еще была в халате, но уже затянулась в корсет.
— К тебе пришли, — сказала она.
— Знаю.
Роз взбежала по лестнице. Впереди было самое большое торжество, о каком только можно мечтать, — впервые приветствовать свою мать в собственном доме, предложить ей сесть на свой собственный стул, обменяться с ней взглядом людей, прошедших через одно и то же. Роз чувствовала теперь, она сама знает о мужчинах не меньше, чем мать, — в этом и состояла награда за то, что ей пришлось вытерпеть в постели. Она радостно распахнула дверь комнаты и увидела эту женщину.
— Что вам тут… — начала было она и добавила: — А мне сказали, тут моя мама.
— Нужно же мне было что-нибудь им сказать, — мягко объяснила женщина. И тут же продолжала, как будто была у себя дома: — Войди, дорогая, и закрой за собой дверь.
— Я позову Пинки.
— Я не прочь перекинуться парой слов с твоим Пинки.
Ее нельзя было обойти, она стояла, как преграждающая проход стена, покрытая непристойными надписями, которые начертала мелом вражеская рука. Тут Роз пришло на ум, что это из-за нее Пинки иногда вдруг становится грубым, из-за нее ногти его вдруг впиваются ей в руку. Она вызывающе сказала:
— Не видать вам Пинки. Я никому не позволю беспокоить Пинки.
— Скоро у него не будет недостатка в беспокойстве.
— Кто вы такая? — умоляюще спросила Роз. — Что вы вмешиваетесь в наши дела? Ведь вы не из полиции?
— Я такая же, как все остальные. Хочу справедливости, — добродушно объяснила женщина, как будто спрашивала в лавке фунт чаю. Ее широкое, цветущее, чувственное лицо расплылось в улыбке. Она добавила: — Я хочу, чтобы ты-то не пострадала.
— Не нуждаюсь я ни в чьей защите, — возразила Роз.
— Ты должна вернуться домой.
Роз сжала кулаки, защищая медную кровать и кувшин с мутной водой.
— Мой дом тут.
— Нечего тебе злиться, милочка, — продолжала женщина. — Я не собираюсь больше выходить из себя. Тут не твоя вина. Ты не знаешь, как обстоят дела. Бедная малютка, мне тебя просто жаль.
Она шагнула по линолеуму, как будто собиралась заключить Роз в объятия.
Роз попятилась к кровати.
— Не подходите ко мне!
— Ладно, не волнуйся, милочка, это тебе не поможет. Понимаешь… Я ведь упорная.
— Не знаю, к чему вы клоните. Почему вы не можете говорить открыто?
— Есть дела, о которых лучше говорить… намеками.
— Отойдите от меня. Или я закричу.
Женщина остановилась.
— Давай рассуждать здраво, дорогая. Я здесь только для твоей же пользы. Тебя нужно спасти. Подумай… — Одно мгновение она: казалось, не могла подобрать нужных слов, а затем тихо добавила: — Твоя жизнь в опасности.
— Ну и убирайтесь, если только в этом все дело…
— Только в этом все дело! — Женщина была поражена. — Только в этом! — Она решительно захохотала. — С ума можно сойти! Разве этого мало? Я ведь не шучу. Если до тебя не доходит, то поразмысли получше. Он-то ни перед чем не остановится.
— Ну и что? — спросила Роз так же сдержанно.
Женщина тихо прошептала, стоя на расстоянии нескольких шагов:
— Он — убийца.
— Вы думаете, я этого не знаю? — спросила Роз.
— Господи, спаси, — пробормотала женщина, — ты что, хочешь сказать…
— Вы не можете сообщить мне ничего нового.
— Ты просто рехнулась, дурочка, — знала обо всем и вышла за него замуж. Правильно я сделаю, если перестану с тобой возиться.
— Жалеть не буду, — ответила Роз.
Женщина еще раз напряженно улыбнулась, как будто положила на гроб венок.
— Ты меня не выведешь из себя, дорогая. Ох, если я только отступлюсь от тебя, я ведь по ночам глаз не сомкну. Неправильно это будет. Послушай-ка, может, ты не знаешь, что они сделали. Я-то теперь все выяснила. Они затащили Фреда в туннель под набережной, в одну из тех лавчонок, и начали душить — задушили бы его насмерть, в конце концов, но у него сердце не выдержало. — Голосом, дрожащим от ужаса, она добавила: — Они душили мертвеца… — Вдруг она резко сказала: — Да ты не слушаешь меня.
— Я все это знаю, — солгала Роз.
Она напряженно соображала… припоминала предостережение Пинки: «Не впутывайся…» В голове заметались смутные и беспорядочные мысли: «Он сделал для меня все что мог, я должна помочь ему сейчас». Роз пристально посмотрела на женщину — никогда не сможет она забыть это круглое, добродушное, стареющее лицо; вот сейчас оно похоже на лицо юродивого, выглядывающего из развалин разрушенного дома.
И она сказала:
— Ну что ж, если вы уверены, что все именно так и было, чего же вы не идете в полицию?
— Вот теперь ты рассуждаешь здраво, — ответила женщина. — Я только хочу все выяснить. Вот как обстоит дело, милочка. Есть один человек, я ему денег дала, и он рассказал мне кое-что. А кое-что я выяснила сама. Но этот человек… он не будет давать показания. На это есть причины. А показаний нужно очень много — раз доктора установили естественную смерть. Вот если бы ты…
— Почему вы не бросите все это? — спросила Роз. — Ведь со всем этим покончено. Почему вы не оставляете нас в покое?
— Это было бы неправильно. А кроме того… он ведь опасен. Вспомни, что произошло здесь на днях. Меня-то ты не убедишь, что это несчастный случай.
— А вам, наверное, и в голову не пришло, — настаивала Роз, — почему он это сделал? Человека не убивают без причины.
— Ну а почему он это сделал?
— Не знаю.
— А ты бы у него спросила.
— Не к чему мне знать об этом.
— Ты думаешь, он тебя любит, — продолжала женщина. — Ничего подобного.
— Но он женился на мне.
— А зачем? Потому что нельзя заставить жену давать показания против мужа. Ведь ты такой же свидетель как и тот человек… Милочка моя, — попыталась она снова перебраться через пропасть между ними, — я ведь только хочу спасти тебя. Тебя-то он убьет, не задумываясь, стоит только ему заподозрить, что ты для него опасна.
Прислонившись спиной к кровати, Роз следила, как женщина приближается. Она позволила ей положить себе на плечи большие прохладные руки — такие руки могли бы хорошо месить сдобное тесто.
— Люди меняются, — сказала она.
— Ох, нет, не меняются. Погляди-ка на меня. Я никогда не меняюсь. Это — как палочка леденца. Откуси от нее, сколько хочешь, и все-таки прочтешь: «Брайтон». Такова уж человеческая натура.
Она печально вздохнула прямо в лицо Роз — от нее пахло вином и чем-то сладким.
— Исповедь… раскаяние, — прошептала Роз.
— Это все религия, — возразила женщина. — Поверь мне, мы имеем дело со здешним миром.
— Она потрепала Роз по плечу, дыхание с шумом вырвалось у нее из горла:
— Давай, собирай вещи, и пойдем отсюда вместе со мной. Я о тебе позабочусь. Тебе нечего будет бояться.
— Пинки…
— Я позабочусь и о Пинки.
— Я сделаю все… все, что вы хотите… — сказала Роз.
— Вот теперь ты дело говоришь, милочка.
— Если вы оставите нас в покое.
Женщина отпрянула. Вместо неестественной улыбки, напоминающей похоронный венок, на лице ее неожиданно и неуместно мелькнула ярость.
— Упрямица; — сказала она. — Была бы я твоей матерью… хорошую взбучку…
Запавшие глаза на худощавом решительном личике с упрямым ртом вернули ей яростный взгляд — в воздухе запахло всеми войнами, потрясавшими мир; корабли готовились к бою, бомбардировщики поднялись в воздух. Лицо девушки было, как военная карта, отмеченная флажками.
— Вот еще что, — сказала женщина, — тебя тоже могут засадить в тюрьму. Потому что тебе все известно. Ты сама мне сказала. Сообщница — вот кто ты такая. Это уж точно.
— Разве вы не понимаете, — удивленно сказала Роз, — ведь если заберут Пинки, все будет мне безразлично!
— Боже мой, — воскликнула женщина, — я же только из-за тебя и пришла сюда. Сначала я и смотреть-то на тебя не хотела, а теперь я просто не могу позволить, чтобы пострадал безвинный. — Эта фраза выскочила у нее с треском, как билет из автомата. — Ты что, и пальцем не пошевелишь, так и будешь ждать, пока он тебя убьет?
— Он не сделает мне никакого вреда.
— Ты молода. Ты не знаешь жизни, как я.
— Есть вещи, в которых и вы ничего не смыслите.
В то время как женщина продолжала рассуждать. Роз мрачно раздумывала, стоя у кровати, о Боге, рыдавшем в саду и страдавшем на кресте, о Молли Картью, горевшей в вечном огне.
— Зато я знаю то, в чем ты ничего не смыслишь. Я знаю разницу между Добром и Злом. Этому тебя в школе не учили.
Роз не нашлась что ответить. Женщина была права. Оба эти слова ничего для нее не значили. Их вкус был уничтожен солидной пищей: добродетелью и грехом. Женщина не могла сообщить ей об этих словах ничего нового — она знала по собственному опыту с математической точностью, что Пинки — это грех, а в таком случае, какое же имеет значение, прав он или не прав?
— Ты просто спятила, — повторила женщина. — Наверно, ты и пальцем не пошевелишь, когда он будет убивать тебя.
Роз медленно вернулась к действительности… «Ни одна душа не любит так, как эта».
— Может, и не пошевельну, — упрямо сказала она. — Не знаю. А может…
— Не будь я добрым человеком, я перестала бы с тобой возиться. Но во мне есть чувство ответственности… — Она помедлила в дверях, улыбнувшись уже совсем угрожающе. — Можешь предостеречь своего молодого муженька, — сказала она, — я напала на его след. У меня есть планы. Она вышла и закрыла за собой дверь, потом рывком распахнула ее для последней атаки.
— Будь осторожнее, милочка, — сказала она, — вряд ли ты захочешь иметь ребенка от убийцы… — Тут она безжалостно усмехнулась, стоя на другом конце убогой комнаты. — Ты бы принимала меры.
Принимала меры… Роз стояла у постели, прижав руку к животу, как будто могла нащупать… Это еще не приходило ей в голову; мысль о том, что может произойти, наполнила ее торжеством. Ребенок… а у этого ребенка тоже будет ребенок… Это похоже на армию сторонников, вооружившихся в защиту Пинки. Если Пинки и она будут прокляты, придется проклясть и детей. Она уж проследит за этим. Нет конца тому, что они совершили прошлой ночью в постели, — это был шаг в вечность.
2
Малыш отступил в глубь лавочки, где торговали газетами, — он увидел, как из дома вышла Айда Арнольд. Она казалась слегка возбужденной; немного надменно проплывая по улице, она вдруг остановилась и подала какому-то мальчугану пенни. Тот был так поражен, что даже выронил монету, внимательно следя за тем, как твердо уходит женщина, уверенная в своей правоте.
Вдруг Малыш хрипло и негромко засмеялся. «Она пьяная», — пришло ему в голову.
— Еле-еле отделались, — заметил Дэллоу.
— От кого?
— Да от твоей тещи.
— Она… А ты-то откуда знаешь?
— Она спрашивала Роз.
Малыш положил на прилавок «Всемирные новости»; в глаза бросился заголовок «Нападение на школьницу в лесу около Эппинга». Он перешел улицу к пансиону Билли, лихорадочно обдумывая, что делать, и поднялся вверх по лестнице. На полпути он остановился — та женщина уронила, оторвавшуюся от букетика, искусственную фиалку, он подобрал ее со ступеньки, от нее пахло духами «Калифорнийский мак». Затем он вошел в комнату, сжав цветок в кулаке. Роз бросилась к нему навстречу, но он уклонился от ее губ.
— Я слышал, что тебя навестила твоя мамаша, — сказал он, стараясь изобразить на лице что-то похожее на грубоватую и дружескую шутливость и в то же время с болезненным нетерпением ожидая ответа.
— Ну да, — нерешительно сказала Роз, — заходила.
— И никакой хандры сегодня?
— Нет.
Он с бешенством сжал в кулаке фиалку.
— Ну и как, она считает, тебе подходит быть замужем?
— О да, думаю, что так… Она особенно-то не распространялась.
Малыш подошел к кровати и скинул на нее пальто. Потом спросил:
— Я слышал, ты тоже уходила из дома?
— Мне захотелось пойти повидаться с подругами.
— С какими это подругами?
— Ну… у Сноу.
— Это их ты зовешь подругами? — спросил он с презрением. — Ну и как, видела?
— Не всех, только одну Мейси. Да и то лишь на минутку.
— И потом вернулась как раз вовремя, чтобы захватить свою мамашу? Хочешь знать, что я задумал?
Она тупо уставилась на него — его поведение пугало ее.
— Если хочешь, скажи.
— Что значит — если я хочу? Уж не такая ты бессловесная. — Проволочный стебелек цветка впивался ему в ладонь. Он добавил: — Мне нужно поговорить с Дэллоу. Подожди тут. — И оставил ее одну.
Малыш через улицу крикнул Дэллоу и, когда тот подошел, спросил:
— Где Джуди?
— Наверху.
— А Билли работает?
— Да.
— Тогда спустись в кухню.
Он стал первым спускаться по лестнице; в полумраке подвала нога его раздавила кусок угля. Он присел на край кухонного стола и предложил:
— Выпей что-нибудь.
— Слишком рано, — отказался Дэллоу.
— Послушай, — начал Малыш. Лицо его мучительно сморщилось, как будто он хотел выдавить из себя какое-то страшное признание. — Я тебе доверяю, — продолжал он.
— Ладно, — ответил Дэллоу. — Что с тобой творится?
— Дела не веселят, — сказал Малыш. — Люди начинают о многом догадываться. Боже мой, — продолжал он, — я убил Спайсера и женился на девчонке. Неужели придется снова пойти на убийство?
— Кьюбит был здесь вчера вечером?
— Приходил, а я его выставил. Он попрошайничал… Ему нужна была пятерка.
— И ты дал?
— Ясное дело, нет. Ты что же думаешь, я позволю себя шантажировать такому типу, как он?
— Надо было дать ему что-нибудь.
— Не он меня беспокоит.
— Напрасно, надо было…
— Ну-ка помолчи! — вдруг пронзительно закричал на него Малыш и ткнул большим пальцем в потолок. — Это она меня беспокоит. — Затем разжал кулак и пробормотал: — Черт побери, я уронил цветок.
— Цветок?
— Можешь ты помолчать? — тихо, но со скрытым бешенством сказал Малыш. — Никакая это была не мамаша.
— А кто же?
— Шлюха, которая все вынюхивает… та самая, что была с Фредом в такси в тот день… — Он на минуту сжал руками голову жестом, полным горя или отчаяния, но он не испытывал ни того, ни другого. — У меня башка трещит, а мне нужно все обдумать. Роз сказала, что приходила ее мамаша. Зачем ей было врать?
— Ведь ты не думаешь, что она проболталась? — спросил Дэллоу.
— Мне это нужно выяснить, — ответил Малыш.
— По-моему, ей вполне можно доверять, — сказал Дэллоу.
— Настолько я никому не доверяю. Даже тебе, Дэллоу.
— Но если она проболталась, то почему именно этой… почему не полиции?
— А почему вообще никто не заявляет в полицию? — Малыш тревожным взглядом уставился на холодную печку. Неизвестность угнетала его. — Не знаю, чего они задумали. — Намерения других людей вызывали в нем беспокойство. Раньше у него никогда не появлялось желания в них разобраться. — Я бы порезал всю эту проклятую компанию, — сказал он со страстью.
— В конце концов, девчонке мало что известно. Она только знает, что карточку оставил не Фред. Если хочешь знать мое мнение, так она просто глуповатая. Втрескалась в тебя, я бы сказал, но глуповатая.
— Сам ты глуповатый, Дэллоу. Ей многое известно. Она знает, что это я убил Фреда.
— Ты уверен в этом?
— Сама мне сказала.
— А замуж за тебя все-таки вышла? — удивился Дэллоу. — Будь я проклят, если понимаю, чего они все хотят.
— Если мы срочно чего-нибудь не предпримем, пожалуй, скоро весь Брайтон будет знать, что мы убили Фреда. Вся Англия. Весь этот проклятый мир.
— Ну а что мы можем сделать?
Малыш подошел к окну подвала, под ногой у него захрустел уголь; крошечный асфальтовый дворик со старой помойкой, которую неделями не чистили, железная решетка, запах гнили.
— Нельзя нам сейчас останавливаться, — сказал он. — Придется продолжать. — Над их головами проходили люди, но видно их было только снизу, до пояса. Чей-то поношенный башмак шаркнул по тротуару, задевая асфальт носком; вдруг показалось бородатое лицо нагнувшегося человека, который высматривал окурок. — Ей нетрудно будет заткнуть рот. Заткнули ведь мы рот Фреду и Спайсеру, а она-то еще совсем ребенок.
— Не сходи с ума, — остановил его Дэллоу. — Нельзя же продолжать до бесконечности.
— Может; и придется. Выхода нет. Может, так всегда — начнешь, а остановиться уже нельзя.
— Тут это будет неправильно, спорю на пять фунтов, что она честная, — возразил Дэллоу. — Послушай, ты ведь сам мне сказал… она в тебя втрескалась.
— А зачем тогда она соврала, что это ее мамаша?
Малыш внимательно оглядел проходившую мимо женщину, судя по бедрам, молодую, — выше ничего нельзя было рассмотреть. Его передернуло от отвращения; он ведь поддался и даже гордился этим — тем самым, чем Спайсер и Сильвия забавлялись в «ланчии». Ох, наверное, так и следует, разок попробуй каждого напитка и остановись на этом, если можешь, или сделай вид, что остановился и больше не пробуешь.
— Я и сам вижу, да это каждому ясно, — повторил Дэллоу, — она и впрямь в тебя втрескалась.
Втрескалась… Высокие каблуки протопали мимо, голые ноги скрылись из вида.
— Если она втрескалась, — возразил он, — тогда ведь еще проще: она сделает все, что я скажу.
Вдоль улицы несся клочок газеты — ветер был с моря.
— Я против того, чтобы еще кого-то убивать, Пинки, — сказал Дэллоу.
Малыш повернулся спиной к окошку, рот его скривился в жалкое подобие улыбки. Он спросил:
— Ну, а допустим, она сама покончит с собой?
Безумная гордость затрепетала у него в груди, он почувствовал подъем, как будто радость жизни вернулась в смущенную душу — в пустое обиталище вселились семь дьяволов, более страшных, чем тот, что прежде…
— Ради бога, Пинки. Ты вбил себе все это в голову, — сказал Дэллоу.
— Скоро увидим, — ответил Малыш.
Он стал подниматься по лестнице из подвала, оглядывая ступеньки в поисках надушенного матерчатого цветочка на проволоке. Но его нигде не было видно.
— Пинки! — позвал сверху из-за новых перил голос Роз, она с беспокойством ждала его на площадке. — Пинки, мне нужно сказать тебе, — начала она, — я не хотела расстраивать тебя… но должен же быть на свете хоть один человек, кому мне не нужно врать… Это не мама приходила, Пинки.
Он медленно подошел к ней, внимательно, испытующе оглядел ее.
— Кто же это был?
— Та женщина. Та, что всегда приходила к Сноу и все выспрашивала.
— Что ей нужно?
— Она хотела, чтобы я ушла отсюда.
— Почему?
— Она все знает, Пинки.
— А зачем ты сказала, что это мама?
— Я же объяснила: не хотела тебя расстраивать.
Малыш стоял рядом с ней, впиваясь в нее взглядом; она подняла на него встревоженно-правдивые глаза, и он понял, что верит ей, как никому другому; его неукротимая гордыня смирилась, он испытывал странное чувство успокоения, как будто ему не нужно было ничего замышлять… хотя бы некоторое время.
— Но потом я подумала, — робко продолжала Роз, — может, тебя нужно предостеречь.
— Правильно, — сказал он и положил ей руку на плечо, неловко пытаясь обнять ее.
— Она что-то говорила насчет какого-то человека, которому дала деньги. И сказала, что догадывается о тебе.
— Мне на это наплевать, — ответил он, погладив ее спину. Вдруг, взглянув через ее плечо, он замер. На пороге комнаты лежал цветок. Он обронил его, когда закрывал дверь, а потом… Он тут же начал соображать… Она последовала за мной, конечно, увидела цветок и поняла, что я знаю. Вот почему она призналась. Все то время, что он был с Дэллоу внизу, она размышляла, как бы загладить свой промах. Чистая совесть… слова эти заставили его рассмеяться. Чистая совесть шлюхи, вроде той, что кроется в груди, которую выставляет Сильвия, — выхоленной для специального пользования. Он опять рассмеялся; ужас этого мира, как нарыв, сдавил ему горло.
— Что такое, Пинки?
— Вот тот цветок.
— Какой цветок?
— Который уронила та женщина.
— Какой?… Где?…
«А может, она его и не видела… Может, она все-таки говорила правду?… Кто знает? Кто может знать? — подумал он. — И какое это, в конце концов, имеет значение», — заключил он с каким-то печальным волнением. Дурак он был; когда думал, что если она не лжет, тогда другое дело; он не может позволить себе рисковать. Если она искренна и любит его, то все будет гораздо проще, и только. Он повторял про себя: «Я не беспокоюсь. Мне нечего беспокоиться. Я знаю, что делать. Даже если ей известно все, я знаю, как поступить». Он пристально посмотрел на нее, затем обнял, сжал рукой ее грудь.
— Совсем не будет больно.
— Что не будет больно, Пинки?
— Да вот то, что я придумал… — Но тут же уклонился от объяснения своего мрачного плана. — Ты ведь не захочешь расстаться со мной?
— Никогда, — ответила Роз.
— Вот это я и имел в виду, — сказал он. — Ты ведь написала мне это. Поверь, я все устрою, если дела будут совсем плохи… устрою так, что ни тебе, ни мне не будет больно. Можешь мне поверить; — продолжал он торопливо и непринужденно, а она смотрела на него таким взглядом, как будто была напугана и одурачена, обещав слишком много и слишком поспешно. — Я знаю, — продолжал он, — ты тоже хочешь… чтобы мы никогда не расставались. То, что ты написала.
— Но ведь это смертный… — прошептала она с ужасом.
— Ну, подумаешь, еще один, — прервал он. — Какая разница? Дважды ведь не обрекают на вечные муки. А мы все равно уже прокляты — так выходит по-ихнему. Ну и потом, это на самый крайний случай… если она докопается и до Спайсера.
— До Спайсера, — простонала Роз, — ты что, хочешь сказать, что ты и Спайсера тоже?
— Я только хочу сказать, — опять прервал он ее, — если она докопается, что я был здесь… в доме… Но нам нечего волноваться, пока она не докопалась.
— Но Спайсер?… — спросила Роз.
— Я был тут, когда это случилось, — объяснил он, — вот и все. Я даже не видел, как он свалился, но мой адвокат…
— Он тоже был здесь? — спросила Роз.
— Ну да.
— Теперь вспомнила, — успокоилась она, — конечно, я читала в газете. Ведь никто же и подумать не посмеет, что он покрывает какое-нибудь преступление. Адвокат.
— Старик-то Друитт, — поддержал ее Малыш, — ну конечно. — В мрачную игру опять некстати ворвался смешок. — Да он же честная душа… — Малыш снова сжал ей грудь и добавил, ловко успокаивая ее: — Все это пустяки, нет причин волноваться, пока она не докопается. Но, понимаешь, даже и тогда есть еще такой выход. А может, она никогда и не докопается. Если нет, тогда… — Его пальцы гладили ее со смутным желанием. — Мы так и будем жить, правда? — Он попытался скрыть свое ужасное намерение за нежностью. — Будем жить так, как начали.
3
Но именно «честная душа» тревожила его больше всех. Если Кьюбит подал этой женщине мысль, что со смертью Спайсера что-то неладно, к кому же она еще пойдет, как не к Друитту? Она понимает, что Дэллоу ей не припугнуть, а вот законник, да еще такой опытный, как Друитт, всегда сам побаивается закона. Друитт напоминал человека, который держит в доме ручного львенка: он никогда не может быть уверен, что львенок, выученный стольким штукам, умеющий есть из его рук, в один прекрасный день внезапно не превратится в хищника и не бросится на него, он может, например, порезать щеку во время бритья, и лев почует запах крови.
Сразу после полудня Малышу стало невтерпеж, и он отправился к Друитту. Уходя, он приказал Дэллоу не спускать с девушки глаз на случай, если… Сильнее прежнего он чувствовал, что его затягивает дальше и глубже, чем он хотел. Он ощутил странное и жестокое удовлетворение. Ему было действительно почти безразлично… Все решалось за него, а от него требовалось только, не сопротивляясь, плыть по течению. Он знал, каков мог быть конец, но это не пугало его — даже такой конец был легче жизни.
Дом Друитта находился за вокзалом, на улице, параллельной железной дороге, и весь дрожал от маневрирующих паровозов; на окнах и на медной дощечке постоянно оседала сажа. Из окна подвала на Малыша подозрительно посмотрела женщина с растрепанными волосами — ее злобное и раздраженное лицо всегда следило оттуда за посетителями; ни один человек никогда не интересовался тем, кто она такая. Малыш был уверен, что это кухарка, но теперь оказалось, что это и есть «супруга», уже двадцать пять лет участвовавшая в игре. Дверь отворила незнакомая девушка с тусклой болезненной кожей.
— А где Тилли? — спросил Малыш.
— Больше здесь не служит.
— Скажи Друитту, что пришел Пинки.
— Он никого не принимает, — возразила девушка, — ведь сегодня воскресенье.
— Меня-то он примет. — Малыш прошел через переднюю, открыл дверь и уселся в комнате, где вдоль стен стояли стеллажи с делами; он знал, куда идти. — Ну ступай. Скажи ему. Он, конечно, спит, так разбуди его.
— Вы здесь как будто дома, — заметила девушка.
— Так оно и есть.
Он знал, что содержится в этих папках с надписями «Король против Иннса», «Король против Т.Коллинза», — все это была лишь видимость. Мимо прогромыхал поезд, и на полках задрожали пустые папки; окно было только чуть-чуть приоткрыто, но из соседней квартиры доносились звуки радио — шла передача из Люксембурга.
— Закрой окно, — приказал он.
Она покорно выполнила приказание. Но это ничего не изменило, стены были такие тонкие, что можно было слышать, как за полками, точно крыса, возится сосед.
— Эта музыка всегда так играет? — спросил он.
— Или музыка, или разговоры, — ответила она.
— Чего ты дожидаешься? Пойди и разбуди его.
— Он не велел. У него плохо с желудком.
Комната опять задрожала, а музыка продолжала завывать сквозь стенку.
— Это у него всегда бывает после обеда. Пойди и разбуди его.
— Но ведь сегодня воскресенье.
— Давай поторапливайся, — сказал он мрачно и угрожающе.
Она хлопнула дверью так, что отлетел кусочек штукатурки.
В подвале, как раз под его ногами, кто-то двигал мебель. «Супруга», — подумал он. Загудел паровоз, и густое облако дыма расстелилось по улице. Над его головой послышался голос Друитта — звук в этом доме распространялся повсюду. Затем раздались шаги над потолком и по лестнице.
Когда дверь отворилась, на лице Друитта уже была улыбка.
— Что привело сюда нашего юного кавалера?
— Просто хотел повидать вас, — ответил Малыш, — узнать, как вы поживаете. — Приступ боли согнал улыбку с лица Друитта. — Вам надо быть осторожнее с едой, — посоветовал Малыш.
— Ничего не помогает, — пожаловался Друитт.
— Слишком много пьете.
— Ешь, пей, ибо завтра… — Друитт схватился за живот рукой.
— У вас что, язва? — спросил Малыш.
— Нет, нет, ничего похожего.
— Вам нужно сделать рентгеновский снимок.
— Не верю я в нож, — быстро и с раздражением возразил Друитт, как будто ему постоянно предлагали это, и он всегда должен был держать ответ наготове.
— Эта музыка никогда не прекращается?
— Когда она мне надоедает, — пояснил Друитт, — я стучу в стенку.
Он взял со стола пресс-папье и дважды стукнул по стене; музыка перешла в вибрирующий вой и смолкла.
Они услышали, как за полками заметался сосед.
— Кто там? Крысы?[31] — процитировал Друитт. Дом затрясся — мимо тащился тяжелый поезд. — Полоний; — объяснил Друитт.
— Полония? Какая еще Полония?
— Нет, нет, — ответил Друитт, — я имел в виду этого мерзкого назойливого дурака. В «Гамлете».
— Послушайте, — нетерпеливо спросил Малыш, — не вертелась ли тут одна женщина, не выпытывала ли чего?
— Что выпытывала?
— О Спайсере.
— А люди уже выпытывают? — спросил Друитт; он совсем ослаб от отчаяния. Он быстро сел и скорчился от боли. — Этого я и боялся.
— Ни к чему трусить, — возразил Малыш. — Никто ничего не может доказать. Придерживайтесь того, что говорили. — Он сел напротив Друитта и стал смотреть на него с угрюмым презрением. — Вы ведь не хотите погубить себя? — добавил он.
Друитт быстро поднял глаза.
— Погубить? — спросил он. — Я уже погиб. — Он затрясся в своем кресле в такт проезжающему паровозу; внизу, в подвале, под его ногами кто-то хлопнул дверью. — Ага, старая кротиха, — проговорил Друитт. — Это супруга… Вы ведь никогда не встречали мою супругу?
— Видел я ее, — ответил Малыш.
— Двадцать пять лет. А теперь вот это. — Дым за окном опускался, как штора. — Вам не приходило в голову, — продолжал Друитт, — что вы счастливчик? Самое худшее, что вам грозит — это виселица. Я же буду медленно гнить.
— Что вас угнетает? — спросил Малыш.
Он растерялся — как будто получил отпор от более слабого противника. Он не привык слушать исповеди об исковерканной жизни других людей. Человек может признаваться или не признаваться во всем только самому себе.
— Когда я взялся за ваши дела, — продолжал Друитт, — я потерял единственную работу, которая у меня была. Трест Бейкли. А теперь я и вас потерял.
— Все, что у вас здесь есть, вы получили от нас.
— Ну, скоро все это пойдет прахом. Коллеони намерен выжить вас из этих мест, а у него есть свой адвокат. В Лондоне. Важная птица.
— Я еще не сдался. — Малыш понюхал воздух, отравленный газом, просачивающимся из счетчиков, и добавил: — Теперь понятно, откуда такое настроение. Вы просто пьяны.
— Выпил имперского бургундского, — пояснил Друитт. — Я хочу вам кое-что порассказать, Пинки. Хочется… — Избитая фраза бойко выскочила у него: — Хочется облегчить свою душу.
— Не желаю я этого слушать. Ваши горести меня не интересуют.
— Брак мой был неравным, — начал Друитт. — Он был трагической ошибкой. Я был молод. Любовная связь как результат необузданной страсти. Я был страстным мужчиной, — сказал он, корчась от боли в желудке. — Вы ведь видели ее сейчас, — продолжал он. — Боже мой! — Он наклонился вперед и произнес шепотом: — Я слежу за маленькими машинистками, когда они проходят мимо со своими чемоданчиками. Какие они аккуратненькие и нарядные!.. — Он вдруг замолчал; пальцы его задрожали на ручке кресла. — Слышите вы эту старую кротиху внизу? Она погубила меня. — Его потрепанное, морщинистое лицо вдруг переменилось — оно словно отдыхало от напускного добродушия, хитрости, профессиональной насмешливости. В воскресенье он становился самим собой. Друитт продолжал: — Вы знаете, что Мефистофель ответил Фаусту, когда тот спросил, где находится ад?[32] Он ответил: «Вот здесь и есть ад, мы его никогда не покидали». — Малыш слушал со страхом и жадным интересом. — Она наводит на кухне чистоту, — говорил Друитт, — но потом поднимется наверх; вам нужно повидать ее — получите истинное наслаждение. Старая карга. Вот была бы потеха, если бы рассказать ей… все. Что я замешан в убийстве, что люди уже докапываются. Как Самсон, обрушить на себя весь этот проклятый дом. — Он широко развел руками, но тут же сомкнул их от боли в желудке. — Вы правы, — сказал он, — у меня язва. Но я не хочу ложиться под нож. Лучше уж умру. Конечно, я пьян. Пил имперское бургундское… Видите вот ту фотографию, там, у двери? Группа школьников, школа Ланкастер.[33] Может быть, и не из самых знаменитых школ, но в справочнике частных школ она есть. Видите, это я сижу, скрестив ноги, в нижнем ряду. В соломенной шляпе. — Он тихо добавил: — Мы состязались с Харроу. У них была паршивая команда. Не было esprit de corps.[34]
Малыш даже не потрудился повернуть голову в сторону фотографии. Он никогда еще не видел Друитта таким — это было пугающее и увлекательное зрелище. Человек как бы оживал под его взором: видно было, как напряглись нервы в страдающей плоти, мозг стал точно прозрачным — в нем как бы расцветали все новые мысли.
— Подумать только, — продолжал Друитт, — воспитанник Ланкастерской школы женат на этом старом кроте из погреба, а его единственный клиент… — Рот его скривился в гримасу брезгливого отвращения. — Это вы. Что бы сказал на это старина Мандерс! Вот это голова!
Друитт разошелся не на шутку. Казалось, что этот человек решил показать себя перед смертью. Все оскорбления, которые ему приходилось проглатывать от понятых, все издевки чиновников в мэрии извергались из его больного желудка. Сейчас он мог высказать любому человеку все что угодно. Безмерное сознание собственной значительности вдруг выросло из всего этого унижения: жены, имперского бургундского, пустых папок для дел, грохота паровозов на линии. Все это подходящие декорации для его страшной житейской драмы.
— Очень уж много болтаете, — сказал Малыш.
— Болтаю? — удивился Друитт. — Я мог бы весь мир потрясти. Пусть привлекают меня к суду, если угодно. Я выскажу им всю правду. Я так глубоко погряз, что потяну за собой… тайны всей этой помойки… — У него был приступ беспредельной самодовольной болтливости, он дважды икнул.
— Если бы я знал, что вы пьете, — сказал Малыш, — я бы не стал с вами связываться.
— Я пью… по воскресеньям. Это же день отдыха. — Он вдруг яростно затопал ногой по полу и бешено завизжал: — Потише ты, там, внизу!
— Вам нужно отдохнуть, — сказал Малыш.
— Вот так сижу и сижу тут… Иногда кто-то звонит в дверь, но это всего лишь бакалейщик — приносит консервы из лососины; она просто без ума от консервированной лососины. Потом позвоню… приходит эта толстая дурища… я сижу и слежу за проходящими машинистками. Мне хочется обнять их крошечные портативные машинки.
— Все будет хорошо, — взволнованно сказал Малыш, он был потрясен этой возникшей перед ним картиной чужой жизни, — вам просто нужно отдохнуть.
— Иногда, — продолжал Друитт, — меня тянет раздеться донага… прямо на людях в каком-нибудь парке.
— Я дам вам денег.
— Никакие деньги не могут излечить больную душу. Это ад, и мы его никогда не покидаем… Сколько вы могли бы мне дать?
— Двадцать бумажек.
— Этого ненадолго хватит.
— Булонь… почему бы вам не проехаться через пролив? — сказал Малыш с ужасом и отвращением. — Поразвлечься. — Он разглядывал грязные обкусанные ногти, трясущиеся руки Друитта — руки сластолюбца.
— Вы сможете пожертвовать мне эту небольшую сумму, мой мальчик? Я не хочу вас грабить, хотя, конечно, я ведь «оказал стране некоторые услуги».
— Можете завтра получить эти деньги… но при одном условии. Уедете завтра же дневным пароходом… и пробудете там как можно дольше. Может, я вам и еще пришлю. — К нему как будто присосалась пиявка — он чувствовал слабость и омерзение. — Дайте мне знать, когда деньги кончатся, а там увидим.
— Я уеду, Пинки… когда скажете. А… вы не выдадите меня моей супруге?
— Я-то уж буду держать язык за зубами.
— Я, конечно, доверяю вам, Пинки, а вы можете доверять мне. Отдохну, восстановлю силы и вернусь…
— Отдыхайте подольше.
— Эти грубияны, полицейские сержанты, еще почувствуют на себе мои восстановленные силы. Защитник отверженного.
— Я сразу же пришлю вам деньги. До этого никого к себе не пускайте. Ложитесь опять в постель. У вас страшные боли. Если кто-нибудь придет, вас нет дома.
— Хорошо, Пинки, хорошо.
Это самое лучшее, что он мог сделать. Выбравшись из дома и посмотрев вниз, Малыш встретился взглядом со злыми, подозрительными глазами супруги Друитта, выглядывающей из окна подвала; в руках у нее была тряпка; женщина смотрела на него, словно из норы, прорытой под фундаментом, как на злейшего врага. Он перешел через улицу и еще раз взглянул на этот домик; там, наверху, у окна, полузакрытый шторами, стоял Друитт. Он не следил за Малышом, он просто без всякой надежды выглядывал на улицу — а вдруг кто-нибудь появится. Но было воскресенье, машинистки мимо не проходили.
4
— Тебе придется последить за его домом, — сказал Малыш Дэллоу. — Я ему ни на грош не доверяю. Видел я, как он выглядывает наружу, ждет чего-то, может, ее высматривает…
— Не такой уж он дурак.
— Он пьян. Говорит, что живет в аду.
Дэллоу захохотал.
— В аду? Вот это здорово!
— Дурак ты, Дэллоу.
— Никогда не верю тому, чего не вижу собственными глазами.
— Значит, немного ты видишь, — отрезал Малыш.
Он ушел от Дэллоу и поднялся наверх. Ну если и это ад, подумал он, то в нем не так уж плохо: старомодный телефон, узкая лестница, уютный и пыльный полумрак — совсем не похожий на дом Друитта, неудобный, трясущийся, с этой старой сукой в подвале. Он открыл дверь в свою комнату: а тут вот, подумал он, его собственный враг. Сердито и растерянно оглядел он свое изменившееся жилище — все вещи были слегка сдвинуты с мест, пол выметен, все вычищено и прибрано.
— Я же велел тебе ничего не трогать, — сказал он с осуждением.
— Я только немножко прибралась, Пинки.
Теперь это была ее комната, а не его: шкаф и умывальник передвинуты, кровать тоже — про кровать она, конечно, не забыла. Если это и был ад, то он принадлежал ей, а сам он лишился прав на него. Он чувствовал, что его вытесняют, но всякий протест мог привести к еще худшему. Он наблюдал за ней как за врагом, скрывая ненависть, стараясь отыскать на ее лице признаки будущей старости, представить себе, как она выглядывает из подвала. Он вернулся подавленный судьбой другого человека, но дома груз стал еще тяжелее.
— Тебе разве не нравится, Пинки?
Он не Друитт. У него решимости хватит. Он еще не сдался.
— Ах, тут… Очень мило. Просто я этого не ожидал, — ответил он.
Она не поняла причин его скованности.
— Плохие новости?
— Пока нет. Но, конечно, нам нужно быть ко всему готовыми. Я-то готов.
Он подошел к окну, сквозь лес антенн внимательно посмотрел на покрытое облаками мирное воскресное небо, затем снова оглядел изменившуюся комнату. Вот как она выглядела бы, если бы его не стало, и другие жильцы…
Он внимательно следил за нею, когда с ловкостью фокусника, притворившись, будто выполняет ее желание, сказал ей:
— Я подготовил машину. Мы можем поехать за город, там нас никто не услышит… — Но тут же заметил ее испуг, и, прежде чем она успела ему ответить, изменил тон: — Конечно, это только на худой конец… — Последние слова понравились ему, он повторил их снова; худой конец — это та толстая баба с пристальным, осуждающим взглядом; вот она переходит через застланную дымом улицу… Худой конец — это пьяный, погибший Друитт, высматривающий из-за портьеры хотя бы одну машинистку.
— До этого не дойдет, — подбодрил он ее.
— Нет, — горячо подхватила она. — Не дойдет, не может дойти.
Ее непоколебимая уверенность странно на него подействовала, как будто его планы тоже привели в порядок, передвинули, подменили, так что он уже не считал их своими. У него появилось желание доказывать, что это действительно может произойти; он чувствовал странное и тоскливое тяготение к самому страшному из всех человеческих проступков.
— Я ведь так счастлива. В конце концов, может, это не так уж и грешно? — сказала она.
— Как это так, не грешно? — спросил он. — Это смертный грех!
Он бросил взгляд, полный презрительного отвращения, на застланную постель, как будто представлял себе, как эти дела будут время от времени повторяться, — нужно же повторять пройденное.
— Я понимаю, — согласилась она, — понимаю, но все же…
— Хуже этого только одно, — продолжал он.
Она как будто ускользала от него, она уже превращала в семейную жизнь их мрачный союз.
— Я счастлива, — возражала она смущенно, — ты такой добрый.
— Это ничего не значит…
— Слушай, — прервала она его, — что это такое?
Через окно доносился жалобный плач.
— Ребятенок в соседнем доме.
— А почему его никто не успокоит?
— Воскресенье. Может, они ушли. — Затем добавил: — Что ты хочешь делать? Пойдем в кино?
Она не слушала его; жалобный, протяжный плач привлекал ее внимание, вид у нее был озабоченный, совсем как у взрослой.
— Надо посмотреть, что с ним такое, — сказала она.
— Может, есть хочет или еще там чего.
— А может, заболел. — Она прислушивалась с каким-то священным трепетом. — У малышей все случается внезапно… Никогда не знаешь, что это может быть.
— Это же не твой.
Она посмотрела на него задумчивым взглядом.
— Нет, — ответила она, — но я подумала… что он мог бы быть и моим… Я ни за что не оставила бы его одного на целый день, — добавила она с гневом.
— Они тоже не оставляют, — неуверенно возразил Малыш. — Вот он и угомонился. Что я тебе говорил?
Но слова ее засели у него в мозгу: «Он мог бы быть и моим». Это ему никогда не приходило в голову… Он смотрел на нее с ужасом и отвращением, как будто перед ним происходил отталкивающий процесс родов; зарождение новой жизни уже связывало его по рукам и ногам; а она стояла и прислушивалась — с облегчением, терпеливо, словно уже прожила годы таких тревог и познала, что облегчение никогда не бывает надолго, а тревоги всегда возвращаются.
5
Девять часов утра; он в бешенстве выскочил в коридор; внизу сквозь щель над дверью пробивалось утреннее солнце, бросая блики на телефон. Он позвал:
— Дэллоу! Дэллоу!
Дэллоу, без пиджака, не спеша поднялся наверх из подвала.
— Привет, Пинки. Вид у тебя, как будто ты и не спал, — сказал он.
— Ты что, прячешься от меня? — спросил Малыш.
— Вот уж нет, Пинки. Только… ты ведь женился… Я думал, тебе захочется побыть одному?
— Ты называешь это побыть одному? — возразил Малыш.
Он спустился по лестнице, держа в руке сиреневый надушенный конверт, который Джуди подсунула ему под дверь. Он еще не открывал его. Глаза у него покраснели. Видно было, что его лихорадит. Пульс бился неровно, голова горела, мозг не знал покоя.
— Джонни звонил мне рано утром, — сообщил Дэллоу. — Он следит со вчерашнего дня. К Друитту никто не приходил. Мы зря перетрусили.
Малыш не слушал его.
— Я хочу быть один, Дэллоу. По-настоящему один, — сказал он.
— Слишком уж ты много на себя берешь для своих лет, — заметил Дэллоу и расхохотался. — Две ночи…
— Надо убрать ее, прежде чем она… — продолжал Малыш. Он никому не мог бы объяснить, как велик его страх и в чем он заключается, словно его мучила какая-то позорная тайна.
— Ссориться с ней небезопасно, — поспешно вставил Дэллоу.
— Конечно. И никогда не будет безопасно, — согласился Малыш. Это я знаю. И никакого развода. Ничего, кроме смерти. Ничего другого. — Он приложил руку к прохладному эбониту телефона. — Я же говорил тебе… У меня есть план…
— Идиотский план. С чего это бедняжка захочет умереть?
— Она любит меня, — ответил он с горечью. — Говорит, что хочет всегда быть со мной. А если я не хочу больше жить…
— Дэлли, — раздался голос. — Дэлли!
Малыш с опаской оглянулся — он не слышал, как Джуди, затянутая в корсет, бесшумно поднялась наверх. Он ничего не замечал, силясь обдумать свой план, мысли его путались, голова горела; он понимал всю сложность того, что затеял, не уверенный, кому из них нужно умереть… ему, или ей, или обоим…
— Чего тебе, Джуди?
— Билли закончил твое пальто.
— Ну и ладно, — ответил Дэллоу, — сейчас я его заберу.
Она послала ему страстный воздушный поцелуй, потом побрела обратно в свою комнату.
— Связался с ней, — сказал Дэллоу, — другой раз думаю, не стоило бы. Не хочу я скандалить с беднягой Билли, а она такая неосторожная.
Малыш пытливо посмотрел на Дэллоу, как будто тот по долгому опыту знал, как нужно поступать.
— А что, если у тебя будет ребенок? — спросил он.
— Ну, это уж ее забота, — ответил Дэллоу, — сама себе могилу роет… Ты получил письмо от Коллеони? — добавил он.
— Но она что-нибудь делает?
— То же, что и все, наверное.
— А вдруг она ничего не делает, — настаивал Малыш, — и забеременеет?
— Есть какие-то там пилюли.
— Но ведь они не всегда помогают, — возразил Малыш.
Ему казалось, что он уже все постиг, но сейчас он снова осознал свою страшную неопытность.
— От них никогда никакого толку, если хочешь знать, — ответил Дэллоу. — Что Коллеони-то пишет?
— Если Друитт переметнулся, нам не вылезти, — сказал Малыш.
— Не переметнулся… Так или иначе, он уже сегодня к ночи будет в Булони.
— А если все-таки… Вроде бы мне показалось, что он уже переметнулся… Тогда мне только и остается, что самому себя прикончить… А она… она не захочет жить без меня… Что, если она подумает… А может, дело и не дойдет до этого… Как это называется… самоубийство по соглашению, что ли?
— Что это на тебя нашло, Пинки? Ты что, собираешься таким способом выйти из игры?
— Ну, я ведь могу и не умереть.
— Тогда это тоже убийство.
— За такое не вешают.
— Ты просто спятил, Пинки. Нет уж, я в таком деле не помощник. — Он дружески толкнул Малыша. — Ты, ясное дело, шутишь, Пинки. С бедняжкой все в порядке… Вот только она здорово в тебя втрескалась.
Малыш не ответил ни слова, казалось, он ворочает свои мысли, как тяжелые тюки, складывает их внутри штабелями и запирает на замок от всего мира.
— Тебе нужно полежать немножко и отдохнуть, — с тревогой сказал Дэллоу.
— Я хочу полежать один, — ответил Малыш.
Он медленно поднялся наверх; открывая дверь, он уже наперед знал, что увидит, и отвел глаза, как бы стремясь отогнать соблазн от своей целомудренной и отравленной души.
Он услышал, как она сказала:
— А я только что собиралась ненадолго выйти, Пинки. Могу я тебе чем-нибудь помочь?
Чем-нибудь… Он был потрясен беспредельностью своих желаний.
— Ничем, — тихо ответил он. И заставил свой голос зазвучать мягко: — Возвращайся поскорее. Нам нужно о многом потолковать.
— Ты чем-то встревожен?
— Ничем я не встревожен. Теперь в этой коробке все прояснилось. — Он с мрачным юмором постучал себя по лбу.
Малыш чувствовал, что она испугалась и вся напряглась: у нее перехватило дыхание, она умолкла, затем голосом, звенящим от отчаяния, спросила:
— А дурных вестей нет, Пинки?
— Ради бога, иди! — обрушился он на нее.
Малыш слышал, как она шла по комнате, приближаясь к нему, но решил ни за что не поднимать глаз; это была его комната, его жизнь; он чувствовал, что если не будет сдаваться, то сможет вычеркнуть всякую память о ней… все будет совсем так же, как и прежде… до того, как он пришел в кафе Сноу, пошарил под скатертью, разыскивая карточку, которой там не было, и затеял весь этот обман и позор. Начало всего этого уже стерлось в памяти, он едва мог себе представить Хейла живым человеком, а его убийство не казалось уже преступлением — теперь все дело было в нем самом и в ней.
— Если что-нибудь произошло… можешь сказать мне… я не испугаюсь. Должен же быть выход, Пинки, чтобы не… Давай сначала все обсудим, — взмолилась она.
— Не поднимай шума из-за пустяков, — прервал он ее, — иди-ка ты лучше к… — свирепо начал он, но вовремя спохватился и выдавил из себя улыбку. — Иди-ка и проветрись немножко.
— Я уйду ненадолго, Пинки.
Малыш слышал, как затворилась дверь, но понял, что она замешкалась в коридоре. Ей теперь принадлежал весь дом. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда бумажку. «Мне все равно, что ты делаешь… Куда бы ты ни пошел, я тоже пойду за тобой». Это звучало как письмо, которое прочли на суде и напечатали в газетах. Он слышал ее шаги, когда она спускалась по лестнице.
В комнату заглянул Дэллоу.
— Друитт, наверное, сейчас отправляется в дорогу, — сказал он. — На душе полегчает, когда он уже будет на пароходе. Ты ведь не думаешь, что эта баба натравила на него полицию?
— У нее нет доказательств, — ответил Малыш, — можешь считать себя в безопасности, когда он скроется с глаз долой.
Он говорил равнодушно, как будто потерял всякий интерес к тому, уезжает Друитт или остается, точно это касалось других людей. Сам же он уже отошел от всего этого.
И ты тоже будешь в безопасности, — продолжал Дэллоу. Малыш не ответил. — Я велел Джонни проследить, благополучно ли он сядет на пароход, а потом позвонить нам. Жду его звонка с минуты на минуту. Надо бы нам собраться всей компанией и отпраздновать, Пинки. Господи Боже, а она-то как обалдеет, когда сунется туда, а он уехал! — Он подсел к окну. — Может, теперь мы хоть поживем спокойно. Еще дешево отделались. Как начнешь обо всем раздумывать! Тут и Хейл, и бедняга Спайсер, Где-то он теперь? — Он стал задумчиво смотреть сквозь антенны и прозрачный дым, идущий из трубы — А что, если ты да я, ну и девочка, конечно, переберемся куда-нибудь на новое место? Не так уж тут будет хорошо, раз Коллеони начал во все нос совать. — Он отошел от окна. — Это письмо… — И тут зазвонил телефон. — Должно быть, Джонни, — сказал он и поспешно вышел.
Малышу показалось, что он слышит не шаги на лестнице, а звуки, которые издают сами ступени; — а он мог отличить каждую из них даже под тяжестью незнакомца; третья и седьмая ступеньки снизу всегда скрипели… В этот дом он пришел тогда, когда Кайт подобрал его, — Кайт нашел его на Дворцовом молу; его душил кашель, было отчаянно холодно, он слушал, как за окном плачет скрипка. Кайт напоил его чашкой горячего кофе, а потом привел сюда, бог его знает почему, — может, потому, что вышел на прогулку в хорошем настроении, а может, оттого, что такие люди, как Кайт, немножко чувствительны, вроде проститутки, держащей при себе китайскую болонку. Кайт открыл дверь дома №63, и первое, что увидел Малыш, был Дэллоу, обнимающий Джуди на лестнице, и первый запах, который он ощутил, был запах утюгов Билли, доносившийся из подвала. Все было тогда тихо и мирно, да с тех пор ничего и не изменилось; Кайт умер, но он продолжал существование Кайта: не прикасался к вину, кусал ногти, как это делал Кайт; жизнь шла по-прежнему, пока не пришла она и не изменила все.
Слова Дэллоу поплыли вверх по лестнице.
— Да не знаю, право. Пришлите свиных сосисок. Или банку бобов.
Он вернулся в комнату.
— Это не Джонни, — объяснил он; — а из «Интернейшенел». Пора бы уж Джонни позвонить. — Он с озабоченным видом уселся на кровать и спросил: — А это письмо от Коллеони… что в нем такое?
Малыш перебросил ему письмо.
— Слушай, — удивился Дэллоу, — да ты его даже не распечатал! — Он углубился в чтение. — Ну вот, — проговорил он, — конечно, дело скверное. То, что я ожидал. А с другой стороны, не так уж и плохо. Не так уж, если все обмозговать. — Он украдкой взглянул поверх сиреневой почтовой бумаги на Малыша, сидевшего в раздумье около умывальника. — Мы выходим здесь из игры, вот как обстоит дело. Он переманил почти всех наших ребят, да и всех букмекеров тоже. Но он не хочет поднимать шум. Ведь это деловой человек, он считает, что такие стычки, какая была у тебя намедни с его ребятами, в один прекрасный день создадут ему дурную славу… Дурная слава, — задумчиво повторил Дэллоу.
— Он хочет, чтобы молокососы убрались с дороги, — сказал Малыш.
— Ну что же, это не так уж глупо. Он говорит, что отвалит тебе три сотни бумажек за добровольную передачу прав. Каких это прав?
— Ему нужно, чтобы мы не резали его прихвостней.
— Дельное предложение, — сказал Дэллоу. — Как раз то, о чем и я говорил, — мы сможем убраться из этого проклятого городишки, от этой бабы, которая до всего докапывается, снова начать хорошее дело… а может, и вовсе развяжемся со всем этим, купим какой-нибудь барик, ты да я, ну и, конечно, девочка… Когда же, черт, возьми, позвонит Джонни? Я уже нервничаю.
Малыш немного помолчал, разглядывая свои обкусанные ногти. Затем сказал:
— Конечно, ты знаешь жизнь, Дэллоу. Ты ведь много странствовал.
— Да уж, где я только не бывал, — согласился Дэллоу, — ездил до самого Лестера.
— А я тут родился, — сказал Малыш, — знаю Гудвуд и Херст-парк. Бывал в Ньюмаркете. Поселись я в другом месте, мне все будет чужое. — Он добавил с мрачной гордостью: — По-моему, я и есть настоящий Брайтон… — как будто только в его сердце запечатлелись все немудреные брайтонские развлечения: спальные вагоны, уик-энды с нелюбимым человеком, проведенные в безвкусных отелях, грусть после близости.
Зазвенел звонок.
— Слышишь? — вскричал Дэллоу. — Уж не Джонни ли это?
Но звонили в парадную дверь. Дэллоу взглянул на свои часы.
— Не могу представить, что с ним стряслось, — сказал он. — Друитт должен быть теперь уже на пароходе.
— Ну что ж, — хмуро проговорил Малыш, — мы все меняемся, правда? Выходит по-твоему. Каждому нужно свет посмотреть. В конце концов, я ведь начал пить? Могу начать и кое-что другое.
— И у тебя есть девочка, — заметил Дэллоу с подчеркнутым добродушием. — Взрослеешь, Пинки… становишься совсем как твой отец.
Как отец… Малыша опять охватила дрожь отвращения перед субботними ночами. Но теперь он не мог обвинять отца. Сам докатился до этого… самого в это втянули… а потом, подумал он, привычка станет все крепче… будешь заниматься этим каждую неделю. Тут даже девушку нельзя обвинять. Это жизнь накладывает на тебя свою лапу… Ведь бывают даже минуты ослепления, когда это доставляет удовольствие.
— Без нее нам будет безопаснее, — проговорил он, нащупывая любовную записку в кармане брюк.
— Сейчас она и так безопасна. Совсем обалдела от любви.
— Беда твоя в том, что ты не думаешь о будущем, — возразил Малыш. — Впереди ведь годы… И в любой момент она может заглядеться на новую физиономию, или разозлиться, или еще что-нибудь… Если я ее не утихомирю, мы не будем в безопасности.
Дверь отворилась; вот она и пришла обратно. Малыш умолк на полуслове и криво улыбнулся в знак приветствия. Ее не трудно было ввести в заблуждение — она встретила обман с такой беспомощной покорностью, что в нем всколыхнулось что-то похожее на жалость к ее глупости, он чувствовал, что ее доброта передается и ему — каждый из них был по-своему обречен. У него опять появилось такое ощущение, будто она дополняет его.
— У меня нет ключа, — начала она, — пришлось позвонить. Мне стало страшно, когда я вышла на улицу, как будто случилось что-то дурное. Лучше уж мне оставаться здесь, Пинки.
— Ничего не случилось, — ответил Малыш, Зазвонил телефон. — Видишь, вот и Джонни, — весело обратился он к Дэллоу, — твое желание исполнилось.
Они услышали, как Дэллоу кричал в телефон голосом, звенящим от возбуждения.
— Это ты, Джонни? Что это было? Неужели?… Ну да, мы же с тобой встретимся попозже. Конечно, ты получишь свои деньги.
Он стал подниматься наверх, на обычном месте ступеньки заскрипели… По его круглому, невыразительному, добродушному лицу сразу было видно, что новость хорошая, — оно напоминало рыло борова, наевшегося до отвала.
— Ну чудно, — сообщил он, — чудно. Могу теперь признаться, я начал было тревожиться. Но он уже на пароходе, а пароход отчалил от пристани десять минут назад. Надо это отпраздновать. Клянусь богом, ты голова, Пинки. Все обмозговал.
6
Айда Арнольд выпила уже больше двух бутылок пива. Сидя над своим стаканом, она тихо напевала: «Той ночью в аллее лорд Ротшильд мне сказал…» Рев волн, бурлящих под молом, напоминал звук льющейся в ванной воды; от этого ее мутило. Она сидела, как одинокая скала… Никому в мире не приносит она вреда… кроме одного человека. Мир — неплохое местечко, если ни в чем не уступать. Она была, как триумфальная колесница, за которой следовали несметные войска; правое дело есть правое дело; око за око, зуб за зуб; хочешь чего-нибудь добиться — действуй сам… К ней приближался Фил Коркери, за его спиной сквозь большие стеклянные витрины кафе виднелись огни Хоува; зеленоватые медные купола «Метрополя» словно плавали в волнах угасающего света, а сверху на них уже наступали тяжелые ночные облака. Водяные брызги, как мелкий дождь, рассыпались по стеклам окон. Айда Арнольд перестала напевать и спросила:
— Видишь, за кем я наблюдаю?
Фил Коркери уселся за столик; на этом молу в застекленном павильоне ничто не напоминало о лете: он, казалось, озяб в своих серых летних брюках и блайзере с каким-то выцветшим гербом на кармане; вид у него был слегка подавленный, как будто он растратил всю свою страсть.
— Это они, — сказал он усталым голосом. — Как это тебе удалось узнать, что они придут сюда?
— Я ничего не знала, — ответила она, — это просто судьба.
— Мне уже тошно смотреть на них.
— Подумай-ка о том, как тошно им, — сказала дна с добродушным злорадством.
Они смотрели поверх пустых незанятых столиков в сторону Франции, в сторону Малыша и Роз… и незнакомых им мужчины и женщины. Если эта компания пришла сюда отпраздновать какое-нибудь событие, то Айда испортила им веселье. Теплая волна пива подступила ей к горлу, ее охватило чувство беспредельного довольства; икнув, она сказала: «Простите», — и подняла руку в черной перчатке.
— Наверно, он тоже сбежал, — сказала Айда.
— Сбежал.
— Не везет нам с нашими свидетелями, — пожаловалась она, — сначала Спайсер, потом девочка, потом Друитт, а теперь Кьюбит.
— Он удрал на первом утреннем поезде… с твоими деньгами.
— Ну и пусть, — сказала она. — Они все живые люди. Еще возвратятся. А я могу и подождать — благодаря Черному Мальчику.
Фил Коркери искоса взглянул на нее: просто удивительно, как у него хватило мужества посылать ей — этому воплощению могучей силы и целеустремленности — почтовые открытки с морских курортов: из Гастингса — краба, у которого из живота развертывалась полоска с видами, из Истборна — ребенка, сидящего на скале: поднимешь скалу, увидишь Хай-стрит, библиотеку Бутса и папоротники; из Борнмута (кажется, оттуда?) — открытку с бутылкой, а в ней фотография главной набережной, сада на скалах, нового плавательного бассейна… Все это ей — как слону дробина. Его приводила в трепет устрашающая сила этой женщины… Если она хотела повеселиться, ничто не могло ее остановить, а если она хотела справедливости…
— Не кажется ли тебе, Айда, что мы и так уже достаточно сделали? — нервно сказал он.
— Я еще не довела дело до конца, — возразила она, пристально глядя на маленькую группу обреченных. — Никогда не знаешь, что кого ждет впереди. Они считают себя в безопасности и сотворят какую-нибудь глупость.
Малыш молча сидел рядом с Роз, в руках у него был стакан с каким-то напитком, но он даже не притронулся к нему; только мужчина и женщина оживленно болтали.
— Мы сделали все что могли. Теперь это дело только полиции, — ответил Фил.
— Ты же слышал, что нам сказали в первый раз.
Она снова начала напевать: «Той ночью в аллее…»
— Теперь это уж не наша забота.
«…лорд Ротшильд мне сказал…» — Она остановилась, чтобы мягко направить его на путь истинный. Нельзя допускать, чтобы твой друг заблуждался.
— Это дело каждого, кто знает разницу между добром и злом.
— Ты так страшно во всем уверена, Айда. Идешь напролом… Намерения-то у тебя самые лучшие, но откуда мы знаем, что его толкнуло на все это?… И кроме того, — упрекнул он ее, — ты занимаешься этим просто ради развлечения. Дело тут не во Фреде. Кто он тебе?
Она сверкнула на него большими загоревшимися глазами.
— Ну конечно, — созналась она, — я и не отрицаю, это… увлекательно. — Ей действительно было жаль, что все уже подходит к концу. — А что тут дурного? Просто мне нравится делать добро, вот и все.
В нем возникло неясное чувство протеста.
— Ну и согрешить ты тоже не прочь.
Она улыбнулась ему с огромной нежностью, но мысли ее были где-то очень далеко.
— Ну и что же. Это ведь не грех. И никому не приносит вреда. Это ведь не убийство.
— Священники утверждают, что это грех.
— Священники! — презрительно воскликнула она. — Но даже католики в это не верят! Иначе эта девочка ни за что не жила бы с ним теперь… Можешь мне поверить, я всего повидала на белом свете. И людей я знаю.
Пристальный взгляд Айды снова устремился на Роз.
— Ты же не хочешь, чтобы я отдала ему на расправу эту девчурку? Конечно, она злит меня, дурочка этакая, но такого она не заслуживает.
— Откуда ты знаешь, что она не хочет, чтобы ее отдали в его власть?
— Не будешь же ты мне доказывать, что ей хочется умереть? Никому не хочется. Нет, нет… Я не отступлюсь, пока она не будет в безопасности… Закажи-ка мне еще пива.
Далеко за Западным молом видны были огни Уординга — признак плохой погоды; постепенно нарастал прилив, гигантский белый вал набегал в темноте на молы все ближе к берегу. Слышно было, как он бьет о сваи, словно кулак боксера по тренировочному мячу, готовясь нанести удар по человеческой челюсти. Слегка подвыпившая Айда Арнольд начала вспоминать всех тех людей, которым она когда-то помогла: вытащила из моря мужчину, когда была еще совсем молоденькая, дала денег слепому нищему, вовремя сказала доброе слово отчаявшейся школьнице на Стрэнде.
7
— У бедняги Спайсера тоже было такое желание, — сказал Дэллоу, — он мечтал купить где-нибудь небольшой бар. — Он хлопнул Джуди по ляжке и добавил: — Как насчет того, чтобы и мы с тобой осели где-нибудь вместе с этими ребятишками? — И продолжал: — Могу себе это представить. В какой-нибудь деревушке. На шоссе, где проезжают туристические автобусы: «Великий Северный путь». Остановитесь у нас… Думаю, со временем денег будет не меньше… — Он прервал свои разглагольствования и обратился к Малышу: — Чего это ты? Выпей! Теперь уж не о чем тревожиться.
Малыш бросил взгляд поверх пустых столиков на другой конец кафе, туда, где сидела эта женщина… Какая она упорная. Вот так же он видел однажды, как среди нор, вырытых в меловом холме, хорек вцепился в горло зайцу. Правда, тот заяц все равно спасся. Да и у него теперь нет причин ее бояться.
— Деревня… Не много я знаю о деревне, — сказал он равнодушно.
— Полезно для здоровья, — ответил Дэллоу, — доживешь со своей хозяюшкой до восьмидесяти.
— Осталось больше шестидесяти лет, — сказал Малыш. — Долгий срок.
За головой этой женщины брайтонские фонари, словно бусы, тянулись к Уордингу. Последние лучи заката все ниже скользили по небу, тяжелые синие тучи нависали над «Гранд-Отелем», «Метрополем», «Космополитеном», над башенками и куполами. Шестьдесят лет! Это звучало как пророчество — беспросветное будущее, бесконечный кошмар.
— Вы, парочка, — воскликнул Дэллоу, — что это на вас обоих нашло?
Это было то самое кафе, где все они собрались после смерти Фреда — Спайсер, Дэллоу и Кьюбит. Конечно, Дэллоу прав — они в безопасности: Спайсер мертв, Друитта убрали с дороги, а Кьюбит бог знает где (его-то никогда не заманить в суд свидетелем, слишком хорошо он знает, что его повесят, очень уж большую роль играл он во всем этом, да и в 1923 году его уже сажали в тюрьму). А Роз — его жена. Полная безопасность, насколько это вообще мыслимо с женщинами… Они благополучно выскочили из этой игры… все-таки выскочили. У него еще… Дэллоу и в этом прав… впереди шестьдесят лет. Мысли его опять растеклись в разные стороны: субботние ночи, затем роды, ребенок, привычка и ненависть. Он взглянул поверх столиков — смех той женщины был словно крушение всяких надежд.
— Как здесь душно, — сказал Малыш, — хорошо бы подышать воздухом. — Он медленно повернулся к Роз. — Пойдем, пройдемся, — предложил он.
На пути от столика к двери он нашел нужную мысль среди вороха остальных и, когда они вышли на подветренную сторону мола, прокричал ей:
— Мне лучше убраться отсюда.
Он положил ей руку на плечо и с предательской нежностью повел ее под застекленный навес. Со стороны Франции набегали волны, с глухим шумом разбиваясь у их ног. Малышом вдруг овладела отчаянная решимость, как в тот момент, когда он увидел Спайсера, склонившегося над своим чемоданом, или когда Кьюбит выпрашивал у него в коридоре деньги. Отделенные от них стеклянной витриной, Дэллоу и Джуди сидели над своими стаканами; вот к чему сводится первая неделя шестидесяти лет — общение, чувственный трепет, тяжелый сон, пробуждение рядом с кем-то. Среди безлюдной, наполненной шумами темноты в уме Малыша пронеслось все его будущее. Это было похоже на автомат: опустишь пенни — и зажигается свет, открывается дверка, начинают двигаться фигурки.
С притворной теплотой он сказал:
— Вот здесь мы встретились в тот вечер, помнишь?
— Да, — ответила она, со страхом глядя на него.
— Слушай, зачем они-то нам нужны? — сказал он. — Давай сядем в машину и поедем… — Он внимательно посмотрел на нее. — За город.
— Холодно.
— В машине не будет холодно. — Он опустил ее руку и добавил: — Ну конечно… если ты не хочешь ехать… я и один поеду.
— А куда?
— Я же сказал тебе. За город, — ответил он с нарочитой небрежностью.
Малыш вынул из кармана пенни и сунул его в ближайший автомат. Затем, не глядя, выбрал ручку и дернул за нее; и тут же с шумом начали вылетать пакетики с фруктовой жевательной резинкой: лимонная, грейпфрутовая, ликерная — это был выигрыш.
— У меня легкая рука, — усмехнулся он.
— Что-нибудь случилось? — спросила Роз.
— Ты ведь видела ее? — ответил он. — Поверь мне, она и не думает отстать от нас. Однажды за городом у дороги я видел хорька… — Малыш обернулся, свет одного из фонарей мола упал на его лицо — в глазах был блеск, оживление. Он продолжал: — Я собираюсь проехаться, а ты оставайся, если хочешь.
— Я тоже поеду, — возразила она.
— Можешь не ехать.
— Нет, поеду.
У тира Малыш остановился. На него нашло озорное настроение.
— Который час? — спросил он у хозяина тира.
— Ты сам прекрасно знаешь, сколько сейчас времени. Я тебе и раньше говорил, что не стану впутываться…
— Ладно, не лезь в бутылку, — оборвал его Малыш. — Дай мне ружье.
Он поднял ружье, уверенно прицелился в «яблочко», затем умышленно сдвинул дуло и выстрелил. «Он был чем-то взволнован», — так скажет на следствии свидетель, промелькнуло у него в голове.
— Что это с тобой сегодня творится? — воскликнул хозяин тира. — Ты едва попал в мишень.
Малыш положил ружье.
— Нам нужно подышать свежим воздухом. Хотим прокатиться за город. Спокойной ночи. — Он педантично сообщал все эти сведения, делая это так же тщательно, как заставлял раскладывать карточки убитого Фреда по всему маршруту, — для дальнейшего. Повернувшись спиной, он даже добавил: — Поедем по дороге на Гастингс.
— Не желаю я знать, куда вы поедете, — проворчал хозяин тира.
Старый «моррис» стоял невдалеке от мола. Стартер упорно не действовал, пришлось крутить ручку. Малыш минуту помедлил, с отвращением глядя на старую машину, как будто в ней воплощалось все, что может дать рэкет. Затем сказал:
— Прокатимся туда, куда ездили в тот день. Помнишь? Автобусом. — Он снова произнес это так, чтобы услышал хозяин тира. — До Писхейвена. А там выпьем.
Они объехали вокруг «Аквариума» и на второй скорости со скрежетом взобрались на холм. Одна рука Малыша была в кармане, он нащупывал клочок бумаги, на котором она написала свое послание. Брезент хлопал от ветра, а потрескавшееся грязное ветровое стекло мешало ему видеть дорогу.
— Скоро дождь польет как из ведра, — заметил он.
— А мы не промокнем под этим брезентом?
— Для нас это не имеет значения, — ответил он, глядя вперед, — нас дождь уже не замочит.
Роз не посмела спросить, что он хочет этим сказать, — в ней не было уверенности, что она все понимает, а раз так, можно было еще верить в то, что они счастливы; просто они влюблены друг в друга и поехали прокатиться под покровом темноты, и нет у них больше никаких печалей. Она положила руку ему на плечо, но тут же почувствовала, как он инстинктивно отстранился, на миг ее поразило страшное сомнение — может, это кошмарный сон, может, он ее вовсе не любит, как сказала та женщина… Влажный ветер, проникая сквозь прореху в брезенте, хлестал ее по лицу. Все равно. Она его любит, у нее есть свои обязанности. Мимо них проносились автобусы, спускающиеся с холма по направлению к городу, они были похожи на ярко освещенные клетки для домашней птицы, где сидели люди с корзинками и книжками в руках; какая-то девчушка прижалась лицом к стеклу, на миг ее освещенное дорожным фонарем личико так приблизилось, что, казалось, можно было прижать его к груди.
— О чем ты думаешь? — неожиданно спросил Малыш. — Жизнь не так уж плоха, вот о чем. Не верь этому, — продолжал он. — Я скажу тебе, что такое жизнь. Это тюрьма, безденежье. Глисты, слепота, рак. Слышишь крики из верхних окон того дома — это рождаются дети. А жизнь — это медленная смерть.
Вот оно, надвигается — она это знала; лампочка на щитке освещала худые напряженные пальцы, лицо оставалось в тени, но Роз догадывалась, что в глазах его возбуждение, горечь, отчаяние.
Мимо них бесшумно промчалась машина какого-то богача, «даймлер» или «бентли», она не разбиралась в марках.
— К чему так нестись? — заметил он, затем вынул из кармана руку и разгладил на колене бумажку, которую она сразу узнала. — Ты правда так думаешь? — спросил он. И вынужден был повторить: — Правда?
Ей казалось, что она одним росчерком уничтожила не только собственную жизнь, но и рай, что бы ни значило это слово, и ребенка в автобусе, и малыша, плакавшего в соседнем доме.
— Да, — ответила она.
— Поедем и выпьем сначала, — предложил он, — а потом… Вот увидишь. Я все подготовил. — С ужасающей легкостью он добавил: — На это и минуты не потребуется. Он обнял ее за талию и приблизил свое лицо к ее лицу; она чувствовала, как напряженно работает его мысль; от его кожи пахло бензином — все пропахло бензином в этом протекающем, старомодном, ветхом автомобиле.
— Ты уверен… нельзя ли нам отложить… хоть на один день? — спросила она.
— Какой смысл? Ты же видела ее там сегодня вечером? Она преследует нас. В один прекрасный день она добудет свои доказательства. Зачем откладывать?
— Почему же не тогда?
— Тогда может быть уже слишком поздно, — произнес он раздельно, чтобы хлопающий брезент не заглушал его слов. — Тебя ударят, а потом наденут… Знаешь что?… Наручники… Вот и будет слишком поздно… Да мы тогда и вместе не будем, — лицемерно закончил он.
Малыш нажал ногой на педаль, стрелка, дрожа, дошла до тридцати пяти — из старой машины нельзя было выжать больше сорока, но создавалось впечатление, что скорость неимоверная; ветер бился в стекло и врывался сквозь прореху в брезенте.
Он произнес тихо, нараспев: «Dona nobis pacem!»
— Все равно не дарует.
— Что ты хочешь сказать?
— Не дарует нам покоя.
А Малыш думал: впереди еще будет много времени… долгие годы… шестьдесят лет… успею раскаяться в этом. Пойду к священнику. Скажу: «Отец мой, я дважды совершил убийство. И была еще девушка, она сама себя убила». Даже если смерть настигнет тебя вдруг, например, если на обратном пути врежешься в фонарный столб… все-таки еще будет время, «между стременем и землей».
С одной стороны дороги дома кончились, море опять приблизилось, волны доходили до шоссе, проложенного под самой скалой, было темно, лишь слышался глухой шум. Он не старался обмануть себя, с прошлого раза твердо усвоив: когда времени остается мало, тут уже не до раскаяния. Впрочем, какое это имеет значение… Он не создан для покоя, не может в него поверить. Рай — это пустой звук. Ад… его еще можно себе представить. Ум способен поверить только в то, что он может постичь, а он не мог постичь того, чего никогда не испытывал; цементная спортивная площадка в школе, потухший очаг дома, умирающий человек в зале ожидания на вокзале Сент-Пэнкрас, кровать у Билли и кровать родителей — вот как формировалось его сознание. В нем вдруг вспыхнуло дикое негодование — почему он лишен того, что есть у других? Отчего ему не дано увидеть кусочек небесного рая, даже если это всего только просвет в расщелине брайтонских стен?… Когда они подъезжали к Роттингдину, он повернулся и так внимательно посмотрел на нее, как будто она и была этим небесным раем… но ум его не мог постичь этого… Он увидел рот, жаждущий чувственной близости, округлые груди, требующие ребенка. «Конечно, она добродетельна, — думал он, — но все-таки недостаточно добродетельна, вот я и увлек ее в преисподнюю».
Над Роттингдином виднелись новенькие виллы, выстроенные в футуристическом стиле. Странные очертания частной лечебницы на меловых холмах напоминали самолет, распростерший крылья.
— За городом нас никто не услышит, — сказал он.
По дороге в Писхейвен огни фар стали меркнуть, освещенный ими свежесрезанный меловой откос, казалось колыхался, как свисающая простыня; сверху, ослепляя их, неслись машины.
— Аккумулятор не заряжается, — объяснил Малыш.
У Роз было такое чувство, что он отдалился от нее на тысячу миль… его мысли опережали события, бог весть как далеко они зашли. Он ведь умный, думала она, заранее предусмотрел все, чего она не может постичь: вечные муки, адский огонь… Ее охватил ужас, мысль о боли приводила ее в трепет; то, что они задумали, надвигалось вместе со шквальным дождем, бившим по старому, потрескавшемуся ветровому стеклу. Эта дорога больше никуда не вела. Говорят, что самый страшный грех — отчаяние, такому греху нет прощения. Вдыхая запах бензина, она пыталась внушить себе, что ее охватило отчаяние, тоже смертный грех, но так и не смогла — она не чувствовала отчаяния. Он готов навлечь на себя проклятье, а она готова доказать всем им, что они не могут проклясть его, не прокляв и ее тоже; что сделает он, то сделает и она; она чувствовала, что способна стать соучастницей любого убийства. Какой-то фонарь на мгновение осветил его лицо — хмурое, задумчивое, но совсем еще ребяческое; в душе у нее зашевелилось чувство ответственности за него — нет, она не отпустит его одного в этот мрак.
Начались улицы Писхейвена, они тянулись по направлению к скалам и меловым холмам; кусты боярышника росли вокруг досок с надписью «Сдается внаем»; улицы упирались во мрак, в лужу воды или в морскую траву. Все напоминало последнюю попытку отчаявшихся путешественников покорить новую местность. Но эта местность покорила их самих.
— Мы поедем в отель, выпьем, а потом… — сказал он. — Я знаю подходящее место.
Начал накрапывать дождь, он зашуршал по выцветшим красным дверям зала аттракционов, по афише, сообщающей об игре в вист в карточном клубе на будущей неделе и о танцевальном вечере на прошлой. Под дождем они добежали до дверей отеля; в баре не было ни души… только белые мраморные статуэтки, а на зеленом фризе над обшитыми панелями стенами — позолоченные тюдоровские розы и лилии. На столиках с голубым верхом стояли сифоны, а на окнах с витражами средневековые корабли неслись по холодным бурным волнам. Кто-то отбил руки у одной из статуэток… а может быть, она так и была сделана — что-то классическое, задрапированное в белое, символ победы или поражения. Малыш позвонил в звонок, и из общего бара вышел мальчик его возраста, чтобы принять заказ; они были странно похожи, но с каким-то неуловимым отличием — узкие плечи, худые лица; оба ощетинились, как псы, при виде друг друга.
— Пайкер, — сказал Малыш.
— Ну и что с того?
— Обслужи-ка нас, — приказал Малыш. Он сделал шаг вперед, двойник отступил, а Пинки усмехнулся. — Принеси нам по двойной порции бренди, — сказал он, — да побыстрее… Кто бы мог подумать, что я встречу тут Пайкера? — тихо добавил он.
Роз смотрела на него, удивляясь, что он в состоянии замечать что-то, не имеющее отношения к цели их приезда; она слышала, как ветер стучит в окна верхнего этажа, там, где лестница делала поворот, еще одна надгробная статуя поднимала вверх свои разбитые руки.
— Мы вместе учились в школе, — объяснил он. — Я частенько давал ему жару на переменах.
Двойник принес бренди, он глядел исподлобья, испуганный, настороженный; вместе с ним к Малышу вернулось все его мрачное детство. Роз почувствовала острую ревность к двойнику — сегодня все, что связано с Пинки, должно принадлежать только ей.
— Ты здесь слуга, что ли? — спросил Малыш.
— Не слуга, а официант.
— Хочешь, я дам тебе на чай?
— Не нуждаюсь я в твоих чаевых.
Малыш взял рюмку с бренди и выпил до дна; он закашлялся, когда жидкость схватила его за горло, как будто отрава всего мира попала ему в желудок.
— За храбрость, — произнес он. И спросил Пайкера: — Который час?
— Можешь посмотреть на часы, — огрызнулся Пайкер, — ты ведь грамотный.
— У вас тут что, нет музыки? — спросил Малыш. — Черт возьми, мы хотим повеселиться.
— Вот пианино. И приемник.
— Включи его.
Приемник был спрятан за растением в горшке; заныла скрипка, помехи искажали мелодию.
— Он ненавидит меня, — объяснил Малыш. — До смерти ненавидит. — И повернулся, чтобы поиздеваться над Пайкером, но тот уже ушел. — Выпей бренди, — посоветовал он Роз.
— Ни к чему мне это, — возразила она.
— Ну, как знаешь.
Он стоял около приемника, а она возле незатопленного камина — между ними были три столика, три сифона и мавританская, тюдоровская или бог ее знает какая лампа. Обоим было страшно не по себе, нужно было начать разговор, сказать что-то вроде «какой вечер» или «как холодно для этого времени года».
— Так он учился в вашей школе? — спросила она.
— Ну да.
Оба взглянули на часы: было почти девять; звуки скрипки мешались со звуками дождя, барабанившего в окна, обращенные к морю.
— Ну что ж, скоро пора трогаться, — с трудом выговорил он.
Она начала было молиться про себя: «Святая Мария, матерь божия…», но вдруг остановилась — она ведь совершила смертный грех; ей нельзя молиться. Молитвы ее оставались здесь, внизу, среди сифонов и статуэток, у них тоже не было крыльев. Испуганная, терпеливая, она ждала, стоя у камина.
— Нам нужно написать… что-нибудь, чтобы люди узнали, — нерешительно добавил он.
— Но ведь это же не имеет значения, — возразила она.
— Ну нет, — быстро ответил он, — имеет. Мы должны все сделать по правилам. Это договор. О таких вещах пишут в газетах.
— И много людей… делают это?
— Это постоянно случается, — ответил он.
На минуту им овладела отчаянная и безрассудная уверенность. Звуки скрипки замолкли, сквозь стук дождя прогудел сигнал проверки времени. Голос за растением начал передавать сообщение о погоде: с континента надвигается шторм, в Атлантическом океане упало давление, прогноз на завтра… Она начала было слушать, но потом вспомнила, что завтрашняя погода не имеет никакого значения.
— Хочешь еще выпить… или другого чего-нибудь? — спросил он. И оглянулся, отыскивая дощечку «Для джентльменов». — Мне нужно пойти… помыться.
Она заметила, что в кармане у него лежит что-то тяжелое… Так вот как это будет.
— Напиши еще что-нибудь, пока я хожу, — сказал он. — Вот тебе карандаш. Скажи, что ты не можешь жить без меня, ну что-нибудь в этом роде. Нам нужно сделать все по правилам, как это всегда делается.
Малыш вышел в коридор и позвал Пайкера, тот указал ему, куда идти, и он стал подниматься по лестнице. У статуэтки он обернулся и посмотрел на обшитые панелями стены бара. Такие минуты обычно запечатлеваются в памяти — ветер на конце мола, кафе Шерри и певец, свет фонаря, падающий на молодое бургундское, торжество обладания в тот момент, когда Кьюбит ломился в дверь. Малыш обнаружил, что вспоминает все это без отвращения; ему показалось даже, что где-то внутри у него, словно нищенка у безлюдного дома, шевельнулась нежность, но привычка ненавидеть сковывала его. Повернувшись спиной к бару, он стал подниматься по лестнице. Он говорил себе, что скоро опять будет свободен… Найдут записку… Он ведь не мог знать, что она так отчаялась из-за того, что он сообщил ей о необходимости расстаться; должно быть, она нашла пистолет в комнате Дэллоу и захватила его с собой. Конечно, проверят отпечатки пальцев, и тогда… Он посмотрел сквозь окно уборной: невидимые волны бились под утесом. Жизнь потечет дальше. Ни до кого ему больше не будет дела, переживания других людей перестанут, как волны, биться об его мозг, он снова станет свободен, ни о чем не нужно будет думать, только о себе. «Я сам». Среди фарфоровых раковин, кранов, пробок, бумажных отходов это слово прозвучало, точно название туалетной принадлежности. Он вынул из кармана револьвер и зарядил его — две пули. В зеркале над умывальником он увидел, как рука его движется вокруг этой металлической штуки, несущей смерть, ставит револьвер на предохранитель. Там, внизу, кончились последние известия, и снова заиграла музыка — вой поднимался наверх, словно пес выл над могилой, а к стеклам окон влажным ртом прижималась кромешная тьма. Он положил револьвер обратно в карман и вышел в коридор. Это был следующий ход. Еще одна статуэтка со скорбными, как у надгробного изваяния, руками и гирляндой мраморных цветов воплощала какую-то непостижимую мораль, и он снова почувствовал предательский прилив жалости.
8
— Они уже давненько ушли, — сказал Дэллоу, — что это они задумали?
— Кому какое дело? — возразила Джуди. — Им хочется… — она прижала свои пухлые цепкие губы к щеке Дэллоу, — побыть одним… — Ее рыжие волосы попали ему в рот, вкус у них был кисловатый. — Ты же знаешь, что такое любовь, — добавила она.
— Но он не знает. — Дэллоу было не по себе, вспомнились всякие разговоры. — Он ее до смерти ненавидит.
Дэллоу нехотя обнял Джуди — не стоило портить компанию; но ему все же хотелось знать, что у Пинки на уме. Он отхлебнул из стакана Джуди; где-то со стороны Уординга завыла сирена. Через стекло было видно, как на конце мола воркует парочка, как колдунья из стеклянного автомата выбросила какому-то старику карточку с предсказанием судьбы.
— Тогда почему же он от нее не избавится? — спросила Джуди.
Ее губы прильнули к его шее под подбородком, а затем потянулись к его губам… Вдруг она с негодованием выпрямилась и спросила:
— Что это за баба, вон там? Чего она все время на нас глазеет? Мы ведь в свободной стране!
Дэллоу обернулся и посмотрел в ту сторону. Мозг его работал очень медленно — сначала утверждение: «Я никогда ее не видел», а затем воспоминание:
— Ну как же, это та самая чертова шлюха, из-за которой Пинки так переполошился! — сказал он. Тяжело поднявшись на ноги и спотыкаясь, он сделал несколько шагов между столиками.
— Кто вы такая? — спросил он. — Кто вы такая?
— Айда Арнольд, — ответила она, — но можно и проще. Друзья называют меня просто Айда.
— Я же не друг вам.
— Лучше, если будете другом, — спокойно сказала она. — Выпейте с нами. Куда это ушел Пинки… и Роз? Надо бы вам привести их сюда. Это Фил. Представьте же нам вашу даму. — Голос ее ласково журчал. — Пора уж нам всем собраться вместе. Как вас зовут?
— Вы что, не знаете, как поступают с людьми, которые суют свой нос…
— Ох, знаю, — ответил она, — отлично знаю. Я была с Фредом в тот день, когда вы его прикончили.
— Что за ерунда, — сказал Дэллоу. — Кто, черт возьми, вы такая?
— Вам это должно быть известно. Вы ехали за нами до самой набережной на вашем старом «моррисе». — Она улыбнулась ему совсем приветливо. Лично он ее ничуть не интересовал. — Кажется, что с того дня прошла целая вечность, правда? — Так оно и было — целая вечность. — Выпейте, — снова предложила Айда, — пейте, пейте. А где же Пинки? Видно, ему не очень приятно было встретить меня сегодня. Что вы празднуете? Не то ли, что случилось с мистером Друиттом? Но вы, наверное, еще и не слышали об этом?
— А что такое? — спросил Дэллоу.
За стеклом шумел ветер, официантки зевали.
— Прочтете в утренних газетах. Не хочу портить ваш праздник. И уж конечно, вам все станет известно раньше, если он признается.
— Он уехал за границу.
— Он сейчас в полицейском участке, — доверительно сообщила Айда. — Его сразу же вернули, — продолжала она, тщательно выговаривая каждое слово. — Вам надо бы выбирать себе адвокатов получше, таких, которые могут позволить себе поехать отдохнуть. Его взяли за мошенничество. Арестовали на пристани.
Дэллоу с тревогой посмотрел на нее. Он ей не верил… а в то же время…
— Ужасно много вы знаете, — заметил он. — По ночам-то вы спите?
— А вы?
Его толстое лицо со сломанным носом стало каким-то простодушным.
— Кто? Я? — переспросил он. — А мне ничего не известно.
— Зря вы дали ему столько денег. Он все равно бы сбежал… а это только вызывает подозрения. Когда я познакомилась с Джонни на молу…
Он уставился на нее с беспомощным удивлением.
— Познакомились с Джонни? Как, черт возьми?…
— Я нравлюсь людям, — просто объяснила она. Затем отпила из своего стакана и продолжала: — Его мать ужасно к нему относилась, когда он был малышом.
— Чья мать?
— Джонни.
Обеспокоенный, смущенный, напуганный, Дэллоу нетерпеливо спросил:
— Что, черт побери, вам известно о матери Джонни?
— То, что он сам мне рассказал, — ответила Айда. Она сидела совершенно непринужденно, ее пышная грудь была готова вместить любую тайну. Сочувствие и понимание исходили от нее, как резкий запах дешевых духов. — Против вас я ничего не имею, — мягко добавила Айда, — мне нравится жить со всеми в дружбе. Пригласите же сюда вашу даму.
Он быстро взглянул через плечо, но тут же снова повернулся к Айде.
— Лучше не надо, — сказал он. И понизил голос. Он тоже невольно стал откровенным. — Дело в том, что эта баба очень уж ревнива.
— Да что вы? А ее старик?…
— Ну, с ее стариком все в порядке, — объяснил Дэллоу. — Билли не обращает внимания на то, чего не видит собственными глазами. — Он еще больше понизил голос. — А он мало что видит, он ведь слепой.
— Вот этого я не знала, — удивилась она.
— Вам бы ни за что не догадаться, — сказал он, — ни по его утюжке, ни по глаженью. Очень уж здорово умеет обращаться с утюгом… — Вдруг Дэллоу взорвался. — Почему, черт побери, вы говорите… что не знали только этого? А что вы знаете?
— Не так уж и много, — призналась она, — я ничего не выпытывала… а просто то тут услышишь, то там. Соседи ведь всегда болтают. — Она была вооружена житейской мудростью.
— Кто это болтает? — теперь в разговор вступила Джуди. Она тоже подошла к ним. — И о чем им болтать? Ну если бы я захотела потрепать языком о некоторых их делишках… Но мне это ни к чему, ни к чему, — повторила она. Затем с беспокойством огляделась вокруг. — Что такое стряслось с нашей парочкой?
— Может, это я их напугала? — спросила Айда Арнольд.
— Вы их напугали? — повторил Дэллоу. — Вот это здорово! Пинки не так легко напугать.
— А мне все-таки хочется знать, — не отставала Джуди, — какие это соседи? Что они болтают?
В тире кто-то стрелял; когда отворилась дверь, пропуская еще одну пару, в бар донеслись звуки выстрелов: один, два, три.
— Это, наверное, Пинки, — заметил Дэллоу, — он знает, как обращаться с оружием.
— А вы бы пошли и посмотрели, — мягко предложила Айда, — не выкинул бы он чего-нибудь безрассудного… с этим своим оружием… когда узнает…
— Очень уж вы прыткая, — сказал Дэллоу, — нам нечего бояться Друитта.
— Но ведь деньги, я думаю, вы ему дали не зря?
— Ну, это Джонни просто натрепался, — возразил он.
— А вот ваш дружок Кьюбит, кажется, думает…
— Кьюбит ровно ничего не знает…
— Ну конечно, — согласилась она. — Его ведь там не было? В то время, я хочу сказать. Ну, а вы… — продолжала она, — разве вам не пригодились бы двадцать фунтов? В конце концов, вы же не хотите попасть в беду?… Пусть Пинки сам и отвечает за свои преступления.
— Мне прямо тошно слушать вас, — разразился Дэллоу, — вы воображаете, что вам многое известно, а сами ровно ничего не знаете. — Он обратился к Джуди: — Пойду-ка отолью… Держи тут язык за зубами, а то эта баба…
Дэллоу беспомощно взмахнул рукой… Ему трудно было выразить, что еще она может натворить. Затем неуклюже побрел из зала; порыв ветра налетел на него так стремительно, что ему пришлось ухватить свою старую засаленную шляпу и придержать ее на голове. Спуститься по ступенькам в туалет было все равно что спуститься в машинное отделение парохода во время шторма. Мол слегка содрогался под его ногами, когда волны доходили до свай, а затем разбивались о берег. Он подумал: «Надо предупредить Пинки насчет Друитта, если это все же правда… У него ведь было на уме еще кое-что, кроме старика Спайсера». Поднявшись обратно по трапу, Дэллоу посмотрел с мола вниз — Пинки нигде не было видно. Он прошел мимо стереоскопов — опять никого. В тире стрелял кто-то другой.
— Видел Пинки? — спросил он у хозяина.
— Что это за трепотня? — рассердился тот. — Ты же знаешь, что я его видел. И что он уехал прокатиться за город… с девушкой… подышать воздухом… в сторону Гастингса. Да ты еще, наверное, хочешь знать, когда это было? Ну так вот, — продолжал он, — никаких показаний я давать не буду. Можешь подыскать кого-нибудь другого для своих липовых алиби.
— Вот псих, — огрызнулся Дэллоу.
Он пошел прочь; над бурным морем разносился звон колоколов церквей Брайтона. Дэллоу насчитал один, два, три, четыре и остановился. Ему стало страшно — а вдруг все правда, вдруг Пинки все знает, и этот его безумный план… Кого же черт понесет кататься за город в такой час, разве только в придорожный кабак, но Пинки был не любитель придорожных кабаков. Он тихо произнес вслух: «В таких делах я не помощник». Мысли его путались. Зря он выпил столько пива; она ведь славная девочка. Дэллоу вспомнил, как она пришла на кухню и хотела растопить печь. «А почему бы и нет?» — думал он, мрачно глядя в морскую даль; его вдруг охватила тоска по нежности, которую Джуди не могла утолить, по бумажному пакетику с завтраком, по горящему камину. Он быстро зашагал с мола к турникетам. Есть дела, в которых он ни за что не станет помогать.
Дэллоу знал, что «морриса» нет на стоянке, но все же нужно было пойти и убедиться самому. Отсутствие машины было подобно голосу, ясно нашептывающему ему на ухо: «А что, если она сама себя прикончит? Такой договор, может быть, и убийство, но за это не вешают». Он стоял в растерянности, не зная, что предпринять. Пиво затуманило его мозг, дрожащей рукой он провел по лицу.
— Ты видел, куда поехал наш «моррис»? — спросил он сторожа.
— Его взял твой приятель со своей девушкой, — ответил тот и, хромая, перешел от «тальбота» к «остину». Вместо одной ноги у него был протез, двигавшийся с помощью механизма, которым он управлял из кармана; он ковылял с большим трудом.
— Чудесный вечер, — сказал он, надеясь получить шесть пенсов на чай. Вид у него был измученный, простая ходьба требовала от него огромного напряжения. — Они поехали выпить в Писхейвен, — добавил он. — А больше ни о чем меня не спрашивай. — Запустив руку в карман, он потянул скрытую там проволоку и стал неуверенно двигаться наискосок, по направлению к «форду». — Дождь не заставит себя ждать, — раздался оттуда его голос, затем: — Благодарю вас, сэр!.. — И снова трудный переход к подъехавшему задом «моррису-оксфорду», снова дерганье за проволоку.
А отчаявшийся Дэллоу все стоял, не зная, что предпринять. Можно поехать автобусом. Но все будет кончено задолго до того, как туда доберется автобус. Лучше умыть руки, ни во что не вмешиваться… В конце концов, он же ничего не знает наверняка; может, через полчаса он увидит, как машина возвращается назад, мимо «Аквариума», Пинки за рулем, девушка рядом с ним; но в глубине души он отлично знал, что машина никогда не привезет их обоих. Малыш оставил после себя слишком много следов — в тире, на автомобильной стоянке, он хотел, чтобы за ним последовали, когда ему нужно, он точно рассчитал время, все должно соответствовать придуманной им истории. Сторож, хромая, вернулся назад.
— Сегодня ваш дружок был какой-то странный, вроде как бы взбудораженный. — Казалось, что он говорит в суде, дает те свидетельские показания, которые от него хотят получить.
Дэллоу понуро побрел прочь… Нужно найти Джуди, вернуться домой, ждать… Но в нескольких шагах от него стояла та женщина. Она все время шла за ним и все слышала.
— Господи, это ваших рук дело. Вы заставили его жениться на ней, вы заставили его… — сказал он.
— Достаньте машину, — приказала она. — Быстро!
— У меня нет денег на машину.
— У меня есть. Поторопитесь.
— Не к чему торопиться, — неуверенно возразил он. — Они просто поехали выпить.
— Вам известно, зачем они поехали, — прервала она, — а мне нет. Но если вы сами хотите выпутаться из всего этого, доставайте-ка лучше машину.
Первые капли дождя уже застучали по набережной, а Дэллоу все продолжал неуверенно возражать:
— Я ровно ничего не знаю.
— Ну и ладно, — поддержала она, — просто вы везете меня покататься, вот и все. — Вдруг она накинулась на него: — Не будьте дураком. Вам лучше быть со мной в дружбе… — И добавила: — Вы же видите, до чего Пинки докатился.
Но он все-таки не спешил. Какой смысл? Пинки вел их именно по этому следу, Пинки все продумал, он так и рассчитал, что они поедут за ним в нужный момент и обнаружат… У него не хватило воображения представить, что они обнаружат.
9
На верхней площадке лестницы Малыш остановился и посмотрел вниз. В бар вошли дворе мужчин, крепкие, в мокрых мохнатых пальто. Они, как собаки, стряхивали с себя влагу и шумно требовали выпивку.
— Две пинты, в медных кружках, — приказали они, но вдруг замолчали, почуяв в баре присутствие девушки. Они были люди высшего круга, приучились к этим штукам с кружками в первоклассных отелях.
Стоя на лестнице. Малыш с ненавистью наблюдал за их маневрами. Любая юбка была для них лучше, чем ничего, даже Роз. Но он чувствовал, что они не очень-то воодушевились. Она не многого стоила, разве что покрасоваться перед ней мимоходом.
— Думаю, что мы догнали до восьмидесяти.
— Я дожал до восьмидесяти двух.
— Неплохая машина.
— Сколько с тебя содрали?
— Пару сотен. Дешево за такую.
Затем оба замолчали и высокомерно взглянули на девушку, стоявшую возле статуэтки. Не стоило из-за нее утруждать себя, но если она окажется податливой… Один что-то тихо проговорил, другой захохотал. Потом оба начали жадно тянуть пиво из кружек.
Нежность подобралась к самому окошку и заглянула внутрь. Черт возьми, какое они имеют право чваниться и хохотать? Раз она достаточно хороша для него! Он спустился по лестнице в холл; они взглянули вверх и помычали, глядя друг на друга, как будто хотели сказать: «Ох, вот уж точно не к чему утруждать себя из-за нее».
— Допивай, — сказал один, — нечего время терять. А ты уверен, что Зоя будет дома?
— Ну конечно. Я предупредил, что, может быть, заеду.
— А ее подружка ничего?
— Темпераментная.
— Тогда поехали.
Они допили пиво и с высокомерным видом направились к двери, бросив мимолетный взгляд на Роз. Малыш услышал, как за дверью они захохотали. Они смеялись над ним. Он сделал несколько шагов по бару, им снова овладела холодная враждебность. В нем вдруг вспыхнуло желание бросить все, сесть в машину, уехать домой, а ее оставить в живых. Это был скорее приступ апатии, а не жалости — черт знает, как много еще нужно сделать и как много продумать, на сколько вопросов придется отвечать. Ему не верилось, что в конце брезжит свобода, тем более, что свободой этой ему предстояло пользоваться где-то вдали от родных мест.
— Дождь все сильнее, — сказал он.
Роз стояла в ожидании, не в силах ответить ему, она задыхалась, как будто пробежала большое расстояние… Она, казалось, сразу постарела. Ей было шестнадцать, но она выглядела такой, какой должна была стать после долгих лет замужества, рождения детей, ежедневных ссор, — смерть, у порога которой они стояли, состарила их.
— Я написала все, что ты хотел, — сказала она. Потом увидела, как он достал клочок бумаги набросал свою записку для следователя, для читателей «Дейли экспресс», для всех тех, кого называют миром.
В бар неслышно вошел двойник.
— Ты не заплатил, — сказал он.
Пока Пинки искал деньги, на нее нахлынуло почти непреодолимое чувство протеста — она любой ценой должна выпутаться из всего этого, оставить его, отказаться играть в эту игру. Он не может заставить ее убить себя, жизнь совсем не так уж плоха. Протест пришел как откровение, словно тайный голос шептал ей, что она тоже что-то значит, она — независимое существо, а совсем не единая с ним плоть. Можно ведь всегда ускользнуть… если он не передумает. Ничего ведь не решено окончательно. Пусть они поедут в машине, куда ему будет угодно, пусть она возьмет пистолет из его рук… даже и тогда… в самый последний момент… можно и не стрелять. Ничего ведь не решено окончательно… всегда есть надежда.
— Вот тебе на чай, — сказал Малыш. — Я привык давать официантам на чай. — В нем снова вспыхнула ненависть. — Ты ведь примерный католик, Пайкер, — спросил он, — ходишь в воскресенье к мессе, как положено?
— А почему бы и нет! — слегка вызывающе ответил Пайкер.
— Ты боишься, — сказал Малыш, — боишься гореть в вечном огне.
— А кто же не боится?
— Вот я не боюсь! — Он с отвращением вспомнил прошлое: звон надтреснутого колокола, ребенка, рыдающего под ударами розги, и снова повторил: — Я не боюсь… Нам пора идти, — обратился он к Роз. Затем подошел к ней, испытующе глядя на нее, приложил ладонь к ее щеке, полуласково, полуугрожающе. И спросил: — Ты ведь всегда будешь меня любить?
— Да.
Он потребовал еще одного подтверждения.
— Ты ведь всегда будешь со мной? — И когда она кивнула в знак согласия, он устало начал ту длинную процедуру, которая в конце концов должна была вернуть ему свободу.
На улице лил дождь; мотор упорно не заводился. Малыш стоял, подняв воротник пальто, и крутил ручку. Роз порывалась сказать ему, чтобы он не стоял там, не мокнул, потому что она изменила свое решение… они будут жить… любой ценой… и не смела. Она отодвигала надежду… на самый последний момент. Когда они отъехали, она сказала:
— Вчера ночью… и позавчера… ты ведь не стал ненавидеть меня за то, что мы делали?
— Нет, не стал, — ответил он.
— Хоть это и смертный грех?
Это была истинная правда — он не чувствовал ненависти даже к тому, что они делали. Это вспоминалось как нечто приятное, вызывало гордость… и что-то еще. Машина, покачиваясь, снова выехала на главную магистраль; он повернул к Брайтону. Беспредельное волнение овладевало им, как будто кто-то старался ворваться внутрь, как будто к стеклу прижимались гигантские крылья. «Dona nobis pacem». Он сопротивлялся этому, со страшной горечью вспоминая о школьной скамье, о цементной спортивной площадке, о зале ожидания на вокзале Сент-Пэнкрас, о грязной похоти Дэллоу и Джуди, о холоде и отчаянии, охвативших его на молу. Если бы стекло разбилось и хищник — кто бы это ни был — ворвался внутрь, бог знает, что произошло бы. Он почувствовал страшную опустошенность — исповедь, покаяние, причастие — и непреодолимое отчаяние; он мчался вслепую навстречу дождю. Сквозь потрескавшееся, грязное ветровое стекло ничего нельзя было рассмотреть. Какой-то автобус ехал прямо на них, но вовремя свернул вбок — Малыш вел машину не по той стороне. Вдруг он сказал наугад:
— Остановимся здесь.
Плохо замощенная улица кончалась, упираясь в скалу, — дачи разных типов и размеров, незастроенный участок, заросший густой травой и мокрыми кустами боярышника, похожими на взъерошенных кур, везде темно, светятся только три окошка. Играет радио, в гараже мужчина возится с мотоциклом, который ревет и шипит в темноте. Он проехал еще несколько метров вглубь, выключил фары, заглушил мотор. Сквозь дыру в брезенте с шумом врывался дождь, слышно было, как море бьется о скалу.
— Вот посмотри. Это и есть мир, — сказал он.
Еще один огонек зажегся за дверью — витраж изображал Веселого рыцаря, обрамленного тюдоровскими розами. Малыш вглядывался вдаль, как будто это он должен был попрощаться с мотоциклом, с домиками, с залитой дождем улицей, ему вспомнились слова из мессы: «Он был в этом мире, он создал этот мир, и этот мир отверг его».
Надеяться уже, кажется, не на что; она должна сказать сейчас или никогда: «Не стану я этого делать. И вовсе не собиралась». Это было похоже на романтическое приключение — вы решили сражаться в Испании и не успели оглянуться, как для вас уже взяты билеты, в руку вложены рекомендательные письма, вас пришли проводить — все стало реальностью.
Малыш сунул руку в карман и вытащил пистолет.
— Я взял его из комнаты Дэллоу, — объяснил он.
Она хотела было сказать, что не знает, как им пользоваться, найти какое-то оправдание, но он, очевидно, продумал все.
— Я отвел предохранитель, — объяснил он, — тебе нужно только нажать вот это. Совсем не трудно. Приставь его к уху — тогда он будет устойчивее. — Вся его юность воплотилась в жестокость его указаний, он был похож на мальчишку, играющего на куче шлака. — Ну, держи, — добавил он, — держи.
Просто поразительно, как далеко может простираться надежда. Она подумала: «Сейчас еще не нужно ничего говорить. Я могу взять пистолет, а потом… выбросить его из машины, побежать прочь, сделать что-нибудь, чтобы прекратить все это». Но воля его упорно подчиняла ее себе. Он-то принял решение. Она взяла пистолет — это было похоже на предательство. «А что он сделает, — подумала она, — если я… не стану стрелять?» Застрелится ли он один, без нее? Он-то будет проклят, а сможет ли она тоже заслужить проклятие, доказать им всем, что они не могут проклинать только тех, кого хотят? Остаться в живых на долгие годы… нельзя знать наперед, что сделает с тобой жизнь; а если она превратит тебя в кроткую, добродетельную, раскаявшуюся? В ее уме религия складывалась из целого ряда раскрашенных картинок: ясли в рождественскую ночь… там еще были вол и овца; но тут кончалось Добро и начиналось Зло — из своего замка с башнями Ирод посылал разыскивать ясли, где родился младенец.[35] Она хотела быть рядом с Иродом, если Пинки был там; греху предаешься неожиданно, в момент отчаяния или гнева, но в течение долгой жизни тобой руководит Добро, непреклонно ведя тебя к яслям, к «праведной смерти».
— Нам нечего больше ждать, — сказал он. — Хочешь, я буду первым?
— Нет! — воскликнула она. — Нет!
— Ну, тогда ладно. Отойди немного… или лучше я отойду, а ты останься здесь. Когда все будет кончено, я вернусь и сделаю то же самое. — И снова это напомнило мальчишескую игру, когда подробнейшим образом говорят о ножах для снятия скальпа, о штыковой ране, а потом идут домой пить чай. — Тут так темно, что я ничего и не увижу, — добавил он.
Малыш открыл дверцу машины. Роз сидела неподвижно с пистолетом на коленях. Сзади них по шоссе медленно проехала машина в сторону Писхейвена.
— Так ты знаешь, что делать? — с трудом выговорил он. Ему показалось, что от него ждут проявления нежности. Вытянув губы, он поцеловал ее в щеку, губ ее он боялся — мысли слишком легко переходят из уст в уста. — Это не больно, — добавил он и начал тихонько отходить в сторону шоссе.
Надежде уже некуда было простираться дальше. Радио замолкло; в гараже дважды взревел мотоцикл, по гравию заскрипели шаги, она услышала, как на шоссе какая-то машина дала задний ход.
Теперь к ней взывал ангел-хранитель, он говорил, как дьявол, — искушал ее на добродетель, как тот толкает на грех. Отбросить пистолет прочь будет предательством, проявлением трусости, будет означать, что она согласна никогда его больше не видеть.
Моральные сентенции, произносимые наставительным, возвышенным тоном, памятные еще из проповедей, молитв, исповедей — «Ты не сможешь молиться за него у трона всемилостивейшего», — вспомнились ей как неубедительный обман. Грех казался проявлением порядочности, мужества, верности, ей казалось, что только трусость прикрывается сейчас добродетельными речами… Она приложила пистолет к уху, но приступ слабости опять заставил ее опустить руку — плоха та любовь, что боится смерти. Она не страшилась совершить смертный грех — смерть, а не вечное проклятье, пугала ее… Пинки сказал, что не будет больно. Он чувствовала, что его воля толкает ее руку, она ведь ему доверяла. И снова подняла пистолет.
Вдруг чей-то голос громко крикнул; «Пинки!» — и она услышала, как кто-то зашлепал по лужам. Топот бегущих ног… непонятно где. «Наверное, это какая-то весть, которая все изменит», — подумала она. Не может она сейчас убить себя, а вдруг это будет добрая весть. Казалось, что там, в темноте, воля, направляющая ее руку, вдруг ослабла, а в ней самой бурно возрождался инстинкт самосохранения. Все теперь представлялось выдумкой — неужели одна действительно собиралась спустить курок, вот так, сидя здесь?… «Пинки!» — опять позвал чей-то голос, и шлепающие шаги приблизились. Она толчком отворила дверцу машины и отшвырнула пистолет далеко в мокрые кусты.
В свете, падающем через витраж, она увидела Дэллоу, ту женщину и полисмена, растерянного, как будто не совсем понимавшего, что здесь происходит. Кто-то тихо обошел вокруг машины и спросил:
— Где пистолет? Почему ты не стреляешь? Давай его мне.
— Я выбросила его, — ответила она.
Остальные подошли осторожно, как загонщики на охоте.
— Ты, Дэллоу, проклятый доносчик! — вдруг выкрикнул срывающимся мальчишеским голосом Пинки.
— Ни к чему все это, Пинки, — ответил Дэллоу. — Они взяли Друитта.
У полисмена был смущенный вид, как у случайного человека на вечеринке.
— Где пистолет? — опять закричал Пинки. Голос его срывался от страха и ненависти: — Господи Боже, неужели мне снова придется убивать?
— Я его выбросила, — повторила она.
Она смутно увидела его лицо, склонившееся над лампочкой на щите управления. Оно было похоже на лицо ребенка, которого предали, затравленного и растерянного. Несбыточное будущее растаяло, как дым, — его опять тянули назад, на злосчастную спортивную площадку.
— Ты, ничтожная… — начал было он, но не закончил — загонщики приближались. Забыв о девушке, он засунул руку в карман и стал там шарить… — Подойди-ка сюда, Дэллоу, — закричал он, — ты, проклятый доносчик! — и выхватил руку из кармана.
Она не поняла, что случилось дальше: где-то разбилось… стекло, он вскрикнул, и она увидела его будто дымящееся лицо… А он все кричал и кричал, прижав к глазам ладони, потом повернулся и побежал; у его ног она увидела дубинку полицейского и разбитую склянку. Малыш казался вдвое меньше ростом, так он скорчился в невероятных мученьях; его словно охватило адское пламя, он становился все меньше и меньше, превратился в школьника, несущегося напролом от страха и боли, карабкающегося через забор, убегающего прочь.
— Остановите его, — закричал Дэллоу, но было уже поздно, он взбежал на обрыв и исчез, они даже не слышали всплеска. Как будто какая-то рука вырвала его из жизни, прошлой или настоящей, превратила в ноль, в ничто.
10
— Это доказывает, — возразила Айда, — что просто не нужно отступать.
Она осушила свой стакан и поставила его на перевернутую бочку бара Хенеки.
— А Друитт? — спросил Кларенс.
— Ох и тугодум же ты. Старый призрак. Я все это просто придумала. Не могла же я гоняться за ним по всей Франции, ну а полиция… ты же знаешь полицию… им ведь вечно нужны доказательства.
— А Кьюбита забрали?
— Кьюбит ни за что не будет говорить, когда он трезвый. А его невозможно напоить настолько, чтобы он заговорил в полиции. Вот и выходит, что все, рассказанное мной, наговоры. Или было бы наговорами, если бы остался жив он.
— А ты как будто не очень-то опечалена этим, Айда.
— Если бы мы не подоспели, она была бы мертва.
— На то была ее добрая воля.
Но у Айды Арнольд на все был ответ.
— Она же ни в чем не разбиралась. Совсем еще ребенок. Она думала, что он ее любит.
— А теперь что она думает?
— Откуда мне знать? Я свое дело сделала. Привезла ее домой. Девушке в таких случаях только и нужны ее мамаша и папаша. Так или иначе, она должна быть мне благодарна, что не отправилась на тот свет.
— А как вы убедили полисмена ехать вместе с вами?
— Сказали ему, что они украли машину. Бедняга не мог разобрать, в чем дело, но он вел себя решительно, когда Пинки выхватил серную кислоту.
— А Фил Коркери?
— Поговаривает о поездке в Гастингс будущим летом, — ответила она, — но я предчувствую, что после всех этих дел не буду получать от него почтовых открыток.
— Ты страшная женщина, Айда, — сказал Кларенс. Он глубоко вздохнул и уставился в свой стакан. — Выпей еще.
— Нет, спасибо, Кларенс. Мне пора домой.
— Ты страшная женщина, — повторил Кларенс; он был немного навеселе, — но нужно отдать тебе должное. Ты действовала из лучших побуждений.
— Во всяком случае, моя совесть за него не в ответе.
— Кто-то из них все равно погиб бы, как ты говоришь.
— Другого выхода не было, — подтвердила Айда Арнольд.
Она поднялась с места, похожая на фигуру на носу корабля, изображающую Победу. Проходя мимо стойки, она кивнула Гарри.
— Ты уезжала, Айда?
— Только на недельку-другую.
— Я и не заметил, что тебя так долго не было, — ответил Гарри.
— Ну, спокойной всем ночи.
— Спокойной ночи, спокойной ночи.
Она доехала на метро до Рассел-сквер, потом пошла пешком, с чемоданом в руке; войдя в дом, заглянула в холл, нет ли писем. Было только одно письмо — от Тома. Она догадывалась, что в нем написано, ее любвеобильное сердце смягчилось, когда она подумала: «В конце концов, что ни говори, мы с Томом понимаем толк в любви». Она приоткрыла дверь, ведущую на лестницу в подвал, и позвала:
— Кроу! Дедушка Кроу!
— Это вы, Айда?
— Поднимитесь-ка наверх, поболтаем да повертим столик.
11
Роз видна была только голова старика, склонившаяся над решеткой. Дыхание у священника было свистящим. Он слушал… терпеливо… дышал со свистом, пока она заставляла себя рассказывать о всех своих страданиях. Ей было слышно, как снаружи женщины раздраженно поскрипывали стульями, ожидая очереди на исповедь.
— Вот в чем я раскаиваюсь, — продолжала она. — В том, что не ушла вместе с ним.
В этом душном ящике она вела себя дерзко, не рыдала; у старого священника был насморк, от него пахло эвкалиптом. Он мягко ободрил ее, произнеся гнусаво:
— Продолжайте, дитя мое.
— Лучше бы я убила себя, — сказала она. — Мне следовало убить себя.
Старик начал было что-то говорить, но она прервала его:
— Я не прошу отпущения грехов. Не хочу я отпущения грехов. Хочу быть, как он… навеки проклятой.
В груди у старика посвистывало, когда он втягивал воздух; ей было ясно, что он ничего не понимает.
— Лучше бы я убила себя, — монотонно повторяла она.
Роз прижала руки к груди в порыве безудержного отчаяния; она пришла не исповедоваться, а все понять, она не могла думать дома, где печку не топили, на отца находила хандра, мать же… По ее осторожным вопросам можно было понять, что она только и думает о том, сколько денег у Пинки… У нее и сейчас хватило бы мужества убить себя, если бы она не боялась, что там, в таинственном царстве смерти, они разминутся друг с другом, что благодать снизойдет на одного и не снизойдет на другого. Срывающимся голосом она сказала:
— Эта женщина. Вот она заслуживает вечного проклятия. Сказала, что он хотел избавиться от меня. Ничего она не смыслит в любви.
— Может, она была права, — пробормотал старый священник.
— И вы тоже не правы, — яростно проговорила она, прижимаясь к решетке своим детским личиком.
Вдруг старик заговорил, время от времени со свистом переводя дыхание и распространяя через решетку запах эвкалипта.
— Был один человек, француз,[36] вы не можете знать о нем, дитя мое, — начал он. — У него были такие же мысли, как у вас. Он был хороший человек, святой человек, но всю свою жизнь он прожил в грехе, ибо не хотел смириться с тем, что любая душа может быть проклята… — Она с удивлением слушала его, а он продолжал: — Этот человек решил, раз каждой душе суждено быть проклятой, пусть и он тоже будет проклят. Он никогда не причащался, не захотел сочетаться законным браком с женой своей… Не знаю, что сказать вам, дитя мое, но некоторые люди считают, что он был… гм, святым. Наверно, но умер в смертном грехе, так нас научили называть это… но я не уверен; это было во время войны, может быть… — Он вздохнул, опустив дряхлую голову, в горле у него засвистело. И добавил: — Вы не можете постичь, дитя мое, как не могу я или кто-нибудь иной… поразительного… непостижимого… милосердия Божьего.
Снаружи стулья все скрипели и скрипели, людям не терпелось покаяться в конце недели, получить отпущение грехов, прощение.
— Нет у человека большей добродетели, чем отдать душу за ближнего своего,[37] — добавил священник. Он вздрогнул и чихнул. — Мы должны верить и молиться, — сказал он, — верить и молиться. Церковь не требует, чтобы мы верили в то, что есть души, которым отрезан путь к спасению.
— Он проклят. Он знал, что его ждет. Он тоже был католиком, — сказала она печально и осуждающе.
— Corruptio optimi est pessima,[38] — тихо произнес он.
— Что это значит, отец мой?
— Я хочу сказать: католик согрешит скорее, чем кто-либо иной. Думаю, что, может быть… потому что мы верим в дьявола… мы больше сталкиваемся с ним, чем другие люди… Но мы должны надеяться, — механически повторил он, — надеяться и молиться.
— Я хочу надеяться, — сказала она, — но не знаю на что.
— Если он любил вас, — пояснил старик, — то, конечно, это доказывает, что было что-то хорошее…
— Даже в такой любви?
— Да.
Она грустно задумалась над этими словами, сидя в маленькой темной кабинке.
— И приходите поскорее опять… — сказал он. — Сейчас я не могу отпустить ваши грехи… но приходите опять… завтра.
— Хорошо, отец мой, — тихо промолвила она… — А если будет ребенок?
— С вашим чистым сердцем и с его мужеством… — ответил он. — Воспитайте его добродетельным, чтобы он молился за отца своего.
Внезапно чувство беспредельной благодарности прорвалось сквозь боль — как будто она увидела далекое будущее, где жизнь опять продолжается.
— Помолитесь за меня, дочь моя, — попросил он.
— Да, о да, — ответила она.
Выйдя, она посмотрела на дощечку исповедальни. Имя было ей незнакомо. Священники ведь все время меняются.
Она вышла на улицу… Боль еще не прошла, нельзя стряхнуть ее с себя при помощи слов; но самое ужасное осталось позади, подумала она, ужас замкнувшегося круга… Вернуться домой, вернуться в кафе Сноу — они, конечно, возьмут ее обратно, — как будто Малыш никогда и не существовал. А он существовал и всегда будет существовать. У нее возникла внезапная уверенность в том, что она носит в себе новую жизнь, и она с гордостью подумала: «Пусть только попробуют уничтожить его, пусть попробуют!» Она повернула на набережную против Дворцового мола и твердо зашагала в сторону, противоположную от дома, по направлению к пансиону Билли. Нужно было спасти кое-что из того дома, из той комнаты, не дать им уничтожить еще что-то — его голос, обращающийся к ней, а если будет ребенок, то и к ребенку… «Если он любил вас, — сказал священник, — это доказывает…» Она быстро шагала в мягких лучах июньского солнца навстречу самому страшному испытанию[39] из всех, какие ей довелось пережить.
Примечания
1
Виктория — большой лондонский вокзал, главная конечная станция Южного района, соединяющая столицу с портами на южном побережье Англии, в том числе и с Брайтоном.
(обратно)2
Духов день (Троица) — традиционный церковный праздник, приходится на седьмое воскресенье после Пасхи.
(обратно)3
Эдгар Уоллес (1875–1932) — очень плодовитый и популярный в первой трети XX в. английский писатель, тираж книг которого достигал пяти миллионов в год.
(обратно)4
Нетта Сиретт — писательница, имевшая известность в Англии в 30-е гг. XX в.
(обратно)5
Агнец Божий, ты, который терпишь грехи мира, даруй нам покой (лат.).
(обратно)6
Верю в единого Бога (лат.).
(обратно)7
Стоунхендж — доисторическое (1900–1600 гг. до н. э.) сооружение ритуального назначения, состоит из огромных, отдельно стоящих каменных глыб в виде круглых или квадратных оград. Расположена близ г. Солсбери, графство Уилтшир.
(обратно)8
…из гостиной в стиле Людовика XVI. — Стиль интерьера, утвердившийся при французском короле Людовике XVI (1774–1793), нес на себе печать античного влияния, а также культа природы, естественного начала, одним из ярких проповедников которого был Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). Однако Грином здесь руководит не интерес к своеобразию стиля, а стремление подчеркнуть изысканность обстановки, которая окружает богача Коллеони в отличие от вышедшего из низов Пинки. Тем же целям служит и упоминине о других стилях интерьера — стиле Помпадур, викторианском, а также в целом описание роскошной меблировки отеля «Космополитен».
(обратно)9
Наполеон Третий — племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон Бонапарт, избранный 20 декабря 1848 г. президентом Французской республики (так называемой Второй республики) и совершивший 2 декабря 1851 г. контрреволюционный переворот, в результате которого Франция на 20 лет стала Империей, а Луи-Наполеон Бонапарт императором (1851–1870).
(обратно)10
Евгения — Евгения Монтихо, испанская аристократка, с которой Наполеон Третий, став императором, сочетался в 1853 г. браком, сначала гражданским, а потом освященным в соборе Нотр-Дам.
(обратно)11
… его с раннего детства окружал ад. — Измененная, получившая противоположный смысл строка из стихотворения английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта (1770–1850): «Рай окружает нас в нашем детстве». Образ детства как ада сообщает сложность фигуре Пинки, который предстает не просто «грешником», отказавшимся уповать на милость Бога, но и жертвенной среды, изуродовавшей его сознание. «Ад» в детстве Пинки — это нищета, невежество, бытовая неустроенность, обусловившие психологическую травму ребенку.
(обратно)12
Армия спасения — напоминающая по структуре армию религиозная филантропическая организация, основана в Лондоне Уильямом Бутом в 1865 г.
(обратно)13
Пока нога его была между стременем и землей… — Пинки неточно цитирует эпитафию английского поэта Уильяма Камдена (1551–1623) «Человеку, разбившемуся при падении с лошади»: «Между стременем и землей я молил о милосердии и обрел его».
(обратно)14
Эдуард VIII (1894–1972) — английский король с 20 января по 11 декабря 1936 г. Отрекся от престола, получив титул герцога Виндзорского.
(обратно)15
Зал, где танцуют и пьют чай (фр.).
(обратно)16
Даруй нам покой… (лат.).
(обратно)17
Memento mori — помни о смерти (лат.).
(обратно)18
…тронули его, как простая музыка. — Изображая Пинки ожесточившимся, обозленным, безжалостным, Грин в то же время намечает в его поведении и слабое проявление доброго начала, которое по временам заявляет о себе, даже помимо воли Пинки. Через весь роман лейтмотивом проходит тема музыки, то волнующей героя, то настоятельно привлекающей его внимание, то вызывающей раздражение (см., например, начало пятой главы). Этот лейтмотив создает эмоциональный подтекст повествования, символически запечатлевая борьбу в душе Пинки человечности и сатанинской злобы.
(обратно)19
Мосс (точнее «Мосс Броз», «Братья Мосс») — лондонская фирма по продаже, пошиву и прокату парадной мужской одежды. Основана в 1881 г.
(обратно)20
…словно Прометей на скале под орлом. — Титан Прометей, герой древнегреческого мифа, принес людям небесный огонь и в наказание, по приказу верховного бога Зевса, был прикован к горам Кавказа; орел Зевса каждый день прилетал клевать у Прометея печень, которая за ночь снова вырастала. Перед нами очередной пример сравнения, призванного возвысить изображаемую ситуацию, вырвать ее из бытовой конкретности, сообщить ей особую торжественно-ироническую окраску.
(обратно)21
Ноттинг-Хилл — квартал в западной части Лондона.
(обратно)22
Большой Каньон — долина реки Колорадо в штате Аризона (США), имеющая отвесные скалистые стены, высотой до 1800 м. Очень живописна, привлекает большое число туристов.
(обратно)23
Тадж-Махал — шедевр индийской мусульманской архитектуры, грандиозный мавзолей, построенный в 1630–1653 гг. Великим Моголом Шах-Джаханом для своей жены близ г. Агра (в Индии).
(обратно)24
…как Нарцисс в своей заводи. — Нарцисс — герой древнегреческого мифа, увидевший в ручье свое отражение и влюбившийся в самого себя.
(обратно)25
Тюильри — королевский дворец в Париже. Построен в XVI в., сгорел в 1871 г. во время боев версальских войск с коммунарами.
(обратно)26
Мебель маркетри — мебель, созданная по особой технике, украшенная красочными узорами, инкрустированная разными сортами дерева, цветными металлами, перламутром, слоновой костью.
(обратно)27
Верую только в Сатану (лат.). — Пинки преднамеренно искажает католический символ веры, подчеркивая свою причастность лишь к миру зла, невозможность для него надежды на божественное прощение.
(обратно)28
Всюду розы и розы, и ни веточки тиса. — Контаминация строк из двух разных по пафосу стихотворений: Роберта Браунинга (1812–1889) «Патриот» и Мэтью Арнольда (1822–1888) «Да почиет».
(обратно)29
«Тело мое одарит тебя всеми своими земными дарами». — Неточно цитируется молитвенник (раздел, посвященный венчанию молодых).
(обратно)30
Маргейт — город, порт и популярный курорт на юге Англии.
(обратно)31
«Кто там? Крысы?..» — Цитата из трагедии У. Шекспира «Гамлет» (акт III, сцена 4).
(обратно)32
Вы знаете, что Мефистофель ответил Фаусту, когда тот спросил, где находится ад? — Вопрос Фауста и ответ на него Мефистофеля: «Вот здесь и есть ад» — в устах Друитта является неточной цитатой из трагедии английского драматурга Кристофера Марло (1564–1593) «Трагическая история доктора Фауста» (акт I).
(обратно)33
Школа Ланкастер. — В школах этого типа, возникших в Англии в начале XIX в., осуществлялась система взаимного обучения: старшие учащиеся под наблюдением учителя обучали младших чтению, письму и счету.
(обратно)34
Чувство товарищества (фр.).
(обратно)35
Ирод посылал разыскивать ясли, где родился младенец. — Ирод — иудейский царь (40-4 гг. до н. э.). В Новом Завете (от Матфея) говорится о том, что Ироду было предсказано рождение Иисуса Христа как будущего царя Иудеи. Стремясь предотвратить угрозу своему престолу, Ирод приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех детей в возрасте до двух лет («Избиение младенцев»).
(обратно)36
Был один человек, француз. — По всей вероятности, имеется в виду французский писатель Шарль Пеги (1873–1914), который, приняв католичество, отверг идею «вечного проклятия», посчитав ее антигуманной. Его фигура не раз привлекала внимание Грина.
(обратно)37
Нет у человека большей добродетели, чем отдать душу за ближнего своего. — Пример расхождения Грина с ортодоксальным католицизмом, в соответствии с которым католик прежде всего должен заботиться о спасении собственной души. Писатель же проводит мысль о том, что во имя любви к человеку можно и даже следует пренебречь собственной душой, обречь себя на вечное проклятие, добровольно разделив с любимым его наказание после смерти — именно эту участь готова принять Роз. Такой же путь избрал и «француз», герой рассказа священника. Характерно, что последний, выступая рупором автора, стремится оставить у Роз надежду на милосердие Божие — «поразительное» и «непостижимое». Характерна и фигура самого священника, открывающая галерею типично гриновских образов священнослужителей — лишенных внешней значительности, усталых, сомневающихся, неудачливых, «грешных», но исполненных сочувствия к страдающему человеку и подчеркнуто противопоставленных в этом отношении персонажам, отстаивающим ортодоксальные принципы и поэтому, в трактовке Грина, самодовольным и ограниченным.
(обратно)38
Грехопадение праведных — наихудшее из зол (лат.).
(обратно)39
…навстречу самому страшному испытанию… — Священник дает Роз надежду на «спасение» Пинки, если он хоть кого-нибудь на земле любит. Роз надеется услышать слова любви из уст своего юного мужа, записанные на пластинке в день свадьбы. Но, как знает читатель, пластинка должна подтвердить обратное — неспособность Пинки кого-либо любить — и тем самым окончательно раскрыть авторское осуждение героя и, по контрасту, оправдание Роз и ее моральной позиции.
Любопытно, что в сценарий фильма по «Брайтонскому леденцу» (1948 г.), написанный самим Грином, внесена заключительная сцена, изображающая попытку Роз прослушать пластинку. Но граммофонная игла ломается, камера же в этот момент высвечивает на стене распятие. Сам писатель в интервью с критиком Дж. Филипсом уклонялся от объяснения этой сцены, но критик посчитал, что она символизирует победу Роз в моральном поединке с Пинки. На наш взгляд, объективно возможна и иная трактовка — ирония автора по отношению к надеющейся и ничего не ведающей героине.
(обратно)


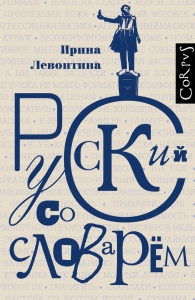



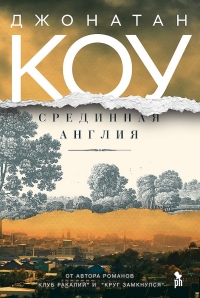

Комментарии к книге «Брайтонский леденец», Грэм Грин
Всего 0 комментариев