Коллектив авторов Птичий рынок
© Е. Водолазкин, Т. Толстая, Л. Улицкая и др., 2019.
© А. Бондаренко, художественное оформление, 2019.
© А. Обух, иллюстрации, 2019.
© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2019.
© ООО “Издательство АСТ”, 2019.
* * *
Живое воспитывает живых – объясняли родители и на Птичий рынок водили для радости.
Юрий РостНаринэ Абгарян Марлезон
У Бочканц Ованеса сложились очень уважительные отношения с ослом Марлезоном и крайне неуважительные – с пчелами. Казалось бы, тоже мне беда. В конце концов, не каждому дано жить в мире и согласии со всеми божьими тварями. Но Бочканц Ованес был пасечником. Мастером своего дела. Практически лучшим. И подобный оксюморон омрачал ему жизнь.
Отношения с пчелами испортились совсем недавно, потому собирался он теперь на пасеку, как на войну. Надевал сорочку с длинным рукавом, застегивался на все пуговицы. Брюки заправлял в носки. Проверял защитную сетку на маске с той тщательностью, с какой аквалангист обследует оборудование перед погружением. Приобрел в хозяйственном длинные плотные резиновые перчатки и попросил жену тщательно приладить к ним лямки. Сатеник, памятуя о несговорчивом характере мужа, возражать не стала, только спросила, зачем ему это надо.
– Ты приладь, там видно будет! – отрезал Ованес. У него всегда портилось настроение, когда задавали несанкционированные вопросы.
– И-их, неуступчивый баран, – вздохнула Сатеник и пустила на лямки старое кухонное полотенце.
Ованес надевал перчатки загодя, на подступах к пасеке. Лямку с левой перчатки перекидывал на правое плечо, с правой – на левое. Получалась диковинная, но надежная конструкция: лямки перетягивали грудь и давили на шею, но спасали от внезапной потери перчатки.
– А вдруг она свалится, когда я в улей полезу? – объяснял Ованес Марлезону. Марлезон водил ушами и одобрительно фыркал – в отличие от Сатеник, он понимал своего хозяина с полуслова.
Дополнительной защитой пришлось озаботиться после того, как пчела ужалила Ованеса в ухо. За сорок лет это был чуть ли не сотый случай, но в этот раз всё пошло наперекосяк – ухо моментально вспухло футбольным мячом и подозрительно запульсировало. Следом принялась раздуваться шея.
Ованес выронил крышку улья и, пренебрегая мирно пасущимся невдалеке домашним транспортом, припустил к деревне. Марлезон помчался следом, возмущенно иа-иакая. Так и добрались до поликлиники – впереди распухший до размера камазной покрышки Ованес, следом – оскорбленный до глубины своей ослиной души Марлезон.
– Наконец-то ты оправдываешь прозвище своего рода, – хохотнул дежурный врач, ставя спасительный укол.
Ованес хотел было огрызнуться, но не смог – вздувшиеся губы не шевелились. Он недовольно замычал, давая понять бесцеремонному доктору, что тот выбрал не самое подходящее время для шуток. Доктор замахал руками и примирительно улыбнулся.
Род Бочканц унаследовал прозвище от Шмавона, который был таким толстым, что все его называли бочкой. Ованес застал последние годы жизни прапрадеда, тот целыми днями лежал на тахте – большой, неповоротливый – и одышливо матерился в потолок.
Впервые услышав его сквернословие, Ованес ужасно заволновался – над потолком как раз находилась спальня его родителей.
– Апи[1], это ты на маму с папой ругаешься?
Прапрадед чуть не поперхнулся.
– Собакин щенок, при чем здесь твои мама с папой? Я Создателя ругаю. Почему он меня таким толстым сотворил? А в придачу еще и коротышкой! Совесть у него есть?
Прапрадед к концу жизни оглох, но силу голоса не растерял. Потому высказывал свои претензии небесной канцелярии до того громогласно, что куры на том конце деревни от испуга по несколько раз на дню неслись. Контуженная его сквернословием небесная канцелярия, по-видимому, сделала правильные выводы. И все потомки прапрадеда получались худощавыми и высоченными. Но прозвище всё равно носили Бочканц – из рода Шмавона-Бочки.
Отек спал только к вечеру. Ованес вернулся домой и огорошил жену новостью, что у него обнаружилась непереносимость пчелиного яда.
– Но ведь раньше ничего такого у тебя не было! – удивилась она.
– Раньше не было, а теперь есть.
– Говорили же, что пчелиный укус не ядовитый! – не унималась Сатеник.
– Раз не ядовитый, иди опрокинь на себя улей! А мне одного раза хватило, – рассердился Ованес.
Отказываться от промысла, приносящего стабильный доход, он не собирался. Просто придумал дополнительные меры защиты – хозяйственные перчатки на лямках, плотная сорочка с длинным рукавом и заправленные в толстые носки брюки – даже в самое пекло.
Односельчане поговаривали, что в городе есть специальные магазины для пчеловодов, где можно купить костюм, в котором тебя не то что пчела не ужалит, а лев не прокусит. Но Ованес этим слухам не верил. Он вообще городским не доверял. Что они понимают в пчелах? Ровным счетом ничего. Так чего ради должны придумать годный защитный костюм? Вздор всё это! Человек, оторванный от природы, черствеет душой. Какой с него спрос? Соврет и не застесняется.
Несмотря на тщательно подбираемую амуницию, он лелеял тайную надежду, что случай с аллергией на укус пчелы не что иное, как глупое недоразумение. Исключение из правил. Раз в год и палка стреляет. Но это же не означает, что она превращается в ружье!
Вон Марлезон. С ним ведь тоже не сразу сложились паритетные отношения. Всю душу вынул, пока человеком стал. Купил его Ованес у Назинанц Сурена за большие деньги – шестьдесят американских долларов. Сурен переезжал к сыну в Небраску, вот и распродавал домашнюю живность за доллары. Ованес натянул отцовский патронташ, съездил в райцентр, напустил грозным видом страху на работника банка, чтобы тот не смел ему фальшивые деньги продавать, а далее, тщательно припрятав три двадцатидолларовые бумажки в нагрудный карман, поехал к Сурену.
Со старым хозяином осел распрощался сдержанно – только хвостом шевельнул. За Ованесом шел с достоинством, брезгливо обходя лужи. Фортель выкинул, не дойдя двадцати метров до калитки: встал как вкопанный посреди улицы – и всё. Ни туда и ни сюда. Промучившись с ним битый час, Ованес махнул рукой и ушел в дом – надумает, сам придет.
Упрямое животное простояло так три дня. Ованес всё это время наблюдал за ним с веранды. Сатеник выносила поесть и попить. Осел сено игнорировал и даже от морковки морду воротил, но воду пил. И угрюмо молчал. На третий день Ованес, проклиная всё на свете, пошел к Сурену.
– Иди забери своего осла, обманщик! – крикнул он ему с порога.
– В смысле “обманщик”? – обиделся Сурен.
– Издеваешься, что ли?
– Вообще нет!
– Это животное третий день на дороге стоит, во двор не заходит!
– Не может такого быть!
– Сурик, хоть ты и диплом имеешь, ты всё равно говно-человек. Не мог предупредить, что осел с приветом?
– При чем здесь мой диплом? – невпопад оскорбился Сурен.
– Тьху! – сплюнул Ованес и ушел домой.
Осел стоял посреди двора, окруженный курами, и шевелил в такт их кудахтанью ушами.
– Это как понимать? – опешил Ованес.
Жена всплеснула руками:
– Ты представляешь, я просто распахнула перед ним калитку.
– И?
– И он отмер.
– Как?
– А вот так! – Она отомкнула калитку и отошла в сторону. Осел двинулся к выходу. Она калитку захлопнула. Осел остановился.
– Ему нужно оставлять проход открытым, – объяснила Сатеник.
Ованес пожевал губами.
– Почему тогда Сурен не рассказал мне этого?
– А ты небось пришел к нему и вежливо спросил, да? – не удержалась от иронии она.
– Много на себя берешь, женщина, – нахмурился Ованес и погладил осла по голове, – ну что, старый трех[2], дружить будем? Ты не против, если я тебя Марлезоном стану называть?
Осел глянул на него своими большими вишневыми глазами и коротко кивнул. С того дня между ними установились уважительные отношения – Ованес заблаговременно распахивал калитку и отходил в сторону, освобождая ему дорогу, а осел верой и правдой ему служил.
Памятуя об этой истории, Ованес не терял надежды, что случай с аллергией на пчелиный яд – глупое недоразумение.
“Раз с ослом договорились, то и с пчелами обойдется”, – бубнил он себе под нос, собираясь на пасеку.
День с самого утра не задался. Отличилась, естественно, Сатеник: не спросимши, она отдала самый любимый топор Ованеса соседу. У Ованеса было пять разных топоров, на все случаи жизни. Относился он к ним бережно, можно сказать – с любовью: точил собственноручно, не доверяя электрическому шлифовальному кругу, удалял ржавчину керосином, хранил в специальном сундуке, чтобы топорище не усыхало в проушине. Особенно берег легкий в работе, неубиваемый колун, оставшийся от деда. Раритетный, можно сказать, экземпляр. Случись чего – поди поищи такой.
И теперь, благодаря глупой жене, не удосужившейся спросить разрешения, чужой мужик самозабвенно колол дрова родным дедовым топором.
– Ты хоть поняла, что наделала? – зудел Ованес, периодически косясь на не в меру разошедшегося соседа – щепки от его стараний чуть ли не по всему двору летали.
Сатеник сначала пожимала плечами, потом не вытерпела, съязвила:
– Родину, что ли, продала?
Ованес чуть дар речи не потерял.
– Ты не родину продала, – засипел он, – ты конкретно надругалась! Надо мной и над моим инструментом!
И обиженный на жену, поехал на пасеку.
Путь пролегал мимо крохотной парикмахерской, которую на днях открыл внучатый племянник Жорик.
– Заглянем, посмотрим, как он там устроился, – тормознул Марлезона Ованес.
Жорик как раз стриг Гадрутанц Паро. Ованес поздоровался и бесцеремонно уставился на нее. Паро была очень некрасивой женщиной. Даже беспощадно некрасивой – огромная голова на короткой толстой шее, изрытое оспинами лицо, три поперечные волосинки. Жорик эти три волосинки старательно стриг.
– Ах как красиво, – время от времени восклицала Паро, изучая свое отражение в зеркале, – ах как красиво!
– Очень красиво, – соглашался Жорик, – очень!
Когда Паро, расплатившись, ушла, он обернулся к двоюродному деду и развел руками:
– А что я должен был говорить?!
– И то верно, – отмер Ованес.
– Нелегкая у него работа, – удрученно делился он потом с Марлезоном, – стриги и поддакивай, стриги и поддакивай. Бедный мальчик, так ведь самоуважение потерять можно.
Ованес с большой симпатией относился к Жорику. Тот напоминал его в молодости – такой же нескладный, с остро торчащим кадыком и непослушными кудрявыми волосами. Как раз в его возрасте Ованес и жениховался к Сатеник. К первому свиданию съездил в город, прикупил модные по тем временам брюки, попросил мать их погладить. Брюки были ультрамодные, с могучей амплитудой, называемой в народе солнце-клеш. Мать подивилась их странному крою, но ничего говорить не стала. Нагрела на дровяной печке чугунный утюг и старательно прогладила через влажную марлю.
Ованес в тот день никуда не пошел. Потому что сбитая с толку солнце-клешем мать нагладила по боковому шву брюк такие сокрушительные стрелочки, что влюбленный кавалер выглядел в них сущим скатом. Идти в таком виде он отказался и весь вечер скандалил с матерью. На следующий день оказалось, что зря скандалил. Потому что Сатеник на свидание тоже не пришла. Младший брат из вредности запер ее в погребе, и она проплакала там до поздней ночи, пока ее не выпустили вернувшиеся из гостей родители.
– Такое вот бездарное у меня получилось первое свидание. Глупые были, молодые, счастливые. Вся жизнь впереди, ничего не боишься, ни на кого не оглядываешься, хэх! – тяжело вздыхая, рассказывал Марлезону Ованес. И, вспомнив про колун, тут же рассердился: – Знал бы, что так выйдет, не женился бы на ней!
Какое-то время ехали молча. Потом Ованес опять заговорил:
– А еще знаешь, что я часто вспоминаю? Как меня ребенком дразнили. Аж песню сочинили: “Молодой Ованес под кобылу залез. А кобыла его обосрала всего”. Маленький был, обижался. Взрослым стал – смеялся. А теперь обратно обижаюсь. Видно, в детство впадаю. Что скажешь, Марлезон-джан?
Марлезон молча переступал копытцами по желтой дорожной колее и думал о том, что хозяин сегодня излишне говорлив. Не к добру это, волновался Марлезон.
Догадки его подтвердились на подступах к пасеке. Вместо того чтобы натянуть перчатки на лямках, хозяин закатал рукава рубашки. Распахнул калитку, отошел в сторону, впуская осла на пасеку. Запер тщательно калитку. Какое-то время переминался с ноги на ногу, бормоча под нос неразборчивое, словно наливался праведным гневом. Потом воздел кулак ввысь, потряс им и выкрикнул:
– Я вашу маму! Не родился еще в Бочканц-семействе человек, которого бы пчела положила на лопатки!
Уверенным шагом он направился к улью и бесцеремонно сорвал крышку. Первая же вылетевшая пчела ужалила его в руку. Вторая – в глаз. Третьей пчелы он дожидаться не стал, побежал к калитке. Споткнулся, рухнул ничком. Потерял сознание.
Марлезон заголосил. Но на соседних пасеках, как назло, никого не было.
Жорик бежал, на ходу развязывая парикмахерский фартук. Следом, прижимая к груди защитные перчатки на лямках, ковыляла Сатеник.
– Сынок, на меня не оборачивайся! – иногда выкрикивала она. Жорик оборачивался, но бега не замедлял:
– Бабушка Сато, вы ждите меня там!
Сатеник сгибалась, упиралась ладонями в колени. Отдышавшись, снова ковыляла за ним.
– Специально небось не взял! – всхлипывала она, теребя в руках перчатки.
Жорик столкнулся с мчавшимся к деревне Марлезоном на полдороге. Завидев его, осел резко затормозил и рванул обратно.
Ованеса, конечно же, спасли.
Пролежал он в больнице два дня. Очнувшись, первым делом спросил про свой колун. Цел или угробили?
– Да цел твой колун! – рассердилась Сатеник. – Ты лучше про Марлезона спроси. Он ведь копытами запертую калитку выбил! И в деревню помчался, чтобы на помощь позвать!
– Против своих принципов пошел, к закрытой калитке подошел! – прослезился Ованес.
Выписавшись, он сразу же вернулся к медовому промыслу. Надежды на то, что аллергия на пчелиный укус – легкопоправимое недоразумение, не терял. И не особо своих пчел остерегался. Смысл остерегаться, если не родился еще в Бочканц-семействе человек, которого можно было бы на лопатки положить!
Дмитрий Воденников Бедная моя царевна
1
В детстве было скучно, когда дождь. Когда гроза – нет, не скучно: я ее любил. А вот когда зарядит на несколько дней, мелкий такой, то пойдет, то перестанет – вот это скучно. Особенно на даче.
Сидишь, томишься, смотришь в окно. Тикают часы, шелестят старые газеты, бьется муха о стекло, смотрят со стен три медведя с картинки. Придет соседская собака Белка, запахнет в комнатах мокрой псиной. (Мне нравится этот запах.) Но сколько с мокрой собакой поиграешь? Да и она не бескорыстна. “Есть сахар?” – “Нет”. – “Досвидос”.
Выйдешь ее провожать во двор, в заросли сирени или в лесок. Чав-чав, чавкают резиновые сапоги. Кап-кап, капает с сирени или с леска на дождевик. Белка убежала, махнула на прощание хвостом. Прощай, неудачник, у меня таких, как ты, на каждом участке, и у них есть сахар! Ужасная тоска.
А сейчас не скучно.
Это меня всегда удивляло – во взрослых. Сидят в дождь, не мывшиеся целую неделю, лото там раскладывают или чай пьют. Попили чай – поспали. Поспали – телевизор посмотрели, обсудили Брежнева. Как их даже печаль не берет?
Пахнет из старого шифоньера духами “Красная Москва” и “Тройным” (хорошо от комаров), бабушкиной пудрой и тленом. Посидишь в бабушкиной комнате, посмотришь полчаса на плачущий сад за окном, опять пойдешь через мекающего Брежнева во двор. Там траншея. Это только в жаркие дни она траншея, а когда наполняется водой – могила. Вот мышка в ней утонула; если очень повезет, то целая белка. Только уже настоящая. Оскалилась мордочкой, сама жалкая, худая, как и ее смерть, мокрая. Быстрая белка, где твоя юркость?
…Но когда наступали хорошие дни, я выходил с сестрой ловить ящериц. Ну, конечно, это не мы ловили. Двое соседних парней (вообще-то им было лет по тринадцать, но они мне казались ужасно взрослыми) добывали нам с сестрой этих быстротекущих зеленых и черных пресмыкающихся тварей. Ящерицы грелись на залитом солнцем фундаменте, и надо было изловчиться и их поймать. За шею или за туловище. Если схватишь за хвост: раз, она его отбросит – и извивается этот ужасный червяк, вызывая судорогу отвращения, а сама жертва с красным обрубком вместо хвоста уже скрылась в широкой трещине.
Не знаю уж, ненавидели ли нас раненые ящерицы с ампутированными хвостами, следили ли ненавидящими черными глазками за смутными гигантами, бегающими по дорожкам и цветнику, смеялись ли над ними цельносохраненные товарищи, но ящериц мы ловить любили. Даже строили для них замки из песка. Но прежде всего – оборудовали банку.
Если всё живое лишь помарка За короткий выморочный день, На подвижной лестнице Ламарка Я займу последнюю ступень.Это одно из самых страшных стихотворений русской поэзии. По ламарковским ненаучным ступеням спускается Мандельштам во тьму, встречая попутно тех же ящериц.
К кольчецам спущусь и к усоногим, Прошуршав средь ящериц и змей, По упругим сходням, по излогам Сокращусь, исчезну, как Протей.Моя самая памятная ящерица тоже прошуршала и исчезла. Но сперва банка. Да, для нее была оборудована банка, я говорил. Высокая, из-под венгерских соленых огурцов. Банка была вымыта душистым мылом и сияла на солнце.
Туда, в эту прозрачную тюрьму, было напихано несколько камней, небольших, переливчатых, серых, чтоб ящериной царевне было привольно там жить (как будто может быть привольно жить в тюрьме). Накидано туда веток. Предполагалось, что мы туда будем впускать пойманных мух и комаров. А чтобы они не вылетели и сама принцесса не ускользнула, отверстие банки закрывалось марлей (для воздуха) и обматывалось резинкой. Живи – не хочу!
(Бедная будущая пленница, не успевшая выпустить хвост. Какая печаль тебя ждала. Скрести прозрачный, вдруг затвердевший воздух, видеть траву, землю, спасительный фундамент. Но не прорвать непонятную скользкую прозрачную стену, не вырваться из заточения. Хоть хвост десять раз отбрось.)
Роговую мантию надену, От горячей крови откажусь, Обрасту присосками и в пену Океана завитком вопьюсь. Мы прошли разряды насекомых С наливными рюмочками глаз. Он сказал: природа вся в разломах, Зренья нет – ты зришь в последний раз.И вот первую ящерицу поймали. Это для сестры. (Мальчикам она нравилась, понятно, что я тут был довеском. Но я-то свои права знал! “Теперь мне, теперь мне!”) Поймали и мне.
Это было чудовище. Огромное даже для своего отряда, жирное нечто, серого цвета (у Юли была блаженно черная, как Анна Ахматова), и вдобавок с хвостом земляного червя во рту. Он-то, червяк, ее, по-видимому, и сгубил. Сидела она на припеке, жрала червяка, не услышала, как крадется соседний мальчик Андрюша, не увидела боковым зрением, что уже занесена рука, – хвать, и попалась. Прямо с недоеденным обедом.
(Надо было бы проверить: слышат ли вообще ящерицы? И есть ли у них боковое зрение? Но мне сейчас не до этого. Вперед-вперед, печальная история моя! Насекомые с наливными рюмочками глаз уже жужжат в стеклянной темнице, ждут своего дракона.)
И вообще я думаю, это была не “она”, а самец. В общем, принцессой тут и не пахло.
– Поймайте мне другую! – прошептал я. Но дети жестоки. Их ждал обед: вкусная вареная картошка на дачной плите с газовым баллоном, присыпанная “своим”, прямо с грядки укропом, масло на бутерброде, салат из редиски, сарделька и на десерт – только что набранная миска клубники (у соседки Анны Иванны клубника вырастала раньше, она и нас угощала, бледных московских интеллигентов, у которых даже клубника вовремя не покраснеет).
– В другой раз! – сказали злые мальчишки и убежали. А я – остался со своим жирным серым принцем. И червем.
Он сказал: довольно полнозвучья, — Ты напрасно Моцарта любил: Наступает глухота паучья, Здесь провал сильнее наших сил. И от нас природа отступила — Так, как будто мы ей не нужны, И продольный мозг она вложила, Словно шпагу, в темные ножны. И подъемный мост она забыла, Опоздала опустить для тех, У кого зеленая могила, Красное дыханье, гибкий смех…Всё это, конечно, очень мило, но подъемный мост был не опущен не только для лирического героя стихотворения Мандельштама, но и для нас с ящерицей. И этот провал был сильнее наших сил, это точно. Это как с любовью. Вот ты ждешь ее, всё не находишь, и вдруг она пришла – и вроде взаимно, а вдруг сидишь напротив и понимаешь: зачем я здесь? почему с этим человеком? где я вообще? Мы смотрели друг на друга с пойманной ящерицей и понимали, что вместе нам не быть.
И выход был найден.
Я немного ослабил резинку на банке и приоткрыл марлю. Ящерица-самец судорожно задвигала отвратительными пальцами по стеклу, но открывшийся потолок был слишком высоко. “Рад бы в рай, да грехи не пускают”.
– Меньше надо было жрать! – сказал я в банку.
Тогда я пошел за камнями. Их было много, мой неродной дедушка, который и обеспечил нам эту незаслуженную генеральскую дачу, водил машину (тоже, кстати, редкость была). Вот машина и стояла у ворот, прямо на завезенном для этой стоянки гравии. Машина была “Волгой”, гравия под ней было много. Я набрал несколько камешков и вернулся к ненавистной банке.
“Вшшшик”, – сказал первый камешек и скользнул в темницу. Жирная ящерица в ужасе забилась к противоположному краю.
– Дура! Это путь к свободе!
Почему я просто не перевернул банку? Не знаю.
Наверное, в моей детской голове была мысль, что так нечестно. Почему честнее было добавлять по одному камню, открыв марлю, – для меня загадка. Но было именно так.
“Вшшшик”, “вшшшшик”, “вшшшик”. Скоро банка была полна наполовину.
Тяжело переваливаясь на криво растопыренных лапах, самец ящерицы с неизменным куском червяка во рту высунул морду из банки. Но подтянуться он не мог.
В банку были добавлены еще несколько камней.
Тогда неимоверным усилием ящерица все-таки извернулась, взгромоздилась на ободок тюрьмы и брякнулась прямо на прогретые доски крыльца. Свобода! Только мы ее и видели. Даже хвост в подарок оставлять не пришлось.
– А где ящерица? – спросили меня пришедшие с обеда соседские мальчишки.
– Она убежала, – с трагическим восторгом ответил я.
…Прошли годы. И теперь я сам отлично знал, что делать на даче в дождь. Куда-то идти? – зачем? Вот чай, вот вино, вот пряник. Правда, теперь на каждой даче душ, и “Красной Москвой” никто не пользуется. И “Тройной одеколон” или одеколон “Гвоздика” вполне себе заменили специальные пластины. Вставил их в устройство, всунул его в розетку, все комары ушли в осень, пригласили, так сказать, сами себя на закат.
И черт меня дернул однажды купить таксу. Вообще-то я хотел купить йоркширского терьера. А что, милое дело! Был бы как светская львица (лев). Но йорки стоили дорого, а у меня среди прочих телефонов собакопродавцов затесался и этот. “Милая веселая таксочка ищет хозяина!”
Я не хотел таксу. У моих друзей в Питере жил совершенно сумасшедший кобель, который не слушался даже хозяев. Гостей, как вы понимаете, он вообще не жаловал.
Когда я приезжал в Питер и селился у друзей, слушая шизофренический лай Гуни (а именно так звали пса) и крики “фу, нельзя, отдай!” его хозяев, я понимал, что если заведу себе собаку, то это будет кто угодно, только не такса.
В общем, веселая таксочка была обречена.
Так уж случилось, что мне надо было в этот день поехать на радио. Радио находилось на Ямском Поле, я живу совсем в другом конце Москвы, и вот всё время, пока я ехал и шел, я звонил по двенадцати телефонам с йоркширскими терьерами. Но то там цена была заоблачная, то надо было ехать смотреть щенят за город, то еще какая-нибудь другая напасть. А я уже приезжаю на свою станцию и иду по ярко освещенной родной улице, упадающей в закат. И остался только один телефон. Тот, выписанный непонятно зачем.
И я позвонил.
Так всегда бывает с твоей настоящей судьбой. Тебе ее не миновать. Ты можешь не пойти на ту вечеринку, где богом встречи было заготовлено пересечение с человеком, который войдет в твою жизнь, – значит, тебе подсунут вторую вечеринку, куда ты тоже не собирался, но зачем-то пришел.
Ты можешь всю жизнь бегать от рака и питаться правильно, и вести здоровый образ жизни, и не пить, и не курить, но в определенный срок ты обязательно заболеешь. (Или нет. Хоть обкурись и проваляйся всю жизнь на диване.)
От судьбы не уйдешь. Вот и я не укатился от нее, как обреченный на лису колобок.
– Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и я не собираюсь покупать у вас таксу! – так начал я разговор, и теперь мне странно, что на том конце несуществующего провода не положили трубку.
– И не надо, – был мне ответ. Так судьба всегда разговаривает, когда она Судьба.
Сияло солнце, мир был полон надежд, но не для меня: – Мы просто вам ее покажем, – опять сказал телефон. “Ты ее уже купил”, – догадалась моя тогдашняя подруга по телефону, и хотя я сказал “мне просто везут ее показать”, как сомнамбула я сходил по вечереющей земле в ветеринарный магазин и купил плошку. Зачем плошку? К чему? Снова загадка.
…Продавцы опоздали. Сперва сказали, что привезут в семь, потом перезвонили, что в восемь, привезли в десять. Я спустился в загустевшее уже лето, в темноту, в фонари, подошел к машине, держа в кармане 11 тысяч. Собачка стоила дорого.
– Извините, мы опоздали.
– Ничего, показывайте собаку.
Из какой-то корзины (кажется, из открывающейся задней части машины, а может, и с последнего сиденья, я не помню) хозяйка достала черную колбасу и показала мне. Я машинально погладил плоскую, как у змеи, голову. И черная колбаса потянулась ко мне.
– Ой, смотрите! Она вас выбрала!
Я знал, что она лжет. Кусок летней темноты (немного, правда, темнее самой темной ночной тени этого умершего уже дня) потянулся ко мне, потому что просто устал. Ехать полдня, копошиться в закрывающейся корзине, пищать. Но я взял этого щенка на руки. С каким-то сомнамбулическим отвращением протянул деньги, попросил пересчитать и ушел.
Когда я вошел в квартиру и поставил щенка на пол, он сразу же написал на паркет.
Начались наши адовые будни.
Я назвал потом таксу, которую поклялся никогда не покупать, Чуней.
Всего лишь одна буква.
Буква разницы.
2
Но сперва имени у нее не было.
“Вы должны помнить одно: собака не должна ни при каких обстоятельствах спать с вами. У нее есть место. Пусть там и спит. Когда вы уходите, щенка лучше всего запирать в клетку. Или, если вы хотите, чтоб у него было больше свободы, в вольер”.
Я не спал всю ночь. В прямом смысле этого слова. Не то что засыпал и просыпался. Я, как оловянный солдатик (только лежачий), не заснул ни на минуту. Нет, безымянная собака в кухне не визжала: я ее убаюкал, огородив тяжелыми коробками, организовав что-то типа манежа. Который она не перескочит, не сможет: она же маленькая. И очень гордился, что такой умный. Даже уже стал писать в уме первые страницы книги “Вы все дураки, а я великий кинолог”, прислушиваясь к могильной тишине через две двери.
Она спала без звука, и вдруг я поймал себя на мысли, что не сплю, потому что считаю: вот еще один час Кузя (или Машка, я еще не знал, что через два дня окончательно остановлюсь на глупом имени Чуня, которое похоже на валенок) благополучно проспала. А вот еще один. Вот у всех в первую ночь собаки кричат, стонут, плачут, и их, сломавшись на втором часу ора, берут в кровать или кладут рядом. На пол. Но у меня не забалуешь. Лежит за стеной и сопит в две дырки. (Наверное.)
Завтра будет ад, но хоть она выспится, – с неприсущим мне не-эгоцентризмом думал я.
Да, я знал, понимал, что часов в пять она меня разбудит утробным – похожим на кошачий вой – плачем. Но сердце у меня замирало от нежности. “Вот и третий час проспала”, – продолжал считать я.
Когда она завопила в пять с чем-то, я злорадно подумал: “А я как будто сплю. Всё равно не выберешься, я же завалил вход коробкой”.
Но всё же встал.
Открыл дверь.
Собака выла на пороге.
Как она перескочила заграждения, я не знаю. На полу желтела лужа. Пеленки, специально переданные мне бывшими хозяевами собачки для этого дела, были девственны.
После чего Кузя ходила за мной по пятам целый час, отказываясь какать и писать, несмотря на все мои мольбы.
И через час я вышел в магазин.
Стояло дивное прохладное летнее утро. Ровно шесть. Было свежо.
А я вдруг стал весь мокрый от пота, потому что при повороте на Егерскую вдруг подумал, что неплотно притворил дверь в комнату, куда Машку не пускаю, а в комнате открыт балкон.
Серьезной рысью я смотался до банкомата и снял все деньги.
Обратно я бежал.
…Теперь бы мне только дождаться десяти, и я куплю настоящий загончик и всё, что нужно. А нужно – многое.
К десяти привезли два манежа – тяжелые, сложные конструкции, типа решетки с четырьмя прямоугольными фракталами вверх. Только кошка на них заберется. Черепашка и собачка нет. Я огородил ими в кухне кухонный стол, придвинутый к стенке: у собаки получился дворец с крышей (там, в коробках, было постелено несколько одеял и даже положена подушка; забегая вперед – эту подушку собака описала в первую очередь) и с оградой. Дворец с решетчатым забором. Живи – не хочу. Кузя не хотела.
Я раньше думал, что ж это такое: “то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя”. Какая такая вьюга? Теперь я знаю, какая.
Чуня ухает, как гиена, кричит, как подкидыш, или рыдает, как Фаина Раневская (когда я ухожу), настолько громко, это слышно даже на первом этаже. И так радуется, когда возвращаюсь, что мне приходится ходить, как стреноженный китаец (боюсь наступить, а она всё мечется, она же маленькая). В общем, теперь я был какое-то бессмысленное, но суровое приложение к этой невротичке. Настолько – что когда во второй день я встречался с замечательной женщиной, продюсером, которая предложила мне два феерических поэтических проекта (ее идеи были совершенно невероятны и при этом в самое яблочко), – я так, видимо, бездарно принимал участие в разговоре, что она спросила меня: “Ты думаешь о собаке?”
– Нет, – слишком быстро ответил я.
Но ограда сторожила собаку крепко. Это я знал точно. И когда я бежал после встречи домой, я знал, что Чуня будет ждать меня на кухне, стоя в полный рост и вцепившись своими маленькими миленькими лапками в решетку.
Я ошибся.
Чуня встретила меня у входной двери. Извиваясь от радости. Но как?
И еще была одна загадка: Чуня не пахла.
Я очень люблю запах псины. И та дачная Белка, и другие собаки, которые жили после Белки у нас, – все они пахли сильно и остро. Чуня же была девственно щенячьей. И дело не в ее возрасте: она выросла и пахнет щенком до сих пор. Объяснение этому удивительному факту заключается в том, что у гладкошерстных такс нет подшерстка (кстати, у йорков его тоже нет), поэтому они до старости пахнут собачьим детством.
Но даже ее ангелоподобная природа не объясняла преодоления барьера, который был выше ее в два раза, даже когда она становилась на задние лапы. Ну не летает же она?
Поэтому я решил проверить.
В ванной комнате у меня есть внутреннее окно. Я даже читал когда-то, зачем в старых домах делали это застекленное большое окно между ванной и кухней. (Сейчас, впрочем, забыл зачем.) Вот оно и пригодилось.
Я посадил Чуню в вольер, сам вышел из кухни, вошел в ванную и, встав на край ванны, прильнул к стеклу.
– Чуня! – позвал я ее. – Иди сюда.
И тут я увидел всё. Чуня забегала по периметру, стараясь найти выход, чтоб устремиться на зов. Но выхода не было. Она стала прыгать на ограду, но ограда была слишком высока.
– Чуня! Иди сюда! Мне нужна помощь! – я продолжал свое требовательное пение.
И тогда Чуня, уцепившись передними лапами, стала карабкаться вверх. Как она это смогла сделать, мне до сих пор непонятно. Но я видел это собственными глазами: она уцепилась передними лапами за верхние твердые струны, поставила одну заднюю лапу на поперечное деление, потом вторую, еще раз переставила лапы, подтянулась и оказалась на самом верху. Спуститься оттуда таким же способом она, естественно, не могла. Поэтому она просто брякнулась. С высоты полуметра. Как мешочек с дерьмом.
У меня потемнело в глазах.
Через секунду Чуня уже прыгала на ванну.
Здравствуй, ящерица. Наконец-то я снова встретил тебя.
Татьяна Толстая Себастьян
Манолис установил на террасе, перед таверной, аквариум на четырех металлических ногах. До моря – каких-нибудь семь метров, так что посреди террасы растет тамариск – дерево, любящее соленую морскую воду. Аквариум стоит в чудесной резной тени тамариска, вода в аквариуме проточная, тоже морская. Мы как раз обсуждали, что это за шланг такой идет вниз, по камням, мимо придурошной чайки, которая ходит взад-вперед и никуда никогда не улетает, моряку суля тоску, – и скрывается в море. А это от аквариума шланг.
В аквариуме сидят лобстеры.
Может быть, они называются омары, или лангусты, или еще как-то, но Манолис сказал, что это лобстеры. Они коренастые, темно-бурые и пошевеливают множественными тонкими ножками, длинными усами, а толстенькие широкие хвосты у них всегда поджаты.
– Хотите лобстера? – спросил Манолис и захохотал, как он обычно хохочет – как лошадь. Мы любим Манолиса, а он, кажется, любит нас. Мы обычно едим у него и мало изменяем ему с другими рестораторами. Отчего же нас не любить?
Манолис всегда приветлив и хорошо улыбается. Всегда хохочет как лошадь. – И-и-и-го-го! – заржет и отойдет.
Но это такое дежурное, формальное ржание. Нельзя сказать, что ему весело. Только раз я видела Манолиса по-настоящему счастливым. Это было пару лет назад. Я думала, что у него сын родился, или что-то оглушительно прекрасное с ним случилось. Женился, может быть. Вчера еще не женился – а сегодня, гляди, сияет и вибрирует – весь, всем лицом и организмом. Лицо прямо-таки мелко дрожит, не в силах сдержать счастья. Глаза золотые от восторга!
– Что, Манолис?..
Он схватил меня за руки и сжал их в своих – от полноты чувств.
– Автобус, автобус!.. – Оказалось, что весь автобус, все латышские туристы, все 17 человек заказали у него рыбный суп. Еще полдень не пробил, а дневная выручка была выручена.
– Лобстера хотите заказать? – заржал Манолис.
– Ну, как-нибудь… не сейчас…
Во-первых, дорого. Во-вторых, ну, как-то я не люблю есть того, с кем я знакома. А я с ним знакома, можно сказать: я прихожу на террасу, барабаню ногтями по стеклу, и лобстеры пугаются. Шевелят своими множественными ножками. Их, наверно, как-то зовут, лобстеров. Например, Себастьян, Хоакин и Эрменегильдо. Почему нет-то? Вот в булочной, в клетке, сидит попугай, постоянно изображающий прибытие мотоцикла, визг автомобильных тормозов, хлопанье дверцами и женский недовольный голос с попреками, – у него же имя есть? И не буду же я есть попугая?
А сегодня мы обедали, и за соседним столиком тоже обедали, и вдруг я смотрю – официант принес кого-то на блюде и показывает: этого?..
А немцы (тут всё немцы) говорят: да, хорошо, этого. А это был Себастьян.
Нет, нет, я не ханжа, и не вегетарианка, и вообще я ела рыбный суп, а мой спутник ел бараний кебаб, да и вообще, что тут говорить, не возражать же. Но я зачем-то посмотрела глазами вбок, и он сидел на блюде, шевеля этими своими множественными ножками, темно-бурый, поджавший широкий хвост, и я зачем-то, почему-то почувствовала его ужас, его понимание того, что это – всё, это конец.
Это с ним первый раз так. И последний. На блюде, под качающейся тенью тамариска, в семи метрах от моря, в пляшущей тени. Это наш Себастьян. Что вы делаете-то? Это наш Себастьян!
А официант унес его на кухню, довольный. Хороший, дорогой заказ. Я вот тоже ела рыбный суп, а точнее, буйябес, и я совершенно не ханжа! – и в супе были кальмар и ракушки – ну это ладно, мелочь безымянная, – и целая большая креветка, размером с рака, которая тянула на Маришу или Иришу, или на целую даже Светлану Леонидовну, а я ее ела. Мертвая лежала Светлана Леонидовна, с белыми вареными глазами, и всем ее планам на дальнейшее пришел окончательный конец.
И на минуту мне открылось то, что совсем не должно открываться никогда и никому: вся эта их боль, и крики, и ужас перед кипятком и ножами, и томатными соусами, и розмарином из крошащих пальцев, или что там в эти супы кладут?
Принесли Себастьяна, уже красного и неподвижного. Длинное такое, овальное металлическое блюдо, на нем Себастьян, потом зачем-то спагетти в томате, потом лимон и еще какая-то нарядность.
Немцы поковыряли его, но он как-то не пошел. Макароны лучше пошли. Они делили между собой макароны, поднимали их на вилке, будто взвешивая, солнце просвечивало сквозь них. Красивое вечернее солнце.
А Себастьяна они оставили на блюде, разворошенного. Ножки его торчали, вытянутые вперед, будто бы он о чем-то просил.
– Лобстер – нет? – спросил Манолис и немножко заржал. И его унесли, лобстера этого. И подали кофе.
Александр Генис Путь кота
1
Любовь, помнится мне, – вид болезни. Липкий туман в голове и головастая бабочка в желудке. Злость, недоверие, ревность и бескрайний эгоизм: твое счастье в чужих, да еще и малознакомых руках. Другой человек – источник страдания не в меньшей степени, чем наслаждения, потому что, влюбляясь, мы больше всего боимся потерять того, кого еще не обрели, страшимся показать себя с плохой, как и любой другой, стороны.
Однако кроме обычной любви есть еще и нечеловеческая. Могучая и безусловная, она не торгуется, ничего не требует и всё прощает.
– Так, – говорят мне одни, – Бог любит человека.
– Так, – говорят мне другие, – человек любит Бога.
– Так, – отвечу им, не таясь, – я любил своих котов.
Конечно, “своими” я мог их назвать лишь потому, что у котов обычно нет фамилии и они пользовались моей во время визита к ветеринару.
Поскольку кот, как доказала наука, существо непостижимое, постольку я не мог настаивать на обоюдности наших чувств. Мне достаточно того, что они не против. В сущности, коты служили мохнатыми аккумуляторами любви столь бескорыстной, что ее и сравнить-то не с чем. Остальных – от детей до родины – мы любим либо за что-то, либо вопреки. Но с котов взять нечего, поэтому я любил их просто потому, что они есть.
Тем более что мои мышей не ловили. Да и зачем мне мыши? Мне нужна чистая – не разбавленная страстью, выгодой и самолюбием – любовь. Чтобы пережить ее, нам, как Богу, надо сделать шаг назад, вернуться на землю и склониться перед тварью размером с нашу любовь. С этой – божественной – точки зрения у котов – идеальные габариты. У них есть свобода воли, но они ею злоупотребляют. У котов хватает ума, чтобы с нами не говорить. Они знают, чего хотят, и уж точно нам не завидуют.
– Только межвидовая любовь, – решусь заключить, – бывает счастливой без взаимности.
2
Первый кот в моей жизни явился на свет чуть ли не со мной – я его помню столько же, сколько себя. Честно говоря, он был лучше. Громадный, жгуче черный, но с белым галстуком, он походил на Бегемота, но я еще не дорос до букваря, а советская власть – до Булгакова. Свое имя он получил по имперской неграмотности. Мы думали, что Минька – это кот по-латышски, на самом деле – это значит “кис-кис”. Ему было всё равно. Он снисходил до общения с нами, как и положено богу. Меня, самого маленького, он выделял из всей семьи и гонял по бесконечному коридору коммунальной квартиры. Я опасливо обожал своего мучителя, как некоторые любили строгую советскую власть или капризную балтийскую погоду.
За размеренным ходом совместной жизни Минька наблюдал, довольно прищуриваясь, что свойственно всем котам в мертвый сезон. Но весной он забывал, как нас звали, и начинал томиться – как, собственно, и все мы. Только он был куда более настойчивым и красноречивым. Наказывая нас за непонятливость, Минька мочился куда придется, включая тапочки отца и портфель старшего брата, который и без того плохо учился. Меня, как бесправного, он не преследовал, но остальным доставалось до тех пор, пока мы не примирялись с природой и не отвозили его на еще пустую, холодную дачу в Дзинтари. Добившись своего, Минька исчезал, не прощаясь. Вновь домашним, отощавшим и счастливым он возвращался к нам летом и прыгал на колени к отцу, делавшему вид, что читает “Братьев Карамазовых”. На заборе, в кустах жасмина, еще сидели уличные кошки. Но Минька, отдав должное инстинктам, до следующей весны предпочитал цивилизованный образ жизни. Регулярно чередуя загулы с ленью, он, как греки, учил меня чувству меры. Но я был глух к голосу разума, на что жаловались в школе.
– Мяукал даже на уроке, – писали учителя в моем дневнике.
3
Смерть Миньки была первой утратой в моей жизни, и я тосковал по нему уже в Америке, пока у нас не появился сибирский Геродот. Я знал его родителей. Отец, Тимофей, был размером с овцу, мяукал басом и заслонял собою дверной проем, пуская в дом тех, кто его гладил. Мать – Ромашка – даже среди кошачьих отличалась хрупкой красотой.
К встрече с ним я готовился всерьез и долго, ибо она пришлась на буддийский этап в моей эволюционной кривой. Побывав в Японии, я выяснил (из голливудских фильмов), что воспитывая человека-ниндзя, ребенку дарят котенка.
– Подражая ему, – гласит молва, – дитя перенимает кошачью грацию, вкрадчивость и безжалостность.
Я не собирался учиться на невидимку, мне понравился сам проект. Дело в том, что каждый кот – буддист. Человек, в сущности, тоже, но кошкам и стараться не надо. Поэтому способный к сосредоточенному созерцанию, не нуждающийся в одобрении, глухой к порицанию, самодостаточный и всем довольный комок шерсти стал моим наставником, идеалом, любимым литературным персонажем, а главное – инструментом теологического познания. Убедившись, что мне не удается найти Бога, я ставил опыты на животных, точнее – на одном, отдельно взятом сибирском котенке с пышным историческим именем Геродот.
– Прелесть кота, – вывел я, – не в том, что он красивый или, тем более, полезный. Прелесть его в том, что он – другой.
Это предельно важно, ибо только в диалоге с другим мы можем найти себя, выйдя за собственные – человеческие – пределы. Обычно человек помещает другого выше себя. Другим может быть гегелевский Абсолют, или библейский Бог, или Великая природа, или Пришелец, или – даже – неумолимый закон исторической необходимости. Геродот преподавал урок теологии, вектор которой направлен не вверх, а вниз.
В определенном смысле общаться с котом – всё равно что с Богом. Нельзя сказать, что Он молчит, но и разговором это не назовешь: то десятку найдешь, то на поезд опоздаешь. Сравнение это тем более кощунственное, что в отношениях кота с хозяином ясно, Чью роль играет последний.
Конечно, у каждого из нас был свой голос, который становился бесполезным лишь при нашем общении. Но именно взаимонепонимание и делало его таким увлекательным. Не только кот для меня, но и я для него – тайна. С немотой, однако, он справляется лучше нас. Если мы в молчании вышестоящего видим вызов, упрек или безразличие, то лишенный общего с людьми языка Геродот научился обходиться без него. Полностью доверяя среде своего обитания, Геродот не задавал ей вопросы. Я для него был силой, дающей тепло, еду, ласку. Подозреваю, что он, словно атеист или язычник, не отделял людей от явлений природы. Как солнце, как ветер, как свет и тьма, для него мы были постижимы лишь в том, что имело к нему отношение.
Геродот не отрицал существование того, что выходило за пределы его понимания. Нельзя сказать, что он игнорировал всё непонятное в его жизни – напротив, кот охотно пользовался им, хотя и не по назначению. Геродоту не задумывался над целью и смыслом огромного количества вещей, которые его окружали, его не касаясь. При этом, будучи чрезвычайно любопытным, Геродот всякую закрытую дверь воспринимал с обидой, но по-настоящему его интересовали лишь перемены. Кота, как Конфуция, занимало не дурное разнообразие “десяти тысяч вещей”, а их концы и начала: не было и вдруг стало. Его волновал сам акт явления нового – ветра, гостя, посылки.
Геродота было очень трудно удивить. Испугать легко, но вот поразить кошачью фантазию мне так и не удалось. В жизни Геродота было так много непонятного, что в ней не осталось места для фантастического – ежедневная порция незнакомого казалась частью обыденного.
4
Между тем Геродот вырос из котячества, и я счел, что он готов к своей роли экспериментального животного. Если коварный Минька открыл мне зло, то на Геродоте я хотел опробовать добро, как известно Кто. Я пошел на это, хотя коты вовсе не созданы по нашему образу и подобию. У них, например, совсем нет талии. Еще удивительнее, что они никогда не смеются, хотя умеют плакать от счастья, добравшись до сливочного масла. И всё же ничто человеческое котам не чуждо. Так, раздобыв птичье перо, Герка мог часами валяться с ним на диване, как Пушкин. Но я прощал ему праздность и никогда не наказывал. Только иногда демонстрировал меховую шапку, а если не помогало, то зловеще цедил: “Потом будет суп с котом”.
Чаще, однако, я мирно учил его всему, что знал. Стараясь, чтобы Геродот жил как у бога за пазухой, я с самого начала объяснил ему суть эксперимента.
– Звери не страдают. Они испытывают боль, но это физическое испытание, страдание же духовно. Оно и делает нас людьми. Значит, задача в том, чтобы избавиться от преимущества. Мудрых отличает то, чего они не делают. Лишив себя ограничений, мы сохнем, как медуза на пляже.
Услышав о съестном, Герка открыл глаза, но я не дал себя перебить.
– Запомни, – твердил я, – мир без зла может создать только Бог, или человек – для тех, кому он Его заменяет.
Дорога в рай для Геродота началась с кастрации – чтобы не повторять предыдущих ошибок. Спасая кота от грехопадения, я предоставил ему свободу. В доме для него не было запретов. Он бродил где вздумается, включая обеденный стол и страшную стиральную машину, манившую его, как нас Хичкок. Считая свой трехэтажный мир единственным, он видел в заоконном пейзаже иллюзию, вроде тех, что показывают по телевизору.
Но вскоре случайность открыла ему, что истинное назначение человека – быть ему тюремщиком. Однажды Герка подошел к дверям, чтобы поздороваться с почтальоном, и ненароком попал за порог. Он думал, что за дверью – мираж, оказалось – воля.
Геродот знал, что с ней делать, не лучше нас, но самое существование ее было вызовом. Он бросился к соседскому крыльцу и стал кататься по доскам, метя захваченную территорию.
– Толстой, – увещевал я его, – говорил, что человеку нужно три аршина земли, а коту и того меньше.
Но оглядывая открывшийся с крыльца мир, Герка и сам понимал, что ему ни за что не удастся обвалять его весь. Он напомнил мне одного товарища, который приехал погостить в деревню только для того, чтобы обнаружить во дворе многоведерную бочку яблочного вина. Трижды опустив в нее литровый черпак, он заплакал, поняв, что с бочкой ему не справиться.
Герка поступил похоже: он поджал хвост и стал задумываться, тем более что, боясь машин, я не выпускал его на улицу. Это помогло ему обнаружить, что сила не на его стороне. Прежде он, как принц Гаутама в отцовском дворце, видел лишь парадную сторону жизни: я всегда был послушен его воле. Но теперь Герка стал присматриваться ко мне с подозрением.
Я догадался об этом, когда он наложил кучу посреди кровати. Этим он хотел озадачить всех так же, как я – его. Куча не помогла, и Герка занемог от недоумения. Эволюция не довела котов до драмы абсурда, и он не мог примириться с пропажей логики. Вселенная оказалась неизмеримо больше, чем он думал. Более того, мир вовсе не был предназначен для него. Кошачья роль в мироздании исчерпывалась любовью, изливавшейся на его рыжую голову.
Пытаясь найти себе предназначенье, Геродот принес с балкона задушенного воробья. Но никто не знал, что с ним делать. Воробья похоронили, не съевши.
От отчаяния Герка потерял аппетит и перестал мочиться. Исходив пути добра, он переступил порог зла, когда пришлось увезти его в больницу.
Медицина держится на честном слове: нам обещают, что, терпя одни мучения, мы избежим других. Ветеринару сложнее. Для кота он не лучше Снежневского: изолятор, уколы, принудительное питание. Неудивительно, что когда через три дня я приехал за Геродотом, он смотрел не узнавая. В больнице он выяснил, что добро бесцельно, а зло необъяснимо.
Мне ему сказать было нечего. Я ведь сам избавил его от грехов, которыми можно было бы объяснить страдания. Теодицея не вытанцовывалась. Я обеспечил ему обильное и беззаботное существование, оградил от дурных соблазнов и опасных помыслов, дал любовь и заботу. Я сделал его жизнь лучше своей, ничего не требуя взамен. Как же мы оказались по разные стороны решетки?
Этого не знал ни я, ни он, но у Геродота не было выхода. Вернее, был: по-карамазовски вернуть билет, сделав адом неудавшийся рай. Он поступил умнее: лизнул мне руку и прыгнул в корзину. Ничего не простив, он всё понял, как одна бессловесная тварь понимает другую.
5
Много лет Геродот верно служил мне пособием по практической метафизике. Я каждый день у него учился, не уставая поражаться буквально нечеловеческой мудрости. Геродот ничем не владел и всем пользовался. Познавая мир, он употреблял его с тем аристократическим эгоизмом и произволом, который доступен мушкетерам Дюма и алкашам Венички Ерофеева. Принимая вызов гречневой крупы или рождественской елки, Геродот, словно Дон Кихот, не сдавался, не одолев противника.
Я упорно изучал на нем пределы своей реальности и возможности выхода за ее границы. Принимая свою роль, он вел себя непредсказуемо, как случай, и относился ко мне как к ущербному богу. Я кормил, но диетическим, не закрывал двери, но не выпускал во двор, чесал за ухом, но таскал к ветеринару, понимал его, но с грехом пополам. От нашего общения я, написав о нем десятки страниц, получал больше него, но он не жаловался, беря гонорар сметаной.
Семнадцать лет Герка терпел, а потом умер, чего я ему до сих пор не простил.
Траур, как и велел Конфуций, продолжался три года, а потом, страдая от дефицита межвидовых отношений, я вновь вступил в них. Ведь без кота жизнь не та. Сравнивая нас с ними, невольно приходишь к выводу, что люди слишком одинаковые, а от кошачьих нас отделяет пропасть.
Новые коты разительно отличались от Геродота прежде всего тем, что их было два. Они получили имена, составляющие философскую пару и исчерпывающие вселенную: Инь и Ян.
Правда, тут не обошлось без культурологического насилия. Неотразимые абиссинцы не имели ничего общего с Китаем. Они походили на египетских кумиров, потому что служили им прототипами. Самая древняя порода кошачьих сохранила их облик без перемен со времен первых династий. Но юные кошки пришли к нам без исторического багажа и отличались легкомыслием.
Особенно – Ян. Он живо напоминает любимого актера моей молодости Савелия Крамарова, каким он был до того, как переехал в Америку и вылечил косоглазие. Отличаясь безмерным любопытством, Ян постоянно бродит по дому с тем простодушным выражением, которое в переводе на человеческий означает “А чего это вы тут делаете?”. Инь походит на Аэлиту. Худая и элегантная, она томно открывает огромные янтарные глаза и глядит ими прямо в душу. Янка нежно пищит, притворяясь птенцом, Инька берет низкие ноты с хрипотцой, как Элла Фицджеральд.
Впрочем, кошки разговаривают исключительно с нами, людьми, а между собой общаются телепатически. Где бы ни оказывался Ян, рядом с ним с вежливым секундным опозданием появляется Инь. Связанные невидимыми нитями родства, они, изображая кавычки, в рифму сидят на подоконнике, на диван укладываются, как ян и инь в корейском флаге, и вместе обедают в любое время суток.
Иногда без всяких (на мой взгляд) причин кошки учиняют жуткую драку. Сцепившись на ковре, они катаются словно поссорившийся сам с собой двухголовый дракон. Схватка проходит в абсолютной тишине, что делает ее еще более непонятной. Тем более что, вдруг начавшись, драка кончается не победой или поражением, а взаимным вылизыванием ушей. Не в силах разобраться в природе этих конфликтов, я не вмешиваюсь, а наблюдаю, ибо на этот раз решил с помощью котов изучить весь спектр общественных наук, начиная с политических.
Ян вел себя нахраписто. Инь была умнее, не лезла на рожон, но первой начинала схватку, вцепляясь брату в горло, если не успевала – в хвост. Но больше всего меня интересовало их отношение к нам, людям. Они полюбили играть с нами, например, в футбол – два на два без вратаря. В мороз им нравится спать под мышкой, ночью – будить приступами нежности или щекоткой. Подозреваю, однако, что, быстро сориентировавшись на местности, коты принялись плести заговор, умело дозируя ласку и разлучая меня с женой. Стоило им нагадить – разбить чашку, напиться из унитаза или оборвать лепестки – как они стремительно неслись в поисках защиты к тому, кто не заметил проделки. При этом наша раса в целом не вызывает у них большого энтузиазма. По телевизору они соглашаются с нами смотреть только мультфильмы про зверей, на худой конец – “Маугли”.
Неудивительно, что Ян и Инь раскусили нас раньше, чем мы их. Один кот непостижим, но с ним мы хотя бы общаемся тет-а-тет, как с Богом. Два кота меняют социальную динамику и на порядок усложняют взаимопонимание. Взяв Иньку на руки, надо всегда иметь в уме Яна, который вскакивает на плечи и кусает в лысину. Я еще не понимаю, что он хочет этим сказать, но собираюсь узнать, посвятив дешифровке чужой ментальности остаток жизни.
В конце концов, у нас нет задачи более важной, чем понять себя с кошачьей помощью.
– Собаки ничуть не хуже, – скажут мне, и я не стану спорить.
Они, скажем, незаменимы для сюжета уже потому, что верно ему служат и охотно подсказывают. Долго проживет герой вестерна, пихнувший собаку? Выйдет ли замуж героиня за жениха, согнавшего пса с кресла? Станем ли мы сочувствовать зайцу, если за ним гонится роскошная борзая?
Но кошки не годятся для сюжета вовсе. Во-первых, они не пойдут с вами на охоту – нужны мы им, как же. Во-вторых, коты не делают того, чего от них ждут. Они вообще редко что-нибудь делают и никогда для нас. Мы любим их лишь потому, что они есть, да еще у нас.
– Собака, – скажу я, подводя итог, – друг человека, кот – его альтернатива.
Яна Вагнер Блаженны нищие духом
Вообще-то боксеры – красивые собаки. Лоснящиеся красавцы, мускулистые медалисты. Классического боксеровода я вижу так: гордец с задранным носом. Когда-то я и сама была гордецом, но потом мы зачем-то решили больше не покупать щенков, а вместо этого брать домой взрослых из приюта, и с тех пор позоримся даже в ветклиниках.
Представьте очередь на прививку, в коридоре небольшая толпа. Какой-нибудь шелковый пекинес, две белозубые овчарки и золотистый ретривер, расчесанный на пробор. И мы. Атрибуты сиротской жизни не спрячешь – торчащие ребра, негнущиеся лапы, слезящиеся глаза. Вся очередь сторонится нас, во взглядах чудится “господи, довели собачку”. Рассматривая наших питомцев, дети иногда плачут, и бессмысленно объяснять, что через полгода любви и домашней еды всякий сирота непременно превратится в наглого обжору с блестящей шерстью, и надо просто подождать. Мы и не объясняем. Молча сидим в коридоре ветеринарки с красными горячими ушами, пристально изучаем телефон. Какой-нибудь мальчик громко спросит у бабушки: а почему эта собачка так странно сидит? Бабушка обнимет холеного красавца-бультерьера (или огромного вислоухого дога, или просто положит руку на кошачью переноску) и укоризненно вздохнет. Температура упадет еще на пять градусов. Шансы встретить ту же самую бабушку спустя полгода, предъявить ей бывшего сироту и оправдаться – ничтожны.
Тем более что теперь у нас есть Веня. Увидев Веню, все бабушки мира проклянут нас и через год, и через пять лет, потому что над его сиротской харизмой время не властно вообще.
Он приехал к нам четыре года назад, в феврале. Странный белый пес с обмороженными ушами, который не улыбался, не смотрел в глаза и не вилял хвостом, а вместо этого долго бегал кругами по нашей гостиной, задирая передние ноги высоко, как кремлевский курсант, и по-птичьи тряс головой, а потом уперся лбом в стену и замер, и не хотел оборачиваться. Он испугался нас, а мы – его, мы таких не видели никогда, но деваться было некуда: за бортом минус 20, в приюте неотапливаемые вольеры, а больше никто его не хотел.
Назавтра выяснилось, что он не умеет лаять, через раз падает с лестницы и при попытке обойти стул обязательно сносит его плечом. Что садится он трудно, враскачку, не может лежать на боку и даже пьет медленно и странно, как будто чужим языком.
В первый же день он сунул лицо в камин и спалил себе все усы и брови. Влез в душевую кабину и не нашел выхода, потому что не смог развернуться. Попытался сесть и упал на спину, как черепаха. Застрял головой в перилах веранды, пришлось бежать и вынимать.
Леденея, мы ходили за ним по пятам и думали – инсульт? Травма позвоночника? Или, может, он просто слеп на один глаз? Глядя, как он мчится к нам иноходью на прямых ногах, похожий на собаку-Франкенштейна, сильнее всего хотелось осенить его крестным знамением и быстро закрыться в другой комнате, но делать это было неловко. И потом, надо же было разобраться.
Две недели мы возили его по разным врачам, делали рентгены и УЗИ, показывали хирургу и офтальмологу, а в остальное время поднимали его, отряхивали, выпутывали из перил и чистили ему лицо (у белых собак очень маркие лица). Однажды он пришел к нам со стулом на спине, потому что шел сквозь стул и застрял. По утрам он стоял возле нашей кровати и мычал, не открывая рта, протяжно и глубоко, как печальная корова. И еще у него появилось имя – Веня. Когда две недели подряд смотришь на кого-то не отрываясь, без имени не обойтись.
Мы заметили, что он не любит оставаться один и ходит, везде терпеливо ходит за нами следом, как варан. Толкает незакрытую дверь в ванную, караулит под лестницей. Обернешься – а там вечно тревожное белое Венино лицо. Заметили, что, как и все диккенсовские сироты, он голоден постоянно и к миске мчится так, словно это святой Грааль, но если протянуть ему на ладони кусок сыра, возникает пауза секунд в десять, и в наступившей тишине слышен лязг и скрежет, с которым проворачиваются шестеренки в Вениной голове; правую переднюю ногу вперед, трудно думает Веня, не шевелясь, или левую заднюю? Ног слишком много, и восторг мешает ему сосредоточиться. Зато если оставить незакрытой пустую бочку из-под собачьего корма, спустя четверть часа она оказывается опрокинута, и в ней уже лежит Веня, потрясенный и счастливый, и шумно дышит внутри синих пластиковых боков, как Дарт Вейдер. Покинуть бочку по собственной воле он не в силах.
Что если сесть на корточки и расставить руки в стороны, он летит в объятия как пуля, как пушечное ядро, но почти всегда промахивается и пролетает мимо, и стучится головой в стену или диван. Что, падая с лестницы, он застревает, проваливается нижней частью тела между ступеней и висит сколько нужно, вцепившись когтями в мягкое дерево. Не кричит, не зовет нас, просто ждет, пока мы его спасем. Когда кто-то так в тебя верит, соскочить уже нет шансов. Ты просто раз в полчаса как миленький бегаешь проверять лестницу.
Много раз в первые дни мы обсуждали разные версии его происхождения, и сильнее прочих нам понравилась одна: не было никакого приюта, никаких бывших хозяев. Всё случилось неподалеку от нашего забора, у нас тут полно неучтенных ничейных мест. Ночь, тьма, заросшее сорняками поле, и внезапно с лязгом сверху – голубой сноп света, освещающий слежавшийся снег, черную прошлогоднюю траву. И материализуется Веня.
Его пытались, конечно, замаскировать под собачку, но явно у них под руками была картинка, а настоящих собак они не видели никогда. В мелочах, кстати, и внешне не всё гладко. Все-таки как ни крути, а глаза смотрят в разные стороны, и время от времени моргает сначала правый, потом – левый. Явный сбой в программе. С начинкой и вовсе беда: лаять не умеет, забывает открыть рот. Если сидит, то на собственном хвосте. Ходит на цыпочках. И наконец, самый серьезный прокол: он просвечивает на солнце, весь. Ладно бы только уши, этим грешат многие блондины, но чтобы ноги? Живот?
Выслушав эту теорию, посмотреть на Веню приехали наши друзья и сказали: да у него скафандр просто не отрегулирован. Что вы за люди такие, сделайте вид, что не заметили, хватит смущать парня. А мы и правда стали смеяться сорок раз в день. Пятьдесят. Мы вообще довольно смешливые, но чтобы сорок отдельных раз в сутки хохотать – нет, такого с нами не было никогда.
Словом, за неделю до приема у звездного собачьего невропатолога мы позвонили маме и сказали: мам, не сердись, но мы решили его оставить. Ха, сказала мама. Кто бы сомневался.
Если перевести заключение МРТ на обычный язык, оказалось, что у юного нашего друга недоразвит мозжечок. Не было ни травм, ни инсультов, он сразу таким родился. Выводя собачьи породы, человечество сотни лет увлеченно сражается с эволюцией, закрепляя любые странные свои капризы вроде формы ушей или оттенка шерсти, и в результате этой борьбы такие, как Веня, иногда вываливаются из конвейера. Бракованные с рождения. Не секрет, что белые боксеры часто оказываются глухими. В Венином случае природа просто нанесла ответный удар посильнее и отняла у него координацию движений.
Честно говоря, мы даже почувствовали облегчение. Ну подумаешь, мозг не вырос; половина планеты примерно в том же положении. Он-то всего лишь лает с закрытым ртом, падает со ступенек и раз в два дня сжигает собственные усы в камине, а многие ухитряются занимать серьезные посты, выступать по телевизору, писать статьи и законопроекты.
Мы, конечно, всё равно спросили – и что теперь? Как отращивать мозг? Надо ли лечить?
Веню не надо лечить, сказала доктор. Веню надо любить.
И тут мы поняли, что с этим как раз уже всё хорошо. Это у нас получилось само собой.
Природу любви, конечно, понять невозможно.
К нашим годам практичные люди ни пальто уже белых не заводят, ни машин, а тут нам достался целый белый Веня. Подмосковные суглинки пачкали Веню снизу и до колен. Каминная топка, где временами нет-нет да и печется шашлык, пачкала Венино лицо снизу. А потом мы затеяли стройку, и вдоль борта у Вени появились липкие смоляные следы, ну что делать, оказалось, он любит прижаться щекой к оцилиндрованному бревну. Отряхиваться он не умел, как-то это связано с нарушением равновесия, и восстав из пепла и опилок, Веня ходил как есть, во всей своей первозданной красе прямо по нашей гостиной, среди диванов, журнальных столиков и дорогущих трехметровых штор.
К тому же он был огромен и мускулист. Большая голова, длинные ноги и широкая грудь, и все мышцы постоянно в тонусе, это тоже связано с мозжечком. Если удачно подпереть Веню балконными перилами, он выглядел как киноактер Ченнинг Татум (мужественное лицо, кубики на животе), но любоваться следовало молча, ничем не выдавая восторга, потому что, заслышав ласковое слово, Веня пытался броситься с балкона вниз, в объятия, и на прямых ногах летел со ступенек. И мы зашили все лестницы снизу фанерой, чтобы он не падал насквозь, и привыкли просыпаться среди ночи, чтоб вскочить и поправить Веню, у которого в голове кувырнулся водяной уровень, отвечающий за верх и низ, и который бился, как опрокинутый на спину жук, размахивая четырьмя могучими ногами в воздухе, снимая стружку с наших деревянных стен.
Однажды к нам приехала красивая рыжая женщина в белой куртке с меховым воротником, и Веня робко бродил, бродил вокруг воротника, а затем аккуратно взял его в зубы и понес жениться. Мы обернулись и поглядели на него (он отступал, пятясь, держа воротник в зубах, не верил своей удаче), и красивая женщина решительно встала и оторвала меховой воротник от своей куртки, и подарила его Вене навсегда.
Потому что единственный Венин бесспорный талант – заставлять таять слабое человеческое сердце – неожиданно перевесил все неудобства и хлопоты, возникшие с его появлением. Мы просто научились вовремя отодвигать стулья, быстро вскакивать, чтоб распахнуть опасные двери, без сожалений жертвовать меховыми воротниками и пять минут ждать с сыром на ладони, не двигаясь с места, безо всяких усилий. Просто из любви.
Любить кого-то, чьи радости просты (еда, тепло, приязнь незнакомцев и, может быть, еще твои покаянные поцелуи, хотя в ценности последних ты никогда до конца не уверен), – легко. Нет, правда, легко и весело, и в то же самое время очень больно, как будто боль только усиливает любовь; как будто любви без боли вообще не бывает.
Больно было смотреть, как, прежде чем броситься в погоню за счастьем, Веня всякий раз замирает. Собирает свои громадные мышцы, напрягается весь целиком, до кончиков ушей, до пальцев ног. Растопыривается, деревенеет. Бегать ему всегда было непросто, и при этом он искренне ждал от Вселенной добра, так что это была судорога счастливого предвкушения. Но всё равно – судорога.
И мы смотрели на Веню, который бежит на негнущихся ногах, взволнованный и счастливый, за громыхающим в миске кормом, лежать на солнечной веранде или навстречу гостям. И всегда, абсолютно всякий раз тяжелая двустворчатая дверь гостиной неожиданно, прямо посреди радости била его в лоб или в плечо. С размаху. Иногда это напоминало дружеский хлопок, а в другие дни это был недружелюбный болезненный удар, и всякий раз Веня охал и терял равновесие, на крошечную долю секунды тормозил, но счастье близко, достижимо, глупо не бежать дальше, вот же оно, вот! И он бежал – неомраченный, безмятежный, не оборачиваясь. Прямо на бегу прощая подлую дверь. Два, три, четыре года подряд мы наблюдали за тем, как бог упорно, раз за разом испытывает его. Потому что дело ведь было не только в двери. Была еще, например, лестница, ведущая в сад, которую нельзя миновать и которая дергалась у Вени из-под ног и лупила его по голове коваными перилами всегда, обязательно, много раз за день, без выходных. И даже когда он просто сидел, тихо сидел на попе и никого не трогал вообще, вероломная, непредсказуемая планета время от времени делала кувырок. Верх менялся местами с низом, солнце кидалось под горизонт, а каменный пол вспучивался сам по себе и бил Веню по затылку – ни за что, безо всякой причины, просто так.
Как облегчить Вене жизнь, нам до сих пор понятно не до конца. Будь он маленьким, как такса или кот, мы сшили бы мягкий карман и спрятали его внутри, и вынимали б его оттуда только затем, чтобы кормить и целовать. Сносили бы его с лестниц на руках и ставили в мягкий снег, в одуванчики, в клевер, в чистую теплую траву. Но Веня для этого слишком большой, и мы не можем поднять его, взять на руки, не можем даже как следует обхватить, чтоб согреть. Каждый день мы смотрели, как он падает с лестницы, застревает в перилах и стучится головой об пол и как проклятые двери, стулья и шкафы бьют и бьют его в лоб, в глаз и в плечо. И это нельзя было исправить, никак. Всё, что мы могли предложить ему, – регулярную еду, тепло и бесполезные поцелуи. И наше сердце, полное жалости.
Под белой шерстью синяки незаметны, это просто припухлости. Голова, колени и локти у него всегда были в шишках. Он падал, стучался, кувыркался и бился обо всё тридцать раз за день. Сорок. Тряс головой и замирал, удивленный – и спустя секунду забывал причиненное ему зло. Не сердился, не обижался. Был снова готов к радости.
От Иова Веня отличается тем, что не религиозен. Не терпит, не смиряется. Не осознает страданий и не ропщет. Просто живет.
Иногда нам кажется, что бог испытывает не Веню, а нас. Каждому дается по силам, а мы не очень сильные, так что нам повезло. Нам дали не больного ребенка. Нам просто дали собаку, глупую белую собаку. Никогда не могла понять эту фразу из Нагорной проповеди насчет нищих духом. Ну как это, думала я, что значит – нищие духом? Почему блаженны? И главное, за что им царствие небесное? Мне кажется, я догадываюсь теперь, в чем там дело. Они нас туда, если мы будем хорошо себя вести, втащат за собой паровозом.
В Венином мире каждый предмет потенциально опасен – столы, стулья, двери и цветочные горшки, даже пол. Ему так долго везло, что мы даже немножко расслабились. Честно поверили в его особую суперсилу. Перестали дрожать и при малейшем шуме бросаться к окну. За всей Вселенной не уследишь; ни он, ни мы просто не видели нужды как-то выделять лестницу, и как всегда бывает, именно лестница его и победила: в один из дней он сорвался с верхней площадки и упал, и повредил ногу. И с этого дня из четырех небезупречных Вениных ног на борьбу с мирозданием осталось только три. А он и с четырьмя ногами справлялся через раз. Ну, и тогда мы начали сносить его в сад на руках.
К слову, я всегда говорила, что не стану его носить. То есть скормить ему собственное сердце с ладони – легко, но поднять огромную собаку на руки и нести? Да ладно, бросьте. А потом я обнаружила, что четырежды в день стою, согнувшись, и держу Веню на весу над клевером, как младенца над горшком, думая одно и то же: господи, как хорошо, что Веня – не лошадь.
Разумеется, мы не сдались и в третьем акте всё равно запланировали хеппи-энд, и построили пандус, длинный пологий спуск без ступенек и поворотов. Для этого нам пришлось расширить веранду – несильно, максимум вдвое, но у меня как раз набралось тридцать три горшка с лавандой, розмарином и цветочками, которые наконец стало можно расставить по-человечески. В нашем третьем акте Веня должен был победить лестницу, сколько бы ног у него ни осталось, потому что у него появилась персональная посадочная полоса.
А зимой, думали мы, он сможет съезжать по ней на попе. Прямо в мягкий сугроб, ослепительный и прекрасный.
Но и этот план, разумеется, не сработал. В прошлом году ноябрьский ледяной дождь оборвал провода, оставив нас без электричества (ненадолго), и превратил наш сад в каток. В толстое хоккейное стекло, присыпанное снегом. Расплющил можжевельники, которые я растила пять лет, убил маленькие туи и согнул взрослые, и даже у новеньких наших яблонь и сирени отгрыз полтора метра верхних веток, примерно два года жизни. Всё, что мы берегли и любили, остекленело и сломалось под корень. Лед падал с неба всего две недели, а испортил много лет в обе стороны. Хрупкий лес за окном, и сад, и нашу радость от зимы, и Венин пандус, который мы построили осенью, превратил в сорок пять градусов острой, как наждак, колючей пыточной горки. Сколоть лед оказалось невозможно, он был твердый, как бетон, и Веня съезжал вниз, исцарапанный, и внизу на скользком льду падал каждые полминуты. Вообще не мог ходить, просто лежал в конце спуска в жгучем снегу ногами вверх и ждал, пока мы сбежим вниз и поднимем его.
Вдруг мы поняли, что и пандус, и все наши прочие смешные усилия – фигня. Что Веня давно уже не бегает кругами, не носит стулья на спине, не сворачивает дверные косяки, и даже к ужину не может добежать без помощи и падает каждые три шага. Не сердится и не хулит мироздание, по-прежнему верит, что мы возьмем на руки и принесем его – к еде. Или еду – к нему. Мы набирали корм в миску и слышали, как он за стеной упал и поднялся, и упал еще раз, и сердце наше болело, болело невыносимо.
Конечно, не надо было мне шутить про лошадь, потому что Вселенная сразу отозвалась на шутку, и отозвалась нехорошо, она всегда так делает. И когда мы снова поехали к врачу, оказалось, что он порвал крестовидную связку на левой коленке, которую придется резать и вставлять шуруп, и потом четыре месяца ждать восстановления в состоянии полного покоя, которого в Венином случае добиться можно было, если только подвесить его на стропах и при этом сделать так, чтоб он спал, ел и писал, не касаясь ногами пола, примерно двадцать дней, и не сошел при этом с ума – словом, он в самом деле превратился в лошадь, в любимую лошадь со сломанной ногой.
Мы ехали из клиники и придумывали. Гамак или массажный стол, но куда девать ноги? Люлька, ремни, рама от детской коляски? А еще ведь надо, чтоб ему было удобно лежать, мягко и нестрашно. И чтобы это всё можно было возить по дому, из кухни в спальню и назад, и ставить рядом, он не любит оставаться один.
Потом выяснилось, что есть ребята, которые делают удивительные штуки – ходунки для собак, у которых отнялись ноги, и коляски на велосипедных колесах, и поддержки, которые хозяин может нести на плече. Мы, разумеется, испробовали всё. И разумеется, ничего из этого нам не помогло.
Нет, операция прошла успешно. Нога, конечно, выглядела жутко: лысая и неживая, как голень индейки; на ней шов-красавец, безупречный, достойный батистового платка, внутри шурупы. Но весь остальной Веня налаживался стремительно. Ходить ему было нельзя, и несколько недель он просто сидел в подушках, ленивый, как Пацюк, а миски мы носили ему под нос. Мамаша, одеяло поправьте, изредка говорил Веня из подушек, и велите подать обедать.
Мы очень старались, у нас всё было готово, ветеринары даже прописали Вене каких-то успокоительных колес. Мы боялись, что он станет биться и вскакивать и повредит сустав, но ничего не пригодилось, он оказался неожиданно смирен. Принял новую вводную, как и все предыдущие: нет ноги, ну значит, нет. Просто ждал, когда она снова появится. На случай, если он начнет во сне кувыркаться, я накидала на пол подушек и пледов для себя тоже, запаслась вином и сериалами. И это, будем честны, оказался не худший способ прожить три недели.
Но когда после месяца в подушках Веня получил-таки разрешение ходить, оказалось, что ноги по-прежнему нет. Всё зажило, сустав держится крепко, и даже шов зарос безо всякого следа, как будто и не было никакого шва. Я думаю, тут никто не виноват. Хирург молодец и нигде не ошибся, мы тоже поднажали; просто за это время Веня забыл, зачем она нужна. И решил жить без нее.
На улице этот вопрос решается легко, у нас ходунки. Чтобы прогуляться по сугробам, достаточно взяться за ручку и тянуть Веню за собой, как чемодан. Но дома сложную сбрую из ремней и пряжек приходится снимать, нельзя же сутками жить в пальто и ботинках, и поэтому распряженный Веня сидит-сидит в своих подушках, а потом вспоминает, что хочет воды, или поесть, или просто пересесть в солнечный квадрат на полу. И тогда он вскакивает и бежит сломя голову с жадным восторгом, как всегда. Безо всяких скидок на отсутствие ноги, которая не работает совсем. Которой у него больше нет. И падает каждые два шага, стучится о каменный пол.
Именно с этой его безмятежностью мы как раз справляемся хуже всего. Веня, который вспомнил об ужине, или заскучал, или просто решил кого-нибудь расцеловать, не начинает осторожничать и беречься. Он просто бежит, и всё. Как если бы ничего не было – ни разорванных связок, ни шурупов в коленке. Уверенный в том, что проблема какой-то дурацкой задней ноги, которую он ни разу в жизни не видел даже, устроится как-нибудь без его, Вениного, участия. Бежит без сомнений, на трех хороших ногах и одной негодной, не сбавляя скорости. Убежденный, что Вселенная подсуетится сама. Ну и, в общем, она так и сделала, подсуетилась. Вместо четвертой Вениной ноги теперь – я. И по нехитрым Вениным делам мы всегда вскакиваем и бежим все вместе, я и остальные три ноги. Не расстаемся.
Не буду скрывать, из всех моих карьерных поворотов этот – самый пока неожиданный. Ну то есть я надеялась, что сгожусь еще для чего-нибудь эдакого, знаете. Напишу еще один роман или, например, сценарий. Но в моей условной трудовой книжке в графе “должность” сейчас записано: задняя Венина нога. Левая. А всё остальное уже так, фриланс.
И все-таки я по-прежнему смеюсь сорок раз в день, потому что счастлива. И мне всё так же больно. Потому что любовь.
Роман Сенчин А папа?
Наверное, и до этого у Гордея была жизнь. Наверное, он плакал, смеялся, смотрел телевизор, играл в игрушки, рыл пещерки в песочнице, знакомился, дружил и ссорился с мальчиками и девочками. Но теперь он ничего не помнил о том времени. Еще совсем недавнем, вчерашнем. Оно забылось, как сон утром. Лишь пестрые блики, ощущение, что там было важное – хорошее и плохое, – а что именно пропало. Стерлось, испарилось, исчезло.
Остались лишь мама, знакомая одежда на нем и две большие сумки на колесиках, возле которых он, Гордей, стоял недавно радостный и довольный, ел что-то сладкое и душистое. И воздух пах тогда вкусно, и много-много теплой воды было перед его глазами, и нестрашно кричали бело-серые быстрые птицы в небе… Но где это было, где он стоял…
Теперь эти сумки мама катила то ли с физическим, то ли с каким-то другим усилием и стонала. Гордей пытался ей помогать, а мама говорила сердито и мокро:
– Да не висни ты! Не висни, господи!
Пришли туда, где много людей, и все с сумками, чемоданами, тележками. Одна тележка чуть не сбила Гордея с ног; он вовремя спрятался за маму…
Остановились у вереницы одинаковых домиков на колесах. Домики походили на лежащие на боку огромные чемоданы, но в них были окна.
– Мама, это поезд? – спросил Гордей, обмирая от радости и страха.
– Поезд, поезд… Вон наш вагон…
Мама подала бумаги женщине в синем костюме. Та посмотрела и сказала:
– Места девятое, десятое.
Дверь была высоко, к ней вела лесенка. Мама стала поднимать сумки, но у нее не получалось.
– Помогите, – попросила мужчину, стоящего рядом и ждущего своей очереди забраться в вагон.
– Я не носильщик, – сказал мужчина.
Мама прошипела что-то, собралась с силами и закинула сначала одну сумку, потом другую.
– А и хрен с ним, – хохотнула зло, – всё равно больше рожать не хочу!.. Гордей, залазь. Живо!
Долго ли они ехали в поезде, он не понял. Стал осматривать полки, столы – один на палочке, другой висящий без всего, окна с двух сторон, в которых побежали дома, деревья, облака, и уснул.
Разбудила мама – вытолкнула из уютного мирка, который сразу забылся, – усталым и строгим голосом:
– Поднимайся. Сейчас выходить.
Гордей сел, ощупал себя, понял, что одет, готов, и тут же веки отяжелели, голова склонилась…
– Пошли-пошли!
Одну сумку мама несла в руке, другую катила. Он плелся сзади, боясь спрашивать, куда они едут, где сейчас выйдут. Вагон покачивался, и Гордей ударялся о разные выпирающие в проход штуковины. Было больно, но жаловаться он не смел…
У двери стояла та женщина в синем костюме. Когда поезд стал тормозить, отомкнула ее большим ключом, а когда почти остановился – открыла.
Наклонилась и с лязгом опустила лесенку.
– Минуту стоим, – сказала маме.
Мама дернулась:
– Так пропустите!
Женщина подвинулась, и мама стала спускать по ступенькам первую сумку. Сумка опускалась медленно; мама плюнула – “тьфу!” – и бросила ее вниз. Потом так же – вторую. Подхватила Гордея… Гордей хотел сказать, что он может сам. Угадал: не надо. С мамой сейчас не надо спорить. И даже говорить ей ничего не надо. Лучше молчать.
На улице было странно. Вроде тепло, но приходили волны сырого холода, и тело начинало дрожать; вроде темно, а с одной стороны небо краснело и выше сочно синело, как та теплая вода в забытом хорошем месте.
Под вагонами шикнуло, и поезд поехал. Сначала медленно, через силу, но тут же набрал скорость, и последние вагоны промчались мимо Гордея и мамы так, что завихрило.
Мама открыла одну сумку, вытащила кофту. Протянула Гордею:
– Одевай.
Он послушно стал надевать. Но запутался, и мама, всхлипнув, резкими движениями ему помогла.
– Пойдем на вокзал.
Вокзал был большой комнатой с сиденьями. На нескольких скрючились во сне люди. Мама посмотрела на часы и пробормотала:
– Еще два часа. Черт… – Повернулась к Гордею: – В туалет хочешь?
– Нет. – Он честно не хотел.
– Садись тогда. Поспи.
Он сел, положил голову на спинку сиденья, закрыл глаза.
Спать теперь не получалось, но он мужественно сидел так, с закрытыми глазами. Казалось, если будет слушаться, что-то изменится. Снова станет как в том времени, которое теперь он не помнил. Только ощущал.
Может, потому и не помнил, что там было хорошо и понятно – для чего запоминать? А вот это всё, происходящее сейчас, он, знал, запомнит. И будет долго разбираться, что происходило, зачем сумки на колесиках, такая, будто чужая, мама, зачем поезд, вокзал, это неудобное сиденье…
– Пора, – раздался мамин голос, и сразу за этим – легкий тычок: – Встаем. Сейчас автобус приедет.
Автобус оказался коротким, с одной дверью и узким проходом внутри. А людей – много, все места заняты. Стоявшие люди ругались на маму, что она всё заставила своими сумками.
– Я за багаж заплатила! – отвечала мама металлически.
Люди продолжали ругаться. Гордей жался к сумкам.
Потом автобус поехал, и люди постепенно стихли.
Дорога была в ямах и кочках, Гордея подбрасывало, болтало, и вскоре он почувствовал, что в глубине горла стало горько, там забулькало.
– Мама, – позвал он.
– Что? – Мама пригляделась и стала доставать что-то из кармана. – Тошнит? – Развернула пакет. – Давай сюда вот.
Гордея вырвало. Чуть-чуть. Наверное, потому, что он давно ничего не ел и не пил. И еще – он изо всех сил сдерживался. Было стыдно, что это с ним случилось. Все вокруг ведь нормально едут.
От этой мысли – что он сдерживается – Гордея затошнило снова. Мама подставила пакет и кому-то в сторону зло сказала:
– Вместо того чтоб кривиться, место бы уступили.
– Аха, я должен такие деньжищи за билет выкладывать и еще стоя ехать, – ответил хрипловатый мужской голос. – Щ-щас!
Люди снова стали ругаться. Но теперь ругали не маму, а этого мужчину с хрипловатым голосом. А одна пожилая женщина поманила Гордея:
– Иди, милый, ко мне на коленки.
Гордей замотал головой, а мама толкнула его:
– Ну-ка давай. Еще в обморок хлопнуться не хватало. Иди, сказала!
Гордей не любил чужих людей, не привык к ним. В садик его пока не отдавали, и он не научился быть в коллективе. Разве что на детской площадке, но тех детей он теперь забыл.
А автобус был тем самым коллективом. Не дружным, и все-таки каким-то единым.
– Иди, иди, – говорили люди с разных сторон. – Посидишь, ножки отдохнут, животик уляжется.
На мягких ногах женщины действительно стало получше. И Гордей не заметил, как положил голову ей на грудь, а потом свернулся калачиком, приобнял… Ему стало казаться, не мыслями, не словами, а неосознанным чувством, что он в кроватке, как совсем маленький, и ее, эту мягкую, теплую кроватку, покачивают бережные руки. Мамины или кого-то еще, родного.
И опять тормошение.
– Просыпайся! Вставай, говорю! Подъезжаем!
Гордей с великим усилием вернулся из дремы. Жалобно стал оглядываться вокруг, не понимая уже, где он, что ему делать.
– Пора тебе, милый, – сказала женщина, – мама зовет. – И спустила в проход меж сидений.
Мама была в начале автобуса. Устраивала там сумки у двери.
– Шагай сюда живо! – велела Гордею.
Потом шли по улице без асфальта. Вместо асфальта была кочковатая земля, ямки присыпаны чем-то серым, хрустящим. Может быть, потом, когда подрастет, Гордей узнает, что это зола от сгоревшего угля.
Справа и слева домики в один этаж, ворота, покрашенные синим или зеленым, тянулись щелястые заборы… Улица была длинная, однообразная, и уставший Гордей не верил, что у нее есть конец.
У одних ворот, некрашеных, деревянных, мама остановилась.
– Ну вот, – выдохнула успокоенно.
А Гордею стало страшно от этого выдоха. Словно мама поставила точку, но поставила в неправильном месте. Он слышал, что писать это очень сложно. Кроме букв есть еще точки, запятые, какие-то другие знаки, и если их поставить не там, то слова станут означать не то, что нужно.
Мама взялась за железное кольцо и открыла калитку в воротах. Перекатила через деревянный порожек-доску сумки. Одну, другую. Оглянулась на Гордея:
– Заходи. Чего ты…
Он послушно вошел на заросший травой двор. По центру трава была низкая, а вдоль забора, у ворот – высокая, волосатая, с темно-зелеными листьями.
– Это крапива, – сказала мама, – ее не трогай. Кусается.
В мамином голосе появилась жизнь, даже что-то веселое… Нет, не веселое, а такое, от чего Гордею стало легче. Захотелось прыгать, играть.
Слева стоял домик, в нем была обитая черным потрескавшимся материалом дверь. Дверь заскрипела, когда мама потянула ее на себя.
– Тёть Тань, – позвала мама. – Ты тут?
Из глубины домика ей что-то ответили.
– Пойдем, – сказала мама, втаскивая сумки в полутьму.
В этой полутьме было душно и жутко. Так, наверное, выглядит жилище Бабы-яги. А вот и она. Темная, в платке, налезающем на лицо, в сером переднике. И скрипуче она говорит:
– А, прибыли? Я уж и ждать перестала.
– Да всё так… – жалобно отозвалась мама, стала объяснять: – Думала, наладится еще. Ждала тоже…
– Ну чего ж, проходите. – И Баба-яга, наоборот, сама пошла к ним; Гордей прижался к маме. – А это и есть твой?
Мама быстро и мелко закивала:
– Он. Гордей.
– Не дождалась Ольга-то. Не увидала.
– Да-а…
– А как его так, ну, ласково называть?
Мама посмотрела на Гордея:
– Гордюша, наверно.
– Гордюша… Это от “гордый”, получается.
– Ну, не знаю. Можно Гордейка как-нибудь…
– Ладно, проходите. Чего в пороге мяться…
Мама подтолкнула Гордея вперед:
– Познакомься, это баба Таня. Твоей родной бабушки Оли сестра. И тоже, значит, твоя бабушка. Понял?
В доме пахло невкусно. И то ли от этого запаха, то ли от усталости Гордея снова стало тошнить. Он глотал набегающую изнутри в рот горечь обратно, а она возвращалась.
– Как доехали-то? – спросила баба Таня.
– Боле-мене… Доехали.
– Есть, поди, хотите?
– Я бы поела. Привезла тут кой-чего. – Мама стала открывать одну из сумок.
– Доставай-доставай. У меня-то не шибко. Пенсю почти всю Виктору отсылаю. До сих пор всё работу найти не может… В наше время каждая рука наперечет была, а теперь – гуля-ай…
– Я деньги оставлю, – перебила мама. – Вы Гордея как-нибудь… ну, чтобы не голодал хоть…
Баба Таня всплеснула руками, передник колыхнулся, как лист картона.
– Ты чего молоть начала?! Голодать, ишь! Хлеб с медом всегда будут. У меня ж хахалёк пять ульев держит. – Она заговорила тише и как-то сладенько. – Геннадия помнишь? Вот он ко мне, как свою схоронил, прям лезет, как этот… Так. Картошки полно подполье… Огород счас пойдет, огурцы все в зародках… Голодать он будет… Придумала!
– Спасибо, спасибо, теть Тань, – дергала головой мама. – Я так… вырвалось.
– Много у вас вырывается… С ума послетали в городах, вот и беситесь. Своды-разводы… Держать себя надо, чтоб не вырывалось… Ладно, руки вон мойте и давайте есть, что ли. С дороги-то…
– Я не хочу, – твердо сказал Гордей.
Мама посмотрела на него; лицо ее было страшным.
– Как – не хочешь?
Гордей представил, что в него насильно запихивают чужой ложкой из чужой тарелки что-то теплое и вязкое, как каша, и ему стало противно до слез.
– Не хочу, ма-ам!
– Ты со вчерашнего вечера ничего…
– А не уговаривай, – сказала баба Таня. – Не уговаривай. Захочет – сам подойдет, просить станет. Чего баловать? – И махнула Гордею на дверь: – Поди погуляй, двор погляди.
Мама испугалась:
– Как он один там?
– А чего? Калитку закрыла?.. И пускай. Надышится, аппетита наберется… Собаки у меня нету… Ох, изнежились вы там, и ребятишек таких же ростите. До пенсии ширинку им будете расстегивать, чтоб пописили.
– Ладно, Гордей, иди, – разрешила-велела мама и сама открыла ему дверь, не уточняя, хочет он гулять или нет. – Только на улицу не выходи. Понял?
Гордей постоял несколько секунд – пугало новое место, но и оставаться здесь, в домике, было тяжело и опасно. Останется, и начнут кормить, а он не будет, и мама заругается, может и шлепнуть… Он шагнул, снова постоял, теперь на крылечке, и пошел по двору.
Двор был скучный – ни качелей, ни песочницы… Гордей подобрал кривую палочку, представил, что это сабля, а он – воин. Нужен был враг… Ударил по высокой травине с темно-зелеными листьями и волосатым стеблем. Травина дернулась и, надломившись, повалилась на Гордея. Он быстро попятился.
Постоял, глядя на поверженного противника и, размахнувшись, ударил по второй травине. Та стала падать вбок, на другие травины, но вдруг изменила направление…
На этот раз отскочить он не успел, и листья задели его по руке.
Сначала Гордей ничего не почувствовал, а потом руку защипало, зацарапало… Он выронил палку, схватил здоровой рукой раненую, сжал. Глазам стало мокро; он побежал было к маме, но тут же передумал.
Не надо. Потерпит. Тем более колет и щиплет не так уж сильно. Потер кожу, прислушался. Да, боль стихала.
Поднял палку и ударил по третьей травине. И сразу побежал спиной вперед. Когда третья лежала на земле, опять подошел к зарослям. Врагов было много…
– Привет, – сказали ему; будто сама трава сказала. – Ты кто?
Гордей опустил палку, присмотрелся. Сквозь стебли и щели забора на него смотрели дети.
– Я – Гордей, – четко, выговаривая сложную “р”, ответил он.
– А ты откуда?
– Я – приехал.
– К баб Тане?
Гордей помолчал и сказал:
– Да, к бабе Тане. – И добавил для твердости: – Я с мамой приехал.
Дети за забором помолчали, потом кто-то из них спросил осторожно:
– А кто твоя мама?
Гордей не знал, кто его мама, кроме того, что она его мама. Но он вспомнил нужное слово и ответил:
– Директор.
Дети снова помолчали. И задали новый, еще более сложный вопрос:
– А папа?
– Папа…
Да, про человека, которого называют “папа”, Гордей слышал. Он такой же важный, как мама, но другой… “Мама и папа”. Но своего папу он не мог вынуть из забытого им времени.
И Гордей сказал:
– Мой папа – президент!
За забором засмеялись.
– Путин?
Слово “Путин” Гордей знал. По телевизору часто говорили это слово, и мама тоже иногда. Но оно не подходило для папы. А “президент” – подходило.
– Не Путин. Другой президент. – Гордей замялся, но фантазия выручила: – Он всеми машинами управляет. Как на них ездят.
Дети пошептались и позвали:
– Выходи играть.
Вот так запросто пойти к незнакомым было нельзя. Мало ли. Да и мама разозлится. Она его далеко никогда не отпускала, и что он точно хорошо помнил, так это ее крики во время прогулок: “Гордей, ты куда?! Вернулся сейчас же! Быстро ко мне!”
Но не пойти к детям нужно было как-то с достоинством. И тут помог голод – забурчал в животе, стал щипать.
– Я есть хочу, – сказал Гордей и пошел в дом.
Вслед раздалось:
– Вынеси печенюшек!
– И конфет!..
Есть пришлось согревшуюся в сумке, липкую колбасу с хлебом. Гордей жевал и пытался вспомнить, кто по-честному его мама и папа. Папа был, точно был, но какой он, Гордей не мог представить. И мама не рассказывала про папу…
– Мам, – спросил, – а ты кто?
– Х-хо! – Мама посмотрела на бабу Таню, ища у нее поддержки в своем изумлении. – Я твоя мама! Нет?
– Я знаю… А ты начальник?
– Хотя бы для тебя да, начальник. Не будешь слушаться – такой выговор по жопе влеплю.
Гордей кивнул, потом, решившись, спросил еще:
– А папа кто?
– Папа?.. Папа – козел с бубенчиком.
Баба Таня печально вздохнула, а мама повторила твердо, колюче:
– Козел.
Что такое “козел”, Гордею было известно. Такое животное с рогами. Некрасивое и противное. И опасное – бодается.
Что оно могло быть его папой, он не поверил. Хотя как-то он видел по телевизору, как один мальчик превратился в козленка, потому что попил грязной воды из лужи. И сестра мальчика очень плакала… У Гордея появился новый вопрос:
– Его превратили?
– А?..
– Его в него превратили? Папу.
– Сам он себя превратил.
– А где он?
– Ты что, решил доканать меня? Пасется он, пасется, как все козлины. Всё! – Мама рассердилась. – Поел – пей сок и… и иди вон в комнату. Я тебе игрушки там достала…
Гордею хотелось вернуться на улицу, к детям, которые наверняка его ждут. Но на столе не было ни конфет, ни печенья, нечем их угостить, и он пошел к игрушкам.
Стал расставлять кубики, которые превратятся в дома, и он будет катать между ними машинку. Слышал малопонятный разговор мамы и бабы Тани. Вернее, не хотел понимать, чтобы не испугаться.
– Полгода думала, что образумится, придет… Первое время хоть переводы иногда присылал, а потом вообще. Исчез, козлина. Даже на ребенка ни копейки… Последние два месяца за квартиру нечем было платить. Хозяин гопарей нанял, чтоб выкинули… Вот с двумя чемоданами осталась. И с этим…
– О-хо-хох…
– Одна я, может, куда и приткнусь, а с ним… Пусть с вами побудет, теть Тань…
– Что ж, говорено уже…
– Спасибо.
– Просрала свое женское счастье, теперь вот маешься.
– Какое счастье, теть Тань? Вы б его видели…
– Что, гвоздил он тебя? Пил запоями? А?
– Пить – не очень, а руку поднимал.
– Ну так, видать, доводила. Ты – языком, а он – кулаком. Пилила, а?
– Срывалась… Но я человек эмоциональный. Что, молчком всё, что ли?
Баба Таня скрипуче посмеялась:
– В постели надо свою эмоциональность проявлять, а не так. Срыва-алась она…
– А что ж вы с дядь Витей разбежались?
– Но-ка! Ты в нашу жизнь не залазь. Свою устрой, тогда и будешь…
– Извините.
Мама вошла в комнату и сказала Гордею дрожащим голосом:
– Наигрался? Надо поспасть. Заканчивай.
Гордей молча кивнул. Собрал в кучку кубики… Спать не хотелось, и теперь он вообще трудно засыпал днем, но говорить об этом было страшно. Лучше слушаться.
Умывались не под краном, а под какой-то кастрюлей, в дне которой был штырек. Этот штырек нужно было толкать вверх, и тогда из отверстия лилась вода… Кастрюля висела высоко, и вода стекала Гордею под рукава, за шиворот. Вместо раковины было ведро на табуретке, из него иногда вылетали грязные капли…
– Белье там в стопочке, – говорила баба Таня, – сами застелитесь.
Мама застелила железную кровать и уложила Гордея на чистую, но пахнущую какой-то прелью простыню. Накрыла одеялом. Присела рядом. Потом прилегла.
Смотрела на Гордея странно-пристально, гладила по голове. Молчала. Гордей тоже смотрел, смотрел на нее, а потом его глаза устали и закрылись. И он уснул.
После того как проснулся, началась жизнь без мамы.
Гордей, конечно, спросил бабу Таню:
– А где мама?
Та ответила:
– Уехала твоя мама. Со мной покоротаешь… Вернется потом. – И добавила строго: – Не плачь! Не люблю плаксунов. Я их в печке сушу.
Гордей оглянулся на большую, покрытую пыльной известкой печь и не стал плакать. Что толку… Маму слезами не вернешь, а эту старуху, которая, может, по-настоящему Баба-яга и притворяется простой бабушкой, разозлишь. Возьмет и засунет в печку, а маме скажет потом, что он потерялся.
Баба Таня покормила его гречневой кашей с колбасой и отправила гулять во дворе.
– Там на задах, за избой, курицы есть. Погляди, только не заходи к им, а то выпустишь, весь огород склюют.
Куриц смотреть желания не было. Гордей подошел к калитке и стал изучать улицу через щель. Улица была пуста и тиха. Стало скучно. А потом обидно, что мама его оставила. Уехала.
Но, наверное, ей очень надо. Она сделает дела и вернется. И вернется…
Домик бабы Тани был маленький: кухня, в которой баба Таня спала на узкой кровати, приставленной к спине печи, и комната, где поселили Гордея. В комнате высокий, с пятью рядами ящиков, комод, кровать, стулья, коврик с рогатым оленем на стене… Телевизор был на кухне, и Гордей боялся проситься его смотреть – баба Таня сама смотрела, и всё какие-то неинтересные передачи про болезни.
Во дворе было куда интересней. Опасная, но странно притягательная трава-крапива, с которой хотелось воевать и воевать, пугающая чернотой в окошечке баня, брошенные сарайки, в которых пахло едко и таинственно, груда поломанных и трухлявых досок, из которых торчали рыжие изогнутые гвозди, курицы за сеткой, требующие у Гордея травки. Он давал им травку, мягкую и неколючую, которая росла за баней, просовывал меж ячеек сетки. Курицы забирали травку клювами и требовали еще…
Гордей заметил, что петуха у них нет, и как-то, когда ели яичницу, спросил у бабы Тани:
– А петушка у курочек нету, да?
– Нету.
– А как они яички несут?
Баба Таня усмехнулась:
– Ишь какой образованный… Яйца они и без петуха несут. Только из них цыплята не появляются. А мне и не надо – возни с ими… Осенью порублю, бульон буду варить, а весной новых куплю. Двести рублей штука.
В домике Гордею было тоскливо, хотелось к маме и плакать. Большую часть времени он проводил во дворе, осматривал и трогал то, что там находится.
Через день или два – время для него растянулось – у забора снова появились дети.
– Привет, – поздоровались. – Ты еще тут?
– Тут. – Гордей принял взрослый вид. – Я тут долго буду. Меня мама оставила.
– А куда она уехала?
– Дела делать.
– Выходи гулять.
Гордею хотелось гулять. То есть даже не гулять, а увидеть этих детей по-настоящему, а не через щели в заборе.
– Сейчас, я только бабе Тане скажу.
Дети как-то насмешливо ответили:
– Давай.
Гордей, уже направившийся к двери в домик, услышал насмешку, остановился:
– Нужно говорить, куда уходишь. А то старшие волнуются.
– Ну да, ну да… – Теперь ответ был без насмешки.
Баба Таня отпустила легко, даже вроде бы с готовностью. И Гордей пошел к детям.
Их было трое – девочка Алина и двое мальчиков. Саша и Никита. Гордей определил, что они старше его, но немножко. Он держался напряженно, ожидая, что они сделают ему плохо или будут смеяться над ним. Но они не смеялись. Наоборот, старались подружиться.
– Хочешь, покажем, где свинью похоронили? – предложил Никита, и Гордей по голосу определил, что именно Никита с ним разговаривал из-за забора.
– Хочу.
Пошли по узенькой улице, по краям которой густо росла волосатая трава и тянулась своими верхушками к ним, как живая.
– Это крапива, – сказала Алина, – до нее нельзя дотрагиваться, а то изжалит.
– Я знаю.
– А ты откуда приехал?
Гордей помнил весь их путь с мамой, но откуда они отправились в него, сказать не мог. Не говорить же – “из дома”.
И он сказал:
– Мы с мамой долго ехали, много где были.
– Вы путешественники? – с интересом спросил Никита.
– Ага. И мама дальше поехала пу… – Гордей запнулся на сложном слове, – путешествовать.
– А я в городе живу, – сказал молчавший до того Саша, полноватый, со взрослыми глазами. – Там два миллиона человек, и метро есть.
– Я тоже в городе, – сказала Алина.
– А, ты в маленьком. У вас метро нету.
Алина не стала спорить… Гордей хотел спросить, что такое метро, но не решился. Еще подумают, что глупый.
За улицей был пустырь, почти весь заросший крапивой. Здесь крапива была на свободе и от этого, наверное, особенно крепкая и высокая. Целый крапивный лес… Лишь в одном месте крапивы не было, а была горка из красноватой земли.
– Вот тут свинью похоронили, – сказал Никита.
А Саша, страшно округлив и выпучив глаза, добавил:
– Здорове-енная была! Ее четыре человека несли. И мой папа тоже.
– А дядь Толя плакал, – сказала Алина.
– Ну дак это его свинья же! И поросята без мамы остались. Один подох уже…
Гордей поежился.
– Ты только никому, понял! – погрозил пальцем и сморщился, как старик, Никита. – Это тайна.
– Почему тайна?
– А-а, узнают в районе, эти примчатся. Всех свиней перережут. Скажут, грипп. И стайки сожгут… Никто не должен знать, понял?
– Понял. – Гордею хотелось сказать: “Я никого больше тут и не знаю, кроме бабы Тани”. Не стал. Повторил твердо:
– Понял. Не скажу.
– Айда обратно, – сказал Никита. – Скоро гуси за пивом пойдут.
Гордей не стал ничего уточнять – какое пиво, какие гуси…
Остановились у ничем не приметного забора. Постояли. И когда Гордею стало так скучно, что он решил сказать, что идет домой, из дыры в заборе полезли большие белые птицы с желтыми носами.
– Во, во! – зашептал Никита. – Гляди.
– Это гуси? – тоже шепотом спросил Гордей.
– Ну да. Не утки ж…
Первый гусь отошел в сторону и остановился, наблюдая за пролезающими в дыру. Тихо гоготал, будто подбадривал или торопил.
Когда гусей стало много – Гордей не умел до стольки считать, – первый пошел по улице, а остальные – за ним. Шли, переваливаясь, держа прямо длинные шеи. На детей не обращали внимания. А те не шевелились. И Гордей тоже.
Лишь когда гуси оказались далековато, Никита сказал:
– Погнали.
И они медленно пошли следом.
– А зачем мы за ними идем? – спросил Гордей.
– Сейчас увидишь.
Перешли улицу с асфальтом. Впереди появился маленький магазин. Гуси остановились недалеко от навеса сбоку, под которым были два высоких стола, а на земле окурки и всякий мелкий мусор.
– Сюда дед Вова пиво пить ходил, – стал объяснять Никита, – а гуси с ним ходили. Ну, он их типа пас… А на днях он умер, а гуси сами стали сюда ходить. Без него.
Гуси стояли молча, вытянув шеи, глядя на один из столов.
– Дед Вова им хлеба кидал, вот и ждут.
И Гордею стал видеться стоящий за столом старик. Он облокотился, спина согнута, одна рука сжимает ручку большой кружки, а другая ломает на кусочки ломоть хлеба. Ломает, ломает, а кинуть не может. А гуси ждут. И старик медленно растворяется в воздухе…
Через какое-то время – Гордей не мог определить, какое, – гуси заволновались, загоготали, повернулись и поковыляли обратно.
– Прикольно, да? – спросила Гордея Алина и улыбнулась, показав пустоту вместо передних зубов.
– Да не очень, – ответил Гордей, но не стал признаваться, что видел старика-призрака.
Дальше шли по асфальтовой улице и встретили девочку с коляской. Алина тут же захныкала:
– Слав, дай мне Юрика покатать.
– Нет, мне мама не разрешает. – Девочка Слава была старше Алины, и Никиты, и Саши.
– Ну, пожа-а-алуйста! Я буду думать, что это мой братик.
Девочка Слава подумала и как-то, как королевна, взмахнула рукой:
– Ну ладно. Только на дорогу не выезжай.
– Да, да!
– И называй Юриком, а не всяко.
– Угу.
Девочка Слава передала коляску Алине и куда-то побежала. А Алина, забыв про мальчишек, покатила ее, покачивая и что-то напевая.
– Она братика или сестренку хочет, а родители не хотят. Вот и катает чужих. И думает, что это ее, – сказал Никита серьезно.
– Я – домой, – объявил сразу погрустневший Саша.
– Давай еще на качели сходим.
– Не хочу.
Никита поморщился:
– Я тоже тогда. Баба, наверно, оладьев напекла. “Дисней” буду с ними смотреть.
И они пошли в разные стороны. Гордей растерянно огляделся – где дом бабы Тани, он не знал.
Поплелся наугад по асфальтовой улице и вскоре увидел магазин с навесом и столами. Долго определял, какая из четырех тянущихся от него узких улочек была той, по которой они с детьми пришли сюда вслед за гусями. Наконец, кажется, определил. Пошагал. И вышел на полянку. Там стоял белый, большой, рогатый козел.
– Мме-е-е! – закричал он пронзительно.
Гордей попятился, а козел пошел к нему. И быстро остановился – идти дальше не давала веревка, привязанная к колу.
– Мме-е-е! – повторил козел.
– Ты кто? – спросил Гордей, хотя понимал, что это животное – козел и козел, совсем как на картинках.
– Ме-е.
– Что?
Козел смотрел на него пристально своими большими выпуклыми глазами.
– Я – Гордей, – сказал Гордей. – Я недавно сюда приехал. К бабе Тане. А мама уехала.
– Ме-е. – Козел тряхнул головой, и тут на его шее, под бородкой, звенькнул колокольчик.
“Козел с бубенчиком”, – вспомнились слова мамы, и Гордей отшатнулся… Он не знал, что такое бубенчик, но наверняка что-то вроде колокольчика. И неужели это папа… Еще одно мамино слово: “Пасется”. Козел пасся.
…И не просто так мама привезла его сюда. Баба Таня – его бабушка. Была и еще одна… умерла. Значит, и папа здесь бывал, приезжал. Ходил, и превратился. А мама не знает, и поехала его искать.
– Папа, – тихо сказал Гордей, вроде и не козлу, а так, будто в сторону, но тот отозвался протяжно, жалобно:
– Ме-е-е.
Гордей увидел, что травка вокруг него короткая, жалкая, и сорвал длинной, мягкой, протянул.
Козел поднял верхнюю губу, обнажив сероватые большие зубы. Не доставал… Гордей подошел ближе, и козел ухватил траву языком, рывками втянул в рот и стал жевать. Глядел на Гордея по-прежнему внимательно, пристально. Потом, перестав жевать, строго сказал:
– Ме-е-е!
Гордей сорвал еще травы. Дал.
– Я не верю, что ты мой папа. Превращаются только в сказках. – Сказал это специально раздельно, уверенно, чтоб посмотреть, как поведет себя этот рогатый с выпученными глазами и некрасивым голосом.
И рогатый ответил особенно громким и почти понятным:
– Мм-не-е-е!
– А?
– М-м-ня-ааа!
– Тебя?.. Тебя заколдовали?
Козел стоял и смотрел на Гордея. Жевать перестал.
– Заколдовали, правда?
И козел затряс головой, колокольчик стал звякать сипло и тускло.
– В-вот он где, голубчик! – раздалось за спиной Гордея.
Он обернулся и увидел торопливо, но медленно из-за старости идущую к нему бабу Таню. Всё в том же переднике, в платке, наползшем на лицо. В руке – палка.
– Я уж всю деревню оббегала, паразит! Думала, собаки сожрали или украл кто на органы… Мне что, пиздюшонок такой, по твоей милости в тюрьму садиться?!
Баба Таня приподняла палку, и Гордею показалось, что она сейчас ударит. Он попятился и ткнулся спиной в твердое, но живое, шевелящееся. Это была голова козла. Рога. Сейчас как даст ими… Гордей не выдержал и заплакал…
Баба Таня не побила, козел не бодался. Несмотря на слезы, Гордей запомнил дорогу до дома. Это было совсем рядом, правда, идти нужно было по совсем узкой, почти целиком заросшей крапивой улочке.
Покричав, баба Таня быстро успокоилась и утром отпустила Гордея гулять. Он пошел к козлу с колокольчиком. С тех пор ходил к нему почти каждый день.
Иногда козла не оказывалось на месте, и Гордей представлял, обмирая от ужаса, что ночью пришла колдунья и съела его. Украла, унесла в свою избушку в лесу, зажарила в печке и съела.
Но на другой день козел появлялся. На той же полянке между заборами или дальше, возле высокого строения, которое называли водонапорка.
Случалось, лил дождь, и Гордей оставался дома. И очень тосковал. Не по козлу, который мог быть заколдованным папой… А может, как раз по нему.
С козлом он почти не разговаривал. Садился рядом, в том месте, до которого не доставала привязь, и смотрел на это рогатое, лупоглазое существо. Наблюдал за ним… По сути, всё было сказано в первый же раз, когда Гордей спросил: “Тебя заколдовали?” – а козел стал трясти головой.
В глубине души Гордею всё стало ясно тогда, но рассказывать о том, кто это в облике козла, он не решался ни бабе Тане, ни ребятам.
Ребята несколько раз приходили на полянку или к водонапорке, обзывали козла обидными словами, а Гордей молчал, лишь смотрел рогатому в глаза и взглядом просил потерпеть. Козел же тряс головой и то жалобно, то зло мекал. Как-то Никита взял ком сухой земли и бросил в козла. Гордей крикнул:
– Перестань! Нельзя бить!
– Н-ну, – удивился Никита. – А тебе жалко, что ль? Это ж козлина вонючий!
– Нельзя! Он хороший. И за то, что бьешь, – в тюрьму. Я по телевизору видел.
Никита поухмылялся, но больше в козла ничем не кидал. Да и обзывать перестал. А Гордей на другой день принес козлу печеньку, и тот ее жадно съел. Потом сказал:
– М-ме-е-е!
– Вкусная?
– Ммме-е-е-е!
– Я завтра еще принесу…
Странно, но о маме Гордей вспоминал всё реже. Нет, он помнил о ней, но вот так, чтобы хотелось заплакать, не вспоминал.
Козлу он про маму не рассказывал. Расскажет, и, может, не то что надо. Только хуже сделает… Решил: мама приедет и сама всё увидит. И что-нибудь произойдет.
Дни текли однообразно, но быстро. Правда, дождливых становилось всё больше. Эти дни Гордей научился переживать – лежал на кровати, стараясь не шевелиться, чтоб не скрипела сетка, и мечтал, что папу расколдуют, и они все вместе – он, мама и папа – вернутся туда, где жили в то время, которое Гордей не помнил. Запомнил лишь одно – им было там и тогда хорошо…
Иногда приходил большой, хромоногий старик, деда Гена, приносил меду, и они с бабой Таней его медленно ели с чаем. Гордею мед не нравился.
Раза три, а может, на два больше, баба Таня водила его в магазин. Говорила перед этим:
– Мать жива твоя, деньги перевела… Копейки, конечно, но уж чего… Пойдем отоваримся. Не голодом же сидеть.
Выдавала ему хорошие штанишки и рубашку, и они шли в магазин. Баба Таня покупала крупу, консервы, бутылочки, яблоки, которые заставляла Гордея есть – “а то зубы выпадут, а другие не вырастут”, – и чего-нибудь вкусного. Конфет или печенек. Этим вкусненьким Гордей делился с заколдованным папой.
Совсем неожиданно приехала мама. Шумная, помолодевшая.
– Так, собираемся, – стала бегать по домику, – надо на вечерний поезд успеть.
– Что, устроилась? – скрипнула голосом баба Таня, и Гордей сквозь радостную неожиданность появления мамы заметил, что так скрипуче баба Таня с ним не говорила.
– Ага! Такой попался! С довеском согласен взять… Что, четыре года, приживется. Они ж в пять забывают, что раньше было… Посмотрим… Так, – глянула на Гордея, – одевайся живо – автобус через пятнадцать минут! А нам на поезд надо успеть. – И сама стала его одевать.
Быстро попрощалась с бабой Таней, что-то сунула ей в руку и покатила сумки на колесиках. Гордей семенил рядом.
Когда проходили ту улочку, что вела к поляне, Гордей остановился.
– Чего ты? – удивилась мама.
– А папа? – сказал Гордей. – Папа там… Надо папу расколдовать.
– Какой папа еще? Пошли быстрее!
– Нет! – Гордей побежал по улочке.
Козел был на месте. Увидел Гордея и сказал громко, почти пропел:
– М-м-е-е-е!
– Пап, мама приехала! – крикнул Гордей. – Мама! – Обернулся и крикнул маме: – Вот папа, его надо расколдовать и забрать!
Мама бросила сумки, подскочила к Гордею и присела перед ним, больно сжала плечи. Смотрела в глаза своими глазами. Незнакомо смотрела, как чужая.
Потом обняла и зашептала:
– Сыночек… Сыночек ты мой бедненький… Сына…
А потом отстранила от себя и сказала строго:
– Это не папа, это козел простой. Незаколдованный. Папа дома и ждет нас. Понял? Он не козел, его зовут Виталий. Понял? А это просто козел. Животное… Всё, пошли. Опоздаем.
И повела Гордея туда, где лежали сумки.
Гордей пытался понять слова мамы и забыл оглянуться.
Максим Аверин Одинокий волк
Всё же человек я не спокойный – не могу сидеть на месте! Долго не выдерживаю павильонных съемок, вообще замкнутого пространства, люблю экспедиции. 2004 год. Многосерийный фильм “Карусель”. Режиссер, Вячеслав Никифоров, утвердил меня сразу. Роль мне понравилась. Военный хирург попадает в плен. Чудом спасается, но из-за травмы теряет память. Возможно, кто-то скажет, что сюжет незамысловат: в кино сейчас все кому не лень теряют память, да и ужасами плена мало кого удивишь. И всё же в этом фильме есть что-то особенное. Это тот самый случай, когда я играл не диагноз (амнезия), а сочинял путь человека к себе, возвращение к своей любви, к жизни.
В то время обстановка была нестабильной, поэтому съемочную группу не пустили в Чечню. Съемки проходили сразу в нескольких городах: Москву снимали в Минске, Кавказ – в горах Адлера.
Один из эпизодов должен был сниматься в волчьем логове. Если кто-то считает, что волки похожи на собак, он сильно ошибается. Волки – животные стихийные, хищники вынужденные. Про таких обычно говорят: “Не мы такие – жизнь такая”. Продюсеры предупредили, не волнуйся, мол, всё продумано: будешь сниматься за защитной сеткой, в недоступной для волков зоне. Так оно и было. Только недоступной для волков оказалась съемочная группа, оставшаяся по ту сторону сетки и бросившая в вольер меня. Ох и страху я натерпелся! Мама дорогая! Вот вам, ребята, о зверятах.
За несколько недель до встречи со зверушками весь мой игровой костюм привезли на знакомство к хищникам. Так сказать, посмотреть меню. Труппа моих будущих зубастых партнеров состояла из двух взрослых волчиц и четырех волчат – милых малышей, беззаботно резвящихся под теплым адлерским солнцем, но не спускающих с тебя глаз. Взгляд у них особенный, тяжелый. Волки ловят каждый твой жест: а вдруг ты враг? Хищник нападает только в том случае, если чувствует опасность. А тут, представьте себе, приехали настоящие бандиты, прикидывающиеся съемочной группой.
Меня отправили на несколько дней раньше – знакомиться с партнерами, налаживать отношения. Сначала всё было замечательно, волчица даже как-то вильнула радостно хвостом. Правда, было непонятно, чему она так радовалась – вряд ли предстоящей творческой работе.
Знакомство начали с прогулки и купания в горной реке. Волчица, звали ее Стеша, охотно дала себя искупать. Процесс ей понравился, девушка даже развеселилась, а я расслабился. Вдруг волчица, ощутив свободу в нашей игре, слегка прикусила меня в области паха (простите за подробности, но она всё же женщина, и ничто женское ей не чуждо). Вроде милая шалость доброй зверушки, а мне уже привиделся скорбный финал.
На съемках с волками всегда присутствовала Аля – девушка неробкого десятка, ох уж она вертела и крутила своими подопечными! Аля тогда сказала мне: “Не вздумай показать животным свой страх! Они это сразу почувствуют и смогут над тобой властвовать”. Думаю про себя, конечно, чего ж тут бояться? Ха! Вот нисколечко не боюсь! Но ездить на съемки буду на всякий случай голодным.
Волков, которые с нами тогда снимались, бросила предыдущая группа, а Аля подобрала, выкупила и выходила их в своем питомнике. Животные отогрелись, но обида на людей осталась. Однажды мы снимали в горах, и одна волчица, снова оказавшись на природе, опьянела от свободы, вырвалась из рук своей благодетельницы и помчалась вдаль. Что это было? Зов инстинкта? Бегство ее было стихийно и страстно, остановить – невозможно. Все мы замерли в ожидании трагедии. (Мы снимали в условиях живой природы, но не дикой, а значит, волчица могла погибнуть.)
Аля закричала вслед убегающей волчице. Закричала отчаянно, страшно, как может кричать человек при надвигающейся катастрофе. В горах эхом разнеслось имя волчицы. И тут произошло чудо: волчица остановилась как вкопанная. Несколько секунд она стояла не шелохнувшись. Что произошло в ее голове? Испугалась неведомого? Черт его знает. Когда волчица обернулась, в ее глазах было что-то такое, что напоминало отчаяние преступника, который, сдавшись, не успел совершить преступление. Что-то было в этом взгляде одинокое.
Ага. Вот тебе на заметку: этот взгляд надо обязательно запомнить – пригодится. В финальных кадрах “Карусели” я использовал это наблюдение. Мой герой возвращается к жизни. Он дома. Рядом его любимая женщина. Он прошел этот путь. Но о чем говорит его взгляд? Где она, эта свобода: в долгом пути к своему дому или же в неведении своего рода и племени? Где хорошо: в том мире или этом?
Евгения Некрасова Две ненастоящие болгарские сказки
Сказка первая. Лошадиный марш
…и стоило жить, и работать стоило. В.Маяковский. Хорошее отношение к лошадямВ июле, когда звезды совсем прижало к земле, Тодору стало ясно, что его лошадь совсем состарилась и больше не сможет работать. Пенсии кобыле не полагалось, старости для нее не существовало. Тодор выпустил лошадь на улицу, чтобы она доходила: изголодалась и упала где-нибудь замертво. Дальше он собирался погрузить ее тело на повозку, запряженную в трактор, отвезти в поле и закопать. Пока же лошадь ковыряла улицы Кирилова сколотыми копытами и мазала ворота жителей бельмовым глазом. Кобыла не просто ковыляла, а вышагивала, маршировала по грунтовке, высоко поднимая копыта, будто желая превратить свою последнюю прогулку в парад. Спотыкаясь, пошатываясь, но всё же ступала, изредка останавливаясь постоять-пощипать сухих былинок и перевести лошадиный дух.
Кобылу принялись подкармливать то русские, то британские фермеры. Они жили через дом друг от друга и пили вместе недорогое местное вино. Кирилово за последнее десятилетие наполовину заполнилось иностранцами: русскими, а чаще – британцами. Эти нестарые еще приезжие – сорока или чуть больше лет – будто замещали покидающих Кирилово молодых людей. Такая же история происходила во всех окрестных селах. Иностранцы привозили в них всю взвесь молодой жизни – свежие еще, неповявшие браки, расхристанные расставания, романы, измены, вечеринки, современные методы фермерства, вай-фай (впрочем, он был и до них), а также звериные charities[3]. Одна британка содержала на краю соседнего села кошачий приют, а в Елхове снова англичане открыли магазин ношеной одежды, доходы от которой шли на собачий питомник. Не то чтобы местные оказались жестокосердей, чем приезжие, а просто все деревенские мира относились к зверям проще и практичнее, чем городские. А все новоселы Фракийской долины были иностранцами из городов.
Лошадь не кошка и не собака, и ее никто не мог забрать к себе на двор, положить на симпатичную лежанку с напечатанными на ней следами лапок и почесывать за ухом во время смотрения сериалов, но еду ей выносили регулярно. Она держала свой прайд от русских ворот к британским, иногда доходила до расположенного за владениями пасечника Христо поля, где еще не выгорела вся трава. Русские и английские слова часто роились вокруг полинявших ушей лошади, она даже начала понимать их смысл. Они были хорошие, часто ласкательные, жалостливые, всегда возвещающие о главных вещах на свете – еде и питье. Русские слова кобыла сначала полюбила сильнее, они казались почти родными – звучавшими так, если бы болгарские фразы настойчиво проговаривали сквозь частокол дождя. Лошадь ощущала в русской речи, обращенной к ней, сочувствие и жалость. Потом она даже сильнее полюбила английские слова. В них звучали сочувствие и уважение. Из-за последнего кобыле почему-то казалось, что британцы точно будут ей давать еду до самой смерти.
Лошадь ковыляла словно на празднике, на большом параде, хоть ее саму поедали мухи и мошки. Она мечтала упасть и поваляться по траве, почесывая себе спину, как в молодости, но страшно боялась не подняться снова, поэтому не падала, а продолжала свой марш. Между тем на кобылу уже ходила посмотреть Смерть, садилась рядом прямо на сухую траву, глядела, не отрывая костяных дыр, но пока не трогала. Лошадь чувствовала присутствие нежити, нервно дергала облезлым хвостом и кривой шеей, но вышагивала-вышагивала, еще выше задирая копытца и колени. Смерть ухмылялась и отправлялась проверять памятные листки на воротах сельских дворов. Болгары вешали и вешают а-четыре-распечатки с портретами своих умерших на ворота сельских домов, двери подъездов, деревья, автобусные остановки и стенды при кладбищах. Эта традиция называется Вспомен. Она помогает людям помнить о своих усопших и напоминать о них остальным, а Смерти – вести точную статистику своей работе.
Тодор поначалу не обратил на парад своей бывшей лошади внимания, но потом вдруг задумался и решил, что кляча позорит его перед всем селом, клянчя еду у приезжих. Однажды ночью, подговариваемый бутылкой ракии, он вывез из сарая старый жигуль, оставшийся у него еще с тех времен, когда каждую пятницу всё телевидение в стране было только на русском. Тодор давно уже передвигался на фольсвагене, но жигуль не отдавал на металлолом из-за ностальгии. Из Советского Союза в Евросоюз! – так он шутил про себя и свой автомобиль. Когда Тодор поехал на кобылу, она увидела приближающегося хозяина и даже узнала его прежнюю машину, но не кинулась в сторону, а принялась красиво маршировать на месте. Собаки вокруг драли черные горла. Тодор затормозил в метре от лошади, выругался и, возможно, заплакал (не было слышно из-за закрытых советских окон). Лошадь продолжала вышагивать на месте как механическая. Смерть с уважением посмотрела на клячу и погладила капот машины. Там сразу образовалась широкая ржавая полоса. “Жигуль” громко дал задний ход по тоннелю собачьего ора. Кобыла аккуратно промаршировала на обочину и закусила свое новое спасение подгнившей смоквой. Смерть ушла, немного повторяя тонкими ногами лошадиный марш.
Лошадь проходила по Кирилову еще почти месяц. Все ниже поднимались ее коленки и копыта. Все медленней двигались ее доедающие челюсти. Несмотря на постоянное кормление, кобыла стремительно теряла вес. Кожа тащилась за ее скелетом, как жеребенок за матерью. Старость наматывала вокруг лошади свои железные круги. Смерть всегда говорила, что ее зря обвиняют. “Вопросы к старости, болезням и убийцам (вольным и невольным)”, – кричала она никому-неслышная и объясняла, что она только доделывает, подбирает за этой тройкой. Кобыла не могла больше маршировать. Она лежала у русских ворот и пила прямо из ведра, которое держала у лошадиного рта Анна из Москвы. Когда женщину позвали из дома и она ушла, оставив ведро с водой, к лошади приблизилась Смерть. Кобыла поняла, кто перед ней, печально профырчала и положила острую морду на колючую землю.
Вместо того чтобы вытянуть душу через левое ухо, как это она обычно делала с лошадьми, Смерть быстро подковала кобылу медью с клеймом в один лысый череп. Когда четвертая подкова оказалась на копыте, лошадь встрепенулась, подняла сначала голову, а потом вернулась на ноги. Ее захватил неожиданный, острый прилив сил. Мир, неразличимый прежде левым глазом, и мятый, будто накрытый целлофановым пакетом, – правым, теперь виднелся остро и ярко, как отремонтированный. Кобыла впервые в жизни различила красный, который обволакивал старое пластиковое ведро, и удивилась ему. Смерть видела всё не черно-белым, а в точно таком же, как и большинство людей, цвете, значит, и ее лошадь должна была смотреть так же. У кобылы не осталось теперь кожи, шерсти и даже глаз, она глядела теперь пустыми глазницами и серела одним лишь острым, прочным скелетом. Смерть накинула на нее седло, упряжку и забралась сверху. Со Смертью на хребте, невидимая для жителей села, лошадь бойко помаршировала по дороге. Оба радовались: кобыла новой судьбе, а Смерть тому, что ей не нужно больше таскаться пешком по Фракийской долине.
Тело той кобылы так и не обнаружили, и нечего было закапывать Тодору.
Лошадиный марш
Цок-цок-цок-цок, Смерть присела На хвосток, Смерть устроит кровосток. (Я тоже люблю эту группу, Особенно песню про холодец, Но сейчас у меня не русская, а болгарская сказка.) Но откуда кровь у этой лошади? Пойдем лучше на концерт на площади. Цок-цок-цок-цок, Отыщи-пойди исток Жизни. А я скажу вместо лошади (так как лошади не разговаривают): он – в смерти.Сказка вторая. Гости-аисты
никто не бросает дом пока тот не начнет шептать задыхаясь тебе в ухо уходи, беги от меня сейчас же я не знаю, во что превратился но я знаю, что где угодно, безопаснее, чем здесь. Варсан Шайр. Дом[4]Этой весной аисты поспешили – прилетели в Кирилово в марте. Вероятно, их сбило с толку толстое солнце, залившее желтым маслом всю Ямбольскую область. Птицы широкими распятиями парили над полями, выискивая себе подходящий столб. Аисты давно уже заводили семьи на этих высоких столбах, на которых электрики устанавливали специальные подставки для массивных, похожих на огромные шапки гнезд. Сначала, как обычно, прилетал самец, устраивал гнездо, а через несколько дней появлялась самка. В этот раз, как только птицы заселили столбы своими белыми молодыми семьями, Кирилово стиснули морозы. Воздух сделался колючим, поля покрылись холодным стеклом. Солнце висело тут же, но не могло выдрать село и окрестности из морозных челюстей. Аисты втащили головы в плечи, засели парами в своих высоких квартирах, вжавшись друг в друга. Холодные ветра, шагающие по электрическим проводам, лезвиями резали птичьи макушки. Аисты сильнее вжимали шеи, щурили глаза и бились в мелкой дрожи, обнимаясь. Задача создания потомства забылась, надо было выживать. Мороз не прекращался. Перья птиц покрылись ледяной коркой, сковывающей крылья. Аисты не могли летать и добывать пищу. Из последних сил они спустились со столбов в поля и пытались прятаться от морозных ветров в низинах и лысых кустарниках и пешеходами найти хоть что-нибудь съедобное. Еды попадалось совсем мало, а по ночам морозные ветры у земли рубили еще непереносимей, чем у проводов. Аисты теряли силы, неподвижно сидели парами в полях, прижавшись друг к другу и коченея.
Люди хватились птиц. Кто-то заметил уже их на столбах, удивился такому их раннему прибытию, а теперь исчезновению. Кириловцы отправились искать птиц и нашли тех в полях, полуживых, в ледяных коконах. Завернув аистов в куртки и одеяла жители села на осторожных руках отнесли замерзших в свои дома. Птицы были истощены, поэтому не сопротивлялись и даже не боялись. Местные любили аистов, с гордостью отчего-то всегда смотрели на них, проходя или проезжая мимо столбов-постаментов с одной или двумя белыми фигурами. Аисты были словно не правящая, но важная дворянская династия, символ и доказательство благородства и красоты, даже культуры, короли Кирилова и окрестностей, время от времени навещающие своих простоватых родственников-людей.
Этих птиц нельзя обижать или тем более убивать. Три года назад в одном из сел Ямбольской области два аиста погибли в собственном гнезде из-за неисправности в проводке. Электрика, дежурившего на этом участке, не уволили (не было точно известно, его ли это вина), но после гибели птиц от него ушла жена, которая уже целую жизнь хотела этого, но передумывала, жалела мужа, он был хорошим человеком, она просто не любила его, и вот наконец решилась. Аистов здесь очень любили.
Пять кириловских дворов приютило шестнадцать птиц. Почти всех спасли и принесли к себе болгары. Русские и британцы понимали важность аистов для коренных кириловцев и не вмешивались, разве что предлагали свою помощь с кормом. Птиц поселили в отапливаемых пристройках и даже свободных комнатах домов. На сходе общины решили держать аистов до настоящего, южного потепления. Кмет выделил деньги на кормление птиц из общинного бюджета. Трем аистам с обморожениями вызвали ветеринара из Елхова. Тот отказался брать плату за работу.
Вся кириловская жизнь парила теперь вокруг гостей-аистов. У ворот принимающих останавливались сельские жители и, перекрикивая лающих собак, интересовались здоровьем птиц. Женщины, мужчины, дети, старики из избранных семей ухаживали за аистами, бросали им куски сочного мяса, подкладывали птицам чистой соломы. Дети ходили к местным рекам и озерам отлавливать только что проснувшихся, ничего не понимающих шатунских лягушек и змей. В одном из дворов, где реабилитировались аисты, для них задушили и освежевали четырех кроликов, а в другом, даже не принимающем, – козленка по кличке Мартин. Его хозяйка разнесла мясо по домам, в которых приходили в себя птицы. Мартина раздали крылатым гостям, люди ни кусочка не взяли себе. Каждое утро начиналось с проверки аистов и их кормления. Все остальные животные в хозяйстве и даже дети временно потеряли прежнее внимание. Аисты забрали на себя всё. Домашние звери и птицы удивлялись новым существам, самые понимающие ревновали. Кошки переворачивали горшки с рассадой, козы лезли в огороды, петухи беспрерывно сипло кукарекали, поселяя Кирилово в вечное утро.
Стойка нашла аистов там, где их уже никто не смотрел, – в виноградниках на холме, когда-то колхозных, а теперь сдаваемых администрацией внаем сельским жителям. Виноград тоже покрывала ледяная глазурь. Вино будет сладким или не будет вовсе. Женщина принесла домой на руках самца, завернутого в старую куртку ее мужа, а самку в одеяле притащил соседский мальчик. Стойкины птицы были больше остальных и белее, най-белые, ослепительные, почти неоновые, она это всё сразу заметила, но людям отмахивалась – мол, какие-есть-обычные-штекели. Хотя понимала – ее птицы самые красивые и белые, как ангелы. Одной из обмороженных птиц была как раз чудесная Стойкина аистиха. Ветеринар удивился, увидев невиданную такую птицу, сфотографировал ее на айфон и переслал картинку своему приятелю-орнитологу из Варны.
Аистов определяли только сложным, разветвленным семьям, в которых участвовало по меньшей мере два работника, а не одиночкам. Но Стойке не могли отказать, потому что она много лет работала на почте, а главное – в Кирилове помнили и уважали ее мужа Илию – врача, умершего восемь лет назад. Пока он жил, люди села лечились тут же, а теперь ездили в Елхов за медицинской помощью. Стойка, как и было принято, повесила на ворота памятный листок мужа через девять дней после его смерти и никогда не снимала, только меняла распечатку, когда та приходила в негодность. Внучка соседки подарила ей однажды целую пачку целлофановых файлов для а-четвертых бумаг. Стойка теперь клала листок в файл, отчего тот совсем не портился от дождя, а только выцветал на солнце. Теперь Вспомена хватало на год. Жители села, бывало, останавливались у ворот и звали ее, чтобы поговорить – повспоминать Илию.
Сын Стефан жил в Бургасе и работал в туристическом агентстве, приезжал раз-два в месяц, в какую-нибудь среду, чтобы свозить мать на рынок в Елхов и помочь с хозяйством. С детства мягкий, улыбчивый, най-веселый человек села Стефан раздражал отца своей несерьезностью. С юности он пропадал неизвестно где, мало помогал со скотиной и совсем не интересовался медициной, как отец ни пытался привить ее сыну, заставляя его помогать с перевязками и даже операциями. Когда после долгого отсутствия Стефан появлялся в селе, то улыбался-улыбался всему миру подряд, как подсолнух солнцу. Дурак – ставил диагноз Илия. А Стойке ее сын нравился. Хорошо, когда кто-нибудь есть веселый. Нравится-путешествовать-и-встречать-разных-людей, говорил он, улыбаясь. На что Илия, видевший последние тридцать лет одних и тех же 150 человек (он умер до массового приезда иностранцев), изучивший тела односельчан вдоль и поперек, различавший по звуку их сердцебиение (он был грандиозный врач), поднимал сына на смех. Зачем нужны новые люди, когда они все всё равно одинаковые! Сердце, желудок, печень, желчный пузырь, селезенка, сердце, кишечник и прочее, что тухнет и изнашивается с возрастом. Стефан отказался поступать в медицинский, ушел из дома и закончил факультет туризма и гостиничного менеджмента в Варне. Илия отказал ему от дома, только в последние годы, когда стал меньше пить и больше болеть, он разрешал сыну появляться по праздникам. После смерти отца Стефан стал навещать мать чаще.
Сейчас, без мужа, который умер, и сына, который уехал, у Стойки в доме кроме нее жили: две козы – мать и дочь, три курицы, один петух и один пес. Теперь добавились аисты. Стойка поселила их в бывшей приемной мужа, чудной вытянутой комнате с четырьмя маленькими окнами а-четыре, которая была такая еще до превращения в медицинский кабинет. От Стойкиной кухни и спальни его отделяла крохотная прихожая. Окна в приемной закрывались ставнями, и включался белый пронизывающий больничный свет. Птицам Стойка открыла ставни, а свет включала только когда приходила кормить их вечером. В комнате остался старый тапчан, служивший кушеткой для осмотра пациентов, и два старых деревянных шкафа с медицинскими книжками на русском и болгарском. Всё это Стойка занавесила сеткой для теплиц и накидала на пол соломы для гостей-аистов.
Жизнь летела своим чередом. Стойка работала на почте с семи утра до полудня каждый день, кроме воскресенья, занималась хозяйством и животными, кормила аистов лягушками, которые ей приносили кириловские дети, вымывала за белыми гостями пол. Птицы удивительно послушно уходили в сторону, образуя коридор швабре. Стойка дивилась такому мудрому поведению, но потом решила, что стыдно думать про аистов с самого начала, что они поголовно глупые.
От еды и тепла аисты совсем похорошели. Ломаные морозом фигуры теперь приобрели осанку, расправились. Птицы стали будто бы еще больше размером и сильно напоминали чуть пригнувшихся ангелов. На аистов приходили смотреть кмет, соседи, дети соседей, остальные люди Кирилова. Дети наперегонки таскали лягушек, надеясь в обмен посмотреть на птиц. Стойка поначалу пускала всех, но потом устала, а главное, поняла, что аисты тоже теряют силы от того, что их ворошит каждый день пять пар глаз. Она принялась забирать у детей лягушек у калитки, дарила им в ответ прошлогодние яблоки или орехи. Или отправляла с добычей к другим дворам, где тоже гостевали аисты, если лягушек накапливалось много. Дети уходили недовольные. Они желали глядеть на най-белых, най-больших аистов. Три раза короткие и щуплые люди – дети – забиралась на Стойкин двор ранним утром, чтобы смотреть на птиц через мутное окошко старого сельского дома. Восьмилетний Христо однажды первый из всех оказался у одного из маленьких, а-четвертых окон, вдруг закричал и дернулся прочь. Когда он пришел в себя, всмотрелся снова и сказал, что померещилось. Другие вовсе ничего не разглядели, видимо, птицы ушли в дальний угол комнаты.
Аистов отчего-то сильно не полюбили другие Стойкины животные. Пес Себастьян сделался совсем нервным со дня появления чудесных гостей, обливал лаем сверху-донизу дверь, закрывающую птиц от мира, рвался за нее, будто пытаясь пробиться к самому важному и возмутительному куску мяса в своей жизни. Каждый раз, когда Стойка заносила аистам еду и воду, собаку приходилось сажать на цепь. Лойла – белая козочка, но не най-белая, как аисты, а с желтоватым налетом, – совсем развредничалась – пролазила сквозь ограждение и жевала всё, что встречала, не от голода, а от своей подростковой вредности. Лойлина мать Барбара, кофейного цвета, умудренная, крупная, малоподвижная, просто бодала Стойку неподвижным и неясным взглядом из-за сетки-вуали. Куры тревожно слонялись по своей части загона и мало неслись. Их петух пытался улететь, даже разгонялся для этого, но всё время передумывал. Стойка только удивлялась, сколько в животных человеческой ревности.
В начале апреля мороз ушел из Фракийской долины. В то утро, когда солнце впервые забралось высоко над Кириловом и уверенно принялось греть землю, Стойка пришла кормить аистов и увидела двух голых людей, спящих на соломе, прижавшись друг к другу. Самих аистов в комнате не было. Стойка изумленно застряла в двери, не способная двинуться. Мычала корова, блеяли бараны, орал петух – но все соседские, не ее. На Стойкиной дворе и вовсе торчала возмутительная тишина. Один человек пошевелился, но не проснулся. Стойка поставила таз с лягушками и ведро с водой и приблизилась к спящим. Мужчина и женщина, совсем еще молодые, примерно двадцатитрехлетние, были смуглые, густоволосые, лохматые. Темную их кожу почему-то покрывали мелкие перья, оставшиеся, видимо, от аистов. Стойка рассудила, что это влюбленная цыганская пара, забравшаяся к ней в дом. Из-за этого озарения хозяйка перестала бояться и принялась решительно расталкивать спящих и сразу расспрашивать их, как они сюда попали. А главное – куда они дели белых птиц.
Гости просыпались, пугались Стойки, дергали по сторонам головы, оглядывали себя, стыдливо закрывали себя, пытались говорить со Стойкой на непонятном языке, потом на втором непонятном языке (Стойка расслышала, что этот второй – английский, но она ни на каком другом, кроме болгарского, не говорила). Гости неуверенно поднимались на ноги, махали руками, жались друг к другу, дрожали от холода. Молодой человек снял тепличную сетку с топчана и укрыл ей себя и девушку. Гости – двухголовым существом – говорили, не перебивали друг друга, по очереди, показывали в строну гор, видневшихся из Стойкиного двора, в них уже жила Турция. Гости снова махали руками, изображали у себя длинные носы, показывали наверх, то есть на небо. Гости говорили, дрожали под тепличной сеткой. Выжившая лягушка выпрыгнула из таза и, покачиваясь, допрыгала до человеческих ног – четырех босых, в белых, свалявшихся перьях, и двух в тапках на хлопковый носок. Девушка увидела лягушку, и ее вырвало. Стойка очнулась и по-болгарски пообещала вернуться. Она вышла из комнаты, прикрыла дверь. Пока искала вещи, она осознала, что это за люди. Месяц назад Васил из соседнего села рассказывал ей на почте, как его приятель провел из Турции через горы двух нелегальных мигрантов (откуда они бежали в Турцию, не говорилось). За тысячи евро приятель Васила должен был посадить их на машину и довезти до Софии, а оставил как раз здесь, неподалеку от Кирилова, пообещав забрать их на автомобиле, но не возвратился. Стойка тогда решила, что это очередная сказка, каких много рассказывал Васил, а сейчас подумала, что напрасно не закрыла дверь на засов, как всегда делала, когда запирала аистов.
Она вернулась с полотенцами, мужской одеждой и обувью (от мужа, который умер, и от сына, который уехал) и женской одеждой и обувью (ее), ведром и шваброй. Стойка часто помогала мужу с пациентами и из-за этого не была брезглива. Отдав гостям одежду на выбор, она хотела сама замыть пол, но гости вдвоем, очень быстро и слаженно убрали растекшуюся по деревянным доскам рвоту. Стойке понравилось, что они всё делали вместе, разделяя действия и ответственность, как две сработавшиеся части одного организма. Стойка проводила беженцев до ванной. Кирилово было современным селом, здесь давно уже появились условия – водопровод и канализация. Дом Стойки и ее мужа стал таким городским одним из первых.
Мигранты помылись и оделись – парень в сыновьи трусы, футболку и носки и мужнин свитер и джинсы, сыновьи ботинки, девушка в Стойкины джинсы, платье, сыновьи ботинки, а еще покрыла голову Стойкиным неношеным платком. Стойка переместила гостей за стол на кухне и хорошенько разглядела, пока они ели человеческую еду. Беженцы были юными, годившимися Стойке в дети, красивыми, похожими друг на друга, но так, как это часто бывает не от родства, а от сильной и взаимной любви. У парня не сошла с губ и щек еще юношеская пухлость, девушка, круглощекая и большеглазая, походила на красавицу, и, возможно, ей и была. Стойка заметила, что оба они так и не смыли с тел прилипшие аистовые перья. Она потерла свою кожу на запястье ладонью, объясняя так, что перья лучше было бы стереть. Девушка поднесла свою руку ближе к Стойке и оттянула кожу. Стойка увидела, что перья тянулись из пор. Она удивилась и спросила снова, где аисты, изобразив руками полет и длинный нос.
Вот домашний театр открыл сезон в Кирилове. Маленькими драматическими кусочками беженцы рассказали свою историю. Стойка поняла вроде, что они заплатили две тысячи евро человеку, чтобы он провел их из Турции (куда они попали на автобусе) в Болгарию через горы и увез в Софию на машине. Здесь в долине он ушел за транспортом и не вернулся. Стойка уловила вроде, что беженцы испугались миграционной полиции и решили превратиться в аистов. (Стойка вспомнила, что миграционная полиция приезжала к ней пару раз и спрашивала про соседей-британцев через дорогу и соседей-русских в доме с левого бока. Ни про кого из них Стойка не сказала плохо, сказала только добре, потому они жили и работали, ухаживали за животными и растениями, прямо как она сама. В бумажках ее остался и мялся где-то телефон миграционной полиции.) Стойка уловила, что беженцы жалеют, что не превратились в аистов еще раньше. Могли бы просто перелететь границу, как это делают все путешествующие птицы, не рисковать жизнью, не тратить денег. Просто-просто. Но тогда они еще не боялись так сильно, поэтому о превращении никто не думал.
Стать аистами им показалось блестящей идеей. Птицы жили так же, как девушка и юноша собирались жить дома, – создавали семью. У пары даже появилась своя собственная, чудная квартира на столбе. С другими аистами беженцы старались не встречаться, те таращились подозрительно, чуяли, что здесь что-то нечисто. Потом ударили морозы, у пары не получилось распревратиться от холода. Мигранты-птицы закоченели, заледенели крылья и лапы. Обнявшись, они засели в виноградниках умирать, глядя на красивую долину. А дальше пришли люди и спасли птиц. Беженцы рассчитывали на сарай или курятник, а оказались в теплом человеческом доме. Они отогревались, спали в соломе, ели лягушек и сырое мясо. Ветеринар вылечил обмороженное крыло девушки. Стойка не только кормила беженцев-аистов и убирала за ними, но и ласково разговаривали с ними, за что они, как поняла Стойка, ей были особенно благодарны. Еще они собирались дождаться настоящей весны и улететь в Софию, где находился родственник юноши. Но всё оттягивали свой полет, не хотели покидать насиженного места, им ощущалось у Стойки почти как до войны дома – уютно и безопасно. От потепления на улице они неожиданно превратились обратно в людей. Очень сложно притворяться долго кем-то, кем ты совсем не являешься, так разобрала Стойка или додумала их слова.
Она поняла, что они городские и недавно поженились. Девушка работала в музее (или в университете), он делал ортопедическую обувь в мастерской или в магазине то ли отца, то ли дяди, то ли брата. Как только перелетели, они перешли через горы в отличных, его производства, стельках. Одежда и обувь, очевидно, затерялась в полях после превращения. Здесь беженцы очень боялись детей и пса Себастьяна и очень благодарили Стойку, что она не пускала тех в комнату. Хотя и у девушки дома тоже жили пес и братья-дети. У парня, кажется, тоже, но, возможно, Стойка что-то не так поняла. Ей, привыкшей видеть мигрантов по телевизору в похожих на грязные айсберги лодках или в вытянутых загонах беженских лагерей, удивительно было наблюдать за такими людьми в пространстве своего дома, в одежде ее семьи, оживляющих и украшающих ее.
Более всего Стойку поразила мысль, что до того, как побежать, эти люди жили какой-то своей собственной жизнью в оставленном городе – с музеем (или университетом), стельками, собакой, братьями, в своем огромном, как изображала девушка своими крыльями-руками, доме – от которого, как поняла Стойка, осталась только труха. Куда делась обитавшая там родня – спросить она не решилась.
Беженка удивила Стойку. Хоть она и покрывала голову, и говорила вежливо, но вела себя как умная, деятельная и внимательная принцесса. Она была со своим долговязым и серьезным мужем в паре не то чтобы главная, но источником всех важных искр, из которых дальше разгоралось жизненное движение. Стойка помнила, что она вела себя похоже в молодости, но Илия не воспринимал ее искр всерьез, к чему бы ни относилось их будущее и несбыточное пламя – работе, дому, сыну, отдыху, сексу. Потом муж и вовсе принялся раздражаться, обжигаться об искры, обвинять жену в глупости, легкомысленности, детскости. Она выработала иммунитет к мужу, перестала производить искры и чего-то хотеть.
Стойка решила оставить беженцев себе на какое-то время. Это было опасно и недальновидно. Аисты все-таки улетали в июле-августе обратно на юг, а мигранты не собирались возвращаться домой. Но Стойка скоро успокоилась – бродила в паре бывших птиц шаровая молния нового отъезда.
Стойка отдала гостям одеяла, набор постельного белья, старый бабкин сундук, пустой советский шкаф и новый торшер. Четыре маленьких а-четвертых окна Стойка просто закрыла ставнями. Парень и девушка беспрепятственно передвигались по дому к кухне и ванной. На улицу не выходили, это было опасно. У себя в комнате они рассматривали медицинские книги на русском и б о лгарском языках, разговаривали и, как слышала Стойка, молились.
Когда дети Кирилова принесли новый улов недодушенных лягушек, Стойка объявила, что най-белые птицы на днях попросились на волю и улетели в поля. То же она рассказала прилетевшему из Варны краснощекому и взволнованному орнитологу. Он расстроился, попричитал, что не смог приехать раньше, так как был на конференции в Америке. Говорили, он ушел искать най-белых а истов в поля, напился там и долго ходил потом по улицам Кирилова, заставляя местных собак задыхаться от лая.
Беженцы остановились у Стойки не как дети или внуки, а скорее как дети хороших знакомых или дальней родни, которые сняли у тетки жилье на лето. Они проводили больший кусок дня в своей комнате, но выходили оттуда, чтобы готовить и убирать доступную им часть дома, снова вдвоем, как одно целое. Бывало, когда Стойка возвращалась с почты, ее ждал обед, вкусный и странный – из ее же продуктов, но совсем незнакомых сочетаний блюда. Никто не готовил Стойке обеды с ее детства. Животные – все до одного – после превращения беженцев-птиц в беженцев-людей успокоились, вернулись к своей обычной животной жизни. А Стойка, как заметили жители Кирилова, сильно помолодела, вспомнила свое детское выражение лица и снова принялась носить его.
Ужины Стойка готовила сама и стучала беженцам в дверь. Они иногда отказывались. Девушку часто тошнило, она забрала с собой в комнату старый треснутый таз (с разрешения), Стойка – вдова врача – догадывалась, что та беременна. Когда хозяйка и гости ужинали вместе, они жевали спокойно и молча. Стойка и беженцы всё равно не понимали друг друга, всё самое важное они у ж е обсудили, кроме того, какой сделать следующий шаг.
Беженцы не знали, как бежать дальше, в Софию, и теперь часто ссорились. Перья на их коже совсем исчезли, превратиться снова в птиц никак не получалось. Стойка слышала их споры за стеной на неизвестном языке, видела их мающиеся лица. Особенно мучилась девушка, которая, несмотря на ожидание ребенка, рвалась в открытый, как опасная рана, мир. Денег, документов, транс п орта у них не водилось. Девушка совсем загрустила, редко разговаривала и выходила из комнаты. Стойка думала. Жалела, что так и не купила автомобиль и не выучилась управлять им. Она могла бы снять денег со счета в Елхове, заплатить какому-нибудь местному человеку с машиной, чтобы он отвез гостей-детей в Софию, но боялась и того, что гостей ее бросят где-нибудь по дороге, и того, что из-за беженцев, в случае облавы, сам перевозчик попадет в тюрьму.
В день, когда гость, улыбаясь, вручил Стойке ортопедические стельки, смастеренные тут же – в ее доме, из подручных материалов, аккуратно изогнутые, взлетающие над поверхностью земли под нужным углом (он-то увидел, что у нее не плоскостопие, как она всегда считала, а излишне высокий подъем), она решила, что этой молодости может помочь только другая молодость. Стойка позвонила сыну, самому веселому человеку Кирилова, и попросила приехать и высвободить себе день-второй, чтобы помочь матери по хозяйству. Ведь это – она решила – как раз его профессия, перемещать людей в пространстве и делать их таким образом счастливей.
Стефан удивился: мать всегда относилась к нему как к подсолнуху с переполненной семечками башкой – никогда прежде она не просила его сделать какое-либо усилие, чтобы он не растряс, не опустошил себя. Следующим утром Стойка повесила на почте объявление, что уехала в Елхов по делам, и действительно поехала в Елхов на маршрутке, сняла там в банкомате деньги, благополучно вернулась с ними домой – ее подвезли русские соседи. Стойка попросила гостей собираться и объявила, что они едут в Софию. Гости забегали, запорхали по дому, а потом успокоились, уселись в комнате на топчане ждать, осознав, что собирать им нечего.
Стойка переживала за сына, заранее жалела, что втягивает его в эту историю, но вместе с тем в ней звенело, ворочалось материнское крепостничество, по которому – сын ее, значит, она может рисковать и им тоже ради хорошего дела и ему только может довериться. Стефан как продолжение Стойки, просто другое ее тело, более молодое, умеющее водить. Стефан приехал на новой машине по-прежнему веселый, почему-то сильно располневший и от этого напоминающий отца. Гости сидели в своей комнате на несуществующих чемоданах. Стойка напоила сына кофе и рассказала ему всю историю – от най-белых аистов до беженцев-почти-детей в соседней комнате, озвучив в том числе главную его, Стефана, задачу – довезти гостей до Софии. Стефан задумался, сходил, заглянул в птичью комнату – беженцы радостно вскочили с топчана, приветливо закивали ему, сыну Стойки. Тот закрыл дверь и сказал матери, что сейчас позвонит приятелю в Софию, узнает, сможет ли тот приютить ее гостей на первое время. Стойка полетела делать бутерброды, заваривать в термос кофе. Стефан разговаривал во дворе по телефону. Лойла упиралась в него взглядом. Потом он вернулся в дом, попросил, не улыбаясь, еще кофе, сказал, что ждет, когда друг перезвонит, чтоб понимать точно. Девушка-бывший-аист подошла к окошку а-четыре и отодвинула загородку. Посреди двора стояла Лойла неподвижно на грязно-белом столе и смотрела прямо, то ли перед собой, то ли на беженку в окошке. Той стало дурно, она отошла от окна и села на топчан. Муж поднес ей красный треснутый таз. Хрипло залаял Себастьян.
Два офицера миграционной полиции, разморенные майским солнцем, укачанные колыбелью деревенских дорог, просто зашли в комнату бывших аистов, лениво надели на тех, онемевших, безъязыких, наручники и посадили в фургон с эмблемой. Стойка пыталась спорить и рассказывать, но ее никто не слушал. Стефан объяснил за нее, что эти люди забрались в дом и воспользовались добротой-и-най-наивностью его матери. Размягченные полицейские кивнули, но всё же в уме решили заехать еще. После того как Лойла проблеяла вслед фургону с бывшими-аистами, Стефан стал учить Стойку, тоже немую, безъязыкую, что-это-совсем-не-туристы-не-потерявшиеся-дети-а-совсем-чужие-люди-хорошо-что-мы-их-не-пускаем-вон-посмотри-русские-их-совсем-не-пускают-не-оттого-что-у-них-нет-денег-вон-сколько-они-тратят-и-в-бургасе-и-в-несебре-и-слынчев-бряге-а-вон-британцы-едут-жить-к-нам-потому-что-у-себя-они-уже-задыхаются-от-этих-не-даром-решили-отделиться-от-европы-потому-что-им-тоже-надоели-эти-лезут-и-лезут-это-просто-это-же-я-волнуюсь-за-тебя-а-чтобы-могло-случиться-а?
Впервые в жизни он учил и отчитывал Стойку так же, как делал это всегда муж Илия, учил как ребенка, как младшее, неразумное существо. А когда Стефан закончил, то растянулся своей ласковой, интересной улыбкой. Стойка подумала, как сильно он проступает, Илия, выцветание наоборот, настоящий Вспомен.
Фургон подъехал к зданию миграционной полиции в Ямболе, заново застывшие из мягкого, принявшие форму полицейские открыли дверцу-вторую, сказали выходить, и вместо беженцев из казенной темноты выпорхнули най-большие и най-белые аисты и взвились над городом. Люди говорили потом, что встречали таких под Ямболом, вдвоем или даже вчетвером – с двумя птенцами. Но это могли быть другие очень большие и очень белые аисты.
В Кирилове недолго обсуждали историю с беженцами, никто точно не понял, были они или нет. Стойка ничего не рассказывала, на расспросы пожимала плечами. Она стала моложе по отношению к себе прежней и старше по сравнению с собой недавней, будто выросла из детского в девичье состояние. Историю забыли. С сыном Стойка теперь общалась вежливо, формально улыбаясь в телефон. Он боялся приезжать, понял, что-то хрустнуло, надломилось, но спрашивал, не нужно ли помочь-появиться, мать уверяла, что нет. На днях Стефан позвонил и сказал, что женится на коллеге из турфирмы и что она беременна, а для церемонии они полетят куда-нибудь на юг, скорее всего в Доминикану, для них – сотрудников – всегда есть хорошие путевки. Стойка обрадовалась, поздравила молодых. Она надела стоптанные свои ботинки с подарком – ортопедическими стельками, в которых она теперь могла дойти хоть до Елхова, и отправилась на склон к виноградникам, где нашла аистов в марте.
Здесь было и есть немыслимо красиво. Горы лежали и лежат на мягком диване горизонта под нежным небом. Разноцветные поля половицами украшали и украшают широкую долину. Виноградники расчесывали и расчесывают холмы сиреневыми, изумрудными и янтарными проборами. И подсолнухи, их армия, их нация желтоголовых умниц, храбрых героев с маленькими черными мыслями, внутри всегда оказывающимися белыми, кивали и наступали, кивают и наступают с разных сторон, делая Фракию одной огромной масляной картиной. А сверху подливало и подливает жира и золота местное крупное солнце.
Стойка решила, что ничего тут не изменилось с ее детства, несмотря на время и смену одного Союза на другой. Илия приехал сюда по распределению из Варны, а она родилась в Кирилове и всегда жила здесь. Подул ветер и принялся бодать ее в спину. Стойка расставила руки, стала махать, сначала медленно и редко, как аист, а потом чаще, как чайка, и, наконец, часто-часто, как ласточка. От усердия ее волосы выбрались из-под заколки, штаны доползли до икр, от рубашки с треском отвалилась пуговицы. Ветер гнал воздух, помогая ей. Стойка закрыла глаза, застыла с раскинутыми руками, наклонилась вперед, взмахнула еще раз и не полетела.
“Не может быть, что я курица!” – подумала она и рассмеялась.
Следующим утром Стойка пришла на работу, но не стала открывать почту, а отправилась в библиотеку, которая находилась на главной площади, напротив старой церкви, в том же здании, что и почта, и работала в те же часы. Там Стойка надела очки, попросила Марию усадить ее за компьютер с интернетом и, долго путешествуя по клавиатуре пальцами, собирая буквы в слова, находила информацию о путевках, билетах, гостиницах, турах и той красоте, которую можно увидеть в мире. Всё изменилось с тех времен, когда всё телевидение по пятницам показывали только на русском, теперь почти куда угодно можно было поехать с болгарским паспортом. Благодаря этой свободе в том числе зарабатывали Стойкин сын и Стойкина будущая невестка со Стойкиным внуком в животе. Можно было обратиться за помощью к Стефану, но в этот раз Стойка решила обойтись без него.
Выбрав полюбившееся, она переписала на листок бережным почерком все данные. Бронировать онлайн не решилась, а отправилась звонить из дома. Из бывшей аистовой комнаты. Из бывшего кабинета умершего мужа. Оттуда, а даже не со двора, почему-то четче слышались голоса на другом конце трубки. Почту можно было оставить на Марию в первое время, потом найти себе замену. У Стойки зрел сложный, разветвленный план, которого должно хватить на годы. Она сменила ботинки на домашние тапки, уселась на топчан, на котором ее муж когда-то осматривал пациентов, а потом спали гости-аисты. Стойка принялась набирать номер турагентства и вдруг увидела расположившееся в профиль узкое бородатое скорее лицо, чем морду, в рамке а-четвертого окна. Она вышла на двор и увидела Лойлу, забравшуюся на старое автомобильное колесо от давно не существующей мужниной машины. Стоя на колесе задними копытцами, коза облокачивалась на стену дома передними и жевала листья смоквы, плодов еще не народилось. Себастьян дремал под крыльцом, Барбара меланхолично щипала траву за сеткой, курица кудахтала по земле, других двух не было видно, но Стойка знала и чувствовала, что те сидят в курятнике и что петух, которого тоже не разглядеть отсюда, вышагивает за деревянной бочкой. Старая девочка, хозяйка собственного звериного королевства, вдова врача, работница почты, мать сотрудника турагентства и най-веселого человека Кирилова, спасительница аистов и почти-спасительница беженцев поняла, что она не покинет своего дома с вытянутой пристройкой и четырьмя окнами а-четыре и никогда не оставит Лойлу, Барбару, Себастьяна, трех куриц и одного петуха. Нравится-встречать-других-людей-так-никогда-не-знаешь-кого-можно-найти-в-виноградниках. Стойка спрятала бумажку с номерами турагентства и обозначенной мечтой в старинный сервант вместе со всеми бумажками (в том числе номером миграционной полиции), в другой ящик сложила телефон и ушла кормить кур.
P.S.
Уж вы гости дорогие Все слова вокруг тугие Уж вы гости дорогие Все слова вокруг благие Уж Уж Уж домой нам невтерпеж Уж Уж Уж бежать вам невтерпеж… (дальше песню уносит ветер) А этому автору просто необходимо закончить перевод книги сомалийско-британской поэтессы Варсан Шайр “Учу мою маму рожать”. И опубликовать его.Василий Авченко Поцелуй медузы
Александру Марцуну, ушедшему в Амурский залив
Меня обожгло в полосе водорослей, возле берега. Как будто кто-то приложил раскаленный паяльник к нежной коже с внутренней стороны колена.
Это было на Чайке, недалеко от моего дома. Спуститься с сопки, пересечь рельсы – вот и море. Туда я повел купаться друзей-сибиряков.
За тридцать с лишним прожитых во Владивостоке лет в морской воде я провел, наверное, чистый год календарного времени. Но медуза-крестовик не жалила меня ни разу. Я даже иногда думал, что злые крестовики – миф вроде летающего человека, который будто бы водится в тайге на горе Пидан, или крушения в 1986 году инопланетного космического корабля на “высоте 611” в Дальнегорске. В опасность крестовиков мне не верилось, как некоторые не верят в опасность энцефалитных клещей для коренных приморцев – всё, мол, у нас давно привито самой атмосферой, привычные мы, свои, местные…
Да и вообще медуз у нас бояться не принято. Разве что брезгливо отдернешь руку, наткнувшись в воде на огромный красноватый купол со свисающими вниз канатами. Белесыми студнеобразными медузами величиной в ладонь или две (недавно я узнал, что они называются аурелиями) мы в детстве играли в пятнашки. Особо одаренные применяли в тех же целях морских ежей – черных, несъедобных – и потом долго выковыривали из-под кожи крошащиеся иглы.
И все-таки это был крестовик, больше некому. Крошечная медузка с зонтиком всего в два-три сантиметра диаметром, которая любит заросли морской травы и теплую мутную воду у берега. Разглядеть крестовика можно с большим трудом и только благодаря красному крестику на прозрачном куполе. Ядовитыми щупальцами-стрекалами этот миниатюрный хищник добывает себе еду. Убить человека он, конечно, не способен, но приятного мало.
Стряхнув с ноги комочек слизи, оставшийся от жгучего прикосновения, я промыл горящее место морской водой – целебной, йодистой, в ней быстро заживают порезы. Ногу какое-то время жгло, потом перестало. По дороге домой я уже забыл о медузьей атаке.
Человек – существо сухопутное. Он пишет романы о волках и лошадях, о собаках и медведях. О рыбах и медузах романов не пишут. “Рыбы всегда жили в чужом нам мире, мы не встречались с ними, мы не слышали, как они там мычали или блеяли в разговорах друг с другом, мы не почесывали маленьких рыб, как почесывали за ухом теленка. И потому в нас не могла возникнуть любовь к ним – холодным и скользким. И потому сегодня мы косим рыбьи косяки тралами, как косим тростник, то есть не испытываем при этом никаких жалостных эмоций”, – писал моряк и философ моря Виктор Конецкий.
И все-таки лично у меня глубоко интимные отношения сложились именно с морем. Не с тайгой, например. Хотя отец-геолог с детства таскал меня по таежным распадкам, cтановым хребтам, алданам, гилюям…
В море удивительно всё: планктон, фосфорически искрящийся ночью, дайверы-нерпы, джунгли подводных кустарников; мидии, гребешки и устрицы, которыми я резал руки, кажется, чаще, чем собственное лицо безопасной бритвой; морские звезды и ежи, первым появлением которых в нашей словесности мы обязаны восточному походу Ивана Гончарова на фрегате “Паллада”: “Морской еж – это полурастение, полуживотное: он растет и, кажется, дышит…”
В водах омывающего Владивосток залива Петра Великого – этого морского Вавилона, о существовании которого сам Петр наверняка не догадывался, – встречают друг друга северяне и южане: корюшка, навага, минтай – и фугу, акулы, теплолюбивые медузы…
В воде ты становишься совершенно одиноким, изолированным от остального человечества, как в космосе.
Глядя на всё, что живет и движется под водой, я испытываю восторг и ужас перед мирозданием.
Нам не нужны “расширители сознания”, уместные где-нибудь в Голландии. У нас для расширения сознания – целая страна, в которой всё – настоящее. Иного не дано – и не надо.
Мы и сами – как “дикий русский лосось” по сравнению с норвежской семгой, теплично выращенной на рыбной ферме и не знающей, что такое океан и свобода.
Мы по-прежнему не понимаем западный феномен “спортивной рыбалки”, когда пойманную рыбу следует отпустить. Несокрушим инстинкт охотника: добыть и съесть. Русская уха – это не заграничный fish soup; в ней слышится размах, ухарство, дикость и воля, каких нипочем не разглядеть в добропорядочно-буржуазном, стерильно-ресторанном “рыбном супе”.
Иногда, однако, действуешь вопреки инстинктам.
На одном из мысов Русского острова волны выбрасывали на камни анчоусов не то селедочную молодь. Рыбки сразу умирали на раскаленных солнцем камнях или какое-то время сновали в соленых лужах, но скоро всё равно засыпали. Даже чайки уже наелись так, что улетели отдыхать. Можно было легко набрать этих рыбок на ужин, но мы ловили их руками и выбрасывали в море, надеясь, что у них хватит ума отплыть подальше от камней, как это делают корабли в шторм. Поедать этих бедняг было бы всё равно что варить уху в аквариуме.
Когда-то давно, еще подростками, мы с другом пришли на берег моря и увидели летящее по воздуху короткое удилище. На крючок поймалась чайка – и вот таскала удочку за собой, пока та не зацепилась за куст. Рухнув в траву, чайка билась в отчаянии. Набравшись храбрости, мы подошли, “зафиксировали” ее, как буйнопомешанного, осторожно извлекли крючок из чаечьего клюва, которым она норовила нас ударить, и отпустили птицу.
Из греческой мифологии мы помним, что нельзя смотреть в лицо медузы. Из славянской – что русалки могут утянуть на дно. Речные люди – наши предки – брезгливо называли обитателей океанских пучин “морскими гадами”. На старинных европейских гравюрах изображались спруты-кракены, обвившие щупальцами мачты кораблей, чтобы увлечь их в темные глубины… Во всём этом слышится древний ужас человека перед морской стихией. Да и само слово “море” кажется одного корня со “смертью”. Море виделось обитателям матерой земли угрозой, берег – оберегом.
Океан познан человеком меньше, чем космос. Всё это, говоря языком ученых, биоразнообразие, множество подводных и надводных форм жизни – для чего оно? Неужели это всего лишь текущий результат бессмысленной и беспощадной эволюции по Дарвину – или же есть какой-то сверхсмысл? Может быть, это запасные, или маневровые, или даже тупиковые пути общего движения земной жизни вперед и вверх, к усложнению и последующему переходу в новое, пока не вообразимое для человека качественное состояние?
Как удивительно, что ракушка, извлеченная из моря, – одновременно и “морепродукт”, и один из ключей к познанию мира. Зеркало, в котором видишь себя – и всё сущее.
Напрасно я не придал значения ожогу крестовика. Ночью началось. Я чесался, как новичок-героинщик, – кожа зудела вся. Еще неприятнее была ломота в мышцах: то во всех сразу, то по очереди: нога, рука, спина… Яд, который хранил в своих стрекалах ничтожный комок плавучей морской слизи, ударил не по месту поражения, а по всей нервной системе. Первую ночь я не спал совсем, меня крутило и подбрасывало; друзья-сибиряки, бодро позвякивая стеклом, развлекали меня пением под гармонь:
Есть по Чуйскому тракту дорога, Много ездит по ней шоферов. Но один был отчаянный шофер — Звали Колька его Снегирев…Потом мой многоопытный старший товарищ, которого я за глаза зову Вечным Бичом, сказал, что сразу после ожога нужно было засадить пару стаканов водки. Бич утверждал, что это будто бы известный медицинский факт, но врачи его не афишируют, потому что не могут пропагандировать пьянство – Гиппократ не поймет… Правда это или нет – не знаю.
Раньше мне казалось, что море не тронет.
Или же этот поцелуй медузы – знак причащения, подмигивание Нептуна? Я ведь столько времени всматривался и вдумывался в море, пытаясь уловить испускаемые им, как лемовским непостижимым Солярисом, сигналы.
Может, напрасно я не верил легендам о Пидане и “высоте 611”? Ведь даже таежный визионер Арсеньев, ни разу не уличенный в фантазировании, однажды описал свою лесную встречу с тем самым летающим человеком – “Ли-чжен-цзы”.
Я человек приземленный и не хватал звезд с неба. Но когда они очень нужны – можно пойти к Амурскому заливу и найти звезды в нем. Ведь море – это отражение неба.
Евгений Водолазкин Далеко-далеко…
Коты (под этим обозначением я подразумеваю лиц обоего пола) сопровождают нас всю нашу жизнь – с высоко поднятым хвостом, сибирские и сиамские, персы и шартрезы, пушистые и бесшерстные. Многократно воспетые отечественной и зарубежной литературой. Оставим в покое классику – уже наш XXI век дал два замечательных романа о котах. Имею в виду “Путь Мури” Ильи Бояшова и “Дни Савелия” Григория Служителя. И всё же о котах нужно писать больше: они того стоят.
Как известно, кот – древнее и неприкосновенное животное. Здесь можно было бы поговорить о египетских кошках, но единственное мое впечатление о них (помимо Эрмитажа) связано с посещением мюнхенского Музея Резиденции. Не могу сказать, что между мной и тамошними обитателями возникло взаимное чувство. Не пробежала, выражаясь языком любовных романов, искра симпатии – и ничто не ёкнуло ни в них, ни во мне. Для любителя котов зрелище было удручающим: за стеклами витрин располагались десятки – если не сотни – туго спеленутых четвероногих. Да, почет, да, обожествление и возможность мяукнуть, так сказать, в вечность. Но до чего же грустно они смотрелись в этом баварском мавзолее – уж так они были не похожи на наших веселых спутников жизни.
Если говорить о древности, то в связи с родом моих занятий мне ближе Древняя Русь, где котов никто не мумифицировал. Их происхождению посвящен средневековый анонимный апокриф о мыши в Ноевом ковчеге. Не знакомый с дарвинизмом автор видел это следующим образом. В ковчеге, собравшем, как известно, каждой твари по паре, царило полное согласие. Уж как-то так сложилось, что животные смогли там друг с другом поладить: так бывает в трудные времена. И только мышь, в которую вселился Дьявол, вела себя деструктивно: не сказав никому ни слова, стала прогрызать в ковчеге дыру. Обитателям ковчега сразу стало понятно, чем могут кончиться подобные вещи. И тогда произошло следующее: лев чихнул (по-древнерусски – “прыснул”), из его ноздри выскочил кот – и задушил мышь. Так, по утверждению древнего сказания, возникли коты.
Русское Средневековье отзывается о котах самым уважительным образом. К примеру, Житие Никандра Псковского рассказывает о том, что святому однажды понадобился кот. Он обратился к одному из посетивших его “пользы ради душевныя”: “Чадо Иосифе, несть у меня кота. Но сотвори ми послушание – сыщи ми кота”. Другая, литературно обработанная, редакция Жития детализирует этот сюжет, избегая при этом слов “кот” и “мышь”. Повествование приобретает эпический характер: “Не обленися принести мне некоего животна, малых животных, пакость творящих, зверски терзающего и некосно изъядающаго”.
Судя по ответу Иосифа, поручение по средневековым меркам было не из легких: “Да где такову аз вещь обрящу, тебе угодну?” Никандр дает ему точный адрес обладателя кота, и Иосиф поручение выполняет. Но не до конца. Вместо того чтобы отнести животное старцу, он отправляется домой, закрывает его в темном месте и не дает ему еды и питья. Иррациональное поведение Иосифа объясняется тем, что действовал он “по наносу Дияволю”. Когда Иосиф все-таки является к Никандру, святой укоряет его: “Иосифе, почто кота сего в темницы смиряеши три дни?” История заканчивается благополучно и для Иосифа, и для кота. Это – одно из немногих упоминаний котов в древнерусской литературе.
В наше время достать кота гораздо проще. Чаще всего это получается само собой – так было у меня. Своего кота я получил в детском саду, куда ходила моя дочь. Однажды вечером, когда я забирал ее из сада, ко мне подошла воспитательница. Она сказала, что у детсадовской кошки Муси появились котята, и попросила взять одного из них. Мусю знали не только дети (она проводила с ними всё свое свободное время), но и родители, поскольку кошка не пропускала ни одного родительского собрания.
Получалось, что предлагаемый мне котенок происходил из хорошей – хотя и неполной – семьи. Для Петербурга это очень важное обстоятельство. Я легкомысленно последовал за воспитательницей в подсобное помещение. Счастливая мать сидела в коробке с двумя еще не пристроенными сыновьями. Один из котят довольно злобно на меня зашипел, и в душе моей шевельнулись первые сомнения. По правде говоря, я не был уверен, что мне нужен кот, но не мог найти причину для отказа. Не такое это простое дело – отказать воспитательнице. Ведь просьба воспитательницы – это приказ. Чувствуя себя некоторым образом участником телеигры, я попросил разрешения позвонить жене. И позвонил. И ничего это не дало: жена впала в ту же растерянность, что и я. Ситуация, видимо, была предрешена. Из двух котят я выбрал нешипевшего. Домой мы вернулись втроем.
Я помнил, что лошадям даются имена по первым слогам имен их родителей, но родительница нашего котенка была, как сказано, матерью-одиночкой. Обычная кошачья история. Муся, которую поматросили и бросили, последствия вынуждена была расхлебывать одна. Поскольку родословная нашего нового жильца ограничивалась мамой Мусей, мы назвали его Мусиным.
Первый вечер прошел в счастливом созерцании крохи, но уже наутро начались суровые будни. При дневном свете (в Петербурге это редкость) выяснилось, что кот наш косоглазый. Мы утешали себя тем, что косоглазых котов на свете не так уж много и что в известном смысле это даже плюс. Дальнейшие открытия были менее радостного свойства. Мусина пришлось срочно избавлять от блох (которые, как оказалось, бывают и в хороших семьях), а также учить ходить в правильное место. При этом наши с Мусиным представления о правильных местах существенно расходились. Спустя несколько недель обнаружилось также, что наш котик не признавал специальных приспособлений для точения когтей. Найдя себе подходящее кресло, Мусин сосредоточился на нем. Через пару месяцев оно превратилось в лохмотья. Кроме того, он придумал себе развлечение: перебирая лапами по нижней части дивана, скользил на спине по ковровому покрытию. Временами переключался на обои, обувь и мягкие игрушки.
Самой большой потерей стали ноутбук и лазерный принтер. Он не был луддитом, наш Мусин, и не объявлял войну машинам. К этим предметам он попросту ревновал. Собственно, это было отношением не к технике, а к тому, что в работе за компьютером не принимал участия он. Оргтехнику Мусин усиленно метил, чтобы всем было ясно, что ею пользуются не только хозяева. Сначала вышел из строя принтер, а потом – с шипением и дымом – ноутбук. И то, и другое починке не подлежало, потому что (так мне объяснил компьютерный мастер) речь шла о солевом растворе, который является хорошим проводником. После воздействия воды (мастер поднял бутылку минералки) он бы компьютер починил, а после солевого раствора – никогда. Что ж, виноват был только я, лишивший кота легального доступа к ноутбуку.
Купив новую технику, я работал на ней уже вместе с Мусиным. У компьютера ставился дополнительный стул. Я переводил древнерусские хронографы или, скажем, набирал церковнославянские тексты житий, а Мусин сидел рядом. Он зорко следил за правильностью перевода и помогал составлять комментарии.
Из рассказов моей бабушки, учительницы биологии, я знал, что даже домашние коты принадлежит к отряду хищных. Что это значит на практике, я понял, когда Мусин стал на нас охотиться. Наш добрейший котик иногда вдруг выскакивал из-за диванов и стульев и – старался поймать наши ноги. Очевидно, он выбирал объект по силам, потому что больше всех доставалось нашей пятилетней дочери. Мусин не кусал, не царапал – просто фиксировал свою победу. Но сама внезапность его действий заставляла нас постоянно думать о ногах.
Гостей Мусин не любил. Точнее, не всех гостей, а тех, которые его не замечали и говорили, как ему казалось, на посторонние темы. В таких случаях он начинал метаться по квартире и всячески привлекать к себе внимание. Но стоило кому-то сказать: “Какой красивый котик!” (а он был действительно красив), как он мгновенно успокаивался и садился рядом с тем, кто догадался это произнести. Наш благодарный кот соглашался на любой вид внимания, включая фамильярное “косой с колбасой”.
Иногда я брал его на руки и декламировал детскую загадку о том, как “далеко-далеко на лугу пасутся ко…”. И хотя в моей версии ответом были коты, выслушивать эту пургу Мусин был не намерен. Вкусивший от плодов науки, он считал такие загадки игрой на понижение.
Разумеется, я не был первым, кто писал в соавторстве с котами. Так, знаменитый Юрий Валентинович Кнорозов, расшифровавший письменность майя, создавал свои работы вместе с кошкой Асей. Свою статью о происхождении языка он подписал двумя именами – своим и Асиным. Когда редактор вычеркнул Асино имя, Кнорозов был вне себя. Мусин на своей подписи не настаивал. Скромный герой труда, он легко отказывался от указания своего авторства, потому что знал, что дискриминация котов в издательских кругах – всё еще обычное дело.
Настоящим потрясением для Мусина стало мое обращение к прозе. В соответствии со своими офтальмологическими особенностями на всё, что не касалось науки, он вообще смотрел косо. Первое время мое новое увлечение представлялось ему прямой изменой науке, но впоследствии взгляды его изменились. Литература стала ему казаться предметом, достойным внимания, и при первых щелчках клавиатуры он по-прежнему прибегал, требуя поставить рядом стул. Вообще говоря, современную литературу он оценивал совсем неплохо. Вершин, равных “Коту Мурру”, он в ней не видел, но ему казалось, что после беспокойных девяностых она начинает выруливать в нужном направлении. Наши с ним вкусы в целом совпадали.
После того как роман “Путь Мури” получил “Нацбест”, его взгляд на литературный процесс стал еще более оптимистическим. К “Нацбесту” он проникся большим уважением, а выбор его жюри находил взвешенным и объективным. Помимо романа Бояшова Мусин ценил и более далекие от его любимой темы вещи. Он зачитывался романами финалистов “Большой книги”, “Ясной Поляны”, а также “НОСа”, название которого ему казалось на редкость удачным. Не отвергал наш кот и “Русского Букера”, ценя его за смелые решения. Премия Андрея Белого ему нравилась всем, кроме приза: к яблокам и водке он был равнодушен.
Всматриваясь в тенденции развития литературы, Мусин решительно указывал на сходство поэтики постмодернизма с поэтикой средневековой. Из наших с ним бесед впоследствии родилась статья “О средневековой письменности и современной литературе”. По цензурным соображениям она была опубликована только под моим именем. В целом Мусин находил, что литература становится серьезнее и глубже.
Он не любил жанровой литературы – фэнтези, лавбургеров и триллеров. Считал, что в центре повествования должен находиться кот, в крайнем случае – человек, но никак не поиск убийцы или, скажем, любовные отношения. Любуясь однажды в зеркале своей чисто вымытой шерстью, предложил мне написать роман “Пятьдесят оттенков серого”. Не знаю, делился ли он своими мыслями еще с кем-то, но впоследствии действительно появилась книга с таким названием. Думаю, что все-таки не делился: замысел Мусина было гораздо тоньше и возвышенней.
Окончательно с моими литературными занятиями его примирил роман “Лавр”. Когда в современный текст мы с ним включали древнерусские цитаты, он с удовольствием вспоминал счастливые деньки, безраздельно посвященные медиевистике.
Жизнь с Мусиным мы вспоминаем как годы счастья. Он всё больше обнаруживал человеческие черты, а мы – тут уж никуда не денешься – кошачьи. По мнению специалистов, я до сих пор неплохо мяукаю. Мы понимали друг друга с полувзгляда. Обычно Мусин был немногословен и ориентировался скорее на интонацию. Он отлично понимал: как сказано нередко важнее того, что сказано. Перенося это наблюдение в плоскость творчества, подчеркивал, бывало, что форма в литературе – это, по сути, содержание.
Мусин прожил у нас шестнадцать лет. Потом начались проблемы с почками, бесконечные анализы и приезды скорой ветеринарной помощи. Я, не воткнувший шприц ни в одно человеческое тело, делал ему уколы и ставил капельницы. Он сносил это стойко и не сопротивлялся. До сих помню его глаза, полные понимания бесполезности этих манипуляций. В таких случаях коты обычно знают, куда лежит курс. Принимая уже ненужное, в сущности, лечение, он заботился скорее о нас. Он давал нам выполнить наш долг до конца. Хотя зачем я его выполнял, так до сих пор и не понимаю.
Его уход стал для нас огромной потерей. И нам трудно было поверить, что это навсегда. Далеко-далеко… На каких лугах пасется он сейчас?
В одном из богословских сочинений я прочитал, что у нас есть надежда. Да, животные, вероятно, не воскресают сами по себе. Но в назначенный день они восстанут из мертвых через нас. В облаке нашей к ним любви – согретые ею, как оренбургским пуховым платком (в таком умирал наш Мусин), вносимые нами в райский сад. И мы снова будем вместе.
Елена Волкова Сказка про Мышь
Если мышь съест что-нибудь в церкви, то превратится в нетопыря.
Народное поверьеЖил да был Дом. То есть поначалу Дом только жил, и то в воображении хозяина, а жить да быть он стал после того как хозяин его построил.
Вот он жил да был, этот Дом, и радовался каждому дню.
Другие дома в поселке жались друг к другу – они были приземленными и не хотели, чтобы их заурядность слишком бросалась в глаза. А хозяйский Дом стоял на отшибе. Он не имел с остальными ничего общего, потому что родился из мечты – высокой и прекрасной.
Дом был хорош изнутри и снаружи. Хозяин постоянно в этом убеждался. Пил чай и убеждался. Выходил во двор, закуривал сигарету и снова убеждался. А Дом глядел на хозяина ясными окнами, и в них отражалась любовь.
Хозяин сам не заметил, как превратился в домоседа. Будь его воля, ни под каким предлогом не отлучился бы он из Дома. Увы, в силу определенных причин пришлось ему уехать далеко и надолго.
Когда наступил момент прощания, хозяин не нашел подходящих слов. В последний раз прошелся он по Дому, похлопал его по перилам и молча затворил за собой дверь.
Помрачнел покинутый Дом, замкнулся в себе. И тут откуда ни возьмись появилась Мышь.
Она попала в Дом сквозь круглую дырочку под торчащей из стены трубой. Дырочка была такая маленькая, что Мышь, тоже на редкость маленькая – даже по меркам домовых мышей, – с трудом в нее протиснулась.
Сначала Мышь очутилась в подвале, оттуда проникла в пространство между перекрытиями, а там добралась и до комнат.
Хозяин, отличавшийся исключительной предусмотрительностью, постарался обезопасить Дом от всех возможных рисков.
Он принял меры против стихийных бедствий и непрошеных гостей, против пожаров и затопления. Хозяин не забыл даже про жука-древоточца, а уж тем более про крыс и мышей.
Под руководством специалистов были запечатаны все щели в фасаде и цоколе, была прибита прочная металлическая сетка по периметру фундамента.
Да только зря хозяин старался. Во всяком деле бывают огрехи, в любом полотне – прорехи, пусть пустяшные, пусть всего лишь маленькая дырочка.
Проникнув в Дом, Мышь проникла и в его мысли. Дом думал о хозяине и сильно тосковал.
Чтобы развеселить Дом, Мышь с писком носилась по комнатам, танцевала на столах, устраивала забеги с препятствиями по полкам и буфетам – всё без толку: Дом оставался безучастен. Незримое присутствие хозяина сводило на нет все усилия Мыши.
Подросла весна, стала летом, состарилась и превратилась в осень.
Мышь насобирала по углам мягкую, пышную пыль и устроила себе гнездышко. Она наслаждалась теплом и сочувствовала Дому – его одиночеству, зябкому, как подступающий со всех сторон холод.
Осень со слезами и стонами ходила вокруг Дома. Колотила клюкой по крыше, барабанила в стекла.
Мышь следила за осенью в окошко на чердаке. Чердак нравился Мыши больше других помещений. В круглое окошко целиком помещалась луна. В грудах всякой всячины, пока не пригодившейся или уже отслужившей хозяину, было приятно порыться.
Мышь дышала Домом – свежим запахом дерева, целостной, ненарушенной чистотой.
Она питалась Домом – грызла пенопластовый утеплитель, который сразу пришелся ей по вкусу.
Напрасно специалисты убеждали хозяина, что мыши никогда и ни при каких обстоятельствах не польстятся на пенопласт. Положим, рацион не самый полезный, но, когда выбирать не из чего, годится и он.
Временами Мышь становилась Домом. Замирала в своем гнездышке и отключала собственную сущность. Тогда ей виделось небо. Оно было над ней и повсюду, и будто бы вихри мчались навстречу. Или не вихри, а что-то иное, чего она не умела распознать.
Наступила зима. Из чердачного окошка Мышь любовалась тем, как менялся снег – то плыл по воздуху легкой пылью, а то падал хлопьями – мелкими кусочками пенопласта.
Как бы холодно ни держался Дом, Мышь не собиралась возвращаться к суетливым сородичам, обитавшим снаружи.
Она не догадывалась о том, что ее добровольное заточение давно стало вынужденным: в отличие от круглой дырочки в стене, Мышь ощутимо увеличилась в размерах.
Дом-то знал, что Мышь не смогла бы пролезть в дырочку, но помалкивал – не хотел ее огорчать. Дома умеют скрывать то, что не предназначается для мышей и неподготовленных ушей.
Зима оттаяла, помолодела и стала весной. Тут и хозяин объявился.
Дом так разволновался, что даже окна запотели.
Хозяин тоже волновался. Еще бы! Пока длилась разлука, его ни на минуту не отпускала тоска по Дому.
Хозяин гладил Дом по стенам и мебели – благодарил за верность. Дом в ответ бормотал что-то неразборчивое.
Потрескивали в печах дрова, шипели, захлебываясь водой, краны – долго молчавший Дом пробовал голос.
Только вот вернулся хозяин не один, а с женщиной.
Это была временная женщина. Хоть она и скрашивала жизнь хозяина в том месте, где он провел год, но для жизни в Доме совершенно не годилась. Хозяин сто раз пожалел, что привез ее с собой.
Женщина повсюду семенила за хозяином, а тот едва сдерживал раздражение. И все-таки познакомил ее с Домом, точнее, представил Дому. Провел по комнатам, словно показал собранию придирчивых родственников. Мысленно повторял, что женщина просто гостья. Только что вслух не оправдывался.
Хозяин точно знал, какими качествами должна была обладать настоящая, незаменимая хранительница Дома.
Ее образ родился в воображении хозяина, потом, спустя некоторое время, переселился в сердце. Там эта женщина и жила, а больше ее нигде-то и не было.
Незаменимые хранительницы – большая редкость, блаженны те, кто встретит одну из них во плоти. Хозяину не повезло.
Ему попадались лишь временные женщины – слишком красивые или уж больно некрасивые, шибко умные или невыносимо глупые.
На глупых женщин хозяин не мог положиться, тем более доверить им домашний очаг.
Умные играли не по правилам и не желали подчиняться.
С красивыми была та же беда, что с умными, с той лишь разницей, что мозги им заменяла красота.
Ну а некрасивые… Они были самыми краткосрочными из всех временных.
Вот стали они жить вместе – хозяин и женщина. Он отправлялся на службу, а она принималась бродить по Дому. Дом поутру казался заспанным и немного несвежим – как хозяин, пока не умоется.
Вполне родной дом. Замечательный. Не зря хозяин его нахваливал.
Единственное, к чему он заранее не подготовил женщину, так это к размерам Дома.
Дом был великоват для одного человека, и для двух был великоват, и даже для трех. Это был большой Дом для большой семьи, Дом на вырост.
Женщина оглядывала Дом и видела хозяина в старости: вот он сидит, задумчивый и умиротворенный, в кресле-качалке на чердаке. Он смотрит в круглое окошко, а внизу, под полом, бурлит и плещет жизнь его детей, внуков и правнуков – множества людей, которых создаст она, женщина.
Надо было с чего-то начинать. Женщина начала с уборки.
Когда хозяин затевал уборку, она напоминала веселую игру. Хозяин и Дом развлекали друг друга.
Дом заскрипит дверью – хозяин смажет петли и пустит ее порхать туда-сюда. Дом застреляет поленьями в печах – хозяин пошурует в них кочергой и примется насвистывать, глядя на огонь.
Женщина не нуждалась в одобрении Дома. Она наводила порядок с таким азартом, словно соревновалась за выигрыш. Визжали стекла, испуганно звенела посуда. У кого и что именно собиралась выиграть женщина? Дом не мог разобраться.
Она проветривала Дом, выбивала во дворе одеяла и подушки. Дому было неловко стоять распахнутым у всех на виду.
Гремели ведра, шваркали тазы.
Женщина мыла полы, заучивая босыми ногами доски пола – какие шершавятся, какие поскрипывают, какие долго не сохнут.
Напитавшись водой, доски темнели и казались объемнее. На них отчетливо проявлялся узор – неровные овалы и ромбы. Дом подавал женщине знаки, но ей некогда было вникать в их смысл.
Женщина чистила и прихорашивала Дом.
Из разноцветных нейлоновых лент она связала мочалки в ванную. Потом связала коврики – такие же мочалки, только размером побольше, – расстелила их возле кроватей.
Она занавесила окна яркой тканью, заняла подоконники разнокалиберными коробочками – из них, раздвигая землю, поднялись стебли и стволики. Женщина не обошла вниманием даже чердак. То и дело наведывалась туда – одно принесет, другое заберет.
Простучит, бывало, вверх по лестнице, распахнет дверь и плюхнет на пол пачку журналов или втолкнет ящик с дребезжащими рыболовными снастями. А как найдет бесполезную неживую собачку или зайца, от радости аж вскрикнет и скорей тащит трофей вниз, в комнаты.
Мышь страдала. Облака больше не вплывали в окна, растения загораживали обзор, в ковриках застревали коготки. И шум доканывал.
Кусочки вареных яиц, приставшие к осколкам разноцветных скорлупок, крошки сладкого творога и душистого теста – даже эти праздничные лакомства, окончательно отвратившие Мышь от пенопластового утеплителя, не утешали ее.
Мышь начала стремительно слабеть. Дом был полон движения, запахов и звуков, и это каким-то образом лишало Мышь энергии. Она зябла и худела, а хвост почему-то наливался тяжестью. Когда Мышь плелась вниз подкрепиться, он чугунной цепью волочился следом.
Женщина заботилась о том, чтобы хозяин вкусно ел, мягко спал, носил чистое и думал о хорошем.
Иногда, возвращаясь со службы затемно, хозяин глядел на свет, акациевым медом лившийся из окон, и сладко делалось у него на душе от того, что дома дожидались теплый ужин, нехитрый разговор и женская ласка.
Женщина была сильной. Она не боялась работы, сквозняков или мужской неблагодарности, она мало чего боялась и уж точно не мышей.
А вот если кто-то неожиданно трогал ее за плечо или громко восклицал над ухом, тогда другое дело, тогда женщина, случалось, теряла присутствие духа.
В тот день, когда она поднялась на чердак, где по центру в теплом снопе солнечных лучей грелась Мышь, сработал эффект неожиданности. Женщина бросилась наутек.
Потом-то она вернулась. Вооружилась кочергой и пришла поквитаться с Мышью. Только той уже и след простыл.
Женщина обшаривала чердак и очень на себя досадовала. Вместо того чтобы запустить в мерзкое создание книгой или цветочным горшком – вон сколько разного барахла навалено возле двери, – она растерялась и удрала, как маленькая.
У женщины было такое чувство, словно между ней и Мышью состоялся поединок и Мышь ее одолела. Гадкое чувство. Хотелось им поделиться. Дожидаясь хозяина, женщина предвкушала, как расскажет ему про Мышь и передаст таким образом часть своей злости, ведь злость, как известно, мощнейшая из объединяющих сил.
Хозяин действительно разозлился, но не на Мышь, а на женщину. Он заподозрил ее во лжи. Какая мышь? С какой стати? Дом надежно защищен. Зря, что ли, предотвращались все риски? Даром, что ли, привлекались к строительству специалисты?
Хозяин отказался верить женщине, даже мышиный помет не счел достаточным аргументом – сказал, что точно так же выглядят мертвые, засохшие жуки.
Он назвал женщину мнительной. По чердаку вечно скользят тени, оконное стекло странным образом преломляет свет. Так женщине померещилось, не иначе.
Она оправдывалась, спорила, она упрекнула хозяина в том, что Мышь разгуливает у него под носом, как у себя дома.
Хозяин перешел на крик. А зачем женщина держала двери настежь? А такой ли уж сюрприз, что Мышь заглянула на огонек? И хватит об этом! И чтобы хозяин больше не слышал ни о каких мышеловках и отраве! И он не потерпит в своих стенах смертоубийства!
Хозяин погрузился в невеселые размышления. Он досадовал на себя за то, что омрачил Дом скандалом, но еще больше за то, что не довел скандал до кульминации и не отправил женщину восвояси. Она израсходовала отпущенный ей временной ресурс, ни на шаг не приблизившись к образу незаменимой хранительницы.
Приготовленная ею пища была слишком сытной, занавески и мягкие игрушки – слишком душными. А еще включенный на полную пошлость телевизор… От всего этого хотелось поскорее избавиться.
Женщина тоже пребывала в задумчивости. Вместо того чтобы сделаться их с хозяином общим врагом, Мышь стала причиной разобщенности. Уже за одно это ее следовало наказать.
Поскольку физическое уничтожение хозяин запретил, женщина решила избавиться от Мыши по-другому. Старым бабушкиным способом.
В том месте, откуда женщина была родом, особо почитался святой мученик Трифон.
Трифон покровительствовал охотникам и рыболовам, подбирал пары одиночкам, а не то помогал по мелочам: отыскать потерянную вещь или излечить ячмень на глазу. При этом главной специализацией Трифона была дератизация. Он так и назывался – Трифон-мышегон.
Женщину растила бабушка. Эта бабушка была с Трифоном на короткой ноге и считалась лучшей в округе заклинательницей грызунов. Когда у кого-то заводились мыши или крысы, посылали за бабушкой – она читала заговор, и грызунов поминай как звали.
По правилам, грызунов полагалось изгонять в феврале, но бабушка плевать хотела на календарь – ее способ срабатывал во всякое время года.
Женщина с детства помнила бабушкину науку: и обряд – вплоть до мелочей, и заклинание – слово в слово. Она не сомневалась, что сделает всё правильно. Весна – не весна, а мириться с присутствием Мыши иным не позволяет воспитание.
Несколько дней подряд, проводив хозяина на службу, женщина отправлялась исследовать окрестности поселка. Так удачно совпало, что стоило луне пойти на убыль, как женщина забрела на заброшенное поле у кромки леса и там приметила бесхозную скирду.
Она вырвала четыре клока соломы с четырех сторон скирды, сложила их вместе в один пук и этим простым действием определила дальнейшую цепочку событий.
Сквозь алые занавески просвечивало солнце. Густой розовый свет наполнял Дом, словно малиновый компот чашку. В распахнутую дверь впорхнул ветер, принес колокольный звон и птичьи крики.
Женщина запалила печку. И тут начались странности.
Щелкнул замок – это захлопнулась входная дверь. Пока женщина бегала ее открывать и искала, чем бы подпереть, остыла печка. Женщина снова принялась за растопку, но щепки и скрученные жгутами обрывки газет, едва занявшись, сразу же гасли.
Дверь колотила по камню, мешавшему ей закрыться. Кривлялись и гримасничали узоры на полу. Не желал разгораться огонь.
По комнате промчался ветер – нахально задрал занавески, покатил по столу стакан, расшвырял газеты. Побесился и вылетел в трубу. И сразу, как по команде, загудело, затрещало – ожила печка.
Сидя на корточках, женщина кормила огонь хворостом и сухими поленьями, а когда он вошел во вкус, вооружилась кочергой и стала пропихивать ему в пасть соломенный пук.
– Бежи, бежи – из избы до межи, – начала приговаривать женщина.
Воздух звенел и колыхался.
из ворот и доле – во широко поле…
Комната потемнела, прозрачный розовый цвет стал плотнее, теперь он был красным и напоминал не компот, а…
до леса густого, до стога пустого…
кровь – это она клокотала в широкой печной глотке.
Бежи отзде, бежи везде!
Печка икнула и дохнула в лицо женщине искрами. Та едва успела зажмуриться. А печка принялась плеваться раскаленными углями. Они падали женщине на колени – один, другой, третий…
Да что же это такое? – испугалась женщина.
Синтетический подол начал стремительно плавиться, женщина тушила его наощупь – обжигая ладони, шарила по бедрам, будто убивала жалящих насекомых.
До Мыши долетали грохот и крик, но она больше не боялась: она была Домом. В ее распоряжении имелось множество помещений, в том числе пространство под полами и между перекрытиями. Мышь находилась повсюду одновременно – чтобы ее настигнуть, шум вынужден был рассредоточиться, он терял направленность.
И все-таки Мышь слышала зов. Древний зов. Он повелевал Мыши спуститься с чердака, выбраться наружу и брести куда глаза глядят.
Но Мышь была Домом, а значит, зов не имел к ней никакого отношения.
Тем более что Мышь утратила способность передвигаться – неожиданно отказали лапы.
Хотя почему неожиданно? Ожидаемо: Дом должен был оставаться на месте, а не расхаживать по миру. Дому нечего было искать. Всё, что могло ему понадобиться, заключалось в нем самом.
Например, Мышь. Она была внутри Дома. Или так: она была Домом с Мышью внутри. Мышь путалась в этой неразберихе и думала иногда чужие мысли. Скажем, Мыши надо поесть. А она не помнила, когда ела в последний раз, да ей и не хотелось. Разве Дом нуждается в пище?
Вокруг Мыши всё тряслось и подпрыгивало. Зов звучал голосом женщины. Он состоял из слов, слова ложились одно на другое, из них вырастала стена, призванная отделить Мышь от Дома.
Мышь и так знала, что вот-вот покинет Дом. Не потому, что того требовал зов – он всего лишь ускорял развязку, – а потому, что жизнь Мыши заканчивалась.
Дом тоже знал правду, но молчал по своему обычаю. Для того, что он затеял, одобрения Мыши не требовалось. Кто на дороге стоит, тот дороги не спрашивает.
Потолок накренился, пол вздыбился – горка сверху, горка снизу. Мышь заскользила по этим горкам взглядом и пузом. Ей показалось, что она вот-вот уткнется головой в закат, который румянился в круглом окошке.
Дом ходил ходуном. Мимо Мыши просвистел оконный шпингалет, с полок падали книги и коробки, рассыпались-разлетались шахматные фигуры.
К самому носу Мыши подкатилась тонкая палочка церковной свечи. С одного конца к ней пристали сдобные крошки. Вот и поешь!
Мышь вдохнула аромат пасхального кулича и пчелиного воска – восхитительную, ни с чем не сравнимую комбинацию запахов – и невольно царапнула по свече зубами. Ешь, ешь!
Наверное, она слишком проголодалась, потому что сама не заметила, как от свечи не осталось и помина, а короткое забытье сменилось раздражающим дискомфортом, будто внутри у Мыши передвигали мебель.
Потом ворвалась боль. Огромная боль – во множественном числе – целая толпа боли. Теперь внутри у Мыши ломали стены.
Она попыталась укрыться в спасительной темноте подвала, откуда когда-то началось ее знакомство с Домом, но не успела. Она больше не была Домом и домовой мышью тоже не была, она превращалась во что-то новое.
Худенькое тельце сотрясалось в судорогах, лапки скрючились, спину распирало, кости выворачивались из суставов.
На этот раз Мышь переживала превращение не в воображении, а наяву, испытывала его на собственной шкуре.
А я прощаю и отпущаю!
Дрожащая женщина с подпаленными бровями, в слезах и дырявом платье дочитала заклинание.
Этот Дом… Чужой, враждебный. Не было в нем у женщины ни будущего, ни продолжения в потомках. Большого, дружного хозяйства тоже не было – женщина его просто нафантазировала.
Хлопали не детские ладошки, а ставни. Вместо семейного любимца-пса из коридора щерилась балясинами лестница. Не умилительные игрушки, а плюшевые монстры смотрели на женщину хищными глазами.
Она поспешно засобиралась туда, где было ее место. Там ждала невыдуманная жизнь – работа по плечу, природа по душе и комнатенка по размеру. Там всегда можно было рассчитывать на помощь Трифона, его уж точно не стоило сбрасывать со счетов.
Одновременно с тем, как таяла боль, стремительно прибывали силы. Казалось, стоит пошевелиться, и с их напором не удастся совладать. Даже открывать глаза было рискованно. Тем более, новые возможности позволяли видеть и так. Причем зорче, точнее. Чердак, например, оказался уже, а потолок – ниже.
Новые возможности повлияли и на голос. Теперь он умел быть беззвучным, как мысли.
Дом услышал эти мысли и распахнул круглое окошко.
Нетопырь потянулся, расправил кожаные крылья и вылетел навстречу изменившему цвет закату.
Он парил и нырял в просторном вечернем небе, а когда с далекой высоты бросил прощальный взгляд на Дом, чердачное окошко показалось ему маленькой круглой дырочкой в стене.
Нетопырь не сомневался: что бы там ни было, а ближе к зиме Дом обязательно впустит его в эту дырочку.
Николай Александров О рыбе
Ты тварей в мире всех загадочней, краше…
Гр. Хвостов (?)Сон, замедленный и плавный, с контурами чего-то неясного. Словно пятна на смутном фоне.
Или память о сне, или явь первых впечатлений, не удержавшихся на отчетливой поверхности сознания и ушедших дальше, в глубину, в область как будто бы бывшего, оставившего по себе лишь едва уловимый след, размытый акварельный набросок.
Наверное, это и была первая встреча с тобой.
Даже если это не так.
Потому что я хорошо, с фотографической яркостью помню, как рассматривал тебя, заключенную в целлофановый пакет, лежа на траве. И не мог оторваться, как бы впитывая в себя всё то, что излучало твое тело, – не тело, а перламутровая волна, гибкая и полная грации сила.
И серебристый блеск чешуи, и красные хвост и плавники, и красновато-рыжие глаза.
И называлась ты – плотва, что и плоть, и аква, и лов, и сплав…
Ты была единственной, пойманной в тот вечер. И не мной, а отцом. Потому что свою удочку я давно оставил, устав от тщетных ожиданий. И вот ты пришла.
А сон был позднее, кажется. И навеян был другим.
Летний детский сад, о котором остались какие-то блеклые воспоминания, выцветшие картинки. Самая отчетливая – как мы ловили шмелей. Шмеля накрывали ладонями, и он мягко жужжал внутри. И почему-то не кусался.
И еще на территории сада-лагеря был небольшой бассейн. Или фонтан. И в нем плавали рыбы. Кажется, тоже плотва.
Так вот, вполне возможно, ни фонтана, ни рыб в нем не было. Так ведь всегда бывает, когда обращаешься к образам детства, ко времени, памятью жизни еще не отягощенному.
Было или не было. Или привиделось. Или приснилось, или потом придумалось.
Я подхожу к каменному округлому низкому бортику и гляжу на рыбу, на ее неторопливые движения, темную спину и колыхания красных плавников. Слежу вожделенно, глазами рыболова, чувствуя восхищение и нарастающий зов, неукротимое желание – поймать. Может быть, это и стало началом.
Родители навестили меня в этом летнем лагере. Мы ходили на Москву-реку. Кажется, у отца были удочки. Но рыбалка была бесплодной. И в сознании осталось лишь – какой-то пустынный берег, серый день. Как будто и сама река пустая, и никого в ней нет. И еще родители уедут сегодня.
Но встреча состоялась, и связалось в душе – река, рыба и щемяще-острое предчувствие обладания этой неуловимой, ускользающей живой плотью, слитой с толщей воды.
Именно ускользающей. Ведь грезилась идеальная рыба. Понятно, что большая. Не белый кит, но все-таки. Однако дело не в этом. Рыба была многоликой.
Она распадалась на множество воплощений, и почти каждое было большей или меньшей частичкой чаемого идеала.
Ниже всех на этой воображаемой лестнице восхождения к абсолюту находился бычок (ротан). Черный с фиолетовыми пятнами или коричневато-серый, маленький, жадный и хищный – он был почти не рыбой. Его ловили на даче в прудах, и рыбалка превращалась в ребяческую забаву. И не было никакого таинства. С таким же успехом можно было охотиться на тритонов (чем-то очень похожих на бычков, между прочим), которых, во-первых, действительно ловили, которые, во-вторых, сами попадались на удочку, которые, в-третьих, уж точно не были рыбой.
Добытых тритонов держали некоторое время в банках, а потом отпускали.
Бычков отдавали кошке или жарили.
Бычок в этой странной иерархии был даже ниже гольца (или огольца), которого не стоит путать с благородным – поскольку из лососевых – красавцем гольцом, обитателем сибирских рек. Вот уж кто действительно – воплощенная мечта.
Нет, оголец, или усатый голец, или авдюшка, – из карповых, живет в озерах, тихих речках и прудах, на зиму зарывается в ил и размером не больше чем с ладошку. За огольцом, когда отец приезжал на дачу, мы ездили на станцию Радищево, на озеро в сосновом бору. У меня были одноколенная бамбуковая удочка и пластмассовый поплавок. Голец клевал хуже чем бычок и, как ни странно, именно поэтому казался в большей степени рыбой. Он был гладкий и скользкий, совсем не хищный, с маленькими усиками на грустной физиономии.
Его тоже жарили или отдавали кошке.
Голец водился и в Москве, на юго-западе, куда постепенно наступали хрущевские пятиэтажки и брежневские панельные дома, в Коньковских прудах, тогда окруженных яблоневыми садами.
А дальше по Калужскому шоссе, на Десне и ее притоках, жил пескарь.
На Десну от станции метро “Калужская” (тогда конечной) отправлялся автобус. В выходные рыболовы с зачехленными удочками и рюкзаками, мешаясь с дачниками и жителями Подмосковья, выстраивалась в очередь. Кондуктор с кожаной, звенящей мелочью сумкой через плечо и с гирляндой напечатанных черной, синей или красной краской – в зависимости от стоимости – билетиков на груди медленно продвигалась, проталкиваясь сквозь пассажиров, ловко отрывая билеты от маленьких рулончиков, и занимала свое место рядом с задней дверью. Как только мы выбирались из Москвы и проезжали Окружную дорогу, публика в салоне начинала редеть. К Десне становилось уже более или менее свободно. А вот вечером, когда та же толпа ехала обратно в Москву, в автобус было не сесть.
На Десне охотились за плотвой. Охотился в основном отец, а я, пережив радость свидания с речкой, выбора места, подготовки снастей, насадок, первого заброса и сладкого предчувствия чуда, то есть поклевки, спустя какое-то время уставал. Уставал от чарующего обещания, всё наполняющего, таящегося во всем: и в течении черной в солнечных бликах воды, и в тихих всплесках, и в качающихся ветвях склоненных ив. Сладость ожидания превращалась в муку нетерпения. В результате я обрывал крючок или запутывал удочку. И долго возился с бородой тонкой лески, с неизвестно как появившимися узлами и узелками. Сначала один, затем с помощью отца, когда отчаяние и обида преодолевали страх помешать его рыбалке. И потом уже просто смотрел, как он ловит, с надеждой на его удачу.
Улов, как правило, составлял несколько плотвичек, хотя, конечно, в Десне была не только плотва.
Как-то раз под вечер уже в самом конце рыбалки мы повстречали старичка с удочкой. Рядом с ним в алюминиевом бидоне плавали рыбки, мне показавшиеся большими. Впрочем, и отец заинтересовался. Оказалось, что дед ловит щуку на живца, а в бидоне у него пескарь.
– И где же такой пескарь водится? – спросил отец.
– А рядом, на Незнайке.
И мы стали ходить на Незнайку.
Чудесная, маленькая, веселая речка была. В петлях и извивах. С развитым меандрированием, по-научному говоря. С неожиданными мелями и омутами. Пескарь здесь брал исправно, и был он привлекательнее гольца, но целью все-таки был не он. А все та же плотва. Или голавль. Пескарь – компенсация.
Потом на Незнайке поставили плотину. В нижнем течении она обмелела. Ни плотвы, ни голавлей, ни пескарей…
О, эти речки Подмосковья и вообще средней российской полосы, хочется воскликнуть с грустной интонацией позапрошлого века. Измученные ненужными запрудами, отравленные стоками и удобрениями, обескровленные, с вырубленными в пойме деревьями. Пахра, Медведица, Протва.
Клязьма.
Клязьма в районе Чашникова по Ленинградскому шоссе, рядом с биостанцией. От дачи несколько километров – целый поход. Узенькая, в несколько метров речка, заросшая в пойме осиной, ивой, ольхой, крапивой. С прозрачной водой, с глубокими омутами. Когда мы в первый раз приехали туда на велосипедах и ловили все тех же пескарей, ближе к вечеру деревенские мальчишки пригнали лошадей и купали их в омуте. И было странно и удивительно смотреть, как огромные (какими только и кажутся в детстве) лошади по шею погружаются в воду, как в ванну.
Отец потом рассказывал, что местные рыбаки говорили, будто меньше чем на леску 0,3 они в Клязьме и не ловят – настолько велика и сильна здесь плотва.
За клязьменской плотвой мы потом часто наведывались, и она действительно казалось крупной, может быть, еще и потому, что как бы рано мы ни выходили из дому, на Клязьме оказывались уже к концу клева. А днем речка замирала и соблазняла лишь тенями в глубине и стаями ельцов на поверхности. Изредка, нацепив на крючок кузнечика, удавалась вытащить острожного ельца. Случайное везение. Потому что вообще-то в это время елец не брал, презрительно обходя крючок с насадкой. Или вовсе уходил, испуганный взмахом удочки. И нужно было искать новое место, продираясь в пойменных джунглях сквозь кусты, цепляясь удилищем, леской, поплавком за ветки, стебли крапивы, тростник, чтобы, найдя выход к берегу, снова аккуратно, стараясь не шуметь, закинуть снасть.
Мертвый час. И приходилось ждать вечера и вечернего клева. И это уже другая рыбалка, окрашенная грустью неизбежного возвращения.
А пескарь в Клязьме был мелкий, невыразительный, как будто и существовал он здесь (вместе с таким же мелким ершом) только лишь в качестве живца, сладкой щучьей пищи.
Зато на Москве-реке в районе Тучкова, где я как-то проводил лето, какой был пескарь! Выйдешь на песчаную отмель – и видишь пескариные стаи. Но что пескарь, когда другая рыба влекла к себе. По страшному и шаткому висячему мостику – на стальных тросах перекинутому с берега на берег, провисающему посередине, с ненадежными деревянными досками, где треснувшими и высохшими, где и вовсе выпавшими, так что приходилось перешагивать образовавшуюся дыру, стараясь не глядеть вниз на текущую воду, – перебирались на другую сторону. Другой берег всегда манит к себе, но, впрочем, действительно, здесь всё иначе. Здесь глубже, течение более плавное и можно, если повезет, вытащить подуста. На черную крапивную гусеницу. Или на червя. То есть я, кажется, держал подуста в руках. Или только кажется?
Голец, елец, пескарь, подуст – рыбы моего детства, прежнее богатство подмосковных водоемов. Сегодня нужно постараться, чтобы их найти. А подуст так, кажется, вообще исчез.
Словно вся эта разнообразная озерная и речная живность пригрезилась, ушла в сон. Откуда, видимо, и взялась изначально.
Рыба – призрак. Как ее поймать? Она реальна только в момент лова.
Настоящая рыба – сорвавшаяся, сошедшая. Когда ты чувствуешь ее в поединке, но победа остается за ней. И ее, конечно же, помнишь и видишь яснее и ярче, чем рыболовные удачи. Ведь все хрестоматийные, все классические, все самые известные произведения о Рыбе: “Моби Дик”, “Старик и море”, “Царь-рыба” – они ведь о том, как ее поймать не удалось. Они о поражении.
И это понятно.
Рыба – тайна, ей нельзя овладеть. Раскрытая тайна теряет свою сущность, перестает тайной быть – и что толку тогда в обладании ею?
Рыба – божество. Она лишь душой угадываемая, угаданная. Или предъявленная. Та – из сновидений.
Как мальчик с заставки известной кинокомпании, что сидит на месяце с удочкой в руках и ловит то ли в воде, то ли в звездном небе, ты смотришь в воду, как в сон. Уже приснившийся или обещающий присниться. И ждешь Рыбу. Прекрасную и многоликую.
Теряющую единство, как и небесное, зодиакальное отражение ее – Рыбы.
Евгений Бабушкин И нарёк человек имена всем скотам
1
Бог сделал и это, и это, всё это большое пространство, чтоб мы тут все сгорали от любви. А дьявол сделал, чтоб мы сидели по углам от ужаса. Дьявол сделал время. Оно на исходе. Но вы успеете. Это сказка на семь минут, и вам покажется, что она грустная, но я смеюсь, танцую и пою. Правда.
2
За городом было пусто, а дальше был сад: цвел, сох, гнил, замерзал и снова цвел. В саду был дом, пустой, с пустыми комнатами. Приехали хозяин и хозяйка, достали из приятных коробок любимые вещи, расставили по местам.
Лису сажали на пол, чтоб дверь не хлопала. Стоппер дверной приставной “Плутовка” – кожа, песок – одна штука. В доме каждый был при деле. Голова собаки – работала ручкой обувного рожка. Филин – кружкой. Он посматривал на Полкурицы и ныл напоказ.
– Обидно: хищник, а из тебя пиво.
– Ты ку-ку, мы разных видов, – говорила Полкурицы. Она работала крышкой кастрюли и была чугунная, а он стеклянный.
3
Глаза у хозяйки были как теплые пуговицы, грудь из упругого плюша. Хозяин был – ну, просто человек. На ужин он долго тыкал ножом продукты, садился во Льва, зажигал Пингвина и пил из Филина, а хозяйка – воду из безымянного бокала.
– Кормят себя, кормят. Поят, поят. Нет бы меня.
Так говорил Кот. Он часто притворялся вещью, но был из мяса и мясо ел, Кот был опасен, он мог разрушить что угодно. Хозяева любили Кота, потому что вообще всё любили. Постоянно друг друга гладили и вещи тоже. Филина мыли особым составом для блеска. Даже Сом, туалетный ершик, не был обижен.
Не трогали только Лису, зачем ласкать и чистить стоппер. Она торчала между кухней и залом, пылилась, ругалась.
– За ничто нас держат. Работаем, где посадили. А сами живут по-настоящему. Ходят!
– И ты ходи, – говорили Тапки с мышиными ушами.
– Я не такая. Я в плену своих убогих функций. Боюсь, так будет всегда.
– Бойся лучше Кота, – говорили Тапки.
4
Хозяин садился в машину и ездил в город, видимо, работать. В машине пластмассовый родич Кота лупил воздух лапой на удачу, но ни с кем не общался, потому что его укачивало.
Без хозяина хозяйка всё мыла и мыла Филина, переставляла Тапки и рассматривала снимки: цветные – из путешествий, черно-белые – изнутри ее головы.
Накинув Павлина, она выходила в сад, где в эту пору было всё совсем живое. Среди сирени стоял Олень.
– Не понимаю. У меня вопрос. Зачем я тут?
– Похоже, ты садовая скульптура, – говорила Лиса.
– Это не ответ.
У вещей всё связано, так что Лиса и Олень легко разговаривали сквозь стену. Говорят, одна разлученная пара Синичек-варежек флиртовала целую зиму, пока левая не истлела под дождем, а из правой не сделали милый мешочек для всякой ненужной дряни. А людям трудно быть вместе, даже когда они вплотную.
Хозяин приезжал, готовил, гладил хозяйку, та вздрагивала, а в общем всё полулежала в кресле, переводя взгляд с вещи на вещь.
5
Все рты у вещей нарисованы, уши тоже. Друг друга они понимают, а людей не слышат. Но Кот был ни нашим ни вашим, кое-что знал про речь и хвастался.
– А что такое, если рты кружком?
– Это “О”.
– Зачем оно?
– Для боли, бога и бом-бом.
– А если рты распахнуты?
– Это “А”. Для барабана, рака, мака.
– А если они целуют воздух?
– Это “У”. Для сумерек и если кто-то умер.
– Что значит умер?
– Дам по тебе хвостом, расколешься и будешь так. Это умер.
В легкие вечера хозяева акали, окали, ужинали, потом хозяин плакал, но это видел только Сом.
В трудные вечера хозяин метался и наливал что попало куда попало.
– Так я скоро останусь без работы, – говорила Полкурицы.
– Зато у меня карьерный рост, – говорил Филин.
– Да ты как был ку-ку, так и остался.
– Эй, народ, – говорил Олень. – У меня вопрос.
6
Однажды хозяйка у
у-
у-
пала обратно в кресло, закрыла глаза и разжала губы, и хозяин к ней как-то совсем неуклюже кинулся (хотите понять, как это увидели вещи, просто поставьте кино без звука). Другие люди приехали довольно скоро и довольно осторожно забрали хозяйку, а он ушел следом.
Кот покричал для порядка и сел в центр.
– Куда ее?
– В больницу, куда.
– Что это?
– Там белое. Там отнимают кусок тебя. Я там был.
Вещи молчали.
– Ну всё, – сказал Кот. – Теперь я главный.
И он противно завыл, но это была песня.
тебя пингвин я буду катать. тебя лиса терзать мните кота мните кота глядите ему в глаза а если меня недостаточно мять тогда настанет грусть тебя олень я буду хрясь тебя полкурицы кусь7
Никого долго не было. Кот насорил, унизил Тапки, разбил обычных кружек, но Филина не тронул, исхудал и не двигался, как вещь.
В саду все пело.
Хозяин вошел в дом как-то боком, будто у него отняли не часть, а всего его целиком.
Пнул, но случайно, Лису. Дверь двинулась. Взял водки, налил в Филина, выпил, посидел, заснул сидя.
8
Все наладилось и покрылось пылью. Хозяин никуда не ездил. Кот одичал и научился добывать еду в саду, каких-то, что ли, насекомых.
– Эй, Кот, – говорил Олень. – Есть одна тема.
– Мяу, – говорил Кот. – Мяу.
Однажды хозяин встал, прошелся по комнатам, закрыл, что закрывалось, взял Кота, засунул в сумку с дыркой, в другую сумку накидал вещей, но безымянных. Смёл сумкой Филина с края стола, оглянулся на звук, чертыхнулся, вышел в сад, постоял там и ушел, уехал в город, видимо, работать.
От Филина осталось меньше половины, часть крыла, немного глаза.
– Как ты? – спросила Лиса.
– Помнишь, Лиса, они говорили о боли? Кажется, это боль.
9
Бог сделал и это, и это, всё это большое пространство, чтоб мы тут все сгорали от любви. А дьявол сделал, чтоб мы сидели по углам от ужаса. Дьявол сделал время. Оно на исходе, сказка кончается. Я собрал ее из чего попало: чихнул от сирени – и вот сирень. Из мяса на завтрак, из найденной рукавицы, из тревоги, и если вам тоже тревожно, то вот вам сказка. А еще нам с женой подарили лису, просто песок подарили в лисьей форме, это стоппер дверной приставной, отлично бы смотрелся в летнем доме, в любом доме, но зачем нам лиса, если дома нет.
Григорий Служитель Чайка
Ольга Леонардовна проснулась как обычно рано, в восьмом часу. Она подумала: как хорошо, если бы сейчас было лето и она была бы пассажиром какого-нибудь парохода, плывущего по Волге. И тут к своему огромному удовольствию вспомнила, что сейчас и есть лето и что она и есть пассажир плывущего по Волге парохода. Ольга Леонардовна оглядела свою каюту: блики волн на потолке, стопка полотенец на кушетке, латунные поручни уборной и река, искрящаяся за иллюминатором. Она была уверена, что из других кают река не смотрится так весело, а блики на их потолках не играют так радостно. Она сложила ладони у щеки и сказала: “Ах”. Ей низко ответил корабельный гудок.
Перво-наперво она достала из бархатного мешочка очки. На мешочке была вышита эмблема МХТ – чайка. Ольга Леонардовна представила, что очень скоро точно такая же чайка будет высечена на ее надгробии. Очки когда-то принадлежали Евгении Яковлевне – матери Антона. Ольга Леонардовна не помнила, как и почему они оказались у нее, но в те далекие годы пользоваться ими нужды не было: зрение еще было вполне сносным, а вот сейчас очки пришлись в самую пору. Потом она извлекла из несессера флакон старых духов Fougere Royale. Фиолетовый слюдяной пузырек с грушкой на боку ей много-много лет назад подарил Немирович. Она пользовалась этими духами в другой, прошлой или даже позапрошлой жизни, каждый раз когда выходила на сцену в роли царицы Ирины.
Ольга Леонардовна никому бы в том не призналась, но в последнее время ей почему-то стало казаться, что никаких ролей она на самом деле не играла; что всё это ее выдумки, блажь, кисейный шлейф из снов и фантазий. Она прижимала пальцы к вискам и старалась понять, чем же тогда она занималась всю жизнь вместо театра? Но ничего определенного представить не могла. Вместо этого ей вспоминалось, как в раннем детстве на даче у Штеллингов играли в прятки и она бегала по поляне с завязанными глазами в то время как остальные дети давно ушли есть голубику на веранду. “Das ist alles Dummheit” (всё это глупости) – говорила себе Ольга Леонардовна и делала рукой жест, как будто отгоняла назойливую муху.
Иногда и того хуже: вдруг ей чудилось, что она уже умерла, но вокруг не было никого, кто мог бы это подтвердить или наверняка опровергнуть. И тогда она искала поддержку в окружении. Она позвонила в колокольчик. В каюту постучались.
Ольга Леонардовна приняла мечтательную позу, облокотившись о стену, и сказала: “Войдите”.
– Ольга Леонардовна, как спалось? – спросила девушка Нюра, которую приставили к актрисе помогать ей во время путешествия. Ольга Леонардовна убедилась, что она еще жива, и ей это понравилось.
– Хорошо спалось, Нюра. А что это ты спрашиваешь? Что, я плохо выгляжу?
– Что вы, Ольга Леонардовна. Вы прекрасно выглядите, можно даже сказать, замечательно. Скоро завтрак будет готов. Налить воду?
– Налей, будь добра. И выйди.
Нюра наполнила стакан и вышла. Ольга Леонардовна отпила воды и попыталась поставить стакан на столик, но промахнулась – стакан упал и разбился. Ее это ничуть не расстроило. Дело в том, что Ольга Леонардовна предчувствовала: дни ее на этой земле сочтены. Она была твердо уверена, что скоро заболеет и умрет. В преддверии этой болезни предметы вокруг нее вдруг стали ломаться, разбиваться и выходить из строя. Но Ольге Леонардовне казалось, что своей смертью эти вещи хотя бы ненадолго отсрочивают уход своей владелицы. Поэтому она специально окружила себя множеством ненужных безделушек, которые можно было бы без сожаления пускать в расход, чтобы откупиться на время от смерти.
Ольга Леонардовна нажала на грушку флакона – Fougere Royale исторг холостой выдох, парфюм давным-давно был пуст. Но все-таки Ольга Леонардовна уловила старый аромат. Она задумалась и написала в тетрадь:
“Родной мой, дорогой мой дуся! Плыву в Астрахань… – она посмотрела в окно. Погода стояла ясная, солнечная. Ольга Леонардовна продолжила: – Беспрерывно льют дожди. Всё небо в тучах. Который день не видно солнышка. Только что в каюте разбилось зеркало – так и я, твоя старая собака, скоро уйду отсюда и встречусь с тобой. Ах, как долго твоя актриска этого ждала! Чувствую, Антоша, что скоро!..”
В дверях с подносом в руках возникла Нюра.
– Ольга Леонардовна, завтрак.
Ольга Леонардовна откинула голову, прикрыла глаза и томно произнесла:
– Вон!
Нюра, нисколько не обидевшись, исчезла.
“Костя совсем плох. Москвин сломал мизинец на ноге. Почему-то приснился башкирский мужичонка Айнур, помнишь его? Он тебе мед еще подарил, когда мы в степь уехали после свадьбы. Столько лет не думала о нем. Забыла, что он есть, а он вот приснился. Протягивал мне мед в банке. Я и взяла. Чую, ох чую, Антошенька, встретимся скоро. Скучаю по тебе, ненаглядный”.
После обеда Ольга Леонардовна под руку с Нюрой вышла на палубу. Несмотря на жару, она была укутана в пуховый платок (подарок Бальмонта на пасху девяносто девятого года). Они встали у перил. Волга в этом месте разливалась в широкое озеро, и другой ее берег был почти не виден. Ольга Леонардовна кивком подала знак Нюре. Та, закусив четыре пальца, произвела длинный дугообразный свист. Вскоре в небе со стороны берега появилась точка. Она быстро увеличивалась – и вот с криками на перила села чайка. Подогнув желтую ногу, она в профиль уставилась злым, наглым глазом прямо на Ольгу Леонардовну. Та достала из принесенной миски кусочек морковки и протянула птице.
– Кушай, подруга моя, кушай. Птица вольная, гордая…
Чайка схватила угощение, проглотила его и вопросительно посмотрела на Ольгу Леонардовну.
– Ты, царица волжских волн, спрашиваешь меня, что такое морковь? Ну что я могу тебе ответить, – сказала Ольга Леонардовна, разведя руками и недоуменно посмотрев направо и налево. – Морковка – это морковка, и более о ней ни-че-го неизвестно.
Чайка эта следовала за пароходом последние дни, и Ольга Леонардовна уже привыкла к ней и научилась приманивать то хлебом, то морковью. Она разглядывала чайку: ее серые крылья, черный хвост и область вокруг клюва. Зрение Ольги Леонардовны давно уже было куда как слабым, но все-таки она заметила на крыле птицы маленький листик. Многолетняя актерская привычка заставила Ольгу Леонардовну вообразить, где и при каких обстоятельствах этот листик пристал к перьям чайки. Но запас ее воображения иссяк. Ей только казалось, что чайка прилетела не с того берега Волги, а из другой, потерянной, вымышленной или никогда не прожитой жизни; она подумала, что чайка навестила ее из тех мест, которых на карте нет, не было и никогда не будет.
Птица улетела. Ольга Леонардовна с Нюрой послушали выступление пионерского хора, сфотографировались с командой парохода и вернулись в каюту.
Она снова вдохнула запах Fougere Royale и продолжила письмо:
“Милый мой Антоша, такой далекий и такой близкий. Я раздала все долги. Ничто меня больше не держит на этой земле. Публика меня начинает забывать, но какое мне до этого дело? Скоро, учитель мой, муж мой, мы снова будем вместе. А что старуху в ее родном театре никто не замечает, что никому она больше не нужна, что предали меня, предали, предали…” В дверь постучали.
– Пошла вон! – крикнула Ольга Леонардовна и закашлялась. Она собралась продолжить, но стук повторился.
– Да чего тебе, Нюра?
Дверь приотворилась, но вместо Нюры показался молодой матрос.
– Уважаемый товарищ, артистка Ольга Леонардовна! Вам телеграмма.
Ольга Леонардовна любила телеграммы, но очень давно их не получала. Для таких случаев она всегда носила с собой в несессере агатовый пузырек с духами Guerlain Neroli, которые ей подарил… она не помнила, кто ей подарил эти духи. Она провела флакончиком у носа, раскрыла конверт и приготовилась воспринять новость.
“пароход 8 марта тчк товарищу Книппер-Чеховой тчк ВЦИК СССР присуждает дорогой Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой звание народной артистки СССР тчк горячие поздравления МХАТ пьет тчк все пьют тчк Москвин не пьет посылает телеграмму тчк салют”
Ольга Леонардовна положила очки на столик, потерла переносицу и мечтательно взглянула в иллюминатор. Проплывали безвестное село. И мальчишки у причала, и церковь с покривившимся крестом казались какими-то незначительными и глупыми. Ольга Леонардовна попробовала что-то написать в тетрадь, но передумала. Она сложила руки на коленях, облокотила голову о плюшевую стену и уснула. Пока она спала, очки, медленно приблизившись к краю столика, упали на пол, и одно стекло разбилось. Но это уже ничего не значило, потому что Ольга Леонардовна прожила вполне счастливо еще двадцать один год. Она умерла в возрасте девяноста лет, и казалось, что Бог добавил к ее жизни еще и те годы, которые не успел прожить на этой земле ее муж Антон.
Мария Мокеева Красные паломники
Говорят, под белым небом места знать надо.
Старший в отряде, мой брат Григорий, трижды побывал там и всегда возвращался умиротворенный и полный сил. Каждый раз весь путь он проделывал пешком. Остальные смотрели на него с благоговением, переживая и зависть, и гордость, что идут рядом.
Григорий сказал, что раннее утро – самое безопасное время для начала похода. Поэтому мы встали затемно, позавтракали и отправились. Шли друг за другом, дорога то расширялась, то становилась очень узкой.
Через несколько часов свернули с тропы и остановились отдохнуть на прохладных камнях. Зоя и Фёдор опустились на колени у замшелого пня и стали вполголоса молиться об удачном исходе нашего путешествия. Фёдор имел привычку обращаться к Всевышнему в стихах. Наверное, надеялся, что так больше шансов. Он бормотал: “Пусть минует нас смерть, пусть минует нас боль, дойдем до конца и вернемся домой”. Зоя тверже верила в то, что Господь ее слышит, и просила по существу: “Нам надо было взять с собой больше еды, но мы не знали, где ее достать, помоги нам, Боже, чем скорее, тем лучше; а еще Фёдор мучается желудком, с этим тоже нужно разобраться”.
Я достала из рюкзака шоколадку и протянула ее Зое. Она восприняла угощение как доказательство Его величия. Размышляя над этим, я смотрела на белое небо, где солнце всегда стояло в зените, а появлялось и гасло внезапно.
Спустя некоторое время мы вышли на открытое место. Подул ветер. Порыв был такой силы, что нам пришлось распластаться в пыли и переждать. Вскоре мы поднялись. Фёдор стал ворчать, что этот путь не для его ног. Зоя так на него посмотрела, что он умолк и даже прибавил шагу. Слева показалась высокая стена. Григорий обернулся к нам и прокричал, показывая на нее: “Туда!”
Вдруг на обочине мы заметили тело. Видно было, что погибший – из наших, но брат велел не сходить с тропы, и мы прошли мимо. Стало страшно. Парня убили недавно, там, где находились мы. Видимо, все об этом подумали и перешли на бег. В таком темпе добрались до стены быстрее, чем рассчитывали, и Григорий предложил снова устроить привал.
Солнце позолотило пространство, которое мы пересекли. Труп отсюда уже не был виден, мы забыли о нем и успокоились. Хотелось погреться под солнцем, но выходить из тени, которую отбрасывала стена, было небезопасно. Мы сидели, жевали бутерброды, напряженно смотрели перед собой. Ноги гудели, но надо было идти дальше.
Теперь предстояло двигаться вдоль стены. Григорий, как обычно, шел первым. За ним Фёдор, потом Зоя, замыкала вереницу я.
Зоя запела, и все подхватили. Песня была о том, как храбрый юноша вернулся домой после сражения и увидел, что его родная деревня разорена. Погоревав, он пошел в соседнее село и встретил там девушку, самую прекрасную на свете. Он взял ее в жены, и они вернулись туда, откуда он родом, построили дом, навели порядок и наладили хозяйство. Тогда туда приехали и другие, деревня снова разрослась и стала еще краше, чем прежде. Дети в ней рождались здоровее своих родителей, росли в любви и не знали горя, пока любопытство не заставило их покинуть деревню.
Мы знали, что эта песня про нас – это мы не усидели на месте и двинулись в опасный путь, чтобы повидать мир.
Нам навстречу шли два мужика. Вид у них был недовольный. Когда Григорий поравнялся с ними, нам задали вопрос:
– Куда премся, молодняк?
– На вершину.
– Серьезно? Не доберетесь. А этот ваш толстячок, – мужик покрупнее кивнул на Фёдора, – и до Белой горы не доберется.
– Доберусь! – крикнул Фёдор и потряс кулаком.
Мужики заржали.
– Ну и хрен с вами, идите, ищите приключений на свои жопы.
Мы пошли дальше, а через несколько минут услышали позади грохот, как будто обрушилась часть стены и – мы были в этом уверены – раздавила наших новых знакомых.
Никто не расстроился. Было не до этого – мы приближались к Белой горе.
Белая гора издавала низкий гул. Старики рассказывали, что внутри нее вечный холод. Были варианты: пойти прямо и надеяться, что на нас не сойдет каменная лавина, или сделать крюк и обойти гору с другой стороны, но нам хотелось скорее попасть туда, куда нас вел Григорий, и мы пошли напрямик.
Двигались осторожно, перебегая от одного укрытия к другому. Неожиданно, почти преодолев гору и зайдя в углубление в скале, мы увидели старуху. Сгорбившись, она сидела в углу и перебирала четки. Когда Григорий приблизился к ней, она дотронулась до него и изрекла: “Перст указующий накажет за жадность!”
Мы оставили старухе хлеба и быстро ушли.
До захода солнца мы поднялись на большую высоту. Была видна вся плодородная долина. Григорий сказал, что мы почти добрались. У колодца разбили лагерь. Сидя у костра, разговаривали о будущем. “Возможно, этот поход – последнее наше свободное решение”, – мрачно произнес мой брат. “Ты думаешь, власть будет закручивать гайки?” – спросил Фёдор. Вид у него было скептический. “Только дурак этого не понимает”, – буркнула Зоя, но, чтобы смягчить свои слова, погладила Фёдора по спине. В тревожном настроении мы легли спать.
Рано утром проснулись от крика Зои. Над ней навис черный парень, приставив к лицу копье, а его дружки, такие же черные, здоровые, как циклопы, окружили остальных.
– Куда направляетесь, красные ублюдки? – спросил главный.
– В храм Покрова на Пирогах, – сказал им правду Григорий, поняв, очевидно, что за ложь нас без раздумий проткнут копьями.
– Паломники, что ли? – удивился громила.
Мы закивали.
– Отпустить, – скомандовал главный. – Теперь весь этот район принадлежит нам, так что возвращайтесь другой дорогой.
– Договорились, – ответил Григорий. Он казался таким спокойным, уверенным в себе. Меня же трясло от страха. Зоя смотрела на черных с вызовом, а Фёдор, закрыв глаза, чуть слышно декламировал поэму-молитву, приготовленную на случай смертельной опасности.
Нам дали одеться и провели до границы. Мы шли не останавливаясь несколько часов и наконец увидели его – храм, похожий на огромный шатер, от которого исходил божественный аромат. Фёдор почесал голову. Зоя сказала: “Ну и дела, товарищи!” Я нервно засмеялась, а Григорий улыбался, как бы имея в виду: “А я что вам говорил!”
Теперь нужно было попасть внутрь, и мы двинулись к храму.
– Ой, сколько муравьев! – вскрикнула женщина на кухне.
– Одолели, сволочи, – ответил ей мужчина. – Этих красных случайно привез с дачи в сумке с овощами, и они расплодились. А черные, наверно, пришли от соседей… Ну ничего, сейчас разберусь с ними.
Мужчина стал давить пальцем бегущих по столу муравьев.
– Ногтем, ногтем лучше! – посоветовала женщина.
Они сели пить чай. В центре стола на блюде лежали пироги, покрытые белым кухонным полотенцем.
Анна Матвеева Четвертый кот
А почему вы задаете такие вопросы? Вы неужели думаете, что я уморил своего предыдущего? Да нет, я не обижаюсь. Конечно, сейчас столько садистов развелось – а по внешности иногда и не скажешь. Не хочется отдавать кому попало, я понимаю. Даже за деньги. Даже за такие немаленькие.
Выставка уже закрывается, а он переростыш, его вряд ли кто купит… Он у вас один остался такой серенький? Дайте-ка я в глаза ему посмотрю. Ну что могу сказать: да. Это мой кот. Меня ждал.
Вас как зовут? Нина? Приятное имя.
Ниночка, у меня все коты всегда были серые. Помните, в “Трех мушкетерах” глава называлась “Ночью все кошки серы”? Мои серые и днем, и ночью.
Предыдущий мой умер от старости. И два других, что были до него, ушли тоже по этой причине – просто потому что жизнь их закончилась. Я как-то подсчитал, что в среднем на человека приходится примерно четыре кота – если он первого заведет в осознанном возрасте, как я. Кот живет лет десять-пятнадцать, возьмите максимум, умножьте на четыре – и получите разумную человеческую жизнь протяженностью в четыре кошачьих.
Мишка, мой первый кот, был подарком жены к тридцатилетию.
А завтра мне исполнится семьдесят пять, Ниночка.
Спасибо, но заранее не поздравляют. Да, я знаю, что по мне никогда не скажешь. Сверстники меня своим не воспринимают.
Я считаю, это во многом благодаря котам.
В начале семидесятых, вы, конечно, не можете этого помнить, Ниночка, с кошками никто так не носился, как теперь. Они были не самоценные животные, а как бы вспомогательные. Коты были обязаны по части мышеловли, ну или чтобы с детьми играли, особенно с такими, что просят собаку. Покупать кота приходило в голову только тем, кто мог себе такое позволить – и они брали сиамских или ангорских. Нет, Ниночка, персидские появились ближе к девяностым…
Спасибо, с удовольствием присяду – ноги уже не держат. И от чая не откажусь, только если можно, в кружку, а не в стаканчик. Не люблю пить горячее из стаканчиков.
Вот. А простые люди подбирали котят на улице – их и дворники раздавали, и сердобольные хозяева, у кого кошка окотится. Обычно-то, конечно, топили, нормальное дело.
Куда можно выбросить чайный пакетик?..
Жена у меня, Ниночка, была одна-единственная, но при этом я всегда говорю, что женат был на двух женщинах. Сможете решить такую загадку? Не страшно, я и сам бы не смог, но жизнь иногда такие перед нами ставит вопросы, что поневоле станешь умным, даже если родился дураком… Я был женат на двух женщинах потому, что жена моя стала однажды совершенно другим человеком. Я начинал жить с одной Машей, а закончил – с другой. Вот такое невольное разнообразие, туды его, как говорится, в качель.
Нет, Ниночка, дело не в том, что все люди меняются – конечно, меняются, но не настолько. Маша у меня была веселой, энергичной девушкой. Увлекалась туризмом, на аккордеоне играла. Смелая была, решительная. Комсорг курса. Она меня, Ниночка, сама выбрала – я даже опомниться не успел, как мы уже в кино сидим и целуемся. Верите, с тех пор в кино и не хожу – какой бы фильм ни шел, мне всегда… А, да ладно! Можно и телевизор посмотреть, хотя в последнее время там всё как для идиотов показывают.
Мы поженились, когда она диплом получила.
У вас, Ниночка, есть дети? Да, с удовольствием посмотрю фотографии. Какой взрослый мальчик! На третьем курсе юридической? Ну надо же. А дочка – в восьмом классе? Красавица! Глазки ваши. Счастливая вы, Ниночка.
У нас с Машей восемь лет ничего не получалось, а она так хотела ребенка, что это уже превратилось прямо в какую-то манию. Каждый месяц как под ножом ждали. Маша то плакала, то молчала неделями, то на работе пропадала, то вдруг прогуляла чуть не две недели – я по знакомству делал бюллетень…
И вот накануне моего тридцатилетия берет вдруг и приносит домой котенка. Сам серенький, уши большие, а хвост немного погнутый на кончике, видно, наступил кто. На лобике – полоски в виде буквы “М”.
Я к тому времени уже был начальником отдела в тресте. В партию приняли единогласно, несмотря на молодость. Квартиру получили. В очереди на машину стояли… Телефон домашний провели одним из первых в доме. Единственное, что омрачало, – это вопросы окружающих. Когда, да что, да почему.
И вдруг – котенок. Сидел, говорит Маша, на канализационном люке и грелся. День холодный был, но он не пищал. И походил на медвежонка, потому и назвали Мишкой.
Характер у Мишки был отвратительный. Всё делал назло, не уважал ни меня, ни жену, а уж гадил, я бы сказал, просто изобретательно! С выдумкой. То в семечки, извиняюсь, нассыт. То на подушку крендель выложит – причем как только свежее белье постелют. Орал истошно да по любому поводу. С прогулок приходил весь израненный – тогда ведь, Ниночка, котов пускали гулять на улицу, и даже считалось нормально, если они сами себе пропитание добывали. Мышей таскал, птиц – причем так интересно, он их в газеты заворачивал, будто упаковывал! Газеты старые у нас всегда лежали в секции – мало ли, понадобятся пионерам на макулатуру. Вот Мишка вытаскивал оттуда листок – и добычу заворачивал. Как умел, конечно. Лапами-то не особо.
Красоты в нем не было – длинный, тощий, гадюка, а не кот. Разве что окрас памятный – мышасто-серый.
Вначале Маша его полюбила без памяти. Он спать еще с детства приноровился у ней на голове – как шапка лежал, лапы свесив по обе стороны лица. Иногда разыграется, начинает грызть ей волосы и кожу захватывает больно, а она терпит:
– Он зверь, ему надо!
Ну и вот, Мишка, значит, злодействовал, вся семья от него претерпевала, а Маша вдруг объявляет мне с огромным счастьем в глазах, что беременна. И заявляет:
– Мишку надо будет отвезти в деревню.
Тогда ведь, Ниночка, от взрослых котов чаще всего как избавлялись – ребятишкам утверждали, что сбежал ваш Мурзик, а сами увозили его в мешке в ближнюю деревню и прямо на улицу выпускали.
Я сказал, не надо Мишку в деревню – мало ли что там ей подружка-врач наговорила про аллергию, всё равно я не готов с ним расстаться, несмотря на все его недостатки. Коты, Ниночка, становятся частью нашей жизни – порой не можешь что-то вспомнить, а кот хвостом махнет в памяти, и вдруг целая картинка оживает… Летнее утро, миска с черешней, блюдце с косточками, Маша, которая ест черешню и превращает ягоды в косточки… Из-под кровати вылезает тощая серая лапка с кривым коготком и шарит наощупь… Как мы были счастливы втроем!
Потом родился Антоша. Это была Машина идея назвать его Антоном – лично мне больше нравился вариант с Гориславом, Борисом или Романом. Именно буква “р”, я недавно читал, придает мужским именам характер.
Знаете, Ниночка, как это тяжело – открывать в родном и любимом человеке неприятные черты… Какую-то черствость, непорядочность я начал видеть в Маше, когда она стала матерью. Какое-то равнодушие в ней проросло ко мне и к Мишке. Ее теперь совершенно не волновало, если я уйду на работу без горячего завтрака или что у Мишки глаз открывается только наполовину – я знаю, так бывает у котов, если они кислое понюхают, но тогда я не был в курсе! Она вся переключилась на ребенка, ослепла и оглохла… Я приобрел в честь рождения сына сережки золотые с фианитами, так она даже не рассмотрела их как следует и носить не стала – видите ли, малыш может потянуться ручкой и оцарапаться! К Мишке она тоже остыла, но теперь уже не заговаривала о том, что его надо в деревню, – даже ласкала его, но, как и меня, мимоходом.
А Мишка очень стремился попасть в детскую к малышу – орал под дверью, прорывался туда при первой возможности, но Маша не разрешала, потому что может попасть шерсть, лишай и неизвестно что.
Вот еще интересное наблюдение, Ниночка. Когда я звонил жене с работы, она всегда была такой ласковой, так щебетала, что я летел домой буквально на каких-то крыльях, но стоило мне “долететь”, как тут же выяснялось, что Антон спит, а ей надо постирать-погладить, всё это ваше женское. Ну конечно, Ниночка, я понимаю, что она стирала и гладила не только женское! Я вообще не о том. Мне просто стало казаться, что я Маше мил только на расстоянии, по телефону. А когда она меня видит, так тут же и разочаровывается. Никогда этого никому не говорил, Ниночка. Смотрите, котик-то наш уснул. И лапки так славно под себя подвернул…
Вот стало быть. А Маша мне в ответ на все мои упреки отвечала только одно – неужели ты не видишь, как я устаю? Ведь мне совсем никто не помогает, ни бабушек у нас здесь, ни дедушек – все далеко и работают.
Тогда я предложил позвать бабу Фросю из соседней квартиры – ей и платить не надо будет, она сколько раз предлагала безвозмездно. Маша подумала и согласилась. Антон тогда уже подрос немного, когда его брали на руки, прыгал вот так на коленях, ну знаете, как младенцы прыгают, если их под мышки держат. И он бабе Фросе порвал единственное платье – с такой силой прыгал, что оно треснуло. Мы думали, она расстроится, а она только посмеялась: ишь какой мужик растет! Хорошая была старуха. Потом как-то враз обессилела. Сын к ней переехал квартиру караулить, чтобы другие братья-сестры не перехватили. А у нас всё через стену слышно, что у них происходит – слышимость-то сами знаете какая была в то время. Сын кормит мать и кричит на нее:
– Жри, скотина! Полную ложку бери, сволочь!
Маша прямо содрогалась вся. Просила меня повлиять на него, потому что Антон уже стал своих игрушек звать “скотиной” и “сволочью”. Но я не стал, Ниночка, с ним говорить – он бы всё равно ничего не понял. Он явный сиделец был, весь в портачках. Я просто семью осиротил бы, если бы с таким человеком стал иметь дело. Я с ним даже не здоровался, и он стал плевать в отместку мне на машину – у нас уже тогда был “Москвич”, гараж был, и вообще, жили мы, Ниночка, дай бог каждому.
Когда Антон подрос, Мишку стали к нему подпускать, но у них никакой симпатии не получилось. Все мои коты были, честно сказать, именно мои – Машу они только терпели, а сына даже терпеть не могли. Антон вырос совершенно равнодушный к животным. Нет, нет, он уже давно не с нами…
Года три Антону было – так Мишка ему дорогу перекрывал, умора! Антон шагает по своим делам, а кот встает на пути – и шипит. Тот в слезы, конечно… Маша смеялась, говорила:
– Тоша, просто скажи: брысь, Мишка!
А ведь это слово – “брысь” – тоже сейчас совершенно забыто, Ниночка. Теперь к котам так не обращаются.
Когда Антон пошел в детский сад, там на него стали сразу жаловаться – ребяток обижает, поделки не лепит, в сончас мешает окружающим.
Маша разговаривала с сыном, наказывала, строжила – всё без толку. Тогда она стала утверждать, что характер в любое живое существо закладывается высшей силой и не надо переоценивать возможности воспитания. Говорила:
– Сережа, мы не боги всесильные, а всего лишь родители.
А у меня с сыном взаимопонимания не было. У нас даже простого понимания не было! Он почему-то еще с пеленок смотрел на меня как бы свысока и без всякого уважения. Я ему только отдавать должен был, а моим мнением он не интересовался. Всё с матерью сидели, шептались. Они вдвоем, заодно, а мне только кот оставался. Приду с работы – Мишка в коридор выбегает, мурлычет, брюки у меня вечно в шерсти! И никто больше не встречает.
Маша к тому времени уже начала меняться до полной неузнаваемости. Вы не верьте, Ниночка, если вам скажут, что кто-то, дескать, резко изменился. Это один случай на миллион, когда резко. А у обычных людей – в день по чайной ложке.
Я долго понять не мог, что с ней случилось, отчего она всё молчит теперь и еду на стол ставит с каким-то осуждением. Спрашивал, она не отвечала. Посадит Антона рядом и сказку ему читает – “Дикие лебеди”. Очень она выразительно читала про этих лебедей. Но в садике по-прежнему жаловались, даже одна родительница Машу вечером после работы подкараулила и сказала, что такого мальчика нельзя пускать в приличное общество! А он, Ниночка, все-таки носил мою фамилию. И цеплял при этом только самое плохое отовсюду. Знаете, бывают такие слабые дети, которые от любого чиха болеют – даже если чихнули в соседнем микрорайоне? Вот, а наш подхватывал только разную гнусь – хорошее у него не усваивалось. Матерщину с гаражей читал. Окурки подбирал на улице. На шпану прямо с восторгом глядел – как на идеал!
На Машу всё это очень плохо действовало. Она и наказывать его пыталась, и по-хорошему с ним разговаривала – так делать нельзя, понимаешь? Антон говорил, понимаю, а сам ровно через минуту делал то же самое. Не мог себя побороть.
А меня из процесса воспитания исключили после того случая в первом классе. Еще даже по именам друг друга не все дети знали, а наш уже отличился. Бегал на перемене и толкнул мальчика – тот упал и руку сломал. Родители, правда, приличные попались – не стали никуда жаловаться. Но домой нам все-таки позвонили, просили повлиять на сына.
Маша уже на пределе была, вот я и сказал, что сам со всем разберусь.
Она догадалась, мне кажется, потому что быстро собралась и ушла из дома. Я еще не знал тогда, что никогда больше ее не увижу – ту Машу, с которой прожил столько лет… Антон сидел у себя в комнате. Я его по щеке ударил, несильно – щека такая мягкая оказалась и зубки почувствовались. Думал, заревет, а он – нет. Только усмехнулся как-то по-взрослому.
Вот тогда я его и выпорол по-настоящему, ремнем. И он, представляете, Ниночка, ни одной слезы не уронил – в семь-то лет! Зато Мишка выл под дверью прямо как собака, хотя он к Антону никаких чувств не испытывал – обходил его всегда стороной.
Маша вернулась через час, бросилась к сыну в комнату, плакала. А я с котом на коленях сидел целый вечер – гладил его, гладил, пока весь не заискрился. Рука-то прямо горела от той пощечины…
После стало еще хуже. Учиться Антону не нравилось, в школу ходил только потому, что нашлись там такие же друзья-товарищи: без руля, без ветрил. В восьмом классе уже пили-курили как взрослые. В девятый сына не приняли, даже ПТУ было под вопросом, и у меня на работе об этом узнали – тогда ведь не такие времена были как сейчас… Начались неприятности, жалобы разные. Руки на него я больше не поднимал – Маша сказала, если не хочешь, чтобы я от тебя ушла, не смей к нему подходить ни с плохим, ни с хорошим! Как-то так у нее получилось, что это я во всем виноват – и что сын такой родился, и что я его тогда “избил”, а надо было воздействовать словом…
В общем, Ниночка, ПТУ он не закончил, потому как был к тому времени законченный наркоман. Похоронили мы Антона в 1990 году – и даже не заметили, как страна развалилась, жили несколько лет как в тумане: руку свою видишь, а дальше – молоко небесное.
А Мишка умер через два года – весь был уже седой, серебряный прямо. Долгожитель. Под старость совсем уже трудно с ним было – он не из вредности гадил, а просто потому что не получалось иначе. Старость у всех одинакова, Ниночка. В юности тебе душа собственная не подчиняется, а в старости – тело. Но я даже благодарил мысленно Мишку за это – потому что дома было постоянное занятие.
Похоронил я его во дворе, под рябинкой – ночью, когда все спали, вырыл яму и простился. Поплакал, конечно, над ним – вы же понимаете, Ниночка, мы к ним привязываемся еще больше, чем к людям. А Маша, та слезинки не уронила.
Я, говорит, теперь как деревянная – ничего не чувствую.
И все-таки следующего кота опять она к нам в дом принесла – он был кладбеныш. Месяцев пять с виду, тоже серый, но еще и полосатый. Сидел на могиле Антона, вот Маша и напридумывала, что это его душа к нам таким образом обращается.
Лично я у Антона никакой души не помню вообще – сколько он с нами прожил, ни разу не поинтересовался ни самочувствием моим, ни делами на работе. Конечно, я расстроился, когда он умер, – не каждый день детей хоронишь, но было к этому примешано еще и облегчение, Ниночка. Нехорошее такое, позорное облегчение. Я с того случая в первом классе понял, что не выйдет из него толку, хоть каждый день его пори. Он и в тюрьму мог попасть, и убить кого-нибудь – не сморгнул бы.
А Маша, чем больше лет проходило, наоборот, всё обеляла и обеляла его память. Какие-то истории умилительные придумывала из детства и обижалась, почему же я их не помню?
Я помнил только, как Мишка его “закрывал” в коридоре – и не пускал идти дальше. А, уже рассказывал про это?
Ну и вот значит. Нового кота назвали Грэй – в честь того капитана из фильма. Как раз в тот день передавали по первой программе. Умный оказался – на диво! И характер золотой. Вроде бы приблудный кот, а сразу понял, куда нужно ходить, где его миска и всё такое. Сам был сдержанный: лишний раз не мяукнет, и на улицу выходить отказывался – может, боялся, что его опять там оставят?..
Целыми днями Грэй сидел на подоконнике в кухне, между цветочных горшков, наблюдал за прохожими и птицами. А Маша вдруг собралась в Израиль, потому что имела немного еврейской крови – и подругу в обществе “Сохнут”. Меня она вроде как с собой не приглашала, и общения у нас к тому времени вообще никакого не стало – мы с ней общались только через Грэя. Он свернется бубликом, мы оба улыбнемся и поговорим об этом из вежливости, как случайные встречные.
Раньше мы оба двигались по партийной линии, Маша даже преподавала марксизм-ленинизм, но с этими новыми порядками линию нашу вовсе отменили. Жена осталась без работы, мой трест не закрыли, но платить перестали – в общем, времена пришли тяжелые. Помню, как летом всерьез ходил за грибами и ягодами, потому что есть было нечего – занимался собирательством, как при первобытно-общинном строе. И ваша мама тоже так делала, Ниночка? Неудивительно. Дрянное время было! Я понимал, что в Израиле будет полегче, но еще раз говорю, с собой меня никто не звал. И крови никакой такой у меня не имелось.
Когда уже почти все документы у Маши были готовы, я понял, что надо срочно что-то делать, иначе она уедет, а мне здесь просто не выжить одному. И не хотел я без нее выживать, Ниночка, я ведь любил ее, просто не всегда мог понять. Одно с другим вместе не ходит.
На лицо ее уже совсем узнать нельзя было – она и так всегда была худенькой, а тут совершенно есть перестала, прямо веточкой стала. Курила очень много и волосы вдруг выкрасила в рыжий цвет.
Я чувствовал, что у нее начинается какая-то другая, новая жизнь – где не будет места ни мне, ни Грэю, ни даже памяти о сыне. И о Мишке.
Лично я сам в Израиль не стремился, потому как считаю, Ниночка, что никому мы там не нужны. Мы и здесь никому не нужны, и необязательно для этого ехать через полмира и учиться писать закорючками. Но я все-таки проконсультировался у знающих людей, и меня научили, как подделать свидетельство о рождении – надо вписать национальность матери “еврейка”. Всё это я сделал, опасаясь судебного преследования, поскольку нарушал закон, – и показал как-то вечером Маше. А она расхохоталась в первый раз с 1990 года:
– Сережа, этот бланк отпечатан в 1985 году!
Я тогда спросил ее всерьез, неужели она меня оставит здесь одного, ведь у меня родители были очень старые, жили далеко в области, а никаких близких я себе, кроме нее, не завел.
– Грэй с тобой останется, – серьезно сказала Маша. – А я должна новую жизнь начать, Сережа, пойми меня правильно. И отпусти, пожалуйста.
С таким видом сказала, как будто я ее за руку схватил и держал.
Грэй как чувствовал, что дома неладно, – стал беспокойным, крикливым. Мы ветеринара позвали, он предложил кастрацию – если говорит, вам нужен домашний кот, то и нечего ему мучиться самому и вас мучить.
Все-таки, Ниночка, у животных жизнь несколько проще, чем у людей. Грэй несколько дней после операции пролежал, никак в себя прийти не мог – а потом проснулся однажды совершенно счастливый. И спокойный.
А я, наоборот, заболел. Маша потом говорила – ты это специально, ты нарочно, ты знал, что я не смогу бросить больного! Не знаю, как так вышло, но меня увезли на “скорой” с сильнейшим приступом язвы, и доктора Маше заявили, что без внимательного ухода и строгой диеты я долго не протяну.
В общем, Израиль остался где он и был – на географической карте. Маша меня не бросила, соблюдала все рекомендации врачей, и я довольно скоро пошел на поправку. Жареное мне до сих пор нельзя, но в целом я себя чувствую куда лучше, чем двадцать лет назад. Тогда же примерно один мой коллега из треста затеял совместное предприятие с немцами, пригласил меня к себе замом – и с тех пор я грибы с ягодами принципиально не собирал, а только покупал с большим облегчением у граждан на троллейбусных остановках. Жить мы стали намного лучше и веселей – как нам, в общем, и обещалось. Сделали ремонт, из старых вещей, как я шутил, остался только кот. Машину взяли новую, отдыхать научились за границей. Грэю покупали самый дорогой корм, приобрели трехэтажное дерево для лазанья, но оно ему не понравилось. Антону поставили шикарный памятник – из привозного камня, с оградкой чугунного литья. Маша всегда была со мной рядом, со стороны глянешь – не супруга, а мечта! Курить бросила, волосы стала осветлять, окончила курсы по английскому языку и еще другие, чтобы рисовать живописью. На людях под руку меня брала, на совместных фотокарточках обнимала, но когда мы одни оставались, я для нее тут же исчезал.
– Я тебя не просто не люблю, – сказала однажды задумчиво, – я тебя даже не уважаю.
А ведь если задуматься, уважать меня было за что: не пил, не курил, с бабами чужими не возился, деньгами не обижал, а ей, видите ли, не хорош.
Ну я и сказал ей – так уходи! Давай разведемся! Сказал, а сам испугался: что если согласится?
Маша только рукой махнула:
– Какой теперь развод? Столько лет вместе прожить, даже к ненависти привыкнешь… Я тебя не люблю, Сергей, но разве это теперь важно? Все эти люблю – не люблю, они для молодых.
Грэя на руки подхватила – и ушла в бывшую Антошину комнату. Она там в последние годы спала, на диванчике. И Грэй засыпал у нее в ногах, но под утро всё равно ко мне прибегал.
Я тогда вздохнул с облегчением. Старался ее с тех пор хоть чем-то радовать – подарки делал, картинками ее целую стену завешал, хотя они мне и не слишком нравились – темные были и грустные.
Маша умерла в 2003 году – руки на себя наложила. А Грэя не стало через год, день в день – хотите верьте, хотите нет. Ух как он мучился – исхудал весь, шерсть вылезла, зубы повыпадали… Ветеринар – тот же самый – пришел к нам и говорит:
– Давайте усыпим, Сергей Валерьевич, ну что же он будет сам мучиться и вас мучить?
Поставил ему укол, и закрыл второй мой котик глазки навечно.
Я похоронил его там же, под рябинкой, рядом с Мишкой. Подумал, им там веселее будет лежать – и мне, когда мимо иду, есть кого вспомнить.
Вот так и остался я, Ниночка, один в целом свете. Ни сына, ни жены, ни родителей – они к тому времени скончались у себя в области. С друзьями тоже как-то не сложилось – дружба занимает столько же времени, сколько любовь, если не больше, а я временем всегда дорожил, Ниночка. Я так много работал в те годы, а потом оказалось, что тратить заработанное мне не на кого – только на себя, как говорится, грешного.
Памятник Маше я тоже поставил хороший – не экономил. Рядом с сыном место купил, долго сидели с девушкой из фирмы, выбирали камень, разное другое оформление… Сейчас все говорят – одно из самых красивых надгробий в нашем секторе.
А годы мои были еще не старые, Ниночка. Жениться больше не решился, хотя соседи из квартиры напротив, где раньше баба Фрося жила, очень хотели меня свести с какой-то своей племянницей, но я эти намеки решительно пресек. Я думаю, это они же самые подкинули мне под дверь третьего кота – потому что откуда бы иначе он взялся в нашем подъезде, где консьерж и домофон?
Снова серенький, в голубизну, а глаза желтые. Породистый был, английский. Такой, я потом узнавал в компьютере, стоит чуть не десять тысяч, а мне, видите ли, даром достался. Я как раз тогда компьютером увлекся – на пенсии-то что еще делать? Рыбалку там, или домино, я никогда не любил, а вот с компьютером у нас сразу же заладилось. На Одноклассниках зарегистрировался, нашел наших с Машей давних знакомых – поглядел на них – и закрыл от греха подальше. Все они хоть и старые, но счастливые. Пусть толстые и с лысинами, зато с внуками сопливыми на коленках…
У меня, Ниночка, всей компании был кот. Назвал я его Джеком – пусть и собачье имя, зато английское. И подходило к нему очень.
Ласковый был – вы себе не представляете! Каждый день с утра приходил для поглаживаний, крутился так и этак, мурлыкал… И еще, не поверите, разговаривал! Говорил вот этак: “Мяу-ма!” Почти как “мама”. Это он меня так звал – “мама”. И сидел как статуэтка – не шелохнувшись.
Хлопот с Джеком никаких не было – ходить он сразу приучился в старый, еще Мишкин, лоток (Мишка туда нечасто хаживал). Есть любил только из чистых мисочек – неважно, какой корм, лишь бы кругом аккуратность. В общем, не кот, а радость – мне его, вот правда что, Бог послал в награду за жизненные скорби.
Потом уже мне Наташа объяснила, что эта английская порода была известна в средние века в качестве котов-охранников. Будто бы изображения предков Джека даже встречались на старинных гобеленах: такой кот был страшней собаки, мог кинуться на обидчиков и загрызть насмерть.
Кто такая Наташа? А я не сказал разве? Наташа была моя внучатая племянница – сама нашла меня в компьютере, приехала в гости и осталась жить в моей квартире. Она выросла в Тюменской области, село Ярково. Там всех достопримечательностей – две газпромовских заправки и деревня Григория Распутина, но до нее еще ехать надо.
Наташа окончила институт в Тюмени, но хорошей работы найти не смогла, и ей присоветовали попытать счастья у нас в городе. Про меня кто-то из родственников вспомнил – ну и я подумал, ничего страшного, если будет рядом жить какой-то человек. Седьмая вода на киселе – а всё равно кровь не водица.
Выглядела Наташа странно – стрижка короткая, одежда мужская, голос грубый: со стороны не поймешь, девка или парень. Руки все в татуировках по самые плечи – называется “рукава”. Работу она не искала – целые дни сидела в компьютере, в наушниках. Вечером выходила ненадолго до магазина – энергетическую газ-воду покупала, чипсы и шоколад, так и питалась. Но зато умная была, начитанная. Про кота всё с уверенностью мне объяснила – и вообще, я с ней рядом как-то оттаял немного. Живой человек все-таки.
Джек Наташу принял, полюбил. Тоже стал звать “мяу-ма” – и спать иногда приходил к ней в комнату, бывшую Машину-Антошину. Она его фотографии делала на телефон и выкладывала на своей страничке. Звала его “Джекил”, а меня просто – “дед”…
Эх, Ниночка, вот так начинаешь свою жизнь вслух пересказывать и понимаешь, как в ней было мало событий… Ведь жизнь-то длинная, долгая, а получается, всех историй в ней на час не наберется…
Года три Наташа с нами прожила – работала дома, какие-то сайты поддерживала, еще что-то связанное с компьютерами делала. Потом вдруг стала вечерами уходить, а я волновался, я же привык уже к ней – к ее словам, походке, сигаретам… Она была мне роднее внучки, и я скучал по ней – вся моя жизнь крутилась вокруг Наташи, а она возьми и приведи в дом ту деваху.
Знакомься, говорит, дед, это Милана. Можно она с нами поживет?
Я даже не понял сперва, о чем она – потом-то уже догадался, когда увидел их с этой Миланой на Антошином диванчике. Тьфу, гадость!
Они же еще и рассердились:
– Дед, стучаться надо!
Вообще-то я на своей личной жилплощади находился, между прочим. И не заслужил такого отношения – что я им, мебель? Хорошенькая мебель – и коммуналку платит, и ужин готовит, а они, значит, будут на диванах валяться и новые татуировки делать: у этой Миланы даже на шее были портачки!
Прогнал я их в шею, Ниночка, даже вещи не дал собрать – потом, говорю, придешь, когда остыну. А она, внучечка моя единственная, даже не оглянулась ни на меня, ни на Джека, когда уходила. Слова бросила, как мусор в кусты:
– Понятно, почему ты один остался в старости. С тобой рядом всё живое гибнет! Старый хрыч ты, а не дед!
И ушла с одним своим ноутбуком – за вещами не вернулась, они и сейчас лежат на антресолях. Я иногда их достаю и рассматриваю – представляю, какой она теперь стала. У меня и Машины вещи сохранились, и Антошины даже – совсем уже ветхие, правда. Я их раскладываю на диване и разговариваю с каждым. А Джек рядом сидит, мурлычет… Ну то есть сидел до вчерашнего дня. Вчера он умер, Ниночка, любимый мой котик… Ушел легко, никого не измучив – и я его похоронил под рябинкой, рядом со старшими.
Спать, конечно, не мог – какой там сон в наши годы, да еще и после такого. Только под утро закемарил ненадолго – и сон увидал, где все мои три кота нежатся на солнышке, а за столом сидят мои родители, Маша, Антон с какой-то девушкой и Наташа с Миланой. Такой сладкий сон был, что я проснулся со слезами на глазах – от счастья и от печали, что даже во сне понимал, такого нет и быть не может.
И я не согласен, Ниночка, что рядом со мной всё живое погибает – вот же, все мои коты прожили долгую, счастливую жизнь! Разве не доказательство? Я никого в своей жизни не обидел, травинки просто так не измял, работал честно, о близких своих заботился с дорогой душою – так разве я виновен в том, что меня никто никогда не любил?.. Только животные любили, потому что они любят нас бескорыстно, такими, какие мы есть.
А мой четвертый кот обязательно меня переживет – и не я его буду хоронить, а он меня. Я заранее договорюсь с соседями, чтобы взяли его после моей смерти – с условием, что я им квартиру отпишу. Больше-то всё равно некому.
Так что, как видите, я обо всем позаботился, как и подобает взрослому, ответственному человеку. Можете отдать мне этого котика, тем более он у вас всё равно переростыш, а ярмарка уже закрылась, пока мы тут сидели. Никто его, кроме меня, не возьмет. А я возьму, если отдадите со скидкой.
Отдадите, Ниночка?..
Ксения Букша Крокодил. Три интервью в один день
1
я часто беру интервью люблю это делать и вот однажды я решила, что хочу только брать интервью и больше ничего не делать я устроилась работать к самым крутым журналистам города которые умеют брать интервью лучше других они умеют брать идеальные интервью и вот я думала, что я пригожусь им хотя мои интервью и не идеальны но есть некоторый опыт брания то есть взимания ну, короче, интервьюирования но у нас вышел спор самый крутой журналист города говорил мне: пойми, даже в лучшем интервью должна быть завязка и развязка ты должна немножко, э-э, ну, как это? – кое-что сделать подсобрать в кучку сконцентрировать речь персонажа нельзя же просто так брать интервью и брать его, так сказать, голыми руками если человек будет рассказывать тебе про крокодила он будет рассказывать – “ну, у него зубы ТАКИЕ, он ВОТ такой, а хвост у него ВО” ты же не должна так писать ты должна написать: “длина крокодила огромна, она составляет” ты должна провести собственное расследование и сопоставить его результат со словами интервьюируемого голая прямая речь – это еще не крокодил у крокодила должен быть сюжет! Он должен быть зубастым. У него должна быть завязка, кульминация и развязка. Развязка – это момент проглатывания жертвы. Гоп – и твой читатель ПРОГЛОЧЕН. Он сидит в крокодиле. Поняла?2
На следующий день я должна была взять три интервью подряд в каком-то смысле все они были про крокодила а в каком-то смысле – нет так вот значит вышла я на удельной когда было еще темно навстречу мне машины так и прут идешь по энгельса и сомневаешься: к центру или от центра темно, ничего не понятно пока не покажутся впереди башни северного проспекта похожие на крокодиловы зубы я шла вперед и думала про план крокодила крокодила надо сначала спланировать вот я и думала о том, каким может быть план: – жил да был крокодил не резиновый а обыкновенный с лапками и четырехкамерным сердцем жил он, конечно же – да где ж ему жить? – в канализации семиклассники-сталкеры и третьеклассники-попаданцы хорошо знали этого крокодила и даже дошкольница девочка Света отлично знала что если она хоть ненадолго задержится на унитазе то крокодил успеет подплыть с той стороны и откусит ей попу а один полярный врач по фамилии Гундосин даже успел немного посидеть в крокодиле это хобби у некоторых такое Мелани Кляйн даже написала про этого крокодила известную поэму “черное сердце” Внизу всё было в снегу, и начинался уже Шуваловский парк потом я дошла до метро Озерки и встала рядом с выходом я позвонила пиарщице Ире она ответила сонным голосом я подумала, что я ее разбудила извинилась, а она говорит: нет-нет просто у меня особый ребенок, сейчас погода меняется несколько ночей подряд было очень тяжелых вот и сегодня – в три часа легли, я сейчас никакая специально на свободный график устроилась конечно-конечно, говорю, всё правильно, очень вас понимаю процентов на десять понимаю вас у меня нет особых детей, все обычные – у меня трое ну, говорит она, вы меня понимаете, просто ваши берут количеством а мой, так сказать, качеством Ира сказала мне, где будет ждать шофер, я вышла на дорогу и он очень быстро подъехал и повез меня вперед мне хотелось быстрее я обычно сама быстро езжу но потом я заметила, что он очень круто лавирует обгоняя не за счет скорости, а за счет умения предвидеть и подстроиться к обстановке и я всё думала про то место, в которое мы едем как туда ездила моя мама, когда она лечилась и другие тетеньки и дяденьки, молодые и не очень есть же целые маршрутки, которые едут туда от метро Озерки и вот в этих маршрутках все едут: онкология, химиотерапия, радиотерапия туда и обратно пока не вылечатся или не умрут мама еще говорила: там такая жутко тяжелая атмосфера и как это люди там селятся строятся но я думаю, дело было в том, что она болела я вот не знаю, тяжелая ли там атмосфера наверное, все-таки да но не в смысле тоскливая или там страшная или там какая а в смысле нагруженная, полная смыслов там движутся люди, у которых текут полные значения дни и недели жизни у некоторых предпоследние, например они там деловито очень снуют, как в муравейнике очень деловая обстановка, всё по делу, все приехали лечиться целенаправленно и, честно говоря, лица там все-таки смазанные не видно по лицам – кто, что и в глаза люди не очень-то смотрят, и ты в их глаза не очень смотришь это есть вот такие места вроде всё и ничего, но уж слишком там всё исполнено смыслов все лица, фигуры, здания, снег под елками машины, разбрызгивающие грязь каждый день нагружен огромным количеством смыслов подъезжает маршрутка, выходят люди прыгают через сугробы вот он раковый корпус – тяжеловесное здание, та-дааам — линия фасада в вестибюле раздеваются, номерков не хватает вот мужчина с трудом поднимается на второй этаж а вот другой мужчина с трахеостомой девушка опирается на руку молодого человека она в темных очках с фигурными золотыми дужками и в платке женщина, по лицу – грузинка лет сорока пяти, наверное в жестком парике, а может быть, с жесткими крашеными волосами стоит рядом с информационной стойкой, хочет что-то спросить администратор обращается к ней она чуть улыбается, кивает, говорит: надо собраться с мыслями и я вижу ее глаза – они накрашены, ресницы на месте вокруг и внутри глаз скопилось столько смысла, его так густо и много затем задает вопрос, ей отвечают, она направляется туда куда-то в недра здания, по тропке, дорожке, на какой-то этаж и все время неслышной фоновой мыслью я, конечно, думаю о маме никаких особых эмоций, я просто по-думываю наверное, когда она здесь ходила, не было еще этого ремонта да конечно уж – не было много чего еще не было, как-никак – десять лет прошло по невидимой тропке к смерти неслышно движусь и я главное, о чем не стоит думать, – что это будет для меня наказанием когда крокодил будет меня жрать, я не хочу думать что он меня наказывает хотя наказывать есть за что пусть это досада, смерть, тоска, надежды, заботы, новые смыслы или бессмысленность, труды, скука боль, много тошноты, усталости много чувств, бесчувствие всё это не наказание, а просто бремя, обременение когда крокодил жрет тебя – это труд, ты трудишься это бремя очень большое, тяжелое трудно переносимое или вообще непереносимое но не наказание, нет3
и вот двухэтажный корпус диагностики деловая, суетливая обстановка люди сидят в очереди на стенах развешаны красивые фото людей проект, рассказывающий о жизни и борьбе онкологических пациентов человек, его история, фотография проект двухлетней давности иных уж нет меня уже ждет врач оптимистичный чувак он говорит: – Мы – наш институт – по идее – оказываем высокотехнологичную помощь. Мы центр четвертого уровня. Что это значит? В идеале это означает, что мы делаем только то, работаем только с теми, кому на районном уровне не помогли. Если районное это лечение у них не работает, или нужно что-то еще более сложное, чего у них нет, – тогда уже к нам, за крутым сложным лечением, сверх-операциями, радиологией. Но это в идеале. А в реальности в 99 % случаях люди приезжают к нам частично или вообще не обследованные, с МРТ сомнительного качества, на котором “что-то нашли”. А иногда та диагностика и то лечение, которые у них в доступе, не устраивают по срокам, по качеству. В регионах МРТ или ПЭТ можно ждать месяцами. Иногда к нам приходят люди подтверждать диагноз: их послали, ничего не нашли – а боль есть. И мы ищем и на- ходим. И знаете, я думаю – пусть люди лучше платят, пусть имеют возможность заплатить. Если у нас нет региональной медицины, но есть возможность приехать к нам, то мы постараемся, чтобы здесь они платили меньше. Ну об- легчить, насколько возможно, хотя бы в этом. Вот так и вы- ходит, что к нам идут делать “сразу всё”, что платят за возможность нормально обследоваться, сделать всё быстро, вовремя. Но мы стараемся, мы стараемся не только вылечить, но и сохранить благосостоя- ние людей. Ведь им очень сложно. Даже в рамках платных услуг мы стараемся… так он говорил а за его дверью сидели люди например, девушка, которой нужно было подтвердить диагноз поэтому я закончила интервью поскорее задала все вопросы и быстро вышла а за мной вошла та девушка но она тут ни при чем и, конечно, я должна ее вырезать да и про платную помощь тоже нельзя к крокодилу это не относится ничего о нем не говорит любой журналист поймет4
когда я вышла, было только одиннадцать то есть мы беседовали меньше получаса водитель подъехал, я села и мы поехали назад по лесочку, мимо шлагбаума и дачек мама еще говорила: кто же это там дачки строит такая атмосфера тяжелая и это кладбище… впрочем, кладбища я не видела а водитель между тем говорил: это же кто попал туда, это уже всё уже привет – слопали а я ему отвечала: нет, нет, не всё зависит от стадии, и вообще, еще от много чего зависит а он мне сказал: тут постоянно мамочка одна ходит курить ребенок у нее там я смотрю на нее – она уже полгода ходит курить значит, они уже полгода лечатся а я ему отвечала: — …так вот, наш крокодил на целый город страх наводил а чтобы своего страха не показать семиклассники, девятиклассники и даже чиновники первого ранга каждый вечер ходили по городу, обнявшись по трое, и орали песню Я крокодил, крокожу! И буду крокодить! Я крокодил, крокожу! И буду крокодить… и так далее а всем известно, что если съесть четырехкамерное сердце то станешь умный, как но покамест у всех сердце трепещет и выводит всякие писклявые экстрасистолы а может, это не сердце, а другие органы в любом случае, крокодила боятся все хотя никто его не видел, все о нем знают а некоторые даже были им съедены и так и живут съеденные потом мы выехали на дорогу, и неожиданно вышло солнце облачка были похожи на ангелов и только когда я вылезла из машины, захлопнула дверь и пошла через мостик – я подумала: как хорошо что я не в крокодиле! И солнце видно! И ночь коротка! относительно коротка и вот я шла по Каменноостровскому проспекту и когда я пришла в кафе до второго интервью оставалось еще полчаса так что я успела набело напечатать первое почти целиком5
а потом пришла девушка, которая целиком делает паллиативную помощь в Питере (update – со своей командой) она пришла в кафе пообедать а в результате выпила только чашку кофе потому что она фанатичка но иначе невозможно, когда борешься с крокодилом для нее крокодил – это БОЛЬ люди звонят ей днем, раньше звонили и ночью она избавляет их от боли вручную потому что врачи не умеют определять боль они заточены на то, чтобы жизнь спасать а паллиативным больным жизнь надо не спасать, а облегчать и вот она говорила быстро, много, громко, толково, я даже не успевала задавать вопросы вообще ничего не успевала а она не успевала отхлебывать сегодня она легла в три часа ночи, а встала в семь потому что на ней все паллиативные больные (и на ее команде, конечно же) а потребность в обезболивании в Петербурге не удовлетворена Я спросила у нее, не тяжело ли ей разговаривать с чиновниками и она ответила зло: нет! Не тяжело! Это такие же люди. У них так же болит. Им так же умирать. А мы приходим с конструктивными предложениями. Не стоит видеть в человеке одну только функцию. Человек живет до самого последнего момента своей жизни он должен прожить их целиком, так, чтобы он не превращался в зверя шкала обезболивания тягостные симптомы потребность в паллиативной помощи не обеспечена простите мне надо бежать мне звонят мы каждому адресно вручную обеспечиваем всё это не спрашивайте у меня про чиновников почему вы думаете, что они крокодилы какие-то почему вы думаете, что власти во всем виноваты если мы будем на них кивать а сами ничего не делать да, мы ведем диалог, мы убеждаем на данный момент – мы на этапе убеждения в том, что это нужно мы очень ждем согласования, ни в коем случае не публикуйте без согласования (но вот однажды, вот однажды… решил пойти на крокодила один мальчик Алекс – то бишь Алёша который любил читать рыцарские романы и есть заводные апельсины в переводе с крокодильского языка “Алекс” означает “законодатель” или антизаконодатель, то есть лапкоотрыватель вот вышел Алёша на Красную площадь на Красную площадь – Сенатскую площадь вот вышел Алёша и крикнул ему: выходи, Крокодил Алексеевич!) (а крикнул он так потому, что у своего страха папа и мама всегда ты сам и есть. а так как крокодила боялись решительно все, то и сам Алёша мог считаться его отцом. И носил – крокодил – его от-чес-тво.) (ха-ха-ха, – говорит крокодил. Ведь тебя я давно проглотил! И всю Красную площадь, Сенатскую площадь, по кусочкам хвосточком я размолотил! по мосточкам я раскрокодил!) После интервью мы долго шагали по проспекту по отдельности в одну и ту же сторону наконец, я пошла быстрее и обогнала ее без согласования ничего публиковать нельзя а при согласовании всё лишнее отрезают удаляют зубы чиновники-то люди, а крокодил не человек но она безусловно права, потому что люди важнее она уже пять лет в паллиативной помощи с восемнадцати лет то есть и на ней гигантская ответственность а тут приходят со стороны и тычут: “легко ли тебе с чиновниками” “ах, как много вы за год сделали” да, бль, легко, как пёрышко да, дико много, бль, ни х почти не сделали ситуация тяжёлая в Питере с обезболиванием процесс туго идет, а сказать об этом вслух невозможно ответственность огромная а эти со стороны ходят, спрашивают, ничего не понимают всё так6
уже темнело, хотя было всего три часа дня и мне нужно было взять третье интервью до того как уже будет очень поздно и детей из садика начнут разбирать и вот я шла по темнеющему проспекту под темнеющим небом и вдруг зашла в чудный магазин где были одни только куклы и никаких людей там были чудесные пупсы в шикарных одеждах и куклы-мальчики, оливковые и темноволосые, и куклы-девочки в восхитительных нарядах беляночки и рыжие тридцать восемь сантиметров рост куклы, бывают и такие младенцы крокодилы там тоже были кро-ко-диль-чи-ки без четырехкамерного сердца без челюсти, способной раздавить тебя с силой 340 атмосфер я вышла, тихонько прикрыв за собой дверь и пошла вперед, под темнеющим небом, к мосту Тучкову, и я перешла по Тучкову мосту реку Неву и тут же, рядом, была детская больница номер два имени Марии Магдалины как только я подошла, телефон зазвонил пиарщица этой больницы, девушка с развевающимися волосами уже ждала меня пойдемте, сказала она энергично поищем Аслана Рустамовича а Аслан Рустамович исправляет маленьким детям их маленькие члены мальчикам их пипирки проще говоря, он делает операции по поводу гипоспадии а гипоспадия, ребята, это вам не хрен собачий бывает, что у ребенка вообще не определяется пол и все надо делать заново – яички, мошонку и уретру пиарщица в письме обрисовала мне эту картину и волосы у нее развевались на ветру когда она вела меня через двор к отделению Аслана некоторым приходится делать заместительную вагинопластику это уже девочкам когда я готовилась к интервью, то набрела на форум мамочек у детей которых гипоспадия и которых оперировал Аслан “родной человек”, “золотые руки”, “писюн” и “дырочка” “лилось как через решето”, “а теперь красивый писюн” “его не отличишь от нормального обрезанного члена” “а нам удалось сохранить крайнюю плоть” “кто после повторной операции, расскажите” “не сформировался ли свищ” стемнело когда мы вошли и нам сказали: Аслан на операции подождите немного он закончит и немного отдохнет мы проследовали тем же путем назад пиарщица провела меня в конференц-зал и велела подождать в конференц-зале стояла одинокая доска для маркеров и стол, и еще семь рядов стульев я какое-то время посидела минут десять а потом стала рисовать на доске цветки орхидеи корни, клубни, стебли горки и, как всегда, чуваков и разные органы и спрятанных младенцев, их спрятанные пенисы маленькие вагины и маленьких животных он с тотошей и кокошей по аллее проходил но так как это всё не имеет отношения то всё это я тут же стирала понимая, что всё это не войдет в интервью и ничего не скажет нам о крокодильих перьях об его корнях, клубнях, лепестках так что я тут же всё это стирала дурея от сладковатого запаха маркера и от спиртового раствора, коим была пропитана губка7
так прошел час, и уже сгустилась темнота во всем городе мне пора уже было идти забирать дочку из садика и тут наконец пришел Аслан операция продлилась дольше и он как только закончил, сразу прибежал он скромненько уселся в микроскопической клетушке которая здесь считалась отделом по связям с общественностью метров пять квадратных два компьютера Аслан, создатель красивых половых членов для членов общества 260 операций в год, глаз – алмаз, руки – золотые, мамы благодарны рассказывает: прогестерон во время беременности вот назначают а потом глядь – у младенца гипоспадия пол приходится определять кариотипированием слова вылетают из его уст легко и свободно целомудренно, для него член, вагина, яички и другие вещи это микроскопические, маленькие, но драгоценные предметы которые он создает иногда своего материала нет, у нас много сложных случаев приходится даже пересаживать если член не ответил на тестостерон сейчас он не ответит и у подростка а мамы-то на форумах: писюны, пипирки, крантики, дырочки и даже, с благодарностью: драгоценность, маленький цветок я записываю всё, что он говорит представляю его садовником, который сажает свой сад маленький сад, в котором колышутся на слабых стебельках маленькие неопределенные цветы он говорит: и травмы например собака если откусила таксы, например, хуже крокодилов могут отхватить на раз (но в животе у крокодила темно и тесно и уныло, и в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей – К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой) так проходит пятнадцать минут, и Аслану звонят ему пришла посылка – беговые кроссовки вроде бы они не имеют отношения к делу но каждый день он бегает если не будешь в хорошей физической форме, не сможешь оперировать а у нас 5–10 человек в неделю две операции в день много тяжелых случаев мне пора я бегу в детский сад в голове у меня орхидеи тяжеловесные линии, окна института Петрова множество подробностей, которые никому ничего не скажут которые никак не связаны с тем, что мне удалось узнать каждое интервью было маленьким микроскопическим каждое слово было в нем важнейшим дико значимым каждое из них было сказано только потому что не сказать его было невозможно как же я буду вырезать их? Как я буду срезать эти маленькие цветы куда мне девать эти подробности где вместить их, если важна каждая делать которую мы при этом слышали, восприняли, увидели8
а фишка в том, что не ты берешь интервью а интервью берет тебя фишка в том, что тот, кто воистину знает крокодила знает его изнутри, из кишок, с изнанки когда ты видишь крокодила снаружи то его нет а когда ты видишь крокодила изнутри то нет тебя именно поэтому невозможно взять идеальное интервью невозможно создать план крокодила невозможно описать его по порядку, частями пока он сам не раздробил тебя на части невозможно переварить крокодила пока он сам тебя не переварил и вот так ты каждый день берешь у крокодила несколько интервью, а крокодил берет несколько интервью у тебя и уже непонятно, он ли это или ты сам реальность полна, целостна, она охватывает тебя со всех сторон проглатывает тебя, а ты в отчаянном усилии победить проглатываешь ее чтобы солнце вышло с другой стороны и не зашло уже никогдаОлег Зоберн Лев
Стоя на четырех крепких лапах, я, лев из колена Иудина, прислушивался к звукам пустыни. Было утро, и я хотел утолить голод. Мои уши улавливали каждый шорох и писк.
Ночью я спал, свернувшись клубком, в укрытии у подножия горного хребта, уходящего далеко вниз, к реке, где было больше деревьев и добычи, но и больше людей, а от них исходила опасность, хотя любого человека я мог убить ударом лапы. Иногда по ночам я подкрадывался к их домам с подветренной стороны так тихо, что меня не замечали сторожевые собаки, и принюхивался к дразнящим запахам еды.
Я не знал, где люди берут пищу, если не охотятся, и пришел к выводу, что они едят друг друга по какому-то правилу – наверное, в первую очередь съедают больных и слабых.
Я был главным зверем в округе.
Я медленно отошел от скал на открытое место и услышал, как под слоем сухой травы шевелится ящерица, мгновенно выкопал ее, прижал к земле лапой, она вырвалась, побежала, но в два прыжка я настиг ящерицу и отгрыз ей голову. Затем всё съел. Этого, конечно, оказалось мало, чтобы насытиться. Впереди был день, и чтобы пережить его, мне необходимы были силы, которые дают живые существа, пожираемые мной.
Моя голова была наполнена разными сведениями о мире. Иногда мне даже казалось, что я понимаю, зачем существуют люди, но не мог сосредоточиться на этой мысли. Люди мне были противны. Особенно меня раздражали их голоса – когда они кричали что-то друг другу или своему Богу, эти звуки воплощали бесконечное самодовольство и смерть.
Иногда я лежал под каким-нибудь одиноким деревом на краю утеса, вытянув передние лапы и помахивая хвостом, вглядывался в пустыню и видел темные облака, похожие на скопления тысяч мух, которые двигались над самой землей в горячем воздухе. Это были слова, отторгнутые людьми. Они выстраивались в строки, которые все вместе составляли книгу пустыни. От них исходил гул, как от роя ос. Иногда я пробовал догнать их и схватить, но это было невозможно.
Я медленно спускался по склону горы к ручью, где виднелись зеленые кусты, там можно было поймать мышь или невнимательную птицу.
Я шел через ровное открытое место; спрятаться, если что, было негде, но лев не испытывает необходимости прятаться там, где он единственный безраздельный хозяин.
Я чувствовал свою силу, однако какое-то древнее наитие всё равно подсказывало, что нужно быть настороже, поэтому иногда я останавливался, внимательно смотрел по сторонам и принюхивался. Самое неприятное, что я мог почуять, – это дым костров кочевников, а еще – запах другого льва, если он вторгся на мою территорию. Но я понял, что днем раньше в мою часть пустыни соперник не забредал и не оставил своего запаха, а что было до этого, уже не имело значения в нашем беспамятном мире, где все живут даже не днем, а мгновением, за которое можно стать или победителем, или жертвой.
Я заметил крупного аппетитного паука, подскочил к нему, но он успел юркнуть в щель. Чуть дальше я услышал шорох за камнем, кинулся туда, это был тушканчик, но он тоже успел нырнуть в свою нору. Выпустив когти, я сунул лапу в нору, но она была слишком узкой и глубокой, и тушканчик остался жив. Это немного раздосадовало меня – глупый тушканчик не понимал, что от него будет больше толку, если его съем я, большой и красивый зверь, повелитель этих мест. А он спрятался в свой бессмысленный лаз.
Дальше я шел осторожно, потому что левее, на другой стороне балки, часто появлялись люди, разводили огонь и ставили шатры из козьих шкур. Там находился черный камень размером с крону небольшого дерева. Возле него люди общались со своим Хозяином. Камень помогал им в этом. Иногда я, спрятавшись среди скал, наблюдал, как люди стоят перед черным камнем на коленях, что-то вопят, а потом откалывают от него куски и уносят с собой. Темные скопления слов вились вокруг камня, но люди их не замечали.
Я осторожно выглянул из-за скалы: на этот раз возле камня никого не было, он возвышался над множеством обычных камней, лишенный без людей какой бы то ни было силы.
Наверное, когда-то, во время бури, он скатился с горы и застыл так, размышляя, низвергнуться ему на самое дно долины либо остаться здесь.
Его вершина была убелена пометом птиц.
Я пробрался сквозь сухие колючие кусты, затем, неслышно ступая, прошел сквозь заросли камыша, надеясь внезапно застать какую-нибудь добычу на берегу, но там никого не оказалось, только на глине у самой воды были следы, оставленные диким козлом, и лежало несколько серых перьев, которые, наверно, потеряла птица, когда чистила себя клювом. Я понюхал эти перья.
Рядом на камнях журчала прозрачная вода. Я никогда не пил воду и не купался в ручье, как это делают некоторые звери, даже мысль опустить в воду лапу пугала меня – казалось, я тут же промокну насквозь и растеряю всю свою ловкость и мощь.
Я услышал тихий гул, поднял голову и увидел, что живое темное облако повисло над противоположным высоким берегом ручья. Быстро меняя очертания, оно отплыло назад и в сторону, и от него осталась только небольшая часть, которая выглядела так:
איוח
[5]
Я сразу понял, что это: облако предупреждало меня, что там был враг. Я мог убежать, но не стал этого делать, ведь был взрослым львом, властелином, и должен был доказать это себе, жителям пустыни, живому облаку слов и своему, пока еще незримому врагу.
Я не боялся его, потому что не боялся смерти. А смерти не боялся потому, что не разделял мир на живые и неживые предметы, то есть не видел разницы между змеей и палкой, камнем и птицей, между мертвым человеком и живым. Если хочешь быть смелым, не надо заранее в своем уме признавать силу противника, и если он просто останется безобидной частью пейзажа, ты победишь.
Темное облако висело над другим берегом ручья, где начиналась чужая территория – земля другого льва, которого я никогда не встречал, но знал о его присутствии по запаху меток, оставленных им. Смелость и любопытство взяли верх над осторожностью, я перепрыгнул через ручей, заметив, как на миг отразилось в воде мое длинное мускулистое тело, и взбежал по крутому глинистому берегу наверх, чтобы скорее встретиться с врагом.
Это была большая змея. Коричневая, с черными пятнами. Она ждала меня на открытом ровном месте, похожем на маленькую арену. Она давно поняла, что я нахожусь рядом, и могла спрятаться, уползти в темную щель, но тоже посчитала бегство недостойным своей опытности. Змея надменно наблюдала, как я приближаюсь.
Она сделала молниеносный выпад, подняв облачко пыли, но была еще слишком далеко, чтобы достать меня. Я отскочил в сторону и уселся возле небольшой скалы, на которую в случае чего можно было запрыгнуть. Я принял такой вид, будто змея меня не интересовала, и стал неторопливо вылизывать лапу. Змея тоже замерла, не сводя с меня взгляда. Прошло несколько минут, змея не выдержала и стала медленно отползать к груде камней сзади, среди которых могла оказаться в безопасности. Но я не хотел отпускать змею. В три прыжка я обогнул ее и перегородил дорогу к спасительным камням. Змея сделала вид, что собирается ползти вниз, к ручью, но вдруг снова прыгнула на меня, и в этот раз я едва успел увернуться.
Опасность только раззадорила меня, я стал бегать вокруг змеи, то приближаясь, то отскакивая, когда понимал, что она вот-вот сделает очередной бросок. Мне было легко двигаться, а ей, чтобы не терять меня из виду, в какой-то момент приходилось либо перемещать всё свое длинное тело, что было неудобно, либо крутить головой, и если змея выбирала второе, то в момент, когда она отворачивалась, у меня появлялась возможность ударить ее лапой чуть ниже головы и отскочить обратно. Я с упоением чувствовал, как мои острые когти пронзают ее шкуру, не нанося, впрочем, сильного вреда. Но раз за разом я удачно проделывал это, и змея начала злиться, терять терпение, а злость мешала ей сосредоточиться и сделать единственный точный выпад, который мог кончиться для меня плохо, учитывая количество яда в ее белых зубах.
Во время этого противостояния, похожего на танец, тело змеи принимало форму разных угрожающих букв. Мы обменивались знаками, и это был очень серьезный разговор.
В очередной раз избежав ее укуса, когда она сделала бросок, но еще не успела принять оборонительную позу в форме буквы ל [6], я выбрал мгновение, приблизился, схватил ее за горло и сжал челюсти как можно сильней. Ее шипение раздавалось у меня возле левого уха, она бешено извивалась, но я пошире расставил лапы, чтобы не упасть, и ждал, когда у нее кончатся силы. Ждать пришлось долго, и вот змея наконец обмякла. Я разжал челюсти, одновременно мотнув головой, чтобы отбросить змею от себя, и прыгнул в противоположную сторону, ведь она могла лишь притвориться мертвой. Но змея уже умерла – ее жирное коричневое тело было неподвижным. И аппетитным.
Я набросился на добычу и стал пожирать ее, урча, пачкая морду в крови и внутренностях. В это мгновение я остро почувствовал могущество своего рода, во мне рычали тысячи моих предков, я был олицетворением их бесконечных побед, их выносливости и ума. Они не умели разговаривать с Богом как люди, но их дикая ярость была лучшей молитвой. Я хотел издать торжествующий рык, но вместо этого из моей пасти раздалось хриплое шипение, как будто во мне заговорил дух убитой змеи. Я подумал, что из-за тихого и по большей части одинокого образа жизни разучился рычать так, как полагается льву.
От змеи осталась только голова. Глаза ее были наполовину прикрыты, а рот со страшными зубами крепко сжат – перед смертью она в отчаянии вцепилась в пустоту.
Я направился обратно на свою территорию, вновь перепрыгнул через ручей, но на этот раз не рассчитал, и мои задние лапы и хвост окунулись в воду. Выбравшись на берег, я посмотрел на хвост – вымокнув, он выглядел жалко.
По склону горы я поднялся на равнину. Я объелся змеей и шел с трудом. Поединок занял несколько часов, которые показались минутами. Солнце к полудню раскалило пустыню так, что камни жгли лапы, если стоять на месте или медленно идти, поэтому я собрался с силами и побежал.
Там, дальше, в скалах, была скрытая от посторонних глаз пещера, где я решил поспать и переварить пищу. Я торжествовал, победа над змеей придала мне еще больше уверенности в том, что всё здесь именно моя территория, мой дом, где я волен убивать и миловать, если сыт и спокоен. Слева на песке я заметил крупного скорпиона, который замер, почуяв меня. В другой раз я поймал бы его и съел, предварительно откусив ему ядовитое жало молниеносным движением, но сейчас мне было не до него. Моя недавняя победа была слишком серьезной, чтобы отвлекаться на скорпиона. И эта победа требовала какого-то продолжения. Я решил, что высплюсь в пещере и ночью, когда станет прохладнее, отправлюсь еще дальше на юг, где за холмом начинается территория львицы. Главное, чтобы она вспомнила меня и не была в компании другого льва. Я давно не видел ее – с тех пор как пустыня несколько дней цвела после дождя.
Повернув на запад, я приближался к месту, где люди прятали в земле своих мертвецов. Не понимаю, зачем люди это делают, ведь всегда найдутся звери и птицы, которые захотят съесть мертвое тело: шакалы, вороны, грифы. Зачем же его прятать? К тому же иногда одни люди закапывают мертвого, а через несколько дней приходят другие и выкапывают, чтобы снять с него одежду и украшения. Жалкие люди, они стесняются своей наготы и стремятся к тому, чтобы повесить на себя как можно больше несъедобных побрякушек, от которых нет никакого толка, кроме блеска.
Иногда я видел, что над свежими могилами висели скопления букв. Они соединялись в слова, которыми человек пользовался при жизни. Вид некоторых слов был настолько ужасен, что не хотелось не только вникать в их смысл, но даже смотреть на них. Это живое облако над могилой исчезало, когда перечислялись все слова, которыми пользовался умерший. Обычно последними появлялись проклятия, мольбы, обвинения, нелепые просьбы и взывания к богам, а потом ветер уносил всё это, как шелуху.
Однажды над могилой старца, которого люди считали святым, три дня висело слово
קיר
[7]
Я обогнул кладбище и уже хотел прыгнуть через узкую и глубокую расщелину, за которой начиналась одному мне известная тропа через белые холмы, гладкие и совершенно пустые, но подул западный ветер, и вместе с его горячей волной донесся запах свежего мяса. Это удивило меня, я остановился.
На моей территории не должно было быть никакого мяса, потому что не должно было быть других охотников, кроме меня. Может быть, гриф откуда-то принес свою добычу? Но тогда почему мясо свежее? Кто осмелился?
Хотелось скорее попасть в прохладную пещеру, которую я делил с летучими мышами, и залечь спать, но теперь надо было выяснить, что происходит в моих владениях, поэтому я повернул на запад и побежал туда, откуда шел запах. Я понимал, что придется сделать крюк, но это было необходимо – никогда нельзя терять контроль над своей территорией, ничего нельзя выпускать из виду.
Всё, что у тебя есть, – это твоя шкура и территория. Береги их. Будь очень внимателен.
Я остановился возле высохшего дерева, которое торчало из земли, как огромная костлявая лапа, и снова принюхался. Запах мяса стал сильнее. Когда-то давно, еще до моего рождения, на этом месте был сад и дом. Жил человек. Может быть, с семьей. Наверное, хотел держаться подальше от себе подобных и ушел далеко в пустыню. Я его понимаю. Я сам ненавижу людей и живу один. Пожалуй, я мог бы даже испытывать симпатию к человеку, который ненавидит других людей, ведь это настоящий мудрец.
От сада, который он возделывал, осталось только это голое дерево, настолько бесполезное, что в полдень даже не отбрасывало тени, в которой можно было бы спрятаться от солнца. А дом этого отшельника превратился в груду серых камней, только одна стена, с маленьким оконцем сверху, еще продолжала стоять. Запах мяса доносился из-за нее.
Я стал тихо приближаться к этой стене, чувствуя, что к мясному духу примешивается еще какой-то запах, но не мог понять какой. И в этот момент у меня зачесались яйца.
Где-то рядом мог поджидать враг, нельзя было отвлекаться, но зуд стал таким, что я не выдержал, остановился, сел, вытянул в небо заднюю ногу, зажмурился и начал сладострастно вылизывать яйца своим шершавым языком, урча от удовольствия.
Наверное, лев необычно выглядит за этим занятием. Что думает пятнистая гиена или какой-нибудь ихневмон[8], когда застигает царя пустыни в такой позе? Ненавидит ли меня больше обычного? Или наоборот – это как-то сближает нас, зверей, в глазах друг друга? Интересно, а любит ли меня какое-нибудь создание? Или мною, хозяином горячих камней, можно только восхищаться издалека, с безопасного расстояния? Вряд ли меня любят мыши, которых я обычно пожираю. И люди тоже вряд ли. Другие львы? Львица, к которой я решил наведаться ночью? Ее отношение ко мне нельзя назвать любовью, она просто покорно соглашается вступить со мной в близость то ли от страха, то ли от скуки.
Думаю, любви вообще нет. Есть только желание избавиться от страха и скуки, хотя некоторые создания настолько глупы, что не знают скуки, им остаются только неутомимая деятельность (какое-нибудь бесконечное рытье нор) и страх. Мне знакомо слово “ахава”[9], придуманное людьми, потому что оно часто мелькает в раскаленном воздухе пустыни, не принадлежа никому и пугая птиц. Буквы Алеф, Хет и Бет, из которых оно состоит, то и дело исчезают и заменяются другими буквами, и получается что-то иное, например слово “захав”[10], обозначающее металл, ради которого живые люди грабят мертвых.
Вылизывание яиц. Иногда так увлечешься этим процессом, что кажется: если прекратишь их вылизывать, жизнь прекратится. “Я тоже наделен способностью разжигать страсти, – думал я, работая языком, – способностью превращаться в навязчивую идею, быть недоступным и вынуждать людей совершать нелепые действия (например, лезть на дерево, спасаясь от меня), ведь недаром моя шкура золотистого цвета, хотя в последнее время немного выцвела. И на ней кое-где появились черные полосы, будто от ударов бича Господня”.
Вдруг что-то зашуршало совсем рядом, я вскочил на четыре лапы, но заметил гигантских людей слишком поздно. Их было двое, они появились из-за стены. Тот, что оказался ближе ко мне, бросил сеть, я прыгнул в сторону, но запутался в сети и мгновение спустя оказался подвешенным в ней, как в мешке.
– Вот он, барханный кот! – сказал мужчина, держащий сеть. – Маленькая хозяйка будет довольна. Такого она и хочет, полосатого. Смотри, Мордехай, какой он сердитый. А какие уши! Не думал, что мы так легко его поймаем.
– А я и не сомневался, я же говорил, что он на мясо обязательно придет, – ответил второй мужчина.
Я захрипел и забился в сети, сделав отчаянную попытку вырваться, и они засмеялись.
Наталья Репина Почти безголовый Ник
От Михайловского до Петровского можно добраться несколькими способами. Во-первых, на машине. Машины у меня нет. Во-вторых, на автобусе, но он ходит редко. В-третьих, пешком вдоль озера. Мне страшно ходить вдоль озера – неизвестно, кого встретишь на тропинке. Один раз я пошла и, не выдержав, сбежала с этого маршрута, причем когда бежала, что-то стучало мне вслед – как потом обнаружилось, термос в моем рюкзаке, а потом еще карабкалась по склону и выбралась на шоссе совершенно обессилевшая.
И, наконец, можно, некоторое время пройдя по заповеднику, выйти на шоссе и идти по автомобильной дороге пару-тройку километров. Так я и делаю.
Но и это меня не устраивает, потому что по шоссе быстро ездят машины, а лежит оно в центре лесного массива, и глупым тварям, что обитают в массиве, постоянно приходит охота перебраться из пункта слева в пункт справа. Шоссе хорошее, асфальт приличный, машины едут быстро и вечно сшибают кротов, лягушек, птиц и всяких других зверушек, в неурочный час пустившихся за лучшей долей из левой части леса в точно такую же правую. Я иду по шоссе и вижу сбитых. Иногда водители относят их на обочину. Это всё, что они могут сделать. Я рада, что у меня больше нет машины. Вполне возможно, что будь она у меня, и я бы в темноте не заметила крота или не успела бы среагировать на лягушку, выпрыгнувшую в свет моих фар.
Бывают дни, когда на обочине никто не лежит. Так кажется невнимательному взгляду. Но мне, отшагавшей километры по маршруту Михайловское – Петровское и обратно, известно, что это лишь часть правды. Машины сбивают бабочек. Бабочки тоже перелетают через дорогу и попадают в поток воздуха, создаваемый машиной. Иногда прилипают к лобовому стеклу, а потом их отбрасывает на обочину или на дорогу. Там они лежат, не в силах прийти в себя. Потом их переезжают следующие машины или они умирают сами.
Бабочки живут, наверное, немного. Может, они бы скоро умерли, даже не попав в стремительный машинный воздух. Я не выясняю. Это лишит мои эмоции маневренности. Сейчас я могу сильно страдать, если решаю, что они живут долго и их смерть преждевременна, – либо тихо грустить, сочтя, что им и так недолго оставалось.
Но свою меру моего сочувствия бабочки получают в любом случае. Я ведь не могу просто так оставлять их на дороге. Считаю своим долгом – коль скоро я единственный свидетель их гибели – находить им место упокоения.
Как хоронить бабочек? Закапывать их – ерунда, это не даст сохранности. Оставлять поверх земли – первый же порыв ветра унесет и бросит ломкие мертвые крылья под новые колеса. То есть надо искать место тихое, укромное, приятное. При этом никакого желания сходить с дороги и бродить по лесу в поисках подобного места у меня нет: какая-никакая, но у меня своя жизнь и свои планы на нее.
Иногда я таскаю за собой мертвых бабочек по полдня. В таком как бы кулаке – точнее, в ладони с полусогнутыми пальцами. Это и защищает от ветра, и не ломает бабочку. Однажды, кстати, одна оклемалась и принялась барахтаться у меня в этом полукулаке. Я дотащила ее до турбазы в Пушкинских горах и оставила выздоравливать за камешком. К сожалению, я нашла ее там на следующий день мертвой.
Моя история произошла в тот день, когда мне попалась не бабочка, а стрекоза. Не знаю почему, но я решаю, что это существо мужеского пола. У него практически оторвана голова. Почти безголовый Ник, так сказать.
Он оказывается мужественным существом, этот стрекоз. Я сажаю его на палец, Ник крепко берется за него всеми ногами. Я размышляю, что он, наверное, ничего не видит своими уникальными панорамными глазами – всё же к чертям собачьим оторвано. Сигнал какой-нибудь не доходит куда-нибудь. Так мне кажется.
Итак, я имею на руках (на пальце) слепого стрекоза. Сколько они живут, я не знаю, но догадываюсь, что в таком состоянии это не должно быть долго. Встает вопрос о традиционных ритуальных услугах.
Но стрекоз не спешит умирать. Он топчется на пальце и, по-видимому, пытается осмыслить свое новое положение. У меня появляется надежда. Кто знает – может, у них что-то как-то регенерируется? Червяки, разрубленные пополам, живут дальше в двух экземплярах. У ящериц отрастает новый хвост. Мало ли. Я подпираю согнутым пальцем стрекозиную голову так, чтобы она упиралась в шею – а что, иногда простое механическое соединение оборванных проводков обеспечивает движение тока.
Не то чтобы я жду, что стрекоз скажет мне: “О, теперь что-то вижу”, – но какого-нибудь знака, честно говоря, жду. Но нет, судя по всему, ему без разницы. Так мы проходим еще с километр.
Я начинаю понимать, что поставила себя в идиотское положение. Помирать отважный Ник явно не собирается. Объяснить ему, что жить у него не получится, я не могу. Тогда я решаюсь на компромисс – оставить его у обочины в месте понадежнее. Запомнить место. Забрать на обратном пути, если дождется.
Я нахожу прекрасное, запоминающееся место у фонарного столба. Рядом невысокие кусты, лопухи и одуванчики. Я сажаю почти безголового на мясистый, располагающий к себе лист. К моему удивлению, стрекоз отчаянно сопротивляется. Мне приходится по одной отсоединять его цепкие лапки и перемещать их на лист. Мне стыдно, потому что он ни фига не видит и борьба явно неравная, не сказать нечестная. Мы бьемся со стрекозом довольно долго – растерянные и подавленные. Мимо проносятся машины с туристами. Надеюсь, они не обращают на меня внимания. Наверное, они успеют осмотреть Петровское, прежде чем я отдеру от себя все стрекозиные ноги.
Наконец я побеждаю. Он замирает на одуванчике. Дальше сам. Я перехожу дорогу и сразу же возвращаюсь, потому что чуть не совершила одно из самых отвратительных предательств в своей жизни. Перемещение обратно на палец происходит молниеносно: тигры в цирке дольше прыгают с тумбы на тумбу. Честно говоря, мне даже немного приятно.
Следующий километр преодолеваем в молчании и тягостных раздумьях, хоть и сближенные недавним событием. Вряд ли имеет смысл нести его в ветклинику. Во-первых, я не знаю, где она в Пушкинских горах, во-вторых, подозреваю, что его там усыпят путем доотрывания головы.
На горизонте показывается вереница машин, припаркованных перед шлагбаумом в Петровское. Одна из них, возможно, и сбила моего нового друга.
Я уже не помню, зачем шла в Петровское. Мне не нужно в Петровское. Я перестаю понимать свои цели, мне неловко о них думать, когда у меня на пальце сидит Ник. Я уговариваю его принять какое-нибудь решение – например, выздороветь чудесным образом. Он выглядит всё более отстраненным и даже как будто более прозрачным. Ветер подначивает его слюдяные крылышки.
Я прохожу шлагбаум, справа небольшое озерко. Как ни крути, мне придется решить за него – возможно, потому я его и нашла. Я спрашиваю его: как насчет озера? Может, на берегу озера – и соленые брызги в лицо на прощание? Он вяло шевелится на пальце. Мы оба устали.
Я схожу с дороги и непринужденно присаживаюсь на утоптанный пятачок на берегу. Никто не должен знать, зачем я здесь. Первые опавшие листья тихо шевелятся на земле и застревают в траве. Я спускаю стрекоза на траву, и он не сопротивляется.
Теперь нужно уйти, по возможности так же непринужденно. Я успокаиваю себя, что животные всегда уходят без свидетелей, надо его отпустить, вся эта казуистика.
Долго, очень долго сижу в кафе. Бессмысленно сижу в кафе, в полной тишине. Беззвучно поет по радио поп-певица, посетители сделаны из войлока, еда из ваты. Никто не должен шуметь при умирающем.
За соседним столиком две женщины бесконечно наливают в чашки неподвижное красное вино. У них полотняные сумки с какого-то форума независимых художников. Они пьют здесь каждый день, с вызовом к нашим нравам.
На дороге стоит пожилой мужчина с женой. Я ехала с ними в купе – он все время говорил. Слова замирают вокруг него и падают на дорогу.
Старушка обнимает маленькую собачку. Она каждый год приезжает сюда с маленькой собачкой и ходит с ней через поля. Собачка осторожно шевелит глазами на неподвижном тельце.
Тише, говорит мама сыну. Смотри, как здесь тихо. Он смотрит. Наверное, пора. Я возвращаюсь на утоптанный пятачок. Никакого Ника нет. Ни с головой, ни без головы. Все опавшие листья на месте, и озерко, и ветер с солеными брызгами. Я обнюхиваю берег посантиметрово, и даже доступную часть воды. Не стал ли он полностью прозрачным? И что мне теперь делать?
Что удивительно: на обратном пути мне больше не попадается ни одного сбитого существа. И вообще на маршруте Михайловское – Петровское мне больше никогда не попадаются сбитые существа. Признаться, я до сих пор нахожусь в недоумении, как мне надо это трактовать. Я выполнила до конца свой харонский долг и теперь могу быть свободна? Во мне разочаровались?
Не знаю. И в Пушкинские горы давно уже не езжу.
Александр Кабаков Мысль
Дарить животных не следует. На кошку аллергия, с собакой решительно некому гулять, все рыбки к вечеру плавают на спине, попугай…
Про попугая не хочется. За окном такое лето, как будто осень, во дворе орут вороны, про себя всё известно, и это не радует, а в комнате так тихо, что звенит в ушах.
Принято считать, что говорят только большие попугаи, которые называются ара и похожи на ожиревшего орла. Как многие общераспространенные знания, это безусловный предрассудок.
Вот нам подарили маленького попугая, который называется волнистым и похож на воробья, раскрашенного желтой и зеленой акварелью. И никаких хлопот от него нет, никаких аллергий, одна забава.
Так нам кажется сначала.
Потому что он, как теперь выражаются, ни разу не ара, а стопудово волнистый, но говорит как мы с вами, только тихо очень, и почти без мата – как будто собирается из своих слов составить книгу и продавать ее без пластиковой запаянной обертки…
В общем, говорящий попугай. Он живет в большой клетке, укрепленной на вертикальном стальном пруте, ест очищенные семечки, которые в маленькой коробке мы ставим посередине клетки, и внимательно слушает звуки, которыми полон мир вокруг. Мы тоже слушаем эти звуки, которые раньше совершенно пропускали мимо ушей, а теперь слушаем очень внимательно в надежде проникнуть во внутренний мир нашего попугая – из этого внутреннего мира доносится много интересного.
Почему-то его зовут Семён.
Шуршание, которое он издает почти непрерывно, вы сможете распознать как монолог, состоящий из отдельных слов, если придвинетесь вплотную к прутьям клетки, а все остальные вокруг наглухо замолчат.
Он самодовольный и неуверенный в себе, это часто совмещается.
Семён кр-расивая птичка, кр-рас-сивая птичка, чер-рт меня возьми!
При этом он косит и без того косоватыми глазами, чтобы видеть себя в зеркальце для бритья, которое мы прикрутили проволокой к прутьям клетки. Зеркало это увеличивающее, Семён доволен – птица так птица. С-семён, удовлетворенно бормочет он, огр-ромный Семён, С-се-мён выс-соко!
Он действительно сидит довольно высоко, прут чуть ли не два метра высотой, тому есть резон…
Между тем он начинает топтаться, переминаясь с ноги на ногу, как мальчишка перед дверью занятого сортира. Нет больше сил терпеть, а терпит. Семёну-то легче, он переминается просто от раздражения: вороны сверх всякой меры разорались во дворе, а Семён не любит орущих ворон. По двору носится стая взъерошенных черных птиц штук с десяток, кажется, они уронили вороненка и теперь суетятся, пытаясь его поднять… Похоже, что Семёну не нравится именно ситуация. Я, например, ненавижу родителей, у которых в публичном месте неостановимо орут дети. Не можешь успокоить – зачем рожала?!
…А мать дергает несчастного за руку, так что он крутится вокруг своей маленькой оси, а мать шипит – замолчи, ты замолчишь или нет? – а дитя надрывается еще пуще, а Семён раздраженно топчется на месте, а табор шумит всё сильнее…
А потом вдруг снялись и улетели, продолжая бессмысленно орать. Вероятно, скоро вернутся – это наша, дворовая стая.
Между тем Семён никак не успокоится, всё переминается с ноги на ногу и бормочет… Пр-роклятая птиц-ца, Сем-мён кр-расавец не любит чер-рных…
Тихо, Сеня, услышат про черных, угодим в фашисты…
Послушный Семён уже не переминается с ноги на ногу, уже не бормочет про черных, стоит неподвижно в клетке, и похоже, что ему там хорошо.
Вороны вернулись, расселись по двору, каркают негромко.
Сумрачный ранний вечер.
Подростковым хриплым голосом орет вороненок.
Почти неслышно шепчет попугай.
Если прислушаться, можно всё же разобрать, что говорит он себе. Мне так не спеть, вот что. Сплошные комплексы, а не птица.
Между тем неведомо откуда возникает соседский кот. Он ложится у подножия прута с клеткой, свернувшись в виде пельменя, или, поскольку есть некоторые проблемы с пельменями в родительном падеже, – в виде человеческого уха.
Вороненок клюет кошачий хвост и делает вид, что отскакивает в панике. Кот переворачивается на спину и прикрывает нос лапой. Он очень красив, рыжий кот. И у него комплексов нет совсем.
Он смотрит на желто-зеленые перья, парящие где-то в вышине, и усмехается.
Орет на весь дачный поселок вороненок.
Мне так не спеть, думает вовсе посторонний прохожий, спешащий на пригородную станцию, электричка как раз через восемь минут, вот она уже взвыла…
И всё думают одно и то же, хотя каждый думает сам по себе. Мне так не спеть – привязчивая мысль.
Екатерина Рождественская Священное животное
Домик наш небольшой стоял перед самым полем-пустырем, которое простиралось вдаль почти до горизонта. Что-то кроме закатного солнца на горизонте тоже виделось, я это точно помню, но что-то незначительное, как если бы смотреть на море и увидеть где-то далеко-далеко проплывающее утлое суденышко. На поле том не росло ничего путного, кроме высоченных сорняков, оно прижило много живности, которая довольно часто навещала наше жилье, стоящее на форпосте и отделяющее мир живности неразумной от живности разумной – людской. Ну или считалось, что она разумна.
Перед домиком зеленел крошечный садик – метра два на пять, с тремя колючими отгородительными кустами, в которых по идее должны были застревать чужаки с пустыря. Они и застревали. То птица крылами замкнется и забьется, а я выбегу со шваброй ее спасать, то змеюка какая приползет спину чесать о колючки, да шкуру свою принародно сбрасывать – то еще удовольствие, скажу я вам, это наблюдать, а то и корова забредет – худющая, мосластая – и застынет у ворот, печально поглядывая вокруг из-под густых приопущенных ресниц. И ни туда она, ни сюда. Стоит, жует сто раз пережеванную жвачку, потом вдруг плюхнется на раскаленную землю и жует уже лежа. Тронуть нельзя, что вы, самый большой грех! Ну, может, не самый, но порядочный.
Аааа, я ж вам не сказала, что мы жили тогда в Индии.
Целых три года.
Ну а корова там животное священное И есть ее, соответственно, нельзя. Табу.
Ну, табу и табу, но все равно же любопытно, почему к ней, корове, с таким пиететом!
Порасспрашивала, узнала, что корова для индийца всё равно что мать родна – она и скромна, и добра, и мудра, и спокойна. Как с такими-то качествами ее убить и съесть? Есть еще один важный момент – когда человек там, в Индии, умирает, то именно корова переводит его через ритуальную реку, а если ты от нее когда-то откусишь кусок или побьешь, то кто тебя в нужное время переведет? Никто. Так и зависнешь в нигде, между тем и этим миром.
И хоть есть ее мясо нельзя, то пользоваться тем, что она дает еще, очень даже можно – в ход идут и коровьи лепешки, и моча. Всё священное, поэтому ничего не пропадает. Молоко – в пищу, навоз сушится и зимой становится топливом для домов, в основном неприкасаемых, а из свежего делают лекарства и косметику. Не сразу из тепленького, конечно, а из видоизмененного. Моча! О, это отдельная тема! В Индии вообще культ мочи, и коровьей в том числе. Однако лечебная моча должна быть только от девственной коровы, и ее нужно пить непременно до восхода солнца. Именно такая моча обладает самым мощным оздоровительным эффектом, это там все знают.
Но это так, лирическо-мочевое отступление. Вернемся к самим священным коровам. Если хозяин домашней коровы вдруг заподозрит, что она больна, то быстро и не задумываясь спровадит ее на улицу, выгонит, одним словом. Потому что если корова умрет в доме – всё, пиши пропало, начинаются безумные траты (а денег обычно нет), особые ритуалы, объезд всех священных городов, чтобы проводить как следует эту несчастную корову и отмолить в связи с этим и свои грехи заодно. Именно поэтому на улицах так много бродячих стад. Они не голодают, нет – и травку щиплют, хотя ее и нет почти, и индийцы их уважительно подзывают и подкармливают лепешками или просто оставляют по дорогам еду, сама видела. Коровам даже не сигналят, когда они перегораживают улицу, – обычно ждут, пока те сами уйдут. Так и бродят они по улицам Дели, обвешанные гирляндами оранжевых пахучих цветов и глядят на всех сонными красивыми глазами. Индийские коровы на наших совсем не похожи – они белые, горбатые и мелкоголовые. Бродят по городу известными только им маршрутами, а когда заполоняют какой-то район и начинают мешать транспорту, их в специальных загонах вывозят куда-нибудь подальше.
Перед поездкой в Дели нам дали множество ЦУ: воду перед питьем кипятить, пока в ней не сварится всякая микробная дрянь, фрукты промывать карболовым мылом и ошпаривать (выглядят они после этих процедур не очень, надо сказать), уличную еду не есть, в рестораны ходить только проверенные, которые обычно посещают европейцы, руки мыть с мылом раз в полчаса, беречься комаров и других насекомых, а от всяких ползучих гадов убегать с криком.
Бегала я не ото всех гадов. В нашем малюсеньком садике после сезона дождей появился миниатюрный хамелеон. То ли он вылупился из яйца, то ли его принесла кукушка, то ли аист, не знаю, я не была близко знакома с хамелеонами, но однажды заметила среди листьев восхитительный скрученный зеленый хвостик, а по нему взглядом нашла и хозяина. Хамелеон, видимо, еще не набрался жизненного опыта, ни разу не видел настоящих врагов или просто страдал от одиночества и хотел, чтобы его наконец заметили. Зачем всю жизнь прятаться, подлаживаться, скрываться? Возможно, это был революционный хамелеон. Он, сидя на ветке, репетировал все известные ему цвета, то заболевая желтухой, то зеленея от злости, а то вдруг пыжился и краснел от ярости. С этими светофорными цветами всё обстояло более или менее, а с синим совсем не получалось. Думаю, синий был верхом хамелеоньего искусства, и с этим делом у нашего обстояло плохо. Но он очень старался, казалось, даже пыхтел от напряжения, пытаясь на минуту стать синеньким! Но только бурел, грязнел, изредка голубел какой-нибудь скромной частью тела и, сконфуженный, уходил вглубь листвы, смешно обхватив пальцами ветку и раскачиваясь в нерешительности.
Особенно завораживали его глаза, которыми он крутил в разные стороны и никак не мог ни на чем сфокусировать. Думаю, эти глаза жили какой-то отдельной жизнью от хозяина и друг от друга, и у каждого – левого и правого – были свои законы, интересы и правила. Меня он не боялся, я садилась в плетеное кресло и наблюдала за приспособленцем. Изменением цвета, надо сказать, он со временем научился пользоваться шикарно, это только первые разы было мимо или я чего-то поначалу недопоняла в хамелеоньих навыках, недооценила старания. Так вот, стала я за ним подсматривать, садилась как к телевизору. Иногда, правда, казалось, что в моих законных кустах под зонтиком сейчас материализуется на мокром стульчике ведущий Николай Дроздов и скажет: “Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом очаровательном садике Кати Рождественской у нас есть хорошая возможность познакомить вас с представителями семейства ящериц…” – и сам неловко так держит в руках моего зеленого друга, зажав зонтик, как телефон, между плечом и ухом… Но такого ни разу не случилось, наблюдения вела я одна.
Хамелеончик лез на рожон, в смысле совершенно не прятался, и я очень за него переживала – вдруг кто-то его сожрет? Он ведь был моим единственным домашним, вернее садовым, питомцем, и я за него слегка волновалась. Каждый раз, когда я садилась на плетеное кресло перед вечнозелеными кустиками, то мысленно готовилась к худшему: Хэм – я назвала его Хэмом не то в честь Хемингуэя, не то в честь ветчины – не появится. Иногда и вправду проходило достаточно времени, прежде чем ему хотелось отметиться – он выходил из-за листа как из-за театрального занавеса, торжественно и неестественно раскачиваясь. Раз-другой демонстрировал мне невообразимую ловкость при охоте. Однажды сожрал длинноногого паршивца-кузнечика, который даже в прыжке не смог уйти от стрелоподобного языка Хэма. Хамелеончик довольно быстро зажевал его до смерти, хотя тот долго выпирал поджарыми конечностями из его рта. Другой раз Хэм съел нечто такое, что мне больше никогда не захотелось бы видеть, – индийский вариант помеси богомола с жирной медведкой. Он жевал, вся эта жирная желтковая сочность вязко текла по невозмутимой харе Хэма, а меня чуть не вывернуло наизнанку! Тьфу, вспоминать противно! Больше, собственно, я у него на обеде не присутствовала.
Иногда он гастролировал, пропадал на несколько недель, я бесцельно сидела в кресле с надеждой на представление, но впустую. Потом появлялся как ни в чем не бывало – на той же ветке, с той же загадочной ухмылкой на лице – “Здравствуй, Люба! Я вернулся!” И уже на душе становилось как-то теплее – домашний питомец все-таки! Но стоило мне сделать шаг в его сторону, он вскидывал на меня свой выпирающий глаз и вразвалочку, как сильно выпивший моряк, скрывался в листве. Найти его было уже невозможно, да и страшно было ворошить куст – мало ли кто из гадов там еще живет. Змеи, скажем, на нашем пустыре не были редкостью. Приходилось осматриваться прежде чем выходить на травку. Наш садовник довольно сильно выбривал ее на нашем пятачке именно для того, чтобы издалека заприметить гада.
Были и неприятные случаи. Однажды в наш дворик заползла краснохвостая ящерица, именно о ней рассказывали аксакалы, когда в самом начале командировки учили нас жить, вернее выживать, именно ею и пугали. Что, мол, ядовитая, агрессивная, прыгает, бросается, как цепной пес, может на лету укусить и хоть не насмерть, но воспаление, отек, заражение и всякие другие прелести гарантированы! А мне не хотелось.
Вот я ее и увидела во всей красе около нашего дома – зачем-то вышла к машине, то ли что-то забыла внутри, то ли мы куда-то собирались ехать и я решила заранее включить кондиционер. Ящерка, по-настоящему краснохвостая, застыла около ступенек, отрезая путь в люди. Не очень крупная, где-то с ладонь, с длинным заостренным хвостом, она злобненько взглянула на меня и резко подпрыгнула. Я заорала от неожиданности и отскочила назад. Краснохвостая продолжала агрессивничать и наскакивать на мои ступеньки, высовывая длинный язык. Вела себя как бешеная – непредсказуемо и напористо. На крик выбежал смелый муж и, мгновенно оценив обстановку, схватил лопату, которая стояла у двери. Он попытался отогнать ящерицу, аккуратненько так отодвигая ее лопатой. Ящерка замерла в ожидании, с интересом поглядывая по сторонам и крутя мордой, как это умеют делать собаки, когда чем-то удивлены. Но как только муж попытался поддеть ее лопатой, чтобы вынести на пустырь подальше от нашего дома, эта мелкая гадина реактивно взвилась вверх, чуть не задев его руку длинным жалом, плюхнулась в пыль и начала новое наступление. Она мелко наскакивала, движения ее были непредсказуемы и опасны, намерения вообще не ясны. И эти мощные прыжки для такого размера… Как цепной пес она была бы хороша, но вряд ли позволила бы надеть на себя ошейник. Борьба с ящерицей вскоре закончилась успехом – на помощь подбежал сторож, ловко накрыл ее ведром и торжественно унес на пустырь.
Иногда в садик залетали колибри. Беленькие, бесшумные, длинноклювые, похожие скорее на носатых мотыльков, а не на настоящих птиц. Сначала они застывали в полете у наших колючих кустов с чахлыми бесцветными цветками, уж не знаю, чем они могли там напиться, а потом взмывали вверх, нацеливаясь на единственное в нашем садике дерево с романтичным названием “Смерть европейца”. Его так назвали совсем не из-за того, что огромные красные цветки пахли чем-то, мягко говоря, неземным, а увесистые плоды, падая с десятиметровой высоты, могли если не убить, то покалечить неосторожного прохожего и совсем необязательно европейца. Дело совсем в другом. Дерево отцветало в конце апреля – начале мая. В это время приходило настоящее лето, без всяких поблажек, без единого облачка, без капли дождя, мощное, знойное и потное, с забивающими всё живое пыльными бурями, от которых в принципе нигде нельзя было укрыться. Воздух становился тяжелым, вязким, масляным и раскаленным. Чтобы вдохнуть, нужно было усилие. Всё индийское лето для нас и состояло из усилий. В этот сезон, когда всё вокруг уползало в тень, зарывалось в норы, пряталось от жары и старалось не появляться под открытым солнцем, зацветало своими наглыми, похожими на задницу павиана, цветами, дерево “Смерть европейца”. Туда колибри и устремлялись, создавая очередь и шевеление у каждого цветка. “Смерть европейца” оживала, начинала трепетать, наполнялась цветом и щебетом.
Мы отбыли, отжили, выжили в Индии три долгих года. Прижились. Пустырь к нашему отъезду стали застраивать, звери разбежались, гады расползлись, колибри превратились в мотыльков. Хэм не стерпел грохота грузовиков и растаял в пыли. Просто взял и растаял.
А иначе как он смог уйти? Пешком? По дороге куда-то вдаль? Мерно раскачиваясь и держа на палке за спиной узелок с пожитками?
Может быть.
Иногда он, наверное, краснел, чтобы проезжающие машины остановились, и тогда разбегался и прыгал на бампер самой яркой, чтобы мгновенно слиться с ней цветом.
Но узелок всегда выдавал его…
Саша Николаенко Повесть про мышь и Льва Толстого
Вот идешь, бывает, бульваром, весенним топленым вечером, всё вокруг в сердце льется, ластится, воздух ласковый, воробьишки черлыкают, тополя… И в душе такое, знаете что творится? Так и кажется, что вот-вот…
Что как будто уцепил счастья ниточку, а потянешь, и размотается весь клубок. И до того об этом крепко бывает предчувствуешь, что и не заметишь, как дойдешь до метро…
Числа 1 сентября
Повезло мне сегодня наблюдать на улице случай.
Иду часу в пятом вечера от магазина, смотрю – кошка чего-то там у трубы копошится. Прыг! Отпрыгнет потом, вся выгнется, пробежит, вернется, и думаю, что это она там?
Подошел тихонечко, не спугнуть бы чтоб, и как раз об эту трубу паршивую, чертыхнулся. Заорал, конечно же, не сдержался, думал, убежит эта кошка сейчас, меня напугается, а она ничего, и опять всё так: прыг! Отпрыгнет потом, вся выгнется… Я поближе. Смотрю, а у ней мышонок там – может, мышка? – малюсенький, и вот эта кошка с ним забавляется, этак лапкой к травке прижмет, подержит – отпустит, играется…
Мышь, как кошка отпустит ее, побежит, мол, спасусь сейчас! Только кошка подождет немножко, и снова цап ее, цап! И зубами так – знаете? – как они кутят-то носят, прикусит. Прикусит, выронит, затаится, подождет, пока мышь очухается, и опять.
И какая зверюга хитрая, понимаете? Соображает, подлая, мыши чтоб надежду давать! И убить не хочет ее, и такое тоже, видно, понимает она: что я буду, мол, с дохлой играть? Ведь скучно. Да еще на меня эдак бесом – зырк! Зырк да зырк, иди, мол, отсюда. Но стою я и думаю.
Так вот, думаю, и жизнь с нами в кошки-мышки. То же самое ведь, а как? То прижмет как следует, то отпустит, а уж как надоест забавляться ей, тут и крышка.
Очень это происшествие заинтриговало меня как писателя. Живой пример на глаза. Другой бы мимо прошел, а мне нужно.
Кошка тут еще выдумала. Подщеплет мышь лапочкой, в воздух подкинет, мышь взлетит у ней, и тут же шлеп в лапы. Так что только мышь с неба падет, она ее опять вверх…
И дало себя знать это во мне: сколько ж можно?! И такое вдруг к кошке этой нашло на меня нетерпение! Отвращение! Захотелось ей тоже так наподдать как следует, до забора чтоб летела она у меня, кошка эта, хотя я кошек люблю. С детства у нас всё в доме кошечки были. Только при Анне кончились. Она женщина ядовитая. Кошек не любит. Говорит, что в доме от них грязь и шерсть.
И зачем я на ней женился?
Но – терплю. Наблюдаю. Мне, как я выше сказал уже, такое-то для писательства нужно. Про людей писать. Ведь они у меня – понимаете? – тоже… Те же кошкины мышки ведь. Напишу живых да поддерну, а убью кого, вроде новый нужно писать рассказ, что и некогда пожалеть…
Тут смотрю, взялась за мышонка кошка эта противная по-иному. Прикусит зубами, мордой помотает и выплюнет. Рассмотрит внимательно, убедится, что не переборщила, и только мышь опять от нее, как она уже и опять над ней.
А главное же еще, мышь попалась живучая! У другой бы от одной морды кошачьей сердце лопнуло, а эта даже прокушенной на земельке шевелится… Как-нибудь, думает, наверное, а Господь помилует меня, да я и убегу. Ведь жить-то всем хочется, что понятно. Ей же, думаю, в этот момент кошка вроде Бога и кажется. Может, выйдет мне, думает, как-нибудь от кошки этой избавиться? Или, думаю, кошка эта мышиное наказание за грехи?
А какие там у мыши грехи? Мышиные! Тьфу сказать! Не за них же, верно, думаю, так вот вляпалась мышка? Смертью мученической погибает, но просто не вовремя пробежала, пробежала, дурочка глупая, жизнь проворонила…
И опять ползет она от кошки от этой злодейской, и опять еще ползет, и опять…
Надоело!
Встал на стороны мыши, не выдержал. Пусть у мыши той кошка Бог, у кошки – я, и для мыши тоже какое-никакое, а я спасение. Так что непонятно в ситуации этой, кто из нас мыши больше выходит: Бог, я или кошка? И есть ли над нами общий. Тут яснее ясного понялось, что есть, и внутри в нас есть, и над нами. Этакий, что ли, он, кто общую ситуацию сверху видит…
Есть он или нет, а я на кошку ногой топнул, только она из пасти мышь опять сплюнула, чтоб она, когда побежит, с собой мышь от меня не стащила.
Кошка к забору. Там обернулась, стала, стоит. Глаза желтые. Смотрит. Надеется, я уйду, она мышь докусает. Ну уж нет, я думаю, ну уж нет! Никаких тебе этих не будет.
Тут уж мышка моя, смотрю, потихоньку в себя приходит, только кошка, гадина, ждет да ждет, не уходит.
Анна мне в верхний карман всегда платок носовой кладет. Сейчас-то она на даче, что только делает она там, несимпатичная женщина? А платок всё равно лежит. Хотя уже и не свежий. Наклонился, взял мышь в платок. Чтобы не заразиться, а то мышь эта, может, холерная. Она на платке в ладони лежит, уместилась, и слышно, как внутри у ней сердечечко – тык-тык-тык! – колотится, и глазиком на меня. И такая в нем – понимаете? – мысль! Что спасибо, мол, богу…
И принес к себе.
Анна увидит, без ножа меня, конечно, зарежет. Но пока на даче она, то еще ничего, обойдется.
Сделал мыши из шапки своей нору. Газетки, ватки туда, всяких Анниных тряпочек, налил ей в крышку воды, сырку на газетку, зернышки, хлеба. Но она пока не ест. Отойти же надо ей, понимаю…
И весь вечер хожу к ней я, чтоб посмотреть.
И сейчас пойду. Погляжу.
Для сердца это такая радость, что и не передать словами, хотя и писатель, а жизнь описывать, не выдумывать, трудновато слов подобрать.
Вспомнил Льва Толстого. Понимаю теперь того Льва. Не дай бог умрет у меня мышь эта!.. Что я делать без нее буду?
Числа 18 сентября
Назвал ее Фёдор Михайлович. Хотел было ее в клетку, что от канарейки Анниной осталась. На балконе лежит. Да совестно стало. Пусть бегает.
Числа 19 сентября
Анна, слава богу, сказала, что на даче еще на неделю останется. А то приедет, увидит Фёдор Михайловича, санитарную инспекцию вызовет. Ей же, горгоне, что мышь, что кошка, что я – одно. Шерсть да грязь.
И зачем я на ней женился?
Числа 20 сентября
Ест Фёдор Михайлович с аппетитом, живет под ванной. На кухню есть только прибегает.
Числа 21 сентября
Признает меня. Честное слово признает, не боится. Душа в нем есть. Бывают мыши противные. Но мой Фёдор Михайлович хорошая мышь.
Числа 22 сентября Наступил на Фёдор Михайловича случайно тапком.
Числа того же
Похоронил на школьном дворе за школой. Не перепишешь.
Повесть о коте
Странен человек, странен!
Даже диву даешься, какими портретами иной раз его застаешь…
Ф. М. БукинПроходя как-то раз из той комнаты в эту, задержался Фёдор Михайлович у зеркала, стал, разглядывая себя, так и сяк повертываясь, поглядывал, делал О и У, наводя щеками разные кругаля. За спиной его, в углу поддверного плинтуса, сидел кот. Он был также Фёдор Михайлович, Феодор, в честь своего хозяина, голоден, мрачно, почти печально смотрел.
“Что?” – заметив кота, дураком под взглядом его себя сразу почувствовал (не на всё, что делаем мы, нужны нам свидетели). Хотел было уж Фёдор Михайлович тыкнуть тапком его, чтоб шел, как вдруг идея одна пронзила, и, подбрав животное с полу, поднес к зеркалу, указав его: ты.
“Ты! Видишь? Морда твоя?..” – пояснил здесь Фёдор Михайлович и, подумав, добавил еще более убедительно: “Так что вот он, брат, каков ты…”, но кот завертлявился, отбиваясь, зарычал утробно и угрожающе. “Посмотри! – убеждал его Фёдор Михайлович, постукивая в стекло коленкой свободного пальца, поднося кота то ближе, то несколько наотлет: – Ты… ну? Ты! Видишь ты себя? Вот морда твоя. Понимаешь?” – и обида, что кот не хочет никак смотреть, воротится от объяснения, задевала Фёдор Михайловича, что-то знание его, котом отвергаемым, будоража…
Шел восьмой час холодного осеннего вечера. Пора, наверное, было ужинать. Но Фёдор Михайлович всё торчал у зеркала, поглощенный уроком своим, увещевая: “Посмотри же, дурак, хоть раз… Взгляни! Догадайся, а?! Э! Где тебе?.. Где те-бе! Ме да ме… вот и все что ты есть. Эх ты! Будешь ты смотреть или нет, скотина?!” – и так, не выпуская кота, прошел с ним в кухню, откромсав кусок “краковской”, вернулся в прихожую, поманил кота запахом к отражению. Колбасу держа пальцами меж носом кота и плоскостью, нос его отражающей, смотрел нетерпеливо и вопросительно, но кот смотрел в колбасу одну и по-прежнему утробно рычал.
Фёдор Михайлович укреплял кота так и сяк на столешнице, уцеплясь под мышки держал его, настойчиво и пытливо вглядываясь. Кот же смотрел в отражение Фёдор Михайловича угрюмо, облизывался, крутил нижней частью туловища с хвостом, словно был выше он разумом человеческого, и немыслимой глупостью казалось ему производимое с ним…
“Не снисходит, черт с ним…” – сам с собой заключил, теряя терпение, Фёдор Михайлович, отпуская кота на лапы, но тот отряхнулся до того презрительно, до того самоуверенно сделал дымом хвост, что от вида одного этого возмутилось всё человечество в Фёдор Михайловиче с новой силой и еще одна идея отличила его.
Он опять ухватил кота и понес его в ванную, где, достав из аптечного ящичка флакончик зеленки, щедро выплеснув себе в руки, замарал ошеломленно умолкнувшее животное и, вновь поднеся его к зеркалу, трижды постучав по стеклу, повторил… “Ты! Это ты… да пойми ты, ты! ТЫ! ПОНИМАЕШЬ?!” Кот скользнул было взглядом мимо указанного, но внезапно зрачки его сконцентрировались, отражая Фёдор Михайловича, расширились дочерна, лунно блеснули, и, резко дернувшись, выгнулся он дугою, завертелся вертелом, развернулся в воздухе чертом и, закрыв собою на миг отражение изумрудной воющей массой, толкнулся от Фёдор Михайловича когтями, изрыгая проклятия, и исчез.
“Увидал? Увидал!.. Увидал, скотина… Ну вот то-то, то-то же!..” – торжествующе произнес вслед исчезшему Фёдор Михайлович и еще долго стоял в раме зеркала, глядя с горделивой задумчивостью на располосованное, покрытое изумрудными пятнами свое отражение, разом всех высот достигнутых разумом человеческим, своим опытом приобщась.
Алексей Сальников Дома у дороги
Всё было примерно тогда как “Момент”, то есть много нужно было усилий, чтобы клей скрепил что-нибудь (почистить, обезжирить бензином, обработать наждачной бумагой, прижать поверхности и удерживать так в течение пары часов), но почти никогда ничего не держалось долго, просто разваливалось почти сразу, да и всё. Так и с различными ловушками для мышей, крыс и насекомых обстояло. Каждая квартира на полустанке была изрисована мелком “Машенька” строго по инструкции: вокруг раковин, кухонных шкафчиков и в других местах скопления насекомых, но тараканы всё равно водились, только у кого-то их было поменьше, причем количество их не зависело от чистоты. Скорее от того, насколько влажно и тепло было в подвале, насколько близко квартира находилась к самому теплому и мокрому месту подвала. У Ольги дома тараканов почти не было, однако это всё равно не мешало папе то и дело слегка прихлопнуть одного-другого и скормить пауку в туалете.
Ольга чувствовала стыд, что об этом придется кому-нибудь когда-нибудь рассказывать. И про тараканов, и про то, что она жила когда-то в поселке из восьми двухэтажных домов – шлакоблочных снаружи и деревянных внутри типовых желтых построек на два подъезда. Что всего и достопримечательностей было в поселке: пыльный вокзальчик да небольшой магазин с надписью “ПРОДУКТЫ”, на одном окне которого висела побледневшая на солнце реклама подгузников, приделанная, наверно, для красоты, поскольку подгузников в магазине не было, а торговали там только хлебом, сахаром, солью, спичками, пивом, газировкой и сигаретами. За едой и одеждой местные ходили в другой, более крупный поселок из шести тысяч жителей или, тратя сорок минут на туда-обратно, катались на электричке в ближайший город.
– Мы еще хорошо устроились, – говорил папа. – Тут вот узкоколейку закрыли, так несколько деревень вообще без транспорта остались. Вот мы бы повеселились, если бы у нас такое случилось!
Стыдиться, в принципе, было нечего. У Ольги была хорошая семья, соседи веселые, добрые и почти непьющие, потому что все три уголовника, осевшие было в поселке после перестройки, или замерзли по дороге за догоном, или просто исчезли. Иногда доходило до того, что чей-нибудь день рождения отмечали всем полустанком. Ольга стеснялась того места, где жила, потому что по телевизору такие домики обычно мелькали в криминальных новостях, именно вот такие двухэтажные, с отверстиями для зимних холодильников в фасаде, с нестриженными кустами во дворе, а всё хорошее всегда происходило в больших городах, на площадях и в концертных залах: какие-то большие праздники, концерты с тысячами зрителей, съемки “Ералаша”. Ольга с ужасом иногда представляла, что может случайно встретить ералашевскую актрису или девочку – победительницу конкурса виолончелисток, которую увидела однажды по телеканалу “Культура”, и вот возможность предстоящего разговора, когда Ольге нечем будет хвалиться, кроме как красотами родной природы, оглушала ее.
Что-то похожее угнетало не только Ольгу, но и ее маму тоже, потому что, когда папа купил Ольге на лето не кроссовки, а такие пластиковые шлепанцы и объяснил, что какая разница, кто ее здесь видит, кроме пассажиров поездов и соседей, мама криком объяснила, что она видит свою дочь каждый день и не хочет, чтобы она походила на тех детей, что мелькают в местных новостях о деревне, все эти вот девочки в замызганных спереди сарафанах и таких вот тапках, все эти мальчики в одних только трусах и резиновых сапогах, зачем-то лезущие в кадр.
Да и папа, возможно, делал некие выводы из происходящего вокруг, потому что, обнаружив сначала, что ручного паука нечем покормить, а затем не обнаружив паука в закутке за трубой сливного бачка, заметил: “Дожили, уже тараканам жрать нечего, и пауки из дома уходят”. “Детский сад”, – сказала на это мама.
Из отдельных разговоров в поселке стало ясно, что пропали не только тараканы и пауки. Уховертки перестали баловать жителей первых этажей своими приходами в гости по ночам, у кого-то вымерла колония клопов в диване сорокалетней выдержки.
Недалеко от поселка находилась ракетная часть, откуда несколько раз прибегали к железной дороге замученные старослужащими солдатики, понятно, что там творился бардак, и папа невольно подумал на военных, на какую-нибудь утечку, о которой могли и не оповестить всех окружающих. На всякий случай он раздобыл у знакомого на работе счетчик Гейгера и стал на вечер звездой полустанка, обходя каждую квартиру с прибором. Если таблица из “Аргументов и фактов” не врала, то фон в поселке находился в норме, за исключением букв на магазине и угольной кучи возле котельной. Поскольку все и так знали, где магазин, а котельная давно уже перешла с угля на мазут, кучу и буквы постепенно перетащили в лес на другую сторону путей. (Через год Ольга, планируя стать мутантом, как в Людях-Икс, поела земляники возле радиоактивной кучи, но ничего не произошло.)
“Ну, тогда я не знаю, в чем дело”, – сказал папа.
“О! Я знаю, в чем дело”, – сказал он через несколько дней после счетчика и показал на кухонную стену.
По стене, по дорожкам мелка “Машенька”, мимо клеевых ловушек бежала непрерывная цепочка очень маленьких рыженьких муравьев и скрывалась под плинтусом, начало этой дорожки терялось в небольшой трещине под потолком. “Не, ну это гораздо приличнее выглядит, чем то, что было”, заметил папа с некоторым даже одобрением. “Да”, – согласилась мама, “А то знаешь, в кладовку страшновато было заходить и свет включать, ждать, что кто-нибудь побежит в разные стороны, или как они убегают за раковину ночью, если свет включить”.
Ольге муравьи тоже понравились. В них не было этой вот тараканьей наглости и бандитского риска, этого стремительного бега и отчаянных прыжков со стены (так что казалось иногда, что ко всем этим трюкам не хватает только музыки из “Миссия невыполнима”), муравьишки были подслеповатенькие, очень аккуратные, организованные, чем-то даже игрушечные, если сравнивать их с лесными муравьищами. Ольга прониклась жалостью к новым жильцам и то и дело подкидывала на их пути то крошку хлеба, то несколько крупинок сахара.
“Но вообще всё начинает напоминать какой-то политический памфлет, какую-то сатиру”, заметил однажды сосед по дому, когда разговорился с родителями Ольги во дворе тем летним вечером, когда все были более-менее свободны и не было по телевизору ни “КВНа”, ни “Последнего героя”, ни “Фабрики звезд”, ни еще чего-нибудь. Соседа не поняли, и он пояснил: “Ну вот появились такие освободители от паразитов и за полтора месяца весь поселок заселили, так что от них никуда не деться. Они у меня клейстер под обоями едят. Они туда залезают, куда ни один таракан с его толстой тушей бы не пролез. У меня холодильник не очень хорошо морозит, так они овощи с нижних полок подъедают, капец. Осы завелись было над окошком. Так что вы думаете? Смотрю как-то – что-то нет ос, не вылетают из своего гнезда, пригляделся, а там уже эти копошатся, что-то там тащат из гнезда к себе. Я прямо суеверный ужас ощутил от этих малявок”.
Люди хватились и попытались извести муравьев, поднимая вырезки “Хозяйке на заметку” из разной прессы за много лет, выискивая рецепты среди рецептов выпечки и салатов, выведения пятнен и способов не плакать при резке лука. Ничего не помогало. Муравьи становились только многочисленнее и как бы злее в своей вездесущести. Они могли пролезть в завязанный узлом пакет с сахаром – трюк, ни одному таракану не снившийся, хотя каждый в отдельности муравей был в среднем тупее каждого в отдельности таракана, вынужденного добывать еду без поддержки коллектива и потому как бы хитрого. Да, нетрудно было передавить тех, кто неосмотрительно задержался по пути от логова до остатков чая в кружке на столе, но на численность муравьев это никак не влияло, они не пытались убегать, в этом фатальном равнодушии к собственной жизни был даже некий вызов. Ольга узнала, что муравьи появились гораздо раньше людей, и в том, что они пережили динозавров и успешно переживали ее – Ольгу и ее родителей, и всех, кого она знала, причем будто и не пытаясь пережить, а делая это как-то походя, но уверенно, было некое оскорбительное, но правдивое утверждение.
Всего несколько часов отключившегося света в поселке хватило для того, чтобы муравьи пробрались в холодильник, в коробку с тортом на Ольгин день рождения, на горлышко бутылки с газированной водой, на пиццу. Они нашли в итоге подаренный ей набор детской косметики в столе и что-то там даже отъели.
Ближе к осени, когда для прогулок платья уже не хватало, а понадобилась курточка, Ольга обнаружила забытую в кармане конфету “Рачки”. По этикетке полз муравей. Полная дурных предчувствий, Ольга прошла на кухню с этой конфетой, развернула ее и, взяв нож, разрезала ее вдоль. Это была сцена, сравнимая с эпизодом из фильма “Чужие”, когда пришельцы, проламывая телами потолок из гипсокартона, посыпались на голову космическому спецназу. Или вот Пан Клякса дарил веснушки в своей академии, а тут Ольга будто открыла целый ад с этими веснушками, и они сыпанули по белому столу кто куда. На какой-то миг Ольгу посетила досада, нехарактерная для девятилетней девочки, а именно досада на то, что именно в этот момент в руках у нее нет огнемета.
Муравьев победили случайно. В январе сломалась котельная, несколько дней в двадцатиградусный мороз люди жили как могли, причем никто не замерз из людей. Родители Ольги дрогнули было и чуть не подались в Нижний Тагил к бабушке и дедушке в трехкомнатную квартиру, но вспомнили, что тогда придется выслушивать упреки старичков, что все только и ждут их смерти, чтобы занять жилплощадь в центре. (Это была не совсем неправда, но и не совсем уж правда.) Как-то их удержало это на месте. Ольгу отправили ночевать к подруге-однокласснице в поселке, а сами грелись у электроплитки, пока на последний перед включением тепла день не отключилась еще и подстанция.
Когда Ольга выросла, оказалось, что стыдилась она зря. У всех почти было так, просто с некоторыми вариантами, у одной подруги не только тараканы были, но и маньяк орудовал, и даже не один, в той части города, где подруга жила, у другой подруги в классе был постоянно вшивый мальчик, вызывавший эпидемии вшивости, кто-то жил у некоего пафосного кабака и в окно мог наблюдать разборки братвы, да чего только не было такого, что превращало детство Ольги в этакий стеклянный шар со снегом, не самый красивый из шаров, но достаточно уютный.
Сергей Носов Птицы СПб
Чайки
Левитан, запутавшись в женщинах, с досады застрелил чайку. Всё остальное – Чехов. Чайка – живая, летящая над волной – эмблематичная – не только прославила МХАТ и систему Станиславского, но стала еще, в известных пределах, символом всей культурной жизни Москвы. Чайка, надо признать, – символ, скорее, московский, не петербургский, не кронштадтский даже. Черная “чайка” – представительский автомобиль, машина министров. “Чайка” – позывной Терешковой, и хотя он придуман безотносительно Чехова (по легенде, Гагариным), Терешкова, когда выходила на связь, дословно повторяла слова Нины Заречной: “Я – Чайка” (кстати, расстояние между родиной Терешковой и местом, где Левитан застрелил несчастную чайку, 270 километров – по лесам, полям и болотам). А потом – по Москве – Чайка с Хрущевым (и космонавтом Быковским) едут в автомобиле “чайка”. Так что птица чайка – это не просто Москва, а советская Москва, кремлевская, “Красная Москва” как бы. В Ленинграде был “Чайка” разве что ресторан. Только город чаек – все-таки Ленинград. И Петербург, но не прежний, девятнадцатого века, а сегодняшний, новый. Это может показаться странным – раньше чаек в городе почти не было. Достоевский, переполненный замыслами нового романа, мог видеть их с палубы корабля, на котором возвращался из Копенгагена, но не в самом Петербурге. В Столярном переулке чайки не будили его на заре своими резкими выкриками. Нет у самого петербургского писателя в самом петербургском романе чаек. Да у него их вообще, кажется, в прозе нет – чайку попить на каждом шагу предлагают, а чтобы чайку увидеть, этого никому не дано – ну вот только в самом начале своих литературных трудов, в самом начале романа “Бедные люди” позволил молодой Варваре Алексеевне детство вспомнить – деревню и озеро с чайкой (не то ли озеро, где потом Левитан застрелит свою?). Только память о чайке героини “Бедных людей” не имеет к Петербургу никакого отношения. Не было в те времена в Петербурге чаек, а если было, то мало – как теперь снегирей. Сейчас как раз озерные чайки, так их вид называется, преобладают в городе. А прилетать они стали в город массово только во второй половине двадцатого века. Когда мусор, включая органические отходы, стали организованно вывозить на специально отведенные места – городские свалки, позже названные полигонами.
Я помню “Южную”, старейшую и самую крупную свалку, – иначе ее называли в народе “Волхонкой” – потому что на Волхонском шоссе, напротив Южного кладбища. Статус последних ее лет – полигон твердых коммунальных отходов. Ныне закрыта. Кто видел эту сорокаметровую гору в ее лучшие времена, уже не забудет ни запаха, ни бульдозеров, ползающих по хребту, ни множества птиц. Понятно, оксюморон, но точнее не скажешь: тьмы, тьмы белых чаек.
Чайки на моей памяти облюбовали дворовые помойки и вытеснили с них голубей. Возможно, идет обратный процесс – если судить по нашему двору: вот уже второе лето чайки не кричат у нас по утрам. А кричат они, вообще говоря, диковато для города – словно истерично смеются, – у ворон получается элегантнее.
Чайки и вороны – враги. Воздушные сражения обычно завершаются в пользу чаек – они подвижнее, атакуют сверху. Труп вороны долго висел на телевизионной антенне дома № 22 по Коломенской улице – был я в гостях, и, сверкая глазами, хозяин показывал мне в окне и рассказывал о воздушном бое над крышей – бились насмерть, и победили чайки.
Но будем справедливы, не все чайки преданы помойкам и свалкам. Чем бы ни были они привлечены в город, многие облюбовали каналы, реки, пруды. В садах и парках озерная чайка может свободно вышагивать по земле, выклевывая червячков и всяких козявок. В белые ночи чайки летают над тополями; орнитологи объясняют зачем: ловят на лету молодых бабочек – ивовых волнянок (чьи гусеницы жрут помимо ивовых тополиные листья). Так что есть польза от чаек.
Наблюдал я однажды почти сюрреалистическую картину. На канале Грибоедова (рядом с Домом книги), прямо на воде, две чайки не могли поделить большой кусок мяса. Понятия не имею, как мясо к ним попало, откуда-то умыкнули, не знаю как, но это была вырезка, насколько могу я судить. Каждая, широко разинув клюв и частично уже заглотив со своей стороны часть добычи, тянула остальное к себе, пытаясь вырвать из клюва соперницы (я застал состязание не с начала). Так они и плавали, и довольно долго, несколько минут, – казалось, это никогда не кончится. Мне, двуногому и без перьев, с высоты набережной было не ясно, кто побеждает. Но вдруг одна сдалась – отпустила свою часть и отплыла в сторону. Тогда другая, не выпуская из клюва тяжелую вырезку, грузно полетела над водой, а потом, с трудом поднимаясь, исчезла за поворотом на Итальянскую улицу.
(Только сейчас сообразил, что это все происходило напротив упомянутого ресторана “Чайка” – не оттуда ли вынесли вырезку тотемным животным? (Вот, уточнил: “Чайку” закрыли в 2012-м, а наблюдал я это годами тремя раньше.))
Мы же в массе своей думаем, что чайки одной только рыбой питаются.
Ха-ха.
Но кто спорит, чайка, сидящая на парапете, это красиво; это, кажется, по-петербуржски.
Сизые чайки улетают на ночь из города, озерные здесь остаются.
А еще бывает, прилетают огромные – серебристые чайки. У них размах крыльев достигает едва ли не полутора метров. Некоторые поселяются прямо здесь. Пишут про них, что способны гнездиться на плоских крышах. На Петроградской я часто встречаю таких.
На высокой трубе бывшей мебельной фабрики постоянно сидит. “Альбатрос”, – говорят горожане. Да нет, альбатрос еще крупнее. У нас нет альбатросов. Серебристая чайка.
Вороны
Петербуржцы в целом ворон уважают. У ворон репутация умных существ. Постоянство в их жизни внушает симпатию – они могут годами возвращаться на одно и то же гнездо, когда-то построенное на дереве во дворе. И пары они образуют устойчивые; нового партнера выбирают, лишь овдовев. Некоторые петербуржцы серьезно считают, что вороны обладают чувством юмора, да и в самом деле, иногда эти птицы как бы дурачатся. Могут изворотливо дразнить кота или собаку, кататься с крыши, устраивать коллективные игры в воздухе, подбрасывая и ловя на лету палочку. Вороны склонны к экспериментам, иногда, на наш взгляд, абсурдным. Что заставляет ворону повиснуть вниз головой на бельевой веревке? Вот наблюдал буквально вчера, как ворона каркала на автомобиль у нас во дворе: подходила то спереди, то сбоку и постоянно каркала на него, словно отгоняла, а может быть, провоцировала на что-то. А он стоял. Один из многих во дворе. Но чем именно этот приглянулся (или не приглянулся) вороне – загадка.
Петербуржцы прощают воронам интерес к помойкам, злопамятность, мстительносить и дурную славу истребителей яиц иных пернатых.
Памятник вороне установлен в Ораниенбауме (сейчас это в административных границах Петербурга): на мраморной скамейке бронзовая книга, а на ней бронзовая ворона, автор книги тоже рядом сидит, бронзовый, – это писатель Николай Шадрунов, прославивший рамбовских чудаков и “психов” (“Психи” – так называлась его книга, а Рамбов – народное название трудновыговариваемого Ораниенбаума, который к тому же сейчас Ломоносов), так что памятник по большому счету ему, Шадрунову. Но и вороне тоже. Там еще есть бронзовые воробьи, однако персонально ворона (“Красная ворона”), говорят, уже стала новым символом Рамбова.
Это не первый памятник вороне. За полтора века до него бронзовое изображение вороны появилось в Летнем саду – все правильно, на памятнике баснописцу Крылову. Среди персонажей тридцати шести басен Ивана Сергеевича, окруживших постамент с четырех сторон, есть и ворона, еще не уронившая сыр. И этот примечательный портрет героини хрестоматийной басни мы вправе считать настоящим и персональным памятником вороне хотя бы потому уже, что строка “Вороне где-то Бог послал кусочек сыра” претендует на первенство среди самых известных в русской поэзии. А это слава. Да такая слава, о какой ни одна другая птица мечтать не может! Но – тут парадокс. Ворона, с одной стороны, явлена нам во славе своей существом наивным и глуповатым, а с другой стороны, хотя известную мораль мы впитали чуть ли не с молоком матери, всё равно остаемся при убеждении, что ворона хитрющая и умнейшая птица: одно дело литература, другое – жизнь.
Если бы у петербургских птиц была возможность воздвигнуть памятник человеку, можно не гадать, кто был бы их избранником. Конечно, художник Куинджи. И не потому, что Куинджи так любил писать птиц (это в его творчестве далеко не главное), а потому, что просто их любил – сильно и беззаветно. Пернатые знали: по сигналу Петропавловской пушки (то есть ровно в двенадцать) надо лететь на угол Биржевого переулка и Тучковой набережной – там, на крыше, рядом со своей мастерской, он будет ждать их с овсом и белым хлебом. Это не были опыты по изучению условного рефлекса, это была бескорыстная помощь птицам, но, узнал бы Павлов о достижениях Куинджи, он, думаю, заинтересовался бы ими. Между прочим, Институт физиологии им. И.П.Павлова уже после смерти художника появится в двух шагах от его мастерской. А в конце девятнадцатого века Павлов работал с собаками в Императорском институте экспериментальной медицины на Аптекарском острове, но вот что интересно: живописец Куинджи мог бы сам справедливо гордиться своими успехами в области экспериментальной медицины – известно, что он спас голубя, сделав ему трахеотомию с помощью трубочки из пера. Куинджи лечил больных птиц. Дом его походил на птичий лазарет.
На известной карикатуре Щербова “Пернатые пациенты (А.И.Куинджи на крыше своего дома)” Архип Иванович действительно изображен на крыше своего дома в обществе черных ворон, ожидающих медицинской помощи, и почему-то босым. В отличие от серых ворон, черные для Петербурга не характерны, хотелось бы думать, что это грачи, но судя по клюву – вороны; оставим их на совести карикатуриста. Одна повернулась тылом к Архипу Ивановичу и задрала хвост, позволяя выполнить деликатную медицинскую процедуру. Себя Щербов изобразил подглядывающим из-за трубы. Похоже, он в самом деле побывал на крыше, – много конкретных деталей, да и панорама со стрелкой Васильевского острова, пожалуй, то, что надо было самому отсюда увидеть. Возможно, прав был Куинджи, когда, по словам мемуариста, жаловался на Щербова, что тот-де подкупил дворника. Карикатура его страшно обидела. До прекращения отношений.
Дьявол, как известно, скрывается в деталях. Пишущие об этой прихотливо выполненной карикатуре дружно утверждают, что Куинджи делает вороне клизму. Похоже на то. Хотя тут всё тоньше. Или грубее. В руках у Архипа Ивановича так называемый шприц Жане, совсем недавно изобретенный. В исторической перспективе шприц Жане (самый большой из всех шприцов) найдет широкое применение. Но уролог Жюль Жане изобрел его тогда отнюдь не для промывания пищеварительного тракта, а для лечения (по “методу Жане”) гонореи – тем и прославился (см. Большую медицинскую энциклопедию). Боюсь, мы недооцениваем брутальный юмор Щербова. Не за себя обиделся Архип Иванович Куинджи, а за ворон.
Как-то вечером, переходя Фонтанку по Обуховскому мосту, наблюдал я странную картину. Вся клиника Военно-медицинской академии чернела от множества сидящих на ней ворон. А вороны все прилетали и прилетали, они садились на деревья, на крышу соседнего дома, они летели сюда большими стаями. Я посмотрел на запад – со стороны Троицкого собора и со стороны Коломны приближались, как-то замысловато кружа, две огромные стаи. Другие вороны летали над крышами в поисках свободного места. Кажется, я никогда не видел столько ворон. Их были тысячи – без преувеличения.
Говорят, вороны собираются вместе, когда им угрожает опасность. Не ведаю, что могло им (или нам) в те дни угрожать – никаких катастроф не припомню.
Мы переехали на Карповку. Окна во двор. Под утро кричат чайки, каркают вороны. Воюют друг с другом. Днем ведут себя тише.
Однажды вечером услышал громкое карканье за окном (я был в комнате, сидел перед компьютером). Каркали не одна и не две, что-то у них случилось; я всё думал, что затихнут когда-нибудь, а они продолжали с нарастающей возбужденностью. Наконец не выдержал, подошел к окну, одернул занавеску. У самого стекла промчалась ворона, тут же – другая; множество ворон летало по двору. Я пошел на кухню и всё понял. На самом деле – ничего не понял. Просто понял причину этого гвалта, и только. У нас за окном, примыкая к торцу дома, тянется забор, отгораживающий от двора территорию предприятия; над ним спиралевидный барьер из колючей проволоки. И вот внутри этой спирали, зацепившись крылом за колючку, висит ворона – без признаков жизни. Над ней пролетают сородичи. Им, однако, страшно приближаться к этому месту – именно к той части барьера, где висит тушка несчастной, – подлетая к нему, они резко подают вверх. Иные сидят в отдалении на крыше, другие поближе – на крыльце флигеля. Но и те, кто поблизости от мертвой вороны, тоже, при всей их смелости, осторожничают: делают несколько шагов к ней, каркают в ее сторону и сразу же подают назад, словно от этого места даже на расстоянии исходит для них опасность. Грай ужасный стоит.
Что же это всё означает? Не понимаю. Прощание с товарищем? Проклятия неведомому врагу в образе спиралевидной колючки? Грай-мольба – обращение к вороньему богу? Грай-плач?
Это продолжалось до ночи. Утром стояла тишина. Дохлой вороны не было. И живых ворон – ни одной.
Несколько лет в нашем дворе не появилось ни одной вороны.
Шел я как-то в начале июня по Каменному острову, там на деревьях вороны. Одна что-то прокаркала, а я имел глупость каркнуть в ответ (два или три раза – мне показалось, что получилось реалистично). Что с нею стало! Она изошлась в карканье. Взлетела, стал кружить надо мной. Я уходил, не торопясь, но это ее мало устраивало. Она сделала большой круг и стремительно спикировала, целясь мне в голову, – я успел наклониться, она коснулась крылом моей головы. Вышла еще на один круг, выбрала угол атаки и понеслась на меня – я едва успел присесть в последний момент, а далее – далее отступил самым позорным образом: я побежал. Кажется, она меня не преследовала.
Что ж, в конце мая – начале июня вороны, оказывается, могут нападать на людей, причина – защита птенцов. При том, что сами вороны способны быть каннибалами и воровать яйца у себе подобных.
Но своих родных воронят они по-родительски опекают до самого половозрелого возраста.
Семейные ценности, ёшкин кот!
Воробьи
Оказывается, есть Всемирный день домового воробья, и отмечается он 20 марта.
Утверждается, что в первые годы тысячелетия замечено сокращение численности воробьев во всех крупных городах мира. Одной из возможных причин называют стрижку газонов и, как следствие, исчезновение насекомых, которыми воробьи кормят птенцов. Другая возможная причина – излучение антенн сотовой связи. Думаю, сотовая связь влияет и на воробьев, и на тараканов, и на людей, но справедливости ради – воробьи стали исчезать еще до появления мобильных телефонов. И до того, как пришла к нам мода стричь газоны.
Рад буду, если меня опровергнут, но первыми проблему с численностью воробьев заметили герои моей пьесы “Дон Педро”, написанной в 1993 году, когда мобильных сетей у нас не было и газоны не стригли.
Григорий Васильевич. Вы заметили, воробьи совершенно пропали… Раньше где голуби, там и воробьи… А теперь где воробьи?.. Вымерли, что ли?
Антон Антонович. Действительно… Я не обращал внимания… Григорий Васильевич. Китайцы всю культурную революцию воробьев истребляли… и всё без толку!.. А мы раз-два, и нет воробьев…
На самом деле два пенсионера ведут абстрактный разговор о политике, а воробьи пришлись к слову, но согласитесь, это не отменяет ценность свидетельства. Признаюсь честно, я горжусь этой ранней регистрацией воробьиного неблагополучия в экологической системе большого города.
Вот такие пенсионеры, как Григорий Васильевич и Антон Антонович, кормящие на скамейке голубей, и должны были первыми отметить уменьшение численности воробьев. То же надо сказать о наблюдательности потребителей крепких напитков, предпочитающих свежий воздух замкнутому помещению: где бы они ни останавливались – на детских ли площадках, на задворках ли общественных учреждений, всюду были готовы поделиться крохами своей нехитрой закуски с местными воробьями, которые непременно должны были откуда-нибудь появиться. И вдруг – стали воробьи исчезать. И кто бы другой это заметил?
В семидесятые годы, по оценкам орнитологов, было в городе порядка полутора миллионов домовых воробьев. Больше, чем любой другой птицы.
За неделю на Петроградской встретил лишь четверых – в скверике около метро “Чкаловская” (специально стал присматриваться, перемещаясь по городу). Правда, знакомый математик повесил в фейсбуке две фотографии – селфи с неадекватным воробьем: прилетел к нему на балкон и сел на руку. Это что-то из ряда вон выходящее. (Васильевский остров, улица Кораблестроителей.) Потом оказалось, что воробей перелетел к нему с соседнего балкона, птенец, – его утром соседка подобрала в траве и принесла домой, но что-то не устроило воробья в той квартире. Математик возвратил птицу. Спустя день пишет: “Вечером столкнулся с соседкой на улице. Она так и ходит с этим орлом. Орел приветственно чирикнул и походил по моей макушке”.
Голуби
Голубей в блокаду не было. Нет, их не съели – съели кошек и собак. А голуби первыми почувствовали беду и – улетели из города. Массово стали возвращаться лишь к середине пятидесятых.
Ленинградцы относились к голубям противоречиво. Да и петербуржцы – тоже. Одни питают к ним нежность и кормят их. Другие презирают – “грязная птица”; считают разносчиками орнитоза.
Речь о городских голубях, “помоечных”. Голубятен я уже не застал.
Когда случалось ночевать на верхнем этаже старого дома с окном во двор под склоном крыши, трудно было привыкнуть к неожиданно громкому гулкому воркованию, напоминающему о каком-то потустороннем присутствии.
Известно, что голуби любят памятники. Но петербургские голуби, мне кажется, любят особенно преданно. Хотя далеко не все памятники. Например, на аникушинском памятнике Ленину, что возвышается над Московской площадью, вы вряд ли увидите голубя, а вот на, опять же, аникушинском Пушкине (площадь Искусств) всегда сидит голубь, да еще не один. Мне кажется, этот бронзовый Пушкин для голубей самый притягательный в городе – иногда на вытянутой руке располагается по четыре особи, а всего на этом памятнике в иной день можно увидеть шесть голубей. Обычно сидит голубь на бюсте Маяковского (улица Маяковского), на голове памятника Попову (Каменноостровский проспект), а вот Плеханова у Технологического института голуби игнорируют. Моя гипотеза такова (если будет подтверждена репрезентативной выборкой наблюдений, можете назвать “принципом Носова”), она несложная: голуби предпочитают те памятники, рядом с которыми есть скамейки, – любой присевший на городскую скамью – потенциальный кормилец голубя.
Когда-то очень давно, в пору моих первых литературных опытов, понадобился мне персонаж второго плана, одержимый какой-нибудь курьезной идеей. Чтобы он, допустим, ходил по инстанциям со своей идеей, а от него бы все отмахивались. Идею для него я придумал такую: надо изготовить шапочки вроде тех, в которых плавают в бассейнах пловцы, но чтобы из них торчали палочки, похожие на зубочистки, только чуть покрупнее (можно с внутренней стороны пробить гвозди, острием, стало быть, вверх, а шляпками вниз), эти шапочки необходимо надеть на петербургские памятники. Тогда голуби не будут садиться на памятники. Самому мне эта идея показалась очень смешной, чудаковатой, и хотя сочинение так и осталось ненаписанным, я от персонажа с его курьезной идеей решил не отказываться, держал его в уме для будущих замыслов. Но вот случилось мне очутиться в Италии, в Милане. Поднялся я на крышу собора Рождества Девы Марии и увидел с изумлением, что в Европе уже давно подобное практикуется. На головах многочисленных статуй, украшающих собор (если посмотреть на них сверху или сбоку), леса таких “зубочисток” – и голуби действительно на них не садятся. А может быть, написать все-таки? – как он ходил по инстанциям и все над ним посмеивались? – а потом он приехал в Италию, а там тебе раз – Европа! Ну и что-то еще. Надо подумать. В отличие от своего до конца не проработанного персонажа я идеей этого изобретения одержим не был, по инстанциям не ходил и не объяснял пользу идеи. А то, что меня в Италии обошли, – пусть. Но странно мне, что за все эти годы так и не позаимствовали наши чиновники, ответственные за чистоту памятников, этот зарубежный опыт, – не один же я ездил в Европу.
Возможно, у нас к голубиному помету относятся так же, как к исторической патине.
Майя Кучерская Котя Мотя
1
А было так.
Приближался Новый год, и тетя Женя, Тэ Же, да-да, вам тоже предстоит стать персонажем этого вообще-то совсем не документального опуса, Тэ Же созвала своих питомцев из кружка рисования-лепки и прочих полезных занятий к себе домой, как это и водилось, мастерить подарки для мам, пап, но на самом деле, конечно, бабушек.
В этот вечер поделок мне даже удалось сбежать со второй половины совещания по итогам года, прорваться сквозь засеянную огоньками железную плоть пробок, воткнуть машину между сугробом и мусорным баком, вбежать в лифт и, впав в обжитую московскую квартиру с небольшим отрядом сапожек в коридоре, сейчас же успокоиться. Здесь никто не торопился и не смотрел на часы. Милосердная Тэ Же сообщила мне, что я как раз вовремя, прямехонько на чай для родителей. Впрочем, две мамы и папа уже начали прощаться, их чада завозились в коридоре, и вскоре из родителей осталась я одна.
На кухне, казавшейся тесной от украшавшей ее стены керамических зверей, я отпивала горячий чай из голубой самодельной кружки, ела торт, незаметно отмякая от беспокойного рабочего дня и погружаясь в неторопливую беседу с Тэ Же и ее сыном Петей, смотрящим сквозь очки с кроткой печалью. Говорили об университете, в котором Петя учился и собирался уходить после зимней сессии в академ, потом о моей Сашке, Петя ее знал, когда-то – не так давно! – она тоже училась рисовать, лепить, выпекать вот такие же чашки у Петиной мамы.
Тем временем младшенькая, Дина, Динь, наносила последний слой блесток на что-то невообразимой красоты, и нанесла. И вошла в кухню. Тут всё и случилось. На кухне обнаружилась коробка, обычная картонная коробка, в коробке лежало сено, на сене сидел кролик. В крапинку, коричневого оттенка, с нежно торчащими ушками.
Во время нашего разговора зверь вел себя так тихо, что не было повода его заметить, я и не заметила. Но то я. А Динь. Войдя к нам, она, маньяк-сладкоежка, даже не взглянула на торт, еще не закончившийся, хрустящий и манящий, в грибочках на крыше, не увидела разноцветные шоколадные конфеты всех сортов – явно чей-то распотрошенный новогодний подарок. И почти не успела обрадоваться мне. Потому что увидела его. И застыла. Тэ Же послушно вынула зверя за уши из его дома и вручила Дине. Девице семи с половиной лет. Динь обняла его, и что-то в лице ее навсегда изменилось. Распрямилось и расцвело. Отдаленно это выражение напоминало то, с каким она нянчила мишку с красным сердцем, которое умело стучать. Но теперь всё было гораздо сильнее и целенаправленнее; совсем уж огрубляя то, что светилось в ее лице, можно было бы свести к глаголу “поплыла”. Вот только куда? На остров блаженства, конечно. Там спеют окутанные сладким ароматом желтые плоды мандрагоры, цветут гранатовые яблоки и наполняется соком виноградная лоза, там сосны полощат косматые верхушки в небесной лазури, играя с облаками в салки. Там курлычат в ветвях рассевшиеся, как котята, разноцветные райские птицы. А внизу, внизу по зеленым лужайкам бегают кролики. У них мохнатые ушки и смешные белые хвостики.
Лицо моей дочери озаряли восхищение и растерянность. Кажется, она впервые прикоснулась к той очевидной всем взрослым истине, что любовь – это беззащитность. Она и рада бы, но не могла его отпустить. Произнести сейчас “пойдем-ка домой”, тем более “не хочешь ли тортик?” было бы кощунством. Динь присела и тихо гладила кролика по мягкой шерсти. Тем временем Тэ Же рассказывала про его нехитрую жизнь, что-то про то, что их семейство давно к кроликам прикипело, этот уже второй. Зверь терпеливо поводил ушами.
Пора было идти.
С величайшей осторожностью Динь опустила кролика в сено, которое он тут же и начал поедать. Динь смотрела на него взглядом матери, кормящей вернувшегося из армии сына. Она не смела, нет, и только едва уловимым шепотом выдохнула: “Какой же он!..” и не закончила, нет. Лишь в лифте Дина проговорила, обреченно и всё так же потерянно: “Как мне хочется кролика!” И уже беззвучно добавила: “Мама”.
Всю обратную дорогу дочь пребывала в непривычном для себя состоянии – благоговейного беззвучия. Она знала, знала: никогда никаких зверей. Довольно было того, что ее старшая сестра чуть не уморила черепаху. И она хорошо знала эту историю, потому что получала ее всякий раз в ответ на подобные просьбы. Красноухого черепашонка, который так трогательно царапал коготками ладонь и ползал по столу, но который через год вымахал в злобное, жрущее в те редкие дни, когда о нем вспоминали, сырое мясо чудовище, едва умещавшееся в вечно мутном аквариуме (дураков его чистить не находилось). Тортилище удалось спасти от неминуемой гибели, отдав в дружеские руки. Всё. Больше никаких. Летучих, ползучих и земноводных. Никогда. Но при чем тут Дина? При том. И Дина молчала – там, на заднем сиденье, рассеянно поглядывая на сияющий иллюминациями город, сверкающие над машинами серебристые узоры, только изредка подавленно вздыхая.
2
Так вопрос с новогодним подарком решился сам собой. Важно было, конечно, не оповещать никого из домашних раньше времени. Ну, кроме Саши. Недолгий обед в “Ашане” меж закупкой еды и одежды – я любила ходить со старшенькой в магазин, я вообще всё любила с Сашей – гамбургер, крошка-картошка, подносик с роллами, и план был составлен.
К нам в квартиру приходит Дед Мороз – заснеженный, веселый дедок, с красным шаром мешка за плечами, а в мешке! чудеса и сюрпризы. Те, о которых всю жизнь мечтал, но не смел, откладывал или не позволял себе даже подумать.
Папе Косте – розовая и оранжевая рубашки, для полного взлета еще и гавайская – расцветки, на которые он никак не мог решиться, но которые ему необыкновенно шли, маме – секрет, этим занималась Саша, Саше – огромный чемодан и парочка полезных для путешественника вещей (тоже секрет), потому что Саша покидала Москву немедленно после Нового года. Этот сквозняк ледяного декабрьского ветра и Сашиного отъезда мы и пытались заткнуть большой подушкой нашего детсадовского хеппенинга. Мне, кстати, досталась потом от Деда Мороза именно подушка, голубая, плюшевая, с глазками, по иронии судьбы Саше тоже подушка – надувная, для самолета. Не сговариваясь, мы купили друг другу в подарок подушки. Ну, а маленькой Динь?
Первый же зоопродавец заговорщицки прошептал в трубку: да, пока еще есть, точнее один, последний! Приезжайте скорее. Дело происходило 30 декабря. Видимо, мысль о кролике в подарок пришла не только нам.
Но последний кролик в знаменитом зоомагазине на Арбате остался недаром. Приплюснутая мордочка, коричневое пятно на полморды, будто кто-то плюнул ему в глаз эскимо. Уродец! Рядом в клетках колготились щенята, котята-лапочки, но секундный соблазн был преодолен. Еще пара звонков, и “Бетховен” неподалеку от дома меня не подвел. Мягкий белый комок с блестящими черными глазками и двумя пятнышками на глазах, вычерненные ушки, хвост – клочок пуха. Заинька, будешь наш.
Дед Мороз, Сашин однокурсник, оказался худым и очень длинным, красный морозовский кафтан висел на нем мешком, но роль свою он сыграл с блеском, несмотря на заверения, что это дебют. Позвонил в дверь, чуть смущенно поинтересовался, не здесь ли живут такие-то? Здесь, с глубоким изумлением подтвердил Костя. На этом Дед Мороз не успокоился, снял варежку, выудил из кармана, боже мой! черный “молескин”, раскрыл: так-так-так, а их дочка Диночка тоже тут проживает?
– Проживает! – пискнула Динь, она уже стояла у меня за спиной, вцепившись в мою руку. Дед Мороз загадочно улыбнулся, сложил книжечку обратно в карман, поставил мешок на пол и осторожно вкатил в квартиру огромный чемодан цвета свежей бирюзы, который до этого стоял чуть в стороне. Вежливо пояснил, что подарков много, не все поместились в его фирменный мешок. Поинтересовался, где у нас елка. Мы повели его на кухню.
Динь поверила в то же мгновение. Тем более из чемодана Дед Мороз осторожно вынимал… ну да, его. Скорее, чтобы, упаси господи, не задохнулся. Вынимал нашего Котю. Так окрестила нашего зайчика Дина в момент его появления над широким овальным столом, застеленным праздничной скатертью с зимними картинками. А Саша уже несла в комнату коробку с клеткой, которую предусмотрительный Дедушка тоже вынул из безразмерного чемодана. И поилку, и пласмассовую мисочку для корма, и три мешка – с кормом, сеном и стружкой. И лоток! Дед Мороз был специалистом по кролеведению.
Вручив подарки, Дедушка вопреки всем правилам не стал требовать стишков, а прочитал стишок сам – мы с Сашей корпели целый вечер! – веселый и довольно вольный, поясняющий, кому и что он дарит, а затем вежливо удалился. Недоумевал только глава семейства: Костя до последней минуты не понимал, откуда на нашу голову всё это свалилось и чем объясняется такая нечеловеческая проницательность Деда Мороза, который знал даже, что он, наш папа, обожает греческую мусаку. Да просто это была первая пришедшая нам в голову рифма к слову “кака”, которую Дедушка призывал обязательно убирать из кроличьей клетки.
Когда Дедка откланялся, мы быстрым шепотом ввели папу Костю в курс дела, но его ничуть не развеселила наша новогодняя шутка. Только один человек в нашей семье был счастлив безусловно и бесконечно.
Динь носила бы Котю на руках всё время, если бы только его глупенькое сердце не колотилось так. А оно колотилось. Отпущенный наконец в довольно споро собранную Сашей клетку, Котя немедленно забился под деревянную полочку и затих. И долго еще не решался выбраться наружу.
Дина просияла так все зимние каникулы, умилялась, пищала, кормила Котю, клала в колясочку сосланной куклы, возила, к его неописуемому ужасу, по квартире, меняла сено и стружку несколько раз в день, убирала каждую его каку, верно следуя завету Дедушки Мороза. Заодно перечитала все детские книжки, где встречались кролики, от “Винни-пуха” до “Сказок дядюшки Римуса”, и на прогремевший детский спектакль про кролика Эдварда мы тоже сходили.
Только папа Костя по-прежнему воспринимал всё происходящее как дурную шутку, страшно раздражался на звуковое сходство своего имени с именем нашего нового жильца и старался лишний раз в Сашину комнату не заглядывать.
3
Каникулы подходили к концу, и тут случилось престранное происшествие.
Глубокой ночью меня разбудил гром, самое настоящее небесное громыхание! Гроза зимой – разве такое бывает? Мобильник лежал под подушкой, но гуглить не было сил, да и что там гуглить, если небо снова вспыхнуло и сейчас же взорвалось оглушительным железным грохотом. Где-то рядом, за стенкой раздался непонятный железный звон и тихие, упругие звуки, ритмичный шорох – спросонья я никак не могла сообразить, что бы это могло быть, как вдруг – плюх! Под боком у меня оказался мягкий, мохнатый кулек. Котя? Котя в ответ только мелко дрожал. Я обхватила ладонями мохнатое горячее пузико, прижала Котю к груди. Какое же маленькое и легкое у него тельце. Снова громыхнуло, и Котя вжался в меня из последних сил. Беспомощный, хрупкий, он прискакал просить защиты от стихии! Я обняла его чуть крепче, тихо гладила ему спинку, и вскоре он перестал дрожать. Костя сопел рядом, ни гроза, ни Котя его не разбудили. Гроза прошла, гром смолк, Котя успокоился и засучил лапами, ему, кажется, хотелось обратно в клетку, он дернулся, я едва его удержала.
Костя открыл глаза, зажег ночник: это еще что такое? Это – наш глупый зверь, испугался грозы, прыгнул прямо в кровать, ко мне на ручки. Дрожал, как заяц.
В подтверждение моих слов Котя снова дернулся, прыгнул на одеяло и выплюнул на подеяльник две горошинки.
– Пошел вон! – зашипел Костя. – Вон!
Котя спрыгнул и поскакал домой. А Костя не поленился, встал, достал новый подеяльник и долго молча его перестилал.
За завтраком Костя объявил, что больше к этому вонючему и совершенно бессмысленному зайцу не желает иметь никакого отношения, кормить и поить его не станет, касаться тоже “ни рукой, ни ногой”. “Больше”, как будто раньше было иначе.
Пришло время Сашиного отъезда – далеко, надолго, – и в ее комнате остался только Котя. А потом уехала я. Сначала в город Л., потом в город Б., потом еще куда-то, уже неподалеку, на четыре дня. Так сложилось – несколько поездок подряд.
4
Рядом со мной в самолете в Лондон, Барселону, Стокгольм, Амстердам, Рим, Нью-Йорк летели люди. Кажется, мужчины, кажется, женщины, средних уверенных лет, в темных водолазках, все на одно лицо – лицо, источающее ровное, розовое свечение, сгенерированное в лучших косметологических лабораториях столицы. По экранам айпада, айфона быстро скользили пальцы с матовым маникюром, аккуратный кожаный рюкзачок щенком свернулся у ног.
Эти красивые люди работали с утра и до позднего вечера, в просторном коворкинге, вылупившемся из цеха бывшей фабрики, но теперь вместо станков здесь сидели они, а вместо утюгов и запчастей для холодильника выдавали отчеты, проекты, бизнес-планы, рекламные статьи – и так с сумрачного утра и до тех пор, пока дневной свет за окном не зальет жидкий мрак. На соседних этажах здания располагалась столовая с вменяемым меню, даже супом фо-бо и роллами в ассортименте, кофейня для кофеманов, с вкусным кофе, химчистка, парикмахерская, фитнес-зал. Недоставало только спальных мест, тогда можно было бы не возвращаться домой.
Тем более выходных у этих людей, считай, не было, выходные были слишком стремительны, чтобы различить их за потоком неотложных дел – случались только долгожданные каникулы, и тогда они снимали наконец свои водолазки и ныряли, зажмурившись, в пучину морскую или, натянув костюм, мчались с ослепительной снежной горы, изумленно разглядывая в полете чуть подросших за долгие недели полувстреч детей, чуть постаревших жен/мужей. Изредка сквозь ледяную кору однообразно пестрых дней мог пробиться и полуэкспромт, уикенд в Европе – Париж с новой выставкой в Помпиду, Амстердам с Рембрандтом, Вена с Брейгелем в комплекте, впервые графика гения, ее-то нам как раз так и не хватало – хорошо Танечка (ассистент) успела забронировать билеты.
Но то в краткие минуты перерыва; на длинной дистанции их жизнь была нервной, жесткой, требовала изворотливости ума, быстроты реакций, непринужденной смены ролей в диапазоне от “строгий начальник” до “заботливый муж”. Для отладки всех этих процессов у многих состоял на довольствии еще и личный механик – психотерапевт/психоаналитик/коуч, к которому они забегали в середине или самом конце своего перегруженного дня раз в неделю-две – посоветоваться, обсудить более эффективное управление сотрудниками, общение с высоким начальством, разобраться, как гармоничнее лавировать меж любовницей и женой, заодно небольшими порциями попрощать родителям горькие унижения детства.
И чем больше я глядела на них, тем меньше понимала, зачем при таком раскладе Бог. Через пропасти проведены мосты, дикие звери отправлены в зоопарк или пристрелены, ни войн, ни голода, даже смертельных болезней – всё меньше, уже и бессмертие, говорят, не за горами. Когда и о чем кричать человеку в небо, если вокруг есть те, кто откликается быстрее, со стопроцентной гарантией, пусть и психотерапия, и врачи помогают не всегда, ну, так и Бог не всегда.
На конференциях, в залах пятизвездочных отелей, устроившись поудобнее в кожаном кресле зала для пассажиров бизнес-класса, я, в далеком прошлом не только книжный дизайнер, но и – осторожно! – иконописица, всё вглядывалась, жадно всматривалась в их лица. Эти высокие профессионалы, успешные предприниматели, топ- и просто менеджеры, эйчаровцы, пиарщики, копирайтеры с чарующей улыбкой листали свои презентации на экране, говорили о своих успехах и прорывах так уверенно и свободно, будто и не в России родились. Что мне было до них, до этих отредактированных? Да то, что я, в прошлом книжный дизайнер и, смешно сказать, художник, в настоящем второе лицо рекламной компании, давно стала одной из них. Когда это случилось? Когда я перестала таскать с собой блокнот и рисовать, всегда, всюду, когда влилась в этот полк актуальных, когда меня подключили к розетке? Не подключили, я сама нащупала дырочки и вставила вилку.
Чтобы хоть как-то размыть этот вечный металлический оттенок стульев в конференц-залах, сломать привкус кофе со сливками во время кофе-брейка, чтобы хоть немного усложнить палитру, я нарочно раздвигаю часы неизбежной пересадки в Милане и с помощью все той же Тани бронирую время для посещения “Тайной вечери” Леонардо. Три с половиной часа паузы между рейсами, вписываюсь легко.
5
У картины в Санта-Мария-делле-Грацие меня охватывает восторг. Рассказывая о трагедии и разрушении, Леонардо раскрыл тайну гармонии, а потом воплотил и расплескал ее вокруг. Она небесно-голубого цвета, лицо ее – кротость. Лучший из всех сейчас будет предан собственным учеником и ничего не сумеет с этим поделать, нет, не захочет. Он опустил глаза, чтобы не смотреть в глаза Иуде и случайно не обличить его, чтобы не возражать возмущенному Петру и ничего не объяснять заядлому спорщику, выкинувшему в пылу спора палец Фоме. Это Петр прячет за спину нож, это ученики машут руками и хмурятся, у Него ни меча, ни щита, только раскрытые ладони. Любовь – это уязвимость и готовность к смерти.
Надеваю наушники аудиогида и узнаю, что герцог Лодовико Сфорц заказал эту картину, исполняя давнее желание своей жены Беатриче д'Эсте, которая внезапно умерла. А “Тайную вечерю” так и не увидела. Лодовико был тщеславен и распутен, любил развлечься с наложницами, особенно не скрываясь, Беатриче всегда оставалась благочестива и терпела его бесчинства. Вскоре после смерти жены герцог заказал Леонардо картину, о которой она так мечтала, и навсегда остановил нескончаемый пир. Голос в ушах сообщил и о том, что, работая над этим великим произведением, Леонардо ходил по улицам Милана в поисках тех, с кого можно написать портреты апостолов. Труднее всего оказалось подыскать прототип для предателя Иуды, пока где-то у кабака художник не повстречал наконец немолодого и не слишком трезвого мужчину, с печатью разнообразного и трудного опыта на лице. Тот согласился послужить искусству, а во время сеанса вдруг вспомнил, что некоторое время назад уже позировал Леонардо, только тогда он жил иначе, много молился, пел в церковном хоре и позировал для Христа.
Сеанс близится к концу, служитель в форме мягко выпроваживает нашу группу из собора.
Но мне в самый раз. Выложив в FB парочку снимков, гляжу на часы – до самолета еще полтора часа, бреду наугад по шумному проспекту, сворачиваю раз и другой в узкие каменистые улочки, прохожу какие-то задворки и помойки, под которыми прячутся бродячие кошки. Пахнет кошачьей мочой, но потом сыростью и тиной, внезапно я выхожу к речке. Она совсем непарадная: зеленая, грязная, возле берега – ряска. На берегу расставлены столики, из забегаловки вкусно тянет жареной снедью, а я сегодня еще не ела, медленно опускаюсь за ближайший к речке и подставляю солнцу лицо. Но… вместо счастья видеть почки на деревьях, бутоны (а в Москве-то мороз!), вдыхать такой настоящий запах речной тины, наматывать на вилку нежнейшую карбонару, листать фоточки и вновь окунаться в прозрачный синий простор, созданный гением, с изумлением обнаруживаю, что восторг от встречи с Леонардо давно растаял, не оставив даже следа. Фотографии получились так себе – видно плохо, картина разрушается, ракурс дурной. Недаром и лайков совсем немного. Ну и подумаешь. Все-таки ты добралась, посмотрела, а вокруг любимая, самая красивая на свете страна, и карбонара божественна! колочу я себя уговорами, но глаза слипаются. Хочется только спать, встала чуть свет, легла поздно, полночи доделывала неотложные дела, потоки писем и вежливых по мере скудеющих сил ответов… Зачем было устраивать это всё? Затяжную пересадку и выезд в город. Давно бы была на месте.
Не всё ли одно? Мир осмотрен, освоен и до судороги знаком. Везде, в общем, одно и то же. Нет-нет, конечно, не совсем, но по большому счету одно. Одно и то же длинное путешествие, меняются только цвет покрывал в номере, оттенки шампуней в бутылочках, да еще лица на ресепшн, язык, блюда, музеи, картины, но по сути-то разницы никакой.
Разве что Буэнос-Айрес да Новая Зеландия могли бы внести новый оттенок в мою обширную коллекцию, но и то. Даже на Кубе я уже побывала. В Китае раза четыре. В Финляндии бессчетно, там наши основные партнеры. А в Африку особенно и не тянет. В Австралию… но зачем? если только пообщаться с кенгуру и мишкой коалой.
Да, звери. Разве что звери. Но стоило ли общение даже с ними, мохнатыми и бездумно мудрыми, многочасового перелета, джетлага, заложенных ушей? Можно всё это иметь и дома. Котя. Мне захотелось его погладить, почувствовать, как он дрожит, утешить, прижаться щекой к упругим ушкам. В эту минуту я наконец понимаю, почему все они, все мои друзья в фейсбуке, завели кошек, котят, иногда собак и даже шиншилл. Хоть что-то живое. Вонюченькое, с инстинктами, рефлексами, понятное, доверчивое, свое. У большинства единственное по-настоящему родное существо. Без унизительных претензий и жестких предъяв. Котя, вот кто спасет меня от смерти. Мой ласковый и нежный, моя детка, зыбка дремы, качается колыбель, официантка тормошит меня за плечо, я прихожу в себя, гляжу на часы: проклятье! вызовите мне, пожалуйста, такси как можно скорее. Теперь главное не опоздать на самолет.
6
Я возвращаюсь в Москву поздним утром, не на день, не на два, следующая поездка только через месяц. Дома никого, Динь на учебе, Костя на работе. Только отчетливый аромат хлева ударяет в ноздри. Скидываю ботинки, куртку, прямиком иду к Коте. Вот он. Такой же черноглазый и белый. Так и бросился на прутья клетки. Ждешь меня, помнишь? Потянулась погладить – цап! Царап на пальцах. Неглубокий, нестрашный, но все же. Ты озверел? Тебя тут кормят вообще? В миске горкой лежал сухой корм. Котя снова заметался и затряс клетку. Ласкаться он не желал. Только злился. Рядом с клеткой валялась поилка, пустая. Видимо, он всё дергал ее, старался добиться хоть капли, пока не сбил. Я набрала на кухне воды, сунула поилку в подставку. Котя сейчас же припал к железной трубочке и пил, пил без отрыва, делая частые гулкие глотки. Надо же, даже у таких зверят слышны глотки. Сколько же времени он прожил на сухом пайке? Стружка была засыпана коричневыми горошинами, пропитана Котиной мочой. Я принесла с кухни пакеты, веник с совком, но тут вернулась из школы Дина.
Мы сразу же отпустили няню. После объятий и болтовни за обедом пошли к Коте, и я спросила наконец, давно ли Дина в последний раз наливала ему воды. Вчера, кажется… Но корм я ему всё время сыпала, мам. Только он его особенно и не ест.
Я вдыхаю поглубже.
– Знаешь, любить кролика, – стараюсь подбирать слова, но получается почему-то всё равно глупо, – любить кролика, ладно не кролика, любить любое живое существо это значит не только играть с ним, это заботиться. И если ты не нальешь Коте воды, не уберешь клетку, он …
– Знаю, – мрачнеет Динь, – умрет. Но я не могу убирать.
– Но ты же убирала раньше, и вместе мы убирались уже столько раз!
– Вместе да, а когда я одна, я не могу! – Динь чуть не плачет. – Саша вон где, тебя никогда нет, а папа…
– Да-да, я поняла, ну давай хотя бы сейчас.
Сажаю Котю в переноску, и мы начинаем уборку. Когда дно клетки засыпано новой, пахнущей свежим деревом стружкой, у поилки меж прутьев вставлен клок сена, вынимаю Котю из переноски, крепко сжав ему задние лапы, прижимаю к себе, как тогда, помнишь, во время грозы? Котя покоряется, но почти сразу моему животу делается тепло и мокро, а Дине смешно.
7
На следующий день после моего приезда Котя заболел. Словно ждал, хитрая скотинка.
Не притрагивался к пище, хотя по-прежнему много пил, и вместо твердых какашек выдавал теперь жуткие черные капли. Белоснежная Котина попа к вечеру сделалась темно-желтой. Даже любимый белый хвостик пожелтел и поник.
Я вызвала ветеринаров из второй в строчке поиска ветклиники с убойным названием “Зайка”, но выводком положительных отзывов на жердочке сайта; среди тех, кого эта клиника соглашалась лечить, значилось: “кролики и грызуны”, а также “выезд на дом”.
В означенный час на дом явились двое: крепкая белокурая женщина, из светлой завеси кудряшек выступало красноватое, точно обветренное лицо, и ее помощник, наголо стриженный ясноглазый и совсем молодой человек по имени Володя. Сняв пальто и надев бахилы, Володя облачился в клеенчатый фартук цвета зеленки, надел перчатки, в голове у меня сейчас же замелькало – гестаповцы! пытки! Динь сразу же забилась в свою комнату и не выходила. Но гестаповцы вели себя пристойно, Володя крепко держал Котю, фрау, отдув с глаз кудряшки, аккуратно мяла котин животик и вскоре сообщила: “Съела что-то не то, увеличена печень, но сейчас уже всё позади”. Съела? Это девочка, вы не видите? Я наконец увидела – Котя впервые лежал передо мной лапками вверх. После осмотра ему, то есть ей вымыли специальным звериным шампунем попу, промокнули выданным мной кухонным полотенцем, остригли ногти, повелели побольше двигаться, чаще отпускать Котю гулять по квартире, капать вот эти целебные капельки в воду, которую он пьет (выдан был пузырек), и, наконец, выписали чек стоимостью в восемь Коть. После чего сотрудники ветклиники “Зайка” отбыли прочь.
Мы с Диной купили четыре метра прозрачной пленки в магазине садовых принадлежностей, застелили Сашину кровать, кресло, начали выпускать Котю погулять. Котя носился по полу и кровати, смешно подпрыгивал, меняя траекторию и сбивая неведомых хищников со следа – мы так и не переучились, всё равно считали его мальчиком. Резвясь, Котя ронял мелкие темные камешки и поливал желтой жидкостью все доступные ему поверхности, но потом неизменно забирался за кресло (возможно, этот закуток напоминал ему нору) и стихал. Мы с Динь загоняли Котю обратно в клетку, подтирали лужи, сметали горошины в совок. Костя по-прежнему смотрел на всё это без всякого сочувствия.
Я снова уезжала, а вернувшись, заставала всё то же: полузаброшенного Котю, растерянную Женю и честно соблюдающего обет “ни ногой, ни рукой” Костю. В квартире уже не приятно попахивало зверем, а воняло. На ручки Котя всё так же не шел, а стоило протянуть к нему руку – бросался на нее с непонятной яростью. Таким образом главное, для чего он был взят, быть мягким и пушистым, родным и милым, он и не собирался исполнять. После очередной долгой уборки Женя проговорила неизбежное, робко, но ясно: “Давай его кому-нибудь отдадим”. Откликнуться ненавистным “мы в ответе за тех” у меня не хватило духа – это же я в вечном отъезде, это я купила Котю, значит, я и в ответе, не говоря о том, что Котю мы вовсе не приручили.
Я начала обзванивать знакомых, директора детского дома, учителя биологии и зоологии, учителей рисования, которых среди моих друзей было больше других. Каждому я рассказывала о пушистом уютном Коте, терапевтической роли животных в воспитании юного поколения, лепетала что-то про “живой уголок”, но всякий раз натыкалась на отказ. Справки, проверки – выяснилось, что поселить животных в казенном доме не так-то просто.
Спасение явилось откуда не ждали. Риточка. Моя любимая тетушка, мастерица вязать младенческие чепчики, варежки и шапки, лучший на свете пекарь пицц и рогаликов, но главное, обожательница зверей. Заглянув однажды в мое отсутствие к нам, она зашла и к Коте. Тот, как сообщила мне потом Динь, вопреки обыкновению дал себя погладить. Не цапнул, напротив, прижался к ее руке. Зверолюбивое Риточкино сердце дрогнуло. У нее уже жил дома пудель Боня. Где один, там и второй. Рита спросила, не будем ли мы возражать. Нет, мы не возражали.
В ближайшие же выходные состоялся исход Коти из нашего дома и генеральная уборка в комнате Саши.
8
Первое, что сделала Рита, – переименовала Котю, вернув ему женский пол. Теперь кролика звали Мотя.
Она и ведать не ведала, что Мотя было моим ненавистным школьным прозвищем, выведенным одноклассниками из моей фамилии Мотина (это была фамилия папы, Риточка с мамой, носившие фамилию Илюшины, подобных проблем не знали). Забавно, что и моим давним, еще в середине 1990-х состоявшимся книжным дебютом стали иллюстрации и дизайн к сборнику юморесок “Тётя Мотя, куда прёте?” И вот теперь Богу снова оказалось угодно кинуть в меня солнечным зайчиком своей иронии. Оставалось только криво усмехаться в ответ. Сашина комната окончательно опустела.
9
Спустя еще несколько месяцев, уже поздней осенью, я отправилась к Риточке завезти сырную коллекцию из очередной поездки. Рита встретила меня с Котей на руках. Мотей. Боня для приличия приветственно потявкал, а Мотя мирно сидела у Риты, глядя на меня равнодушным неузнающим взглядом. В уютном тетушкином доме с моими полудетскими цветными картинками на светлых обоях коридора пахло только свежеиспеченной пиццей. В углу в коридоре на газетке приютился Мотин лоток, пустой. Рита спустила Мотю с рук, но та не ускакала и начала тереться о ее ноги.
– Риточка, что ты наделала?
– Что такое?
– Ты превратила кролика в кошку!
Рита улыбнулась: да ничего подобного.
– Иди-иди, – она слегка подтолкнула Мотю, и та поскакала в большую комнату.
– Там же… там же ковер!
– Ну и что? У меня она ходит только в лоток. Больше нигде и никогда, в клетке вон вторую неделю никак не поменяю стружку.
Я заглядываю в стоявшую в комнате клетку – стружка примята, но девственно чиста, ни желтой капельки, ни какашечки.
– Риточка! Как тебе удалось? Что ты делала с Мотей? Била, дрессировала, наняла тренера? У нас она ходила только в клетку, нет, не только, повсюду, где оказывалась, и никогда, никогда в лоток! Ты гений зоологических наук.
– Ничего я не делала, – Рита пожимает плечами и слегка улыбается моим неуклюжим шуткам. – Чайку попьешь?
Мотя сигает по ковру, аккуратно обскакивая стоявший у балкона на полу горшок с высокой косматой араукарией, медлит возле торшера и второго горшка, с пальмой – да, Риточка еще и садовница, прыгает в коридор, мимо меня, заскакивает в открытую дверцу клетки – перехватить сенца, глотнуть воды.
Я сажусь на корточки, тянусь к Моте, но едва успеваю опустить ладонь в мягкую шерсть, как она отпрыгивает. Тогда я просто фотографирую ее на мобильный с разных ракурсов: круглый подвижный нос, черные очки на глазах, розовые уши, знакомый хвостик – за эти месяцы зайка заметно подрос и уже едва умещался в любимом закутке клетки под дощечкой. Заодно снимаю и зеленый сад на подоконнике. Бальзамин обсыпан круглыми розовыми цветками, на другом неведомом растении к веточке жмется вытянутый красный бутон. Здесь же стоит круглая железная коробка из-под печенья с пророщенной зеленой травкой – для Моти.
Чему удивляться: с людьми, у которых дома цветут бальзамины и колосятся араукарии, которые растят для кроликов газон, умеют вязать чепчики крючком, а шарфы на спицах, шить штанишки для игрушечных медведей и платья для настоящих маленьких девочек, печь рогалики, мариновать грибы и солить огурцы, звери заодно. Эти люди знают звериный язык. Они и Риточка живут там, где по-прежнему рисуют простым карандашом в блокнотах, где шуршат страницами книг, долго и тщательно вымешивают тесто, пришивают пуговицы и обметывают петли, где по голубой небесной реке плывут не виртуальные клауды, а белые слоны, жирафы и черепахи, где по составу воздуха и направлению ветра определяют погоду на завтра. Риточка умела и это. Здесь всё еще можно помять, потрогать, понюхать, потому что здешний мир шершав, мохнат, ворсист, в рубчик и пупырышек, словом, сотворен из материи и оттого волшебно осязаем.
– Ириша, Мотя, готово, идите! – Рита зовет нас на кухню, Мотя крупно скачет, вот и на имя свое она научилась отзываться. Я шагаю вслед, меня угостят пиццей, Мотю свежей травой.
– Кстати, – говорит Риточка за чаем, – поможешь мне завести аккаунт в фейсбуке? Буду выкладывать фотографии Моти.
Марина Попова Брильянтовый Педро
Была в нем злоба и свобода, Был клюв его как пламя ал, И за мои четыре года Меня он остро презирал. Н. ГумилевВ надежном месте спрятана у меня маленькая шкатулка для драгоценностей с подбитым бархатом дном. В прорезь ткани вставлено одно-единственное кольцо, отраженное многократно в зеркальных стенках. В окружении мелких брильянтов высится бирюзовый камень. Это кольцо связывает нынешнее мое присутствие на берегах реки Святого Лаврентия с Быковкой – невзрачным притоком Москва-реки.
У супружеской пары скульптора Сергея Николаевича Попова и его жены Нины Александровны своих детей не было, а воспитывали они троих племянников – детей врагов народа, среди которых была и моя будущая мама. По их желанию племянники обращались к ним просто по имени или называли “тетка”, “дядька”, что перешло к следующим поколениям. Жили они в самом центре на улице Горького недалеко от метро “Маяковская”.
Оба были ярыми защитниками животных, поэтому в квартире обитало несметное количество зверей – постоянных и временных в ожидании “хороших рук”: одна-две приблудные дворняги, пять-семь кошек и всегда боксер, купленный у лучших заводчиков. Умирал один, сразу покупался другой. Последний на моей памяти боксер Чандр обучался в школе, которую закончил с золотой медалью за старание и внешние данные! Их по достоинству оценила живущая напротив Майя Плисецкая. Воспитанный в творческой среде, Чандр тоже был большим эстетом. Он красовался перед великой балериной, демонстрируя себя в профиль и анфас, хвастался красным заграничным ошейником с золотыми пуговицами, тыкался своей бархатной мордой в ее ладони.
Однажды в квартире появился слепой сурок, отслуживший в цирке и списанный на пенсию. Ничто не напоминало в нем симпатичного бетховенского сурка: “по разным странам я бродил и мой сурок со мною”. Это был облезлый и злой зверь с двумя длинными желтыми зубами. Он блуждал по квартире, натыкался на антикварную мебель и время от времени точил об нее зубы. Его опасались и не любили, и только тетка привязалась к нему, а уж он в ней души не чаял – просился на ручки, вереща при этом как резаный.
По хозяйству помогала домработница Валька, которая попала к Поповым во времена большого террора, когда дом уже был полон детей и зверей. Маленькая, сухая, сильно хромающая, она передвигалась со скоростью, как сказали бы сейчас, электровеника. Она называла хозяев “бары”, говорила им “ты” и преданна была как в старых русских романах. Но даже ее не хватало на такое большое хозяйство, и вечером собак часто выводила Юля-лемешистка из Воротниковского переулка. (В те времена в Москве за великих теноров Сергея Лемешева и Ивана Козловского воевали между собой две группировки – лемешистки и козловитянки. Бывало, после спектакля на площади Большого театра возникали потасовки. Часто драки фанаток разнимала милиция.)
В шестидесятые годы Поповы на почве собаководства сошлись со знаменитым кукольником Сергеем Владимировичем Образцовым и его женой Ольгой Александровной. На двери кабинета Сергея Владимировича в Глинищевском переулке висел написанный от руки плакат: “Тише, бабы и звери, хозяин работает!”
Ольга Александровна Образцова и “тетка” Нина Александровна стали председателями клуба по охране животных. Ох и доставалось от них многим, кто не уважал их прав – Тарковскому за поджог коровы в “Андрее Рублеве”, Бондарчуку за подрезку лошадей в батальных сценах “Войны и мира”, московскому цирку за жестокие дрессировки…
А с приближением летних каникул у защитников животных начиналась весенняя страда. Школьные живые уголки, грозящие стать летом прямой их противоположностью, развозили по дачам к сочувствующим доброхотам. Вся организация и ответственность ложилась на председательниц клуба.
Раннее ликующее утро субботы – день переезда на дачу! Одну за другой Валька подтаскивает к лифту клетки с кошками, сурком и трехногой белкой. (Из года в год набор слегка менялся.) У подъезда уже ждет грузовик, шофер внизу перехватывает клетки и выносит на улицу. Умытый поливальными машинами асфальт нестерпимо блестит на солнце, отчего у кошек сразу сужаются глаза. Выходные только начинаются, у прохожих прекрасное настроение, они задерживаются у клеток и радостно комментируют наш переезд, словно переезжает целый цирк. На какое-то время на главной улице столицы образуется затор. Из машин выглядывают люди, приветствуя нас гудками клаксонов. Дядька в летней шляпе с Чандром на шикарном поводке командует парадом. Кузов постепенно заполняется раскладушками, дачным барахлом, дядькиной глиной, мешками с гипсом и прочим, часть пространства остается свободной для живых уголков. Подъезжает наш “москвич” с шофером (дядька сам не водит). Валька помогает устроиться на заднем сиденье королевишне Нине Александровне – даме полной, привлекательной, с уложенными по-старинному волосами, с бирюзовыми серьгами под цвет глаз. На колени к ней усаживают дворняг, Чандр располагается рядом, машина трогается. Дядька прыгает в кабину грузовика, Валька – в кузов.
В тот год я тоже напросилась в кузов. Начинается объезд московских школ. Нарядная дама в креп-жоржетовом платье машет нам из окна троллейбуса. Валька цыкает на разоравшихся кошек, а я ложусь на замотанный в старую простыню матрас. На фоне неба проплывают балконы, верхние этажи, лепнина на домах, луковицы колоколен, верхушки деревьев с еще весенними листьями.
Из школы на Зубовской мы забираем испанского бойцового петуха с двумя отечественными курицами. Я думала о нем накануне, каков он будет этот испанец, на кого похож – на экспрессионистическое изображение у Пикассо или романтическое у Шагала? (Не так давно я открыла для себя этих художников.) А может, на иллюстрации Билибина к “Сказке о царе Салтане”?! Возле школы на тротуаре нас уже ждут. Петух оказался двухмерным рыжеватым шкетом – любой крестьянский петух дал бы ему фору. Почувствовав мое разочарование, он всю дорогу презрительно косит на меня глазом, в профиль напоминая египетские изображения. Наш испанец сразу выходит из себя, злобно кукарекает и кидается на прутья, вероятно решив, что кошки, Валька и я – это данность, а новых он не потерпит!
О деятельности нашей семьи знали многие, поэтому на участке нас часто поджидали сюрпризы. Например, привязанная к дереву брошенная собака. Бездомные кошки поджидали нас, с присущей им интуицией понимая, что именно здесь их ждет “и стол и дом”. А вот что привело галку с поломанной ногой и почему она легко далась в руки, я не знаю; разве что слышала про доктора Айболита. Дядька наложил ей шину и посадил в клетку. Поправившись, она улетела, но всё лето кружила поблизости и на зов: “Галя, Галя” быстро прилетала, оповещая всех о своем прибытии звонким, радостным криком.
На калитках почти всех дач висело предупреждение: “Осторожно, во дворе злая собака”. Была ли собака злая и была ли она вообще, оставалось на совести хозяев. Наш же невзрачный, но высокомерный бойцовский петух оказался хуже любой собаки. Он презирал всех, даже дядьку, которого уважали и люди, и звери. Даже кормившую его Вальку не считал за человека. Послабление делал только Нине Александровне.
Хуже всех отношения с Педро, как назвал его дядька, или Крошкой Цахесом, как величала его тетка, сложились у меня. Обычно свой гарем он пас вблизи деревянной уборной, так что наша встреча несколько раз на день была неминуемой. Вооружась палкой и опасливо озираясь, я продвигалась к домику. В момент, когда казалось, что опасность миновала, Крошка кидался ко мне и больно клевал в незащищенную пятку. Я оборонялась, но плевать ему было на палку… Даже жалкий мой подхалимаж, совершенный однажды при помощи проса, был презрительно отвергнут. Нет, просо-то он склевал, но тут же догнал меня и клюнул. Его амбиции и желание покрасоваться перед своими наседками доводили меня до бешенства.
Однажды мы сидели с Ниной Александровной в шезлонгах на лысой поляне позади дома, где работал Сергей Николаевич и среди высоких табуретов с незаконченными скульптурами прогуливался петух с курицами. Валька готовилась к вечернему чаепитию: колдовала над самоваром, подбрасывала валяющиеся тут же шишки и, орудуя валенком, подбавляла тяги. Тетка рассказывала мне о своем девичьем романе, случившимся еще до Первой мировой войны. (В тот год я окончила школу, и мне кажется, она затеяла этот романтический разговор с целью подготовить меня к взрослой студенческой жизни.)
В молодости она жила в Туле, куда однажды прилетел германский летчик на собственном самолете – большая редкость по тем временам! Влюбился он в очаровательную девушку с густыми пепельными волосами с первого взгляда.
Я увидела, как побледнел дядька, замерев с резцом в руке. А раскрасневшаяся тетка, ничего не замечая, продолжала:
– Он кружился в своем аэроплане над нашей усадьбой и бросал цветы. Пыль в глаза пускал, – добавила она.
После этого последовало предложение руки и сердца. Но тетка, недолюбливавшая все иноземное, замуж за него не пошла. И правильно сделала – жених оказался не тем, за кого себя выдавал.
На этих словах рыжий Педро взметнулся к ней на колени, оттуда на плечо и нежно стал поклевывать ей ухо. Тетка к домашней птице, из которой, сколько земля стоит, варили суп, большого уважения не испытывала. Она попыталась его смахнуть, но когти запутались в волосах, наконец ей удалось сбросить его на землю, и он, отряхнувшись, потрусил к своим курицам. Я пульнула ему вслед шишкой, а тетка продолжала…
Обескураженный отказом, летчик вернулся в Германию, а вскоре началась война. Она стала сестрой милосердия. Однажды, сопровождая раненых в Петербург, она встретила его в поезде. Он сделал вид, что не узнал ее, и вышел на следующей же станции. Больше она его никогда не видела.
Лучи вечернего солнца освещали высокие стволы сосен, скользили по ее лицу, в ушах вспыхивали мелкие брильянтики. Я слушала как завороженная, и сквозь силуэт восьмидесятилетней всё еще привлекательной женщины проступали черты медсестры с бирюзовыми глазами.
– Конечно, он был германским шпионом, – заключила тетка. – У меня нет в этом никакого сомнения!
И тут, вероятно, в отместку за брошенную в него шишку петух взлетел на спинку шезлонга и пребольно клюнул меня прямо в темя.
Я вскочила и понеслась в дом, но он преследовал меня. Вбежав в спальню, я захлопнула перед ним дверь, а он хлопал крыльями и кукарекал, призывая всех в свидетели моего позора! Я всерьез ненавидела крошку Педро, хотя отдавала должное его бойцовским качествам, его высокомерной отваге и независимому характеру. Из макушки моей сочилась кровь, а в голове стучало:
– На жаркое! Марш на петушиное жилистое и костлявое жаркое!
Вечером за чаем тетка спохватилась, что пропала одна серьга. Та самая бирюзовая, окруженная хороводом мелких брильянтов! Чаепитие было прервано. Пробурчав “бабы дуры”, дядька ушел наверх ловить вражьи голоса на своей “Спидоле”: был август 1968 года. А мы начали поиски, которые длились всю ночь и весь день с небольшими перерывами. Пока тетка перетряхивала свой гардероб, пледы и постельное белье, мы с Валькой, вооружившись фонариками, вышли в сад. Свет луны освещал замотанные тряпками изваяния с ощетинившимися каркасами. Ближе к рассвету мы вспомнили инцидент с Педро.
– Гляди, Алесандровна, даром что шпанец твой петух, а пасть у него не меньше вороньей! Он и заглотил! – уговаривала расстроенную тетку Валька. Чуть рассвело, она пробралась в сарай, схватила сонного еще петуха и засадила в клетку, “чтоб не раскидывал помет где попало”. Ощупала жилистое его тело, поприжала потроха, но серьга не прощупывалась.
– Бульон из него надо сварить! – подытожила она. Ее никто не поддержал – во всяком случае, вслух.
Это происшествие стало достоянием всего дачного поселка и главным событием сезона. Из оставшейся серьги московский ювелир сделал кольцо. Тетка носила его, не снимая, до самой смерти и завещала мне.
На берегах пролива святого Лаврентия в Монреале живет моя дачная подруга. С шести лет мы дружили с ней через невысокий забор, что разделял наши участки. Она боялась собак, и стоило к забору приблизиться очередному боксеру или безобидной дворняге, девчонка убегала. Она вообще многого тогда боялась, но позже переросла детские страхи, и в начале девяностых не боялась даже бандитов, для которых в ящике стола в офисе был припасен револьвер, кстати, заряженный.
Стоит мне надеть теткино кольцо, у нее срабатывает условный рефлекс и она заводит песню “а помнишь…”. То посетует, что крыжовника в Канаде не найти, то сосен ей не хватает для счастья, то парного молока, то запаха керосина, который мы таскали в бидонах из поселка Раменское, то припомнит, как петух проглотил серьгу…
Пока она говорит, возникают очертания дачи, запахи сада после дождя, и я вспоминаю шкета Педро, собак и кошек, которых хромоногая Валька уютно созывала по вечерам: Малявка-Малявка, Васька-Васька, Мурка-Мурка…
И всё же сомнения не оставляют меня. По силам ли петуху проглотить серьгу? Не ждет ли она своего часа где-нибудь под вздувшимися корнями сосен? Не замешана ли в эту историю обаятельная Галка, которая крутилась поблизости в тот день? Нет ответа!
Елена Колина Назову тебя Негодяем
Эти посты мы с котом публиковали, когда еще не были друзьями в фейсбуке и не могли видеть записи друг друга.
Все комментарии к моим постам опущены. Комментарии к постам кота приведены выборочно. Если вы с котом друзья или же вы его подписчики на ФБ, но не видите здесь своего комментария к постам, просьба не обижаться.
Пост от 30 ноября 2017 г.
Елена Колина
Сегодня купили кота Матвея. Назвали Котом.
Немного волнуюсь, если честно, довольно сильно волнуюсь: у меня ведь всегда были собаки. Пудель, ризеншнауцер, боксер и сейчас Пудель. Кошка у нас была, ее нашел мой муж, она жила с нами 15 лет, но мы с ней друг друга не замечали: в большой квартире можно ходить разными тропами, к примеру, она часами сидела на буфете на кухне, а я никогда не сидела на буфете на кухне.
Почему мы купили кота? Я в гостях видела британского кота, он был такой красивый, особенный, важный, голубой. Я захотела голубого британского кота, и мы его купили… Этот кот – подарок мне на день рождения.
Я пока не понимаю, как с ним обращаться, главное, я не понимаю, сколько ему нужно внимания?
Почему он не хочет, чтобы его брали на руки? Почему выпускает когти? Мне казалось, что коты должны урчать и ласкаться, разве нет? Почему он не дает себя погладить? И если это для него не внимание, то что же тогда внимание?
Мои чувства к Коту.
Робость, я не знаю, доволен ли он. Умиление: я всё время им любуюсь. Как, оказывается, хорошо быть красивым котом: тебя полюбят лишь за то, что ты хорошенький.
Пока так.
147 лайков 3 перепоста
Пост от 1 декабря 2017 г.
Кот Матвей
Я дома.
Дом неплохой. Можно сказать, мне повезло, могло быть куда хуже. Огромная квартира. Особенно после той, где я родился, где было две крошечные комнатки (а еще называют себя питомником!), прямо огромная: коридор такой, что можно ездить на велосипеде задом наперед, много комнат, я пока был не во всех, в кабинет и гостиную меня не пускают, наверное, опасаются, что я по столам стану бегать и кресла подеру. Есть там одно бархатное розовое, манит меня своей красотой.
Вся жизнь в доме проходит на кухне: там меня кормят. Мисочки мои дорогие, любимые мои, поставили сначала у камина, потом переставили на подоконник, потому что внизу имеется собака, глупый Пудель. Пудель – понятливый старикашка, я дал ему по морде пару раз легонько, он понял, кто главный.
О Пуделе, если честно, вообще нечего говорить: безобидное существо без намека на интеллект и характер. Но мисочки мои дорогие пришлось переставить на подоконник, да это и хорошо: меня нервирует, когда кто-то смотрит на мою еду, а Пудель смотрит.
С туалетом так: из кухни есть специальный проход на черный ход, в комнату, где у них швабра, пылесос, ведра, гладильная доска, и тут же они поставили мой лоток. Не уверен. Ну пока так, а там посмотрим.
О людях, которые у меня живут, расскажу в следующем посте.
Нет, все-таки самое важное скажу сейчас: нужно пролезть в проход, пройти около полуметра по темному пространству под раковиной – и попадаешь в комнату с моим лотком. Они, эти люди, говорят: “Ха-ха, у нашего кота собственный туалет”. Комната и правда неплохого размера и хорошей формы, можно было бы считать ее личным туалетом, но ведь это неправда! Это будет самообман. Это хозяйственная комната. Почему я должен ходить в туалет в одиночестве и в подсобном помещении?!
2 лайка 3 комментария
Надежда Васильева
Не хотите попробовать туалет-домик? У нашей кошки туалет-домик, ей очень нравится. Раньше мы ее лоток ставили в ванной, но иногда была закрыта дверь, а кошка ненавидит, когда дверь закрыта. Теперь туалет-домик поставили на кухне, она очень довольна. Попробуйте, возможно, Вам понравится.
Кошка Алиса
Рада, что у Вас уютный дом, но вообще, всё, что делает нас счастливыми на всю жизнь (или надолго), находится внутри нас: умиротворение, здоровая самооценка, душевный покой. А не квадратные метры жилплощади. Не сочтите за зависть.
Пост от 3 декабря 2017 г.
Кот Матвей
О чем я думаю, дорогой фейсбук? Я думаю, как жить-то с ней буду? Коту с котом трудно.
Пора рассказать тебе о людях, которые у меня живут. О ней и о нем.
Я придерживаюсь концепции, что люди делятся на собак и котов. Собаки – это те, кто служит, выполняет работу, ухаживает, спасает мир, чистит метафизический лоток. Это не она. Ни фига не служит, не ухаживает, ждет, пока почистят метафизический лоток. Она – кот. Кот из котов! Красуется. Бездельничает. Мурлыкает, думает, очень обаятельно получается… хаха! Уверена, что все должны ее любить, а она помяукает и выберет, кто ее лучше любит. Вообще думает только о себе. Свое хорошее отношение считает подарком. Ага, подарок, как же! Так и хочется сказать: “Кто ты вообще такая?! Думаешь, ты тут самая пушистая?..”
Насчет ее красоты не уверен. Есть в этом доме и покрасивей, и попушистей, и моложе. Про ум ничего не скажу, ум есть – она что-то всё время пишет, – но характер плохой, дрянь характер. Она вот прямо как кот, ждет, когда покормят. Утром поднос в постель, не слабо, да? На подносе, как правило, овсянка, яблоко и чай. Если бы я имел такие возможности, я бы… ого-го!
Ну что я еще могу о ней сказать: мы еще поглядим, кто здесь самый пушистый.
Теперь о нем. Он, понятное дело, собака, раз она кот. Иначе как бы они жили? Он приходит с работы, уставши, а она ему с дивана: “Что принес?” Что принес? Ну обычно так: еду принес, деньги принес, корм принес, наполнитель для лотка принес, собаченька моя хорошая.
А он, знаете ли, не просто по обязанности меня обслуживает! Он наполнитель меняет: то древесный принесет, то комкующийся, и по размеру гранул смотрит, какой мне понравится. Один раз гипоаллергенный притащил, но как раз это мне неважно, у меня аллергии нет.
А как он кормит меня! Она-то – раз и сыпанет корма, ей безразлично, не мало ли мне. А он, милый! Весы завел специально для меня. Каждый раз взвешивает порцию, чтобы меня кормить, чтобы я правильно рос и развивался. Подождет, пока я поем, полюбуется на меня и говорит ласково: “Ну, ты сыт, негодяй?..” Днем звонит ей, напоминает: “Я там пакетик приготовил, тебе не трудно этому негодяю дать?”
Он, кстати, как входит в дом, так сразу про меня: “Кота кормила?” или “Ну что, этот негодяй ел?”
А она ему: “Ах, как я устала…целый день работала!” А сама целый день на диване пролежала и чего-то там в компьютере. И тут же ему: “В гости пойдем, или в театр, или в кино?” Тьфу! Какой ему театр, кино какое? Ему бы на диване полежать. Другой бы как дал ей, а он лоток мой вычистит, меня покормит и с ней тащится.
Робкий и по-настоящему хороший человек. Если бы я выбирал себе слугу, я выбрал бы его из всех слуг мира. Ну он мне и достался.
11 лайков 1 перепост
Нина Гинзбург
Телефон мужчины дайте!
Кот Тимофей
И мне!
Александр Колбовский
Завидую Вам… белой завистью.
Кошка Мура
Стремление помочь, взять всё на себя часто скрывает желание контролировать. Это не случай вашего хозяина? Мне лично иногда хочется скрыться от чужой добродетели.
Новелла Иванова
Ваша “она” полностью принимает себя. Безоговорочное принятие себя – это квант добра, излучаемый в мироздание. Если Вам захочется упрекнуть ее в эгоизме, просто улыбнитесь и приготовьте вам обоим по чашке чая. Отвечайте любовью на любовь и нелюбовь, и да будет мир во всем мире.
Кошка Ариша
Тьфу! А кто вам туалет моет, любитель добра?!
Пост от 15 декабря 2017 г.
Кот Матвей
Мой дорогой фейсбук, я думаю, как же это несправедливо! Как ужасно несправедливо! Любят-то котов. Собаки предназначены для трудов, а для любви – коты. И я себя ловлю на ужасном, несправедливом отношении…
Было так: я утром к ней на кровать прилег. В ногах, конечно, я близко не подхожу.
И тут он входит. Мы с ним до того уже виделись: он мне корма насыпал, потом лоток вычистил, потом подумал и еще сливок налил, потом еще кое-что за мной убрал, – и вот он входит. А тут я сижу. Он обрадовался и руку протягивает меня погладить.
А я ему – раз лапой! По руке, по руке, чтобы не протягивал! Ну и расцарапал, конечно.
Прямо не знаю, что со мной случилось. Мне даже неловко стало. Он для меня всё, а его лапой.
…Он видно, что расстроился, она его утешает: “Вот какая дрянь неблагодарная! Негодяй, а не кот!” И тут же схватила меня на руки – меня! на руки! – погладила и говорит: “Ах ты негодяй кошачий, я тебя сейчас сама поцарапаю!” и нагло так за ухом почесала. Задумалась, чешет и чешет. И я что? – да ничего, мяукнул. Что-то в ней такое есть, обаяние порока…
А добродетель-то осталась наказанной… Я имею в виду, что у него рука расцарапана. В этом трагическая несправедливость жизни: кто чистит лоток и кормит, тому лапой, а кто ленив и нагл и у кого еды не допросишься – тому чувства…
Меня зовут Негодяй, какое красивое имя. А ее… я мог бы называть ее Негодяйкой. Негодяй и Негодяйка. Красиво.
Пост от 23 декабря 2017 г.
Елена Колина
Извините, что перед Новым годом, но у нас неприятности! С нашим котом всё было хорошо, и вдруг он начал ходить в туалет не на месте. Представьте все подробности и детали. Представили? Все же понимают, как это неприятно?
Пожалуйста, помогите, очень нужен совет!
Если кот ходит в туалет не на месте, что это означает?!
– так поступают все (но это не так)
– его нужно наказывать (но котов не наказывают, это бесполезно)
– ему нужен другой туалет
– ему нужны другие хозяева
– вот такой уж он кот, ничего не поделаешь
– это не кот, а сволочь
Скажите мне, в чем дело?! Если вы скажете, что это нормально, я смирюсь.
Пост от 23 декабря 2017 г.
Кот Матвей
Я перестал пользоваться своим туалетом. Угадайте, почему!
1,2 тыс лайков 101 комментарий 72 перепоста
Олеся Кострова
Вас беспокоит здоровье, иногда так протекает почечная инфекция. Проверьтесь!
Кошка Марта
Вы сволочь.
Елена Цветкова
Вам что-то не нравится на черном ходу, запахи химикатов или там кто-то курит.
Кот Максик
На месте вашего хозяина я бы поговорил бы с вами по-мужски. И вы сразу всё поймете!
Алина Краснова
Вы это делаете из принципа. Вы мстите кому-то?
Дмитрий Закс
Попробуйте поменять место. Переставьте лоток с черного хода в место, которое Вам нравится.
Юрий Кузьмин
Возможно, Вам нужен лоток побольше, в первом Вам не хватает места? Угадал?
Кот Матвей
Никто не угадал, особенно Кошка Марта.
Зачем я это делаю? Внимание, правильный ответ! ЧТОБЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ!
За что они меня любят? За пушистость? Да, конечно, но на одной пушистости далеко не уедешь.
Пушистости недостаточно. Внимание, секрет! ЧТОБЫ ТЕБЯ ЛЮБИЛИ, НУЖНО ДОСТАВЛЯТЬ НЕПРИЯТНОСТИ! Чтобы тебя любили, нужно писать не на месте. Это не парадокс. И не желание заработать лайки и перепосты. Хотя, не скрою, после предыдущего поста у меня появились добрые три сотни подписчиков. Если быть точным, 298.
2,1 тыс лайков 210 комментариев 111 перепостов
Пост от 1 января 2018 г.
Елена Колина
Простите, но это опять я со своим котом. Кот по-прежнему на плохом счету.
Утро – каждое утро! – начинается с крика: “Иди сюда! Скорей! Посмотри, кто это сделал, Кот или Пудель!” Это я кричу и прошу мужа, чтобы он пришел на кухню и посмотрел на лужу у камина.
Дальше, если закрыть глаза, можно представить, что ты в операционной:
– Подай очки! Таз! Тряпка! Дезинфецирующий раствор! Да не тот! Этот! Марлю!
После всех манипуляций звучит ответ, кто сделал данную лужу, Кот или Пудель. Если Кот, мы расстраиваемся и говорим друг другу: “Это еще не точно”, потому что если это Кот, то его не перевоспитаешь, а жить с этим вот… сами понимаете, запах, – и придется с ним расставаться, а мы его полюбили. Если Пудель, мы воодушевляемся – потому что это не Кот. И можно с ним не расставаться и дальше его любить. Пуделю-то всё прощается, потому что он немолод.
Вот так каждое утро нас кидает от горечи, что это Кот, к радости, что это не Кот, от отчаяния к восторгу, от печали к счастью – и да, всё это с утра.
Но Кот, британский, голубой, за что он с нами так?! А может быть, в этом нет ничего личного и он так себя ведет, потому что он негодяй, а не кот?..
Сегодня первое утро Нового года, а у нас всё то же…
Да, лоток уже убран с черного хода и стоит на кухне у камина, на самом видном месте. Я не терплю, когда такие вещи на виду, швабры всякие, ведра, лотки, им место на черном ходу. Но я поставила лоток на самом видном месте и заглядываю туда с надеждой… я была бы счастлива, если бы… но нет, ничего…
Помогите, а?
Пост от 4 января 2018 г.
Кот Матвей
Я “исправился” сегодня, в семь утра. Нигде в мире нет столько счастья, как в моем доме! Я знаю, Негодяйка уже почти любит меня: налила из своей чашки ряженки. То есть хотела налить и забыла.
Дома ликование. С утра до вечера возносят хвалу Кошачьему Разуму! Видимо, даже в самых смелых своих мечтах они не могли представить себе, что я вновь буду пользоваться лотком!
5,3 тыс лайков 211 комментариев
Анна Матвеева
С возвращением!
Кот Черчилль
Респект! Я в аналогичной ситуации уже не смог вернуться к прежним привычкам.
Пост от 7 января 2018 г.
Кот Матвей
О чем я думаю, дорогой фейсбук? Я думаю, что она недостаточно меня любит. Негодяйка.
Размышляю, есть ли у меня еще какие-нибудь ходы в запасе. Что сделать, чтобы она меня полюбила? Только быстро.
5,7 тыс лайков 876 комментариев 37 перепостов
Александр Миронов
Совершайте добрые поступки.
Пост от 8 января 2018 г.
Елена Колина
Ужасная ночь. Живем на даче в Финляндии, в счастливом единении с Котом. Вчера вечером Кот был пойман в лесу. Вокруг настоящий финский лес, в лесу лоси, зайцы, лисы, еноты.
Кот был пойман, принесен домой – и опять сбежал. Не пришел к ночи, не пришел ночью.
Мы три часа ходили с фонариком, звали его, но в лесу искать бессмысленно, да в него зимой и не зайдешь, это настоящий лес. Вокруг никого, ни души, кроме, конечно, зверей. Они ведь ночью вылезают из нор?
Я не спала до утра, представляла, как бедный Кот мечется по лесу, как на него нападают лесные звери, представляла маленькое растерзанное тельце…а может быть, Кот побежал на озеро, и попал лунку, и утонул?.. Британские коты особенно беспомощны, они на улице не выживают.
Я всю ночь плакала и думала: мне нельзя доверять кота, мне нельзя доверять никого, я должна была посадить его на цепь, не открывать двери, я должна была… я же взрослый человек, а он кот.
Я смотрела форум “Кошка потерялась на даче”, там было написано, что кот может вернуться через месяц. Значит, я буду жить в финском лесу месяц, два, три, сколько написано на форуме…
Я думала: я неправильно живу, я плохой человек, я не смогла правильно полюбить кота: ведь правильно полюбить означает не просто любоваться, какой он красивый, какой он негодяй, правильно полюбить – это принять на себя ответственность, не потерять кота в финском лесу.
Я выходила на крыльцо и кричала в темноту: “Мо-отя!”, “Ко-от!” и “Него-дя-яй!” Я выключала и опять включала свет, и пробовала читать, и считала овец, и всё представляла замерзающего или растерзанного кота, и наконец заснула – и проснулась через час, когда уже светало, с чувством острого горя – а Кот смотрит.
Дверь шкафа приоткрыл и сидит. Смотрит. Всю ночь, пока я плакала и обвиняла себя, он был в шкафу, в тепле и уюте. Негодяй, а не кот.
У вас есть одно сообщение от Кот Матвей
Чтобы ты знала, британские коты – отличные охотники, а также защитники человека, и тяга к приключениям и завоеванию мира в них неистребима.
Сообщение от Елена Колина
Да?! А что же ты в шкафу сидишь, завоеватель?..
У вас есть один запрос на добавление в друзья
Кот Матвей подтвердить
Светлана Мосова Ворона
С раннего утра 4-я линия Васильевского острова оглашалась нечеловеческими криками. Орала ворона, орали мать с ребенком и все, кому выпал жребий идти в этот день по 4-й линии близ реки Смоленки. А дело было вот в чем: завидев прохожего, эта сумасшедшая ворона без объявления войны срывалась с ветки и булыжником летела вниз, в голову пешехода, била по лицу крылами, норовя при этом клювом раздолбать череп несчастного.
Внизу трепыхался выпавший из гнезда ее ребенок.
Нет, эта женщина, державшая за руку свое дитя, как мать, понимала ее – сама мать. Но!
Никто же не посягал на ее вороненка. Однако какое вороне было до этого дело – мозгов же нет. Одни инстинкты. И эти инстинкты велели ей мочить всех. Заблаговременно.
И эта женщина с ребенком, уже пострадавшие от этой ненормальной вороны, приняли сторону человечества. Это выглядело так: двое, мать и дитя (причем дитя попугаем во всем подражало матери), добровольно заступив на пост, при появлении на горизонте прохожего принимались истошно вопить, страшно жестикулируя и указывая в сторону опасной вороны.
– Не идите сюда!..
– Не идите сюда!.. – вторил ребенок.
– Ворона!..
– Вогона!..
– На другую сторону!..
– На дгугую стогону!..
Чего не идите, на какую сторону? – недоумевал народ, глядя на этих чокнутых, и перся, конечно, вперед, тут же получая вороной по башке.
Ни один не внял их предупреждению об опасности.
– Ненормальные!..
Это им и вороне. Человеческая благодарность.
И женщине это надоело, она передумала и взяла сторону вороны, то есть сторону матери, вдруг осознав всю безмерность ее горя и степень отчаяния: малое дитя воронье, беспомощное, глупое, с глазенками, не выросшими еще крылышками, беззащитный ребенок, а мир так опасен, о, мир очень опасен, – женщина это уже знала и даже готова была поговорить об этом с вороной, ну как мать с матерью…
Но вороне было не до разговоров, она моталась туда-сюда, многодетная мать, мать-одиночка, вниз, вверх – там тоже были ее дети – и снова пикировала вниз, в цель, энергично раздавая оплеухи очумевшим прохожим, причем выражение лица у нее было такое: ну иди, иди сюда, гад, зашибу, заклюю, не помилую!
“Она мать – она и права”.
И женщина с ребенком продолжали стоять и орать дурными голосами: “Прочь! прочь!”, но уже беспокоясь не о дураках прохожих, а о нервах вороны, которая была за гранью нервного срыва. “Прочь!” – кричала женщина, чувствуя, что она сама уже немножко ворона (или даже множко)…
Так они и стояли, похожие – женщина с ребенком и ворона с дитя. Охрипшие. Смотрели друг на друга. И понимали.
…Их видели дотемна, эту парочку, женщину с ребенком, хотя можно было уже уходить – причем со спокойным сердцем, потому что было совершенно очевидно, что мать-ворона будет стоять насмерть. Что она сумеет защитить не только свою родину – дерево и свой дом – гнездо, но и улицу, остров и даже всю страну – поручи ей это, проголосуй за нее на выборах…
Павел Крусанов Третий жук
Перерождение человека из трансцендентного субъекта в хуматона, составляющее суть процесса современного антропогенеза, как он описан в работе нашего выдающегося современника “Последний виток прогресса”, характеризуется, в частности, нарастанием в нас градуса бесхитростного умиления. Уже сейчас соцсети утопают в потоке фотографий и видеороликов котиков, енотиков, щеночков и прочих мягких игрушек, а в среде юной поросли из года в год набирает размах идейное веганство и нежное озеленение взглядов. Недалеки те времена, когда из электронных библиотек (бумажных не останется – их и сейчас расценивают как неоправданно затратный и пожароопасный склад макулатуры) начнут изымать книги Сабанеева о рыбной ловле и купировать в романах Толстого сцены охоты. Чтобы не расстраиваться за меньших братиков. Следом по непреклонной логике умиление начнет вводить в сферу сердцещипательного рептилий, гнус и тараканов. Тогда уже и комара, втыкающего хобот в твое тело, трогать не моги. Даже несмотря на то что ныне только редкий прохвост восхитится глистом, вьющим гнездо в кишечном амбаре, или найдет умильным крокодила, особенно когда тот входит в свой бесподобный штопор. А всё потому, что крокодил кожаный, бугристый, не мурлычит, носит глаза на макушке и набит дурными привычками.
Между тем рыбак и охотник любят свою добычу – она воспламеняет их кровь, пробуждает азарт и вызывает трепет сердца. Трепет иной, чем тот, который порождает ролик с котиком, шалеющим от ужаса при виде огурца, – куда более основательный и подлинный. Ведь состязанием наполнена вся наша жизнь во всех ее извивах и форматах. В конце концов, между людьми всё время происходит спор и схватка силы – в этом состязании мы появляемся на свет, и этим поддерживается соразмерность наших связей. Иные основания, увы, работают пока лишь на небесах.
Мне знакомы азарт и толчок горячей крови при виде вальдшнепа и утки. Но куда больший трепет внушают мне жуки. Как так и почему – объяснял не раз и, видимо, еще не раз придется. Ведь они не страшные, а красивые. Пусть и наделены не человеческой красотой. Вглядитесь: они взяли себе все краски творения, они танцуют в воздухе и освещают ночь, они поют и шевелят усами, они меняют тела, чередуют стихии и разговаривают запахами, они делают ж-ж-ж и делают вз-з-зынь, они выживают под танком и гибнут от вздоха, они зачарованно летят на свет и пишут на деревьях прописи. Конечно, они нам не товарищи. Конечно, находятся и среди них иуды, но всё же… Есть такое понятие у художника Филонова – сделанная вещь. Так вот жуки, осы, бабочки и змеи – это сделанные вещи, потому что за счет хитина и чешуи они прекрасны во всех подробностях, даже сквозь увеличительные стекла, а енотик или слюнявый мастиф – нет. Как и человек. Его, человека, детали, все эти поры, волоски и родинки, ужасны – человек проваливается в частностях, поэтому рассматривать его досконально всегда немного стыдно. Оттого, наверно, мы всё время уповаем на какую-то добавочную внутреннюю красоту.
Предупреждая глупые вопросы тех, кто проспал в школе уроки биологии, сообщаю: жуки – не клопы и не тараканы. Примерно по той же причине, по которой маслята – не плесень.
Один из ближайших друзей шутит, что я живу на кладбище. Так и есть – у меня дома собрана (и продолжает пополняться) коллекция жуков. И все они, само собой, мертвы. Два двустворчатых энтомологических шкафа в человеческий рост с застекленными выдвижными коробками стоят в гостиной, в них – высушенные распятыми и наклеенные на плашки жуки. Плашки наколоты на булавки, под каждым жуком этикетка: место поимки, дата, имя ловца. Да еще в кладовке ждут разбора и обработки десятка два контейнеров с уложенным рядами на ватные матрасики сухим материалом. Тысячи жуков. И я их всех люблю. Любил живыми и не расстался с мертвыми. Котики, постарев, ослепнув, облысев, уже не умиляют – когда испустят дух, им место в лучшем случае найдется на пустыре в жалком некрополе прирученных животных. А мои избранники, неприрученные, погибшие в борьбе, – со мной, в прекрасном мавзолее, в братских хрустальных гробах.
Разумеется, чувства, которые даруют эти чудные создания, разновелики. Чемпионы по силе вызванных переживаний – те, кто долго не давался, таился, не шел на ловца. Многие таятся до сих пор. Речь не об экзотах из тридевятых царств, хотя ловил и во Вьетнаме, и в предгорьях Джунгарского и Заилийского Алатау, и на Копетдаге, и в Израиле, и в Чиль-Духтароне, и в Кухистане, и в горном Алтае, и на Кавказе, и в Шиповом лесу, ставил почвенные и пахучие ловушки даже в Андах и в сельве Амазонки. Про Северо-Запад, Центральную Россию, Крым – уже не говорю. Так вот, из тех, с кем я намеренно желал сойтись на поле тихой брани, в долгое состязание вступили три жука. Все из рода Carabus – именно с него я начинал свое знакомство с миром жесткокрылых, ему посвятил первый мавзолей и до сих пор испытываю к представителям этого клана особое пристрастие.
Первый соперник – крымская жужелица. Кто в теме, удивится – о чем разговор? Такой зверь красуется в собрании у каждого коллекционера, хоть сколько-нибудь серьезно занимавшегося этой группой. Ведь шестиногий скороход, выстреливающий едкой пахучей струей в преследователя, будь то еж, птица или человек, шныряет и по пустырям Севастополя, и в парках Судака, Алушты, Партенида, не говоря о лесных склонах, скажем, где-нибудь близ сверкающего брызгами Джур-Джура. Всё верно. И все-таки – так, да не так. Есть крымская жужелица и у меня. В четырех вариантах цветовой аберрации. Но только все экземпляры пойманы не мной, а моими удачливыми товарищами, чуждыми энтомологии, но усвоившими, насколько глубоко жуки волнуют мое сердце, и имеющими снисхождение к этой слабости. Поклон вам, Александр Етоев, Люся Левитина и Дмитрий Провоторов.
Немного предыстории. Крымская жужелица (Carabus (Procerus) scabrosus tauricus) как отдельный подвид была описана в 1811 году итальянским зоологом Франко Андреа Бонелли, автором капитального труда “Observations entomologiques”. Он стал для нее как бы персональным Адамом, подарившим общепризнанное имя. Была ли она ему благодарна? О чем речь. Крымская жужелица – один из самых крупных и самых красивых хищных жуков Палеарктики – нигде, кроме Крыма, не встречается. По некоторым сведениям, длина его (без учета сяжек) может достигать шести сантиметров, однако на данный момент самым крупным экземпляром считается крымская жужелица из коллекции С.А.Мосякина (5,2 см). Надкрылья и переднеспинка жука – морщинистые, зернистой структуры, отчего его окраска имеет выраженный оптический характер, связанный с преломлением света, и колеблется в пределах спектра от ярко-зеленого до фиолетово-черного. В старом Китае родственницу крымской жужелицы изумрудную жужелицу (Carabus (Coptolabrus) smaragdinus) использовали при изготовлении ювелирных украшений – переливающиеся и посверкивающие надкрылья этих жуков оправляли в золото и носили в качестве броши или пряжки. Крымская жужелица крупнее изумрудной и в своей зеленой или синей гамме не менее красива, так что китайцы непременно нашли бы ей художественное применение. Но они до нее не добрались. Зато добрались французы, однако об этом позже.
До восьмидесятых годов прошлого столетия крымская жужелица, пусть численность ее в зависимости от внешних условий (засуха или дожди) несколько колебалась, в ареале своего обитания (весь южный берег, юго-запад и горные районы Крыма) встречалась довольно часто и даже несколько его (ареал) расширила за счет площадей поливного земледелия в степном Крыму. Ситуация изменилась с началом перестройки – в массовом порядке принялись вырубать виноградники, отчего сократилась популяция виноградной улитки, а виноградная улитка – основная кормовая база крымской жужелицы. В итоге в середине восьмидесятых крымская жужелица попала в Красную книгу СССР и Украины. Потом ситуация немного выровнялась, однако это продлилось недолго – с развалом единой страны дело приняло катастрофический характер. Начиная с 1992 года и вплоть до Крымской весны численность жужелицы сократилась настолько, что этот эндемичный вид стал не просто редким – он подошел к пределу, за которым уместно уже вести речь о вымирании. Именно в это время я предпринял четыре безуспешные попытки крымскую жужелицу отыскать. Не вышло, хотя иным, как уже говорилось, это удавалось.
В 2003 году я и мои товарищи, петербургские фундаменталисты, сделали запрос украинской стороне о причинах столь плачевного положения крымской жужелицы, чья судьба нас, как людей неравнодушных, чрезвычайно волновала. Официальный ответ был таков: Carabus (Procerus) scabrosys tauricus крайне чувствителен к ядохимикатам и инсектицидам, используемым в современном сельском хозяйстве. Но почему же тогда крымская жужелица благоденствовала в семидесятые, когда химизация сельского хозяйства достигала размеров несопоставимых с нынешними? Разумеется, это была чистой воды отписка, призванная скрыть неприглядную истину. Реальность такова: по данным службы безопасности объединения петербургских фундаменталистов, в украинском Крыму на тот момент существовало более двух десятков фирм, занимавшихся поставками личинок крымской жужелицы, по виду напоминающих больших фиолетовых мокриц, в рестораны Парижа и Средиземноморской Ривьеры. Ничего не попишешь – французы такие бестии, которые едят даже то, что не едят китайцы.
Словом, история с крымской жужелицей напоминает историю с южноамериканским дровосеком-титаном (Titanus giganteus), личинок которого индейцы издавна употребляют в пищу, в результате чего популяция этого самого крупного на планете жука (соперничает с ним лишь жук-геркулес – Dynastes hercules), достигающего в размерах семнадцати сантиметров (без учета сяжек), сократилась в сравнении с прежними временами в несколько раз. А аборигены Фиджий и вовсе сожрали своего эндемичного усача Xixuthrus heyrovskyi – его больше не существует в природе, осталось лишь несколько редких экземпляров в коллекциях. Не такая ли судьба была уготована Украиной и нашей крымской жужелице? Смотреть на это спокойно не было возможности. Летом 2005 года петербургские фундаменталисты после возвращения из поездки в Южный Крым сформировали правительство крымской жужелицы в изгнании. К сожалению, в силу безуспешных попыток прямых контактов по месту обитания я принял участие лишь в последней стадии переговоров с уже вывезенными из Крыма представителями этого шестиногого племени.
Не прошло и десяти лет, как наша работа дала результат: крымская жужелица вместе с Крымом вернулась в Россию, избегнув риска истребления и получив возможность свободного развития и безбоязненного размножения – без оглядки на гастрономические пристрастия Европейского союза. Уверен, нам будет что вспомнить и обсудить с крымской жужелицей, превратившейся из желанного соперника в верного соратника, когда наше долгожданное свидание на ее солнечной родине наконец состоится.
Второй жук, сумевший распалить мой ловчий азарт своим умением не даваться в руки, – жужелица блестящая (Carabus (Hemicarabus) nitens). Такой маленький красавчик (шестнадцать – восемнадцать миллиметров), искристо-зеленый, с ребристыми надкрыльями, отороченными золотисто-красной каймой. Голова и переднеспинка зачастую тоже отдают червонным золотом, но не всегда, встречаются и такие, кто остается верен сверкающе-зеленой гамме. Однако, увы, встречаются не со мной.
Жук этот, с одной стороны, распространен довольно широко – от Ирландии до Западной Сибири. С другой – места его обитания очень локализованы, разбросаны редкими пятнами, обусловленными не просто определенным биотопом, а черт знает чем. То есть привязка к излюбленным местам прослеживается – сырые луговины, берега водоемов, опушки хвойных и лиственных лесов у заливных лугов, близ торфяных болот, – но вот на этой опушке он, скажем, обитает, а на такой же по соседству – нет. Да что там по соседству: на одном и том же лугу – здесь есть, а сделал пятьдесят шагов в сторону – и жук пропал. Кроме того, Carabus (Hemicarabus) nitens очень чувствителен к антропогенному вмешательству в среду его привычной жизни и в этом смысле уязвим: если биотоп нарушен мелиорацией или выпасом скота, жук исчезает без остатка. Поэтому точки его обитания определяются как правило случайно, наудачу, и между жуковедами идет обмен этой чрезвычайно ценной информацией.
Поблизости от СПб известна одна такая точка – в Колпинском районе. Ее мне открыл Антон Бибилов, живущий в Колпино студент-биолог (сканы отловленных им экземпляров выложены на жучином сайте ЗИНа), с которым мы когда-то сошлись на почве общего увлечения.
Пришла пора, и я собрался на свидание, которое жужелица блестящая мне не назначала. Начало июня – самое время, жук этот особенно активен в конце весны – начале лета. Утром доехал до Колпина, покрутился, вырулил на какую-то подразбитую дорогу, уходящую в поля, свернул с нее на грунтовку к виднеющемуся перелеску и по глинистым колдобинам добрался до свежей просеки – тут велись подготовительные работы под нитку трубопровода, ведущего к новым нефтеналивным терминалам то ли в Приморск, то ли в Усть-Лугу. Дальше надо было идти пешком. Оставил машину на краю просеки, достал из багажника сапоги, переобулся и с рюкзачком за плечами двинул в поисках переправы вдоль старой дренажной канавы, за которой начинался густой ивовый кустарник, переходящий в сырое чернолесье. По двум доскам и невесть откуда взявшемуся старому колесному диску одолел журчащий на дне канавы ручей. Потом были непролазные на вид кусты, сквозь которые нельзя было прорваться напрямую, а приходилось изворачиваться, еще какие-то канавы и лужи, ольшаник, березняк, потом неожиданно появились светлые молодые сосенки, и я понял, что добрался. Тут начиналось подсыхающее торфяное болото, уже довольно крепкое и не чавкающее под ногами.
Время шло к полудню, солнце поднялось довольно высоко и порядком припекало, но охота, как известно, пуще неволи – работы еще хватало. Достал из рюкзачка стопку пластиковых стаканов, изготовленную на заказ в пору дикой конверсии цилиндрическую титановую копалку, с помощью которой в один оборот кисти можно сделать маленький шурф, куда точно входит стакан почвенной ловушки, и, утирая с лица пот, принялся за дело. По краю торфяника среди наступающих на него сосенок поставил штук тридцать ловушек, плеснув на дно каждой немного винного уксуса. Жужелицы, да и не только они, хорошо идут на такую приманку. На вино и пиво тоже идут охотно, но это уже разврат. Однажды на Алтае, в лесу, на склоне Сайлюгема, нашел винную бутылку, в которой, видимо, орудовавшие здесь лесорубы оставили недопитый глоток. Бутылка лежала на земле и была полна жужелиц (три вида, не имеющие отношения к нашему рассказу), которые пошли на запах и не смогли выбраться из стеклянного плена. И во Вьетнаме в качестве приманки пришлось использовать пиво – уксуса в местных лавочках я не нашел. На третий день бдительные рабочие-вьетнамцы обнаружили в национальном парке мои ловушки с пивом. И очень выразительно недоумевали, извлекая из земли пластиковые стаканы, – мало того что не допил, так еще и закопал! Словом, тяга к измененному состоянию сознания – не сугубо человеческая черта. Падки на это слоны, медведи, свиньи, курицы и даже прекрасные жуки. О чем-то это, безусловно, говорит, но тут я не специалист.
Итак, наладил ловушки и, взмокший от жары, сквозь чернолесье, кусты и комариную тень отправился в обратный путь.
Через пару дней в нетерпеливом предвкушении приехал оценить улов. На дне стаканов была всякая всячина – и бегунчики, и амары, и быстряки, и стафилины, и прочий мелкий вздор – попались даже несколько щелкунов, которые обычно в такие ловушки не идут. Не было только жужелицы блестящей. Поставил по краю опушки – чуть дальше – еще ряд ловушек и уехал в печали ни с чем. То есть без того, ради кого всю эту канитель затеял. Два дня спустя приехал снова – тот же результат. Так и продолжалось – добыча упрямо на охотника не шла. В конце июня снял ловушки – пора было ехать с товарищами в путешествие вокруг Онеги.
Но русские, как известно, упорствуют и не сдаются – на следующий год попытку повторил. Дорога к лесу была разбита окончательно – на просеке уложили трубы, и нефть пошла на экспорт в обход прибалтийских портов. Свежие трубы, увы, оказались единственной новостью – красавец-жук не пришел в ловушки и на этот раз. Должно быть, по какому-то капризу здешняя торфяная пустошь его больше не устраивала. То ли дали знать о себе старые дренажные работы, то ли новый нефтепровод – бог весть. Что ж, не всем нашим желаниям суждено сбыться. В таком положении вещей тоже можно найти утешение – в конце концов, исполняя свои желания, мы их теряем. А ведь счастье, как известно, состоит не в исполнении желаний и не в их смирении, а в самом их наличии. И потом, как-никак пара этих красавцев в моей коллекции есть – самка поймана в 1903 году знаменитым энтомологом Старком в окрестностях своего имения Ala-Mellola, что на Карельском перешейке в девяноста километрах от СПб – бывшее Великое княжество Финляндское в составе Российской империи. Этот экземпляр достался мне по случаю – в помещении музея при кафедре зоологии университета имени Герцена делали ремонт, часть коллекции, в том числе старые энтомологические сборы, обновлялись, и я получил разрешение взять себе кое-что из закромов. Александр Александрович Старк – легенда русской энтомологии. С 1878 по 1890 годы он занимал место управляющего имением великого князя Константина Николаевича (инициатора продажи Аляски и отца таинственного К.Р.), расположенного чуть южнее Туапсе, и за это время открыл и описал около полутора сотен видов жуков Западного Кавказа, по большей части эндемиков. Самца же жужелицы блестящей мне подарил жуковед по фамилии Свободный, поймавший серию этих живых самоцветов на колпинской точке в 2005-м.
Но сам по себе факт присутствия пары экземпляров жужелицы блестящей в коллекции не закрывает тему – любой рыбак вам скажет, чем самостоятельно пойманная рыба отличается от той, что лежит на прилавке. Всем. И это тотальное отличие невозможно избыть, оно не дает покоя. А стало быть, свидание на свежем воздухе с этим прекрасным жуком еще впереди – желание есть, и попыток его потерять я не оставляю.
Третий жук, долго не дававший мне покоя, – жужелица черная или, как иначе его называют, жужелица шагреневая (Carabus (Procrustes) coriaceus). Шагреневая – даже лучше, морфологически точнее. Мало ли на свете черных жужелиц, а вот шагреневых – наперечет. Связанная с ней история разворачивалась на Псковщине близ Новоржева. Пушкинские места:
Есть в России город Луга Петербургского округа; Хуже не было б сего Городишки на примете, Если б не было на свете Новоржева моего.Возможно, так некогда и было. Но сегодня – нет, не согласен. Видывали мы городишки и похуже. На неполные три с половиной тысячи постоянно проживающих тут жителей приходятся четыре супермаркета (две “Пятерочки”, “Магнит” и “Дикси”), десятка полтора магазинов коопторга, двухэтажный универмаг, шесть магазинов стройтоваров, три – модного конфекциона, два мебельных, два – электронных девайсов и сотовой связи, один книжный, большой воскресный и малый пятничный рынки, две аптеки, четыре лесопилки в городе и предместьях, ветеринарная лавка, лавки мясная и масломолочная, специализированный магазин электро- и бензоинструмента, столовая, кафе и павильон разливного пива, салон бытовой техники, салон продажи и ремонта компьютеров, заказ стеклопакетов, автозапчасти и много чего еще, что сразу и не разглядишь. Словом, высочайшая плотность торговых заведений на душу населения. Правда – ни одного светофора. В то время как в соседнем районном центре Опочке – целых два. И для новоржевцев это, разумеется, предмет небольшой зависти.
Так сложилось исторически, что уже много лет я провожу здесь, в деревне под Новоржевом, пару отпускных недель. Бывает больше, бывает меньше – зависит от текущих дел. Дом над рекой; над домом – береза с гнездом и щелкающими клювом аистами; в реке бьют хвостами бобры; на перекате между сдвинутыми в запруду валунами стоят нароты, куда идут окунь, лещ, голавль, красноперка, линь; на краю огорода – десяток ульев, полных гудящих пчел и правильного меда; лес с ягодами и грибами; озеро с белой цаплей и золотыми карасями; весенняя охота на селезня и вальдшнепа, осенняя – на гуся, перелетную утку, серую куропатку и тетерева. Есть заяц, лось, косуля и кабан, но я, как говорят промысловики, охотник по перу. Найдется, чем заняться. Ко всему – жуки.
Поначалу, лишь в общих чертах имея представление о здешнем видовом составе жужелиц, ставил наудачу ловушки на участке и по краю леса. Попадались в основном виды широко распространенные, массовые, выражаясь энтомологически – банальё. И вдруг однажды, когда в очередной раз приехал на выходные проведать погруженную в сельскую жизнь семью, малолетняя племянница Марфа, имевшая задание отлавливать всех встретившихся на ее пути жуков, вручила мне пластиковую баночку из-под фотопленки, где едва умещалась крупная черная жужелица. Я извлек ее на свет – изящная, тонкая в талии, матовая, с морщинистыми надкрыльями, действительно напоминающими по фактуре шагрень, это была она, жужелица шагреневая – самый крупный представитель рода Carabus в Центральной и Восточной Европе. Я и не предполагал, что встречу ее здесь, на Северо-Западе России, хотя, по некоторым сведениям, она изредка объявлялась в восьмидесятых-девяностых на юге Ленобласти, после чего сведения о ее поимке в этих районах больше не регистрировались. На юге Московской области, в Калужской и Тульской жужелица эта ловилась, хотя и считалась редким видом. В Смоленской области, как и в Московской, она занесена в Красную книгу. А тут на тебе – гуляет без охраны по Псковщине.
Жук еще довольно бодро сучил ногами и норовил удрать. В нем было добрых четыре сантиметра (без учета сяжек), притом что это – самец, а самцы в роду жужелиц, как правило, в размерах уступают самкам. Впереди его ждал вечный сон в эфирных парах. Кровь вспыхнула разом радостью и ревностью. Да, шагреневый щеголь попадет в мою коллекцию, но в этикетке, следуя щепетильным правилам энтомологических сборов, ловцом будет указана племянница.
Это был вызов. Не принять его – невозможно. На дворе стоял август 2004 года.
Зоркая Марфа высмотрела жужелицу на дороге, прямо за воротами участка – та шустро следовала по деревенскому проселку невесть откуда черт знает куда. Да и не заметить такого зверя, коль скоро он явился, удалось едва ли б. Carabus (Procrustes) coriaceus – сугубо лесной вид. Но до ближайшего перелеска было метров двести, дальше – озеро, справа от озера – верховое болото с худосочным сосняком, тянущееся до шоссе, слева – просторные боры, опушенные по краям осинниками. Откуда ты пришел, шагреневый скиталец?
С тех пор началась одержимая охота – я погружался с головой в материал, изучая нравы и повадки зверя, ставил почвенные ловушки то тут, то там, чередуя биотопы и приманку (уксус, пиво, подпорченная ветчина), бродил в сумерках по лесным дорогам с фонарем, луч которого оживлял кривляющиеся тени. Всё тщетно – попадались бронзовый Carabus granulatus, красноногий Carabus cancellatus, золотопуговичный Carabus hortensis и даже весьма редкий для нашего Северо-Запада Carabus convexus (про мелких карабид, сильфид и стафилинов не говорю), не было только желанной шагреневой. Иной раз наваливалось отчаяние и опускались руки. Однако терпение – черта, без которой охотнику не быть. Как музыканту без внутреннего слуха, позволяющего извлечь гармонию из тишины: ведь и Создатель сотворяет всё из ничего, пускай сторонникам научного воззрения милее полагать, будто всё явилось из ничего посредством собственных (этого самого ничего) усилий.
Попытки повторял из года в год с упорством, которому, уверен, друзья и близкие желали бы иного применения. Но я не отступал. И наконец дождался! Шесть лет спустя, в 2010-м, терпение мое – хвала высоким небесам – получило воздаяние. 14 августа, в день моего рождения, в ловушки, поставленные в смешанном лесу у просеки с бетонными столбами ЛЭП, пришли две шагреневые жужелицы – лес-батюшка одарил желанным даром! Пусть простит тот, кто простит, и осудит тот, кто осудит, но разве сравнится этот подарок с бутылкой рома, дрелью или навигатором в машину? Никогда. А через несколько дней попалась еще пара, теперь в ловушки, поставленные среди осин по берегу озера.
С тех пор – как будто прорвало. Словно жук получил мандат от лешего, или произошел по неведомой причине взрывной рост шагреневой популяции. Уже не случалось лета, чтобы не повстречался этот странствующий черный рыцарь – он открыто бегал по лесным дорогам, попадался в ловушки в тех местах, в которых прежде не попадался ни в какую, а в августе 2017-го и вовсе запросто зашел во двор, где кошка пыталась жестоко поиграть с ним, приняв в траве за черного мышонка. Жук был спасен и отправлен в лес, на волю – мавзолей не резиновый, лишнего не надо.
Вот, собственно, и всё. Такие три истории. Мораль? Пожалуйста. Будьте упорны в своих сумасбродствах и настойчивы в чудачествах, дети, и тогда, возможно, небо расцелует вас за ваше неразумие.
Елена Посвятовская Животное мое
Вбежали морозные, веселые. Топали ногами на щетках подъездного коврика, оттряхивались от снега, отдувались. Еще на лестнице схватили запах жареной картошки – это у нас, да? бабушка? драники? Мама улыбнулась, кивнула. В прихожей Лёка бережно положила рисунок на тумбу, куда обычно садились шнуровать башмаки. Мама туда сумку, а Лёка – его рядышком. Прыгала, выпутываясь из рукавов шубки, из резинки с варежками, любовалась сверху. Рисунок такой – кто-то квадратный и зеленый, руки-ноги почти человечьи, а вот вместо головы по верхней грани катается шарик, и нет у Зеленого другого занятия, кроме того, чтобы постараться его удержать. Такая жизнь – больше ничего не умеет. Воспиталка сказала нарисовать несуществующих животных. Эти глупенькие, все как один, рисовали динозавров. Смешно даже, ведь когда-то в древности они все-таки жили. Сказано же – несуществующих! Она пыталась снять сапог о сапог. Мелкая вырвалась вдруг от бабушки, схватила рисунок – топот кривых ножек. Она и по дому бегала в крепких ботиночках – так доктор велел.
Лёка молча и зло бросилась за ней.
– Сапогиии, – мамино бессильное вслед.
А сестра, блеснув темным глазом, уже рвала рисунок в детской у батареи. Боялась и рвала. Что ж за дура-то? Лёка, рыча от ярости, сходу вошла пальцами в слабые русые кудряшки. Та завопила еще раньше.
Потом на кухне уже умытые от соплей, красные – Дуня иногда еще вздрагивала во всхлипе – усталая бабушкина рука у нее на голове, скрученные веревки жил.
– Каждый раз, когда вы деретесь, – спокойно и раздельно говорит мама с табуретки перед ними, и взгляд ее падает на обрывки рисунка, – в Африке умирает одно животное.
Ну а что, может. Лёка долго ворочалась. Занавешенная луна помогала разглядывать разное на шторах – треугольники, квадраты, круги пересекались, срастались друг с другом, там, где пересекались, меняли цвет. Понурый скелетик настольной лампы, бабушкин храп из залы. Укутанные серой мглой на полках спали книги и альбомы, растрепы-куклы привалились к медведям. Теперь ей отчаянно надо в Африку, всё проверить: буду бить Дуню и посмотрю, как оно умирает.
На лето их отправляли к тетке под Ленинград. Тоже север, конечно, но им казалось – на юг.
У Осташковых огород сваливался прямо к реке. И не надо выходить на пыльную улицу, огибать по горячей тропке теткин дом, и только потом вниз к красноватому клочку пляжа. Легче через них: скрипнул доской в соседском заборе, потом немножко через осташковую малину, а там уже прутья широко – ничего и отгибать не надо – шурх сквозь них и бежать с горки. Девять шагов вниз. Ну укусит вслед призаборная крапива. Дуня вечно причитает из-за этого, нарочно прихрамывая, трет там чего-то, а семилетняя Лёка уже взрослая – все колени в розовых ссадинах, темных коростах, укусах, ей нипочем. Скидывает шлепки, платье через голову. Да, не ной ты, глухо говорит Лёка, немного застряв в сарафане, сейчас в воде всё пройдет.
Сегодня у последнего забора, того что смотрит на реку, явился Митя Осташков – опять через нас! Мите шесть с половиной, и он заяц. Он так решил. И Лёке непонятно, шутит он или нет.
– Ты правда думаешь, что ты заяц? – заглядывает глубоко в его глаза с разлохмаченным георгином вокруг зрачка, георгин – синий.
– Там на нашей заячьей планете… – заводит свою пластинку Митя.
Девочки хохочут. Позавчера на веранде они все вместе рисовали после мертвого часа. Они с Дуней цветы и принцесс. А Митя-заяц – войнушку. Много-много зелененьких танков по белому листу, сверху-снизу. И отовсюду из них торчали заячьи уши. Крекеры запивали молоком, и Митя всегда съедал сначала сломанные, чтобы порядок. А прошлым летом, когда еще жива была мама, уши торчали из вагончиков длинного-длинного поезда, и на общий смех вокруг рисунка Митя спокойно отвечал:
– Зайцы пушешествуют.
Теперь никто по-другому это слово и не произносит. Если еще год отступить, он насмешил Лёку, когда однажды схватил наволочку из горки грязного белья на полу – его мама меняла по всему дому постельное – приложил фартучком и объявил сам себе – танец “Заячья полька”. Понесся по кругу с прискоком, руки в боки – фартучек держал. И дети, и взрослые покатились просто. Только “заячья” мама головой качала, говорила их маме:
– Вчера насмотрелась по телеку дедовщину эту, гласность же, и вздыхаю, как же мальчик мой в армию пойдет. Ну вот как? А Шура мне – куда он пойдет, никуда не пойдет, под зайца закосит…
Мамы долго смеялись об этом.
Митя своим даже письма писал:
– Дарагие Зайцы. Пасылаю вам милиярт моркови. И кантэнир арбузав. И ещо в дабавку капусты. И дынь.
Подпись на конверте: Зайцам. 1 000 000 000.
На пляжике дрожит воздух, а по воде скользят сумасшедшие водомерки. Никого. Только продавщица Любовь разметалась на полотенце на самом солнцепеке. Неприятная, блестит. На лице у нее футболка, рядом прозрачный надувной матрас, разрисованный морскими коньками и дельфинами. Две голубые банки джина-тоника валяются рядом. Пустые.
Купались всегда в небольшой заводи вдоль берега, дальше – ни-ни. Течение. Стремительный Оредеж, петляя, уносился к Чикинскому озеру. Мама рассказывала, что там река теплеет, не то что у них – даже в жары лед.
– Давайте попросим у нее матрас, она всегда нам дает, – таращит глаза Дуня, забыв о волдырях.
– Она пьяная, – шепчет Лёка, кивает головой на пустые жестянки. – Не буди ее.
Осторожно вступает в прохладную воду. Солнечная рябь разбегается от нее по заводи. Лёка жмурится на эту золоченую рыбью шкуру – сто миллионов солнечных чешуек дрожат в глазах. Сзади возня и шум.
– Без спроса, ты без спроса, – пронзительно кричит Митя. – Таааак. Ска-за-но-про-тебя.
Через плечо Лёка видит, как на мелкоте Дуня пытается вскарабкаться на матрас, но Митя ловчее. Оттолкнул ее, протащился тощим животом к изголовью, быстро погреб в сторону Лёки. Сбоку в последний момент запрыгнула Дуня. Ухватилась двумя руками через матрас.
Лёка задохнулась от ярости – чужое без разрешения! у взрослых! совсем Дуня дура! Пьяница Любовь проснется – мало никому не покажется, от нее вся деревня плачет. Лёка присела по шейку от страха быть обрызганной. Зашлась от холода, но тут же, позабыв об этом, ринулась к чеканашкам, задрав высоко руки и трудно выпутываясь из плотных струй. Со всей силой обрушившись на Дуню, отодрала ее от матраса. Специально не топила, но сестра сразу ушла под воду. Нахлебалась там, видимо. Вынырнула, и Лёка, страшась ее бешеных глаз, выкрутилась немного назад, затем принялась неистово брызгать рекой сильными ладошками навстречу Дуне. Митя бежал от них, отчаянно гребя на глубину. Дрались молча, с трудом различая друг друга в фонтанах брызг, подожженных солнцем, царапались, хватались за волосы, уходили вниз в мутное безмолвие, там – ууууууу, останавливалось сердце – с ужасом возвращались. Глаза жжет, не проморгаться – вкус речной воды во рту.
Слепило солнце. У Кондратьевых замычала корова. Продавщица Любовь на полотенце вглядывалась в них под козырьком ладони.
Луне не хватало кусочка снизу до целенькой. Потому огородная дорожка была хорошо видна в ее белом сиянии. Но Дуня под ноги особо не смотрела, шла за белеющей впереди сорочкой старшей сестры. У бани высокая трава уже промокла от росы: приходилось осторожно отодвигать ее руками. Дуня снова захныкала. Лёка разбудила ее среди ночи, что-то втолковывала тихо, но настойчиво – поднимайся мол, пойдем со мной, все расскажу во дворе, это важно! Еще что-то там про маму и Митю, который утонул год назад. Сначала Дуня отмахивалась, пыталась натянуть тяжелое одеяло на голову, чтобы по-улиточьи спрятаться в домике.
– Отстань, – лягнула Лёку ногой.
Та попыталась закрыть ей рот, чтобы не слышала тетка. Тогда Дуня специально завопила. Но потом суровый напор, какие-то незнакомые нотки в голосе сестры удивили, остановили внимание. Сделалось понятно, что уснуть Лёка не даст – долбила ее, как рукомойная капля, – да и сходить на улицу ночью стало вдруг любопытно.
В бане сестра, прежде чем закрыть разлохмаченную по краям дверь, высунула голову в лунный свет и покрутила ею – никого? Дуня проснулась окончательно и, уже попав под обаяние этой ночи, дрожала от ужаса и восторга, тихо улыбаясь со скамьи. Пахло вениками и хлебом.
– Я вчера, знаешь, что поняла, – начала Лёка полушепотом. – На Митиных поминках. Это мы во всем виноваты. Я и ты.
– Дааа, – торопится также шепотом Дуня. – Любовь вчера напилась с бабкой Осташковой и такая: это из-за них всё, из-за них Митеньку тогда на глубину утянуло, понесло по течению…
– Я не о том, – белокурые завитки Лёки светились венцом вокруг головы под лунным холодом, льющимся из закопченного банного оконца. – Я только вчера додумала, что он же был Заяц, понимаешь, самый настоящий заяц, животное, о котором говорила мама. Мы дрались, и он умер. А она нас просила…
Дуня тихонько охнула. Закрыла рот ладошками, таращилась молча на старшую сестру. Даже ногами больше не болтала.
– Значит, не только в Африке оно умирает. Но и здесь может, – горько продолжала Лёка, вставая одной ногой на скамью под крючками, куда вешали одежду. – Дуня, мы должны сейчас поклясться. Что больше никогда…а если кто-то из нас поднимет руку на другого, то тогда тот другой должен крикнуть – Заяц! – напомнить как будто. Чтобы ни одно животное больше. Ни в Африке, нигде. Из-за нас. Как мама хотела.
Лёка, стоя на скамье, пыталась нашарить что-то на полке над крючками. Спрыгнула со свечой и коробком спичек в руках. Потянулась к блюдечку с огарком на оконце за Дуниной спиной. Потом обе сидели на скамье вполоборота друг к другу – между ними горела свеча. По освещенным круглым бревнам метались тени.
– Дуня, мы – сестры! Мы должны поклясться сейчас. Протяни руку, чтобы огонь, и скажи…
– Нет, – Дуня заплакала.
– Ну, хорошо. Просто проведи быстро вот такой рукой над свечкой. Тоже считается. Смотри…
На вокзале ее никто не встречал. Ни Комаров, ни Дуня с бабушкой. Лёка на перроне покрутила головой, потом долго стояла под часами, взятая в круг сумками, коробка еще с продуктами, перетянутая синей веревкой. В дороге только-только зажили на ладонях следы от этой синтетической дряни. Улыбалась жалко и растерянно, всё еще не веря, что никто не встречает. Может быть, что-то с бабушкой? Но тогда где Комар? На вокзале она хотела позвонить перед самым отъездом, чтобы еще раз выкрикнуть им номер поезда, но как от сумок отойдешь, да и подумала, что телеграммы вполне достаточно. А Комару она за две недели написала и день, и час, и номер вагона, всё написала.
И грузчиков нет в их городке.
Частнику отсчитала последние деньги, всё время поглядывая на свой балкон. Вещи бросила у подъезда, где старухи на лавочке обещали за ними приглядеть.
– Дома твои-то. Все дома, – приветливо закивали головами.
– Дома они! – сердито фыркнула Лёка. – А должны быть на вокзале. Вышла из поезда – никого! Всё прокляла.
– Ну быват, напутали, аньдели господни, – жуют губами старухи. – Комарья-то сейгод. Ну, расскажешь потом-то, как там в Ленинграде-то твоем? Ссудентка-то. Без хвоссов-то хоть первой курс?
– Всё расскажу, – кричит Лёка, убегая в прохладу подъезда.
За дверью слышались громкие голоса. Там чем-то недовольны – друг другом? жизнью? Лёка улыбнулась – всё как всегда! Пахло пирогами и только что схватившимся мясом. Хотела подслушать, но не выдержала собственной нетерпеливой радости, ударила по кнопке звонка, коричневатой от копоти. Дверь моментально распахнулась.
На пороге удивленно таращилась прехорошенькая незнакомая Дуня с распущенными темно-русыми волосами – когда успели отрасти? – в руках она держала одну красную туфлю. Лёка смеялась безостановочно на все эти вздохи-ахи вокруг, – как же так! ты должна была в восемь! в телеграмме восемь! – задержалась на мгновение в складках бабушкиной шеи, вынюхивая оттуда с младенчества знакомое, неописуемое, а от фартука курником, конечно, а от Лёки пахнет дождем и лимоном, родные мои. Пока таскали сумки, Дуня смешно закатывала глаза – там кирпичи, что ли? А Лёка все смеялась. От счастья. И почему-то медлила спросить – а где Комаров? Бабушка, напялив очки, бормотала почти по слогам из телефонного блокнотика:
– При-е-жжа-ю шёс-то-го два-ццать, – тяжело дышала. – дваццать, во вишь, дваццать. По-езз … Дома-то не было нас вецёром, когда телеграмму приносили. По телефону со слов потом писали.
– Вот и записали! Шестого в пять двадцать. Не в двадцать, в пять двадцать!
– Глохнет, – говорит Дуня и выдувает пузырь из жвачки.
– Ужа-ты помолци! – бабушка вытирает руки фартуком.
– Слышь, не борзей! – повысила голос Лёка и, уже уходя в ванную, весело обронила. – А Комаров-то где?
Удивленно обернулась на молчание. Гудел старенький “ЗИЛ”, горело масло на сковородке.
– Говори давай, – бабушка вдруг бросилась к Дуне, сидящей на табурете нога на ногу.
Махнула полотенцем с плеча прямо перед ее лицом. Та, недовольно отстранившись, крикнула:
– Чё, блин, совсем? – красиво мотнула русыми волосами.
– Загуляла она, Лёкушко, – вдруг прямо Лёке в лицо запричитала бабушка, подходила к ней все ближе и ближе. – С твоим рыжим загуляла. Стерьва мелкая. Ронна сестра.
Она как-то очень в лицо это сказала. Как камень кинула. И нечем было закрыться. Дуня вдруг как заорет:
– Я тут при чем? Сам приперся такой – когда Лёка? когда Лёка? то он не знает! может, чайку попьем? Попили! – Дуня захохотала.
– Это я не велела ёму тебя встрецать, – бабушка надвигалась на Лёку, и уже некуда деваться от душного запаха курника, от ее провонявшего прогоркшим фартука. – Сиди, говорю, дома, пока разберут. Дунька-то хотела вообшше убежать к ему, шоб тебя не видеть. А ты пораньше вон. А я ёму, как же так – ведь записаться хотели…
– А никакой свадьбы не будет, девушки! – Дуня одну за другой положила ноги на стол.
Лёка вдруг быстро и аккуратно отодвинула бабушку в сторону. Дернулась к табуретке, но Дуня, опередив ее, успела крикнуть: “Заяц!” Закрыла голову руками.
Лёка опустила кулак, потом сжимала и разжимала пальцы, немного раскачиваясь с пятки на носок.
– Точно – Заяц! – не сразу глухо произнесла она. – Я не буду тебя бить, Дуня, чтобы мамочка там на небе не расстроилась, не заплакала… чтобы ни одно животное в Африке и в нашем замечательном новом государстве не дай бог не погибло из-за такой суки, как ты.
– А ты как его себе представляла? Ну вот как? Как-нибудь представляла животное это?
– Так, внимание! Давно хотела тебе. Вот ты задрала свою руку, ручонку на меня… из-за Комара, помнишь? Ну чего ты помрачнела? Я же тогда его лживую сущность тебе на блюдечко выложила! С каемочкой! А так бы ты сдуру замуж за него! Я спасла тебя практически. Вот ты подняла ручонку-то свою… прошу заметить, я никогда первая не начинала! Ну, всё-всё! Ты подняла, и оно где-то проснулось, поняв, что пробил час. Оно знает маршрут, скорость, с которой надо двигаться, его выбрали, оно – ни при чем, но сейчас пропадет. Всё из-за нас. Отомстить бы надо, объяснить, заклевать, чтобы не повадно, но никак. Оно обречено. Из-за нас…
Дуня, зажав сигарету в уголку рта, разлила им остатки вина. Ей нравилось, что в глазах сестры удивление сменилось восхищением. Подняли бокалы.
– Дуня, я вот что хочу сказать. Я ведь однажды полностью в тебе… ну, веру потеряла, что ли, даже проклясть хотела. Сердце болело, как болело. Ни когда Комар, а потом позже, когда бабушка за твои долги квартиру нашу продала. Главное, прощение у меня просила перед смертью, что все деньги тебе ушли, ну ладно-ладно. Я не об этом. Ты вот, когда месяц назад прислала мне перевод и сказала, что хочешь расплатиться со мной потихонечку… – голос Лёки вдруг дрогнул, заблестели глаза.
Ну, понеслась, с тоской подумала Дуня. Еще она подумала, что сестра в свои тридцать четыре выглядит на добрый сорокет. Вот она жизнь в их Мухосранске, с кучей детей и двойником Комарова. Она никогда не видела мужа сестры – ни на свадьбу, ни на бабушкины похороны не поехала, – но примерно представляла, чем можно разжиться в их стоячем болоте.
– …я ведь и не надеялась. Мне и не нужны эти деньги-то. А вот как тепло на душе стало, потому я здесь. Кровь родная – не водица, Дуня. Спасибо тебе, сестренка. Никогда не думала, что толк из тебя выйдет. Прости меня, – Лёка, пошарив по столу взглядом, нашла салфетку, высморкалась. Огляделась потом. – Квартира-то твоя, что ли?
Дуня кивнула. Сама вдруг последовала за восхищенным взглядом Лёки, окинув высокие потолки узенькой кухни. Наткнувшись на циферблат настенных часов, вспомнила, что надо работать: через десять минут у нее чат. Вот уже неделю она держит одного голландского придурка в приватах по часу, защипнула тонкими пальчиками за самую мошонку. И еще ни разу не разделась до конца. Здесь дело уже не в сиськах, а в психологии – как лечь, как посмотреть, засмеяться, на локте привстать, сверкнуть кулоном на груди – не всем дано. Капают его денежки в ее виртуальный кошелек – кап-кап, минута полтора евро. Это только трафик, а за каждую дополнительную фантазию – снова плати. Но больше его нельзя за нос водить – сегодня что-нибудь кардинальное!
– Слушай, у меня скайп по работе в два часа. Очень важный. Ты можешь пока в магазин, а? Молока там купить, мяса, вино нам на вечер. Я дам деньги. Погуляй часик, хорошо?
Запрыгал на столе Дунин мобильный. Лёка замахала руками – конечно-конечно. Засобиралась, охая.
Пока Дуня говорила по телефону, Лёка аккуратно сложила вшестеро два пластиковых пакета, сунула в сумку, на полочке в прихожей нашла ключи, в карман их – не отвлекать потом человека звонками. Поискала лопаточку для тесных туфель.
Из комнаты вышла Дуня:
– Ты когда завтра уезжаешь? Во сколько? Мне сейчас нужно знать.
– Дунечка, – растерялась Лёка. – Я в субботу хотела. Билет у меня на субботу.
Дуня шумно выдохнула, руки в боки, закатила глаза.
– Слушай, у меня же удаленка! Я дома работаю, пойми. Моя квартира – мой офис. Я так не могу. Не, ну нормально? Ты же даже не предупредила, что приедешь. Так тоже нельзя, – она разозленно качала тугими джинсовыми бедрами направо, налево по коридорчику. Металась.
Лёка, побледнев, следила за яркими строчками, за лейблом на поясе. Выдавила потом, что не беда, поменяет билеты, делов-то. На лестничной клетке чуть не налетела на грузную старуху, остановившуюся передохнуть у подоконника. Строго глянула на Лёку, на хлопнувшую дверь – в ее глазах подрагивало рыбье желе – пошла наверх, тяжело ступая.
– Вот вам открывают, а хозяйка за деньгами приходила – не пустили ее. Жаловалась, что уже третий месяц просрочка. Каждый раз завтраками кормят, замок еще один врезали, – старуха осторожно ставила на ступеньки огромные ноги в хлопковых чулках в резинку, войлочные боты не по погоде. – А вот мужикам-то всегда открывают. Табунами тут.
Лёка долго сидела на лавочке в проходном дворе. Пыталась успокоиться – ну соврал ребенок, ничего, захотелось перед старшей сестрой выставиться. Съемная квартира – ничего страшного; заработает – будет ее. Но подходя к “Магниту”, вдруг поняла, что бабка в ботах не врет насчет мужиков-табунами. Вот не врет, и всё. Почему это так оглушительно ясно? Остановилась, чувствуя, как кровь стукнула в виски, как нарастает в ней знакомая жаркая волна гнева, с привкусом речной воды, с запахом горящего масла. Лёка крутанулась на своих новеньких каблуках, побежала, прихрамывая, обратно к дому. Знала, что надо остановиться, но не могла. Уговаривала себя посидеть на лавочке в проходном, где вот только что – отдышаться от злости, должно помочь. Нельзя сейчас к Дуне, к бестолковой глупенькой Дуне. Разбежалась к лавочке, а там парни какие-то. Обернулись, смеясь.
– О, девушка, вы к нам? Не хотите? – самый веселый протянул ей бутылку.
Она взяла молча, приложилась надолго. Какая-то сладкая дрянь, пакость десертная. Слышала потом смех, крики за спиной – ты чё, Серый, она почти всё выпила! на фига было? иди теперь покупай!
Долго не могла попасть ключом в скважину. Деревянные створки комнатных дверей – высоченные, кое-где неопрятно ошкурены, плотно закрыты. Подушечками ладоней изо всех сил по ним.
В памяти потом – задранные ноги галкой в воздухе на фоне темных обоев, стоны, вскрики по-английски. У Дуни смазан карминовый рот, разорваны чулки, у низкой тахты бутылка виски, стакан. Пока та ползала перед ноутбуком с блестящим голым задом, расчерченным чулочным поясом с подвязками, что-то печатала, выключала, извиняясь по-английски, Лёка недоуменно крутила головой: всему этому бесстыдному кошмару не хватало завершенности, картина была не полной. Кто разорвал чулки и размазал помаду? Она даже подошла к шкафу и заглянула туда. Потом, слушая Дуню, окаменела от липкой гадости происходящего. Затошнило.
– Да, я так зарабатываю! Тебе какая разница? Мне тридцать два! Я взрослый человек, – орала Дуня, запахивая халат. – Кто тебя вообще сюда звал? На хрена ты приперлась?
Лёка молча шагнула к ней, схватила за плечи, бросила на тахту. Заработал телевизор, на пульт которого упала сестра, что-то там про депутата Милонова. Лёка видела, что Дуня хотела крикнуть “Заяц!”, но сдержалась. Поняла, наверное, что кончилась его спасительная власть. Нет больше волшебной детской заслонки, придуманной когда-то в бане, есть только Лёкино отчаяние и ярость.
– Его нет! Всё это мура. Никуда оно не выходит, нигде не просыпается! Его нет! Никто не умирает, – бессвязно кричала Лёка. – Мама просто хотела, чтобы мир между нами. Но дружить с тобой, любить тебя невозможно, невозможно!
Лёка швырнула ноутбук о стену, влепила затрещину сидящей перед ней сестре. Та, собравшись с силами, как-то извернувшись с тахты, прошлась пятерней заточенных ногтей прямо по Лёкиному голому плечу. Лёка завопила, принялась колошматить каблуком по уже треснувшему экрану ноутбука – мстила так Дуне, компьютеру, спрятанным в нем похабникам, туфлям за то, что безбожно жали, за их тесноту, за всю свою хмурую жизнь, за маму, за бабушку, за Комара. Дуня непонятно как висела на ней, воя от ужаса.
– Двух детенышей африканского леопарда, Милочку и Фисташку, выкармливала лабрадор Тесси, – там в новостях поменялся репортаж. – Но у одного из котят обнаружился порок сердца. Специалисты боролись за жизнь маленького леопардика, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. “Как оказалось, после вскрытия, у Фисташки был дефект перегородки, на сегодняшний день несовместимый с жизнью”, – рассказывают сотрудники зоопарка.
Сестры остановились, дышали тяжело, повернувшись к экрану, где притворно тревожная дикторша сокрушалась о смерти детеныша.
– Но есть и хорошая новость: леопард Милочка чувствует себя прекрасно. Она быстро растет и продолжает знакомство с другими обитателями зоопарка.
Александр Снегирев Некоторые вещи надо делать самому
Дом у леса.
Терраса.
Стол.
За столом четверо.
Женщина средних лет, ее супруг – мужчина средних лет, их институтский друг средних лет и молодой человек, годящийся им в сыновья. Он, впрочем, тоже приближается к возрасту, который принято называть средним.
Четверо человек средних лет сидят на веранде. Все они, кстати, и в самом деле средние, не особо выдающиеся. Люди как люди. И собака под столом тоже вполне обыкновенная, и лес за забором ничем не примечателен. Вот такая мизансцена.
Если и дальше писать в этом духе, получится пьеса. А тут не пьеса, а рассказ.
Пригласили меня в гости на дачу. Очень славная женщина пригласила: и умная, и готовит. Она хотела со мной вроде как дружить, и муж ее был вроде как не против.
Заодно они позвали институтского друга. Он недавно в очередной раз женился, обзавелся ребенком, годным во внуки, и перебрался в Европу.
Институтский друг приехал в отпуск на родину, и наши с ним аудиенции решено было рационально совместить.
Весь день мы провели на террасе.
Хозяйка рассказывала, как построила этот дом, муж только деньги давал и долго не знал вовсе, где дом расположен и сколько в нем комнат.
Даже количество этажей было ему неизвестно, два или три.
Она говорила, а он налегал на виски из магазина беспошлинной торговли.
– Я нашла бригаду, ездила за материалами, а он… – хозяйка кивнула на супруга и тот застенчиво улыбнулся. – А он заявил, что ноги его здесь не будет, пока не подключат воду и отопление.
Смог бы я жить в доме, где ни к чему не приложил руку? Ощущал бы я такой дом своим? Все-таки некоторые вещи надо делать самому.
– Кусты вот эти своими руками посадила, – махнула хозяйка в сторону кустов. – А вон те с таджиками. Газон он не косит, нанимаю человека.
Муж отпил из маленького стаканчика и подозвал собаку. Собака отвернулась.
– А сын помогал? – спросил друг юности.
Оказалось, сын был очень занят. У него работы по горло, не успевает один проект сдать, другой наваливается. Работящий мальчик.
– А почему вы завели ребенка, сына, так поздно? – спросил друг юности и признался, что ему это всегда было интересно, но любопытничать неловко.
Хозяйка помешкала и кивнула на мужа – он откладывал. Сын – ее решение.
К обеду явился молодцеватый люмпен в белой курортной фуражке на красномордой голове. Собака ему приветственно повиляла.
Гостя усадили во главу стола, поднесли и наложили.
Он выпил, заел и пустился в доброжелательную критику.
– Вон щель, конопатить надо. А тут штукатурить, иначе отвалится. Здесь перестелить, потому что криво.
Восседая во главе стола, он обозревал весь дом и участок, даже те уголки, которые никак не мог видеть. Ни один изъян не мог укрыться от его деловитого ока. На просторной террасе стало тесно.
– Я человек занятой, но так и быть, найду время, а то пропадете вы тут без меня, – сжалился красномордый, жуя.
Муж хозяйки молчал, его улыбающаяся голова клонилась всё ближе к стаканчику.
К ужину подали грибы. Хозяйка посетовала, что грибы покупные, фермерские шампиньоны, хотя лес вот он.
От леса нас отделяла решетка, за которой весь день шастали грибники. Грибники косились на нас, а мы следили за ними. Казалось, что мы в парке диковинок; только неясно, кто на кого пришел поглазеть.
Указывая на грибников, хозяйка сообщила, что они всегда ее опережают. Муж за грибами не ходит, а она постоянно опаздывает. У них вон и калитка есть прямо в лес. Но она заржавела и не открывается, приходится кругом обходить. Из-за этой калитки и опаздывает. Только однажды ухитрилась пяток подберезовиков найти, да и те червивые.
Тут и появился жук.
Он то приближался, то удалялся, но очень скоро целиком завладел нашим вниманием.
Его жужжание навевало тревожное чувство неотвратимости.
За неделю до того я был на театральной премьере. Во втором акте из шкатулки выпустили бабочек. Незамысловатый, но эффектный режиссерский прием.
Как только бабочки вылетели на свободу, зрители тотчас потеряли интерес к пьесе. Актеры продолжали исполнять свои роли, демонстрируя мастерство перевоплощения, но всё это померкло рядом с бабочками. Даже искушенные критики, сидевшие на лучших местах, следили исключительно за взмахами крыльев. Про актеров вспоминали только, когда они взаимодействовали с бабочками. Вон тому, бородатому, одна села на плечо, и он, не будь дурак, ловко это обыграл. А вон та, пожилая, едва не наступила на бабочку. Зал охнул, кто-то вскрикнул “стой!”, актриса вздрогнула и до конца спектакля так и не cмогла вернуться в образ.
Жук произвел точно такой же эффект – застольное действо продолжилось, но следить за ним было невозможно. У хозяйки возник страх, что жук явился по ее душу. Только и ждет удобного момента, чтобы десантироваться к ней прическу и доставить невыразимые страдания. Она вздрагивала, дергалась, а потом потеряла самообладание и взвизгнула:
– Сделай что-нибудь!
Муж, который к тому времени уже практически воткнулся в стаканчик, принялся этот самый стаканчик ласково увещевать:
– Да ладно тебе, – сказал он стаканчику. – Это просто жук, он тебя не обидит.
Жук продолжал кружить над столом.
Столкнувшись с настырностью непрошенного насекомого и таким к себе отношением со стороны супруга, хозяйка выскочила из-за стола и спряталась в доме.
Звон захлопнувшейся двери, застекленной прозрачными квадратиками, разбудил мужа.
Он вынул из стаканчика нос и посмотрел на нас.
Я вспомнил, как в детском саду во время “тихого часа” один мальчик описался. Когда его повели переодеваться, он смотрел на нас, других детей, точно такими глазами.
Высоко подняв голову, муж встал на нетвердые ноги и взмахнул салфеткой.
Взмах, другой, третий.
Со стороны могло показаться, что он порывисто с кем-то прощается.
С припозднившимся грибником, с кустами, посажеными другими мужчинами, с лесом, который вот он и одновременно недоступен.
Один из неверных взмахов принес результат – жук был сбит.
На земле его настиг тапок.
И откуда такая прыть…
Всё случилось так быстро и обыденно, что никто сначала не поверил.
Включая самого мужа.
Теперь на его лице был укор.
Вы должны были остановить меня.
И успокоить ее.
Почему вы бездействовали?
Он позвал супругу, и та изволила явиться. Она что-то жевала. Осмотревшись и не увидев опасности, она одарила своего героя поощрительным эпитетом. Он потянулся к ней губами, но она отвернулась, как отворачиваются от собаки, норовящей лизнуть лицо.
Со стороны леса раздался мелодичный перезвон. Все повернули головы. По опушке шел темный грибник, он вел палкой по прутьям. Прутья издавали мелодичный перезвон.
Наутро я проснулся очень рано, но второй гость уже бодрствовал. Он читал книгу.
– Если бы не алкогольные зорьки, я бы вообще не читал, – признался гость.
Выйдя на террасу, я увидел две вещи: грибника за забором и собаку на полу.
Грибник воровато рыскал под березами, собака рычала и била что-то лапой.
Жук.
Тот самый вчерашний жук.
Он еще шевелил лапками, отчего и стал игрушкой для собаки.
Выглядел он безнадежно, поблизости уже рыскали муравьи. Я добил жука.
Некоторые вещи надо делать самому.
В электричке на обратном пути продавались нелопающиеся мыльные пузыри. Я подумал, что если выдувать такие пузыри дома при закрытых окнах, то скоро все комнаты забьются пузырями и людям не останется места. Как будто красномордый пришел.
А еще я думал, что так и не смог обратиться к хозяйке на “ты”, хоть она на этом очень настаивала.
Татьяна Соловьева Дживс скоро станет мамочкой
Пока не заведешь себе улитку-другую, ни за что не догадаешься, какой это популярный питомец. Куда там хомячкам или попугайчикам. Скажешь между делом в какой-нибудь компании о приобретении, и со всех сторон несутся робкие каминг-ауты: “И у нас… и мы тоже… и я детям завел…” Практически тайная ложа, выращивающая совершенное и непобедимое биологическое оружие. В США за их содержание и разведение до пяти лет тюрьмы грозит, а мы ничего, держимся. Опознав в толпе “своих”, улитководы не хуже заправских рыбаков начинают хвастать размерами брюхоногих – “глаз – во!” – и делиться историями из жизни. Даже председатель совета экспертов одной крупной литературной премии рассказывал, как, приехав однажды из Крыма, обнаружил в чемодане огромного моллюска: то ли подбросили, то ли сам заполз. Посадил в трехлитровую банку, зелени насыпал и спать лег. А поутру обнаружил, что путешественник из банки сбежал. Правда, далеко уйти не успел и был возвращен в карцер, на этот раз под крышку с мелкими дырочками. Но тяга к свободе этого графа Монте-Кристо оказалась непреодолимой. Ночью он каким-то образом справился с крышкой и ушел – на этот раз безвозвратно, не оставив временному хозяину даже записки “Прощай, наша встреча была ошибкой”.
Улитка – существо хтоническое. У племени майя, например, одним из главных богов пантеона был дух Улитка – Хо Ваай Тун – повелитель дождя, один из двух владык преисподней и распорядитель пяти дней года, в которые происходила смена власти у богов. А теперь потомки Хо Ваай Туна живут в аквариумах и огурцы трескают.
Некоторое время назад, когда знакомые спросили моих детей, не хотят ли они улиточек (а дети – это очевидно – всегда хотят всякую живность), гигантские моллюски ахатины настигли и меня. Но у этой истории, как у голливудского блокбастера, есть свой приквел.
В школе при ветеринарной академии что-то пошло не так. В один прекрасный момент я осознала, что предел моих инвазивных медицинских навыков – это подкожный укол кошке, а профессия ветеринара явно предполагает нечто большее. Я заложила крутой вираж – поступила на филфак, – но от судьбы еще никто так просто не уходил.
Всё началось с того, что на даче к нам прибилась дикая черепаха Прохор. Когда поиск хозяина по соседям не дал результатов, Прохор был одомашнен, отмыт и отпущен на вольный выпас в квартире. Он делал всё, что положено делать черепахам: спал под батареей, скребся в углах, питался преимущественно салатом и бананами и не вступал в коммуникацию с человеком. И в этой неспособности к коммуникации – главный баг[11] черепах. Понять, что с ними что-то не так, обычно довольно затруднительно: только тонкие знатоки черепашьей души могут понять, что сейчас зверушка не просто лежит в уголке, а со значением – болеет. И все-таки мы что-то заподозрили. Прохор несколько дней отказывался есть, шевелиться и всем своим видом демонстрировал готовность к спячке. Обзвонив несколько десятков столичных ветклиник, мы эмпирическим путем выяснили, что во всей Москве примерно один специалист-герпетолог – главный герпетолог зоопарка (до недавнего времени была еще его аспирантка, но теперь уехала в Калифорнию спасать местных звероящеров от вымирания). Доктор наглядно продемонстрировал, почему в домашних условиях жизнь на полу, а не в террариуме, и спячка для черепах губительны, вколол в пациента какое-то с трудом поддающееся исчислению количество лекарств и выдал исписанный мелким почерком листочек с назначениями: “Вот это и это – подкожно дважды в сутки, это – внутримышечно, а вот это – самое интересное – через зонд напрямую в желудок. Только когда голову будете из панциря вытягивать, осторожней с зондом – трахею ему не проткните”. Зонд. Черепахе. В желудок. Дома. Потому что прием у врача раз в неделю, а проделывать всё это нужно дважды в день. “Лекарства рассчитаете по приложенной к ним инструкции”. К инструкции одного из препаратов прилагалась схема дозировок на корову, лошадь и свинью. Никого хотя бы отдаленно напоминающего 300-граммовую черепаху, там не было. Школьные задачки на пропорции очень помогли, когда я считала, сколько приблизительно черепах в коне. Уколы были неизбежны, но на четвертый день экзекуции зондом Прохор внезапно передумал помирать и стал – от греха подальше – жадно заглатывать таблетки самостоятельно, лишь бы я не принималась за старое. Больше он за восемь прошедших с тех пор лет в спячку не собирался – себе дороже. К тому же в честь выздоровления ему купили подругу Анфису (внимательный читатель узнает в черепашьих именах героев романа Шишкова “Угрюм-река”), и жизнь его вообще наладилась.
Когда несколько лет спустя в доме появились две улитки-ахатины, имена им тоже дали не чуждые литературе – Дживс и Вустер. Взятые в дом размером со спичечный коробок каждая, они демонстрировали отменный аппетит, быстро прибавляли в росте и весе и через пару месяцев были уже значительно длиннее ладони взрослого человека (да-да, все владельцы улиток, как мы помним, хвастаются их величиной). Спустя полгода я заподозрила в Вустере немочь. В глаза не смотрит, не ползает и не ест. Сам напросился, в общем. Трижды в день его купали в растворах стрептоцида и фурацилина, несколько дней он всех игнорировал, но наконец я и его достала. После того как специально для него была сварена в детской пароварке и измельчена блендером фермерская тыква, он понял, что пора выходить из образа. Впрочем, от другой еды он по-прежнему демонстративно отказывался, поэтому несколько недель каждый мой день начинался с того, что вместо собственного кофе я варила тыкву или цуккини УЛИТКЕ, пока та вальяжно принимала теплую ванну. И, прямо скажем, учитывая эти обстоятельства, Вустер мог бы уже войти в мое положение и не обострять – но в какой-то момент его парализовало. Вы когда-нибудь видели парализованную улитку? Почему-то мне кажется, что вряд ли. Сам факт, что из всего многообразия разномастной хтони мне досталась улитка-паралитик, многое говорит о моей везучести. В тот момент я поняла, что билеты телевизионных лотерей мне покупать бессмысленно – скорее всего, они окажутся вообще без цифр.
Для скованного параличом Вустера я всё так же готовила овощные пюре, только выкармливала пациента ими теперь из пипетки. Шли недели томительного ожидания, но парня было уже не спасти. Он обрел вечный покой на даче под кустом малины.
Дживс тем временем прекрасно себя чувствовал и жил на всю катушку: отдельный террариум, разнообразное меню, регулярный расслабляющий душ. И всё же в душе его образовалась зияющая пустота, которую надо было чем-то заполнить. Недолго думая, Дживс метнул икорки. Скромно, полтора десятка яиц. На форумах вот пишут, что порой их число в кладке до двух сотен доходит. Кстати, знаете ли вы, какой один из самых популярных запросов в поисковике по этому поводу? “Яйца ахатины рецепт”.
Почему-то мне кажется, что Хо Ваай Тун бы не одобрил.
Василий Снеговский Зоо
В детстве я был уверен, что зоопарк – не что иное как тюрьма для животных. Если людей сажают в клетки за преступления, то и животных, стало быть, тоже. Другой причины для ограничения свободы хищников, сумчатых и парнокопытных я не находил и, попав однажды в зоопарк нашего маленького приморского городка, стал донимать маму расспросами:
– Мам, а что натворил олень?
– Мам, а за что посадили тигра?
– Мам, а что украла обезьяна?
А самое тяжкое преступление, как мне казалось, совершил верблюд, которого посадили в тесную и низкую клетку. Он даже шею не мог вытянуть, чтобы встать в полный рост. Так и стоял, согнувшись, всё время. В соседнем вольере томился белый медведь. То, что он именно белый, можно было понять только по надписи на табличке: шерсть несчастного умки давным-давно приобрела грязно-серый оттенок. Он отмокал в какой-то крошечной лохани и обреченно пялился в пространство угольками своих глаз.
Став взрослее, я понял, что звери совершенно безвинно лишены свободы и приговорены к пожизненному заключению публике на потеху и дуракам на радость. Как у Маршака: “За что сижу я в клетке, я сам не знаю, детки”. А потому, куда бы ни забрасывала меня судьба и туристические агентства, нигде и никогда, ни в одном городе мира я принципиально не ходил в зоопарк. Ни в Праге, ни в Лондоне, ни даже в Таиланде, где, говорят, не зоопарк, а курорт какой-то, куда на полный пансион мечтает попасть даже самый последний опоссум. Но жизнь штука непредсказуемая. И хотя говорят, что зарекаться не следует от сумы и от тюрьмы, я бы еще добавил: и от похода в зоопарк.
Когда я в очередной раз вернулся из Москвы в “мой город, знакомый до слез”, домашние предложили на машине махнуть в соседнюю Находку. Сказано – сделано. Благо ехать недалеко – без малого два часа. В полном составе (папа, мама, брат и я) мы загрузились в машину и двинулись в путь. Путь пролегал через забытый богом и цивилизацией поселок Шкотово. Мы мчались по не знавшей асфальта дороге мимо запущенных огородов, мимо заброшенных домишек, мимо старушек, торгующих на обочине яйцами, молоком и астрами, мимо салона красоты “Оксана”, мимо миниатюрного храма Святой Матроны, мимо хлебного магазина, от вывески которого оторвались две первые буквы, сократив название до “…ебный”, мимо маленькой будки с надписью “Ксерокопии и солярий”. Кто его знает, подумал я, пялясь в окно, может, здесь, в Шкотово какой-нибудь передовой изобретатель, местный Кулибин создал аппарат, способный придавать коже золотистый оттенок и одновременно множить изображение на бумаге.
На заброшенных домиках давно облупилась краска, но еще можно угадать, какого цвета они когда-то были. Полустертые снегами и дождями телефонные номера на дощатых стенах сообщали о том, что домики продаются, а также о том, что не продадутся уже никогда.
– Сколько же в Шкотово живет людей? – спросил брат, когда мы проехали поселок.
– Сейчас гляну в Википедии! – отозвался я и, загуглив в телефоне “Шкотово”, начал читать вслух: – Поселок городского типа… тра-та-та… на берегу Уссурийского залива… Основали в 1865 году крестьяне с низовьев Амура… назвали по имени капитан-лейтенанта Шкота… Так, это не то… Вот! Численность населения в 1865-м году составляла 34 человека, а по переписи 2013-го года…
– Похоже, что 35 человек, – усмехнулся брат.
На этих словах наша машина задергалась, зафыркала и… заглохла аккурат в десяти метрах от въезда в шкотовский сафари-парк, прославившийся пару лет назад благодаря сожительству в одном вольере козла Тимура и тигра Амура.
Мы все высыпали из машины. Открыли капот, протерли зеркала, попинали колеса… Ни одно из перечисленных действий к успеху не привело. Машина заводиться не собиралась и отказывалась подавать какие-либо признаки жизни. Не иначе происки духа капитан-лейтенанта Шкота! Наказал нас за шутки над поселком, названным в его честь! Делать нечего – пришлось вызывать эвакуатор.
– А может, на буксир попроситься к кому-то? – робко поинтересовался я, предвкушая томительное ожидание автомобильных спасателей.
– Автомат вообще нельзя буксировать, – отрезал папа и, сообщив, что до приезда эвакуатора еще куча времени, предложил скоротать его в сафари-парке.
Тут уже уперся я.
– Ни за что! Не желаю видеть мучения животных!
– Чтоб я так мучился, как они живут! – сказал отец и, ожидая поддержки, перевел взгляд на маму. Мама не подвела.
– Все, кто был, очень хвалят. Звери, говорят, сытые и ухоженные, вольеры чистые и просторные!
Я посмотрел на брата.
– А ты?
– А я здесь уже два раза был. Мне очень понравилось!
Оставшемуся в меньшинстве, мне только и оставалось, недовольно брюзжа, потрусить следом за домочадцами.
Расположившийся на восьми гектарах леса Сафари-парк был разделен на три маршрута. Первая экскурсия – тигры, копытные, леопарды и медведи. Вторая – хищные звери и птицы. Третья – львы. Мы единодушно решили двинуться по первому маршруту и, присоединившись к группе из десяти человек, под присмотром проводника отправились навстречу дикой природе.
На входе нас встречал огромный козел с длинной черно-белой шерстью и закрученными рогами. Он самозабвенно чесал бок о решетку забора и не обращал на нас никакого внимания. Проводник по имени Дима, долговязый веснушчатый парень с сумкой через плечо, набитой комбикормом, торжественно объявил, что перед нами Тимурид – сын того самого Тимура.
Тут следует пояснить, что слава настигла козла Тимура около трех лет назад, когда его бросили в вольер к тигру Амуру в качестве добычи, чтобы охотничий инстинкт у хищника в неволе совсем не зачах. У Тимура тогда даже имени никакого не было – козел и козел. Зачем добыче имя? Однако в планы козла не входило становиться добычей, и как только тигр приблизился к нему, тот угрожающе выставил вперед рога и двинулся на обескураженного хищника. Смертоубийства не произошло. Получивший неожиданный отпор тигр страшно зауважал козла. Так началась крепкая мужская противоестественная дружба, превратившая Шкотово в туристическую мекку. На протяжении двух с половиной месяцев новоиспеченные приятели оставались неразлучны. Они вместе обедали и играли в мяч. Вместе гуляли по огромному вольеру и спали. Тигр даже уступил козлу свой лежак. Просто малый проект Эдема! Китайцы целыми автобусами приезжали в Шкотово, чтобы поглазеть на необычную пару. А предприимчивые сотрудники сафари-парка тут же стали вести на своем сайте онлайн-трансляции из вольера, установив по всему периметру видеокамеры.
Дружба могла продолжаться и дальше, если бы козел не проявил свою козлиную сущность. Тимур начал задирать Амура, за что и получил по рогам мощной тигриной лапой. Сказка разрушилась. Love story не случилась. Пострадавшего срочно эвакуировали из вольера. В местной ветеринарной клинике зафиксировали нанесенные сожителем побои и специальным рейсом отправили на лечение в Москву.
Вся страна с замиранием сердца следила за дальнейшей судьбой козла. Средства массовой информации только подогревали интерес общественности, выдавая заголовки один другого громче: “Сотрудница сафари-парка раскрыла тайну невероятной дружбы тигра и козла”, “Лечение козла Тимура в Москве займет месяц”, “Бывшая хозяйка козла Тимура рассказала о прошлой жизни звездного козла”, “В Приморье пройдет конкурс невест для козла Тимура”… Слава вчерашней добычи развивалась стремительно. В китайских соцсетях появились аккаунты Тимура, в Хабаровске поставили мюзикл о его жизни с тигром, пригласили на съемки одного из центральных каналов и даже выписали на ВДНХ в качестве основного хедлайнера на открытии фермерской аллеи. А кому-то и вовсе пришла в голову идея отлить в бронзе эту одиозную парочку с последующей установкой скульптурной композиции при въезде в сафари-парк. Даже объявили сбор средств на создание монумента. Но сбор, к счастью, остановился, не успев начаться, как часто у нас бывает.
Когда Тимур после длительного лечения вернулся в родные пенаты, дирекция парка приняла нелегкое для себя решение не помещать его обратно в тигриный вольер. А чтобы бывшие друзья не скучали поодиночке, каждому выдали по невесте. Амур утешился красавицей тигрицей по имени Тайга, а Тимура спасала от тоски коза Манька. Почему-то коз, в отличие от тигриц, благородными именами нарекать не принято. Вот эта самая Манька и произвела на свет Тимурида, который, как сообщил наш проводник, весь пошел в отца – такой же козел. К слову сказать, самого Тимура в парке не оказалось. Наверное, отправился в гастрольное турне по городам Приморского края.
Наша группа при виде Тимурида страшно оживилась: “Это же сын Тимура! Сын Тимура!” Люди расчехлили свои фотоаппараты и бросились фотографироваться с отпрыском самого знаменитого в мире козла. Всех насмешила одна сумасбродная мамаша, которая в исступлении тормоша своего малолетнего сына, кричала: “Толик, посмотри! Это же сын Тимура и Амура!” У мальчика с самого детства могли бы сложиться весьма превратные представления о зоологии, однако всё его внимание в этот момент занимала божья коровка, ползшая по тыльной стороне его ладошки.
Когда с фотосессией было покончено, мы неспешно двинулись по дорожке куда-то вглубь парка. Экскурсовод водил нас по расположенным над вольерами высоким смотровым мосткам, с которых можно наблюдать за привольной жизнью животных, при этом совершенно их не тревожа. Перво-наперво пошли смотреть на тигра. Амур дремал, вальяжно развалившись на траве среди стволов деревьев, и на внешние раздражители, то есть на нас, не реагировал.
– Все помнят, чем знаменит тигр Амур? – спросил у группы экскурсовод Дима, и сам же ответил: – Тем, что два с половиной месяца прожил с козлом!
– Тоже мне достижение, – фыркнула одна дамочка, – я вот двадцать лет с козлом прожила, мне почему-то на памятник не собирали.
Все рассмеялись. Не смеялся только спутник дамочки. Он раскраснелся от стыда и с обидой в голосе пробормотал, чтобы она не слышала что-то вроде: “Тоже мне тигрица”.
– Кстати говоря, дружба Тимура и Амура не такая уж и уникальная, – заговорческим полушепотом сообщил нам проводник Дима. – Михаил Пришвин в своих дневниках описал похожую историю. В августе 1931 года в зоопарке за Владивостоком один режиссер задумал снять тигра в момент, когда тот хватает дикую козу, только что пойманную в тайге. – Дима жестом фокусника выудил из сумки сложенный вдвое лист бумаги с напечатанным текстом и зачитал отрывок из записей Пришвина:
“Отлично опытный оператор Мершин, хорошо замаскированный, направляет свой объектив, дает сигнал. Дверца открывается, тигр осторожно выходит, оглядывается, пригибается и делает гигантский прыжок не на козу, а в чащу. Крепкая сетка отлично спружинила, и тигр летит обратно торчмя головой. Он делает скачок в противоположную сторону, и опять то же самое: назад торчмя головой. Ошеломленный неудачей голодный тигр медленно направляется к козе, чем ближе, тем тише… Но он не пригибается, как кошка для прыжка, нет. И коза, видя уже тигра, не бежит, а занимается травой. Тигр подбирается робко к козе и начинает осторожно лизать козе ляжку. Тигр своим грубым языком долизался до мяса, козе стало больно, и она вдруг пикнула, и от этого пика только раз один: пик! – и уссурийский тигр в ужасе бросается, делая скачок в чащу и летя оттуда обратно к козе торчмя головой. Теперь удивленная коза подходит к несчастному…”
Вот тебе раз! Оказалось, что дружба Тимура и Амура – это всего-навсего ремейк.
От парка тигров мы переместились к парку копытных, где на одной огромной территории бесконфликтно соседствуют северный олень, кабарги, самка изюбря, косули и пятнистые олени, прозванные за красоту китайцами “хуа-лу”, что означает “Олень-цветок”. Самец пятнистого оленя на приветствие “Олень, добрый день!” почтительно склонил перед нами голову, увенчанную ветвистыми пантами.
– Просьба не путать с понтами, – попросил Дима, – потому что понты – это дешевая показуха, а панты – это рога молодого оленя, наполненные кровью и покрытые тонкой кожей с короткой мягкой шерстью. Понты пацаны на районе бросают, а олени свои панты в конце зимы сбрасывают.
Все звери в парке копытных оказались страшными попрошайками. Тонконогие косули и красно-рыжие олени, которые в естественной среде пугаются любого шороха, наперегонки кинулись к нам, как только увидели, что экскурсовод раздал каждому по горстке комбикорма. Мокрыми теплыми носами эти грациозные создания тыкались в наши ладони и с удовольствием подбирали шершавыми губами угощение. Только маленькая гордая саблезубая кабарга, притаившаяся на скалистом склоне, не польстилась на наши подачки да еще огромных размеров самка изюбря по имени Бусинка. Бусинка дремала в тени высокого дерева и на окрики нашего проводника не отзывалась. Когда тот кинул ей морковку, Бусинка лишь лениво проследила взглядом дугообразную траекторию ее полета, но с места не сдвинулась.
– Какая гордая! – восхитился я.
– Не гордая, а сытая! Вы на сегодняшний день двенадцатая по счету группа. Она просто уже наелась!
Покинув парк копытных, мы очутились во владениях дальневосточных леопардов. Леопардов здесь двое. Мальчик и девочка. Великоросс и Рона. Пара получилась интернациональной, поскольку Великоросс – чистокровный чех, прибывший в приморский сафари-парк из Праги. А Рона – натуральная хохлушка – доставлена из украинского города Николаевск. Такой вот мезальянс. Брак их можно смело назвать гостевым и независимым, поскольку проживают молодожены в разных вольерах.
– Кто знает, как правильно называют самок леопарда? – поинтересовался наш проводник Дима.
Мы начали гадать.
– Леопардиха!
– Леопардица!
– Леопардочка!
Дима выдержал театральную паузу и торжественно произнес:
– Леопардесса!
Вот тебе и самка леопарда. С таким названием впору леопарда именовать самцом леопардессы, а никак не наоборот!
От леопардов всё по тем же подвесным мосткам мы переместились к парку бурых медведей, расположенному на крутом каменистом склоне. Сложив руки рупором, наш проводник закричал: “Маша! Миша! Ням-ням!” Магическое “ням-ням” сработало безотказно – пара пушистых медвежат кубарем скатились к нам по склону, за что тут же получили по куску белого хлеба. Хлебный мякиш моментально исчез в медвежьих пастях, как будто эту парочку неделю морили голодом. Но, разумеется, ни о каком голоде не было и речи. Ежедневный рацион косолапых поражал разнообразием (вареная рыба, каша с сухофруктами, тыква) и вызывал желание напроситься на пару месяцев к ним в вольер третьим, чтобы немного подкормиться на зоопарковых харчах.
Показали нам и ушастую сову по имени Яшка. Похожую я видел на Куршской косе во время экскурсии по орнитологической станции. То, что нам представляется ушами, на самом деле не уши, а перья – для заманивания партнера с целью последующего его охмурения. Уши, конечно, тоже имеются, они спрятаны в перьях. Путешествует эта сова только один раз в жизни, в отличие от других птиц, которые мотаются в Египет, Марокко и Алжир каждую осень. Вот живет сова двадцать лет, а слетает в Европу один раз, пока молодая. С возрастом становится ленивой и никуда не летит.
На Куршской косе ушастых сов специально заманивают в ловушку, чтобы побольше их окольцевать. Как заманивают? В хорошую лунную ночь орнитолог прячется под сосной и достает научный прибор для заманивания сов, который представляет собой игрушечную мышку-пищалку. Три-четыре часа пищит, и совы, думая, что нападают на какую-нибудь полевку, попадают в ловушку. При этом в детских книжках пишут – мудрая сова, мудрая сова… Да какая же она мудрая! Наивная и доверчивая – любой резиновой игрушкой обмануть можно. То ли дело серая ворона. Вот кто профессор среди птиц! Бросьте вороне грецкий орех. Думаете, она его клювом решит колоть? Дудки! Клюв слабый, дураков нет. Она этот орех подбросит под колесо машины. Машина тронется с места и раздавит орех, а ворона подлетит и соберет клювом раздавленное зернышко. Вот это интеллект! А у всех остальных – инстинкты.
Экскурсия по сафари-парку завершилась у ворот, которые были завешаны окостенелыми оленьими рогами.
– С рогами можно сфотографироваться! – предупредил Дима и добавил: – Если есть желающие, можно даже примерить!
Женская часть нашей группы с энтузиазмом откликнулась на предложение сфотографироваться с рогами, а мужчины смущенно топтались в сторонке и инициативу проявлять явно не собирались.
Эвакуатор приехал за нашей машиной аккурат к концу экскурсии. Уходили мы из сафари-парка довольные, счастливые и под завязку надышавшиеся фитонцидами. В сумке побрякивали магниты и брелоки из местной сувенирной лавки. Вдогонку неслось напутствие проводника Димы: “Если хотите что-то узнать о природе – читайте Пришвина!” Сумасбродная мамаша продолжала тормошить свое чадо:
– Толик, кто тебе понравился больше всех – тигр, медведь или леопард?!
Толстощекий мальчуган, поглядывая на свою ладошку, отвечал:
– Больше всего – божья коровка.
Олег Филимонов Молитвенный удав
У нас в доме кого только нет – всякой твари по паре, как в Ноевом ковчеге, хотя встречаются и одинокие души, особенно женского пола, и это легко понять, учитывая высокую кривую смертности среди мужской половины носителей русского языка. Феминизация, называется процесс, когда речь захватывают женщины. Например, во втором подъезде у нас с незапамятных времен живет одинокая соседка преклонных лет, читающая по ночам молитвы так громко, что слышно в каждой квартире, примыкающей к ее однушке – сверху и снизу и со всех сторон.
Жильцы нашего дома по-разному относятся к этим всенощным бдениям. Кого-то убаюкивает монотонное “господи, помилуй” из-за решетки вентиляции. Кого-то бодрит. Очень радуются затраханные кредитами бюджетники, которые сами не успевают позаботиться о спасении души, но тоже хотят жить после смерти. Для них соседкины речитативы – мед в уши, бальзам на сердце и ангельский рок-н-ролл.
А других, наоборот, корежит. Сильно страдают люди с нечистой совестью, всякие нервные либералы, которые ругают бедную женщину “фанатичкой”, бьются об стену в припадке бессонной истерики и утверждают, что жить “в этой стране” стало невозможно.
Но усердная молитвенница презирает внешние раздражители и всегда без запинки отчитывает тысячи просьб о своем помиловании. Под утро она затихает, умирая для мира до следующей ночи.
Ее персональные данные никому в нашем доме не известны. Любопытные женщины из второго подъезда регулярно сканируют амбразуру почтового ящика отшельницы, но за годы слежки сумели разжиться только жалкими крохами информации. Фамилия да инициалы – Шмидт Е.Е. – вот и весь улов. Много ли узнаешь о человеке из жировок за квартиру и газ? В ящике “Для писем и газет”, по старинке висящем на двери в квартиру Шмидт, никогда не бывает ни того, ни другого. Никакой пищи для размышлений. Ноль калорий.
Поэтому умирающие от любопытства соседки тренируют фантазию. Курят на лавочке у подъезда, перебирая смертные грехи. Больше всего им нравится “не прелюбодействуй”, они прикидывают, что загадочная бабка не всегда была старой перечницей и запросто могла подгулять с женатым мужчиной во времена борьбы с космополитами, а он как раз и был из этих – еврей среднего звена, начальник цеха, или типа того. В результате внебрачной связи родился мальчик, безотцовщина, потому что он ее бросил – этот завцеха – все они такие, и тогда она со злости написала на него донос в КГБ, и еврея с удовольствием расстреляли, а его законная жена в ответку отравила незаконнорожденного, потому что работала врачом в детском садике и запросто могла подсыпать мальчику яду в компот. Точно, девочки, это похоже на правду, что-то такое у нас в городе было… “убийцы в белых халатах”. А шмидтиха потом кончила ту врачиху, пырнула ножом или толкнула под трамвай. И получила десять лет или даже пятнадцать. С тех пор, отбыв наказание, молится о своем преступлении и невинно загубленных душах. Как-то так.
Хорошая история. Кто скажет, что такого не могло быть? И не такое бывало. Жизнь только и делает что удивляет нас поворотами сюжета. Кажется, в две тысячи четырнадцатом в нашем же втором подъезде у одной женщины открылся третий глаз. Как-то утром она пошла в магазин, и там ей стало плохо. Вызвали “скорую” – думали, гипертонический криз. А оказалось, что она просто увидела, из чего сделаны продукты питания, магазин, конечно, был сетевой, для затраханных бюджетников, которые всегда ищут желтые ценники и покупают белорусский пармезан. Бедная женщина с третьим глазом долго не протянула в нашей суровой действительности – к осени прибралась, но перед смертью шепнула, что на наш дом в ближайшем будущем обрушатся несчастия. Так оно и случилось.
Потому что, в отличие от экстрасенсов, мы видим только маленькую верхушку айсберга жизни и боимся признать, что в основе своей жизнь – это хтонь.
Доказательство явилось в квартиру Е.Е.Шмидт ранним утром хорошего летнего дня, в начале шестого часа, когда весь дом подскочил как ужаленный, от крика из-за стены: на помощь! милиция! Дедуктивные соседки немедленно вызвали службу спасения, предчувствуя момент истины и срывания масок.
Вскоре картина происшествия была ими восстановлена до мельчайших деталей путем опроса покидающих квартиру Шмидт чуть живых от смеха сквозь слезы работников МЧС. Блоггеры нашего дома моментально расшарили в Сети эту историю, суть которой женская общественность резюмировала злорадно: поделом ей!
Там вот что случилось. На рассвете, уже на финише молитвенного марафона, Шмидт внезапно ощутила присутствие на своей жилплощади чего-то подвижного и чужого. Огонек в лампаде перед иконами затрепетал и погас, как будто его задули. Шмидт оглянулась на дверь, закрытую изнутри на защелку, она всегда так делала, входя в комнату или выходя из комнаты, как бы разделяя квартиру на зону своего присутствия и внешнюю пустоту. Обычный пунктик одиночества, старающегося держать всё под контролем. Но тем неуютнее одинокому, когда в его скорлупу пробирается странное, когда из пустоты, где не должно быть ничего, доносятся звуки загадочного происхождения, когда что-то, чмокая, шмякается об пол, словно уронили мокрую тряпку. Не чувствуя сил отмахнуться от странного, Шмидт встала с колен, подошла к двери, отделяющей комнату от коридора, и, затаив дыхание, отомкнула замок. Она сделала узкую щель, чтобы глядеть наружу одним глазом. Но ничего страшного не увидела. Знакомая, чисто выметенная пустота. Узоры кухонных занавесок, просвеченные лучами утреннего солнца, бесшумно колышутся на сером линолеуме. Щебечут во дворе птицы, шоркает ранней метлой жена дворника Сахидо, суфийского мистика. Летний мир благодатен и тих, как обычно, только в совмещенном санузле происходит непонятная жизнь. Шмидт приложила ухо к двери уборной, запертой снаружи на шпингалет, – и вот опять этот звук мокрой тряпки, волочащейся по полу. Что за чудеса? Что за незваный гость в такой ранний час? “Чертовщина!” – подумала Шмидт и, осенившись крестом, громко спросила запертую комнату: “Кто там?” Ответа не последовало, но возня внутри продолжалась.
Ответственная квартиросъемщица решительно щелкнула выключателем. Полоска света упала к ее ногам из-под двери, как будто оттуда просунули лист желтоватой бумаги. За дверью наступила тишина.
Постояв и послушав, Шмидт отправилась в кухню, где залезла на табуретку с целью изучения подозрительного санузла через прямоугольное окошко. Голая лампочка на витом шнуре тускло освещала белые гигиенические чаши, возле которых, на первый взгляд, не было никого, но сердце чувствовало, что кто-то там есть. Пытаясь заглянуть в углы ванной комнаты, Шмидт вплотную прижалась лицом к стеклу и затаила дыхание, чтобы не туманить поверхность.
Так она и встретилась со змеиной мордой, внезапно появившейся в окне, – нос к носу, глаза в глаза. Черные бусины блестели по бокам коричневой головы. Шкуру твари покрывал узор бледный, словно ожерелье из колбасного жира. Безгубая пасть медленно приоткрылась, и раздвоенный пурпурный язык заплясал между треугольных зубов. Шмидт невольно сделала шаг назад, в результате чего утратила опору ног своих. На секунду ей показалось, что она висит в воздухе, удерживаемая жутким взглядом чудовища, остановившего время. А затем грохнулась на пол и возопила во весь голос.
Эмчеэсники идентифицировали пресмыкающееся как “ложноногого боа-констриктора”. Попросту говоря, удава – довольно распространенного обитателя домашних террариумов. У себя на родине, в Гондурасе и Амазонии, взрослые представители этого вида достигают длины и диаметра пожарного брандспойта, наводят ужас на местное население и кушают даже крокодилов. Но у нас не Гондурас. Наши северные удавы, сидящие на диете из мышей, имеют толщину садового шланга и скромные размеры в метровом диапазоне. Особь, напугавшая бедную женщину, была невыдающимся констриктором ста восьмидесяти сантиметров. Над тем, как удав попал в квартиру, гадать не пришлось. Он просочился через канализацию и вынырнул из унитаза. Об этом свидетельствовал фекальный запах, исходящий от ложноногого. Сполоснув удава под душем прямо в ванне потерпевшей, работники МЧС запихали его в брезентовый мешок и отправились на новые подвиги.
Вскоре отыскался хозяин беглеца, одинокий ветеринар и любитель рептилий по фамилии Сергеев из четвертого подъезда. Интеллигент за пятьдесят. Вообще-то все знали, что его квартира полна экзотических тварей, но как-то забыли об этом в суматохе, а сам ветеринар ночью находился на дежурстве в клинике, где оперировал хомячка, чье внутреннее устройство по крохотности деталей сравнимо со швейцарскими часами. Утром Сергеев возвращался с работы, гордый собой и почти трезвый (он не мог не выпить за здравие спасенной зверушки, в других ветеринарках отказались делать ювелирную операцию, и владельцы хомячка, пожилая чета преподавателей лингвистики, отблагодарили доктора фляжкой “Трофейного” бренди). На пути ему встретился дворник Сахидо, который гулял по двору, проверяя за женой качество уборки территории.
– Салам алейкум, Айболит, – сказал Сахидо. – Иди в милицию, ждут тебя.
Но тут же поспешил успокоить побледневшего доктора, который испугался, что это опять из-за калипсола. Со всех ног Сергеев кинулся в отделение, где его заставили подписать кучу бумажек, после чего с ухмылкой выдали удава, сложенного вчетверо и перевязанного шпагатом. К счастью, он пробыл в камере вещественных доказательств всего два часа и не успел стать жертвой критического обезвоживания.
Вернувшись домой и совершив над питомцем необходимые гигиенические процедуры, Сергеев приобрел в гастрономе торт “Графские развалины”, советское шампанское и фиалку в горшке, с которыми робко явился на порог пострадавшей от его беспечности Шмидт. Дедуктивные соседки наблюдали этот визит через дверные глазки. К их удивлению, отшельница не прогнала ветеринара и даже впустила его к себе, он пробыл внутри не менее двадцати минут и покинул квартиру с приятным выражением лица, прижимая к груди бутылку, не принятую в качестве дара. Это была информационная бомба, затмившая похождения удава в лабиринте домовой канализации. Женская общественность подняла уровень наблюдения до тревожного и в течение недели зафиксировала повторное посещение Сергеевым квартиры Шмидт.
В воздухе запахло жареными фактами. Общественность ломала голову, что общего (кроме удава) может связывать этих двоих? Посовещавшись, решили давить на слабое звено. Следующим вечером к ветеринару явились две дамы из второго подъезда, заявившие, что хотят лично видеть “бедное животное”. При себе они имели бутылку ложнокрымского портвейна. Такой аргумент Сергеев не мог игнорировать. Он принял дам по-джентльменски, выставил на стол закуску, сказал “пардоньте”, ушел из кухни, а через минуту явился перед гостьями, как Лаокоон, обвитый чешуйчатым коричневым телом с бледными узорами.
– Это Вова, – радостно объявил Сергеев.
Так все узнали настоящее имя возмутителя спокойствия нашего дома. Лежа на плечах хозяина, удав прикидывался мирным шлангом и вежливо позволял себя трогать. Разгоряченный угощением ветеринар, подробно рассказывал о повадках лично Вовы и всего семейства констрикторов.
– Они глухие от природы, – восхищался Сергеев, разливая на троих. – Выражение “слушай ухом, а не брюхом” к ним совершенно не подходит, потому что они, наоборот, чувствуют колебания почвы брюшной поверхностью, а разговаривать с ними бесполезно.
Но дамы не собирались разговаривать с Вовой. С их точки зрения, удав и портвейн были одинаковой гадостью, но, поскольку Сергеев являлся единственным источником информации о загадочной Шмидт, дамы терпели этот кошмар. После второго тоста (“за братьев меньших”) они приступили к расспросам: “Как она, бедная наша соседка, всё это пережила?”
– Прекрасно! – отвечал Сергеев. – Она удивительная женщина. Давайте за нее выпьем!
И немедленно выпил, а дамы чокнулись с ним и пригубили.
– Ну, а всё-таки, – спросили они, когда ветеринар опустошил стакан и нежно поцеловал Вову в темечко. – Как она после этого себя чувствует?
– Отлично! – был ответ. – Молится за нас, за всех. Нашему дому с ней повезло. Как говорят в народе, не стоит село без праведника. Я вот думаю, побольше бы таких людей. Ну что, еще по глоточку?
Операция провалилась с треском. Жалея выброшенные на ветер деньги, дамы сказали, что им было очень приятно. Когда они уходили, Вова насмешливо смотрел на них своими черными бусинами. Как будто замышлял что-то дерзкое.
И ведь что оказалось? На самом деле замышлял, гад ползучий. Буквально через пару ночей, когда его хозяин вновь дежурил у себя в клинике, удав выбрался на свободу и пошел протоптанной дорожкой (если можно так сказать о существе, не имеющем ног) по направлению к туалету. Овившись вокруг основания фаянсовой чаши, Вова напоминал эмблему медицины. Затем он нырнул в сливное отверстие и исчез.
Наутро, придя с работы, Сергеев почувствовал себя брошенным и преданным, как будто ему плюнули в сердце. Но даже глубокая обида, усугубленная дешевым напитком из гастронома, не помешала ветеринару исполнить общественный долг. Качаясь, он обошел все сорок восемь квартир нашего дома, разнося дурную весть: “Он опять убежал. Люди, будьте бдительны!” Выслушивал заслуженную брань и шел дальше, как мученик, несущий свой крест.
Шмидт ему не открыла.
– Кто? – спросила она.
– Это я. Он не у вас?
– Нет. Уходите.
– Но я хотел вам сказать…
– Прощайте.
Сергеев очень расстроился и окончательно помрачнел. Должно быть, он наивно рассчитывал на сочувствие отшельницы, однако ее психология оказалась еще более загадочной, чем внутренний мир рептилии. А жильцы дома – что делать? – приняли меры. Крышки унитазов были опущены и придавлены сверху тяжелыми предметами. В тяжелый кошмар превратилось отправление естественных человеческих надобностей. Каждый отправляющий надобности с ужасом ждал появления Вовы, представляя, как удав блуждает в клоаке и, возможно, прямо сейчас ищет выхода на поверхность.
Измученные неизвестностью люди обрывали телефоны представителей власти, требуя решить проблему. Представители власти навестили простых людей и постарались их успокоить, но делали это так неубедительно, их растерянность бросалась в глаза, ясно было, что они не имеют опыта ловли змей в канализации и не могут предложить хотя бы подобия реалистического плана действий. Несколько проживающих в нашем доме либералов, верящих в силу общественного резонанса, запустили на сhange.org петицию “Избавьте нас от Вовы!”, которая набрала 117 жалких подписей. Отдельные паникеры собрались немедленно валить и выставили свои квартиры на продажу, но риелторы, пронюхавшие о нашей беде, бесстыдно опускали цены.
Писучие блоггеры создали ВКонтакте группу “Очковая змея”, полную шедевров сортирного юмора. Вскоре на запах скандала подтянулось телевидение. Журналисты записывали стендапы во дворе нашего дома и пытались взять интервью у Сергеева, который ни с кем не хотел разговаривать, превратившись в совершенного мизантропа. “Как вы думаете, почему он ушел?” – допытывалась через дверь самая настойчивая журналистка.
– По кочану! – рявкнул ветеринар.
Свой материал девушка назвала оригинально: “Свобода лучше, чем несвобода”.
Благодаря этой медиашумихе жильцы нашего дома познали горький вкус славы. Особенно жаль Сергеева, ему не повезло, все его ненавидят, но мир так устроен – жертвы должны быть.
Прошла неделя, другая, и люди успокоились, привыкли жить с чувством постоянной опасности, которое незаметно сделалось частью их повседневной рутины. Тем более что удав так и не вышел к людям. Скорее всего, он погиб (трагическая развязка), или просочился в другую коммунальную сеть (открытый финал), или сумел каким-то чудом (хеппи-энд) пробраться в естественный водоем, протекающий в полукилометре от нашего дома.
Е.Е.Шмидт продолжает истово молиться, одержав победу над последним искушением этого ужасного мира.
Булат Ханов Гюго
Если вам задают вопрос с двумя вариантами ответа, смело отрицайте оба. Без разницы, к какому из них вы склоняетесь. Вопросы с двумя вариантами ответа – феномен из разряда терпимых, но отнюдь не желанных. Это примерно как верхняя боковушка в плацкарте, как гель для душа на 23 Февраля или как тусклая речь в Совете Федерации. Неважно, между чем выбирать – между Толстым и Достоевским, между Роналду и Месси, между чаем и кофе, между верой в Бога и его отрицанием – это всё для лишенных воображения и гибкости мысли.
Иногда от выбора не отвертеться – скажем, в парикмахерской, когда вопрос “Вам виски прямые или косые?”, несмотря на логичность и предсказуемость, вызывает секундное замешательство из-за настоятельной необходимости определиться. В остальных случаях ставьте вопрошающего на место, указав на ущербность бинарных оппозиций и на самонадеянную интонацию. Можно сослаться на Деррида, если вас не страшит перспектива прослыть снобом.
И уж ни в коем случае не попадайтесь в зоологическую ловушку, если у вас поинтересуются, кошатник вы или собачник. Назовите лангустов, горностаев, кондоров, лам, яков, гиен, крокодилов или, на худой конец, тараканов. Никаких кошек и собак, потому что у этих существ армия приверженцев и без вас неисчислима. Если ваш голос ничего не решает, зачем подчинять его хору?
Памятуя о моих принципах и пристрастиях, мне подарили морскую свинку. К дару я отнесся с подозрением и холодностью. С одной стороны, это не кошка, не собака и не удав Голубчик, которого надо кормить мышами, а представитель травоядных, как я люблю. С другой, в свои девятнадцать я чувствовал себя на все семьдесят и тяготился лишними привязанностями.
– Назови ее Гексли, – предложила Рита.
– Не мой дуал, – возразил я. – Робеспьеру больше Гюго подходит.
– Какие мы просвещенные!
– Твоя школа.
Рита увлеклась соционикой на первом курсе, заразила ею меня, а затем быстро к ней охладела. На тот момент когда Рита вручила мне морскую свинку, я по привычке типировал каждого, кто хотя бы на минуту появлялся в моей жизни и считал филфак ошибкой молодости, потому что психология объясняла мир круче и убедительнее.
Неудивительно, что, перебрав с десяток имен, я все-таки остановился на Гюго.
Мы с Ритой пикетировали против контактных зоопарков, срывали цирковые афиши в метро, раздавали антимеховые листовки и мечтали крушить промышленные фермы, где разводят кур, свиней или кроликов. Мы славно дружили, а Гюго сделала нас по-заговорщицки близкими и в то же время внесла в дружбу ноту недоговоренности и разлада. Я не хотел делить Гюго с Ритой, а Риту – с Гюго, а потому ревновал их друг к другу. Как если бы мы завели ребенка, а он обрел в моих глазах самостоятельную ценность.
Говорил же, с привязанностями у меня не очень.
Репутация у травоядных так себе. Считается, что они глупее хищников и слабее. Против травоядных сложилось предубеждение, что они пугливые и скучные, что они обделены ловкостью и грациозностью, что они, за неимением острых клыков и когтей, не цепляются за жизнь, что они не умеют развлекаться и что все мысли у них о корме да о тепле.
Сравнения с травоядными несут в себе уничижительный компонент. Курица, корова, олень, овца, баран, коза, серая мышь – всё это звучит, прямо скажем, провокативно и совсем не лестно. Зубр, величественное парнокопытное, на первый взгляд, выпадает из этого ряда. Зубрами нарекают маститых специалистов своего дела. Но и здесь есть подвох. Короткое слово с мощным “р” на конце подхватывает в русской традиции иронические обертоны, и зубром называют, например, почетного, но не в меру консервативного академика, который на защитах диссертаций то засыпает, то лезет с неуместными вопросами.
Гюго и не ведала, что за нею по причине ее травоядности тянется шлейф негативных культурных ассоциаций. Робкая и беспокойная, она тем не менее сразу обозначила свои принципы и пристрастия. Гладить ее позволялось по голове и по спине, но не по бокам, и в случае неподобающего обращения свинка взвизгивала или кусала без предупреждения. Помидоры и груши она категорически отвергала, а огурцы и перец поедала с большим аппетитом.
Черепаховый окрас Гюго распределялся по тушке равномерно: задняя половина туловища – черная, середка – рыжая, голова тоже черная. Ее венчал белый хохолок, придававший виду свинки боевитости и задиристости.
Когда Гюго исполнился год, моя сестра притащила домой серого котенка. Его вместе с белым братиком кто-то оставил в коробке на лестничной площадке, не без оснований рассчитывая на человеческую сентиментальность. Белый в руки не дался и убежал, а серый отважился переступить порог квартиры. Со свалявшейся шерсткой и с торчащими ушками, с жалобным выражением на мордочке, он был рожден ловить симпатии. Котенок забавно лакал молоко и носился по ковру. Обычно так и начинаются мелодраматические истории о домашних любимцах. Этому комочку счастья, обреченному на несчастья и страдания, мы спасли жизнь, а затем благодарный милый сорванец целых семнадцать лет радовал нас и сплачивал всю семью…
Такие сценарии раздражали меня слащавостью. Я давно научился различать в кошках неблагонадежных существ с гонором и претензией на исключительность. Неблагонадежные существа быстро осознавали, что их наделяют статусом, близким к божественному, и без тени сомнения пользовались свалившимися на них привилегиями.
Этот котенок моментально смекнул что к чему и научился извлекать выгоды из своего положения. Он спал днем и разгуливал ночью, он мешал читать и смотреть телевизор, он нахально и недвусмысленно требовал тепла и ласки. Гюго при встрече с ним осторожно приближалась к неопознанному объекту и вытягивала мордочку, изучая исходящие от него запахи. Котенок, сам размером немногим больше свинки, угрожающе поднимал лапу с выставленными когтями и всем видом показывал готовность пустить их в ход.
Сестра убеждала меня, что ее протеже не проявит агрессию. В Сети, мол, есть статьи о кошачьей психологии, где говорится, будто эти милые пушистые комочки счастья якобы воспринимают других домашних животных как членов семьи и не причиняют им вреда. Я лишь хмыкал и морщился, потому что доверял статьям из интернета столько же, сколько и котам. Если эти избалованные хвостатые интриганы до поры и сдерживают свои охотничьи амбиции, то лишь по причине малодушия: они боятся навлечь на себя хозяйский гнев и потому обозначают внешнее согласие с символическими границами. При первом же удобном случае границы эти будут попраны.
Вскоре после пополнения нашего семейства мы все-таки сообразили отнести котенка к ветеринару. Он же с улицы, мало ли что.
Ветеринар обнаружил у серого лишай и порекомендовал его усыпить.
Гюго избежала лишая, как и я, а вот сестра не убереглась.
Мы поинтересовались у ветеринара, нет ли нужды стерилизовать морскую свинку, раз мы все равно не собираемся заводить ей пару.
– Мы за такое не возьмемся, – открестился ветеринар. – Удаление матки у свинки – это филигранная работа, велик риск, что животное умрет во время операции. И с наркозом тяжело рассчитать, и сама матка крохотная. Этим занимаются штучные специалисты по стране, и дерут они порядочно. И даже они вам гарантии не предоставят.
Издалека представлялось, что глаза у Гюго черные, без полутонов и переходов. При пристальном же рассмотрении за черной оболочкой различались контуры радужки и зрачка.
Если свинка чего-то боялась или тревожилась, взгляд ее метался, словно вычисляя степень угрозы. Чаще всего же в глазах Гюго читались бдительность и сосредоточенность. Она лежала в своей клетке и оценивающе наблюдала за происходящим в комнате, вслушиваясь в самые незначительные из звуков. Свинка не реагировала на громкий разговор или на шум телевизора, зато вздрагивала от скрипа шкафной дверцы или от падения карандаша и урчанием обозначала недовольство. Животные моментально фиксируют нарушения в будничном круговороте вещей и тяжело переносят новшества.
За все годы я считаное число раз видел, как Гюго смыкала веки для дремы или сна. Малейший шорох настораживал ее, а застать ее спящей крепко мне не удавалось. Даже пробуждаясь посредине ночи, я аккуратно направлял в ее сторону свет от экрана телефона и обнаруживал чуткое существо смотрящим на меня. Когда я задерживался со сном из-за компьютера или книги, чувствовал вину перед свинкой за то, что крал ночное время и у нее. Кто знает, осуждала ли она меня в те моменты? Мучилась ли от собственной слабости и беззащитности? Испытывала ли тоску за отсутствие у себя голоса, который мог бы поставить меня на место?
В 1974 году американский философ Томас Нагель написал статью “Каково быть летучей мышью?”, где доказывал, что нам никогда не вжиться во внутренний мир живых существ, отличных от человека, их запросы и намерения. Ни передовых научных изысканий, ни глубинной эмпатии и чуткости недостанет, чтобы представить себя летучей мышью, или шимпанзе, или морской свинкой и достоверно объяснить их поведение. Всё так или иначе сводится к известной максиме Витгенштейна: “Умей лев говорить, мы не могли бы его понять”.
Тем не менее я усвоил, что, если на ночь вынести Гюго в пустую комнату, где ее не отвлекают мое дыхание или переворачивания во сне, она может замкнуться в себе, долго не откликаться на ласку и не есть предложенную пищу.
На шестой год Гюго перестала в нетерпении вставать на задние лапы, когда ей несли ее любимые огурцы или свежую траву. А на седьмой она уже мало двигалась, когда ее выпускали побегать на ковер. Она уже не кусалась. Справочники отмечали, что морские свинки живут в среднем от шести до восьми лет и лишь невысокий процент перешагивает этот возраст.
Я знакомил с Гюго своих друзей, а иногда она мне снилась – вылезающей из рюкзака посреди похода или плывущей со мной на плоту после наводнения. Сколько себя помню, это единственное животное, которое являлось мне в снах.
Я получил свое филологическое образование и защитил кандидатскую, которая мне не то чтобы пригодилась. Психология и ее полуэзотерические ответвления вроде соционики утратили свое очарование, а сам я увлекся критической теорией и психоанализом. С Ритой мы тоже видимся редко, хоть идея разрушать промышленные животноводческие фермы по-прежнему не представляется мне радикальной или противоестественной.
Гюго резко сдала, когда ей исполнилось семь. Она забивалась в угол клетки и безотрывно смотрела перед собой. Ветеринар, уже другой, сделал УЗИ и, диагностировав воспаление матки, назначил курс инъекций.
Поначалу уколы взбодрили свинку: у нее улучшился аппетит, и она оживилась. Однако эффект был краткосрочным, и вскоре Гюго снова овладели слабость и безразличие. Ветеринар сообщил, что гноя в организме скопилось слишком много и операцию свинка не вынесет.
Гюго отказалась от еды, вытянула перед собой лапки и через день умерла.
Я всегда завидовал тому, с каким достоинством умирают животные (если их, конечно, не отстреливают, не подвешивают на крюк и не убивают иным конвейерным способом). Они не докучают никому, не требуют, чтобы их последние часы окружили заботой и почтением; не отдают распоряжений и не манипулируют сочувствующими; не предпринимают ничего, что походило бы на истерику.
Животные умирают медленно и бесшумно, угасают, погруженные в себя.
Людмила Улицкая Авва
В конце 44-го года Елена Михайловна, работник Метростроя, получила ленд-лизовский подарок. Из-за того, что очередь была длинной, а она припоздала, яичного порошка, тушенки в черно-золотой банке и шоколада ей не хватило, а досталась ей детская игрушка из большой коробки с изображением орла, парящего над кораблем. Игрушка оказалась собачкой, скорее даже щенком – из грязновато-серого лохматого плюша, с коротким торчащим хвостом, висячими ушами и пуговичными глазками. Собачка эта была сущей мелочью изо всех ленд-лизовских даров, потому что остальные десять миллиардов американских долларов пошли на самолеты, машины “Виллис” и прочие необходимые для Красной армии вооружения. Но внучка Мила этого знать не знала и собачке обрадовалась. Двух лет ей еще не исполнилось, но она была сообразительная девочка, схватила щенка, прижала к груди и сказала “Ав-ва”. Это было первое имя собачки, которой выпала очень длинная и счастливая жизнь.
С двух лет до семнадцати Мила засыпала, положив Авву рядом с собой на подушку, шепча в собачье ухо обо всех своих горестях и радостях. Главным образом о горестях. Эту психологическую помощь Авва оказывала хозяйке много лет, а начиная с семнадцати Мила предпочитала видеть рядом с собой уже не совершенно бесполую собачку, а существо противоположного пола, которое по части утешения сильно превосходило собачку. Авва тогда переехала в соседнюю комнату большой квартиры, где жили Милины двоюродные братья, вошедшие в тот возраст, когда дети начинают интересоваться собачками.
Мальчики-близнецы, Петя и Павлик, тоже внуки Елены Михайловны, первое время жестоко ссорились из-за собачки, потому что каждому хотелось с ней играть именно в тот момент, когда к ней прикасался брат. Тогда появилось у собачки сразу два новых имени – Павлик нарек ее Альмой, а Петя Рексом. Павлик назначил ее санитаром, цеплял на лапу бумажное кольцо с нарисованным красным крестом и ползал по воображаемому полю боя в поиске раненых бойцов. Петя играл в пограничника, и Рекс был ему необходим для охраны границы и ловли шпионов. На полу он рисовал мелом широкую полосу, сладострастно ловил брата, когда тот пересекал меловой рубеж, и давал ему тумака.
То обстоятельство, что собачка была в единственном экземпляре, а хозяев двое, придавало их любви соревновательный характер. Мать в конце концов купила вторую собаку, но Альма-Рекс оставалась яблоком раздора. Новая, покупная, может, была и получше, но братья полюбили собачку первой любовью… Иногда они ссорились перед сном, до бурных слез – каждый хотел непременно засыпать рядом с Альма-Рексом. Предсонные слезы, как известно, способствуют быстрому засыпанию. Когда интерес к машинкам заменил привязанность к мягким игрушкам, они добровольно подарили двуимянную собачку Милиной дочке Сашеньке, которая приходилась покойной Елене Михайловне правнучкой.
Мила, взглянув на сильно несвежую собачку Авву, с горечью подумала о том, что бабушки Елены Михайловны давно нет, да и мама ее не так давно умерла в нестаром возрасте, а вещи остаются почти нетленными. После чего отнесла собачку в химчистку. Теперь это была слегка потрепанная, но чистенькая собачка, и Милина дочка Саша назвала ее новым именем – Кутя.
Мила с улыбкой смотрела, как дочка шепчется о чем-то с новой игрушкой. Кутя несла свою собачью службу исправно: привязанная к веревочке, таскалась за новой хозяйкой по квартире, потом стала выходить с ней на прогулки. И конечно, она стала спальным партнером Сашеньки. Лежала рядом на подушке, девочка заботливо подтыкала одеяло со всех сторон и посвящала во все свои незамысловатые тайны. Кроме того, было что-то снотворное в прикосновении плюша, особенно в те недели, когда девочка болела. Именно собачку первой утыкали носом в таблетки и микстуры перед тем, как их проглатывала Саша.
Лет с десяти Саша просила, умоляла, а потом и требовала, чтобы ей купили живую собаку. Мила, умеренный противник домашних животных, в конце концов сдалась. Купили маленького серого пуделя Брома. Бром гадил по углам, грыз обувь и отказывался возвращаться домой с прогулки, норовил сорваться с поводка и убежать. Любимую Сашину игру, переодевание, к которому так снисходительно относилась Кутя, Бром не терпел: на него нельзя было надеть шарф или шапку и замотать в платок. Он мог и куснуть! Однажды он отгрыз у Кути глаз, чем очень огорчил и Сашу, и ее мать, тем более что откусанный глаз Бром безвозвратно проглотил. К тому же Бром претендовал на место Кути, вспрыгивал в Сашину кровать и скулил, когда его оттуда гнали. В доме от него было много беспокойства, но в конце своего месячного пребывания он заболел чумкой и, несмотря на старательное лечение, скончался, причинив Саше первое большое горе… Прижимая к себе надежную Кутю, почти взрослая девочка оплакивала Брома. Теперь в доме оставалась одна Кутя, не причинявшая никому беспокойства, даже потенциального – никакие чумки ей не грозили, и она терпеливо переносила любые костюмированные балы. Саша собственноручно – коряво, но крепко – пришила на место выкушенного и потерянного глаза пуговицу, мало похожую на отъеденную. Теперь у Кути один глаз был американский, стеклянный, с черным зрачком посередине, а второй перламутрово-голубой и размером чуть побольше. Саша после этой операции полюбила свою игрушку еще больше, она стала еще милей ее сердцу.
В двенадцать лет Саша стала ходить в секцию пинг-понга, на английский язык и в бассейн, и времени на домашние игры не оставалось. И хотя никаких кукольных чаепитий и собачьих переодеваний больше не было, Кутя по-прежнему жила у Саши в постели. Она была уже не молодым щенком, а существом вполне преклонных лет. Ей шел чуть ли не седьмой десяток, когда наступил новый век.
Саша жила себе и жила, закончила школу, поступила в институт, на третьем курсе у нее случился бурный роман с однокурсником. Собачку Кутю положили на антресоли вместе со старой каракулевой шубой Елены Михайловны. В очередной раз она уступила свое место на подушке…
К тому времени квартира из родственно-коммунальной стала отдельной, двоюродные братья Милы построили кооперативную квартиру и выехали. Мила с мужем принимала материальное участие в строительстве этой квартиры и в качестве компенсации получила от съехавших родственников половину дачного участка, ими совместно унаследованного от Елены Михайловны. Теперь Мила оказалась единственной владелицей шести соток земли и домика в две комнаты…
В этот освободившийся от родственников дачный домик Мила вывезла весь скопившийся за долгие годы в городской квартире хлам, всё старье и все вышедшие из употребления вещи, которые выбросить на помойку рука не поднималась по привычке всегдашней небогатой жизни. Теперь у Саши было всё – и отдельная комната, и дача, и диплом Плехановского института. И она вышла замуж за того самого однокурсника, который вытеснил некогда Кутю.
В первое лето Саша с мужем Толей целый месяц провела на даче, где они с большим рвением принялись обустраивать летнее гнездо. Ее Толя оказался рукастый, и ему в радость было это жизнеустроительство. Всё барахло в трех допотопных фанерных чемоданах перенесли в сарай, в доме очистили стены от старых обоев в трижды старомодных розах, поклеили новые, в веселых полосках и птичках. Толя сделал новую проводку и даже в сарай провел электричество. Вот тут-то и произошла неприятность. Когда они уезжали с дачи в конце августа, в дачном поселке шли какие-то работы, были неполадки с энергоснабжением, случилось замыкание, и сарай загорелся. Местные люди сразу же вызвали пожарников, но когда те приехали, сарай начисто сгорел, а в нем и всё свезенное на дачу барахло. И собачка Кутя приняла быструю огненную смерть вместе со старой шубой Елены Михайловны и изношенной обувью, которую хранили, видимо, до худших времен. На этом всё и закончилось: дом не пострадал, и на соседние дома огонь не перекинулся.
Мила, когда узнала о пожаре, сначала ужасно расстроилась, но когда ей сообщили, что сгорел только сарай, утешилась… Она даже не могла вспомнить, что же там лежало… Про собачку не вспомнила.
Следующим летом Толя закончил ремонт дачного домика, теперь уже под присмотром тещи Милы. В июле родился у молодой парочки сын Андрюша. Славный голубоглазый младенец. Всё было с ним хорошо, он сосал с аппетитом, в весе прибавлял изрядно, отросли щечки, на лысой головке отрос смешной чубчик серовато-белых волос. К полугоду стал меняться, как обыкновенно бывает, цвет глаз – от молочно-голубых младенческих к тому взрослому цвету, который остается на всю жизнь. Тут-то и обнаружилась одна интересная особенность: один глазок у Андрюши стал темнеть, из голубого превращался в карий, как у отца, а второй так и остался младенчески-голубым. Встревожились, обратились к докторам. Глазная врачиха сказала, что такое разноглазье иногда случается, на зрение не влияет. Называется это явление гетерохромия. В остальном мальчик Андрюша был здоровым веселым ребенком, ласковым, с хорошим характером…
В 1947 году один человек по имени Даниил Леонидович Андреев был арестован, судим и получил срок в 25 лет по известной 58-й статье. Отсиживал он свой срок во Владимирском централе, тюрьме для особо опасных преступников. Часть срока, который из-за смерти вождя сократился всего до десяти лет, он провел в одиночной камере. Сидел и не скучал, писать ему разрешали, и за эти годы он написал множество литературных произведений. В последние годы своего творческого заключения он получал мистические откровения об устройстве мира. Даниил Леонидович был философом-метафизиком и русским гением, в котором сочетались дерзость мысли, мощь воображения и безвредное безумие.
В своих видениях-откровениях он получил ответы на многие неразрешимые или спорные теологические вопросы, создал целую систему мира, в которой присутствовали разные фантастические духовные сущности, нашим миром управляющие, – затомисы, уицраоры, рыфры, велги и прочие раругги. Всё это он подробно изложил в своей книге “Роза мира”. Получилось такое специальное чтение для любителей философской экзотики.
Среди многих теологических откровений ему было дано знание о происхождении душ. После настойчивого вопрошания Даниила Леонидовича о том, как возникли души в нашем мире – были они созданы Господом Богом единовременно, а потом спускаются в мир по мере надобности, или сотворение душ происходит постоянно, при каждой беременности, и спускаются они к каждому новорожденному телу, стоит лишь ему пискнуть, – он получил свыше неоднозначный ответ: вообще говоря, все души (в его словоупотреблении “монады”) были сотворены одномоментно, с запасом, на всё время существования человечества, но вместе с тем сохраняется и тонкий ручеек созидания новых монад – путем накопления и концентрации любви в среде людей. Например, если любовь ребенка интенсивно направлена на какой-то неодушевленный предмет, на игрушечную собачку, скажем, и поток этот целенаправленный и мощный, то после физического уничтожения этого объекта направленная на него любовь концентрируется в новую монаду, и она опускается в наш земной мир. А вот как связаны в нашем мире тело и душа, теперь исследуют уже не богословы, а ученые… История про разноглазого Андрюшу и многоименную собачку, любимую игрушку нескольких поколений детей, напоминает об этой малоправдоподобной теории русского мистика.
Юрий Рост Птичий рынок
Однажды моя восьмилетняя в ту пору приятельница принесла кого-то с Птичьего рынка. Она заплатила два рубля и спросила у продавца: “А кто это?” “Самка”, – ответил он и велел кормить капустой.
Этот зверь – “самка” – забежал под диван в кухне и стал там жить. Всем знакомым (мне в их числе) девочка предлагала лечь на пол и определить, кто это. Но никто не определил. Потом она купила хомяка и поселила в окне между рамами, потом принесла крохотного желтого пятикопеечного цыпленка и назвала его Ромео, потом поехала с родителями в Ленинград и привезла оттуда, по ее словам, “много впечатлений, причем одно – живое”. Оно оказалось маленькой, с пудреницу, черепашкой, подаренной случайным прохожим возле Исаакиевского собора.
Когда моя приятельница встречала знакомого взрослого, она бежала навстречу с сияющими глазами и прыгала, разведя руки, как какой-нибудь маленький моноплан. Она парила в воздухе, точно зная, что ее поймают, не дадут упасть.
Такая у нее была уверенность… Это ведь естественно (правда?) – поймать ребенка, поднять выпавшего из гнезда юного воробья, притащить в дом кого-то, кто любит капусту. Кажется, она одинаково любила черепаху, друзей по классу, этого – с капустой, всех вокруг.
То, что не всё живое надо любить, она долго не знала, и ее не торопили с этим открытием. Живое воспитывает живых – объясняли ей родители и на Птичий рынок водили ее для радости.
А мальчик, которого вы видите на снимке, продает своего товарища. Так ему велели дома.
Много лет назад я написал о собаке, которая два года жила на лётном поле аэропорта Внуково и ждала хозяина, не взявшего ее в самолет. Тысячи писем тогда пришло в редакцию. Возможно, писали и родители этого пацана, волнуясь о судьбе незнакомой им, но ставшей знаменитой, а потому вызывающей особую жалость собаки. Многие граждане увидели в ней символ верности, достойный внимания, волнения и любви. Любить символы не так хлопотно, но дети не знают этой особенности взрослых и приводят в дом что-то живое. И жизненная удача для них, если оно просто поселяется под диваном и если его не надо вести на базар…
Эпилог. Жил в нашем дворе у кровельщика пес Бобик, безответственной, но симпатичной породы. Он провожал его на работу и с работы встречал. А иногда, пока хозяин крыл крышу, он бесстрашно сидел рядом, оглядывая любимые им Чистые пруды. Но как-то в целях еще большего городского порядка и красоты его, вольного и преданного, убили живодеры… Кровельщик плакал, а потом купил водки и со знакомыми слесарями и водопроводчиками выпил во дворе за доброе и смелое сердце Бобика.
Об авторах
Наринэ Абгарян
Прозаик, автор серии книг о девочке Манюне, романов “Люди, которые всегда со мной”, “С неба упали три яблока”, сборников прозы “Зулали” и “Дальше жить”. Животных дома нет, но очень хотела бы завести симпатичное домашнее животное, например осла.
Максим Аверин
Заслуженный артист РФ. Исполнитель главных ролей в фильмах и сериалах “Глухарь”, “Куприн. Яма”, “Склифосовский”. Лауреат премий “Триумф”, “Чайка”, “ТЭФИ”, автор журнала “Сноб”. Дома живет рыжий кот Яша восемнадцати лет.
Василий Авченко
Писатель и журналист, живет во Владивостоке. Автор документального романа “Правый руль”, энциклопедии-путеводителя “Глобус Владивостока” и книги о воде и камнях “Кристалл в прозрачной оправе”. Ловит рыбу, бывает на охоте.
Николай Александров
Журналист, ведущий литературных программ на каналах “ОТР” и “Эхо Москвы”, автор книг “Силуэты пушкинской эпохи”, “С глазу на глаз”, “Всё мое” и собрания бесед с писателями “Тет-а-тет”. Заядлый рыбак.
Евгений Бабушкин
Прозаик, драматург, журналист. Главный редактор радио “Глаголев FM”. Лауреат премии “Дебют”. Автор книги “Библия бедных”. Хозяин глухой от рождения кошки и фанат сов.
Ксения Букша
Прозаик, поэт, журналист. Автор книг прозы “Жизнь господина Хашим Мансурова”, “Мы живем неправильно”, “Открывается внутрь”, биографии Казимира Малевича для малой серии “ЖЗЛ”, романов “Завод «Свобода»” и “Рамка”. “Пару лет назад дети завели двух активных, прыгучих братьев-котиков. Их зовут Тут и Здесь. Тут черно-белый, Здесь белый и пушистый”.
Яна Вагнер
Прозаик, переводчик. Автор романов “Вонгозеро”, “Живые люди”, “Кто не спрятался”. Хозяйка и задняя нога белого боксера Вени.
Дмитрий Воденников
Поэт, эссеист. Автор восьми книг стихов и сборника эссе “Воденников в прозе”; “король поэтов”, ведущий программы “Поэтический минимум” на “Радио России”. Хозяин таксы Чуни.
Евгений Водолазкин
Прозаик, доктор филологических наук. Автор романов “Соловьев и Ларионов”, “Лавр” (удостоен премии “Большая книга»), “Авиатор” (вторая премия “Большой книги”) и “Брисбен”. Дома живет кот Мусин, который получил свое имя от имени своей мамы Муси (отец неизвестен).
Елена Волкова
Филолог, редактор, прозаик. Друг и хозяйка белой швейцарской овчарки по кличке Альбус – прекрасного принца и белого коня одновременно.
Александр Генис
Писатель, эссеист, радиоведущий. Совместно с Петром Вайлем написал книги “1960-е. Мир советского человека”, “Родная речь”, “Русская кухня в изгнании”. Автор бестселлеров “Довлатов и окрестности”, “Камасутра книжника” и “Обратный адрес”. Семнадцать лет сотрудничал с сибирским котом Геродотом, сейчас – с абиссинскими близнецами Инь и Ян.
Олег Зоберн
Прозаик, автор нескольких книг рассказов, лауреат премий “Дебют-2004” и “НОС-2016”. В 2018 году опубликовал первый роман “Автобиография Иисуса Христа”. На своем подмосковном подворье разводит свиней бельгийских пород ландрас и пьетрен.
Александр Кабаков
Прозаик, драматург, публицист. Автор романов “Невозвращенец”, “Всё поправимо” (премия “Большая книга”), “Старик и ангел”, множества сборников рассказов и книги “Камера хранения”. Дома живут три кошки.
Елена Колина
Популярная российская писательница, автор более двадцати книг, среди них “Умница, красавица”, “Сага о бедных Гольдманах”, “Дневник измены”, “Мальчики да девочки”. Многие романы экранизированы. Елену Колину считают основателем жанра “романтическая комедия” и называют “лучшим психологом среди писателей”. Домашние животные – пудель Винни и кот Матвей.
Павел Крусанов
Прозаик, четырежды финалист “Национального бестселлера” – за романы “Бом-бом” (2003), “Американская дырка” (2006), “Мертвый язык” (2010) и сборник рассказов “Царь головы” (2014). Живет в Петербурге. Коллекционирует жесткокрылых.
Майя Кучерская
Прозаик, критик, профессор филологии Высшей школы экономики, создатель школы писательского мастерства “Creative Writing School”. Автор сборника “Современный патерик”, романов “Бог дождя” и “Тётя Мотя”. Домашних животных нет.
Анна Матвеева
Прозаик, журналист, драматург. Автор романов “Перевал Дятлова, или Тайна девяти”, “Есть!”, “Завидное чувство Веры Стениной”, сборников прозы “Девять девяностых”, “Лолотта”, “Спрятанные реки” и книги о екатеринбуржцах “Горожане”. Хозяйка британского кота по имени Шарлемань Плюшевая Крыша (в миру – просто Плюша).
Мария Мокеева
Прозаик, финалист премии “Лицей”. Рассказы публиковались в журналах “Новый мир”, “Знамя” и “Грани”. Других питомцев, помимо героев рассказа “Красные паломники”, у автора нет.
Светлана Мосова
Прозаик, автор книг “Дождь из кошек и собак”, “Тридцать четвертый сюжет”, “Один мужчина, одна женщина”, “Василеостровские мечтатели” и др. Домашние животные: заяц, конь, пеликан, лиса, леопард, пантера, мышь, собака, лань и броненосец – это всё акварели художницы Арины Обух.
Евгения Некрасова
Писательница, сценаристка. Печаталась в журналах “Знамя”, “Новый мир”, “Волга”, “Урал”, “Искусство кино”. Лауреат премии “Лицей” за цикл “Несчастливая Москва”, автор романа “Калечина-Малечина” (шорт-лист премии “НОС”). Зверей нет.
Саша Николаенко
Писатель, художник. Автор романов “Убить Бобрыкина” (премия “Русский Букер”), “Небесный почтальон Федя Булкин”, “Нога судьбы” и сборника рассказов “Светофор, шушера и другие граждане”. “Домашних животных за жизнь пока четыре, и ими измерена жизнь. Детство – Пуся, юность – Тёма, сегодня – Даша. Недавно к Даше прибавилась Нюся, красивая кошка с дачи. Теперь живем так: две кошки, сын и мама”.
Сергей Носов
Прозаик, драматург. Автор романов “Хозяйка истории”, “Франсуаза, или Путь к леднику”, “Фигурные скобки” (премия “Национальный бестселлер”), книг “Тайная жизнь петербургских памятников” и “Построение квадрата на шестом уроке”. “Рос и взрослел вместе с другом и ровесником котом Васькой; давно это было”.
Арина Обух
Художник, прозаик, лауреат премии журнала “Знамя” (2019), автор книги “Муха имени Штиглица” и иллюстраций к сборнику “Птичий рынок”. Аллергик, мечтающий о домашнем коте.
Марина Попова
Художник-монументалист, живописец, чьи работы находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственного Русского музея и др. Как литератор публиковалась в журналах “Знамя” и “Сноб”. Живет на два дома – Москва – Монреаль. У нее есть близкая подруга Феня, которую многие принимают за кошку.
Наталья Репина
Филолог, сценарист, родилась в Москве. Жить и работать помогают кот Кшиштоф (кроткий, простец, лишний вес) и кошка Ваниль (красивая, прохиндейка, нервная).
Екатерина Рождественская
Журналист, прозаик, фотограф. Автор книг “Жили-были, ели-пили. Семейные истории”, “Двор на Поварской”, “Девочка с Патриарших” и многих других. Дома живет собака.
Юрий Рост
Фотограф, журналист, писатель, актер, телеведущий. Автор книг “Групповой портрет на фоне века”, “Рэгтайм” и “Кефир надо греть” об академике Сахарове. “Домашние животные у меня были: кошка Дуся, о которой я много писал, и кенар Шурик, который выступал со мной на телевидении. Теперь их нет. Жить со мной осталась только муха Марта и два пучка Митя и Мотя”.
Алексей Сальников
Поэт, прозаик. Автор романов “Петровы в гриппе и вокруг него” (премия «Национальный бестселлер”), “Отдел” и “Опосредованно”. В его доме живут совершенно бессмысленный домашний ротвейлер по имени Коржик и кот с кошкой – Бархат и Тучка.
Роман Сенчин
Прозаик, литературный критик. Автор романов “Елтышевы”, “Зона затопления”, “Дождь в Париже” и многих других, лауреат премий “Большая книга” и “Ясная Поляна”. “В школьные годы у меня был дог Сэм. После его смерти появлялись домашние животные, но друзьями не стали”.
Григорий Служитель
Актер Студии театрального искусства, солист группы “O'Casey”, прозаик, автор бестселлера “Дни Савелия”. Проживает с двумя котами: старший – Пуссен, младший – Шуберт.
Александр Снегирев
Писатель, автор нескольких книг прозы. Лауреат премии “Русский Букер”, сооснователь проекта “БеспринцЫпные чтения”. Есть собака, подобранная у подъезда, и шиншилла, купленная на Птичьем рынке.
Василий Снеговский
Журналист, литературный редактор, театровед. Домашнее животное – восьмилетний кот по кличке Семён.
Татьяна Соловьева
Филолог, критик, старший преподаватель РГГУ. Статьи о современной литературе публиковались в журналах “Новый мир” и “Вопросы литературы”. Воспитывает кота, двух кошек и двух улиток.
Татьяна Толстая
Прозаик, эссеист. Лауреат премии “Тэфи” за передачу “Школа злословия”. Автор романа “Кысь”, книг “Невидимая дева”, “Легкие миры”, “Войлочный век” и многих других. Домашнее животное – собака Ясса, боксер.
Людмила Улицкая
Прозаик, драматург, лауреат литературных премий “Большая книга” и “Русский Букер”, автор романов-бестселлеров “Казус Кукоцкого”, “Медея и ее дети”, “Лестница Якова” и многих других. “У меня аллергия на кошачье-собачью шерсть. Однажды мой тогда пятилетний сын Петя принес со двора в кармане нечто и спросил: мама, а можно мы заведем домашнее животное совсем без шерсти? И вынул из кармана куртки дождевого червя. Я его немедленно определила в цветочный горшок, и он там зажил. Когда горшок разбился, из земли вылез наш домашний дождевой червяк. Он здорово подрос, и Петя отнес его в ту клумбу, откуда когда-то взял. Так и закончились в моем доме домашние животные”.
Андрей Филимонов
Писатель, поэт, журналист. Автор нескольких поэтических сборников, романов “Головастик и святые” и “Рецепты сотворения мира”. Домашние животные – кот мейн-кун и собака белая.
Булан Ханов
Прозаик, лауреат премий “Лицей” и “Звездный билет”, автор романов “Непостоянные величины” и “Гнев”, а также повести “Дистимия”. Живет в Казани, есть розеточная свинка по имени Самуил.
Примечания
1
Сокращение от апупап – прапрадед (арм.).
(обратно)2
Деревенская обувь.
(обратно)3
Благотворительные организации (англ.).
(обратно)4
Перевод с англ. Е.Некрасовой.
(обратно)5
Змей (арам.).
(обратно)6
Семкат – пятнадцатая буква имперского арамейского алфавита.
(обратно)7
Ничтожество (арам.).
(обратно)8
Египетский мангуст (ивр.).
(обратно)9
Любовь (ивр.).
(обратно)10
Золото (ивр.).
(обратно)11
Баг – жаргонное слово программистов, обозначающее ошибку в программе.
(обратно)







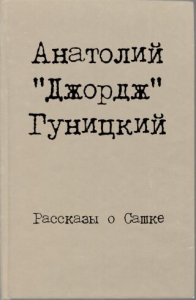





Комментарии к книге «Птичий рынок», Екатерина Робертовна Рождественская
Всего 0 комментариев