Донателла ди Пьетрантонио Арминута
Перевод: Андрей Манухин
Фото на обложке: © Anka Zhuravleva.
© 2017, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino,
Пьерджорджо, который был еще слишком мал
В каком-то смысле я и по сей день там, в своем последнем девчоночьем лете: моя душа беспрестанно кружит возле него и бьется, как мотылек о зажженную лампу.
Эльза Моранте, «Ложь и ворожба»
1
До моих тринадцати лет мы с другой моей матерью не встречались.
Я с трудом взобралась по лестнице, ведущей к ее квартире, волоча громоздкий чемодан и мешок, до отказа забитый напиханными как попало туфель. На площадке меня обдало запахом подгоревшего масла, пришлось задержать дыхание. Дверь никак не хотела поддаваться; кто-то сперва молча дернул ее изнутри, потом завозился с замком. Я же тем временем разглядывала паука, мерно покачивавшегося над пустотой лестничного пролета.
Замок лязгнул металлом, и из-за двери возникла девочка с косичками, заплетенными минимум пару дней назад. Это была моя сестра, которую я прежде никогда не видела. Не сводя с меня колючего взгляда, она распахнула дверь, давая мне пройти. Мы выглядели в тот момент куда более похожими, чем позже, повзрослев.
2
Женщина, которая меня родила, даже не поднялась со стула. Младенец у нее на руках, негромко подвывая, грыз собственный большой палец, засунув его в рот сбоку – похоже, у него резался зуб. Оба синхронно вскинули головы, ребенок прервал свой монотонный вой. Я и не думала, что брат такой кроха.
– Пришла, значит, – сказала она. – Вещи? Там поставь.
Я потупилась: мешок с туфлями, стоило только его тронуть, распространял вокруг себя вполне отчетливый запах. Из-за закрытой двери второй комнаты раздавался громкий надрывный храп. Младенец снова захныкал и повернулся к груди, капая слюной на мокрые от пота пионы выцветшей хлопковой блузки.
– Ты дверь закрыла? – сухо поинтересовалась мать у застывшей в дверях девчонки.
– А что, разве те, кто ее привез, не поднимутся? – огрызнулась та, мотнув в мою сторону острым подбородком.
В этот момент, словно услышав ее слова, вошел запыхавшийся после долгого подъема дядя (как я отныне должна была научиться его называть). Несмотря на полуденную летнюю жару, он двумя пальцами, словно боясь запачкаться, держал вешалку с новым пальто моего размера.
– Жена решила не ходить? – выкрикнула моя первая мать, пытаясь перекрыть усилившиеся вопли.
– Она теперь даже с постели не встает. Пришлось самому вчера выйти, прикупить кое-что, в том числе на зиму, – ответил он, покачав головой, и гордо продемонстрировал марку на подкладке.
Я отошла к открытому окну и опустила свою ношу на пол. Издалека донесся грохот, словно там выгрузили разом целый самосвал гравия.
Хозяйка дома решила предложить гостю кофе: может, хоть этот запах поднимет мужа, сказала она и вышла из ободранной гостиной в кухню, оставив рыдающего младенца в манеже. Тот попытался подняться, цепляясь за дырявую сетку, грубо залатанную шпагатом. Я подошла было помочь, но он от негодования только громче заорал. Тогда сестра привычным движением оторвала его от сетки, пересадив на пол, и он пополз по пестрой плитке, ориентируясь на голоса из кухни. Мрачный взгляд сестры переместился с ребенка на меня, поднявшись от позолоченных пряжек новеньких туфель вдоль все еще жестких синих складок платья – но не выше. Над ее плечом в безнадежных поисках выхода кружила и время от времени билась о стену муха.
– Тебя всегда так наряжают? – спросила она тихо.
– Только вчера купили, чтобы вернуть в приличном виде.
– И кто же? – взгляд стал заинтересованным.
– Один дальний родственник. Скажем так, дядя. Я жила у них с женой. До сегодняшнего дня.
– А мама? – спросила она обескуражено.
– Которая? У меня их две. И одна из них – твоя.
– Мне пару раз говорили о какой-то старшей сестре, но я не особенно верила, – пробормотала она и вдруг схватила меня за рукав, жадно прижав ткань пальцами. – Ты все равно в него скоро не влезешь, и через год оно перейдет мне. Так что поаккуратней, не вздумай испортить.
Из спальни, зевая, прошлепал босиком отец в одних брюках, с голым торсом. Почуяв аромат кофе, он обернулся в сторону кухни и увидел меня.
– Пришла, значит, – проворчал он, невольно повторив за женой.
3
Голоса из кухни доносились все реже и глуше, даже ложечки больше не звенели. Услышав шум отодвигаемых стульев, я почувствовала такой приступ паники, что аж дыхание перехватило. Дядя вышел попрощаться, коротко потрепал меня по щеке:
– Так будет лучше, поверь.
– Ой, книжку забыла! Спущусь, принесу, – я бросилась вслед за ним по лестнице, под предлогом заглянуть в бардачок забралась в машину и заблокировала дверь.
– Это еще что? – буркнул он, садясь за руль.
– Поехали обратно. Со мной хлопот не будет. Пока мама больна, буду за ней ухаживать. А c чужими не останусь.
– Хватит, не начинай. Подумай хорошенько: там, наверху, ждут твои настоящие родители, они тебя сразу же полюбят. А как весело жить в доме, полном детей! – выдохнул он мне в лицо недавно выпитым кофе, смешавшимся с несвежим запахом десен.
– Я хочу жить дома, с вами! А если что и натворила, скажи только, я больше не буду! Не оставляй меня здесь!
– Прости, конечно, но мы уже сто раз объясняли, почему не можем тебя оставить. А теперь прекрати, пожалуйста, капризничать и вылезай, – не терпящим возражений тоном заявил он, глядя прямо перед собой. Под недельной щетиной на щеках ходили желваки, словно он сердился.
Я, демонстративно отказавшись подчиниться, замотала головой, потом, согнувшись в три погибели, забралась под сиденье. Тогда он врезал кулаком по рулю, выскочил из машины и, открыв дверь ключом, с такой силой дернул меня за руку, что шов на плече купленного им же самим платья разъехался на несколько сантиметров. В этой железной хватке я больше не узнавала руку немногословного отца, с которым прожила всю жизнь вплоть до сегодняшнего утра.
На асфальте остались только черные следы шин – и я. Пахло горелой резиной. Подняв голову, я увидела, что из окна третьего этажа за мной наблюдает кто-то из членов моей насильно обретенной семьи.
Он вернулся через полчаса. Услышав стук в дверь, потом его голос на лестничной площадке, я мгновенно все простила, радостно схватила чемоданы... Но когда добралась до двери, его шаги уже удалялись вниз по лестнице. Сестра держала в руках банку ванильного мороженого. Мой любимый вкус. Только ради этого и вернулся, а вовсе не чтобы меня забрать. Мороженое съели тем же августовским вечером 1975 года. Без меня.
4
К вечеру явились старшие. Один при виде меня присвистнул, другой даже не заметил. Оба сразу бросились на кухню, отталкивая друг друга, чтобы урвать местечко за столом, где мать накрыла ужинать, наплюхали себе полные тарелки соуса, а до моего края дошла только крохотная тефтелька, слегка присыпанная какой-то приправой, да и та внутри оказалась совершенно белой: сплошь размоченный хлеб с редкими крапинками мяса. Мы ели тефтели из хлеба с хлебом, макая его в соус, чтобы хоть как-то набить живот. Через пару дней я научусь сражаться за еду и одновременно приглядывать за собственной тарелкой, защищая ее от налетов вражеских вилок, но в тот раз растеряла даже те крохи, что рука матери добавила к моему скудной порции.
И только после ужина мои первые родители вспомнили, что для меня нет кровати.
– Сегодня поспишь с сестрой, вы обе худющие, – бросил отец. – А завтра посмотрим.
– Чтобы нам обеим поместиться, придется лечь валетом, темечко одной к ногам другой, – объяснила Адриана. – Но мы их таки вымоем, – успокоила она меня.
Мыться пришлось в одном тазу, причем сестра настаивала, чтобы я получше терла между пальцами.
– Смотри, какая вода чернющая, – хохотала она. – Наверное, с меня: твои-то чище были.
Он нашла мне подушку, и мы, не включая свет, пошли в комнату. Мальчишки дышали, как спящие, сильно пахло подростковым потом. Тихонько перешептываясь, мы устроились валетом. Набитый свалявшейся овечьей шерстью матрас, продавленный посередине от долгого использования и пропитанный мочой, вонял аммиаком – запах для меня новый и весьма неприятный. Полчища комаров жаждали моей крови. Я хотела прикрыться простыней, но Адриана во сне все время стягивала ее на себя.
Вдруг сестра резко дернулась всем телом: наверное, ей приснилось, что она падает. Я тихонько отодвинула ногу, прижалась щекой к ее шершавой ступне, пахнущей дешевым мылом, и почти всю ночь проворочалась, следуя за движениями ее пяток, чувствуя пальцами неровные края обломанных ногтей. У меня в чемодане есть маникюрные ножницы, утром могу с ней поделиться.
Луна в последней четверти заглянула в открытое окно и проследовала дальше, рассыпав за собой звездный хвост и не оставив темноте ни малейшего шанса.
«Завтра посмотрим», – сказал отец, тут же забыв о своем обещании, а мы с Адрианой больше и не спрашивали. Каждый вечер она одалживала мне ступню, чтобы я могла прижаться к ней щекой: в этой населенной огоньками тьме у меня больше ничего не было.
5
Бок обдало чем-то мокрым и теплым, потекло под ребра. Я вскочила, потрогала между ног – сухо. Адриана зашевелилась в темноте, потом, свернувшись калачиком в углу, снова уснула (или, может, так и не проснулась), как если бы для нее это было привычным делом. Через некоторое время я тоже легла в постель, съежившись, как только могла: два тела в теплой луже.
Запах постепенно выветрился, хотя время от времени все-таки немного пованивало. Ближе к рассвету один из мальчишек (я не поняла, который) пару минут дергался во все возраставшем темпе и постанывал.
Утром, проснувшись, Адриана осталась молча лежать с открытыми глазами, не поднимая голову с подушки. На мгновение перевела взгляд на меня, так ничего и не сказав. Зато подошедшая с младенцем на руках мать сразу почувствовала запах.
– Признавайся, опять обоссалась, красотка?
– Это не я, – буркнула Адриана, отворачиваясь к стене.
– Да, конечно, это твоя благовоспитанная сестрица, кто ж еще. Поднимайся, уже поздно.
Обе направилась в кухню, и не подумав пригласить меня с собой. Я не знала, что делать, не могла даже набраться храбрости сходить в туалет. Один из братьев сел на кровати, широко раздвинув ноги, зевнул, полуприкрыв рот рукой, а другой через трусы обхватил свое набухшее хозяйство. Заметив меня, он чуть нахмурился, потом уставился на мою грудь под майкой, которую я по такой жаре надела вместо пижамы. Я инстинктивно скрестила руки на недавно появившихся бугорках, подмышки тут же взмокли от пота.
– Ты, значит, тоже здесь спала? – спросил он ломким баритоном. Я смущенно ответила, мол, да, и брат продолжил бесстыдно меня разглядывать.
– Лет пятнадцать тебе уже?
– Нет, только четырнадцать будет.
– Выглядишь на все пятнадцать, если не больше. Акселератка, значит, – заключил он.
– А тебе сколько? – спросила я из вежливости.
– Почти восемнадцать, я тут самый старший. Обычно в это время уже горбачусь на дядю, но сегодня могу повалять дурака.
– Почему это?
– До завтра я боссу без нужды. Он меня зовет, только когда понадоблюсь.
– И чем же ты занимаешься?
– Помогаю на стройке.
– А школа?
– Скажешь тоже, школа! Я бросил во втором классе[1], так они меня достали.
Я видела, как перекатываются его привыкшие к тяжелой работе мышцы, какие сильные у него плечи. Волосы бурой пеной кудрявились на загорелой груди и выше, на лице. Должно быть, тоже акселерат. Когда он потягивался, до меня доносился его запах – взрослый, но вовсе не неприятный. На левом виске красовался грубый шрам, напоминавший рыбий хребет, – похоже рваную рану когда-то неудачно зашили.
Не сказав больше ни слова, он снова принялся разглядывать мое тело, время от времени поправляя член рукой. Я хотела одеться, но с вечера забыла распаковать чемодан – он так остался стоять у стены, и чтобы добраться до него, мне пришлось бы на глазах у брата сделать несколько шагов и повернуться спиной. Подозреваю, он только этого и ждал. Пока же его взгляд медленно спустился с моих бедер, едва прикрытых белым хлопком, на голые ноги и плотно прижавшиеся друг к другу ступни. Спиной я бы ни за что не повернулась.
Снова пришла мать и велела ему собираться: сосед просил помочь в поле, взамен пообещав дать пару ящиков переспелых помидоров, годных для переработки.
– А ты иди с сестрой, выпейте молока, если, конечно, хотите завтракать, – велела она мне, попытавшись смягчить тон, но не сдержалась и к концу фразы вернулась к привычной сухости.
Малыш в гостиной добрался до мешка с моими туфлями и разбросал их по всей комнате. Одну он как раз грыз, кривясь от наполнявшей рот горечи. Адриана, забравшись с ногами на стул, приставленный к кухонному столу, уже резала фасоль к обеду.
– Не увлекайся там, все должно в дело пойти, – последовало замечание матери.
Сестра не подала виду, что услышала.
– Умывайся, а потом пойдем за молоком, я уже с голоду помираю, – заявила она.
Я оказалась последней, кто воспользовался ванной. Мальчишки залили водой весь пол, повсюду были отпечатки подошв и босых ног. У себя дома я никогда не сталкивалась с такой мелкой плиткой и тут же поскользнулась, хотя и без последствий – сказалась балетная подготовка. Хотя осенью, конечно, не будет больше ни балета, ни плавания.
6
Помню утро одного из тех первых дней. Серость за окном предвещала грозу, которая разразится к вечеру, как и всю прошлую неделю. В комнате было непривычно тихо: Адриана с малышом спустились к вдове, жившей на первом этаже, мальчишки разбежались по своим делам, и дома остались только мы с матерью.
– Ощипай цыпленка, – велела она, протягивая мне мертвую птицу, которую держала за лапы, головой вниз. Должно быть, кто-то специально поднимался к нам, чтобы ее принести: я слышала голоса на лестничной площадке и слова благодарности. – Потом выпотрошишь.
– Как это? Я не понимаю.
– Ты же не станешь есть его прямо так, а? Сперва нужно перья повыдергать, потом разрезать да кишки достать, – объяснила она, слегка встряхнув тушку.
Я отступила на шаг назад и опустила голову.
– Не смогу, меня стошнит. Лучше приберусь.
Не сказав больше ни слова, мать мазнула меня взглядом, потом с глухим шлепком бросила тушку в раковину и стала яростно обрывать перья.
– Эта, небось, и цыпленка-то видела только в тарелке, – шипела она сквозь зубы.
Я же занялась уборкой: это было не сложно, а как управляться с прочей работой по дому, все равно не знала, все казалось слишком непривычным. Из кухни время от времени доносился хруст разрубаемых костей, а я все потела над грязной сантехникой. Долго терла губкой известковый налет, протянувшийся по всему дну ванны, потом открыла кран, чтобы ее наполнить. Холодной водой – горячая почему-то не пошла, а выяснять, в чем дело, мне не хотелось. Наконец закрыла дверь изнутри на крючок и погрузилась в воду. Но стоило потянуться через бортик за мылом, как я почувствовала, что умираю. Кровь отхлынула от головы, рук, груди, они превратились в куски льда. У меня оставалось буквально мгновение на два действия: вытащить пробку и позвать на помощь, но я не знала, как привлечь внимание женщины, которую все еще не воспринимала как маму. Где-то между М и А меня вырвало сгустками кислого молока прямо в уходящую в слив воду. Впрочем, я все равно не смогла бы вспомнить ее имя, даже если бы захотела его произнести, поэтому просто закричала и потеряла сознание.
Не знаю, сколько прошло времени, пока я очнулась от знакомого запаха подсохшей мочи Адрианы. Я лежала нагишом на кровати, поверх расстеленного полотенца. На полу неподалеку стоял пустой стакан, скорее всего, из-под сахарного сиропа – лекарства, которое мать применяла от любой болезни. Позже (намного позже) в дверях спальни показалась и она сама.
– Не могла сразу сказать, что тебе плохо, а не дожидаться худшего? – спросила он, не прекращая жевать.
– Простите. Думала, это пройдет, – ответила я, не поднимая глаз.
За долгие годы я ее так ни разу и не позвала. С тех пор, как меня ей вернули, слово «мама» вставало у меня поперек горла, будто я жабу проглотила, и та никак не может выбраться наружу. Если мне приходилось срочно обратиться к матери, я пыталась привлечь ее внимание каким-то другим способом: например, брала малыша на руки и щипала чуть выше щиколотки, чтобы он расплакался, а потом, когда она оборачивалась, говорила с ней.
Честно говоря, я давно забыла, как мучила брата, и только сейчас, когда ему уже за двадцать, случайно вспомнила: села рядом с ним на скамейку возле... в общем, дома, где он сейчас живет, и заметила синяк – как раз там, где я тогда их оставляла. Только на сей раз он ударился сам – угол шкафа так часто попадается не вовремя.
За ужином все восторгались сочностью цыпленка. Адриана даже поинтересовалась, не Рождество ли наступило посреди лета. А я разрывалась между голодом и отвращением, вспоминая выпотрошенные кишки, свисающие в раковину поверх немытых после завтрака чашек.
– Бедрышко папе, а второе той, что сегодня грохнулась в обморок, – решила мать.
Но поскольку грудку отложили на завтра, а все прочие части были намного меньше и костлявее, один из братьев, по имени Серджо, сразу же возмутился:
– Раз приболела, пусть ест бульон, а не бедро, – заявил он. – Отдай лучше мне, я сегодня помогал с переездом тем, с верхнего этажа, а ты забрала все деньги, что я заработал.
– И потом, из-за нее пришлось ломать дверь в тубзик, – вскочил другой, нацелив на меня указательный палец. – От этой пигалицы одни неприятности! Почему нельзя вернуть ее тем, у кого она раньше жила?
Но получив подзатыльник от отца, брат сразу сел и заткнулся.
– Я больше не хочу, – сказала я Адриане и убежала в спальню. Через некоторое время та присоединилась ко мне с ломтем хлеба, политым оливковым маслом. Она уже умылась и переоделась, натянув старую, уже давно не по размеру юбку.
– Скорее ешь, одевайся и бежим на праздник! – заявила сестра, сунув тарелку мне под нос.
– Какой еще праздник?
– Святого покровителя, конечно! Ты разве не слышишь оркестр? Сейчас на площади уже и петь начнут, да только мы туда не пойдем: Винченцо ведет нас на карусель, – благоговейно прошептала она.
Не прошло и получаса, как рыбий хребет на виске Винченцо осветили огни расположившегося на пустыре цыганского табора. Он был единственным из мальчишек, кто не участвовал в схватке за цыплячье бедро, и не позвал с собой братьев, взяв только нас с Адрианой. Пересчитав неизвестно где добытую мелочь, он пару минут поболтал с билетером, судя по всему, своим старым знакомым – возможно, по какому-то из предыдущих праздников. Одинаково загорелые, они выглядели сверстниками и даже курили, одинаково затягиваясь. Цыган взял деньги за несколько первых кругов, а потом уже пускал нас бесплатно.
Я еще ни разу не каталась на аттракционах. Мама говорила, что это слишком опасно: ребенок каких-то ее знакомых однажды прищемил палец на автодроме. Адриана сноровисто помогла мне влезть на сиденье и защелкнуть замок.
– Только держись покрепче за цепочки, – посоветовала она, прежде чем усесться передо мной.
Я летела между ней и Винченцо: они усадили меня в середину, чтобы было не так страшно. И в самой высокой точке на меня накатило какое-то безумное счастье. События последних дней осталось на земле, растворились, как в густом тумане. Взмывая в небо, я на некоторое время смогла обо всем забыть.
После нескольких кругов мне пониже спины вдруг прилетел пинок, а из-за плеча раздался возглас: «Хватайся за хвост!» – но руки сковала непонятная слабость, и я не смогла оторвать их от цепочки.
– Протяни руку, синьорина, ничего с тобой не случится, – убеждал брат, пнув чуть сильнее для верности. Только с третьей попытки мне все-таки удалось нагнуться над пустотой. Почувствовав, как в раскрытую ладонь ткнулось что-то мохнатое, я изо всех сил сжала кулак, получив в награду лисий хвост и торжествующий взгляд Винченцо.
Сиденья понемногу замедлили полет, потом с металлическим звяканьем остановились. Я спрыгнула, по инерции сделав еще пару шагов. По рукам побежали мурашки, но вовсе не от холода: после дождливых дней к нам снова возвращалась жара. Он подошел и молча заглянул мне в глаза, довольный моей смелостью. Я оправила смятое ветром платье. Он закурил сигарету и выдохнул облако дыма прямо мне в лицо.
7
Почти у самого дома Винченцо отдал нам ключ: забыл что-то в таборе и попросил нас оставить дверь приоткрытой. Время шло, но он все не приходил. А мне не спалось – не могла отойти от упоения полетом. За стеной, в спальне родителей, ритмично скрипела кровать, потом все стихло. От волнения у меня свело ногу, я дернулась и попала Адриане в лицо. Чуть позже, почувствовав привычную лужу, перебралась на все еще не занятую кровать Винченцо, немного поворочалась, ловя запахи его тела: подмышек, рта, гениталий – и вдруг очень живо представила, как он болтает с этим своим приятелем у цыганской кибитки в клубах сигаретного дыма. Убаюканная этими мыслями, к рассвету я уснула.
Вернулся брат только к обеду, в заляпанных цементом рабочих штанах. Никто, казалось, не заметил его ночного отсутствия. Но стоило ему подойти к столу, как родители переглянулись, и отец молча ударил Винченцо кулаком прямо в лицо. Тот потерял равновесие, упал, заехав рукой в тарелку со спагетти под соусом из помидоров, честно заработанных им в деревне парой дней раньше, и съежился на полу, обхватив голову руками. Подождав, пока ноги обидчика удалятся, он открыл глаза, откатился чуть в сторону и остался лежать, распластавшись на прохладной плитке.
– А вы садитесь уже, – велела мать, взяв малыша на руки: тот даже не заплакал, как будто давно привык к подобному. Мальчишки повиновались мгновенно, Адриана немного замешкалась, накрывая на стол. Выходит, кроме меня, никогда раньше близко не встречавшейся с насилием, никто и не испугался.
Я присела на корточки рядом с Винченцо. Его грудь ходила ходуном от сбитого дыхания, из ноздрей к приоткрытому рту протянулись два ручейка крови, на скуле набухал синяк, рука была перепачкана соусом. Я предложила ему носовой платок, лежавший у меня в кармане, но он отвернулся, не ответив, так что я просто села на пол рядом с ним – крохотная песчинка в сравнении с бесконечностью его молчания. Он знал, что я там, но не прогонял.
– В следующий раз я его урою, – пообещал брат сквозь зубы, услышав, как отец встает из-за стола. К этому времени все закончили есть, Адриана начала убирать со стола, а малыш разнылся – ему пришла пора спать.
– Можешь не есть, если не хочешь, дело твое, но посуду все равно помоешь, сегодня твоя очередь, – бросила проходившая мимо мать, указывая на полную раковину. На сына она даже не взглянула – как, впрочем, и он на нее.
Наконец Винченцо поднялся на ноги, умылся в ванной, заткнув ноздри свернутыми клочками туалетной бумаги, и побежал на работу: обеденный перерыв давно кончился.
Споласкивая намыленную мной посуду, Адриана рассказала, как брат сбежал из дома в первый раз – еще в четырнадцать. После окончания праздника он последовал за табором в соседнюю деревню: помогал им свернуть луна-парк, а перед отъездом спрятался в фургоне. Выбрался наружу на ближайшей заправке, боялся, что отправят домой, но цыгане приютили его на несколько дней, пока зарабатывали, колеся по провинции, а потом посадили в автобус, идущий домой, оставив на память кое-что ценное.
– Отец избил его до полусмерти, – говорила Адриана, – но серебряное колечко с гравировкой осталось у брата. Это парень, которого мы вчера видели, подарил.
– Мне казалось, Винченцо не носит никаких колец.
– Да он его прячет. Иногда надевает, покрутит между пальцами и снова спрячет.
– А куда, не знаешь?
– Нет, он все время перепрятывает. Видать, волшебное: потрогает иногда колечко – и ходит потом, улыбается.
– Значит, он сегодня снова ночевал у цыган?
– Думаю, да. Раз вернулся с такой счастливой физиономией, точно у них. Хотя и знал, что получит на орехи.
Мать позвала ее снять белье с балкона. Меня она просила гораздо реже – может, не хотела ругаться или просто забыла, что я в кухне. Конечно, она не верила, что я ни на что не годна (и не ошибалась), но зачастую я даже не понимала ее указаний, особенно когда она тараторила на местном диалекте.
– А ты помнишь, как Винченцо впервые сбежал? – спросила я, когда Адриана вернулась со стопкой кухонных полотенец. – Она тогда горевала, может, позвала карабинеров?
Сестра нахмурилась, почти сведя брови в одну линию.
– Нет, никаких карабинеров не было. Папа сам искал его на машине. А она не плакала, только молчала все время, – и мотнула головой в сторону, откуда раздавались детские крики.
8
Чтобы хоть ненадолго уснуть, я вспоминала море, море всего в нескольких десятках метров от дома, который считала своим и в котором жила с самого раннего детства до недавнего времени. Наш сад от пляжа отделяла только неширокая улица: в дни либеччо[2] матери приходилось закрывать окна и полностью опускать ставни, чтобы песок не несло в комнаты. Но шум волн все равно слышался, только более приглушенно, и по ночам он навевал сон. Этот шум я и вспоминала, лежа в постели с Адрианой.
Я, будто сказку, рассказывала ей, как гуляла с родителями по набережной до самой знаменитой джелатерии[3] в городе. Она, в сарафане на бретельках и ярко-красными ногтями на ногах, неспешно шла с ним под руку, пока я убегала вперед занимать очередь: фруктово-ягодное, политое сливками, – для меня, крем-брюле – для них. Адриана даже не представляла, что такие вкусы вообще существуют, мне пришлось несколько раз повторить ей названия.
– И где же может находиться такой город? – спросила она недоверчиво, словно речь шла о каком-то придуманном месте.
– Примерно в полусотне километров отсюда, может, чуть больше или чуть меньше.
– Отвези меня туда, чтобы я тоже увидела море! И магазин мороженого!
Потом мне вспомнилось, как мы ужинали в саду: я сама накрывала на стол, заслышав, как последние купальщики покидают пляж, проходя по тротуару в нескольких метрах от меня, за воротами, и постукивают деревянными сабо, стараясь отряхнуть с ног песчинки.
– А что вы ели? – поинтересовалась Адриана.
– В основном рыбу.
– Тунца, стало быть, из банки?
– Нет, что ты, самую разную рыбу. Мы ее покупали свежей прямо на рыбацком рынке.
Я описала ей каракатицу, показав пальцами, как подрагивают ее щупальца, потом – как изгибаются в агонии лобстеры на прилавках: все детство я смотрела на них как зачарованная, и они тоже пялились на меня темными пятнами на хвосте, будто полными упрека глазами, а на обратном пути вдоль железной дороги шелестели в сумке последними конвульсиями.
Насколько это вообще возможно, я постаралась передать вкус жареной рыбешки, которую она готовила, и фаршированных кальмаров, и ухи. Интересно, как она там, моя мать? Может ли снова поесть в свое удовольствие? Чуть чаще встает с постели? Или, наоборот, ее забрали в больницу? Она не хотела рассказывать мне о своем недуге – разумеется, чтобы меня не пугать, но я видела, как тяжело давались ей последние месяцы: даже до пляжа ни разу не дошла, хотя всегда начинала загорать с первых теплых майских деньков. С ее позволения я располагалась под нашим пляжным зонтиком одна, что делало меня, по ее словам, совсем взрослой. Накануне отъезда мне тоже удалось туда попасть и даже повеселиться с друзьями: я никак не могла поверить, что родители и правда найдут в себе силы меня вернуть.
Загар, разделенный на части белыми полосками (в тот год мне впервые понадобился бюстгальтер, я ведь больше не была ребенком), еще не сошел. Кожа братьев тоже потемнела, но только там, куда во время работы или игры попадало солнце: должно быть, к началу лета остатки загара как раз сходили, а потом они снова начинали чернеть. У Винченцо на спине из солнечных ожогов и вовсе сложилась целая карта какой-то фантастической страны.
– У тебя были друзья в том городе? – спросила Адриана, помахав из окна кричавшей ей что-то с улицы однокласснице.
– Конечно. Мою лучшую подругу звали Патриция.
Именно с ней я ходила весной выбирать раздельный купальник. Мы зашли за ним в магазинчик рядом с бассейном, который тоже посещали вместе. Она была практически чемпионкой, я же плавала скорее через силу: вечно мерзла, и прежде чем нырнуть, и когда вылезала. К тому же меня мутило от сизой, пахнущей хлоркой воды. Но сейчас я почувствовала приступ ностальгии, потому что с тех пор все в моей жизни переменилось.
Купальники мы с Пат хотели купить одинаковые, чтобы подчеркнуть на пляже наши новые формы. Наши тела развивались параллельно, менархе[4] произошло с разницей в неделю, да и припухлости росли синхронно.
– Тебе лучше взять этот, – сказала мать, выудив из груды бикини на полке самый закрытый экземпляр. – И потом, кожа на груди у тебя пока очень нежная, в другом ты просто сгоришь. (Тот день я запомнила в мельчайших деталях – как раз вчера она заболела.)
Вот так и вышло, что я отказалась купальника с узкой полосой ткани, соединяющей лиф с бедрами, а Патриция – нет, ей хотелось именно такой. Она часто бывала у меня в гостях, мне разрешали к ней ходить гораздо реже: родители опасались, что я заражусь порочностью, свойственной всему ее семейству – веселым, небрежно одетым людям, открыто пренебрегавшим общепринятыми правилами. Мы, к примеру, ни разу не видели их на воскресной мессе, даже на Пасху и Рождество (хотя, может, они просто не могли заставить себя вовремя проснуться). Ели они то, что под руку попадалось, и не в строго определенное время, а когда были голодны, одновременно успевая приласкать двух собак и дурно воспитанную кошку, которая забиралась на стол и таскала куски из тарелок. Помню, когда нам с Пат предложили перекусить у них в кухне, мы намазывали на хлеб целые горы шоколадной пасты, и никто не читал нотаций, что это вредно для зубов.
– Вот почему я так хорошо плаваю: эта штука заряжает меня энергией, – заявила тогда подруга. – Возьми еще кусочек, твоя мать все равно не узнает.
Переночевать у них мне разрешили всего раз: родители Пат отправились в кино, и мы долго смотрели телевизор, хрустя чипсами, и потом, перешептываясь, не спали почти до утра, а кошка все это время мурлыкала у меня на одеяле. Я не привыкла к такой свободе и на следующий день чуть не заснула за столом, уткнувшись носом в куриную грудку.
– Тебе там никаких таблеток не давали? – перепугалась мать.
Когда я сказала Патриции, что должна уехать, она решила, что это шутка. Сперва она даже не поняла всей этой истории о настоящей семье, которая потребовала меня вернуть, – впрочем, услышав об этом в собственном пересказе, я поняла бы еще меньше. Пришлось объяснять подробнее. Тогда Пат вдруг всхлипнула, а потом вся затряслась, и тут я впервые испугалась, поняв по ее реакции, что со мной должно случиться что-то по-настоящему серьезное: на моей памяти она никогда не плакала.
– Ты только не бойся, твои родители, я имею в виду этих, они ничего такого не допустят. У тебя же отец карабинер, он что-нибудь придумает, – пыталась она утешать меня после того, как сама немного успокоилась.
– Он уже сто раз говорил, что не может этому помешать.
– Мама будет в отчаянии.
– Она уже давно болеет – наверное, с тех пор, как узнала, что не сможет меня оставить. Или наоборот, решила меня отослать, потому что заболела и не хотела мне говорить. А я, представь себе, все никак не могу представить себе семью, которая никогда меня не видела, а теперь вдруг решила вернуть.
– Но знаешь, глядя на тебя, я всегда думала, что ты совсем не похожа на родителей. Ну, на этих, которых я знаю.
Спасительная мысль приснилась мне ночью, а утром, на пляже, я улеглась под зонтиком рядом с Патрицией и рассказала ей все. Мы проработали идею в мельчайших деталях и пришли в восторг от собственного плана. После обеда, даже не спросив разрешения у отдыхавшей в своей комнате матери, я бросилась к подруге. Впрочем, мать, уставшая и чем-то обеспокоенная, все равно бы выставила меня гулять.
Открыв мне дверь, Пат понурившись отступила на шаг, потом грубо оттолкнула кошку, пришедшую потереться о ее ноги, и я поняла, что уже не хочу входить. Но она схватила меня за руку и потащила к матери «поговорить». Мы, две девчонки, собирались завтра вместе вернуться с пляжа прямо к ним домой. Я могла бы спрятаться там на некоторое время – может, на месяц или даже два. Исчезни я, глядишь, родители решились бы за меня побороться. Домой бы я, конечно, позвонила, но только один раз и всего на несколько секунд (как в кино) – просто чтобы успокоить их и сообщить, что со мной все в порядке: «А к тем людям я ни за что не поеду. Или вернусь к вам, или сбегу куда подальше».
Мать Патриции обняла меня крепко, но со смешанными чувствами: знакомой теплотой и новым, непривычным смущением. Она чуть подвинулась и пригласила меня сесть рядом с ней на диван. И тоже оттолкнула ногой кошку – не до того.
– Мне очень жаль, – сказала она. – Я знаю, каково тебе. Но ничего не выйдет.
9
– Что ты вообще приперлась сюда из своего города? – спросил вдруг Винченцо. Мы сидели в полуподвальном гараже, вдоль стен которого тянулись бесформенные груды проломленных корзин, расползающихся от сырости картонных коробок, дырявых матрасов с торчащими клоками шерсти. В углу валялась кукла без головы. Нам, детям, удалось разгрести немного места посередине, чтобы начать чистить и резать помидоры для закатки, хотя я, разумеется, была в этом деле медлительнее остальных.
– О, наша синьорина еще ни разу ничем таким не занималась, – фальцетом передразнил меня брат. Малыш тем временем нащупал что-то в ведре с отходами и тут же сунул руку в рот. Матери рядом не было: поднялась за чем-то наверх, в квартиру.
– Так чего ради ты сюда вернулась, а? – настаивал Винченцо, обведя все окружающее покрасневшей от томатного сока рукой.
– Не сама же я это решила! Мать сказала, что я уже выросла, поэтому настоящие родители потребовали меня отдать.
Адриана, вскинув на меня глаза, напряженно слушала, нож в ее руках порхал будто сам по себе.
– О, точно! Ты-то, небось выкинула нас из башки своей прилизанной и думать забыла, – с явной неприязнью заявил Серджо. – Мам! – крикнул он в сторону лестницы, – а правда, зачем тебе понадобилась эта сонная муха?
Винченцо довольно сильно толкнул его, и Серджо грохнулся с перевернутого деревянного ящика, на котором сидел, ударившись ногой о кастрюлю, так что несколько уже очищенных помидоров шлепнулись на пол, прямо в цементную пыль. Я недолго думая собралась было бросить их в ведро, но Адриана успела как раз вовремя: одним быстрым движением, совсем как взрослая, ополоснула, покатала в руках и сунула обратно в кастрюлю. Потом обернулась и молча взглянула на меня: поняла, мол? Ни один, даже самый маленький кусочек не должен пропасть! Я кивнула: ясно.
Мать вернулась с пустыми бутылками, из каждой уже торчал листик базилика.
– Боже! У тебя что, эти дела начались? – воскликнула она.
Смутившись, я ответила слишком тихо, почти неслышно.
– Ну? Начались или нет?
Я покачала головой.
– Слава богу, а то такое ощущение, что весь пол кровью залит. Ничего, скоро начнутся, природу не обманешь.
На костре, который мы разожгли между домом и придорожной канавой, в большом котле подходили на водяной бане бутылки свежеприготовленного соуса. Винченцо, пару раз воровато оглянувшись, притащил полмешка кукурузы, а когда его спросили, где он их взял, сделал вид, что не слышит. Отшелушенные зерна были такими нежными, что брызгали молоком, если провести по ним ногтем. Я глядела на остальных и старалась повторять за ними, но все-таки умудрилась порезаться краем листа – кожа на руках еще не успела загрубеть.
Кукурузу Винченцо поджарил на оставшихся от костра углях. Время от времени он переворачивал зерна, неуловимо быстро касаясь их мозолистыми кончиками пальцев.
– Чем поджаристее, тем вкуснее, – объяснил он мне, криво усмехнувшись. Потом сгреб первую порцию, пронес перед самым носом Серджо, который был уверен, что она предназначается ему, и передал мне. Я, конечно, сразу же обожглась.
– Круто, – пробормотал Серджо, ожидая своей очереди.
– А я кукурузу ела всего пару раз, да и то вареную. Так она гораздо вкуснее.
Но меня никто не слушал. Надувшись, я помогла Адриане вымыть и убрать кастрюли из-под соуса обратно в гараж.
– Не обращай внимания на Серджо, он всем грубит.
– А может, он прав, и ваши родители действительно не требовали меня вернуть. Уверена, я здесь лишь потому, что моя мать заболела. Но стоит ей выздороветь, они сразу же за мной приедут.
10
Дорогая мама (или дорогая тетя),
пусть я и не знаю, как теперь тебя называть, но очень хочу к тебе вернуться. В этой глуши мне плохо. И, кстати, неправда, что родители меня ждали: на самом деле они считают меня ничтожеством, ходячей неприятностью и лишним ртом, который надо как-то прокормить.
Помня твои наставления о том, как важна для девушки личная гигиена, сообщаю, что в этом доме трудно даже помыться. Мы ютимся вдвоем на одной узкой кровати с провонявшим мочой матрасом. В той же комнате спят и мальчишки лет пятнадцати, что тебе наверняка не понравится. Не знаю, чему я от них научусь и что подхвачу. Но ты же всегда отправляла прислугу к воскресной мессе, ты преподавала катехизис в приходской школе и, конечно, не оставишь меня в таких условиях.
Сейчас ты заболела и не хочешь говорить, чем именно, но я достаточно взрослая, чтобы быть рядом и помочь.
Я понимаю, что вы взяли меня еще совсем крошкой из бедной многодетной семьи, в которой мне не посчастливилось родиться. Но с тех пор здесь ничего не изменилось. Если я тебе дорога, пришли, пожалуйста, дядю забрать меня, иначе в один прекрасный день я попросту выпрыгну из окна.
P. S.
Прости, что не захотела попрощаться в то утро, когда вы меня прогнали. И спасибо за пять тысяч лир, которые ты положила к носовым платкам: остаток пойдет на конверт и марку.
Подписаться на листе из тетради в линейку я забыла. Сунув его в ярко-красный ящик у дверей табачной лавки, я подсчитала мелочь: как раз хватит на фруктовый лед – мятный для меня, лимонный для Адрианы.
– Кому это ты пишешь? – спросила она, старательно облизывая липкую бумажку.
– Маме в город.
– Это не твоя мама.
– Значит, тете, – скривилась я.
– А, кузине, значит, отцовской. Точно, помню: свояк, муж-то ее, что тебя привез, из карабинеров. Но деньги у них водятся и тебя они любят.
– Откуда ты знаешь? – зеленая жижа потекла по палочке, медленно приближаясь к пальцам.
– Слышала вчера вечером, как родители спорят. Я в шкафу пряталась, меня Серджо искал, хотел побить. Похоже, эта Адальджиза хочет отправить тебя в лицей. Вот не повезло.
– А что еще говорили? – мне пришлось перевернуть палочку, потому что с нее уже капало.
Адриана помотала головой, отняла у меня мороженое, облизала и отдала обратно, нетерпеливым жестом предложив есть побыстрее.
– Только повторяли, какая это будет проблема.
Я неохотно втянула мороженое в рот и сосала до тех пор, пока оно не превратилось в прозрачную бесцветную ледышку.
– Дай сюда! – раздраженно воскликнула Адриана и откусив пару раз вокруг палочки, прикончила остатки.
Я спросила почтальона, как долго идет письмо в город, умножила на два и добавила еще один день на ответ, а потом стала ждать, каждое утро с одиннадцати восседая на балюстраде, пока дети играли на площади в догонялки или прыгали в классики. Болтая ногами и наслаждаясь ласковым сентябрьским солнцем, я воображала, что вместо конверта с маркой сейчас приедет дядя-карабинер, которого я считала отцом, посадит меня в свою длинную серую машину, и тогда я прощу его за то, что он не стал возражать против моего возвращения к родителям, и за то, что оставил меня на площади, одну на раскаленном асфальте.
Или они приедут вдвоем: она уже совершенно поправилась, волосы тщательно уложены знакомым парикмахером (он и меня стриг, когда отросшая челка начинала лезть в глаза), на плечах мягкий палантин из тех, что носят в межсезонье.
– Чего ждешь, любовного письмеца? – шутил почтальон, демонстративно (и, к моему глубочайшему разочарованию, безрезультатно) роясь в своей кожаной сумке.
Но вот однажды вечером, когда солнце на лазурном небе уже клонилось к закату, на площади остановился фургон. Шофер вылез спросить, где живет грузополучатель, назвал фамилию матери и стал выгружать какие-то коробки и тюки, Ребята сразу бросили игру и принялись помогать втаскивать все это по лестнице. Мы сгорали от любопытства, но шофер, усмехаясь, решил немного продлить наше неведение.
– Осторожнее, осторожнее, не приложите об угол! Сейчас поднимем все наверх и сами увидите, что это такое, – повторял он самым нетерпеливым. – Так, и где тут спят девочки? – вопрос прозвучал нелепо, словно он действовал по старательно вызубренной инструкции.
Мы с Адрианой, недоверчиво переглянувшись, распахнули дверь в комнату, и через несколько минут на наших глазах возникла двухъярусная кровать с лестницей на второй этаж и новыми матрасами. Мужчина отодвинул ее к стене, огородил трехстворчатой ширмой, отделив от остальной комнаты, а потом спустился вниз, к машине: похоже, это был не весь ответ на мое письмо.
– Да кто же все это заказал? А платить кто будет? – встревожилась Адриана, словно вдруг очнувшись ото сна. – Папа и без того по уши в долгах. И где, в конце концов, мама?
Та ушла сразу после обеда с малышом на руках, не сказав нам ни слова, – может, заболталась с соседкой?
– Родители не оставили нам денег, – пыталась объяснить сестра шоферу, который с помощью все тех же уличных сорванцов принес еще несколько коробок: в них лежали две пары цветных простыней, стеганое шерстяное одеяло и еще одно, полегче (похоже, они предназначались только для одной из двух кроватей), а также несколько кусков мыла, флаконы с шампунем – моим любимым и другим, от вшей, если он мне понадобится, и пробник духов моей матери: видимо, она поняла, что по утрам, уходя в школу, я тайком ворую несколько капель.
– Не беспокойтесь, товар уже оплачен. Все, что мне нужно – чтобы кто-нибудь из взрослых расписался на квитанции.
Это сделала Адриана, стараясь подражать неразборчивому почерку отца. Когда мы остались в комнате одни, она попросила меня пустить ее спать наверх, потом вниз, потом снова наверх, потом, сняв туфли, несколько раз попробовала взобраться и спуститься по лестнице. Старую продавленную кровать и вонючий матрас мы отнесли на лестничную площадку.
– Я боюсь снова его намочить.
– Она и клеенку купила, вот, возьми.
– Кто – она?
В этот момент вернулась мать, с ее плеча свешивалась головка спящего малыша. Нисколько не удивившись, а только нахмурившись при виде энтузиазма дочери (Адриана так хотела похвастать обновками, что тянула мать в комнату за рукав блузки), она равнодушно окинула взглядом кровать и все остальное, потом меня.
– Это твоя чудачка-тетка прислала. Интересно, что ты ей о нас наплела? Я вчера говорила с синьорой Адальджизой, она просила Эрнесто, хозяина бара, позвать меня к телефону.
Привилегия спать за ширмой на чистых матрасах закончилась для нас с Адрианой очень скоро. Мальчишки прятались за «этой штукой», как они ее называли, внезапно выпрыгивая оттуда и пугая нас громким криком. Ширму не раз роняли, и через неделю ткань, которой были затянуты створки, порвалась в нескольких местах, а они, воспользовавшись этим, совали в дыры головы и вопили. Наш с сестрой маленький уединенный мирок погиб у нас на глазах: возмущенные возгласы Адрианы не могли его спасти, а родители вмешиваться не стали. Долгие годы я была единственным ребенком в семье и не научилась защищаться, поэтому молча страдала от нападок братьев, свирепея от бессильной злобы. Удивительно, как только крыша под градом моих проклятий не рухнула прямо на голову Серджо!
Один Винченцо не участвовал в этих выходках, время от времени покрикивая на мальчишек, чтобы те угомонились. После того, как мы отволокли ни к чему уже не пригодную ширму в гараж, он подолгу смотрел на меня: и вечером, и когда просыпался, словно раньше не успел наглядеться на мое тело. Одежды на нас по-прежнему было немного – жара тем летом стояла совершенно выматывающая, и заканчиваться она, похоже, не собиралась.
Адриана так и не решила, будет она спать сверху или снизу, в такой восторг приводила ее кровать, поэтому мы все время менялись местами. Где бы я ни легла, она вечно лезла ко мне под бок и сворачивалась там калачиком. Но клеенка у нас была одна, поэтому вскоре моча Адрианы пропитала и новые матрасы.
11
Моя «приморская» мать умерла в одну из тех ночей, что я провела на верхнем ярусе двухэтажной кровати. Она вовсе не выглядела больной – разве что стала чуть бледнее обычного. Выпуклая родинка на подбородке, напоминавшая мохнатую гусеницу, медленно, почти незаметно потускнела, за какую-то пару минут слившись с бесцветно-серой кожей. Дыхание перестало вздымать грудь, глаза остекленели.
Другая мать поехала со мной на похороны. «Бедняжкадальджиза, бедняжкадальджиза», – повторяла она, заламывая руки, пока ее не попросили отойти в хвост процессии: нельзя же, в самом деле, в подобных обстоятельствах светить драными сетчатыми чулками. Я как единственная дочь покойной шла впереди совершенно одна, а за мной тянулась неясная группа фигур в черном. Когда могильщики опускали гроб в свежевырытую яму, веревки взвизгнули под его весом. Должно быть, я подобралась слишком близко к краю могилы и, поскользнувшись на мокрой траве, рухнула вниз, прямо на мать, прикрыв своим телом полированное дерево, а потом застыла, потрясенная и, возможно, даже невидимая для окружающих. Священник монотонно благословил гроб, заодно окропив святой водой и меня, а мои крики заглушило лязганье лопат, засыпавших могилу землей. Потом, целую вечность спустя, кто-то вдруг схватил меня за руку.
– Если сейчас же не прекратишь вопить как полоумная, я тебя из окна выкину! – угрожающе прошипел Серджо, несколько раз встряхнув меня в темноте.
Больше заснуть не удалось, и я полночи следила за безразличным движением луны, пока та не скрылась за стеной.
Кошмары стали кульминацией моих ночных мучений. За кратковременными провалами в сон следовали внезапные пробуждения и абсолютная уверенность в неизбежности катастрофы. Но какой именно? Я погружалась в эти приступы беспамятства, пока в них пугающей тенью, еще более громадной и ужасной из-за окружающего меня сумрака, не являлась болезнь матери. Днем я могла бы с этим справиться за счет веры в ее исцеление и мое грядущее возвращение домой, но ночью... Ночью ей с каждым разом становилось все хуже, пока смерть не настигла ее прямо в середине сна.
Ближе к рассвету я сама спустилась к Адриане. Та, не просыпаясь, привычно подвинулась, давая мне возможность устроиться с ней валетом, но мне захотелось лечь на ее подушку, прижаться лбом, обнять и успокоиться. Она была такой маленькой, такой костлявой и пахла немытыми волосами.
А мне вспомнились локоны Лидии. Они проявились не из кошмаров, а напротив, из приятных воспоминаний – словно алые цветы, просвечивающие сквозь тонкую льняную ткань. Слишком молодая, чтобы звать ее тетей, она была младшей сестрой моего отца-карабинера. Мы провели вместе в доме моих родителей добрый десяток лет – во всяком случае, я помню ее с раннего детства. Жила она в самом конце коридора, в комнате чересчур длинной и чересчур узкой, зато с видом на прибой. После обеда я наскоро расправлялась с уроками, и мы садились слушать песни по радио. Заслышав строфы о любви, она в такт, будто наказывая себя за потерю кого-то очень дорогого, колотила кулаком по впалой груди: это из-за астмы родители отправили ее из родной деревни к брату, дышать соленым воздухом.
Когда мы оставались в доме одни, Лидия натягивала мини-юбку и туфли на платформе, которые прятала в шкафу, включала магнитофон в гостиной на полную громкость и танцевала шейк, закрыв глаза и подрагивая от возбуждения. Не знаю, где она этому научилась: гулять после захода солнца ей не разрешали, хотя она не всегда подчинялась, время от времени выбираясь из дома через окно первого этажа. Мне нравилось бывать с ней вечерами, особенно если во время отхода ко сну спина зудела там, куда я сама не дотягивалась. Лидия приходила меня почесать, потом садилась на кровать, пересчитывала мои позвонки, такие же костлявые, как я сама, и каждому из них придумывала историю, называя именами знаменитостей и заставляя болтать, как пожилых кумушек, по очереди касаясь то одного, то другого.
– Меня взяли! – воскликнула она, ворвавшись как-то вечером домой.
Так я ее и потеряла – в большом универмаге, за пару лет до возвращения родителям. С утра мы отправились за покупками, и пока я мерила футболку с рыбами и морскими звездами, она спросила продавца, как ей поговорить с директрисой. Та приходила на работу позже, и нам пришлось подождать. Попав на прием, Лидия достала из сумки диплом секретарши и попросилась работать – на любой должности. Она сидела за столом, а я стояла рядом, время от времени тихонько поглаживая ее по руке.
Ее взяли почти сразу – сперва на короткий испытательный срок. Вечером она пришла, сжимая в дрожащих руках комплект униформы, которую должна была надеть завтра, и тут же попробовала прогуляться взад-вперед по гостиной в своем бело-синем костюмчике с крахмальными воротничком и манжетами. Теперь у нее, как и у брата, была своя форма! Лидия даже исполнила для нас несколько пируэтов, чтобы показать, как взлетает юбка-солнце. Когда та опала, и мир наконец перестал вертеться, я отвернулась.
Из простого продавца Лидия вскоре стала кассиром, а через год была уже начальником отдела. Возвращалась все позже, потом и вовсе добилась перевода в головной офис в нескольких сотнях километров от нас. Иногда она мне писала, но я не знала, что отвечать. Да, в школе все нормально. Разумеется, мы все еще дружим с Патрицией. Я научилась делать сальто в воде, но по-прежнему мерзну в бассейне. Поначалу она присылала открытки с видами города, но те, должны быть, закончились. В альбоме для рисования я закрашивала солнце черным, как мое настроение, карандашом, и учительница даже звонила домой узнать, не умер ли кто. Оценки у меня в дневнике теперь были только отличные: старательно выполняя домашние задания, я занимала освободившееся после отъезда Лидии время.
Она вернулась в августе, на праздники, но радоваться этому я боялась. Мы часто ходили на общественный пляж и совершенно сгорели, несмотря на кремы, которые она покупала со скидкой для сотрудников. С приветливыми соседями-купальщиками она говорила с фальшивым северным акцентом, как эмигрантка, – на ее месте мне было бы стыдно, и это потихоньку убило всю мою ностальгию.
Пока меня не решили вернуть, мы виделись еще один раз. В дверь позвонили, я открыла. На пороге стояла незнакомка с крашеными, тщательно выпрямленными волосами, а к ее ногам жалась маленькая девочка, и это была не я.
Лежа в темноте рядом с Адрианой, я думала, что Лидия могла бы меня спасти, даже, может быть, забрать ненадолго к себе, на Север. Но она снова переехала, и я потеряла ее след. Да и рановато было воображать себе нового спасителя.
12
Они выключили свет и прыгнули по кроватям. Когда я вошла в комнату, Серджо знаком приказал брату заткнуться, но приглушенный подушкой смех слышался еще пару минут. Винченцо не было с обеда, а Адриана в гостиной укачивала малыша. Я разделась, в гнетущей тишине скользнула под простыню и вдруг нащупала ногой что-то теплое, мохнатое, а главное – живое, движущееся и трепещущее. Мой вопль и два взрыва издевательского смеха раздались одновременно с несколькими болезненным уколами в лодыжку. Не знаю, как я добралась до выключателя, помню только, что обернулась взглянуть на кровать – а там копошится голубь: наворачивает круги, изо всех сил стараясь расправить крыло, как будто одного ему хватит, чтобы взлететь, а другое-то сломано у самого основания. Голубиный помет усеял чистые простыни. В конце концов он добрался до края матраса и грохнулся на пол.
Братья хохотали до слез. Привстав в кроватях, они от восторга хлопали руками по коленям, а несчастная тварь все пыталась подняться на ноги и взлететь. Устав наконец от этого зрелища, Серджо схватил голубя за здоровое крыло (без сомнения, сломав и его) и выбросил в окно.
Я заорала, что он – просто чудовище, и вонзила ногти ему в лицо, до крови расцарапав кожу. Он не защищался, даже не ударил меня, а только снова расхохотался, всем своим видом демонстрируя, что я при всем желании не смогу причинить ему боль, а тот, второй, в это время скакал по кровати, как обезьяна, и курлыкал, пытаясь подражать голубиному воркованию.
Пришедшему на шум отцу, чтобы хоть как-то их успокоить и разобраться, что, собственно, происходит, пришлось раздать обоим по паре оплеух: с молчаливого согласия жены, как только мальчишки выросли и ее сил перестало хватать, сыновей бил только он, она же занималась Адрианой, более или менее регулярно выписывая дочери подзатыльники.
– Мы же только слегка пошутили, – оправдывался Серджо. – Она что ни ночь визжит во сне, спать не дает, вот я и решил: раз уж все равно вопит, так пусть хоть повод будет.
На следующий день я помогала складывать уже высохшие простыни.
– Повнимательнее там с древесными клопами! Так и лезут на чистое белье, – велела мать, стряхивая на пол зеленую букашку, а потом совершенно естественным тоном сразу перешла от клопов к детям: – Гадко все вышло, как на мой взгляд. Младшего, конечно, тоже время от времени заносит, но он вовсе не такой уж хулиган.
– Они считают, что мне не место в этом доме, вот и издеваются. Почему бы тебе не вернуть меня туда, где я жила раньше?
– Потихоньку-полегоньку Серджо привыкнет. А ты со своей стороны постарайся не кричать во сне, это выводит его из себя.
Она на мгновение запнулась с ворохом белья в руках, и чуть ли не единственный раз в жизни взглянула мне в глаза, словно пытаясь ухватить ускользающую мысль.
– А помнишь, как мы с тобой встретились на свадьбе? Тебе было лет шесть, может, семь.
И воспоминания вдруг хлынули потоком, словно крупа из вспоротого мешка.
– Что-то такое припоминаю, только сейчас ты выглядишь иначе и одежда у тебя будничная. А тогда была такая элегантная, – выдавила я.
– Ты даже представить себе не можешь, сколько лет я носила тот костюм. Располнела тогда, боялась, что швы разойдутся, – усмехнулась она и принялась рассказывать. – Это было в июне, еще и в воскресенье, да к тому же новобрачные уйму времени потратили на фотографии... В общем, к трем часам все проголодались и не могли дождаться, пока в ресторане освободятся столики. В какой-то момент я обернулась и увидела тебя, но не узнала, не могла узнать, такая ты была нарядная и важная.
– Кто тебе сказал, что это я?
– Ну, сперва я услышала, как кто-то назвал тебя по имени. И потом, там же была Адальджиза, верно? Она заболталась с каким-то родственником и не сразу меня заметила. Я тебя позвала, ты подняла голову, а она только рот раскрыла, да ничего не сказала, – может, потому что слезы у меня так и хлынули.
Сейчас я бы, конечно, расспросила ее обо всех подробностях той встречи, но тогда была слишком смущена, и она сложив белье на стул, продолжила монолог:
– Увидев меня, Адальджиза нарочно встала между нами. Но твоя любопытная мордочка все выглядывала у нее из-за спины, да и я глаз с тебя не сводила.
Я исподлобья бросила взгляд на до времени поседевшую челку, подтверждавшую ее слова: когда меня вернули, мышиного цвета волосы только чуть-чуть тронула седина, но совсем скоро блекло-серые пряди совсем растворятся в серебре.
В тот день, на свадьбе, я еще ничего не понимала. Мои отцы были дальними родственниками, сколько-то-юродными братьями, я носила их общую фамилию. За месяц до передачи обе семьи перекроили мою жизнь, но только на словах, не заключив никаких соглашений, не обговорив деталей, не спросив даже, чем мне придется заплатить за такую неопределенность.
– Я не могла тогда с тобой поговорить, ты была слишком маленькой, но уж тетке твоей кое-что высказала.
– А что не так?
– Она клялась, что вы всегда будете жить здесь, рядом с нами, что мы могли растить тебя вместе. А получается, я могла увидеть тебя только в твой день рождения, когда приезжала в город, – голос сорвался, и пару минут она молчала. – Потом вы и вовсе переехали, а нас никто не предупредил.
Я слушала ее рассказ внимательно, напряженно, но верить ей мне не хотелось. Впрочем, Адриана говорила то же самое в день моего приезда, но и ей я не сильно поверила.
– Она пыталась отговариваться тем, что ухаживает за больной золовкой и не может ее оставить, но эта, как там ее звали?.. Лидия! да, Лидия заходила ко мне и выглядела совершенно здоровой.
– Лидия страдала от астмы, ей даже иногда приходилось вызывать неотложку, – сухо ответила я.
Мать взглянула на меня и, поняв, на чьей я стороне, сразу умолкла. Потом взяла со стула стопку простыней и унесла их в спальню.
13
Письмо, ответа на которое я так и не получила, должно быть, все-таки заставило их втихую о чем-то договориться, потому что в субботу «деревенская» мать скрепя сердце дала мне немного денег, присланных, по ее словам, той, «приморской». Взяв их в руки, я почувствовала уверенность (сперва несколько поколебавшуюся из-за того, кто мне их дал), что здоровье моей далекой матери не ухудшилось, а может, она и вовсе пошла на поправку. Мать не забыла меня: я чувствовала тепло ее пальцев, сохранившееся в металле монеток по сто лир, словно она и впрямь их только что коснулась.
Переглянувшись с Адрианой, мы направились в бар Эрнесто, где я распахнула холодильник и отыскала в клубах холодного белесого пара два брикетика эскимо: шоколадное для меня, вишневое – для нее. Мы съели его, сидя за уличным столиком, будто старички за партией в карты. Остальное я начала откладывать, лишь разок забравшись в копилку, чтобы купить соску для Джузеппе – тот их все время терял.
За несколько недель я скопила достаточно, чтобы хватило на билеты и пару бутербродов. Адриана перетрусила, когда я посвятила ее в свой план, так что мы попросили Винченцо нас сопровождать: он как раз докуривал сигарету на площади, прежде чем подняться наверх к ужину. Брат дымил, прикрыв глаза, словно глубоко задумавшись.
– Лады, но чтобы дома ни одна живая душа не узнала, куда мы едем, – выдал он наконец. И добавил, бросив мрачный взгляд на окна третьего этажа: – Отцу скажете, что хотите поработать со мной в саду, он и слова не скажет.
На рассвете мы забрались в автобус, идущий в город. Адриана там еще никогда не бывала, да и Винченцо видел только пригороды, где стояли табором его друзья-цыгане со своими аттракционами. Автостанция оказалась в паре шагов от пляжа, где я прежде торчала все лето. Устроившись в тени зонтика и благоухая кремом для загара, мы с матерью лениво наблюдали, как рой купальщиков движется в сторону станции канатки и бесплатного пляжа сразу за ней. В такие дни, в конце сезона, мы часто лакомились виноградом, отщипывая по ягодке от грозди, которую она брала с собой на полдник.
Но сейчас для купальщиков было еще слишком рано. Какая-то новая, незнакомая девушка драила шваброй бетонную дорожку от тротуара до входа в бар. Спасатель раскрывал желто-зеленые зонтики, один металлический щелчок за другим, но мой, в самом первом ряду, пропустил, словно знал, что он сегодня не понадобится.
– А, вот и ты! Куда же ты подевалась? – удивленно спросил он. – Вы как сквозь землю провалились, даже мать твоя не ходит... Уезжали куда-то на каникулы? Ну, как бы там ни было, сейчас я тебе все открою. Номер семь, помнишь?
Шезлонг заскрипел – им, видно, давно не пользовались, – а мужчина в выгоревшей майке обернулся, завидев двух шедших в паре метров за мной подростков: слишком уж они отличались от обычных посетителей.
– Это мои двоюродные брат и сестра, они в горах живут, моря еще никогда не видели, – выдавила я вполголоса.
Впрочем, ребята все равно не услышали бы, так их захватили новые ощущения. Оба уселись у самой воды, хотя даже Винченцо слегка пришибло от собственной смелости. Невысокие волны лениво катили на берег – ни пены, ни шума прибоя. Солнце все еще не поднялось над горизонтом, даже чайки не взлетали с волнорезов.
– Но ведь если мы нахлебаемся воды, то умрем? – испуганно переспросила Адриана, недоверчиво пропуская сквозь пальцы тонкую струйку песка. Мы скинули одежду (на сестре остался купальник, который стал мне мал, на Винченцо – только трусы) и развесили ее на спицах зонтика. На одной обнаружилась моя давно потерянная заколка – вот, значит, где она была! Я поддела ее ногтем, расстегнула и убрала в сумку. Как же давно это было... Я была тогда совсем еще маленькой, и мать каждое утро причесывала меня, а потом обеими руками убирала пряди с лица и закрепляла заколкой. Она садилась на край моей кровати, а я вставала перед ней. Помню шорох расчески и легкие прикосновение железных зубьев к коже – это было приятно.
Сестра боялась даже намочить ноги: ей казалось, что волны утянут ее за собой. Она присела на берегу, уперев подбородок в колени, и уставилась в бесконечную синеву. Я молча нырнула, скользя глубоко под водой, пока хватало дыхания. Потом, подняв голову, оглядела пляж, постепенно заполнявшийся самыми ранними пташками. Адриана вся съежилась, ожидая моего возвращения, а вот Винченцо, поднимая фонтаны брызг, вбежал в воду: научился плавать на речке, с друзьями. Сильными широкими гребками он направился ко мне, оставляя позади пенные буруны, а подобравшись совсем близко, вдруг на мгновение исчез и вынырнул прямо между моих ног. Я очутилась у него на плечах, а он, отфыркиваясь, продолжил плыть:
– У тебя, значит, хватило сил сюда догрести? Ну, ничего, я тебя одной левой переплюну, даже с таким мешком на спине!
Холода мы не чувствовали. Чтобы сбросить меня, он сделал сальто, высоко выпрыгнув из воды, потом пару раз схватил поперек живота и бросил, точно резиновый мячик, хохоча так, что видно было белесые пятна соли на деснах. Я случайно коснулась ногой бедра Винченцо в районе члена, ощутив его набухшую твердость, а он тут же закрыл мне уши руками и поцеловал прямо в губы. Его язык проник ко мне в рот, нетерпеливо обвившись вокруг моего в исследовательском порыве. Совсем забыл, кем мы друг другу приходимся.
Я оттолкнула его и поплыла прочь. Отвращения я не чувствовала и потому не спешила, только на берегу осознав, как колотится сердце. Наверное, все заняло считанные минуты, но мир теперь казался мне совершенно другим. Адриана сидела там же, где мы ее оставили. Я вытянулась рядом с ней на песке, ожидая, пока грудь перестанет ходить ходуном, а дыхание немного успокоится.
– Помираю с голоду, – мрачно сказала сестра.
У меня в сумке лежали бутерброды, но чтобы хоть немного порадовать ребенка, я на оставшиеся деньги сводила ее в бар за куском пиццы и кока-колой. Увидев, что мы вернулись под зонтик, Винченцо вышел из воды. Он двигался расслабленной походкой дикого, варварского божка, на денек спустившегося с небес к морю, чтобы оплодотворить синюю бездну. Если бы кто-то взглянул на него, то наверняка заметил бы, что трусы слишком уж облепили тело и чуть сползли, открывая дорожку волос. Но на пляже уже не было августовской толпы, потеющей под безмятежным летним солнышком. Впрочем, и мне, тайком пробравшейся к морю, у которого выросла, стоило поостеречься – кто-нибудь из постоянных купальщиков вполне мог меня узнать.
Оставшиеся несколько часов мы с Винченцо старательно избегали друг друга. Я положила бутерброды так, чтобы он их видел, но ничего не сказала и ушла под предлогом проводить Адриану до качелей.
Мой прежний дом был в двух шагах, через дорогу от пляжа. Но обогнув угол сада, я увидела признаки запустения: опрокинувшийся от ветра стул, опавшие листья на столе, который когда-то накрывала к ужину, обрывки ветоши, зацепившиеся за шипы любимой маминой розы – в мае она не выходила из дома, не приколов на грудь свежий бутон, – давно не кошенную траву, высохшие без воды тюльпаны... Я шла к воротам, и с каждым шагом ноги наливались свинцовой тяжестью. В почтовом ящике еще хватало места: возможно, кто-то время от времени забирал письма – в конце концов, мои же дошли. Но дорожка была засыпана песком после недавнего либеччо, все шторы опущены, как всегда, когда мы уезжали в отпуск, и только под навесом одиноко пылился мой старый велосипед со спущенной шиной. Я позвонила в дверь, услышала, как звонок эхом отдается в пустоте комнат, подождала немного и, не дождавшись ответа, принялась звонить снова и снова, все дольше. Потом уткнулась лбом в кнопку звонка и стояла так, пока жара не стала невыносимой, а тогда опрометью ринулась через дорогу обратно на пляж, рискуя быть сбитой, и укрылась в тени кабинки.
Должно быть, она действительно умерла, как тогда, в моем сне, как умерли ее тюльпаны, иначе ни за что не уехала бы из этого дома! Но разве не она прислала мне в деревню двухэтажную кровать и все остальное? А та, другая мать сказала, что они разговаривали по телефону. Почему же тогда она не стала говорить со мной? Где она? Может, не хотела пугать меня ослабевшим от болезни голосом из больницы в какой-нибудь глуши? Или, может, отца перевели в другой город? Он говорил, что такое возможно. Нет, они все равно должны были забрать меня с собой, куда бы ни поехали! А Лидия? Она знала? Знала и не искала меня? Хотя мы в последнее время нечасто о ней слышали: незадолго до переезда на Север она отколола одну из своих штучек, и мать, возможно, еще не до конца ее простила.
Лидия тогда познакомилась с танцовщицей, которая жила в мансарде дома напротив, и частенько тайком болтала с ней у ворот нашего сада. Лили Роуз работала в ночном клубе на Ривьере, а днем отсыпалась. Время от времени в мансарду приходили какие-то мужчины, поэтому Лидии не разрешалось даже здороваться с ней, чтобы не дай бог не заразиться.
Но раз в воскресенье, в самую духоту, мои родители отправились на похороны и оставили нас дома одних, а Лили Роуз зашла спросить, есть ли у нас вода: из ее кранов не удавалось выцедить и капли. Она была в коротеньком платьице, на глаза со следами вечернего макияжа спадала спутанная копна пергидрольных волос. Лидия пригласила ее зайти, предложила сперва лимонаду, а потом принять душ. Лили Роуз вышла из ванной в мамином халате нараспашку, оставляя за собой мокрые следы босых ног.
Они принялись танцевать в гостиной, сперва вполне пристойно, потом прижимаясь друг к другу все плотнее, особенно во время медленных, чувственных песен. Лили Роуз учила, как двигаться, как подавать таз вперед и тереться об мужчину. Она даже разок вытянула ногу, обнажив ее до самого лобка, и погладила промежность Лидии, но так, в шутку. Шло время, я понемногу начала волноваться и посматривать на дверь, но им было не до того: они сдвинули в сторону журнальный столик и переключились на экстатический шейк, безумный, как они сами. Лидия сбросила пропотевшую блузку, оставшись только в коротеньких шортах и лифчике, и когда сорокапятка закончилась, они, задыхаясь, повалились на диван, причем пояс халата Лили Роуз развязался, демонстрируя ее тело во всей красе.
Так их и нашла рано вернувшаяся с похорон мать.
Я сидела за кабинками, пока на меня случайно не наткнулась зареванная Адриана. Скорее всего, она ударилась, слетев с качелей, и теперь блуждала по незнакомому пляжу, даже не стерев с губ и носа налипший песок, не в силах найти зонтик в первом ряду, под которым могла бы вместе с братом меня дождаться, и чувствуя себя поэтому совершенно беспомощной.
– Я не сама упала, это они меня столкнули, – с ходу пожаловалась она Винченцо, указывая на слонявшихся у детской площадки ребят. – Сказали, чтобы я никогда больше на этот пляж не приходила и на качели не лезла.
Брат ринулся в схватку, словно разъяренный бык: не знаю даже, успели ли они перекинуться хоть парой слов или сразу принялись драться. Мы с Адрианой подоспели, когда вся ватага уже каталась по земле, время от времени рассыпаясь в разные стороны, будто песочные статуи, все на одного – нашего. Мы стали звать хозяина, тот прибежал, наорал и разнял их. Но потом, отведя меня в сторону, велел больше не приводить этого цыгана-полукровку в трусах. Кто он вообще? Уж конечно, не родственник: такая приличная семьи, даже вон отец в карабинерах.
Винченцо умылся прямо на мелководье, и не подумав воспользоваться туалетом. Ближе к вечеру, когда жара чуть спала, под соседними зонтиками, словно сговорившись, стали есть дыни, искоса поглядывая в нашу сторону. Мимо, прямо по кромке воды, прошел мужчина с ведром, выкрикивавший «Ко-ко, кокосы! Свежие ко-ко, кокосы!»
– Он что же это, яйца продает? – удивленно спросила Адриана.
– Нет, это такой экзотический фрукт, – еще и на кокос у меня просто не было денег.
Но продавец улыбнулся, увидев, с каким любопытством сестра заглядывает в ведро, и дал ей попробовать кусочек – правда, совсем маленький, на один укус.
Когда мы оделись и направились к автостанции, мне на мгновение показалось, что за спиной раздался дружный вздох облегчения. Я помахала из окошка пятиэтажному дому, где жила Патриция, мысленно пообещав ей вернуться.
– Доеду на следующем, мне надо зайти к приятелю, – сказал вдруг Винченцо и поднялся, собираясь сойти где-то в пригороде. Глядя сквозь пыльное стекло на его удаляющуюся по тротуару темную тень, я уже не знала, что к нему чувствую. Когда водитель дал по газам, он взглянул на меня и приложил указательный палец к губам, но я так и не смогла понять, послал ли он мне воздушный поцелуй или велел помалкивать.
Адриана проспала всю дорогу до деревни, а потом, ночью, жаловалась что обгорела. Дома нас никто не искал, мать только спросила, привезли ли мы фруктов из сада. Винченцо вернулся лишь через два дня, но отец не стал его наказывать – может, даже не заметил или вовсе отказался от попыток исправить сына.
14
– Спускайся, что покажу! Встретимся за гаражом, – позвал Винченцо с улицы.
Мы подошли через пару минут вместе с Адрианой. Бросив на меня косой взгляд, он послал ее на площадь купить сигарет, а сдачу велел оставить себе. В кармане оказалось довольно много денег, и когда он доставал монеты, одна банкнота выпала. Еще один взгляд – и мое намерение отправиться с Адрианой пресечено на корню.
– Ребенок же еще, секреты хранить совсем не умеет, – сказал он, когда сестра скрылась за углом. – Так, жди здесь.
Вернулся Винченцо буквально через минуту. Воровато оглядываясь через плечо, он достал из-под мышки синюю бархатную сумочку, опустился на колени, прямо на землю, раскрыл ее и принялся демонстрировать мне свои сокровища, раскладывая их на окружавшей дом цементной дорожке, как на витрине ювелирной лавки. Похоже, они были ношеными: во всяком случае, бриллианты казались слегка потускневшими. Со всей осторожностью, двумя пальцами он расправил два спутавшихся ожерелья и выложил их рядышком, оставив напоследок небольшую коллекцию браслетов, колец и цепочек, с подвесками и без, сполна налюбовавшись ими прежде, чем взглянуть, какой эффект эта выставка драгоценностей произведет на меня. И был поражен, увидев мое обеспокоенное молчание.
– Что скривилась, не нравится? – разочарованно спросил он, поднимаясь на ноги.
– Где ты все это спер?
– И вовсе не спер, со мной этим расплатились, – попытался оправдаться он тоном обиженного ребенка.
– Это стоит кучу денег. За два дня столько не заработаешь.
– Приятели решили отблагодарить меня перед уходом. Я ж им не ради денег помогал, а так, за бесплатно.
– И что ты теперь будешь с этим делать? – не сдавалась я.
– Перепродам, – он снова опустился на колени, чтобы собрать золото.
– С ума сошел? Поймают с краденым – живо окажешься в колонии.
– Ой, да что ты понимаешь? И кто сказал, что они краденые, а? – он развернулся, гордо продемонстрировав мне пару браслетов, но сжимавшая их рука дрожала, а ноздри над едва пробивающимися усиками раздувались от волнения.
– Сразу ясно. И потом, цыгане вечно обкрадывают дома, так мой отец-карабинер говорит, – слова сами сорвались с языка, я даже не сразу поняла, что снова назвала усыновителя отцом.
– Ну, везуха тебе, значит. Мечтай дальше про папашу-карабинера. А он, дядька этот, небось, тебя уж и не помнит, ему ведь даже в голову не пришло поинтересоваться, как ты тут живешь, в деревне.
Я и сама не заметила, как по щекам потекли слезы: Винченцо говорил совсем как Серджо. Но только он, в отличие от младшего брата, сразу вскочил, встал рядом, близко-близко, и принялся своими загрубевшими большими пальцами вытирать мне лицо, качая головой и сокрушенным тоном уговаривая не плакать: он, мол, этого не вынесет. «Подожди, подожди, сейчас», – сказал он наконец и бросился собирать драгоценности обратно в синюю сумку. Все, кроме одной.
– Позвал ведь тебя, чтобы эту штуку подарить, но ты меня так разозлила... – и протянул дорогущую подвеску-сердечко на цепочке.
Я инстинктивно отступила на шаг назад и в сторону, а он так и остался стоять с покачивающимся на золотой нитке кулоном в руке: прорезанный добрым десятком яростных морщин лоб, сжавшийся в узкую щель рот, рыбий хребет на виске набух и пульсирует, багровея от гнева, но в глазах только болезненное, беспомощное оцепенение. Увидев это, я сделала ровно такой же шаг вперед и вскинула подбородок, показывая, что принимаю подарок. Он не глядя свел руки у меня за головой, наугад застегнул цепочку, и прохладное сердечко легло мне на грудь, постепенно согреваясь учащенно пульсирующими приливами крови.
– Какая же ты красивая! – хрипло выдохнул Винченцо. Он медленно обвел пальцем контур прижавшейся к коже подвески, потом спустился ниже, к груди.
– Вот твои сигареты! – Адриана выскочила из-за угла и запнулась, не понимая, что происходит. – Твои сигареты... – тихо повторила она, неуверенно протягивая пачку и чуть не выронив изо рта палочку от вишневого мороженого, которое купила на сдачу. Я повернулась к ней спиной, сняла с шеи подарок, спрятала в карман – и с тех пор никогда с ним не расставалась, даже сейчас храню этот кулон, вполне возможно, краденый. Не знаю, как, вечно таская его с собой, мне за двадцать лет удалось его не потерять, но я его берегу. Иногда использую его как талисман: надевала как-то на экзамен по математике, на важную встречу, и снова надену на свадьбу Адрианы, если, конечно, она решит выйти замуж. Интересно все-таки, кому раньше принадлежало это сердечко?
Следующие несколько дней я избегала оставаться с Винченцо наедине, но даже от одного его вида у меня начинало ныть под ложечкой и все внутри сжималось. Ближе к вечеру через окно откуда-то из-за гаража слышался призывный свист, и приходилось собирать всю волю в кулак, чтобы не обращать на него внимание. Прождав впустую пару минут, брат молча поднимался, с такой силой хлопая дверью, что цветочные горшки падали с полок, Джузеппе безудержно рыдал, а у Адрианы начинала раскалываться голова. Но я продолжала сопротивляться, держа дистанцию.
Субботних денег мне как раз хватало на билет до города, и я в кои-то веки решила сказать родителям правду: что хочу пойти на день рождения к подруге и что собираюсь остаться у нее ночевать. Они безразлично переглянулись, неуверенно пожав плечами.
– На машине я тебя не повезу, она и так через раз заводится, – в устах отца это прозвучало как разрешение. Услышав его голос, я вдруг поняла, что дома он почти все время молчал.
Рано утром я спустилась вниз, еще из окна присмотрев на косогоре за домом россыпь ярких цветов, которые решила подарить Патриции – больше у меня все равно ничего не было: одуванчики да скромные желтые цветочки, которые пахли репой. Перевязала букет ниткой и вернулась, чтобы собраться. Адриана о моих планах не знала, и когда поняла, что я еду без нее, убежала в комнату, схватила рисунок, который я для нее сделала, и порвала прямо у меня на глазах. К моему удивлению, мать с малышом на руках вышла проводить меня до остановки на центральной площади. Я помахала им из окна, и Джузеппе тоже взмахнул рукой, словно повторяя за мной, но на прощание вышло не похоже.
За время пути цветы быстро завяли. С соседних мест на меня посматривали – возможно, из-за запаха репы. Ожидая, пока откроется дверь на пятом этаже дома на северном берегу, я еще раздумывала, стоит ли вручать их подруге.
Впрочем, она так набросилась на меня, вопя от радости, что обе собаки залаяли и даже кошка вышла посмотреть, что происходит. Опустив глаза, я извинилась за скромный подарок, но Пат заверила, что мои цветы лучше всего, что она получила.
Мы просидели вдвоем все утро, болтая без перерыва, хотя она все-таки несколько больше: мне было стыдно рассказывать о своей новой жизни, и поэтому я отчаянно расспрашивала ее. Все запахи этого дома были мне знакомы: корицы – в кухне, слегка кисловатого пота Патриции – в ее комнате, а в ванной – «номер пять» ее матери, которыми та всегда пользовалась, отправляясь в офис. На сам праздник я опоздала, он был вчера, но в холодильнике оставались чудесные угощения и сладости, которые мы беспечно грызли, развалившись на кровати. Пат похвасталась выигранными соревнованиями по плаванию – мол, я непременно заняла бы третье-четвертое место, если бы приняла в них участие. Потом мы вместе посмеялись над длинноносым мальчишкой, который увивался за ней уже не первый месяц.
– Как же он будет меня целовать с таким-то хоботом? – спрашивала она, не зная, давать ли ему шанс.
«Пока тебя не было...» – так начинался ее отчет о каждом событии, как будто страницу с моим участием перевернули безвозвратно.
15
Кошка мяукала битый час, ластясь к ногам хозяйки, но вместо еды получала только небрежную ласку. Мы потеряли счет времени, и Пат по-прежнему сидела в пижаме, хотя день уже почти закончился. Хлопнула дверь, потом звякнули, ложась на полку в коридоре, ключи, и мы наконец обнаружили себя за границами заново выстроенной вселенной, одной на двоих. Мать Патриции на радостях обнимала меня так долго, что от аромата французских духов закружилась голова. Уткнувшись в белую льняную блузку, я зажмурилась, растворилась в ее объятиях, и она поняла, что я не держу обиды, что простила ее за отказ приютить меня в своем доме.
– Дай-ка на тебя взглянуть, – сказала она наконец, отступив на шаг, и обнаружила, что я выросла и слегка похудела. По чистой случайности именно в этот день Ванда взяла в кулинарии мою любимую пармиджану[5]. Пока я жевала, она с улыбкой смотрела на меня, а после под предлогом диеты отказалась от своей порции. Тем временем позвонил отец Пат: похоже, до вечера мы его не увидим. Тогда я съела и его долю, старательно вычистив тарелку хлебом. Подруга была поражена: раньше я ничего подобного не делала.
– Это в деревне так едят, – объяснила я, сразу почувствовав неловкость.
Ванда мягко поинтересовалась насчет моей настоящей семьи, я стала отвечала на ее вопросы – куда менее уклончиво, чем самой Пат, отбросив прежнюю осмотрительность, – и ни с того ни с сего мне вдруг стало безумно стыдно. По уши погрузившись в этот стыд, я начала узнавать свою первую семью вместе с Вандой: перечислила имена других детей, рассказала кое-что об Адриане и Джузеппе, не понимая, как лучше их описать – сердце сжималось от боли и нежности к обоим, особенно к ней. Сестричка – так я ее назвала. Но о Винченцо не сказала ничего.
– Ну, а родители? – добрались мы до неизбежного вопроса.
– Ничего о них не слышала с тех пор, как отца перевели.
– Нет, я имела в виду тех, с кем ты живешь сейчас.
– Он работает на кирпичном заводе, но не каждый день, насколько мне известно, – сказала я и замолчала. Потом извинилась и быстро-быстро прошлепала в ванную – не потому, что приспичило, а чтобы запереться там и переждать какое-то время, нюхая ароматные флаконы. Наконец спустила воду и вернулась – как я и предполагала, Ванда уже переключилась на другую тему.
Чуть позже Патриция попросила ее сводить нас в порт посмотреть парад катеров – отмечался день местного флота. После мессы в ближайшей церкви флагман, весь в гирляндах цветов, со статуей святого и священником на борту, отчалил от берега, за ним потянулась целая флотилия рыбацких катеров, вплоть до маленьких лодочек, тоже украшенных бьющимися на ветру разноцветными флажками. Возвращаясь, они должны были бросить в воду лавровые венки в память о тех, кто погиб в море. Мы с Пат шли за ними вдоль набережной вместе с толпой зрителей, а потом повернули на север, вдоль пляжа, где жены рыбаков торговали жареной рыбешкой, Патриция купила у одной кулек, и вскоре мелкая чешуя уже щекотала нам языки. За ужином мы поели еще, чтобы не расстраивать Ванду, которая приготовила принесенных мужем свежевыловленных черенков.
– Видел на прошлой неделе твоего старика, – сказал Никола. – Стоял на дорожном посту у въезда в город.
– Вы с ним поговорили? – вздрогнула я.
– Нет, он как раз проверял какой-то грузовик. Бороду отпустил, надо же.
– Не думай об этом, – Пат похлопала меня по плечу, укоризненно взглянув на отца. – Давайте уберем со стола и вернемся на праздник. Можешь надеть что-нибудь из моих вещей.
Уж в этом году мы точно не пропустим грандиозный финал с фейерверками!
– На машине будет неудобно, – заявил Никола, подсаживая меня на раму своего велосипеда. Остальные последовали за нами. Он крутил педали неторопливо, время от времени трезвоня, чтобы не задавить кого-нибудь из постоянно растущей толпы гуляк в порту. Мы бесшумно катили сквозь огни и аромат карамели от лотков с сахарной ватой или хрустящим миндалем, к которому временами примешивалась удушливая вонь канализации, пока не оказались на широкой набережной. Дальше было не проехать, пришлось оставить велосипеды, привязав их у парапета. Нам с Патрицией захотелось прогуляться немного вдвоем, и мы договорились с ее родителями встретиться после салюта, которого решили дождаться прямо на пляже, усевшись в воображаемом первом ряду. За нашими спинами понемногу стали собираться люди. С обеих сторон расселись группки мальчишек, явно лицеистов. Время от времени один из них, кудрявый, в очках, наклонялся вперед, чтобы получше меня рассмотреть.
– А ты ему нравишься, этому патлатому, – рассмеялась Пэт, подмигивая парню.
Я обняла ее за плечи и крепко прижала к себе, не в силах передать, как скучала по ней и по жизни, которой была теперь лишена. Наверное, она заметила слезы, которые я тщетно пытался скрыть, и взволнованно спросила:
– Что с тобой? – но я не ответила.
Объявили о начале представления, и толпа зрителей зашевелилась: все поднялись, уставившись в разлившуюся над морем темноту. Раздались тихие, неуверенные хлопки, перешедшие в непрерывное крещендо. Получив свою минуту славы, целые вселенные рукотворных звезд осыпались вниз и гасли на фоне холодных, недвижных звезд настоящих, а под водой, невидимые нам, беззвучно метались перепуганные рыбы.
Вдруг чья-то сильная рука крепко сжала мою. Я улыбнулась Пат, на которую не смотрела уже пару минут, но это оказалась не она, а тот кудрявый тип; отблески огней отражались в линзах его очков. Я даже сейчас помню, как у меня в тот момент свело живот, хотя чувства и притупились немного с годами: среди всех этих девушек он выбрал меня!
– Как тебя зовут? – мягко выдохнул он мне в ухо. Отражения огней в очках ежесекундно меняли цвет, как в калейдоскопе.
Не знаю, услышал ли он мой ответ, пришедшийся как раз на последний залп. Я его имени точно не разобрала, не смогла прочитать по движениям губ: может, Марио или Массимо. От руки, на несколько мгновений крепко сжавшей мою, теплая дрожь поднялась до локтя, потом до самого сердца. Кто-то толкнул его, и поцелуй, который должен был прийтись мне в щеку, пропал даром, а потом мы и вовсе потеряли друг друга в сутолоке, когда толпа расходилась с пляжа. Мне нужно было найти Патрицию, а он не смог удержаться рядом. Наверное, ровесник Винченцо, но какая огромная разница...
С тех пор, как меня вернули, я больше не спала по ночам так же глубоко и спокойно, как раньше. С первым лучом солнца, пробившимся сквозь шторы, в гостевую кровать пришла и скребущая тоска: вечером придется вернуться в деревню. Я проснулась в абсолютной прострации, как с похмелья, и села завтракать вместе с Вандой – та уже была на ногах.
– Ты за это время хоть раз видела мою мать?
– Нет, с тех пор, как ты от них уехала – нет, – ответила она, наливая мне молока и какао.
– Но ты же время от времени ходила мимо моего дома?
– Да, но ворота всегда были закрыты, – на столе появились джем, хлеб и печенье в форме цветочков.
– Наверное, ее положили в какую-то далекую больницу, и отец уехал туда с ней.
– Почему ты так считаешь?
– В деревне меня ни о чем не спрашивали, но у нее не было причин меня возвращать. Может, она и хотела скрыть правду, чтобы меня не напугать, но в последние несколько недель сил ей не хватало даже для уборки и готовки. Лежала в постели и плакала, – мне наконец-то удалось продрать глаза, и это придало уверенности: – Как только она поправится, они приедут обратно, вернут меня и ворота нашего дома снова откроются, тут даже сомнений быть не может.
Ванда задумчиво прихлебывала кофе, на ее носу красовалось крохотное коричневое пятнышко.
– Со временем все, конечно, прояснится, – сказала она наконец. – Постарайся продержаться хотя бы этот учебный год. А потом, с хорошими оценками, сможешь так или иначе поступить в лицей здесь, в городе.
Я кивнула, чуть не ткнувшись носом в чашку с так и не согревшимся молоком, и принялась грызть ноготь.
– Поешь пока. Вот увидишь, тебе позволят к нам приезжать.
Чуть позже я спросила Патрицию, не хочет ли проводить меня до дома, благо, это было недалеко. Она отнеслась к этой авантюрной миссии с огромным воодушевлением.
– Отвертку взять? – пробасила она голосом воображаемого секретного агента: ее послушать, так нам предстояло взламывать замок.
Но ворота оказались открыты, а с заднего двора слышался шум. Мы тихонько вошли внутрь (Пат – на цыпочках, подражая шпионам в кино) и двинулись по дорожке в сторону дома. Песок был убран, сад приведен в порядок, пахло свежескошенной травой. Грабли стояли у стены, в стороне лежали другие инструменты. Дверь в дом была по-прежнему закрыта, а шторы опущены, но велосипед под навесом явно передвигали, когда накачивали шины, потому что на земле валялся насос. На заднем дворе послышался стук – буквально пара ударов, потом тишина. И снова. У меня перехватило дыхание, во рту пересохло: сейчас я увижу отца! Это его манера бить молотком, он часто делал так, когда чинил какую-нибудь мелочь в доме!
Выскочив из-за угла, я крикнула «привет» – и тотчас же очутилась в объятиях Ромео, нашего садовника, с которым столкнулась, не успев сделать и шагу. А Патриция и вовсе, потеряв равновесие, плюхнулась на лужайку, не сводя с меня глаз.
– Привет, прекрасная синьорина, откуда это ты взялась? Мне казалось, дома никого нет. Можешь позвать маму? Я как раз закончил.
– Родителей пару дней не будет, – сымпровизировала я. – Где ты взял ключ?
– Твой отец оставил его в баре. Сказал по телефону, чтобы я привел сад в порядок к осени.
– И от двери тоже?
– Нет, от нее нет, – похоже, он что-то заподозрил, потому что спросил, указывая в сторону дома: – А ты что, одна здесь?
– Нет, я живу у подруги, мы за книжками пришли. Но ключ можешь оставить мне, папа с мамой не сегодня-завтра вернутся, – мне казалось, что объяснение было совершенно естественным, но он не купился.
– Лучше оставлю в баре, как договаривался с прапорщиком.
Так он лишил меня возможности забраться хотя бы в сад. А я не стала поправлять его насчет отцовского звания.
За обедом я долго ковыряла вилкой спагетти с моллюсками: Никола знал, как они мне нравятся, и умолял поесть, но у меня стоял ком в горле от собственной беспомощности. По телевизору сообщали о новых антитеррористических законах, потом начался сюжет о недавно открывшемся парке развлечений, первом таком огромном в Италии.
– Этого мы точно не должны упустить, – заявила Пат. – Туда ходят автобусы, можно в следующий раз съездить на весь день.
Впрочем, нам удалось осуществить этот план только через несколько лет. Сдав сессию в университете, я смогла добраться к подруге из Рима, и мы поехали отдыхать вместе. Двух юных девушек нечасто встретишь на озере, однако Патриция как раз залечивала любовную рану и решила, что безмятежный пейзаж и спокойствие воды как раз подойдут к ее настроению. Но выйдя как-то утром на террасу крохотной гостиницы с геранью на окнах, она воскликнула:
– Пора кончать с этой смертной скукой, поехали сегодня в Гардаленд!
У входа мы смешались с толпой детей. Я вопила от ужаса даже на самых простых аттракционах: не только на американских горках, но и на самой высокой точке колеса обозрения, где кабинка на несколько секунд зависает, чтобы потом качнуться и начать падать в бездну. Но ничто не привело меня в такой восторг, как позвякивающая цыганская карусель в тот вечер, с Винченцо и Адрианой.
В автобус я села на одной из остановок на набережной. Они, все втроем, настояли на том, чтобы меня проводить (Ванда к тому же вела на поводке собак). Приехав с увядшим букетиком цветов в руках, я возвращалась в деревню со стопкой тетрадей, несколькими комплектами маек, штанов и нижнего белья, а также сумкой, чтобы все это унести (она, кстати, тоже могла пригодиться в школе). Услышав напутственные слова, я разрыдалась так безудержно, что предпочла бы скорее утонуть в синей бездне, которую от тротуара отделяло всего метров тридцать песка, чем ехать обратно, и в себя пришла уже на сиденье у окна, прижавшись головой к стеклу.
Никола напоследок вручил мне несколько пачек печенья и большую порцию пармиджаны все из той же кулинарии. Я решила предложить их сестре, чтобы хоть немного ее задобрить. Мы могли бы тайком съесть все это вечером в гараже, только мы с ней вдвоем. Я бы отдала ей пару тетрадок и одолжила сумку – очень уж меня напугал приступ ее ревности. Адриана – единственная, кто останется со мной, когда автобус доберется до конечной. А пока я могла плакать, никого не стыдясь, всю петляющую дорогу до деревни – место рядом со мной так и осталось незанятым.
16
Она поджидала меня с самого утра, встречая каждый автобус из города. Ослепленная закатным сентябрьским солнцем, я не сразу ее разглядела, она держалась чуть в стороне, и уже было направилась домой, как она шагнула вперед. Я увидела сжатые в кулаки опущенные руки и насупленные брови, под которыми почти совсем скрылись глаза. Мы стояли в паре метров, друг против друга, и я гадала, стоит ли приближаться к этому сгустку чистой ярости, пусть даже усталому и почти растекшемуся по асфальту из-за жары. Она жадно обшарила глазами мою туго набитую сумку, пакеты, которые я едва могла удержать, потом вдруг рванулась ко мне и обняла. Уронив вещи на асфальт, я привстала на цыпочки и поцеловала ее в лоб. Домой мы шли бок о бок, молча. Она помогала мне тащить сумку и все остальное, даже не спросив, что там внутри, а заговорила только дойдя до нашего дома, да и то предварительно оглянувшись по сторонам. Впрочем, в этот час на площади никого не было: все ужинали.
– То, что ты привезла, лучше бы сныкать, иначе это добром не кончится, – кивнула она в сторону третьего этажа, имея в виду Серджо и того, другого.
Мы открыли гараж ключом, который всегда прятали за выбитым кирпичом, и занесли все внутрь.
– Только до отвала не наедайся, – сказала я ей на лестнице. – У меня есть для тебя кое-что вкусненькое.
Семья, похоже, не сильно скучала по мне: один только Джузеппе оторвался от материнской груди и пополз в мою сторону. Я взяла его на руки, и он тут же сунул мне в рот свой липкий палец, перепачканный чем-то сладким.
– Да наша синьорина, небось, уже сосиской сыта, – выпалил Серджо, стоило мне сказать, что я не голодна, и добавил, чтобы уже ни у кого не осталось сомнений: – Такой, с яйцами.
Винченцо дома не было. После ужина и мытья посуды мы с Адрианой, спрятав за поясом вилки и ножи, спустились вниз, даже не спросив разрешения. Там, сидя верхом на перевернутой корзине, она впервые съела пармиджану, всю целиком, только потом осознав, что я отдала ей и свою долю, а отрыжка, которая вырвалась у нее в конце, стала для меня символом прощения за двухдневное отсутствие.
На следующее утро нас оставили присматривать за малышом: мать уехала с кем-то в сад набрать фруктов для варенья. Мы уложили его в нашу кровать и стали катать с боку на бок, как куклу, но Джузеппе захныкал, а потом вдруг заорал, будто его режут.
– Боже, его что, кто-то укусил? – перепугалась я.
– Да нет, это у него живот пучит, колики, – ответила Адриана, пытаясь взять брата на руки.
Но он притих только после того, как выдал струю вонючей жижи, которая сразу потекла по спине, почти добравшись до шеи. Впрочем, Адриана прекрасно знала, как быть в таких случаях: она мгновенно раздела Джузеппе и сунула в ванну, где тот и остался стоять на четвереньках – жалкий, беспомощный кроха на фоне белой эмали, инкрустированной известковыми подтеками. Я бы к нему в таком виде и прикасаться не стала, настолько мне все это казалось отвратительным, а она, хоть и не обязана была мне помогать, старательно вымыла малыша, голыми руками стирая с его попки остатки жидких испражнений. Потом она снова одела Джузеппе, успев как раз ко второму залпу, перепачкавшему его с ног до головы, а потом еще раз, и еще – до тех пор, пока надеть было уже нечего. Тогда она завернула его в полотенце и снова взяла орущего малыша на руки, поглаживая вздувшийся от колик живот.
– Сейчас, сейчас все пройдет, – прошептала она на ухо и кивнула мне, так и стоявшей в прострации: – Сделай ему чаю, только лимона побольше выдави.
Я бросилась в кухню, но не смогла найти ни чай, ни лимон, в суматохе чуть не налив воды из лейки для цветов.
– Подержи его минутку, я сама все сделаю, – но Джузеппе завопил еще громче, не желая отрываться от своей более толковой сестры, и Адриана сдалась. – Ладно, спустись, позови эту... ну, вдову с первого.
Увидев мое обескураженное лицо, «эта с первого» сама приготовила чай и поднялась наверх вместе со мной, а потом вернулась за старыми ползунками, тех еще времен, когда ее собственные дети были маленькими. Впрочем, мы все равно надели на Джузеппе только майку: его кишечник по-прежнему время от времени опорожнялся, хотя и с меньшими последствиями. Теперь я хотя бы могла к нему подойти, чтобы утереть салфеткой взмокшие от пота лоб и темечко, а он в ответ наконец-то позволил мне сменить Адриану.
Соседка снова поднялась к нам в полдень с тарелкой протертой рисовой каши для малыша. Кормила его я, и всего после пары ложек он заснул прямо у меня на руках.
– Не хочешь уложить его в люльку? – поинтересовалась Адриана, но я решила, что Джузеппе нужна какая-то компенсация за перенесенные страдания.
Мышцы, прижатые его тельцем, затекли, будто заснули, как и он сам, и стоило мне чуть пошевелиться, они отзывались болезненными уколами, будто от тысячи иголок. Но даже сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что никогда не испытывала большего удовольствия от столь интимной близости с живым существом.
Мать по возвращении нас отругала: домашними делами так и не занялись, а пол там, где Джузеппе опорожнял свой кишечник, оказался чуточку липким.
Потом мы с Адрианой сели чистить персики для сиропа на зиму. Она тайком от той, что их привезла, съела несколько штук: занимаясь детским поносом, мы даже не успели пообедать.
– Вообще в его возрасте дети уже ходят, а он еще ползает, даже «мама» не говорит, – бросила я, кивнув в сторону ковыляющего на четвереньках брата.
– Ну, Джузеппе же у нас не такой, как все. Ты что, раньше не замечала? Он умственно отсталый, – ответила она буднично.
Я так и застыла с ножом в руке, уронив персик на стол: внезапные, совершенно спонтанные откровения Адрианы иногда поражали меня, будто удар молнии. Потом догнала малыша, продолжавшего ковылять по комнатам, подняла его с кафельного пола и долго носила на руках, болтая с ним, как со взрослым, и с тех пор вела себя совсем иначе, как того требовала его особенность.
Впрочем, я так и не узнала точно, чего именно не хватало (или, наоборот, чего было слишком много) в его голове, и только пару лет назад врач озвучил мне какой-то заумный диагноз.
– Это врожденное? – спросила я.
Он оценивающим взглядом оглядел меня с головы до пят: вроде, симпатичная, в приличной одежде...
– По большей части да. Но в его случае также сыграли свою роль факторы... окружения, скажем так. В детстве он, должно быть, страдал от длительной депривации, – и уставился на меня через стол, прикрыв растопыренными пальцами карту: может, оценивал, так ли велика пропасть между мной и братом, учитывая «факторы окружения». А может, мне это только почудилось.
В начальной школе Джузеппе стал одним из первых, кому был положен тьютор, но те менялись каждый год, так что в июне их отношения вынужденно прерывались. Помню, как он рыдал, уткнувшись в ладони синьоры Миммы. Руки... Да, именно руки были любимой темой его рисунков, огромного количества рисунков. Только этим он на уроках и занимался, пока не подрос, – изображал одноклассников за чистописанием, уделяя особое внимание пальцам, а остальное рисовал схематично: голова-огурец да парочка характерных черт.
Он так и не научился защищаться, а если по ошибке оказывался среди дерущихся, просто опускал руки и стоял без движения, принимая на себя случайные удары: нарочно его никто не бил. Как-то я зашла за ним в школу и увидела на скуле царапину, но учительница сказала, что удар предназначался вовсе не ему. Джузеппе тут же перехватил кулак, разжал его и долго разглядывал, словно искал связь между красотой этой руки и болью, которую она вызвала, а одноклассник старался не шевелиться, чтобы не спугнуть исследователя.
17
Прозвенел звонок. Я шла по коридору, и меня сторонились, словно чумной: будто кто-то прилепил к моей будущей парте невидимую табличку с прозвищем, разлетевшимся по деревне с тех пор, как я вернулась в семью. Я стала для них Арминутой, «возвращенкой» на диалекте, о которой, даже не успев познакомиться, они уже составили авторитетное мнение: видимо, слышали, о чем говорят взрослые.
Ее же, получается, с младенчества отдали в приемную семью: стало быть, что-то с ней не так? А с какого перепугу ее потом вернули обратно этим поденщикам? Может, женщина, которая ее вырастила, взаправду померла?
Место рядом со мной так и осталось пустым, туда никто не хотел садиться. Учительница итальянского представила меня как уроженку этой деревни, выросшую в городе и теперь, уже почти взрослой девушкой, вернувшуюся в родные места – бог знает, что ей там наплели.
– В наступающем году она будет учиться вместе с вами, – объявила синьора Перилли, перекрыв шепот и смешки, а потом велела одной из одноклассниц, той, что с кривыми зубами, сесть рядом со мной. Та повиновалась, громко фыркнув и загрохотав стулом. – Тебе это, к слову, только на пользу пойдет, разве что придется научиться нормально говорить по-итальянски, – добавила учительница, когда надувшаяся девица закончила устраиваться и подобрала упавшие учебники. Обращалась она к моей однокласснице, но смотрела прямо на меня, словно оценивая, как я отнесусь к первому порученному заданию. А потом принялась спрашивать каждого из нас, как прошли каникулы.
– Месяц как сюда переехала, – пробормотала я, когда подошла очередь. Она дала мне пару секунд, чтобы продолжить мысль, но я молчала, и она не стала настаивать. Глаза у нее были небольшие, но голубые-голубые, а ресницы загибались так, что образовывали почти идеальные колечки. С того места, где я сидела, впереди в среднем ряду, мне было очень хорошо ее видно, я даже чувствовала запах духов, а плавные взмахи рук, которыми она сопровождала речь, постепенно начали меня завораживать. На втором уроке она стояла совсем близко, опираясь кончиками пальцев о мою парту, и я заметила, что ноги под нейлоном чулок туго перетянуты бинтами.
– Операция на венах, совсем недавно, – ответила она на мой невысказанный вопрос.
Я подняла глаза (хотя и не выше, чем позволяло смущение), но синьора Перилли не отходила, и мой взгляд сам остановился на кольцах с разноцветными камнями, в глубине которых мелькали таинственные отблески.
– Синий – это сапфир, красный – рубин. А в каких странах добывают такие чудесные вещи, ты узнаешь на уроке географии, – сказала она и обернулась к классу: – Ну, давайте начнем с повторения грамматики. И помните: в этом году вас ждут экзамены за весь курс средней школы.
Потом подняла выпавшую из прически прямо в мою тетрадь шпильку, вернулась за стол и предложила нам сделать морфологический разбор нескольких слов. Я отвечала на заданные одноклассницам вопросы тихим, неслышным шепотом, но она все равно заметила, прочитав у меня по губам.
– Что такое armando?
– Так моего дядю зовут, – хихикнул кто-то.
– Молодец, имя собственное, – похвалила она, слегка качнув головой.
– Деепричастие настоящего времени несовершенного вида от глагола armare[6], – вырвалось у меня.
– О, Арминута, конечно, лучше всех знает, – расхохоталась племянница Армандо.
– Да, похоже, формы глаголов ей известны. В отличие от тебя, – сухо бросила синьора Перилли, окинув ее суровым взглядом.
На большой перемене в дверях возникла Адриана. Она бесстрашно пересекла садик, отделявший начальную школу от средней и зашла посмотреть, как у меня дела. На ее синем халатике не хватало нескольких пуговиц, а строчка на подоле разошлась на пару сантиметров. Любая другая десятилетняя девочка, такая же худющая и с такими же сальными волосами, среди всегда готовых поиздеваться старшеклассников выглядела бы жалкой.
– Ты что здесь делаешь? – поинтересовалась синьора Перилли, слегка вздрогнув от неожиданности.
– Пришла, проверить, хорошо ли тут обходятся с моей сестрой. Она из города, не привыкла еще.
– А учительница знает, что ты ушла?
– Я ей сказала, но, может, она и не услышала, там у нас мальчишки с ума сходят.
– Значит, она будет волноваться. Я попрошу сторожа отвести тебя в класс.
– В класс я и сама могу вернуться, дорогу знаю. Но сперва проверю, все ли вот у нее, – она ткнула в меня пальцем, – в порядке.
Я побагровела от стыда и, не в силах двинуться с места, уставилась на крышку парты, словно никакой Адрианы здесь не было. Мне хотелось прикончить ее на месте, и в то же время я завидовала этой врожденной смелости и самоуверенности.
Услышав от учительницы, что у меня все хорошо, сестра во весь голос заявила, что мы встретимся у выхода из школы и наконец-то соизволила уйти.
Мои одноклассники стояли небольшими группками по всему классе – жевали, злословили и хихикали, вероятно, на мой счет: приход Адрианы сделал меня еще более удобной мишенью. Хотя, может, я и переоценила интерес, который могла у них вызвать.
Я, в отличие от них, ничего перекусить с собой не взяла – не привыкла готовить сама. Перилли сидела за столом и, время от времени незаметно поглядывая на меня, листала какую-то книгу, потом вдруг элегантно, несмотря на бинты, поднялась, подошла ко мне и выложила на парту пакетик Buondi[7].
– Съешь хотя бы это. Всегда кладу их в сумку, вдруг кто-нибудь забудет взять с собой бутерброды, – и тут же бросилась пресечь ссору, которая грозила перерасти в драку, но через пару минут снова вернулась к столу (перемена должна была вот-вот кончиться) и принялась расспрашивать меня о Винченцо: он, оказывается, тоже когда-то был ее учеником. Я не знала, что ответить: брата не было дома уже несколько дней, но, казалось, никого в семье это не волнует. Даже Адриана затруднялась сказать, где он, так что я тоже решила не распространяться, ответив только:
– Он работает, но не постоянно.
Прозвенел звонок, все бросились по своим местам, послышался привычный грохот отодвигаемых железных стульев.
– Где работает?
– Где придется, – мне вдруг вспомнилось, как после обеда, в самую жару, он колол дрова соседу, который уже решил запасаться на зиму. Я спустилась за чем-то в гараж и стояла совершенно зачарованная, тайком подглядывая, как он вкладывает всю силу в удары топора, сопровождая их гортанными возгласами. Напрягшиеся грудные мышцы блестели под жгучими солнечными лучами, а струйка пота спускалась все ниже вдоль позвоночника, пока не намочила и шорты, и все, что было под ними.
– Жаль, конечно, что так получилось со школой...
– Что-что?
– Жаль, говорю, что его выгнали из школы, – повторила синьора Перилли.
– Так ему и надо, он же вор! – послышалось сзади.
Она поднялась и подошла к парню, прервавшему нашу короткую беседу.
– О тебе я слышала то же самое, – в голосе слышались раздраженные нотки. – Стоило поверить?
Выходя из школы, я попыталась было улизнуть от Адрианы, но ничего не вышло: та уже ждала меня у ворот, подскакивая от радости.
– Да ты, оказывается, настоящий гений в глаголах, училки из средней школы только о тебе и говорят.
Я молча направилась в сторону дома. Вечно она умудряется все разнюхать, иногда задолго до того, как что-то вообще случится! Даже сейчас, столько лет спустя, я не могу этого объяснить: она просто всегда оказывается в нужном месте, прячется за дверью, за углом, за деревом, навострив свои уши-локаторы (правда, с возрастом те слегка утратили чувствительность).
Сестра шла чуть позади – наверное, расстроилась при виде моей угрюмой физиономии.
– Да ладно, что я такого сделала? – возмутилась она наконец, дойдя до почты: мысль о том, что внезапное вторжение могло доставить мне неудобство, была выше ее понимания. Но тут ей навстречу вышли двое из моего класса, и я все-таки остановилась: в конце концов, старшая сестра должна защищать младшую.
– У вас что, парочка кроликов вместо родителей? Сколько вас теперь с Арминутой, шестеро, семеро? – расхохотался тот, что поздоровее.
– По крайней мере наша мать от собственного мужа рожает, а вот твоя, шалава, дает каждому встречному-поперечному, – выпалила в ответ Адриана, срываясь с места. Судя по тому, как она, пролетая мимо, коснулась моей руки, мне тоже стоило прибавить шагу. Мы рванули что есть духу, воспользовавшись эффектом неожиданности и преимуществом в весе. В общем-то они не слишком долго за нами гнались, так что, почувствовав себя в безопасности, мы чуть со смеху не померли, вспоминая вмиг побелевшую рожу обидчика.
– Слушай, а что ты ему сказала такое, что это значит? – выдохнула наконец я. – Я не до конца разобрала.
– Знаешь, если хочешь здесь остаться, придется тебе не только глаголы вызубрить, но и диалект освоить!
18
Винченцо вернулся октябрьским вечером после нескольких недель отсутствия. Он теперь выглядел совсем иначе: одет с иголочки, прическа – как только что из парикмахерской, еще сильнее открывающая рыбий хребет на виске, а во взгляде сквозит уверенность человека, перешедшего Рубикон. С собой он принес прошутто[8], целую свиную ногу, которую осторожно устроил на стуле в кухне, будто важного гостя: должно быть, надеялся, что после такого подарка никто не станет попрекать его очередным побегом из дома. Разумеется, все только и глазели на этот здоровенный окорок с торчащей из глубины вяленого мяса костью. Только отца дома не было – он еще не вернулся с завода.
– Может, начнем уже? – нарушил общее молчание Серджо.
– Нет, подождем до ужина, – резко ответил Винченцо.
Он послал нас с Адрианой к пекарю за буханкой свежего хлеба – мать, чтобы сэкономить, обычно покупала вчерашний.
Мальчишки, не в силах поверить своим глазам, боялись отойти от стола, нервно считая бесконечно тянущиеся минуты в ожидании ужина. Даже Джузеппе не отставал: ползал между ножек стула, чувствуя, что именно на нем сосредоточено внимание всех присутствующих. Прошутто, привалившись к спинке, бесстрастно наблюдало за нами, и чем сильнее пахла покрытая пряной корочкой специй ветчина, тем тягостнее становился наш голод. Время от времени Винченцо тайком поглядывал на меня, всем своим видом подтверждая сомнительность происхождения внезапного подарка семье.
– Может тогда хотя бы порежем? – снова не выдержал Серджо.
– Нет, пусть увидит ногу целой, – возразил Винченцо, с трудом сдерживая гнев на опаздывающего отца.
Наконец тот пришел: штаны перемазаны глиной, пальцы в следах побелки.
– Сынок вернулся, вон чего принес, – встретила его жена, кивая в сторону стула. – Мой руки, мы уже садимся.
Отец еле удостоил ужин взглядом, бросив:
– Ну и где он это спер? – как будто Винченцо не стоял в каком-то метре от него, сжав кулаки и скрипя зубами.
Направляясь умываться, отец задел стул, и нога упала, тихо стукнувшись об пол. Серджо сразу же подхватил ее, водрузил на стол и собрался резать, решив, что пора, но Винченцо отобрал у него нож и подошел к двери ванной.
– Я там, в городе, целыми днями вкалываю на бойне. Не так давно, но босс уже успел меня оценить и решил выдать премию вдобавок к тем деньгам, что мне положены, – прошипел он, указывая ножом в сторону прошутто, а потом на мгновение прижал отточенное лезвие к шее отца, который вышел из ванной, так и не вытерев руки. – А ты только и можешь что купить детям черствого хлеба, который пекарь иначе выбросит на помойку. Так что заткнись, трепло, – и вернулся к столу, оставив разом замолчавшего отца в дверях ванной.
Потом Винченцо оправил один нож об другой и принялся яростно нарезать ветчину. Он бросал ломти на тарелку, которую Адриана подставляла то с одной, то с другой стороны, стараясь не упустить ни кусочка, но братья были еще быстрее, хватая их прямо в полете. Я внимательно наблюдала за виртуозной работой Винченцо, который умудрялся даже таким тупым ножом в считанные секунды срезать шкурку, и чувствовала себя виноватой, что подозревала его в том же, что и отец. Может, он действительно так хорош в своей новой профессии? А может, и он в прошлый раз не соврал, сказав, что цыгане заплатили ему золотом? Даже гуляющие по деревне слухи – и те могли оказаться совершенно беспочвенными.
– Ладно, хватит, так не годится, – наконец сказал он братьям. – Есть нужно с хлебом. И вообще, рты имеются не только у вас двоих.
Он махнул матери рукой, чтобы резала хлеб. Нам с Адрианой досталось собирать бутерброды: мы раздавали их и делали снова, несколько раз, по три, даже по четыре на нос, но первый всегда доставался отцу, и тот, надо сказать, принимал его без тени смущения. Джузеппе тоже сосал кусочек ветчины вперемешку с текущими соплями, пока я не заметила и не утерла ему нос. Мы с Адрианой поели последними, вместе с Винченцо: он накормил семейство до отвала и теперь гордо восседал рядом с нами, а мы молча жевали, пока остальные, сытые и довольные, один за другим покидали кухню.
– Тебе привет от синьоры Перилли, – сказала я, покончив с бутербродами.
– А, эта... Помню, уговаривала меня не бросать школу.
– Собственно, она по-прежнему советует тебе вернуться.
– Вот еще! Так и вижу себя с тетрадкой и бородой до пояса. То-то дети обхохочутся, – рисуясь заявил он, но все же слегка покраснел.
– Если верить учительнице, ума тебе не занимать.
– Стало быть, и возвращаться незачем: у меня, знаешь ли, теперь другие дела... – Винченцо поднялся и стал заворачивать прошутто, которого осталось совсем чуть-чуть.
– Значит, теперь ты работаешь в городе, а ночуешь у друзей? – спросила я, сметая крошки на пол.
– Ну так а что плохого? Все цыгане, кого я знаю, живут в домах, а не в кибитках, и они прекрасные люди, совсем не такие, как о них думают. Этот карабинер, похоже, забил тебе башку всякой фигней.
Луна в ту ночь так и не появилась в окне, и вскоре комната погрузилась в абсолютную темноту и тишину. Я не спала, но, наверное, за биением собственного сердца не заметила, как рядом с кроватью что-то движется, пока внезапно не ощутила на коже горячее соленое дыхание. Должно быть, он встал на колени, совсем близко, потом откинул простыню и медленно, осторожно протянул ко мне руку: вот уж не ожидала такой застенчивости. Но это было только начало – или, может, он боялся, что я закричу, если проснусь. Мое тело оставалось неподвижным, но только внешне: кожа покрылась мурашками, сердце забилось чаще, а между ног сразу стало влажно. Я вдруг увидела себя как бы со стороны, запертую в подростковом теле – поле боя проснувшихся желаний с запретами тех, кто подарил мне жизнь. Винченцо обхватил мою грудь рукой, сжал возбужденный сосок. Я чувствовала, как он ложится рядом, как прогибается матрас, но понятия не имела, что он собирается делать в таком положении, и сжала его запястье, только когда он нащупал лобок. Это его задержало, но совсем чуть-чуть, а я не знала, как долго еще смогу сопротивляться.
Мы не привыкли быть братом и сестрой, я только сейчас, в последний момент поверила в это. Хотя, может, дело не в том, что мы с ним одной крови: наверняка я точно так же попыталась бы защититься от любого другого парня и теперь, задыхаясь, балансировала на грани, не давая случиться непоправимому.
Нас спас громкий зевок Адрианы. В темноте, даже не открывая глаз, словно сонная кошка, она спустилась по лестнице, чтобы провести остаток ночи со мной: скорее всего, там, наверху, уже было мокро. Застигнутый врасплох Винченцо метнулся прочь быстро и тихо, как умеют животные, сестра его даже не заметила. Я уступила ей свое еще пышущее жаром место, на котором она и устроилась, сразу же вспотев, а сама вскоре почувствовала, что постепенно начинаю остывать. Слышала, как ворочается в постели Винченцо, потом он затих – должно быть, приходил домой только ради меня.
Встала я, как всегда, на рассвете, чтобы успеть позаниматься за кухонным столом: вечерами в этом доме он обычно бывал занят. Он тоже проснулся, встал у меня за спиной, открыл кран и подождал, пока пойдет похолоднее. Я слышала, как он пьет: долго, большими шумными глотками – и все пыталась прочитать в учебнике истории параграф о какой-то войне, но никак не могла сосредоточиться. Он простоял еще несколько минут не двигаясь, насколько я могла судить, потом подошел, убрал волосы у меня со лба, поцеловал и исчез, так ничего и не сказав.
19
Размашистые завитушки на запечатанном конверте, который пришел утром, безошибочно выдавали почерк Лидии, сестры моего отца-карабинера. Не зная точного адреса, она указала только мое имя, фамилию семьи, которой письмо должно быть доставлено, и название деревни. Впрочем, своего она тоже не оставила: на месте адреса отправителя красовался прочерк, но почтальон все равно принес конверт к нам домой, и мать отдала его мне, как только я вернулась из школы.
– Только не вздумай сразу читать, твоя очередь накрывать на стол, – язвительно заявила она.
Ее в те дни раздражало любое мое действие: это началось после разговора с синьорой Перилли, с которой она случайно столкнулась на улице. Та сказала, что я прекрасно учусь и в следующем году непременно должна поступать в лицей в городе. А она как учитель обязана проследить, какое решение в этом вопросе примет семья, и при необходимости обратиться в социальную службу. На этой угрожающей ноте они и расстались, разойдясь возле почты в разные стороны.
– Ишь, раскомандовалась в моем доме! Ты, говорит, не должна кончить, как мои мальчики! А если я вообще запрещу тебе ходить в школу? – разорялась мать. – И потом, разве ж я виновата, что ты так хорошо учишься? Вон, свет жжешь почем зря, когда занимаешься поутру, так я молчу...
После обеда она велела мне вымыть посуду, хотя была не моя очередь, а потом всю перетереть: обычно та спокойно стекала себе над раковиной, но мне не терпелось распечатать конверт, и она всячески старалась меня задержать.
Из сложенного вчетверо листка выпали несколько тысячелировых банкнот, к ним прилагалась только коротенькая записка: мол, Лидия узнала о моем возвращении и очень сожалеет, но я всегда была умной девочкой, и она верит в мою способность приспособиться к новым обстоятельствам. К несчастью, она живет далеко и полностью поглощена работой и семьей, иначе непременно приехала бы проверить, как мне живется у настоящих родителей. Они неплохие люди, эти сколько-то-юродные родственники, мои и твоего отца, успокаивала она меня. Я знала, что ты их дочь, просто мне не разрешили тебе рассказать. И потом, я была уверена, что ты останешься с моими братом и невесткой навсегда. Но знаешь, иногда самое незначительное событие может вдруг изменить всю твою жизнь...
Дальше следовали вопросы: скорее всего, Лидия не подумала, что, не указав своего адреса, не сможет рассчитывать на ответ. В заключение она писала, что надеется приехать ко мне летом, во время каникул, а до того момента мне пригодится немного денег на личные расходы: похоже, она, как и все остальные, беспокоилась только об этом, будто я не могла испытывать недостатка ни в чем другом.
Я еще долго стояла с бесполезным листком в руках. В желудке кислой волной вскипала ярость. Подошла привлеченная банкнотами мать: похоже, следила за мной и видела, как те выпали. Она подняла деньги и протянула их мне, попросив разрешения оставить себе парочку. Я безразлично пожала плечами и кивнула.
Дома в тот момент никого не было. Она нагнулась, пытаясь нащупать что-то за мусорным ведром под раковиной, среди бутылок, пустых, полных – неважно, и армии тараканов, потом задернула занавеску, окатив всю кухню едким запахом плесени, повернулась и обнаружила, что я стою прямо перед ней, всего в нескольких сантиметрах.
– Где моя мать?
– Ты что, ослепла? Вот, – ответила она, указывая пальцем на себя.
– Другая! Решитесь вы наконец рассказать мне, что с ней случилось? – и я бросила письмо Лидии на пол.
– Да почем мне знать, где она? Я и видела-то ее с тех пор только раз, незадолго до того, как ты вернулась: зашла с нами поговорить, с подругой еще, – она задыхалась от волнения, над верхней губой выступили капельки пота.
– Разве она не умерла? – продолжала настаивать я.
– И как ты только могла такое удумать? Эта и до ста дотянет, с такой-то сытой жизнью, – нервно рассмеялась она.
– Когда меня отослали к вам, она тяжело болела.
– Ну, тогда я даже не знаю – две тысячи лир, которые она сунула за край бюстгальтера, вдруг выскочили, сразу провалившись куда-то в V-образный вырез блузки.
– Так мне все-таки придется остаться здесь навсегда или они когда-нибудь потом за мной приедут? – попробовала я зайти с другой стороны.
– С нами останешься, это уж точно. А про Адальджизу меня не спрашивай, это тебе с ней самой повидаться надо.
– Но где? И когда? Это мне кто-нибудь может сказать? – выкрикнула я ей прямо в лицо. Потом выдернула у нее из-за пазухи сложенные банкноты и разорвала их в мелкие клочки. Она остолбенела, а потому не сразу отреагировала и попросту не успела остановить, только вперила в меня застывшие черные зрачки и оскалилась, обнажив зубы, как сука, готовая ринуться в драку. Впрочем, пощечина все равно оказалась для меня совершено неожиданной – столь тяжелая, что я вздрогнула, отшатнулась в сторону, чтобы не потерять равновесие, и задела бутылку масла, которую она нашла под раковиной. Я ее задела, она упала и разбилась.
Несколько долгих секунд мы будто зачарованные следили, как полупрозрачное желтое пятно медленно расползается по плитке, осколкам стекла и обрывкам купюр.
– Она была почти полная – и последняя. Придется тебе в этом году съездить пособирать оливки: хотя бы научишься зарабатывать то, что ешь, – выдохнула она и принялась бить меня по голове, ставшей виновницей всей этой катастрофы.
Я защищалась, прикрывая уши руками, но она продолжала без устали искать место, чтобы ударить побольнее.
– Нет, нет, хватит! Прекрати! Не надо! – это кричала Адриана, только что вернувшаяся с прогулки с малышом Джузеппе: я даже не слышала, как хлопнула дверь. – Я сейчас же все уберу, только ее не трогай, – уговаривала она, перехватив руку матери в безуспешной попытке защитить мою уникальность, очевидное отличие между мной и остальными детьми, включая ее саму. Я так и не смогла себе объяснить этот жест десятилетней девочки, ежедневно получавшей подзатыльники, но больше всего на свете желавшей сохранить так радовавшую меня привилегию – неприкосновенность недавно обретенной сестры.
Мать оттолкнула ее. Адриана упала коленом прямо на залитое маслом крошево и вскрикнула от боли, а Джузеппе с готовностью поддержал ее из своей люльки. Я помогла сестре подняться, усадила ее на стул и принялась голыми руками вытаскивать вонзившиеся ей в ногу осколки. Кровь потекла по коротким светлым волоскам, так часто покрывающим ноги у девочек этого возраста. В этот момент мы услышали щелканье замка и удаляющийся крик малыша: мать, уходя, забрала его с собой. Чтобы достать мелкие, почти незаметные кусочки стекла, мне пришлось воспользоваться пинцетом для бровей, невесть как добытым Адрианой, которая перенесла эту пытку стойко, только охала и вздрагивала. Но потом настало время продезинфицировать порезы.
– Есть только спирт, – сказала она упавшим голосом.
Услышав, как она вопит от боли, я зарыдала сама, сквозь слезы вымаливая у нее прощение за то, в чем только одна и была виновата.
– Ты же не нарочно, – сказала она наконец, – вот только теперь нас ждут семь лет несчастий. Первый пошел. С маслом ведь, как с зеркалом, примета одна.
В итоге я перебинтовала ей колено носовыми платками: ничего другого у нас не было, и когда она встала, они сразу же сползли к лодыжке. Потом мы, стараясь не порезаться, начали прибираться, она увидела на полу письмо и разорванные банкноты, и мне пришлось рассказать ей всю историю, с начала до конца.
– Ты, значит, всегда молчком-молчком, а сегодня ни с того ни с сего вдруг взбеленилась? Ну-ну, –заключила она, скептически осматривая кухню. – Хотя бы оставшиеся-то деньги сныкала?
Я помнила, что мать, собрав по полу, положила банкноты на стол, но теперь их там не было – наверное, взяла перед уходом, чтобы покрыть внезапные расходы. Она вернулась чуть позже, как ни в чем не бывало, только велела нам начистить картошки к ужину, из чего я сделала вывод, что так оно и есть.
– Эта, снизу, говорит, ты лучшая ученица в школе, – бросила она, и мне показалось, что в обычном безразличном тоне проскользнули нотки гордости. Хотя, может, это только показалось. – Хватит уже портить зрение над книгами, очки денег стоят, – добавила мать. И после этого раза больше меня не била.
20
Мы не видели его уже несколько недель. В деревне поговаривали, что он связался с бандой промышлявших в округе воров, которые нападали на отдаленные фермы, причем, если верить слухам, видели их одновременно в нескольких разных местах.
Прошутто, которое он принес, вскоре закончилось. Мать распилила кость на несколько частей (мы с Адрианой в это время держали ее за концы), а потом одну за другой сварила с фасолью. Супы получились вкусные, наваристые, но с учетом неизменности такой диеты вся семья вечно мучилась расстройством желудка, и в то утро сестра из-за боли в животе не пошла в школу. Зато, заслышав мои шаги, распахнула дверь вдова с первого этажа.
– Держи ушки на макушке, быть сегодня беде, – объявила она и, поймав мой недоуменный взгляд, пояснила: – Две совы сегодня всю ночь под вашими окнами ухали – аккурат у родительской спальни.
К окончанию занятий солнце припекало уже совершенно нещадно. Я шла через площадь, пробираясь через нагромождение прилавков: рынок как раз сворачивался. Порыв ветра взметнул столб пыли и обрывки газет, пытаясь забросить их в открытую дверь мясницкого фургончика, но его владелец тотчас же прикрыл нераспроданные остатки скатертью. Потом он заметил меня – впрочем, мы здоровались каждый четверг.
– Ты почему еще здесь? Не слышала, что ли, о брате? – я отрицательно покачала головой. – В аварию он попал. Там на повороте, за речкой, у землечерпалки.
Я замерла: ужасно не хотелось спрашивать, о каком именно брате он говорит. Но мясник рассказал все сам, добавив, что родители уже на месте.
Не помню, как туда добралась, кого попросила меня подвезти. На обочине едва хватало места для припаркованных машин, выстроившихся рядком вслед за полицейскими: тех вызвали на ограбление, не доверяя уже деревенским карабинерам, которые так никого и не поймали. Патрульные преследовали старый скутер без глушителя, но на повороте он потерял управление – может, наехал колесом на камешек или масляное пятно – и вылетел с трассы. Водитель изо всех сил вцепился за руль и серьезно не пострадал, его уже увезли в больницу.
А вот Винченцо не смог удержаться за друга: его руки разжались, и он пролетел несколько метров над осенней травой до самой ограды коровьего загона. Не знаю, видел ли он в краткий миг до приземления, куда именно придется колючая проволока, и теперь напоминал ангела, слишком уставшего, чтобы в последний раз взмахнуть крыльями, перелетая границу между жизнью и смертью. Железные шипы глубоко вошли в горло, вспоров трахею и порвав артерии. Голова перевалилась на одну сторону изгороди, а тело с безвольно согнутыми в коленях ногами повисло с другой. Коровы, должно быть, обернулись взглянуть на него, а потом снова опустили головы и принялись жевать. Когда я выскочила из машины, хозяйка фермы так и стояла, опершись на вилы, остолбеневшая перед лицом смерти, обрушившейся на ее поле.
Полицейские велели дожидаться врача. Прислонившись к дереву, я снова оглянулась на Винченцо. Не знаю, почему его не прикрыли: он по-прежнему висел на колючей проволоке, открытый всем досужим взглядам, словно бессмысленно, ненужное пугало, и легкий ветерок время от времени играл подолом его рубашки.
Я сползла по стволу, ощущая спиной неровности коры. Где-то неподалеку зарыдала мать, подвывая, как нанятая плакальщица. Потом тишину наполнил низкий голос, пытавшийся ее утешить. Время от времени к небесам летели богохульства, которые отец сопровождал угрожающими жестами в адрес Бога. Окружающие тут же хватали его за руки, пытаясь успокоить.
Потом я легла на бок, сжавшись в комочек прямо поверх суетливого движения крошечного травяного народа. Иногда кто-нибудь замечал меня, подходил ближе. «Арминута», говорили они, или «сестра». Я слышала их, но как сквозь оконное стекло. Они касались моего плеча, волос, наконец взяли меня под мышки и потянули, чтобы по крайней мере усадить: наверное, считали, что не годится вот так лежать на голой земле. Рассказывая друг другу об аварии, они и не думали скрывать подробности, будто меня рядом не было. Спрашивали, воровали ли парни раньше: один клялся, что да, но не знал, где и что, а полицейские тем солнечным утром нашли только две удочки да пакет с выловленной в реке щукой – они были приторочены к скутеру. Может, брат хотел принести ее нам к ужину, как прошутто? Двое из собравшихся зацокали языками: они еще никогда не видели в наших местах таких огромных рыбин.
Спустившиеся с гор тучи закрыли солнце, внезапно похолодало. Меня хотели проводить на ферму, попить воды, но я отказалась. Через некоторое время подошла крестьянка с чашкой парного молока.
– Держи, выпей, – предложила она.
Я покачала головой, но что-то в ее лице или, может, ласковое поглаживание по щеке, убедило меня попробовать, однако, сделав глоток, я ощутила только вкус крови. Протянула чашку обратно, и в нее сразу же закапал дождь.
Винченцо так и не вернулся домой: у нас попросту не было места для прощания. Он лежал посреди приходской церкви в грубом еловом гробу, одетый в футболку и недавно купленные джинсы-клеш. Патологоанатом из жалости зашил ему зияющую рану на шее, но швы только сильнее напоминали о железных шипах, оборвавших его полет. Такие швы не исчезают со временем, как не исчез и рыбий хребет на виске. Из-за курившегося ладана лицо выглядело опухшим и посиневшим, не считая нескольких неожиданно белесых, почти зеленоватых пятен.
Адриана узнала последней и долго рыдала, распластавшись на пустой постели брата.
– Как же я теперь верну тебе деньги, что ты мне одолжил? – повторяла она в пустоту, потом заметалась по комнатам, лихорадочно роясь в ящиках, в банках, на полках, и я увидела, как, прежде чем пойти в церковь, она сунула что-то в карман. Соседи роились вокруг гроба, складывая поближе к телу предметы, которые пригодятся Винченцо в загробной жизни: расческу, бритву, носовые платки... Еще мелкие монетки: заплатить Харону за перевоз. Адриана подошла, коснулась его скрещенных на груди пальцев – и вдруг отпрянула, словно не ожидала, что они окажутся такими холодными. Потом все-таки справилась с собой и, достав из кармана колечко, подарок друга-цыгана, собралась надеть на средний палец, где брат его и носил. Это ей не удалось, и она попробовала безымянный, но кольцо влезло лишь на мизинец, да и то не до конца. Тогда она слегка повернула серебряный ободок, чтобы была видна гравировка.
На панихиду остались немногие: родственники и, может, пара окрестных старух, чьим единственным развлечением было глядеть на покойников. Пришла и синьора Перилли, только она вместо того, чтобы перекрестить тело, как все остальные, постояла рядом с ним несколько минут, а потом поцеловала Винченцо в лоб.
Бабушка с дедом, родители отца (только такая трагедия могла заставить их приехать из своей горной деревушки), сидели рядом с уснувшим вечным сном внуком. Я никогда раньше их не видела, не знаю даже, помнили ли они о моем существовании. Адриана, правда, шепнула им, как меня зовут, но, судя по отсутствию эмоций, они сочли меня не стоящей внимания и снова замкнулись в себе. А родители моей первой матери давно умерли и теперь, конечно, не могли ее поддержать.
Ближе к одиннадцати священник погасил свечи и выпроводил нас. Винченцо остался один под застывшими взглядами статуй. Это была его последняя ночь на земле,
От утренней проповеди в моей памяти осталось лишь несколько слов о потерявшихся без верного и надежного пастыря заблудших овцах, которых всемилостивый Господь благодаря нашим молитвам примет в свои объятия. На выходе нас встретил ливень и хоровод черных зонтиков, рассыпающихся в соболезнованиях. Незнакомый мужчина, не находя слов, расцеловал меня в обе щеки и пробормотал что-то обнадеживающее: наверное, как-то почувствовал, что я тоже член семьи.
На кладбище дождь перестал. С Винченцо остались только мы, да еще в какой-то момент на другой стороне могилы возник мой отец-карабинер, вцепившийся рукой в воротник застегнутой до самого подбородка куртки. Он легким кивком поприветствовал меня и даже открыл рот, словно собирался заговорить, но тут же снова закрыл его. Как и сказал Никола, он отрастил бороду и выглядел неухоженным. Я почти не отреагировала на столь желанную встречу и не стала подходить, не очень понимая, о чем спрашивать, а через пару минут он исчез.
Приехали и цыгане. Они стояли в стороне, подставив лица солнечным лучам. Их было четверо: думаю, все ровесники брату, кроме одного, в сиреневой рубахе с глубоким вырезом, выглядевшего более взрослым, – тот прижимал к груди траурный венок. В до блеска начищенных ботинках, с зачесанными назад набриолиненными темными волосами, одетые, как на праздник, они отдавали приятелю последнюю дань уважения.
За оградой их ждали вольно пасшиеся кони.
21
Мы вернулись в промерзший дом. В ту ночь в горах выпал снег, а долину за несколько часов всю исхлестало порывами ветра. Звенели оконные стекла в разболтанных рамах, комнаты продувало сквозняком. Вдова, приглядывавшая за Джузеппе во время похорон, принесла малыша наверх, но стоило ей протянуть его матери, как та отвернулась. Адриана тоже отказалась заниматься братом. Тогда я подхватила его, уселась на стул и откинулась назад, прислонившись головой к стене. Я едва держала его, но он почти не шевелился, понимая, что может упасть. Соседки с других этажей приготовили нам еды, поставили на стол вино и лимонад – не знаю, съел ли кто-нибудь хоть кусочек.
Через некоторое время Джузеппе заерзал, попытался слезть, и я спустила его на пол. Он подполз к одетой в черное матери, вопросительно уставившись на нее своими огромными глазами. Она, конечно, должна была заметить его даже с высоты своего отчаяния, приласкать, взять на руки, но вместо этого поднялась, обогнув малыша, и забралась в постель, где пролежала целые сутки. Соседки по очереди предлагали ей горячего бульона, как роженице, но она только кривилась.
Следующие несколько дней то одна, то другая приглашали нас завтракать, обедать или ужинать. Я предпочитала остаться дома, перекусив куском хлеба и тем, что приносила с их кухонь Адриана.
Ночью мне показалось, что Винченцо ворочается под одеялом, словно его смерть была дурным сном или чьей-то нелепой шуткой. В какой-то момент я даже явственно почувствовала, как по комнате пронеслась волна его запаха, а потом меня вдруг разбудило его дыхание, как в тот раз, когда он пришел ко мне в темноте. Тем труднее было возвращаться к реальности, в которой его больше не было.
Впрочем, в долгие часы бессонницы мои мысли занимал не только он. На кладбище я едва заметила отца, но теперь снова, все чаще, видела его полускрытое бородой лицо, суровый взгляд – хотя, наверное, скорее, разочарованный. Я была уверена, что он и сам отказался бы разговаривать со мной из страха, что я снова попрошу забрать меня домой. А может, его глаза говорили о чем-то еще? В них застыл молчаливый укор. Что, если именно он принял окончательное решение меня вернуть? Раньше я почему-то не думала о такой возможности. Но в чем тогда моя вина? Неужели ему рассказали, как я целовалась в школьном коридоре? Нет, как-то маловато, чтобы отказаться от дочери, – это способна понять и такая наивная девчонка, как я, пусть даже ночная темнота стократно увеличивала мои возможные преступления. В общем, если что-то и было не так, я этого не вспомнила.
Поначалу мать большую часть времени проводила в постели, лежа на боку с открытыми глазами. Джузеппе всегда был рядом с ней, но старался не беспокоить, тем более что последние капли молока, которые он высасывал из ее груди еще пару дней назад, теперь окончательно иссякли. Он то приваливался к ней, согревая своим теплом, то перебирался туда-обратно через ее неподвижное тело, но она ни разу не обернулась. После нескольких бесполезных попыток он совсем отчаялся и теперь даже не пытался привлечь ее внимание, но иногда вдруг начинал кричать, и я бежала в спальню, не зная, чем помочь, а она только смотрела мимо. Тогда я брала Джузеппе на руки и уносила его прочь.
Потом она потихоньку начала вставать, и соседки, заметив это, перестали нам помогать. Но мать по-прежнему не занималась никакой работой по дому: как только появились силы, она стала подолгу гулять в кипарисовой аллее, ведущей к кладбищу. Она теперь всегда надевала черное и перестала расчесывать волосы, похожие теперь на редкие листья, оставшиеся на ветвях дерева зимой. Как-то утром я спросила, могу ли пойти с ней, но она даже не взглянула на меня и ничего не ответила. Я шла на шаг сзади, и за два километра мы не перемолвились ни единым словом. Оживилась она только раз – припав к земле, укрывшей Винченцо: со дня своей смерти он стал единственным ребенком, имевшим для нее значение.
На обратном пути я наблюдала за ней, снова упрямо шагавшей впереди: специально шла медленнее, подстраиваясь под ее темп. Сорняки на обочине царапали ей ноги, но она не обращала на них внимания и по-прежнему виляла то вправо, то влево, не замечая опасности. Клаксон заставил ее отпрыгнуть в сторону прежде, чем я успела сообразить, куда бежать, и боль вдруг превратилась в гнев, вмиг испепеливший все мои чувства к ней. Вот, значит, какая ты, страдающая мать местного сорвиголовы: все для него, лежащего под еловой доской, и ничего для меня, выжившей! Уж наверное, отдавая меня, кроху всего нескольких месяцев отроду, чужим людям, ты такой не была! Я догнала ее, потом обогнала и продолжила идти вперед, не оглядываясь, чтобы убедиться, удастся ли ей увернуться от очередной машины: хотят видеть живой – пусть сами за ней следят, кто угодно, только не я.
Через несколько дней в наш домофон позвонила синьора Перилли, спросив меня или Адриану. Мы тотчас же спустились: было бы стыдно принимать ее дома.
– Завтра же возвращайтесь в школу, обе, – не терпящим возражения тоном велела она, не добавив больше ни слова. Муж ждал ее в машине, даже не заглушив мотор.
– Я вернусь потому, что сама этого хочу, а вовсе не потому, что скучаю по какой-то училке, – проворчала Адриана, взбираясь по лестнице.
После уроков нам теперь приходилось готовить на всех: обычно жидкий овощной супчик с горсткой пасты. Первые несколько раз, если сестра за мной не следила, я то наливала в кастрюлю слишком мало воды, то переваривала лапшу.
– Какая же ты все-таки бестолковка, – обескураженно повторяла она. – Ничего руками делать не умеешь, только ручку держать.
Сама она ко всем прочим талантам еще и прекрасно торговалась: покупая килограмм картофеля, всегда могла выклянчить у зеленщика еще пару морковок и луковицу на овощной бульон, а у мясника двести граммов свежей требухи и обрезков для несуществующей собаки: их мы тоже отваривали, но ели, разумеется, сами. Сегодня я бы не стала употреблять в пищу ничего похожего на наш тогдашний рацион: меня тошнит, стоит только почувствовать запах вареного ливера.
– Запишите на наш счет, в конце месяца папа заплатит, – обещала Адриана лавочникам. Шустрая, деловая, с уже раскрытой хозяйственной сумкой в руках, она в два счета обезоруживала любого. Я возвышалась позади нее в качестве безмолвного подкрепления и частенько, закрывая за собой дверь, ловила тревожные взгляды вслед. Но обслуживали нас безропотно.
Впрочем, сестра тоже не была железной. В минуты слабости она укрывалась у вдовы с первого, в обмен на компанию и мелкие услуги получая ласку и заботу. Джузеппе она забирала с собой, «иначе он тут совсем с голодухи помрет», как она заявила однажды вечером, поднявшись наверх со спящим малышом на руках.
Мать, в свою очередь, совсем перестала чувствовать голод и о том, что мы можем хотеть есть, совершенно не думала. Отец, возвращаясь со смены, иногда приносил немного мортаделлы или соленых анчоусов, если магазин еще был открыт, а в остальном довольствовался нашей стряпней. Повлиять на жену он даже не пытался.
После обеда она, безвольно уронив руки, оставалась сидела за столом. Дома в это время обычно никого не было. Я отрезала кусок хлеба, мазала его маслом, клала на тарелку и подталкивала в ее сторону, но не слишком близко. Потом садилась напротив и начинала есть, время от времени осторожно, одним пальцем, подталкивая тарелку чуть ближе: если ее не принуждать, она могла с безразличным видом откусить кусочек, который жевала так медленно, будто забыла, как это делается.
– Соли не хватает, – сказала она в один из таких дней.
– Прости, я забыла, – я передала ей жестянку.
– Да нет, и так неплохо, – и доела кусок, который держала в руках. Потом снова начались долгие дни в молчании: она словно язык проглотила.
Но как-то в воскресенье, увидев, как я сражаюсь с луковицей для бульона, проворчала:
– Вечно один только суп. Ты что, не можешь даже соус состряпать?
– Нет.
– Просто налей на сковородку масла, добавь лук и обжарь.
Мы дождались, пока в кухне запахнет золотистым луком. Потом она открыла закатанную нами в августе бутылку томатной пасты, которую я вылила в кастрюлю, и принялась давать указания, как прикрутить огонь и какие добавить травы.
– Давай научу, как сделать пасту, – сказала она наконец. – Не бойся, навык приходит с опытом.
Я приготовила рожков с томатным соусом на всю семью, и мне показалось, что они рады нормальной еде, хотя никто ничего по этому поводу не сказал. Мать взяла три или четыре штуки самых белых. Она села ужинать с остальными, как делала, пока был жив Винченцо, но тарелку держала на коленях под столом и ела, низко опустив голову.
22
Кремовый мерседес, припарковавшийся в центре площади, сразу же окружила ребятня, которой явление подобного автомобиля в нашей деревне казалось настоящим чудом. Из машины вышли двое: один с усами, другой в широкополой белой шляпе. Я увидела из окна, как они спрашивают что-то у мальчишки постарше, а тот указывает в мою сторону. Внешне они напоминали цыган, и я слегка испугалась. Но они даже не пытались позвонить в домофон, просто стояли, опираясь на капот, курили и чего-то ждали. Время от времени я, стараясь оставаться незаметной, выглядывала в окно и проверяла, не уехали ли они.
Когда внизу показался отец, возвращавшийся с работы пешком, те двое вдавили окурки в асфальт и двинулись ему навстречу, как будто узнали. Он чуть замедлил шаг, взглянул на них издали и пошел к двери, решив не обращать внимания, но они преградили ему дорогу и тот, что был с усами, начал говорить, отчаянно жестикулируя: возможно, спрашивал разрешения подняться. Я приоткрыла дверь, чтобы лучше слышать.
– Я не потерплю цыган в своем доме! Можете сказать мне все здесь, если хотите, – рев мотора заглушил ответ, и отец повысил голос: – Если мой сын вам должен, это не моя проблема. Я об этом не знаю и знать не хочу. Идите к нему и спрашивайте про свои деньги!
Второй мужчина, стоявший ближе, коснулся отцовской руки, словно желая успокоить, но отец оттолкнул его, и белая шляпа покатилась по асфальту. В этот момент ко мне у окна присоединилась Адриана. Мы обе слушали, затаив дыхание.
Но дело так ничем и не кончилось: те двое вернулись в машину и уехали, а отец вошел в дом, громко хлопнув дверью.
Несколько дней спустя нас поймали на выходе из школы. Это были уже другие люди, да и побитая в нескольких местах машина, которую мы, правда, видели только сбоку, оказалась намного меньше. Адриана взяла меня за руку, и мы слились с толпой ее одноклассников. Машина то следовала за нами вдоль тротуара, то проезжала мимо и останавливалась, поджидая нас. За центральной площадью мы остались одни: остальные разошлись по домам. Тогда парень, сидевший на пассажирском, выскочил из машины и криво ухмыляясь пошел в нашу сторону. Сестра сжала мою руку своей потной ладошкой: это был давно согласованный сигнал к бегству – наслушавшись страшных историй о цыганах, похищавших детей, она не на шутку перепугалась. Мы бросились обратно к школе, но на углу у табачной лавки чуть не влетели в объятия преследователя.
– Эй, куда бежите? Я не сделаю вам ничего плохого, просто ответьте на один вопрос! – ему было лет двадцать, и выглядел он скорее симпатичным, нежели угрожающим.
Даже Адриана приободрилась. Она отпустила мою руку и кивнула: мол, говори. Похоже, он чувствовал себя не в своей тарелке, общаясь с двумя девчонками, и вежливость давалась ему нелегко. Не знаем ли мы, может, Винченцо припрятал что-то для них, своих друзей? А если да, то, значит, это что-то хранится у нас?
– Не мог же наш брат знать, что погибнет! Зачем ему было что-то прятать?
Скороговорка Адрианы несколько сбила его с толку. Он рассказал, что Винченцо брал у них взаймы, собираясь купить скутер, но был готов вернуть долг, о чем и заявил за несколько дней до аварии. Не могли бы мы поискать эти деньги?
– Сомневаюсь, что он принес бы их домой. Но у него была дощатая лачуга где-то вниз по реке, там он и хранил свои вещи, – соврала Адриана и, чтобы окончательно сбить погоню со следа, дала пару весьма неопределенных подсказок, где искать эту лачугу. Так мы избавились от кредиторов Винченцо.
После обеда она сунула под мышку старую коробку из-под ботинок и шепнула мне спуститься с ней в гараж.
– Колечко, которое он унес с собой в загробную жизнь, лежало здесь, – сообщила она по дороге. – Среди прочего. Надо бы нам разглядеть это добро как следует.
Мы заперли дверь и подняли крышку, под которой прятался тайный мир нашего брата. Куча ключей, и все не от дома. Блестящий нож-выкидушка, совсем новый. Кошелек с удостоверением личности: на фотографии он выглядел, как разыскиваемый преступник. Одинокий носок, чем-то туго набитый. Я осторожно сунула туда руку и сразу узнала содержимое, продемонстрировав побледневшей Адриане скрученную в рулон пачку перетянутых резинкой банкнот разного достоинства, от десяти до ста тысяч лир. Вот, значит, что искали цыгане! Интересно, действительно ли это их деньги или Винченцо скопил всю сумму случайными подработками и отложил на скутер?
Адриана зачарованно потерла купюры между пальцами, проверяя, не фальшивые ли они: должно быть, она впервые держала в руках деньги, не считая мелких монет, да и те нечасто.
– Что это за старикан? – не переставая поглаживать бороду Леонардо да Винчи на пятидесятитысячной купюре, еде слышно прошептала она, словно кто-то мог прятаться за мусорными баками.
– Нашла время! Лучше скажи, что нам теперь делать? – спросила я скорее себя, чем ее. – Их слишком много, мы не сможем их спрятать.
– Что ты такое говоришь? Слишком много не бывает, – ее пальцы судорожно сжались.
Меня поразил этот безудержный восторг, этот жадный взгляд, устремленный на деньги. Я никогда раньше не знала голода, так и оставшись чужой в доме, где голодали изо дня в день. Привилегии, оставшиеся из прошлой жизни, выделяли меня, отгораживая от остальной семьи. Я была Арминутой, возвращенкой: говорила на непонятном языке и путала, кто мои настоящие родители, а потому завидовала деревенским одноклассницам и даже Адриане: те никогда не сомневались, кого звать матерью.
Сестра сразу стала составлять список всего, что мы теперь купим. В ее глазах зажглись алчные огоньки, будто пачка денег была фонарем, осветившим ее лицо снизу и превратившим его в страшную маску. Но мне светила только тусклая лампочка под потолком гаража, и я вынуждена была опустить Адриану с небес на землю, пока она продолжала перечислять: телевизор, мраморное надгробие для Винченцо, новая машина отцу...
– Этого не хватит, – сказала я, коснувшись ее лба, словно у нее был жар.
– Тебя не поймешь, – взорвалась она. – То слишком много, то не хватит!
Вдруг рядом раздался шорох, словно что-то двигалось за рядами картонных коробок. Я увидела, как она вздрогнула, дернула ногой – и длинный голый хвост скрылся за ящиком сушеного перца.
– Так я и знала, – прошептала она. – Здесь их нельзя оставлять, иначе крысы все съедят. Давай отнесем деньги наверх, но будем держать ушки на макушке: если Серджо их найдет, конец всему.
Ближе к вечеру, когда главы семейств обычно возвращались домой, зашел человек из похоронной конторы. Не тратя времени на приветствия и соболезнования, могильщик, как все его называли, с порога потребовал заплатить хотя бы половину суммы, причитавшейся ему за похороны Винченцо. Отец попросил подождать еще немного: кирпичному заводу грозило банкротство, и его владельцы месяцами задерживали зарплату.
– Первые же деньги, что я получу, будут твоими, клянусь памятью сына, – говорил он, но тот, другой, дал ему всего неделю.
Мы с сестрой слушали, опустив головы и стараясь не смотреть друг на друга, а на следующий день сели планировать грядущие расходы. За покупками мы вышли, дождавшись, пока магазины начнут открываться после обеда, и сразу попали под проливной дождь. Адриане срочно было нужно новое пальто, что привело нас в единственный в деревне магазин одежды, которым заправляла дама, похожая на картофелину с человеческой головой. Ее вялые руки болтались вдоль тела, двигались только короткие пухлые пальцы, да и то лишь в случае крайней необходимости. В магазине было светло и пахло старыми пыльными тряпками. Нас встретили приятный жар керосинового обогревателя и подозрительный взгляд хозяйки.
– Неужто вас одних отпустили за покупками? Ах да, это же у вас брат умер! То-то мать с вами не пошла... Все время на кладбище, бедняжка, вот уж никто не ожидал... – тараторила она без передышки. – Ну, а деньги-то у вас хотя бы есть?
Адриана сунула ей под нос Леонардо да Винчи, потом сложила купюру пополам и убрала обратно в нагрудный карман: только после этого мы смогли спокойно выбрать свободное суконное пальтишко цвета весенней листвы.
– Будет как раз, даже когда я перейду в среднюю школу, – заявила сестра торговке, пытаясь разглядеть себя в зеркале у нее за спиной. Старое пальто с наполовину оторванной подкладкой она оставила прямо на прилавке.
Через пару часов мы уже шли домой, она – осторожно переставляя ноги в новых мокасинах, чтобы не ободрать раньше времени. Наши сумки были забиты сыром и сладостями, а головы – размышлениями о том, как оправдать такие траты. Нашли кошелек с деньгами, решили мы наконец.
– Только я не хочу прятать все это в гараже, – твердо сказала Адриана. – Будем есть все вместе.
Но никто нас так ни о чем и не спросил: мать по-прежнему хандрила, мысли отца были заняты долгами, а братья после ужина набросились на бутерброды с нутеллой, которые мы выложили на поднос, не особо интересуясь, откуда они взялись. Джузеппе я тоже дала пару ложек.
Целую неделю мы могли покупать все, что хотели, но старались тратить понемногу, особенно когда речь шла о сладостях. Потом снова явился человек из похоронной конторы. Мы зазвали отца к себе в комнату и, когда он все-таки пришел, сунули прямо ему в руки нужную сумму. Так Винченцо сам оплатил свои похороны.
23
До Рождества оставалась всего неделя. Вернувшись домой к обеду, мы обнаружили на голом столе два ящика апельсинов: такого чуда в этом доме еще не бывало. Рядом притулилась картонная коробка, набитая жестяными банками: тушенка и немного тунца – наверное, пока мы с Адрианой с утра были в школе, заходил кто-то из запоздавших с соболезнованиями. Но в воздухе, помимо запаха цитрусовых, я вдруг ощутила другой аромат, знакомый, но такой слабый и нечеткий, что казалось, будто он мне грезится.
Джузеппе сидел в углу и хныкал: откусив кусочек апельсиновой кожуры, он обнаружил, что она горькая. Мать из спальни велела нам распаковать коробку и последить за малышом: из-за мигрени она не успела приготовить обед. Несколько дней назад она снова начала потихоньку заниматься домашними делами, но время от времени опять ложилась в постель и оставалась там часами, глядя пустыми глазами в потолок.
Я почистила для Джузеппе апельсин и предложила ему дольку. Он сперва заморгал, скривив губы из-за резкого вкуса сока, но вскоре привык, даже распробовал сладость и потребовал еще. Адриана открыла тушенку. Мы съели ее прямо из банки, по очереди вылавливая вилками крупные куски. Потом она спустилась с малышом к вдове, и я осталась одна. В спальне было тихо.
В тот день мне не нужно было делать уроки, и от скуки я блуждала по дому, не зная, чем себя занять. Мне не давал покоя цвет всех этих апельсинов на столе: моя «приморская» мать была буквально помешана на витамине С и, когда у меня были уроки балета, всегда давала с собой два уже очищенных, чтобы перекусить в машине. Говорила, они незаменимы после физической активности. Увлеченная этой мыслью, я бросилась к шкафу и, откопав привезенный в августе мешок, принялась рыться в ворохе туфель. Пальцы привычно вытащили со дна пуанты, я унесла их на кухню и надела прямо под клетчатую юбку. Атласные ленты перепачкались и слегка потерлись, пальцы ног сразу же заболели, как всегда после долгих летних перерывов. На ноги из окна падал холодный зимний свет. Я провела рукой по подъему, по давно не тренированным мышцам голени, и те привычно напряглись. Тогда, чуть опершись о спинку стула, я поднялась на пуанты, встала в пятую позицию и попыталась выполнить battement tendu с plie[9].
– Говорила я им: надо тебе в город возвращаться, в лицее учиться и все такое прочее, – мать стояла в дверях спальни, сложив руки, будто собираясь аплодировать. – Заходила с утра Адальджиза, как раз и обсуждали. Только мы-то с твоим отцом еще когда об этом думали, с того самого денечка, как тебя вернули, так что пусть эта всезнайка Перилли заткнется. Здесь ты только впустую время тратишь, никакого проку. В октябре пойдешь в школу получше, Адальджиза согласна.
Выходит, аромат духов мне не почудился.
– Значит, они заберут меня к себе... – начала я, но голос дрогнул и пропал, пришлось даже сесть – ноги совсем отказывались слушаться, и дело тут было вовсе не в балетных упражнениях.
– Это, конечно, нет, но к концу лета она думает подыскать тебе жилье в городе.
– Почему она приезжала, пока меня не было? Не могла подождать?
– Синьора, которая ее привезла, очень торопилась. А Адальджиза прослышала о моем бедном сыночке и заехала выразить соболезнования.
– Не поздновато ли, с учетом того, что отец был на похоронах?
– Стало быть, твой дядя, – с нажимом поправила она, – забыл ей об этом сообщить.
– Очень странно. Как у нее дела?
– Ну, в целом неплохо. Видала, сколько еды она нам навезла? Надо бы разложить все по местам, – быстро ответила она и отвернулась, чтобы убрать содержимое коробки в стенной шкаф, привычно уходя от неприятной темы. Дальнейших моих вопросов она, казалось, не слышала – напротив, почти беззвучным шепотом, вошедшим в привычку с тех пор, как она чуточку оправилась от смерти Винченцо, спросила, что в банках, потом посетовала на слишком высокие полки, до которых ей уже и не дотянуться, – уж ее несчастный сыночек в минуту бы с этим управился.
Я сидела на стуле, даже не пытаясь помочь. Где-то в районе желудка снова поднималась волна гнева, и сил бороться с ней уже не осталось: словно кто-то в один миг высосал всю кровь из моих вен. Я устало сняла пуанты, натужным движением разгладила атлас, на секунду принюхалась, пытаясь уловить запах собственных, тогда еще беззаботных ног, – и вдруг, как мгновенно действующая инъекция, в меня вселился демон разрушения. Я протянула правую руку к апельсину, ближайшему в этом мире доступному объекту. Тот оказался мягким c одного бока – подгнил, и я легко погрузила пальцы до самого центра, а потом и дальше, пробив кожуру с противоположной стороны. Рука дрожала, дрожал и плод, формой и цветом напоминавший далекое солнце.
Сок побежал по моему запястью, намочил манжет. Не знаю, в какой момент я вслепую метнула апельсин в стену, и тот пролетел на волосок от ее головы. Но не успела она обернуться, как я спихнула ящик со стола и оранжевые шары раскатились по всему полу.
– Ты что, рехнулась? Какая муха тебя укусила?
– Я вам не чемодан, чтобы переставлять туда-сюда! Мне нужно встретиться с матерью. Ты сейчас же скажешь мне, где она, и я туда поеду. Одна! – я приподнялась на цыпочки, дрожа от ярости.
– Да почем мне знать! Точно не в старом доме!
Набычившись, я двинулась на нее, зажимая в угол возле раковины, схватила за обтянутые черным крепом плечи и затрясла, не обращая внимания на сдавленные стоны.
– Значит, найду судью и засужу вас всех! Расскажу, как вы меняете дочь на цацки!
Потом оттолкнула ее и выскочила на улицу. Вскоре стемнело, я быстро замерзла. Из самого темного уголка площади мне было видно, как загораются окна и в них движутся женские тени. Они представлялись мне нормальными мамами, которые рожают детей и сами их воспитывают, а с пяти часов уже начинают долго и скрупулезно, как велит холодное время года, готовить ужин.
Впрочем, со временем я лишилась и такого путаного понимания нормальности. Где теперь моя мать? Не знаю и знать не хочу. Конечно, мне ее не хватает – как может не хватать здоровья, крыши над головой или уверенности в себе. На ее месте зияет пустота, которую я ощущаю, но не могу преодолеть. Повернув голову и заглянув в себя, я вижу только выжженную землю. Ночью это зрелище лишает меня сна, порождает чудовищ из того немногого, что у меня еще осталось. Так что единственная мать, которой я так и не потеряла, – это мои страхи.
В тот вечер искать меня вышла Адриана. Два из трех уличных фонарей давно перегорели, погруженная во мрак площадь выглядела пугающе, поэтому она и на шаг не отходила от двери, раз за разом выкрикивая в темноту мое имя. Выдержать эти вопли потерявшейся кошки было трудно, но приходилось терпеть. А она ведь тоже без пальто: вон как притопывает и потирает руки, чтобы согреться. Давай уже, возвращайся в дом, умоляла я про себя. А может, где-то в глубине души: дождись меня, постой еще немного, я почти готова. И она, будто услышав, во весь голос прокричала ответ на обе просьбы.
– Если не вернешься, я тоже останусь здесь и заболею, а все из-за тебя! У меня уже из носа течет.
Я подождала еще немного, прежде чем сдаться и выйти под единственный работающий фонарь. Она увидела меня и бросилась на шею.
– Ладно, решила послать к черту эту квашню и сбежать... – бормотала она, растирая мою онемевшую спину. – Но обо мне-то ты как могла забыть?
Есть я не хотела и сразу легла в постель. С кухни через закрытую дверь доносились голоса. Потом кто-то вошел в комнату, и я притворилась спящей. Это была мать: я узнала ее по шаркающей походке.
– Вот, положи на грудь, а то простынешь, – должно быть, тоже сразу поняв, что я проснулась, буркнула она, откидывая одеяло, и протянула мне разогретый в духовке кирпич, обернутый ветошью, чтобы не обжечься. Тепло медленно растекалось по телу под его тяжестью, пока не добралось до сердца, которое сразу забилось ровнее.
Мать молча вышла, а я тотчас же провалилась в глубокий сон. И не простыла.
24
Рождество я отследила только по началу школьных каникул и полуночному звону колоколов – их мы слушали, лежа в постелях, потому что на Мессу не пошли. Впрочем, и рыбы на ужин[10] тоже не было: поели только густой овощной похлебки, хотя мне она понравилось гораздо больше тушеного угря прошлых лет – я не любила его скользкую мякоть, но вынуждена была есть из уважения к так чтимым матерью традициям.
Поутру соседки, вспомнив о недавнем горе, собрали нам кое-то для праздничного обеда: бульон из артишоков с клецками, картофельную запеканку с фрикадельками, заливное из индейки... Владельцы кирпичного завода вечером двадцать четвертого все-таки решили выдать рабочим хотя бы одну из задержанных зарплат, и отец сразу же отправился в магазин за нугой. Покончив с мясом, мы разделили ее на куски и захрустели, засидевшись в итоге за столом куда дольше обычного. Но тут Адриана, жевавшая, жадно причмокивая, вдруг подскочила, вскрикнула, схватившись за челюсть, и разрыдалась.
Я бросилась за ней в комнату. Широко раскрыв рот, она вертелась перед зеркалом, ковыряя пальцем почерневший молочный моляр, в середине которого засел светлый осколок – скорее всего, миндаль – вызвав пульсирующую боль. Чтобы избавиться от остатков нуги, Адриана потыкала в дырку зубочисткой, которую всегда держала в кармане, а потом приподнялась на цыпочки, поближе к моему носу.
– Чуешь, как воняет? Что за невезуха: никак не хочет выпадать! Давай ты его вырвешь, а? Мне никак не дотянуться.
Я боялась сделать ей больно, но она настаивала. Зуб, как оказалось, почти не шатался, хотя и крепился к десне только одной стороной: похоже, его время еще не пришло. Я попыталась раскачать его пальцами, но ничего не вышло, и даже обвязав зуб ниткой, я все время сдергивала пустую петлю.
– Может, подцепить чем? – предложила она.
Мы заглянули в кухню. Остальные уже ушли, стол был убран, и только в раковине нас ждала стопка грязных тарелок. Я наугад открыла несколько ящиков, не зная точно, что ищу, и стала перебирать все подряд. Нож – нет, он меня пугал. Вилка? Мы подошли к окну, поближе к зимнему солнцу, уже клонившемуся к закату. Адриана выставила вперед нижнюю челюсть, я вставила зубчик вилки в щель, и она молча застыла, поджав руки к груди. Глядя ей в глаза, чтобы заметить внезапную боль, я сунула вилку глубже: зрачки расширились, но и только. Тогда, затаив дыхание, я резко поддела зуб. Тот вылетел прямо в горло, а из десны вырвался фонтанчик крови. Сдавленно всхлипнув, Адриана закашлялась, пытаясь избавиться от инородного тела, потом сплюнула зуб, за которым тянулась кровавая дорожка, себе в ладонь, с хлюпаньем втянула сопли и утерла подбородок посудной тряпкой.
Вечером, улегшись в постель, я разрыдалась в подушку: кто будет рвать ей молочные зубы, когда я вернусь в город? Адриана, услышав, спустилась вниз, и я рассказала ей все: о недавней встрече двух матерей, о новом переезде, который они для меня готовили.
– Значит, уедешь? – вскинулась в полутьме Адриана.
– Ну, не прямо сейчас, к началу учебы в лицее, в сентябре.
– Но... разве ты не этого хотела? – спросила она, помолчав. В ее внезапно взрослом тоне слышался укор, но очень мягкий, ласковый. – Тебя вернули сюда, к нам, но мы тебе не нравимся, и ты плачешь, каждую ночь плачешь, ворочаешься под одеялом, не можешь уснуть. Так почему тогда тебя смущает идея вернуться в город?
– Честно говоря, я уже ни в чем не уверена, сплошной туман. Никто пока не сказал мне даже, в какой именно лицей я пойду. Мать подберет мне жилье или может, интернат.
– Ты что, с ума сошла? В этих интернатах заправляют монахини, они каждый твой чих контролируют! Кошмар просто! Даже трусы проверяют!
– Ну, это-то ты откуда знаешь?
– Да есть у нас одна, за кирпичным заводом живет. Такие истории рассказывает!
– Я же не из-за монахинь волнуюсь, а потому, что тебя больше не увижу, – прошептала я, коснувшись ее волос, и снова начала всхлипывать.
Мы немного поплакали вместе, потом она села и резко встряхнула меня за плечи.
– И ведь хватает же у этих двух гадюк наглости пинать тебя с места на место, когда им в голову взбредет? По-моему, хватит. Ты должна бороться!
– Но как?
– Вот так сразу не знаю, надо подумать. А пока давай поклянемся, что больше не будем расставаться: ты уйдешь – и я за тобой.
Она скрестила пальцы и поцеловала их с обеих сторон, быстро перевернув ладони. Я заметила ее движение в темноте и повторила за ней. Потом обняла, прижалась грудью у ее спине, пересчитав позвонки, как зерна четок, и мгновенно уснула. А когда она уползла наверх, я осталась лежать, прижимаясь взмокшим животом к нагретому ей месту. Время от времени сестра вскрикивала, в какой-то момент засмеялась, увидев что-то во сне: обычно по ночам она спала спокойно, раскинув руки, убаюкивая заодно и меня, но не сегодня. Собственные страдания и неопределенность будущего больше меня не беспокоили, теперь я тревожилась только об Адриане и Джузеппе – видите, насколько одомашнилась? Но не прошло и нескольких минут после нашей клятвы, как я совсем разуверилась, что мы сможем остаться вместе. А ведь уже в сентябре я уеду из деревни, уеду одна. Как они справятся без меня? Может, у нее что-нибудь как-нибудь да и получится, но малыш-то? Он по-прежнему ползал на четвереньках, и я ни разу не слышала, чтобы он звал маму или папу. Стараясь помочь ему, я часто проговаривала эти слова по слогам, очень медленно, преувеличенно четко артикулируя, но он сразу отвлекался на что-то другое – видимо, его мозг еще не был готов.
В клинике, где он сейчас живет, Джузеппе разговаривает только с санитаром, всегда одним и тем же, а когда тот уезжает в отпуск, просто молчит. Во всяком случае, так мне говорили.
Навещая его, я всякий раз приношу ему бумаги для рисования и карандашей разной твердости. Сперва он их разглядывает, один за другим, трогая острие указательным пальцем.
– Хорошие, да, – говорит он мне с улыбкой. А потом, уже серьезным тоном: – Вот что я сделал за месяц.
Обычно он изображает свои рисующие руки: правая штрихует, левая придерживает бумагу. Но встречаются и животные: бегущие собаки или скачущие лошади, схваченные в тот момент, когда их копыта не касаются земли.
Джузеппе так и остался единственным из братьев, кто закончил среднюю школу. Следующие несколько лет он провел дома, становясь все более и более молчаливым, отчужденным, почти не замечая происходящего вокруг. Эта клиника для него – лучшее, что может быть: некогда здесь был монастырь, и постояльцы, если, конечно, позволяет погода, часами гуляют по залитому солнцем саду.
Адриана обычно ездит со мной и болтает без умолку, но когда я навещаю его одна, мы просто сидим на скамейке и подолгу молчим. Иногда Джузеппе протягивает мне листок с дерева, если тот вдруг падает рядом.
Весной я приношу ему лукошко клубники. Мы моем ее в фонтане возле живой изгороди, а потом он ест, предварительно оглядев каждую на свет, держа за хвостик и стараясь уловить мельчайшие отличия в форме или цвете. Подозреваю, он даже пересчитывает семечки.
25
Зима была долгой и суровой. Дом промерзал насквозь. Делать уроки по утрам мне приходилось, закутавшись в одеяло. Застывшие пальцы с трудом переворачивали страницы (хорошо еще, вдова с первого этажа одолжила настольную лампу, которую я, пока не пользовалась, прятала под кровать). В марте я выиграла всеитальянский школьный конкурс на тему «Европейское сообщество», и синьора Перилли вручила мне сберкнижку, открытую на мое имя Министерством образования, а потом, подолгу задерживая взгляд на тех, кто чаще всего надо мной насмехался, объявила:
– Вы должны гордиться своей одноклассницей. Во всей Италии только двадцать школьников получили такую награду.
– И одна из них – Арминута, – выкрикнул кто-то с задней парты.
Сестра уже каким-то образом обо всем прознала и после уроков сразу помчалась домой, чтобы рассказать семье. Родители чуть не лопнули от гордости, увидев, что в колонке «дебет» стоит написанная от руки красными чернилами сумма: тридцать тысяч лир.
– Выходит, их теперь можно снять со счета? – спросила мать. Она закрыла сберкнижку, положила на стол, но продолжала пожирать ее глазами.
– Мы их не тронем, – неожиданно резко ответил отец и, помолчав, добавил: – Это ее деньги, она их честно заработала. Что ни говори, а котелок-то варит.
– И по математике у нее тоже твердое «десять», она со всеми этими трудными задачками играючи разбирается, одной левой, – сообщила им Адриана, крутанувшись на пятке.
Поначалу мне действительно нравилась как раз начавшаяся у нас стереометрия: сложные фигуры, пирамиды, пересеченные параллелепипедами, цилиндры с отверстиями в форме конусов в одном из оснований... Я получала удовольствие, вычисляя поверхности и объемы, складывая и вычитая их для расчета общей суммы. Но потом вдруг поняла, что отличные оценки толкают меня прямо в тот самый «счастливый завтрашний день», спланированный двумя матерями, которые даже не удосужились поинтересоваться моим собственным мнением. И я вовсе не была уверена, что хочу продолжать двигаться в выбранном ими направлении. Допустим, следующей зимой я буду учиться в городе, в каком-то лицее. Но где я буду есть, спать? Сможем ли мы после уроков встречаться с Патрицией? В какой-то момент от всей этой неопределенности я уже мысленно согласилась остаться в деревне, с Адрианой и Джузеппе, с родителями, которым меня вернули. Даже с Серджо и тем, другим.
Когда синьора Перилли вернула мне упражнение по латыни с «девяткой», я, на мгновение обрадовавшись, вдруг растерялась и долго стояла, без сил опершись на парту. «Приморская» мать осталась бы довольна, увидев такую оценку: из своего далека она вообще больше волновалась обо мне, чем о своей болезни (вполне реальной, как я по-прежнему верила). Но в минуты печали мне казалось, что она совсем обо мне забыла, выбросила из головы, а значит, у меня нет больше причин жить. Я повторяла слово «мама» так часто, что оно потеряло всякий смысл, став просто гимнастикой для губ. Осталась, выходит, сиротой при двух живых матерях: одна вскормила меня молоком, и этот вкус до сих пор ощущается на языке, другая вернула в возрасте тринадцати лет. Дитя разлук, ложных или тайных родственных отношений, расстояний, я перестала понимать, от кого и по какой линии происхожу. Впрочем, я даже сейчас этого не понимаю.
Начало весны пришлось как раз на мой день рождения, которого, впрочем, никто не отмечал: родители за время, проведенное без меня, забыли дату, а Адриана и вовсе не знала. Если бы я сказала ей, она бы, конечно, отпраздновала этот день по-своему, до упаду прыгая по дому и четырнадцать раз дернув меня за уши. Но я сохранила тайну и поздравила себя сама, сразу после полуночи. А утром сходила на площадь, купила пирожное «дипломат» в единственной деревенской кондитерской и попросила еще свечку, вроде тех, что втыкают в именинные торты. Синьора за прилавком удивленно взглянула на меня и дала свечку бесплатно: выходит, настоящий подарок.
Зайдя в гараж, я сразу взяла спички (знала, где они лежат), заперлась изнутри, воспользовавшись проникавшим сквозь щели светом достала пачку спагетти, положила этикеткой вниз на пыльную полку старого буфета, воткнула в пирожное свечку и подожгла фитиль. Тьма скрадывала размеры предметов, и было легко поверить, что передо мной настоящий торт. Я стояла, глядя на колеблющееся пламя (возможно, виновато в этом было мое дыхание) и не думая ни о чем конкретно, но внутри меня, помимо страха, росла неведомая сила, сияющая, как этот крохотный огонек. Свеча начала плакать расплавленным воском. Когда эти слезы почти добрались до сахарной пудры, я в один выдох задула ее, сама себе похлопала и вполголоса напела в темноте поздравительную песню. «Дипломат» был свежим, рассыпчатым, поэтому я съела его весь, до последней крошки. А после поднялась наверх.
Вечером к нам зашел какой-то мужчина: хотел пригласить на следующий день, в воскресенье, поработать в поле. Было уже довольно поздно, но они с отцом все равно уселись за кухонный стол. Выглядел он совершенным пиратом из-за черной повязки на правом глазу: та удерживалась на положенном месте тесемкой, обегавшей вокруг его головы, почти лысой, не считая пары курчавых седеющих островков на затылке. Из уголка рта свисала незажженная сигара с опаленным от прошлых прикуриваний кончиком, которую он так ни разу и не вынул, поэтому говорил, не разжимая зубов. Я была удивлена и даже немного напугана его внешностью.
– В такой час женушка-то твоя, небось, уже в постели, – говорил он. – Ясное дело, все не оправится от постигшей вас беды. Вот увидишь, как ей завтра поможет вдохнуть немного свежего воздуха! И потом, бабуля Кармела хочет снова с ней повидаться: уж она-то не забывает крестницу. Вот, передала мне для нее. Нужно положить под матрас, там, где она голову преклоняет.
Я не смогла разглядеть, что это был за предмет: он выглядел как мешочек с чем-то внутри. Отец положил его в карман и поднялся, чтобы достать еще бутылку вина: ни мне, ни тем более Адриане не удалось бы до нее дотянуться.
– А ты, дочка, чья будешь? – спросил пират, заметив незнакомое лицо.
– Это моя сестра, – вмешалась Адриана. – Ее соплюшкой совсем дальней родне отдали, но теперь мы ее взяли обратно.
– Да, слыхал про это. Ты тогда завтра поутру тоже приезжай, у меня работы на всех хватит, – ободряюще подмигнул он мне единственным глазом.
Забравшись на свой верхний ярус кровати, Адриана рассказала мне о человеке с повязкой на глазу. Он был таким же бедняком, как мы, и жил в большом доме посреди возделанных полей. Когда-то ему, совсем еще мальчишке, попал в глаз камешек, вылетевший из-под колес мчавшегося на всех парах по шоссе трактора, и парень окривел. За вечно торчащий во рту окурок ему дали прозвище Полсигары, но горе тому, кто осмелился бы назвать его так в лицо.
– А настоящее имя? – спросила я.
– Да я уж и не помню. Но там, в полях, взрослых принято называть «дядя», даже если он тебе никакой не родственник, так что проблем нет.
– И что он такого ей передал? – я качнула головой, указывая на спальню где-то там, за дверью.
– Даже и не знаю. Может, ладанка? Бабуля его старая-престарая и ведовством промышляет. Люди к ней ходят за советами и за лекарством. Когда у меня был коклюш, она прислала сироп – на вкус чистейшее дерьмо, я его всегда выплевывала. А вот настойку от глистов делает по науке: ужасная горечь!
Лишь через пару лет я узнала, что «наукой» Адриана называла дикую полынь, чьи целебные свойства были хорошо известны сельской ведунье.
Мы выехали поутру. Машина периодически чихала. Братья даже вставать не стали: там все время заставляют работать, говорили они, а мы не хотим. Адриану обычно не укачивало, но тут она стала жаловаться на тошноту, стоило нам выехать из деревни: наверное, сказалось выпитое в последний момент молоко. Пришлось притормозить (как раз вовремя!) у поворота за речкой, и она оставила весь свой завтрак прямо на краю поля, где истек кровью Винченцо. Под забором, который прервал его полет.
Пока ее рвало, я стояла рядом. Мать не стала выходить – закрыла окно, отвернулась, спрятав лицо, и по движениям плеч я поняла, что она всхлипывает.
26
Дом встретил нас запахом цветущих акаций и нескольких поколений огромной семьи. Все они жили на ферме, все с утра до вечера занимались каким-то делом. Полсигары точил косу, время от времени отстукивая лезвие большим молотком и, как мне показалось, был очень рад нас видеть. Видимо, он упоминал обо мне, потому что моему присутствию никто особо не удивился, только посматривали с любопытством, особенно дети. Двое мальчишек погнали было овец на пастбище, но вытолкали их только за изгородь, подгоняя криками и свистом, а потом вернулись поздороваться с нами. Хозяйка, закончив с пшеном для кур, предложила нам освежиться: мужчины пили анисовую, нам, женщинам и детям, наливали закатанный в прошлом году вишневый компот.
– Дам еще пару банок с собой, – сказала она и вполголоса добавила, обращаясь к нашей матери: – Бабуля Кармела тебя заждалась. Помнишь, где она?
Та аккуратно спустила Джузеппе на землю и кивнула мне в сторону старого дуба за домом. Я покорно двинулась вслед за ней, не понимая, куда иду, а подойдя поближе, запнулась, внезапно увидев все сама. На высоком стуле, напоминавшем какой-то варварский трон, прямее его покрытой грубой резьбой спинки сидела старуха, одетая в застегнутый на крупные пуговицы халат цвета укрывавшей ее тени. Я глядела во все глаза, зачарованная этим сказочным величием. Выжженная за сотню лет солнцем кожа напоминала кору дерева за ее спиной: такая же неподвижная, так же покрытая трещинами морщин. И старуха, и дуб выглядели бесконечно древними.
Позже мне рассказали, что некогда она пересекла границу смерти и даже пробыла там несколько дней, а потом, не вынеся одиночества, вернулась.
– Крестная Карме... – начала мать, но голос сорвался.
Едва шевельнув рукой, та велела нам подойти. Мне послышался треск и скрип одеревеневших суставов.
– Чую, чую у тя, доча, кручину злу...
Мать со слезами на глазах опустилась на колени, прижавшись щекой к ее груди и накрыв голову широкой морщинистой ладонью.
– Да токмо нет у мя от той кручины средства, – это напоминало отпущение грехов, только без исповеди: старуха на миг приподняла руку, с тоской оглядела ее и снова опустила, едва заметно погладив мать по голове – единственное, на что хватило сил.
– Здравствуйте, – сказала я, чтобы дать знать о своем присутствии.
Она уставилась на меня, но глаз, почти скрытых тяжелыми веками, не считая двух узких щелочек, через которые проникало все то, что она теперь узнавала о мире, мне так и не удалось разглядеть. Тут прибежала маленькая девочка с охапкой свежесобранных трав.
– Ладны? – просипела она. – Росны, яко заповедано?
Да, все они блестели капельками росы, так что вполне годились в дело. Правнучка поставила их в стакан на низком столике, который я в тени дуба поначалу даже не заметила. Рядом на стеллаже стояли бутылки, склянки со странными смесями, мази всевозможных цветов и предназначений, а также масленка, миска с водой для защиты от сглаза и небольшой ножичек, с помощью которого на теле можно было отмечать точки, соответствующие пораженным внутренним органам, не притрагиваясь к ним самим.
Через некоторое время к дубу подъехала машина. Из нее вышли двое мужчин: им тоже нужен был совет и чудодейственное средство тетушки Кармелы. Мать поднялась с колен.
– Хоть рождена эта дщерь под недоброй звездой, много счастья она принесет, – проскрипела ей вслед старуха, наставив на меня узловатый палец.
Следующие несколько часов она принимала посетителей: порой на заднем дворе даже выстраивалась очередь. Все спешили воспользоваться ущербной луной, самой благоприятной фазой для борьбы со злом, объяснила мне жена Полсигары.
Меня пугали, что придется работать, но все, что пришлось сделать в тот день, – собрать на поле немного бобов и съесть их на обед. Взяв по корзинке, мы вышли, оставив Джузеппе дома играть с девчушкой, которая его обожала. Нас сопровождал непрерывный птичий гомон, над головами то и дело пролетали ласточки: несли стрекоз и жуков на обед новорожденным птенцам, попискивающим в гнездах под стрехами амбара. Мы будто плыли по краю ячменного поля, вдоль шеренг еще не созревших колосьев с пушистыми метелками на концах. Проходя мимо, я гладила мягкие стебли, наливающиеся соком под все более настойчивыми лучами солнца, столь непривычного после долгой зимы.
Но вот и огород, расчерченный прямыми параллельными бороздами. Между ними, на равном расстоянии, виднелись крупные кочаны салата, а чуть дальше – участок с помидорами, где только начали пробиваться хрупкие молодые побеги.
Наконец мы дошли до бобов, и я срезала свой первый стручок, но так неуклюже, что сломанный тонкий стебель согнулся до самой земли. Я смущенно взглянула на него и отвернулась.
– Иди сюда, покажу, как это делается, – сказала мать. – Одной рукой держишь здесь, сверху, другой подгребаешь.
Я встала рядом с ней, и мы стали собирать стручки в одну корзину. Остальные уже ушли вперед.
– Попробуй, какие вкусные, – сказала она, насыпав мне в ладонь продолговатых зернышек – крохотных, налитых соком зеленых существ, не слишком-то любивших, когда их раскусывают пополам острые детские зубы.
Мы продолжили собирать стручки. Среди стеблей то и дело попадались сгустки белесой пены – «кукушкины слезки»: как объясняла мне мать, крестная Кармела частенько использовала их в своих зельях. И только совсем недавно я где-то прочла, что их вырабатывает личинка пенницы, родственницы цикад. Еще одна красивая сказка растаяла как дым.
– Здесь все так спокойно и размеренно, – вздохнула я. – Хотелось бы мне, чтобы моя жизнь была такой...
Эти слова вырвались у меня неосознанно: может, само место располагало к доверительным беседам? Или сказалось влияние ведуньи? Мать не ответила, но явно услышала.
– Сколько мне было, когда ты меня отдала? – тихо спросила я, скорее устало, чем с вызовом.
– Шесть месяцев, только от груди отняли. Адальджиза являлась к нам каждую неделю, обещая жизнь, о которой можно только мечтать, и всякий раз пыталась забрать тебя с собой.
– Но... зачем ей это?
– Затем, что они годами пытались завести ребеночка, да все без толку.
В нескольких шагах от нас двигались остальные, на ходу закидывая в рот пригоршни только что собранных бобов, время от времени раздавался пронзительный голос Адрианы, за которым обычно следовал взрыв хохота. Мать продолжала рассказывать: что сперва как могла отбивалась, но потом забеременела пятым ребенком, а отец потерял работу. Что однажды они всю ночь проспорили, запершись в своей комнате, пока я спала в колыбели в гостиной, а братья – у себя в кроватях. И сдались.
Адальджиза хотела взять именно меня, ничего не понимающую крошку: боялась, что иначе ребенок, особенно мальчик, никогда ее не полюбит.
– Не стала ничего твоего забирать, все новое купила. Я уж твои вещички придержала для того, кто рос у меня в животе, да только дней через двадцать и его в один миг лишилась. Столько крови натекло – ужас, чуть не померла тогда.
– И вы не могли забрать меня обратно? – еле слышно спросила я.
– Адальджиза бы в жизни тебя не вернула: она уже начала заниматься твоим воспитанием, как и обещала.
Я без сил опустилась на землю, уткнув подбородок в колени и отчаянно моргая в тщетных попытках сдержать слезы. Должно быть, уже наступил полдень: мать взмокла, но продолжала молча стоять рядом с полной корзиной в руках, так и не сделав шаг, который стал бы утешением для нас обеих.
С фермы позвали обедать. Мы уходили с поля вместе, все по той же борозде между грядками: растения теперь казались нам близкими знакомыми, почти соседями, а соседей не топчут ногами.
– Вы чего такие кислые? – заливаясь смехом, спросила Адриана, но ответа дожидаться не стала.
Под навесом нас ждал длинный стол: еще теплый хлеб, оливковое масло, миска лущеного гороха, бобы, отваренные с молодым луком, пара кругов пекорино и прошутто из кабана, заколотого по осени. На укрытом от ветра мангале уже жарились шашлыки. Отец беседовал с Полсигары: они пили вино прошлогоднего урожая, нахваливая крепость и цвет. Может, я никогда раньше не видела отца смеющимся, но только теперь заметила, что у него нет нескольких зубов.
Старуха так и сидела в тени дуба. Ей время от времени подносили тарелки, но ела она совсем немного, только хлеб и овощи, никакого мяса, даже во время обеда продолжая принимать посетителей и общаясь с ними на древнем, давно вышедшем из употребления языке.
Она умерла много позже, в возрасте ста девяти лет, так и не встав со своего привычного места. Ее последний вздох, словно язык пламени, в один миг иссушил крону дерева, каждый ее листок. Так все сразу поняли, что бабули Кармелы больше нет. А на третьи сутки после похорон, ночью, с грохотом, перебудившим всю округу, дуб-исполин рухнул (как раз в правильную сторону, чтобы не задеть дом) и еще много лет служил семье Полсигары источником дров. Кто знает, может, он и сейчас согревает их зимними вечерами.
27
Было около полудня, и мальчишки вовсю гоняли мяч на площади, когда прибежал сын Эрнесто: мол, мне к четырем нужно в бар его отца, кто-то собирается перезвонить. Сам он с тем человеком не говорил и, конечно, не знал, кто это. Интересно, кому я могла понадобиться? Размышляя над этим вопросом, я так замечталась, что даже за обедом ковыряла картошку с фасолью без всякого аппетита.
С утра мы с матерью ходили получать аттестат об окончании средней школы. Как всегда после смерти Винченцо, она надела черное: на этот раз это были мятая юбка и застиранная блузка. В коридоре еще висели результаты итоговых экзаменов, и я показала ей строчку своих отличных оценок, но это ее нисколько не тронуло. Она считала, что мне все дается легко, даже не представляя, как долго пришлось ломать голову над латинским упражнением с парой aut[11], стоящих так далеко друг от друга, что я никак не могла уловить смысл. К счастью, на втором часу мучений учительница, проходя мимо моей парты, дважды сложила губы в подобие o[12], превратив этим немудреным заклинанием запутанный клубок мыслей в четкую и ясную прямую.
Входя в класс, где вручали аттестаты, я почувствовала, как мать провела рукой по моей спине, задержавшись под лопаткой. Польщенная и в то же время напуганная этой первой за столько лет лаской, маленькая девочка во мне съежилась от удовольствия, как это делают собаки, но тут же отпрянула и сделала шаг в сторону. Я ужасно стеснялась ее растрескавшихся пальцев, ее потертого траура, невежества, сквозившего в каждой ее фразе. А этот ее невообразимый диалект, издевательски всплывавший даже когда она старалась говорить на правильном итальянском! Как же мне было стыдно!
Таксофон находился в глубине заведения Эрнесто, под окном, на самом солнцепеке. Здесь стоял кислый запах дешевого вина, слышались тягучие разговоры стариков, умудрявшихся напиться даже за обедом. И это в такую жару! Я пришла заранее и ждала звонка, с трудом удерживая равновесие на ветхом барном стуле, шатавшемся от каждого движения, поэтому, услышав трель, сразу вскочила на ноги. Эрнесто снял трубку, протянул ее мне, но я ответила не сразу: боялась, что не сдержусь, услышав знакомый голос. Сколько времени прошло! Задыхаясь от жары и волнения, я закрыла и тут же снова открыла дверцу кабины таксофона, выждала еще пару секунд, с ужасом думая, что нужно поторопиться, иначе она повесит трубку, может, даже навсегда, и наконец выдохнула «алло» в дырочки микрофона.
Мне казалось, что она тоже должна волноваться, но ничего подобного: она безразлично поприветствовала мое ухо и продолжила лишь с легкой ноткой неуверенности:
– Как ты там поживаешь?
– Слава Богу. Но сперва расскажи, как ты,
– Слышала, ты стала лучшей ученицей? Впрочем, я этого ожидала, – быстро сориентировалась она, нарушив неловкое молчание.
Потрясающая способность узнавать обо всем на расстоянии! А ведь не прошло и пары часов с тех пор, как синьора Перилли попросила нас задержаться в классе после короткой церемонии вручения аттестатов.
– По итогам экзаменов ваша дочь стала лучшей в школе, у нее настоящий талант. И вы не имеете права зарывать в землю. Но мы ведь это уже обсуждали, верно? – спросила она, взглянув на мать в упор, и протянула ей вырванный из тетради лист в клетку. – Вот адреса трех городских лицеев. Обдумайте все хорошенько, потом дайте мне знать, куда собираетесь подать документы. И в дальнейшем, если не возражаете, хотела бы попросить вас держать меня в курсе ее успехов в учебе.
Мне она принесла целую сумку книг на лето, а на прощание, обеими руками приподняв мою голову под подбородок, как редкую драгоценность, поцеловала в лоб. Одно из колец зацепилось за локон, и даже когда ей удалось выпутаться, клок волос так и остался в плену бразильского аметиста. Я сделала вид, что не заметила, и крошечная частичка меня пробыла с ней еще какое-то время.
Дойдя до двери, мать вдруг обернулась, словно наконец-то обдумала ответ:
– Может, мне и не посчастливилось в школу ходить, да только я, синьора учительница, вовсе не дура и сама понимаю, что у нее, – она коснулась моей головы, – мозги для учебы заточены. Уж как-нибудь разберусь, как это дело устроить, заставлю ее продолжать.
В голосе, доносившемся из трубки, не слышалось немощных интонаций: даже после многокилометрового путешествия по проводам он казался глубоким, полным сил. Его обладательница вовсе не была убита горем и, похоже, совсем забыла о своей болезни. На миг я подумала, что она пошла на поправку и вот-вот выздоровеет – может, потому и позвонила? К моему собственному удивлению, чем реальнее становилась столь желанная для меня перспектива, тем быстрее рос подступивший к горлу ком. Я больше не знала, чего хочу, и только смущенно молчала, а она продолжала размеренно чеканить:
– Мать, наверное, уже рассказала, что мы хотим подобрать тебе самый лучший лицей? Ты этого заслуживаешь.
Но даже эти слова меня не тронули: она произнесла их так, словно была не моей матерью, а престарелой тетушкой с кучей денег, готовой профинансировать мое будущее.
– Значит, я вернусь домой? В деревне лицеев нет, – улучив момент, попробовала вставить я.
– Вообще-то я думала устроить тебя к урсулинкам, у них прекрасный интернат для школьниц. Все издержки за мой счет.
– Даже и не думай. И потом, я уже не школьница, – бросила я сухо.
– Хорошо, поищем другой вариант. Может, найдем достойную нашего доверия семью: будешь жить на полном пансионе.
– Почему мне нельзя просто вернуться домой? Что я вам такого сделала? – почти выкрикнула я.
– Ничего, что ты. Пока не могу объяснить, в чем дело, но меня и правда заботит, где ты продолжишь учебу.
К телефонной кабине подошел какой-то мальчишка. Он принялся вышагивать взад-вперед, нетерпеливо поглядывая на меня. Я потянула за вертикальную ручку, прикрывая дверь, и выпалила:
– А родители Патриции не согласятся меня принять?
– Не думаю, что это подходящая семья. Не волнуйся, у нас еще много времени, успеем все устроить.
На заднем плане послышался шум, как будто отодвинули стул, потом низкий мужской голос, но утверждать я бы не стала: это могли быть помехи на линии.
– Кто это там с тобой, папа? – спросила я, вдруг осознав, что взмокла. Мальчишка постучал в стекло, потом еще несколько раз, указывая на часы.
– Нет, телевизор, – ответила она. – Кстати, пришлю-ка я один вам: думаю, у вас его нет.
– Сама привезешь?
– Нет, не смогу, закажу доставку.
– Тогда не трать деньги, мне он не нужен. Вы, значит, уверены, что в сентябре я переезжаю? А то мы здесь летом вечно играем посреди дороги, даже по сторонам не смотрим.
Я надеялась спровоцировать ее, но она не отреагировала, только сказала, что торопится – вероятно, даже больше, чем мальчишка, пыхтя нарезавший круги за дверью. На заднем плане снова раздался голос (я не поняла ни слова), потом какой-то странный звук, похожий на плач. Она пообещала перезвонить, поспешно пожелала удачи, бросила «до встречи» и отключилась, не дав мне вставить ни слова, а я так и осталась с мокрой от пота трубкой в руке, чувствуя, как внутри под прерывистое ту-ту-ту разгорается ярость. До встречи? Как бы не так! Больше мы не увидимся. И никаких «мам», даже про себя: буду звать ее Адальджизой, причем таким холодным тоном, чтобы само это имя скрылось под толщей льда. Вот теперь я действительно ее потеряла. А следующие пару часов даже считала, что смогу забыть.
– Так вот кто это был: Арминута, – скривился мальчишка, когда я вышла, и сплюнул на землю, нагло поглядывая на меня.
– Заткнись и звони, раз тебе так срочно, а то позову братьев, они тебя в клочки разорвут, – прошипела я сквозь зубы.
Ближе к вечеру я сидела на кровати, гладила Джузеппе по голове, перебирая кудряшки (ему явно нравилось – во всяком случае, он молчал и не двигался) и размышляла. Каких же усилий ей, должно быть, стоило не разреветься, услышав меня почти через год молчания. А, может, она и ревела, просто иногда на пару секунд прикрывала микрофон рукой – уж кому-кому, а мне был хорошо знаком этот жест. Раз она все еще не может меня забрать или даже объясниться, этому наверняка есть какая-то серьезная причина. В конце концов, малолетки вроде меня далеко не все понимают. Но я почему-то была уверена, что обязательно вернусь домой, не сейчас, так чуть позже, пусть даже разговор об этом больше не заходил. Ну, значит, будет сюрприз, на сей раз приятный.
Она ведь все это время думала обо мне, беспокоилась о моем будущем, искала возможности встретиться – чего еще желать? А я ответила неблагодарностью и теперь мучилась, не зная, как ее найти, чтобы извиниться. Слезы скатились по моим щекам, закапали на лицо Джузеппе, и он открыл глаза.
Надо сказать, я сожалела и об отказе от телевизора: он мог бы хоть чуточку утешить Адриану, когда я уеду в «старшую школу», как она это называла. В семье уже был один, подержанный, подаренный кем-то по случаю, но тот через пару месяцев сломался и отправился в гараж незадолго до моего приезда. а починить его или купить новый было не на что. Зимой мы часами просиживали на диване у вдовы с первого этажа за просмотром «Сандокана»[13]: хрустя жареным нутом, оплакивали вместе с ней участь Марианны, Жемчужины Лабуана, скончавшейся в могучих объятиях Тигра Малайзии – по нему мы вообще с ума сходили, хотя он и заявил, что никогда больше не полюбит ни одну женщину. Так что в порыве гордости я лишила Адриану удовольствия, которое могло бы скрасить мой скорый отъезд, и мне было стыдно.
В тот июньский день я разрывалась между двумя моими матерями. Но по прошествии времени куда чаще вспоминаю, как там, в школе, рука первой на секунду сжала мое плечо, и до сих пор не могу понять, почему ей была доступна только такая скупая ласка.
28
Прошло не так много времени, чуть больше года, но это был самый длинный год в моей жизни, и он сильнее всего повлиял на мое будущее. Жаль, что по молодости я была слишком занята борьбой с течением, чтобы увидеть всю ширину реки, в которую упала.
И вот я уже поднимаюсь по другой лестнице все с тем же чемоданом в одной руке и набитой обувью сумкой в другой. Отец долго кружил по дворам в поисках парковки: он не привык ездить в город на машине, но выбрал именно ее, чтобы спокойно помолчать в дороге. На перекрестках ему сигналили, проклиная за нерешительность, а я была слишком расстроена отъездом и не могла помочь. Уже переступив порог родительского дома, я на мгновение задержалась, последний раз взглянув на рыдающего и тянущего ко мне ручонки Джузеппе: мать с трудом его удерживала. Иди, иди, велела она, стараясь перекричать малыша, и мы вышли. Адриана прощаться отказалась: она разозлилась, что я нарушила нашу клятву всегда быть вместе, и спряталась в гараже.
Наконец мы кое-как добрались до нужного адреса. Дом располагался в паре километров от пляжа и всего в нескольких кварталах от лицея, где мне предстояло учиться, – другой конец города от места, где я жила до прошлого года. Выйдя из машины, я подняла голову и увидела строгое, но гармоничное здание, выкрашенное в светло-коричневый цвет. Дверь на третьей лестничной площадке была приоткрыта. Я на секунду остановилась, пытаясь дышать ровнее, чтобы успокоить колотящееся сердце, и уже собиралась постучать, когда дверь медленно распахнулась. В сумраке проема возникла девушка колоссальных размеров – так мне, во всяком случае, показалось по сравнению с моими скромными габаритами. Она выдала уверенное раскатистое «привет»: голос оказался мелодичным и звонким, как будто в нем звенели крошечные колокольчики, не затихавшие еще пару мгновений после того, как его обладательница замолкала.
– Заходи, мама сейчас вернется, – сказала она, перехватывая чемодан.
Я двинулась за ней в комнату, которую нам предстояло делить. Предназначавшуюся мне кровать уже занимали две обувные коробки и одежда на весь следующий учебный год. Вещи были сложены аккуратными стопками, как подарки невесте за день до свадьбы. Мои будущие учебники стояли на полке в стеллаже, на который мне указала Сандра, тетради лежали наготове на столе, возле калькулятора: здесь явно побывала как всегда щедрая Адальджиза.
– Это твоя тетя принесла, – подтвердила Сандра, взглянув на меня своими огромными карими глазами, слегка удивленными из-за того, что что я не радуюсь опередившим мой приход подаркам, тем более настолько своевременным: моя собственная одежда выглядела довольно потрепанной. Но подарки уже успели мне надоесть.
Я тоже оглядела ее – краем глаза, незаметно. Несмотря на рост и ширину плеч, благодаря гладкой, будто детской коже и огромному, но совершенно ангельскому личику она выглядела куда младше своих семнадцати.
Ее мать поднялась вместе с моим отцом, которого встретила на лестнице: он подзабыл фамилию семьи, которая меня приняла, и блуждал по этажам, трезвоня в каждую дверь. Синьора Биче отвлекла его от этого занятия и утащила наверх, без умолку тараторя с сильным тосканским акцентом, странным образом сохранившимся вдали от родного дома. Она отвела нас на кухню, поставив на стол тарелку свежеиспеченных кантуччи[14], а отцу – еще и рюмочку vin santo, чтобы было куда их макать.
– Всегда беру их с собой, когда еду к старшей дочери во Флоренцию. Да вот, сами попробуйте, – она дождалась одобрительных комментариев отца, потом повернулась ко мне, еще жевавшей первое печенье, на глаз измерила мою талию, переглянулась с дочерью и развела руками. – Какая же ты худышка! Взгляни-ка на нас!
Стоило ей рассмеяться, объемная грудь колыхалась, словно в шторм, а нижняя челюсть с торчащими клыками выезжала вперед, придавая сходство с добродушным бульдогом.
Уверена, синьора Биче с первого взгляда поняла, что я страдаю вовсе не от плохого аппетита. За те годы, что мы прожили рядом, она никогда не предлагала себя в качестве замены той, кого я утратила, ограничившись заботой о моем питании, гордостью от моих успехов в учебе и ромашкой после ужина – изобретенным ей самой ритуальным средством против бессонницы, а это и так было намного больше, чем от нее требовалось.
По утрам, приходя нас будить, она всегда заставала меня с открытыми глазами, частенько еще и с книгой в руках.
– Вот молодец! А взгляни-ка на эту засоню, – говорила она, кивая в сторону своей огромной дочери, спящей под двумя одеялами. Поначалу мы заговорщицки переглядывались, а потом и в самом деле начали ее так называть.
Я до сих пор благодарна синьоре Биче, хотя после окончания экзаменов так ни разу и не зашла к ней в гости: у меня нет привычки возвращаться к тем, с кем я рассталась.
В тот день, прежде чем отпустить отца, я пересмотрела одежду на кровати, надеясь, что она подойдет Адриане, но все, кроме шапки и шарфа, было ей велико. Не сердись, в субботу приеду сразу после школы, жди на площади в три, написала я в записке, которую отдала ему вместе с вещами.
– Если придется, не стесняйтесь, дайте ей пару подзатыльников, как собственной дочери, – сказал отец синьоре, направляясь к двери. Разумеется, он не мог знать, что она на такое не способна, но грубовато, единственным известным ему способом, попросил любить меня, как родную: сейчас, после стольких лет, мне уже гораздо проще в это поверить.
– Если решишь вернуться с почтальоном, помни, что по субботам он в город не ездит, так что рассчитывай время до автобуса, – велел он мне, а потом, снова обращаясь к хозяйке, добавил: – Может, стоит проводить ее до остановки, по крайней мере в первый раз. Она, конечно, отличница и все такое, но без подсказки ни в жисть не найдет.
Прозвучало так, будто я любимая дочь заботливого папочки, хотя на самом деле он никогда ни обо мне, ни о других своих детях не беспокоился. Или, может, я просто этого не замечала. Я опустила голову, стараясь скрыть нахлынувшие эмоции.
– Давай-ка, расправь плечи, а то горб отрастет, – и он энергично хлопнул меня по спине: я еще долго чувствовала между лопаток отпечаток тяжелой отцовской ладони.
Увидев мое смятение, Сандра предложила:
– Давай помогу разобрать чемодан.
– Ты не против, если я тут повешу кое-что? – робко спросила я.
– Брось, конечно, нет! Вот, держи булавки.
Это был рисунок, сделанный сестрой в дождливый день, оборвавший наше лето: мы с ней стоим на цветущем лугу, держась за руки. В другой руке у меня книга (на обложке написано «История»), а у нее бутерброд: легко узнаваемый ломоть мортаделлы с белыми кружочками жира среди розовой мякоти. Мортаделлу она любила больше всего. И еще одно различие, уловленное острым карандашом: ее улыбка открывала зубы, моя – нет. Она всегда был гениальна, моя Адриана.
Я закрепила листок бумаги на стене за столом, а под ним – платок, который она повязывала, прикрывая голову от солнца: его я взяла без спроса, до следующего года он бы явно не дожил, слишком уж часто я видела его у нее на шее – например, когда мы собирали бобы. «Я от него потею, но зато кровь из носа не льет», – говорила она.
Прикалывая к стене уголки ткани, я почувствовала запах Адрианиных волос, и уныние понемногу отступило, как жар во время болезни. С тех пор выцветшие геометрические узоры у меня на глазах каждую ночь превращались в дома, грубо очерченные деревья, корзины, и все это светилось, пульсировало в темноте. Я постоянно думала о ней и о заключенном нами соглашении, которое, как она считала, я предала. Оправдаться можно было, только взяв ее с собой. Я уже оценила размеры комнаты: да, еще одна кровать вполне встанет. Но как узнать, не будет ли в тягость Сандре, ее матери и отцу, с которым я к тому времени уже познакомилась, еще один гость? То-то они похохочут над острым язычком Адрианы, то-то удивятся ее взрослости и здравомыслию!
Я уже давно чувствовала, что должна отплатить ей за привилегии, которыми наслаждалась в ущерб ей, пусть даже из нас двоих именно она выглядела более подготовленной к самостоятельной жизни.
Чего только не могло приключиться с ней в мое отсутствие! Ночами я видела ужасные сны об обрушившихся на ее голову несчастьях: в конце концов, мы уже потеряли брата, так может, сам этот дом притягивает беду? Бессонница тех первых дней была целиком посвящена Адриане. Впрочем, со мной уже много лет одно и то же: если меня что-то волнует, я только об этом и думаю, не в силах уснуть. Время от времени пробую какие-то средства, новый матрас, недавно появившийся препарат, модную технику релаксации или еще что... Но безрезультатно: я точно знаю, что не позволю себе отключиться надолго, потому что каждую ночь на подушке меня ждут все те же мрачные кошмары.
29
Я быстро привыкла к этому дому, к этой семье, включавшей еще синьора Джорджо, отца Сандры, кроткого молчаливого мужчину, единственного худощавого среди этих толстух: жена поначалу из сил выбивалась, пытаясь его откормить, но давно сдалась. Зато ей, как настоящей ведьме, все-таки удалось на пару килограммов увеличить мой вес, иначе меня просто не стоило бы есть. Она клада мне такие огромные порции, что в конце концов я стала смущенно оставлять недоеденное на тарелке.
В первый день синьора Биче, как и просил отец, проводила меня до школы, Правда, вскоре я разведала путь покороче: мимо балкона с щебечущими в клетке канарейками, с которыми здоровалась каждое утро.
– Дальше не стоит, спасибо, – сказала я, увидев несколько групп вопящих мальчишек у входа в бледно-желтое здание, и направилась к открытой двери. В горле от волнения и страха как всегда стоял ком. Из своего класса я знала только одну девушку, с которой много лет назад ходила вместе в бассейн. Я шла, не поднимая головы, поэтому не заметила ее, но она сама меня окликнула, и мы сели рядом. Оказывается, они с семьей переехали в этот район совсем недавно.
– А ты как попала в этот лицей? Ты разве больше не живешь у северного пляжа? – спросила она меня через несколько дней.
Я открыла было рот, чтобы ответить, но сразу же его закрыла, не зная, что сказать: разумеется, не правду, но и достаточно убедительная ложь тоже как-то не приходила мне в голову.
– Это долгая история, – пробормотала я наконец за секунду до спасительного звонка. Ладно, расскажу в следующий раз, а пока придумаю, что соврать.
Так начались годы моего стыда. Это чувство больше не покидало меня, словно неизгладимое пятно или винно-красная родинка на щеке. Чтобы оправдаться перед окружающими: учителями, одноклассниками, парой всеми брошенных стариков, с которыми была знакома раньше, – я сконструировала красивую сказочку, раз за разом повторяя, что моего отца-карабинера перевели в Рим, но мне не хотелось уезжать из города, и теперь я живу у родственников, а по выходным езжу к родителям в столицу. Эта ложь оказалась более правдоподобной, чем то, что произошло на самом деле.
Но однажды Лорелла, моя соседка по парте, позвонила спросить, не дам ли я ей тетрадь по математике.
– Конечно, я занесу. Ты где живешь? – поспешно ответила я.
– Брось, мы с мамой как раз на твоей улице, какой дом?
Поняв, что оказалась в ловушке, я обреченно продиктовала ей адрес и этаж. К счастью, дома была только синьора Биче.
– Сейчас зайдет моя одноклассница. Скажете, что Вы – моя тетя, ладно?
– Конечно, только не забудь называть меня на «ты», – сочувственно подмигнула она, сразу все поняв, и пошла открывать Лорелле дверь. – Проходи, племянница тебя ждет.
Она также настояла на том, чтобы в субботу проводить меня до остановки. Поездка показалась мне бесконечной, в сердце потихоньку проникал страх: а вдруг в деревне обо мне уже забыли? Мы прожили вместе так мало, что такой вариант выглядел вполне реальным.
В понедельник я отправила сестре открытку, попросив передать остальным привет, и в дальнейшем выработала привычку посылать такие хотя бы раз в неделю, чтобы напомнить родителям, что жива и скоро буду дома. Для Адрианы и Джузеппе я рисовала сердечки, приписывая рядом «чмоки-чмоки». Но время от времени почта ходила так медленно, что, приезжая на субботнем автобусе, я опережала открытку.
В тот, первый раз дорога была перекрыта из-за аварии в нескольких километрах от деревни, и мы долго стояли в пробке. Наверное, сестра уже устала меня ждать, если вообще пришла. Когда автобус наконец миновал табличку «Добро пожаловать», я испугалась, что ее нет на площади, и мне придется идти домой одной. Но она стояла там, уперев руки в боки и расставив локти в стороны, на лице – знакомая недовольная гримаса. До четырех оставалось всего несколько минут.
– Я не стану ждать тебя часами, у меня свои дела есть, – выпалила она.
На улице было тепло, но Адриана, не боясь показаться нелепой, надела шерстяную шапку, которую я передала с отцом: на присущем ей театральном языке это означало, что она меня простила, хоть я ее и бросила. Мы сжали друг друга в объятиях.
Похоже, кроме нас никто не рассматривал мое возвращение в город как долгую разлуку. Мать вела себя так, будто я вышла на пять минут купить пачку соли в табачной лавке, хотя все-таки оставила на плите немного пасты и даже подогрела ее, пока я умывалась с дороги: должно быть, поняла, что я не успею поесть после школы.
– Опять она, – скривился Серджо, увидев меня. За неделю здесь ничего не изменилось.
В одну из декабрьских пятниц у меня поднялась температура, и в субботу синьора Биче была непреклонна: никаких поездок на автобусе. Я позвонила в бар Эрнесто, чтобы попросить его сообщить об этом родителям. Он сказал: мол, ладно, – но кто знает, расслышал ли он хоть что-то за шумной болтовней посетителей и непрерывным звоном бокалов. В первую очередь мне не хотелось, чтобы Адриана ждала меня на остановке. Сосчитав дни до рождественских праздников, я стала вычеркивать их один за другим, как только они проходили.
По возвращении я нашла ее исхудавшей и со всеми в ссоре. Даже мне, когда я вошла с тяжелой сумкой, она едва кивнула и вскоре, не поднимая глаз, убежала вниз, к вдове: видимо, хотела, чтобы я узнала о случившемся от кого-то другого.
– Что это с ней? – спросила я у матери, чистившей картошку на кухне. Рядом, на полу, стояло ведро с очистками.
– С кем, с сестрицей-то твоей? Да она, похоже, совсем спятила: не жрет ничего, только одно яйцо, взбитое с марсалой, рано поутру, и то так, чтобы ни одна живая душа не видела, а иначе вскакивает и убегает. Я только сготовлю – и сразу в комнату ухожу.
– И в чем проблема? Почему она так себя ведет? – чтобы не говорить ей в спину, я села рядом, поставив тарелку с тушеной репой и фасолью, которую она для меня оставила, на кухонную полку.
– Не желает жить здесь, с нами, кошка подзаборная. Хочет ехать с тобой в город, Упрямая, хуже осла: в школу не ходит, даже отцовских затрещин не боится, вот ведь дрянь какая, а? – недоуменно покачав головой, она взмахнула ножом, и длинная спираль кожуры упала на пол.
– Сейчас закончу и спущусь за ней, – кивнула я.
– Смотри, если решит, что ты с нами заодно, ничего от нее не добьешься. Отец волнуется, боится, что и дочка у него помрет. Как вечер, так он свежее яйцо ей несет, где бы днем ни работал: что в поле, что на заводе своем кирпичном.
Я спустилась за сестрой. Та молча сидела на диване, но, услышав меня, схватила первый попавшийся журнал, сделав вид, что полностью погружена в чтение. На низком столике стояла вазочка с выпечкой, похоже, нетронутая: вдова, предупрежденная матерью, явно пыталась накормить сестру, но Адриана была не из тех, кто легко сдается.
Я села рядом с ней: здесь мы были как дома. Сгрызла сушку, потом еще одну, надеясь увлечь ее своим примером. Устав сыпать дежурными комплиментами, мол, как я выросла да какой стала красавицей, Мария ушла хлопотать в кухню. Она открыла духовку, послышался треск счетчика – мы даже на слух могли определять, на сколько делений он выставлен. Потом до нас донесся запах мясного рулета. Адриана не сводила глаз со страницы «Гранд-отеля», шея напряжена – хоть сейчас в драку.
– Ну, и в чем там дело? – выдохнула я прямо ей в ухо.
– Это же фотороман, разве не видишь? – взвизгнула она с хрипотцой, словно на грани истерики, но глаз не подняла.
– Да я не об этом. Что ты такое затеяла?
– Не знаю, о чем ты, – ответила она тем же тоном, снова не повернув головы, – напротив, скрестив ноги, чуть отклонилась в сторону, увеличивая расстояние между нами и давая журналу соскользнуть в противоположную от меня сторону. Часть страниц перелистнулась, и она с еще большим любопытством начала читать с нового места.
– Говорят, ты отказываешься от еды, в школу ходишь через день. Наверху за тебя волнуются.
– Ага! Волнуются они, как же! Я сдохну, они и бровью не поведут, – она перевернула сразу несколько страниц, чуть не разорвав их пополам.
– Я могу тебе чем-нибудь помочь?
Сестра ответила не сразу, и я взяла ее отощавшую руку в свои. Лица я не видела, но чувствовала, что она потихоньку сдается.
– Когда придет время, я тебе скажу. Все, Мария, пока, – попрощавшись, она захлопнула журнал, поднялась и вышла. Я последовала за ней. Выскочившая из кухни Мария взглянула на меня, поджав губы в бессильном беспокойстве. Адриана уже поднималась по лестнице.
Ужинали мы без нее: она уже ушла в комнату. Я укачивала Джузеппе, который, как только я приезжала, всегда был на мне, пока тот не заснул, а потом присоединилась к ней. Уж и не помню, где провели ночь мальчишки и почему. Сестра сидела на верхнем ярусе кровати, на самом краю, болтая ногами, и остановилась, только когда я стала взбираться по лестнице. Одной перекладины не хватало.
– Это Серджо, осел такой, сломал, – буркнула она и тихо продолжила, даже не дав мне сесть рядом: – Не хочу больше здесь жить. Как ты в город вернулась, чувствую себя никому не нужной. Все время думаю о тебе и о Винченцо, – она кивнула на пустую кровать, которую никто так и не осмелился убрать, и принялась ковырять темную корочку запекшейся крови с тыльной стороны левой руки, зубами, если не справлялись ногти, помогая открыть участок новой кожи, ярко-розовой, нежной, готовой вот-вот поддаться под натиском пульсирующей внутри крови.
– Ты должна устроить так, чтобы я к тебе переехала. Замолви за меня словечко перед той доброй синьорой, – заявила она наконец, словно это было проще простого.
– Откуда ты знаешь, насколько она добрая? И потом, там уже нет места, мы с ее дочерью и так еле умещаемся, – уверенно заявила я.
Конечно, я помнила, что это не так, но вдруг почувствовала внутреннее сопротивление, даже не поняв на первых порах, откуда оно взялось. Я ведь так часто мечтала, что заберу ее с собой, а теперь сидела молча, привалившись к перегородке за спиной, отделявшей нашу комнату от родительской спальни, и тихонько постукивала пальцами по стене.
– Даже если она согласится, кто оплатит твой пансион?
– Вот уж конечно не эти, у них денег нет, – быстро ответила Адриана. И добавила, твердо и размеренно: – Но есть те, у кого они есть. Адальджиза. Во всяком случае, можно попробовать.
Я резко выпрямилась:
– Да как тебе это вообще в голову-то взбрело? Вот уж действительно спятила! Я даже не знаю, где ее искать.
– Ладно, согласились. Но только здесь меня больше ничто не держит. А как с голодухи подохну, не плачь... – она снова начала медленно болтать ногами, глядя в противоположную стену. У нее было передо мной преимущество – своего рода проект с уже достигнутым в уме результатом. И играла она по-взрослому.
– Пожалуйста, давай попробуем рассуждать логически. Адальджиза уже оплачивает мою учебу. Какой ей смысл брать на себя заботу еще и о тебе? Ты, между прочим, не ее дочь, – я почувствовала, что взмокла.
– Например, из-за моей тоски по тебе, раз уж на то пошло. Адальджиза ведь забрала тебя на несколько лет, а потом вернула обратно.
Чтобы пресечь ее нападки, мне пришлось перейти в глухую оборону:
– Она сделала это только потому, что была больна и не могла обо мне позаботиться. Она хотела меня защитить!
Если бы Адриана в этот момент взглянула мне в лицо, может, она бы и остановилась. Но ее глаза все еще блуждали по грязной белой стене напротив и не видели моего отчаяния.
– Больна, конечно! Большая, а все в сказки веришь! Беременная она была, вот и тошнило. Или об этом ты тоже не подумала?
– Какая же ты набитая дура! – воскликнула я, покачав головой. – Она же бесплодна, потому и меня удочерила.
– А я думаю, это муж у нее импотент. Как бы то ни было, сейчас у нее есть ребенок, и вовсе не от карабинера. Вот с чего вся эта катавасия.
– Да что ты понимаешь, сплетница безмозглая! – и я отвернулась, задыхаясь от отвращения. Кровь яростно пульсировала в висках, сердце билось, словно кулаки плененного черта.
– Все об этом знают. Я слышала, как мама с папой обсуждали: мол, ребеночек-то растет, а на крещение так и не позвали, нехорошо.
Вот так и вышло, что в рождественский Сочельник 1976 года Адриана открыла мне всю правду. За праздничным столом только мы вдвоем ничего не ели, иначе бульон из артишоков с клецками чудесно расцветил бы снег, выпавший на день Св. Стефана[15].
Я сидела на верхнем ярусе двухэтажной кровати, которую Адальджиза прислала нам годом раньше, и мне нечего было ответить. Тогда, схватив ее за левую руку, я как можно глубже погрузила ногти в плоть, вновь открыв старую рану. Мы молча смотрели, как из царапин от единственного оставшегося у меня оружия потекла кровь. Адриана не кричала и не пыталась увернуться. Наконец я выдернула ногти из раны и пнула ее в спину, стремясь одним ударом сбросить на пол. Но она уже не раз падала сверху и умела приземляться. А я рыдала так отчаянно, как еще никогда в жизни.
Потом я легла и больше не двигалась. Тело продолжало пульсировать, дышать само по себе. Адриана поняла, что наверх забираться не стоит, и съежилась внизу, всего в нескольких сантиметрах от эпицентра моей ненависти.
30
Так вот что за странный звук я слышала на заднем плане, когда Адальджиза звонила мне в бар Эрнесто: плач ребенка. Ее ребенка. И мужской голос, чуть ниже знакомого мне, который звал ее по имени, – наверное, сказать, что малыш проснулся. Я тогда еще спросила: «Это папа?» – а она в ответ: «Нет, телевизор». Телевизор, значит? Ну-ну.
Целыми днями в постели, тошнота первых месяцев беременности – и никакой тяжелой болезни. Внезапные слезы в наши последние недели вместе (а я-то все думала, это из-за меня!), приглушенные голоса по вечерам за закрытой дверью спальни. Телефонные звонки и напряженное молчание, если трубку брала я. Постоянные уходы из дома – как правило, в аптеку или к врачу. Я схожу за лекарством, мама, просто дай мне рецепт. Нет-нет, мне уже легче, а свежий воздух только пойдет на пользу. Но как-то, случайно проходя мимо амбулатории, я увидела, что та закрыта, а она в тот день вернулась гораздо позже обычного и отговорилась посещением врача.
Сидя у окна в едва ползущем автобусе, я снова и снова перебирала в уме приметы, которых раньше не замечала, и каждый раз припоминала что-то новое. Скажем, ее пачка прокладок в ванной: точнее, полпачки, всегда одни и те же полпачки. Или ставшая почти ежедневной занятость в приходе – я ведь уже большая, могу посидеть дома одна. Конечно, у Адальджизы была важная работа: она учила детей катехизису и, слушая, как они читают «Символ веры», всегда отбивала такт пальцами по молитвеннику – я не раз видела это, пока она еще брала меня с собой.
Под предлогом домашних заданий, которые нужно сделать в тетрадке, забытой у синьоры Биче, я решила вернуться в город пораньше, задолго до конца зимних каникул. К тому же мне срочно понадобилось задать ей один вопрос, да и, в любом случае, вынести хотя бы день в доме, где, как сказала Адриана, «все об этом знают», я бы не смогла. Той ночью мне хотелось умереть от стыда: приемная мать вернула меня, потому что у нее родился собственный, родной ребенок, и все об этом знали. Все, кроме меня.
В первые, самые мрачные часы после неожиданных известий я пыталась перестать дышать. Это ведь так просто: задерживаешь дыхание, будто ты под водой, и молча ждешь, пока весь кислород не растворится в крови, заставляя провалиться в сон, все более и более глубокий, постепенно переходящий в смерть. Но дойдя до последнего предела, я не выдержала и шумно вдохнула, как ныряльщица, хватающая ртом воздух, чтобы выжить. Мир, каким я его знала, рушился, распадался на части, и небо падало прямо на меня, словно картонная декорация.
Когда в окне забрезжил рождественский рассвет, за стеной проснулся отец. Вскоре раздался ритмичный скрип старой разболтанной сетки: я не слышала его со дня смерти Винченцо.
Потом в кухню вышла мать. Я стояла у окна. В сумраке она не сразу меня заметила и испуганно отпрянула.
– Почему ты мне не сказала, что она ждет ребенка?
Мать развела руками и медленно покачала головой, словно ждала этого вопроса давным-давно, но до сих пор не знала ответа:
– Я хотела, чтобы ты услышала это от нее, но время шло, а вы так и не увиделись.
– И кто отец?
– Не знаю. С мужем у нее все никак не получалось ребенка-то завести, а от того, другого, она в два счета забеременела.
– Наверное, это кто-то из ее прихода, она там целыми днями торчала, – подумала я вслух и тоже села, опершись локтем на стол.
– Ну, точно не священник, – попыталась отшутиться мать, сразу вскочив на ноги. – Я сделаю кофе, хочешь? Ты же теперь большая.
Она завозилась с кофеваркой, зазвенела ложка. Я старалась не смотреть в ту сторону. Через пару минут послышалось бульканье, потянуло знакомым ароматом. Я дернулась, схватила ее за руку, и пластиковая чашечка, которую она несла мне, крохотная, на один глоток, опрокинулась.
– Почему ты сама мне не рассказала?
Не став выговаривать мне за кофе, она оставила горячую лужу растекаться по столу до самого края: вот упала одна капля, за ней другая – судя по запаху, уже с сахаром. Я продолжала сжимать ее запястье, кожа под ногтями побелела.
– Не хотела причинять тебе боль, все ждала, пока ты подрастешь.
Резко разжав пальцы, я оттолкнула ее руку.
– Где они?
– Кто?
– Адальджиза и ребенок.
– Да не знаю я, где она прячет этого ублюдка! Даже поздравить толком не смогла! – она наконец схватила тряпку и принялась вытирать со стола. Кофе продолжал капать на пол. – Только не устраивай тут сцен, как эта, что есть отказывается. Может, тебе тоже яйцо сбить? Я их много на Рождество запасла.
Но когда она обернулась, меня рядом уже не было.
Следующие несколько дней мы с Адрианой не разговаривали, хотя я постоянно чувствовала ее виноватый взгляд. Он почти не ходила к вдове и всегда была рядом, старательно соблюдая дистанцию. Как-то, читая в постели, я уронила книгу, но не успела даже потянуться, как сестра уже по-кошачьи спустилась по лестнице и подняла ее.
– Как тебе, ничего? – спросила она, раскрывая томик на середине.
– Да вроде, я только начала.
Она опустилась на колени, продолжая перелистывать страницы:
– Черт, картинок нет. А можешь дать почитать, когда закончишь? Я же теперь в средней школе, пора переходить к романам.
– Ладно, – кивнула я, и она радостно полезла обратно.
Голодовку Адриана прекратила, и я осталась единственной, кому кусок не лез в горло: все, что я пыталась проглотить, казалось мне горьким, как микстура, но приходилось съедать хоть немного, чтобы не привлекать внимания.
Книгу я оставила на Адрианиной подушке. Ее не было дома, а я опаздывала и ушла, не попрощавшись, но уже на улице услышала знакомые шаги и вскоре она, слегка запыхавшись, меня догнала.
– Мария привязалась, что твой репей, каждую минуту дергает: то одно, то другое. Сейчас вот просила помочь мебель передвинуть, так я сбежала.
Взявшись за вторую лямку, сестра помогла мне тащить сумку, так что, подходя к остановке, мы практически держались за руки.
– Наверное, иногда меня заносит, – призналась она, с трудом переводя дыхание после лестницы.
– Не твоя вина, что ты сказала правду, просто правда у нас такая, неправильная, – ответила я и, обернувшись уже с подножки автобуса, добавила: – Я спрошу синьору, не найдется ли у нее местечка для тебя. Ты права, она очень добрая.
Впрочем, когда дверь распахнулась, губы мне жег совсем другой вопрос: если честно, я уже и думать забыла про Адриану, пусть и ненадолго. Но синьор Джорджо оказался дома один: его жена и дочь были в больнице. Оказывается, Сандра умудрилась сломать ногу, хотя даже не упала, – я чуть не прыснула, представив, как кость трещит под тяжестью этой туши. Утром ее выпишут, а пока мать останется с ней, так что мне придется подождать. Тогда я позвонила Патриции, и та пригласила меня поужинать с ними: мы время от времени виделись с тех пор, как я вернулась в город.
Но стоило мне надеть пальто, как в замке повернулся ключ: это пришла синьора Биче. Она очень торопилась и заскочила буквально на минутку, что-то забрать. Я из вежливости спросила про Сандру, но в ответ не вслушивалась, настолько мне было плевать.
– Я тут потеряла тетин телефон, не запишете мне ее номер?
Она слегка удивилась, вероятно, припомнив мою сдержанность при упоминании Адальджизы: мне так и не удалось понять, что она вообще обо мне знает, кроме, разумеется, того факта, что тетя оплачивает мою учебу.
– Прости, он у меня, конечно, был, но потом твоя тетя переехала, а я забыла записать новый.
– Но... как же вы получаете деньги? – спросила я, не поднимая глаз.
Она на мгновение запнулась: наверное, задавалась вопросом, стоит ли говорить.
– Она привозит их сама в последнюю пятницу каждого месяца.
Естественно, по утрам, пока меня нет дома, иначе мы бы встретились.
– Одна? – вырвалось у меня.
– Да. А теперь прости, я спешу: Сандра ждет, – но вместо того, чтобы выйти, она сделала два шага в сторону ванной и остановилась. Я так и стояла у двери, взявшись за ручку. – До конца каникул далеко, а ты уже вернулась и ходишь мрачнее тучи. Хорошо хоть к подруге поедешь, отвлечешься немного. А решишь там заночевать – не бойся, я разрешаю.
31
Кусочек кекса лежал передо мной на столе, покрытом скатертью с рождественскими узорами. По ее краю вереница оленей тянула набитые подарками сани – правда, первый в этой цепочке был уже обезглавлен краем ткани, да и остальных, похоже, ждал тот же конец.
– Тоже не любишь цукаты? – спросила мама Патриции, видя мою нерешительность.
И тут же, словно бог знает каким образом высвобожденные этими словами, слезы хлынули из моих глаз прямо на засахаренные фрукты, изюм и сладкую желтоватую мякоть кекса. Застывшая на соседнем стуле Пат напряженно уставилась на мать. Ванда молча махнула рукой, и ее муж ушел в гостиную, включив погромче телевизор. Если не считать этих звуков, ужин оказался до странного тихим: только скрежет ножей, изредка задевавших тарелки – и все. Наверное, так поминают старых кошек.
– Она, оказывается, не болела, просто забеременела, – повторяла я, вытирая щеки красной салфеткой. – И как я только сразу не поняла, еще до того, как меня в деревню отправили?
– Значит, ты была к этому не готова, – сказала Ванда, пересаживаясь поближе.
– И потому они меня отослали? А что мне нужно было сделать? Уж конечно, я бы помогла ей с малышом.
– А сама она что говорит?
– Ничего. Это сестра случайно узнала.
Ванда недоверчиво приобняла меня за плечо. Я прижалась щекой к ее мягкому шерстяному свитеру и устало закрыла глаза. Мне хотелось, чтобы она молчала и не двигалась, подарив мне покой, пускай всего на несколько минут, дав возможность ощутить тепло живого тела, раствориться в его запахе и ненадолго забыться.
– Стоит ли доверять девчачьим выдумкам? Уверена, рано или поздно Адальджиза поговорит с тобой и все тебе объяснит.
Я услышала, как внутри у нее, прямо там, куда я прижалась ухом, все клокочет от возмущения и резко выпрямилась.
– Зато теперь я знаю, когда она является платить синьоре за очередной месяц: утром, пока я в школе. Ничего, в следующий раз мы не разминемся!
Послышался голос Николы: он звал Ванду ответить на срочный телефонный звонок.
– Давай я побуду с тобой, посижу в соседней комнате, – предложила молчавшая все это время Пат.
– Нет. Я должна сделать это сама.
– А знаешь, я ведь видела как-то Адальджизу с младенцем и ее нынешним мужиком, – выпалила Патриция, будто ей это только сейчас пришло в голову. – Знаешь вдовца из ее прихода, такой мускулистый парень, красавчик?
Поскольку вдовцы меня не интересовали, я его почти не помнила: ну, женился когда-то в нашей церкви, а после смерти жены иногда заходил вечерами – но для порядка немного обиделась на Пат. И почему она вечно вспоминает обо всем в последний момент?
– Ну а ребенок? – спросила я после долгого молчания.
– Да кому нужно на него смотреть? Я была слишком занята разглядыванием его отца. И потом, он же спал.
– Но ты хотя бы видела, кто держит его на руках?
– Это да. Адальджиза, конечно.
Даже не сводный брат, подумала я, ведь она-то мне не мать.
Патриции хотелось посплетничать еще, но тема оказалась для меня слишком болезненной, и вернувшаяся в комнату Ванда услышала только последнюю фразу.
– Вот уж ты бы лучше помолчала, – сказала она, бросив на дочь сердитый взгляд.
Мы сидели, скрестив ноги, на индийском ковре в ее комнате при свете разноцветного ночника с прикроватной тумбочки, и Пат уговаривала меня пойти с ней на вечеринку через неделю: похоже, так и не поняла, что у меня нет ни сил, ни желания. Она перечисляла знакомых ребят, которые, конечно же, ни за что не пропустят такое событие, потом показала мне свои первые туфли на шпильке, купленные в каком-то модном магазине в центре. Я могла бы надеть туфли ее матери, настаивала она, у нас же один размер. В самый разгар спора Ванда зашла пожелать нам спокойной ночи, и Патриция попросила ее помочь меня переубедить. Я снова повторила, что вечеринки меня не интересуют.
– Тебе нечего стыдиться того, что произошло, у тебя ведь не было выбора. Тут во всем виноваты одни лишь взрослые, – сказала она, погрозив пальцем куда-то в небо.
– Ну спасибо, подруга! Я, пожалуй, не отказалась бы поразвлечься в компании парней и девчонок, да вот только чувствую, что развлечения у нас разные. Раньше я считала себя одной из них, но это все оказалось враньем, и теперь твердо знаю, что судьба приготовила для меня что-то другое, – выпалила я, обращаясь только к Ванде, будто Патриция не сидела на ковре прямо передо мной.
– Судьба – это слово для стариков, ты не можешь всерьез верить в это в свои четырнадцать. А если все-таки веришь, так измени свою судьбу. Ты и правда не такая, как другие, ты гораздо сильнее. После всего, что с тобой случилось, ты по-прежнему твердо стоишь на ногах, чистенькая, аккуратная, со средней «восьмеркой» за первый триместр. Мы тобой гордимся, – ответила она, взглянув на дочь, словно ожидая поддержки.
– Вы даже представить себе не можете, каких усилий мне стоило остаться, как ты говоришь, чистенькой-аккуратненькой и продолжить учиться.
Она со вздохом опустилась на кровать.
– Знаю, знаю. Но постарайся держаться и не отвлекайся на дурные мысли.
А Патриция схватила меня за руки и крепко сжала:
– Ты же моя подруга, между нами все как прежде.
– Между нами – да, – и я потянулась к ней, пока мы тихонько не стукнулись лбами.
Вниз по улице двигалась вереница карет: близилось Крещение.
32
Я разделась в тусклом свете уличных фонарей. Ясное небо над городом тоже будто светилось изнутри. Откинувшись в разложенном еще с лета на балконе синьоры Биче шезлонге, я принялась стягивать пижаму, сперва верх, потом низ, за ней по очереди носки и теплую нижнюю сорочку. На груди бледными точками отражались звезды. Сандра в комнате уже видела десятый сон, ее нога в гипсе напоминала замотанную в одеяло колонну.
Холод проникал в мое тело постепенно, но именно этого я и добивалась: ему просто нужно было время. Дрожа, вздрагивая, стуча зубами, я твердо вознамерилась хотя бы полчаса продержаться на морозе совсем голой. Будильник, привезенный с собой из деревни, я сперва держала в руке, наблюдая за почти незаметным движением светящейся минутной стрелки, потом положила на пол и снова села в шезлонг. Соски болезненно сжались, пальцы ног, самая удаленная от сердца часть организма, уже омертвели. Уставившись на яркие цифры и так медленно ползущую зеленоватую стрелку, я не сдавалась, повторяя про себя все то, что должна сказать завтра. Это была ночь с четверга на пятницу, последнюю пятницу января, и наутро мне нужно было заболеть.
К восьми часам, когда за матовым стеклом двери появился неясный силуэт не подозревавшей о моих ночных гуляниях синьоры Биче, я уже горела в лихорадке. Услышав кашель, она нашла в дочкиной тумбочке градусник: температура подскочила за тридцать восемь.
– Оставайся-ка дома. Я принесу тебе завтрак, – и она направилась в сторону кухни, но не сделав и пары шагов, вдруг задумчиво обернулась.
Я лежала в постели с книгой в руках, хотя не могла даже закончить страницу: прочитанные строчки тут же вылетали из головы, и мне приходилось заново перечитывать весь абзац. Услышав долгожданный звонок в дверь, я вздрогнула, но это был всего лишь почтальон: заказное, распишитесь здесь. Попыталась поболтать с Сандрой, когда та проснулась, – еще несколько песчинок в бездонную пропасть времени. В одиннадцать, наконец, появилась Адальджиза. Пока она поднималась по лестнице, синьора Биче на секунду заглянула в комнату, вопросительно взглянув на меня.
– Мне нужно с ней поговорить, – прошептала я.
– Ладно, как покончим со счетами, я тебя позову, – кивнула она, закрывая дверь.
Послышались шаги, тихий скрип, потом за женщиной, которая меня воспитала, щелкнул замок. Два голоса, сдержанные приветствия: Адальджиза ведь не знает, что я напряженно слушаю. Они прошли на кухню: наверное, станут пить кофе. Через несколько минут громыхнул отодвинутый стул, и я, испугавшись, что она снова сбежит, решила не ждать, пока меня позовут.
Взгляд, брошенный на меня, до сих пор остается одним из самых ярких моих воспоминаний о ней – и, наверное, самым болезненным: ее глаза наполнились беспросветным ужасом, как у загнанного в ловушку животного, мечущегося в поисках выхода, или преступника, которого преследует призрак давно сошедшей в могилу жертвы. Хотя это была всего лишь я, вчерашний ребенок, а дети не внушают ужаса.
Она отшатнулась, но осталась сидеть, восстановив равновесие легким движением плеч. Огромная родинка на подбородке казалась темнее, чем раньше, – наверное, из-за бледности лица. Адальджиза сбрила росшие на ней волоски, и та стала почти плоской. На ореховой столешнице, возле сахарницы, лежали деньги, ее ежемесячная плата за мой пансион.
– Почему ты не в школе? – выдавила она, с усилием растягивая накрашенные ярче обычного губы.
Я не ответила: от жара едва стояла на ногах, да и то держась за стену.
– У нее температура, – вмешалась синьора Биче, – но она очень хочет что-то обсудить. Ступайте в столовую, там вас никто не потревожит
Адальджиза шла впереди, неуверенно покачиваясь на каблуках своих замшевых туфель. В белесом сумраке я заметила, что она слегка раздалась, округлилась и выглядела теперь более женственно, а налившаяся грудь грозила порвать зеленое шерстяное платье. Мы вошли в обычно пустовавшую комнату и, как велела хозяйка, сели за большой прямоугольный стол. Потом синьора Биче вышла, а мы остались сидеть в тишине, лицом к лицу.
Я неторопливо разглядывала ее, стараясь сразу не сорваться на обвинения. Во мне клокотала ярость, но вдруг, впервые за долгое время, пришло и странное спокойствие. В конце концов, я ждала целых полтора года, теперь ее очередь.
Она наконец оторвала руки от подола и выложила их на стол. На пальцах не было ни единого кольца, даже на безымянном. Ребенок, вспомнила я. Интересно, кто сейчас за ним присматривает? Скоро полдень, а она даже не собирается домой. Вырвавшийся вздох приподнял подвеску на груди, заставив ее заиграть бликами.
– Я всегда тебя любила и до сих пор люблю, – начала она.
– А мне плевать на твою любовь. Хватит, насмотрелась. Скажи лучше, зачем ты меня отослала.
– Для меня это тоже было нелегко. Даже и не знаю, что ты там себе напридумывала... – ее палец двигался вдоль резного края столешницы.
– Что я напридумывала? Это ведь ты рассказала мне лживую сказочку о любящей семейке, мечтающей вернуть меня обратно. А в деревне все знали да помалкивали. Я оставила тебя в постели, измученную тошнотой, считая, что ты тяжело больна. Беспокоилась о тебе, переживала! Звонила – никто не отвечал, дважды приходила домой – упиралась в запертую дверь. Я убедила себя, что ты при смерти и лежишь в какой-то далекой больнице, прождала несколько месяцев, надеясь, что ты выздоровеешь и заберешь меня...
Она промокнула слезы носовым платком, который взяла из мешочка, висевшего на спинке соседнего стула, и повторила, покачав головой:
– Для меня это тоже было нелегко.
– Ты могла просто сказать мне правду! – выкрикнула я, перегнувшись через стол.
– Ты была еще слишком мала для правды. Я хотела подождать, пока ты немного подрастешь.
Они что, сговорились? Кашель, который до сих пор все не осмеливался меня прервать, наконец проявил себя, позволив нам короткую передышку.
– Разве не ты талдычила мне изо дня в день, что брак – это неразрывный священный союз?
– У малыша должен быть отец, и отец должен быть рядом. – (О, начались оправдания!) – Понимаю твой гнев, но решение было не только моим.
– Могла бы разрешить мне уехать с вами, просто побыть рядом, – пытаясь говорить спокойнее, чтобы не разрыдаться, я вдруг поняла, что чувствую каждый градус внутреннего жара – и смертельную усталость, от которой не было лекарства.
– Я старалась устроить все самым лучшим образом и не хотела тебя отсылать. Просто так вышло.
– А муж твой что же, ничего не сказал? Или он тоже не пожелал взять меня к себе?
– Для него это было очень трудное время. Он был тогда сам не свой.
Она скрестила руки на коленях и опустила голову. Я откинулась на спинку стула, стараясь сосредоточиться на хрустальных капельках-подвесках люстры: мне померещилось, что они дрожат, как при землетрясении, но это был всего лишь озноб.
– Ты ведь ни разу не пыталась со мной встретиться, даже наоборот, нарочно меня избегала.
– Говорю же, я все ждала подходящего момента и старалась тебе помочь хотя бы издалека.
Мне казалось, что я кричу, – не помню, так ли это было или слова падали у меня изо рта вяло и безразлично, словно мне было плевать. В конце концов, а что я могла сделать? Даже пуговица от пижамы, которую я мучительно крутила пару минут, просвистела мимо, не задев ее.
Мы замолчали. Потом, когда ее накрашенные губы окончательно превратились в сдвоенную тонкую линию, она виновато пожала плечами.
– Знаешь, а мне ведь все-все про тебя рассказывали. Поверить не могу, что ты винишь в своих неприятностях именно меня.
– А, брось, – я отвернулась и принялась разглядывать гравюру на стене с изображением средневековой Флоренции. С кухни донесся запах мясного соуса, который готовила синьора Биче, потом щелканье замка, открылась и снова закрылась входная дверь: это синьор Джорджо вернулся к обеду.
– Ну, теперь-то ты счастлива? – мне наконец удалось протиснуться в узкую щелочку между потоком обвинений и откровенным любопытством. Не ответив, она достала из сумки кошелек, осторожно вытащила фотографию, улыбнулась ей и положила на стол, с довольным видом подтолкнув в мою сторону. Я едва не поддалась порыву порвать карточку в мелкие клочки прямо у нее на глазах, но решила, что должна быть выше этого, поэтому, даже не потрудившись взглянуть, перевернула фото и щелчком отправила ребенка обратно к матери. Она успела подхватить кусок картона раньше, чем тот упал со стола.
В кухне зазвенела вилками синьора Биче. Адальджиза встрепенулась, с удивлением взглянула на маленькие золотые часики, которые я помнила у нее на запястье с самого детства, и поднялась. Я осталась сидеть, понимая, что по-прежнему знаю не больше, чем раньше.
– Задержись еще на секунду, пожалуйста. Нужно помочь моей сестре, Адриане. Ей нельзя оставаться в деревне.
– В каком она классе? – Адальджиза даже не пыталась скрыть нетерпение.
– Только перешла в среднюю школу.
– Поговорим о ней в следующий раз. Не волнуйся и помни: я рядом. А пока не забывай про учебу. Если что понадобится, звони, – она вырвала страницу из записной книжки, наскоро записала свой новый номер и вдруг замерла, словно забыв про спешку: наверное, пыталась понять, целовать ли меня на прощанье с такой-то температурой. Мое поведение, должно быть, обескуражило ее, и она так и застыла по ту сторону стола. Я тоже встала, на ватных ногах проковыляла к окну, словно ее уже не было в комнате, и выглянула на улицу: мостовую и балконы соседнего дома совсем засыпало снегом. Мимо проехал автобус, который вез детей домой из школы.
33
С той январской пятницы Адальджиза не прекращала меня удивлять. Я думала, мы не увидимся еще бог знает сколько времени – может, вообще никогда: в конце концов, никто не мешал ей, как и прежде, тратиться на меня издали. Она же позвонила через два дня. Синьора Биче, пристально взглянув на меня, ответила: «Да, дома», – но я покачала головой, мол, приспичило в туалет, заперлась изнутри и, сидя на краю ванны, слушала, как они меня обсуждают: занимается усердно, голодной не ходит – в общем, все как у всех. Потом она позвонила еще раз, и отвертеться уже не удалось.
– Я тут подумала, не записать ли тебя снова в бассейн? Могли бы зайти вместе как-нибудь вечерком.
– Мне это больше не интересно, – ответила я, ни на секунду не задумавшись.
– Тогда может, балетная школа?
– Тем более.
– Но тебе же так нравилось, – пыталась настаивать она, – и потом, снова увидишься с подружками.
– Они, небось, обо мне и думать забыли. Прости, ужин стынет.
Я больше не хотела, чтобы она была частью моей жизни, хотя, отвергнув балет, всю ночь промучилась, как от тяжести в желудке: мне это действительно нравилось.
Однажды в дождливый день (хотя с утра на небе не было ни облачка) я увидела ее у дверей школы: в суматошной толпе родителей, пришедших спасти своих детей, лишь она стояла спокойно – одна под огромным мужским зонтиком. Я попыталась отступить, спрятаться, но ватага мчавшихся к выходу мальчишек буквально вынесла меня наружу. Она улыбнулась и кивнула: значит, действительно ждала. Бежать было некуда.
– Я и не сомневалась, что ты не взяла зонтик: с утра было такое солнце.
Она предложила мне руку, но я сделала вид, будто не заметила, и пошла рядом, надеясь, что никто из одноклассников не привяжется с расспросами: ведь и сказать-то нечего.
И в то же время на меня вдруг накатило внезапное облегчение, манящий соблазн хотя бы на пару минут снова стать такой же, как все: за мной ведь тоже кто-то пришел сквозь февральский ливень.
Она посетовала, что машина как назло припаркована слишком далеко, придется пройтись под дождем: подумать только, как льет! Но вот наконец и мокрая синяя малолитражка. Пока я забиралась внутрь, она держала зонтик надо мной, потом сложила его и села за руль. Здесь все еще пахло кислым с тех пор, как много лет назад опрокинулась бутылка с уксусом, но аромат ее духов был куда сильнее: у меня сразу закружилась голова. Помню, по утрам она всегда чуть смачивала виски и запястья – я выучила эти жесты наизусть и не раз повторяла их перед зеркалом.
На приборной панели обнаружился магнитик с изображением архангела Гавриила, маленькой цветной фотографией младенца и надписью: «Не спеши, вспомни обо мне», а рядом – мой старый, давно выцветший черно-белый снимок. Я смотрела, как капли дождя бьются о лобовое стекло, и, пока мы не доехали, не произнесла ни звука.
– Тут немного мяса с овощами, только сегодня потушила, можно разогреть, – сказала она у двери, протягивая завернутую в салфетку кастрюлю.
Прежде чем войти в квартиру, мне пришлось пару минут постоять на лестнице и отдышаться. Что происходит? В чем секрет этой внезапной Адальджизиной дружелюбности? Меня это смущало и даже немного пугало: стоило отказаться от нее, перестать ей верить, как она после нашей вынужденной встречи, напротив, становится все добрее, приветливее, и меня снова к ней тянет. А самое страшное, что я действительно хочу быть с ней, хоть и боюсь себе в этом признаться.
Несколько следующих недель я о ней не слышала: казалось, она снова исчезла. Вымытая и тщательно вытертая кастрюлька из-под мяса ждала на полке в кухне синьоры Биче. А что, если моя грубость ее оттолкнула? Нет, не может быть, это всего лишь очередной перерыв: со временем мне удалось привыкнуть, что она то появляется, то опять более или менее надолго исчезает. У нее нечасто получалось оторваться ради меня от своей новой семьи, а я, хоть и напускала на себя обиженный вид, сама того не сознавая, ждала каждого ее прихода, пока не перестала чувствовать в ней необходимость.
Готова поклясться, ее визиты меня не трогали, но при любом звонке в дверь я вздрагивала, а когда она принесла кофточку моего любимого цвета, буквально выдернула пакет у нее из рук.
– Мне показалось, красная симпатичнее. В талии не узко?
Я пожала плечами, даже не попытавшись примерить, и направилась в комнату, чтобы спрятать обновку в шкаф. Она зашла следом за мной, огляделась и задумчиво произнесла:
– Тут тесновато. Прости, что долго не навещала, я совсем с ног сбилась. Гвидо вечно на работе, а приводить жилье в порядок с малышом на руках можно годами, – оказывается, она вернулась в наш старый домик у моря, потому и пропала так надолго.
Надо же, я ведь и не знала, как зовут того, кто изменил всю нашу жизнь. А с какой лучезарной улыбкой Адальджиза произносила имя сына: Франческо – в честь святого, которому чаще всего молилась. Я слушала очень внимательно, хотя и отвернулась, чтобы этого не показать.
– И кровать твоя по-прежнему на месте, – пробормотала она едва слышно, поглаживая абруцезское шерстяное одеяло, согревавшее меня по ночам.
Она опять привезла полную сумку подарков: носки, серебряный браслетик, гигиеническая помада для моих постоянно трескающихся губ... Я приняла их без смущения, но и без благодарности, и пока она выкладывала все это на тумбочку, размышляла, что отвезти сестре.
– Зайдешь к нам в воскресенье на обед? – вдруг спросила она.
– На выходные надо поехать в деревню, – ответила я, не поднимая глаз.
– Ну, значит, в другой раз.
Но воскресенья шли и шли, а «другой раз» все не представлялся.
На Пасху, в редкий момент близости, я рассказала матери о приглашении. В кухне мы были одни: я помогала ей чистить освященные яйца.
– Соглашайся. В конце концов, это ведь Адальджиза тебя вырастила.
В последнее время она не раз пыталась смириться с визитами родственницы – возможно, чувствуя к ней некую неосознанную благодарность за то, что воспитала меня не такой, как остальные ее дети.
– Кабы не она, ты заместо учебы была бы нынче в деревне поденщицей, а с ней ни горя, ни нищеты не знала, тем паче голода, – попрекала она меня. – Да, оплошала она, с кем не бывает, но не станешь же ты всю жизнь из-за этого губу дуть?
Сама Адальджиза о воскресном обеде больше не заговаривала, но я чувствовала, что это стало ее навязчивой идеей. Встречались мы по-прежнему у синьоры Биче, не считая пары случаев, когда она убедила меня сходить с ней в универмаг и, будучи в настроении, накупила целую груду вещей для меня и для малыша. Хаотично перемещаясь из одного отдела в другой, мы, наверное, снова выглядели, как мать и дочь.
В начале мая она наконец повторила свою просьбу: теперь, помимо волнения, в ней звучало какое-то странное беспокойство.
– Гвидо хотелось бы получше тебя узнать. Нам кажется, время пришло, – сказала она, несколько раз медленно и беззвучно соединив ладони, словно аплодируя собственным словам. – Не отвечай сейчас, лучше я позвоню в пятницу.
Синьора Биче, оглядев нас, ласково улыбнулась, а в пятницу, сняв трубку, на мгновение прикрыла микрофон рукой:
– Давай, соберись!
К моему удивлению, воскресным утром она настояла на том, чтобы я оделась поприличнее, а потом, позаимствовав у Сандры черный карандаш и тушь, сама подвела мне веки и накрасила ресницы (возможно, слегка перестаравшись). Вскоре, сгорая от желания поскорее за мной заехать, позвонила Адальджиза, но я заявила, что по такой чудесной погоде предпочитаю пройтись.
Впрочем, в последний момент я решила, что не очень довольна своим видом, и, не понимая до конца, для кого это делаю, добавила на бледные скулы немного румян, а потому опоздала на автовокзал. Адриана уже приехала и дожидалась меня, мрачно поглядывая по сторонам.
– Ты совсем спятила? Бросила меня совсем одну посреди города! Сперва звонишь мне к Эрнесто, заставляешь встать пораньше, а потом не изволишь явиться?
Не желая соваться к Адальджизе одна, я упросила ее пойти со мной и теперь об этом жалела: на ней было заштопанное платье и грязные ботинки, волосы, как обычно, лоснились от жира, хотя было воскресенье, банный день. Она перехватила мой взгляд:
– Если бы осталась помыться, пропустила бы почтовый фургон.
Я обняла ее.
– Автобус, Адриана! Ты должна сказать, что приехала на автобусе, никого не предупредив.
Рассмеявшись, мы по очереди поплевали на носовые платки и принялись начищать старые мокасины. Сестра хотела поболтать, но мне еще предстояло провести для нее инструктаж.
– Пожалуйста, постарайся говорить по-итальянски, а не на диалекте. Все, кроме хлеба, надо есть вилкой и ножом, не руками. Если не знаешь, как, смотри на меня. Когда жуешь, прикрывай рот и не облизывайся.
– Божечки, этак у меня никаких нервов не хватит. Такое ощущение, что мы премся на прием к английской королеве. Ты что, уже забыла, что она тебя выбросила, как ненужную тряпку?
– Не лезь не в свое дело. И веди себя прилично, если хочешь, чтобы Адальджиза помогла тебе перебраться в город.
Путь предстоял неблизкий, но завидев автобусную остановку, Адриана каждый раз настаивала на том, чтобы и дальше идти пешком.
Мы опоздали. Я позвонила у калитки в саду: звук был незнакомый, более мелодичный. Забор тоже поменяли – на сплошной, снаружи ничего не разглядишь. Бросив последний взгляд на потное лицо Адрианы, я заправила ее торчащие волосы за уши (может, так будет меньше заметно, какие они сальные) и еще раз повторила:
– Помни, что я тебе сказала.
Щелкнул замок, и мы вошли. Пахло скошенной травой. Вдоль газона в геометрическом порядке выстроились новые клумбы, чуть дальше высилось недавно посаженное дерево: земля под ним была еще совсем свежей. У меня пересохло в горле, сердце отчаянно колотилось в груди. В дверях возник мужчина в белой рубашке.
– Мы ожидали одну синьорину, никак не двух, – добродушно улыбнулся он и крепко пожал нам руки, как взрослым.
– Здравствуйте. Сестра решила устроить мне сюрприз, – извинилась я.
– Ничего, располагайтесь. Сейчас поставим еще одну тарелку.
Мы уселись рядом, застыв от страха: до меня наконец дошло, что дом, на первый взгляд, такой знакомый, больше никогда не будет прежним.
– Адальджиза подойдет буквально через минуту, она сейчас с ребенком: его нужно покормить и уложить спать ровно в двенадцать. Пока можете вымыть руки, ванная там.
– Да, я знаю, спасибо.
Адриана, и без того переминавшаяся с ноги на ногу, бросилась к двери. Та громыхнула: я успела забыть об этой ее особенности и задержалась, стараясь не грохнуть еще раз, а когда обернулась, сразу поняла, в чем причина такой спешки.
– Слава богу, а то я уже, кажись, трусы обмочила. Надеюсь, пахнуть не будет.
Мне без труда удалось успокоить ее (но не себя): очарованная богатым выбором косметики на полочке возле зеркала, она с трудом согласилась покинуть ванную. А я без часов совсем потеряла ощущение времени, и мне стало казаться, что для обеда уже слишком поздно.
В столовой никого не было, но из кухни доносились голоса и запахи: Адальджиза готовила рыбу. Я, как раньше, в прошлой жизни, почувствовала непреодолимое желание войти, взглянуть на плиту, попробовать что-то с пылу с жару, и остановилась, только уже сделав шаг: этот дом больше мне не принадлежал, я была здесь теперь лишь гостьей. Но комнату, свою комнату, хотела увидеть снова, пусть даже всего на миг.
– Адриана, пойдем, покажу тебе, где я спала. Буквально соседняя дверь.
Кровать действительно так и стояла на старом месте, но все мои книги, плюшевые зверюшки, куклы Барби, с которыми я играла, пока не перешла в среднюю школу, исчезли: полки теперь оккупировали кораблики в бутылках разных размеров, вплоть до самых маленьких, с парусами не больше почтовой марки. Один стоял на столе, уже помещенный в бутылку, но пока без палубы и с длинными нитками, привязанными к мачтам. Вокруг были аккуратно разложены инструменты: пинцет, набор стамесок, другие бог знает для чего нужные крошечные приспособления. Ничего связанного со мной в комнате не осталось.
– Нравится?
Я вздрогнула, но вопрос, как оказалось, был адресован Адриане: увлекшись воспоминаниями, я упустила момент, когда одна из бутылок попала в ее чересчур любопытные руки.
– Этот был из самых непростых для сборки, – гордо сказал он, словно открывая нам страшную тайну.
– Ты молодец, красиво получилось, – похвалила сестра.
– Отдай скорее обратно! – грозно прошептала я.
– Да нет, пусть посмотрит, любой бы заинтересовался, – это наконец появилась Адальджиза в синем платье, поверх которого красовался новенький кухонный фартук. Ничуть не удивившись, она тепло поздоровалась с Адрианой, спросила, как там родители, и та в ответ протянула вспотевшую от волнения руку.
– Помнишь, Гвидо, я тебе столько раз о ней говорила, и вот она здесь, с нами! Вы ведь уже познакомились?
– Конечно. И ты была права, девочка очень шустрая.
Меня она обняла чуть крепче обычного, шепнув спасибо и только что не подпрыгивая по-девчоночьи от радости, а потом проводила к столу, накрытому уже с учетом Адрианы. Увидев маленькую вилочку для десерта и тарелки с позолоченной каемкой, сестра совсем растерялась.
– И как мне с этим разбираться? По-моему, хватит одной вилки с ножом. Ну, и ложки, если суп жидкий.
Я наступила ей на ногу: хорошо еще, села рядом – как знала! Но Гвидо, устроившийся напротив, только улыбнулся:
– Не волнуйся, бери какие хочешь. Сама увидишь, эти крошки тоже кое на что сгодятся.
Потом он поинтересовался у Адрианы, нравится ли ей школа. Та пожала плечами: мол, сойдет.
– Про твои успехи не спрашиваю, Адальджиза только о них и говорит, – мне кажется или он пытается извиниться за чрезмерный интерес к сестре?
Разговор плавно перешел на деревню: оказывается, Гвидо в детстве ездил туда к родственникам, хотя помнил только бесконечные обеды и вкусную колбасу. Сестра в ответ описала окорока у Полсигары, способные, по ее мнению, мертвого из могилы поднять, – видимо, забыв мои инструкции, решила, что она с ним на равных. Я только вздрагивала каждый раз, как она открывала рот.
Счастливая Адальджиза сновала между кухней и столовой. Подавая закуски из морепродуктов, она первым делом поймала взгляд любовника, чтобы оценить его реакцию. Тот одобрительно кивнул. Адриана с отвращением вертела перед глазами насаженную на вилку креветку без панциря.
– Что-то не так? – спросил Гвидо.
– Ага, на червяка похоже! – радостно ответила она, откусив половину.
Они принялись рассказывать анекдоты о людях, по каким-то причинам поедавших червяков или личинок. Кусок не лез в горло, я взмокла и даже перестала наступать Адриане на ногу при каждой неуместной выходке: в конце концов, такая уж она есть.
Подавая спагетти с моллюсками, Адальджиза случайно плеснула маслом прямо на рубашку Гвидо.
– Прости, дорогой, сейчас принесу тальк!
Он откинулся назад, на спинку стула, чтобы облегчить ей задачу, и она несколько минут медленно, ласковыми поглаживаниями втирала порошок в пятно, пока наконец не села на место. Я никогда не видела, чтобы она так вела себя с мужем.
– На этот раз без песка? – опасливо поинтересовался Гвидо.
– Офигенные, – пробормотала Адриана с набитым ртом, хотя вопрос был адресован вовсе не нам.
– По-моему, ни единой песчинки, они просто слегка подсоленные, но это ничего, иначе были бы перемороженными.
Тут послышался тоненький голосок, зовущий маму.
– Раненько он сегодня проснулся. Ну, не беда, зато теперь вы все-таки познакомитесь, – поднялась Адальджиза.
– Нет, дорогая, останься с нами и поешь. Франческо должен соблюдать режим.
– Но он же станет плакать, – тихо возразила она.
– Мы ввели режим не просто так, а по настоянию педиатра. И потом, плачет он сейчас или смеется, все равно скоро опять заснет. Давай, – он указал на блюдо, – а то совсем остынут.
Она послушно села, но на самый краещек стула, задумчиво накрутила спагетти на вилку и замерла без движения. Время от времени, когда ребенок замолкал, лицо Адальджизы светлело. Один раз она, как и просил Гвидо, даже почти донесла вилку до рта, но тут плач возобновился с новой силой.
Он выпил белого вина из хрустального бокала и промокнул сухие губы салфеткой.
– И не пытайся настаивать: пусть себе вопит за закрытой дверью, мы не станем обращать на него внимания, – в подчеркнуто безразличном тоне не осталось и следа веселости.
Я повернулась к Адриане, ковырявшей ракушку кончиком ножа.
– А, не стоит ради этого утруждаться, – заявила она, бросив и то, и другое в тарелку.
Ракушка зазвенела по фарфору, но этот звук сразу же перекрыл очередной крик ребенка. Его отец забарабанил пальцами по столу, потом поднялся. Мы трое не сводили с него глаз, уверенные, что он пойдет к сыну, но Гвидо направился на кухню: Адальджиза совсем забыла про горячее, запеченного сибаса с картошкой. Осознав свою ошибку, она расстроенно всплеснула руками.
– Может, пойди да и возьми его, а? – шепнула Адриана, воспользовавшись тем, что мы ненадолго остались одни.
Она не ответила – я даже не уверена, что услышала. Гвидо вернулся с противнем, поставив его прямо на кружевную скатерть, снял с рыбы кожу, вынул хребет, щедрой рукой разложил по тарелкам огромные куски, добавил гарнир и, пытаясь растянуть губы в улыбке, велел нам есть. Воздух дрожал от детских криков.
– Может, у него что-то болит? – умоляющим тоном предположила Адальджиза.
– Ничего, пять минут – и заснет. Это все детские капризы.
Он снова ушел на кухню, принес корзинку хлеба, потом попытался заменить ей давно остывшие спагетти на рыбу, но она отвернулась, словно не желая даже видеть тарелку. По сторонам рта залегли две глубокие складки, вдруг превратив ее в старуху.
Адриана попробовала кусочек, остальные к еде даже не притронулась. Если бы не раздававшиеся в нескольких метрах рыдания и вопли, за столом повисла бы гробовая тишина. В какой-то момент малыш притих и даже замолчал (Гвидо радостно кивнул), но практически сразу заорал еще громче.
Сама безумно страдая, я не могла понять, как держится Адальджиза: похоже, Гвидо одним своим взглядом был способен пригвоздить ее к месту.
Эти двое не заметили, как Адриана встала из-за стола. Что касается меня, я не сомневалась, что ей срочно понадобилось в туалет, но наполнившие дом вопли парализовали и мой разум, и мое тело. Должно быть, они длились не больше нескольких минут, но время под изменивший весь этот день крик тянулось бесконечно. Адальджиза сидела на стуле, без сил откинувшись на спинку и уставившись в точку где-то возле люстры, тушь на левом глазу потекла. Гвидо водил кончиком пальца по золоченому краю тарелки. Потом я увидела, как он вздрогнул, заметив что-то за моей спиной, и обернулась.
Адриана держала малыша на руках, легкими движениями укачивая его. Раскрасневшееся личико еще кривилось, взмокшие от пота пряди волос липли ко лбу, но он уже почти затих.
– Да как ты посмела тронуть моего сына? – Гвидо вскочил с места, с грохотом опрокинув стул. Он тяжело дышал, на шее пульсировала вздувшаяся вена.
Адриана даже бровью не повела: она старалась поудобнее устроить ребенка на материнских коленях.
– У него просто рука между прутьями застряла! Придумали тоже, решетка вместо люльки, – она показала отметины на крошечном запястье, где кожа покраснела и уже заметно припухла, отвела малышу волосы со лба, вытерла слезы салфеткой, потом снова села рядом со мной. Адальджиза принялась один за другим целовать измученные пальчики.
Я опустила ладонь сестре на колено и почувствовала, как та напряжена: еще минуту назад такая сильная и независимая, теперь она вся дрожала от страха.
Гвидо, наконец справившийся со стулом, рухнул на него, свесив руки почти до пола. От горделивого хама, только что наоравшего на беззащитную девчонку, даже замахнувшегося на нее, осталась только тень. Не знаю, как долго он переводил бессмысленный взгляд с бокала на стакан с водой и обратно, но именно этот образ запечатлелся у меня в памяти.
Над столом повисло молчание, изредка прерываемое беспокойным всхлипыванием сразу же уснувшего на руках у матери ребенка. Я легонько коснулась плеча Адрианы: мы поняли друг друга без слов.
– Спасибо за обед, все было очень вкусно, правда-правда. А теперь нам надо идти, у сестры через час автобус обратно в деревню, – скороговоркой выпалила я.
Расстроенная Адальджиза беспомощно взглянула на нас и едва заметно покачала головой: совсем не так она представляла себе это воскресенье.
Я подошла попрощаться и почувствовала исходящий от ее сына запах теплого хлеба. Время от времени он вздрагивал, но не просыпался, и я позволила себе коснуться его отглаженной кофточки. Какая мягкая, тонкая! Должно быть, еще из моих: Адальджиза хранила их в коробке на верхней полке шкафа вместе с другими сувенирами из детства. Заметив на ее синем платье выпавший волос, я не задумываясь стряхнула его, словно пытаясь вернуться в то время, когда она казалась мне недостижимым идеалом.
– А десерт? Хотя бы попробуйте!
– Может быть, в следующий раз, – бодро ответила Адриана.
– Секундочку! – воскликнул Гвидо. Он быстро завернул кусок пирога в бумагу и проводил нас до двери. – Сами видите, я пока только начал приводить здесь все в порядок. Обязательно заходите снова, поедим в саду.
Когда ворота закрылись, мы дружно вздохнули.
– А ты молодец, неплохо держалась.
– Кто-то же должен был пойти к ребенку. Они что, не понимали, что ему больно?
Мы пошли по тротуару вдоль сада, но на углу я решила, что для автобуса еще рановато, и убедила сестру спуститься на пляж. Почти все зонтики были закрыты: сезон только начинался. Я сняла туфли и сошла с дорожки на песок, она с легким сомнением на лице двинулась за мной к линии прибоя. Мы были почти там же, куда приезжали когда-то давно вместе с Винченцо, и теперь молча вспоминали о нем.
Я сбросила одежду. Адриана поглядела на меня, как на сумасшедшую, потом тоже разделась, оставив страх на теплом песке, рядом с платьем, взяла меня за руку, и мы вошли в воду вместе, в одном белье. Косяк крошечных рыбешек пронесся мимо, пощекотав наши лодыжки. Мы постояли немного, привыкая к холоду, потом она осторожно пошла глубже, а я сразу нырнула, забрызгав ее с ног до головы, и она в ответ принялась топить меня, изо всех сил пытаясь удержать мою голову под водой.
Наигравшись, мы замерли друг напротив друга, такие одинокие и такие близкие: я – по грудь в воде, она – по шею. Сестричка, невероятный, невозможный цветок, выросший на клочке земли, невесть как прилепившемся к скале. Это она научила меня бороться за то, что мне дорого. Сейчас мы уже не так похожи внешне, но воспринимаем мир, в который попали, совершенно одинаково. Нас спасло то, что мы все это время были вместе.
Мы смотрели друг на друга поверх мерцающей яркими бликами глади воды. Безопасное мелководье осталось за спиной. И тогда я, слегка сомкнув веки, поймала ее в плен, за решетку своих длинных ресниц.
Примечания
1
Средней школы, соответствует российскому седьмому.
(обратно)2
Горячий и влажный юго-западный ветер.
(обратно)3
Кафе-мороженое (ит.).
(обратно)4
Первое менструальное кровотечение.
(обратно)5
Запеканка из баклажанов под сыром.
(обратно)6
Вооружаться (ит.).
(обратно)7
Булочка-бриошь длительного хранения в индивидуальной упаковке производства компании Motta.
(обратно)8
Сыровяленая ветчина.
(обратно)9
Батман тандю (от фр. «тянуться») с плие (от фр. «сгибать») – упражнение классического балета, ведение носка ноги по полу с последующим переходом в полный присед.
(обратно)10
До Рождества в Италии продолжается пост, и на ужин в Сочельник обычно готовят рыбу.
(обратно)11
Или (лат.).
(обратно)12
Или (ит.).
(обратно)13
Мини-сериал по одноименному циклу романов Э. Сальгари.
(обратно)14
Тосканское печенье в виде сухариков с миндалем. Обычно подается с vin santo (святое вино – ит.) – десертным вином, употреблявшимся в церковных обрядах.
(обратно)15
26 декабря, сразу после Рождества.
(обратно)

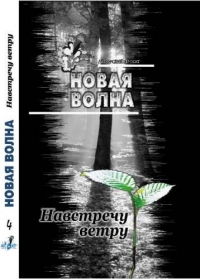
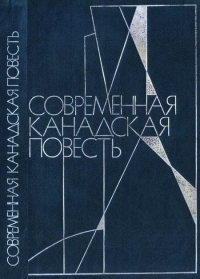





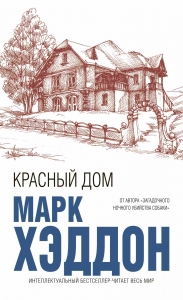
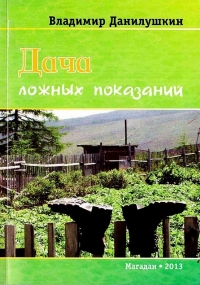
Комментарии к книге «Арминута», Донателла Ди Пьетрантонио
Всего 0 комментариев