Борис Екимов ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
ПРО ЧУЖБИНУ
В конце декабря объявился на хуторе Вася Колун. Он всегда старался подгадать к празднику: Рождество ли, масленица, Пасха, Троица, когда сам Бог велит погулять. Околачивался Вася в последние годы в райцентре да в городе: шоферил, чем-то торговал (не от себя, конечно), машины ремонтировал. Словом, на все руки. Как, впрочем, и многие нынче. Колхозам — конец. В городах заводы стоят. Вот люди и применяются. Тем более молодые.
А Васе Колуну — лет тридцать. Разведенный. Сам себе голова. Где-то мыкается; порой к матери приезжает. Поживет — и снова нет его. Бывает и при деньгах, шикует. А чаще материнский загашник проверяет да отъедается на деревенских харчах.
Нынче Вася под Новый год подгадал. Как раз приморозило, снег выпал. Он и объявился. Приодет: новая зеленая куртка-пуховик, такая же шапка с козырьком и наушниками, высокие ботинки со шнурками. А морда, словно у кота, круглая. Сразу видно: не голодал.
Автобус из райцентра останавливался возле бригадной мастерской и гаража. Там вечно люди толклись. Васю Колуна сразу углядели. Да он и сам подошел, поздоровался с земляками.
— Откуда, Васек? — спросили его. — Морду наел. Либо с курортов?
— Из тюрьмы.
Шутку поняли.
— Подскажи адрес. Мы тоже туда. Всем кагалом.
— Кагалом не советую. Получится групповая, — предупредил Вася, но адрес дал: — Шварценпумпе.
— Это где ж такое? — опешили.
— Федеративная Республика Германия.
Народ смолк. Вроде шутит мужик. Но вид не шутейный. Из сумки поллитру достает. Значит, с прибытием, как положено.
Разлили. Выпили. Кое-что прояснилось. Оказывается, наняли Василия какие-то чечены ли, грузины перегонять машины из Германии к нам. На самолете — туда. Там дают машину. Гони. В Белоруссии забирают. Три штуки он пригнал. На четвертой немцы тормознули на границе. В компьютере его имя. Плати штраф, триста марок. За что, не понял. Да и денег нет. Дали два месяца тюрьмы. Отсидел в этом самом Шварценпумпе.
Это — прояснилось. Поверили в тюрьму. Дело житейское. На ком греха нет! Кое-кто сутки сидел, а кое-кто и побольше. Тут у себя никому ничего не докажешь, а там — и вовсе. Тем более с чеченами связался.
Словом, поверили. И в Германию, и в тюрьму. Но вот дальше Колун такое понес, что пришлось его останавливать.
— Телевизор, — говорит, — в камере. Цветной, одиннадцать программ показывает. Гляди хоть круглые сутки. Камеры на двоих, на троих. В каждой туалет, душ с горячей водой.
— Хорош, — сказали ему. — Вася, ты поплыл. Иди к маме и отсыпайся.
Брехунов в округе хватало. Но не таких. Тем более когда о тюрьме поет. Чего-чего, а про тюрьму на хуторе знали не понаслышке. Костя Шамин три года отсидел за родную тещу. Иван Быков, как говорили, за любовь к сложной бытовой технике. Три холодильника из Дома быта упер, в райцентре. Николай Мазаев отсидел восемь лет. «За дело», — коротко отвечал он любопытным.
Так что про тюрьму, про зону, про тамошние порядки кое-что знали. И конечно, лапшу на уши вешать не позволили.
Цветной телевизор… На двоих камера… Горячая вода, туалет…
Как говорится, брехать бреши, но знай меру. Хутор, конечно, хутором, но не такие уж тут дуболомы живут. Кое-что понимают.
Словом, направили Васю домой. Проспись, парень, а потом приходи. Гостям всегда рады, особенно если с бутылкой.
Прогнать-то человека прогнали, и он ушел. Нормально. И не качался. Значит, не больно пьяный. И после его ухода появились кое-какие сомненья:
— Все же — заграница… Капитализм… Придуряются. По телевизору глянешь…
— По телевизору чего хочешь можно показать. Пропаганда! Они ведь ныне нас туда агитируют. В свою веру. Вот и стараются!
— Карахтинцев из Вихляевки ездил с женой, к ее родне, в Германию. Тоже рассказывают…
И тут неожиданно взорвался Николай Мазаев.
— Все это — лажа, тухта! — кричал он. — Фуфляк! Полощет мозги! Простыночки! Телевизор! Я от и до прошел, от звонка до звонка. И пересылку, и «крытку», и зону! Всего навидался, нанюхался, накушался! Парк культуры и отдыха! Да там гнобят хуже нашего. Потому что там — порядок, а не кильдим. Там все полицейские — амбалы, рост не ниже ста восьмидесяти. Будут они с тобой цацкаться. Там — дисциплина!
Обычно мужик неговорливый, Николай аж трясся — видно, задело его. Еле успокоился, напоследок твердо сказав:
— После работы идем к Васе. Пусть попоет, салажонок. И я его расколю. Отцом-матерью клянусь, я его выведу на чистую воду.
С того дня и пошло и поехало. На хуторе — разговоры лишь про тюрьму немецкую. А Николая Мазаева пришлось потом в больницу везти. У него язва открылась. Видно, от нервов.
Всю неделю Васю Колуна по хутору из дома в дом таскали. Всем интересно послушать, хоть и не верилось, потому что похоже на сказку.
— Камеры есть на двоих, на одного, на четверых. Мы жили двое. Туалет, умывальник, душевая, горячая вода круглые сутки…
— Вот дают! А у нас баню закрыли, и, видать, насовсем.
— Правда, туалет и душ — совмещенные.
— Это как? На всех вместе, в коридоре?
— В каждой камере. Но унитаз и душ в одной комнате. И в каждой камере цветной телевизор. Одиннадцать программ показывает.
— Сколько?!
— Одиннадцать.
— Обнаглели… — вздыхал кто-то. — Тюрьма называется.
— Хочешь — мультики смотри. Отдельная программа. Хочешь — футбол, хоккей, другой спорт. И детективы, там все понятно: бух-бах! Хоть круглые сутки гляди, не запрещается. Так же в каждой камере — холодильник.
— А чего там холодить? — интересовались.
— Как чего… В магазине чего купил. Магазин каждый день работает. И выбор не то что в сельпо. Чего нет, заказываешь, назавтра привезут как штык.
Для этих бесед, для расспросов — в том ли, другом доме — обычно устраивались на кухне. Бутылка-другая на столе, закуска: квашеная капуста, соленые огурцы да помидоры, холодец, сало. Выпьют и слушают. А курить мужики выходили на волю. Иначе надымят — крыша поднимется.
— Днем все камеры — настежь. Ходи гуляй по этому, по другим этажам. Хочешь, иди в спортзал, тренируйся. Там — оборудование: штанги, гантели, тренажеры. Дорожка такая, как транспортер. Бежишь, бежишь, а все вроде на месте. Велосипеды. Теннис настольный. Не хочешь спорт, иди в библиотеку. Книжки — на всех языках. И на русском есть, я брал.
— А вас там много ли русских-то было?
— Один я. С Украины — полно, с Румынии, поляков много, чеченов, азербайджанцев. А из России — я один.
Вася сидел у стола — за почетного гостя: круглолицый, спокойный. Понемногу выпивал. Закусывал холодцом и говорил:
— Вот холодца там нет. Чего нет, того нет. А остальной жратвы — от пуза. Утром обязательно йогурт.
— Чего-чего?..
— Йогурт. Вроде кислое молоко, но сладкое, с фруктовыми добавками.
— Ох и брешет… — негромко, но явственно сквозь зубы цедил Николай Мазаев. Он по всем хатам за Васей Колуном таскался, пытаясь разоблачить.
— На завтрак — йогурт, — спокойно продолжал Вася. — Колбаса, сыр, кофе, само собой, хлеб.
— У-ух и брешет… — шептал Мазаев.
Вслух говорить он уже не решался, боялся, что прогонят, как в первый вечер, когда он устроил скандал. Вывели его тогда мужики и домой отправили.
— Все это — без нормы, от пуза. В обед — густой такой суп дают, суп-пюре. Гороховый, овощной, вроде нашего борща. Потом — мясное с гарниром и фрукты.
— А шампанского не было? — не выдерживал Мазаев.
— Танцы были. Несколько раз. Под оркестр. Мужиков и баб вместе выпускали. Танцевали. И тогда давали вино и пиво.
— Ну ты же брешешь?! Какие еще в тюрьме танцы!! — не мог сдержаться Мазаев.
— Николай! — предупреждали его. — Иди покури.
Мазаев послушно выходил. И уже там, в коридоре ли, во дворе, кому-нибудь из мужиков доказывал яростно:
— Ведь явно он брешет! Я — лично, от звонка до звонка… И в показные лагеря попадал, есть такие, туда иностранцев возят. Но там… Не дом отдыха! И не детский сад! Та же пайка! Он брешет!
Худой, морщинистый, Николай кидался то к одному, то к другому. Глаза его аж горели.
— Ну и пусть брешет, — успокаивали его. — А может, и правда. Капитализм…
— Там — еще хуже нашего! Там — полиция! Все — амбалы!! Брешет он…
А вот другие верили. И удивлялись. Особенно бабы. Да и как не удивишься!
— Если не работаешь, то все равно дают пятьдесят марок в месяц на карманные расходы. Хватает… А если работаешь, то триста марок — это самая маленькая зарплата, меньше не бывает. Это когда ходишь двор убирать. Работают в саду, в теплице, у кроликов, в прачечной, в мастерских. И пятьсот, и семьсот марок можно получить.
— А если по-нашему — это сколь?
— Ну, считай… Марка — это десять или двенадцать рублей. А сейчас и больше. Пятьсот — значит, более пяти тысяч, шесть ли, семь.
— Новыми?
— Ну а какими же?
— Шесть миллионов старыми?
— Да.
— За месяц?
— Конечно.
— Да за такие деньги двух дойных коров можно купить!
— Быка два года кормишь, а за него и полторы не дадут.
Поднимается шум и крик. Потому что такие деньги… Каких не видали. По двести, по триста рублей получка, да и та — лишь в уме: пишут в конторе ведомости, а денег какой уже год не дают.
— Брешет, гад! — теряя голос, сипел Николай Мазаев. — Я за уборку, за полтора месяца… С комбайна не слезал… День и ночь… Полторы… И тех не дали… Брешет! — И, не выдерживая, выскакивал на улицу, на мороз, чтобы остудить голову.
Вася Колун спокойно этот гвалт пережидал. Не торопясь выпивал стаканчик, закусывал холодцом, окисляя его помидорным рассолом, хвалил:
— А вот холодца там нет. Чего нет, того нет.
Когда народ успокаивался, плыли дальше:
— Мыло, шампунь, зубные щетки, паста, бритвы и прочее — все это бесплатно дают. В ихней одежде ходишь. Белье меняют, постельное, нижнее, полотенца хоть каждый день. По коридору ездит телега, шумят: «Кому в стирку!» Кидаешь туда грязное, а чистое выдают.
— Это — жизнь… — завидовал кто-то. — Курорты. Попасть бы туда…
— Пожалуйста, — сообщил Вася. — Поезжай в Берлин, там станция ЦО, прямо в городе. Обойдешь станцию, там — контора. Дают адреса бесплатных ночлежек. И там народ ушлый, объяснят, как попасть.
— А чего, надо податься!
Так и проходил вечер: Вася рассказывал, его слушали. Кто верил, а кто сомневался. Порою шумно спорили, прикладывая к своей жизни. Николай Мазаев обычно до конца не выдерживал, уходил, бросив напоследок: «Брешет Колун!» Но назавтра — как штык! — он снова прибывал Васины байки слушать. Теперь уже в другом доме.
Зима. Вечера долгие. Бабы платки вяжут. А послушать интересно. Чужая жизнь. Тем более не телевизор, а живой человек.
Бутылку-другую на стол. Соленья, холодец, домашнее сало. Вася Колун — на почетном месте. И пошло-поехало:
— В камере — холодильник, цветной телевизор, шкафы для одежды, тумбочки, стол…
Сегодня в одном доме эта песня, завтра в другой зовут.
Васю Колуна дома ругала мать:
— Не ходил бы по людям, не позорился. Весь хутор гутарит…
— Чего? — не понимал ее Вася.
— Ославят… А ты еще молодой, тебе жить. А об тебе все… Доездился. Сроду в нашей родне никого не судили.
— А-а… — отмахивался Вася.
Мать ничего не понимала, и втолковывать ей было бесполезно.
Вася, как всегда, пожил на хуторе пару недель, дождался, когда мать пенсию получит, и уехал. Видели, как он к автобусу шел: в зеленой теплой куртке и кепке с ушами, высокие ботинки — все ненашенское.
Он уехал, понемногу стали забывать и о нем, и о тюрьме немецкой. Жизнь нынче непростая: в колхозе все валится, зарплаты нет, запчастей, горючего для техники купить не на что. А ремонтировать трактора все равно надо. Весна придет, никуда не денется. Сеять надо, да еще сколько с осени непаханого осталось.
Бригадир с утра ездил в контору, оттуда приезжал злой, кричал:
— Чего ждете?! Делайте своими силами!!
— Как делать?! Ты видишь или нет?!.
Начиналась ругня. Потом бригадир говорил со вздохом:
— Либо нам кинуть все, забрать семьи и уехать… в эту, где Колун сидел… С теплым унитазом. У кого адрес? А? Он же говорил. Кто записал?
Оказывается, никто не записал.
— Ну, тогда вперед и с песней. Слезы нам никто не утрет. И кормить нас никто не будет. И нечего ждать. Время ждать не указывает.
Время и впрямь понемногу тянуло к весне. Январю, считай, конец. Февраль остался. Надо успеть. Потом как пойдет одно за другим: бороновать, сеять, пахать… И пошло-поехало. До белых мух.
Стоял конец января. Мороз. Снегу навалило. А днем солнце пригреет — и кое-где начинает с крыш капать, сосульки растут: кап-кап… Кап-кап… Ясно так. Синицы порой пробуют голос: дзень-дзень! А ребятишки из школы выйдут, на весь хутор детские голоса звенят. Это — знак. Дело к весне.
СИРОТА
В конце зимы пришла из поселка весть: умерла наша соседка — старая тетка Фрося.
Человек грешный, не больно я ее жаловал, хотя прожили рядом век. Во-первых, детская память, она ведь крепче взрослой. Время послевоенное. Соседки — сплошь горькие вдовы: тетка Поля да тетка Таня, тетка Паня. У всех трудные заботы. А мы, детвора, мыкаемся туда да сюда. Но сроду со дворов не гнали. Еще и угостят сладкой морковкой, пареной тыквой, хрусткой репкою, а то и пышкой, чаще — картофельной ли, свекольной. «Покушай, мой сынок…»
Тетка Фрося жила много лучше других. Но к ней во двор попросту не заглянешь. Она будто и не ругливая, но спросит: «Чего тебе?» Сразу чуешь: лучше обойти этот двор.
И напогляд была она бабой суровой: мужиковатая стать, траченное оспой лицо, большими ногами ступала по земле крепко, враскачку. Как говорится, умела жить. Какие-то люди к ней приезжали, сама часто отлучалась, колеся по своей округе да чужим краям. Торговое ремесло в те годы было прибыльным, но опасным. Оно, что называется, каралось. Но тетка Фрося водила дружбу с женой начальника НКВД, и милиция ей была не страшна.
В те трудные годы она не голодала, как все. Носила не серый ватник, не юбки из крашеной мешковины, а настоящие платья, даже крепдешиновые, и пальто с каракулевым воротником.
И мужика себе нашла, прикормила его, оставаясь, конечно, во дворе и доме полноправной хозяйкой. Слово ее — закон.
Мелькнул было какой-то племянник-сирота. Но тетка Фрося, недолго помыслив, постановила: «Будет шалаться вечерами, по гулянкам шлындать, а ты жди его…» И сирота-племянник пропал.
Объявилась ненадолго свекровь-старуха. «Гордится сынами… Степан, Кузьма, Микита, Миколай, Тимофей… — передразнивала ее тетка Фрося и от себя добавляла: — Нарожала нищебродов». Старуха исчезла.
Мужа своего соседка держала в ежовых рукавицах, погоняя «дураком» да «пьяницей». Хотя он вовсе не был ни тем ни другим.
По молодости он был красив. На старых фотокарточках — лихой моряк. Работал всю жизнь механиком. Выпивал весьма умеренно. С получки — двести грамм да кружку-другую пива. Конечно, под хмельком приходил. Но разве это пьянство? Это сейчас мужики пьют будто перед Страшным судом. А тогда — редко и в меру.
Так они и жили. Тетка Фрося — всему голова и ум: «Денежка, она завсегда… С деньгами ты — человек… За деньги я чего хошь…»
Потом даже оказалось, что в доме прописана лишь тетка Фрося, потому что супруг ее «дурак и пьяница, а я все своими руками, это все — мое. А он нехай идет куда хочет…».
А мне нравился тетки Фроси мужик. Когда он постарел, мы с ним порою беседовали. О житье-бытье, о делах огородных, садовых, о рыбалке, конечно.
Высокий, костистый, вовсе беззубый, со впалыми щеками, бедовал он в летней кухнешке, но никогда не жаловался. Рассказывал про мышь, которая приходит к его завтраку и не боится. Про умных пауков, какие сети плетут не ошибаясь. Про диких древесных пчел, которые поселились в наличнике дверей, изрешетив его словно соты. Он их не трогал. Садился рядом и глядел на непонятную чужую жизнь. «Тоже ведь все свое… — мне растолковывал. — Порядок. Одни — сторожат, другие — мусор тянут, третьи — харчи несут. Премудрые…»
Мне нравилось это наивное удивление чужой непонятной жизнью. Я сам такой.
Зимою сосед мой рыбачил со льда: жерлицами — на щук, мормышкой — на окуня, «пулькой» — на судака. Летом — огород. Он — большой. Много земли. Тетка Фрося в свое время отхватывала у соседей, там и здесь. Даже в суд подавала за эти клочки.
Так что огород просторный. Хватало соседу работы. С ранней весны до снега.
Когда он постарел и стал силу терять, к прежним «дураку» да «пьянице» прибавилось «лодырь» да «обжирала».
Оставив жену в просторном доме, сосед удалился на жительство в летнюю кухню. Там — печка, кровать да стол.
А потом началось вовсе горькое. Сосед стал терять память. Как-то приехал я зимой, зашел в кухню, где жил старик, а там — тетка Фрося. Сидит возле печки, растапливая ее, объясняет мне:
— Говорит, забыл, как надо печку топить. Как дитё… Вот топлю ему.
Я поглядел на растерянного соседа, на тетку Фросю, послушал ее, погоревал и немного порадовался. Ведь недолюбливал я ее. А теперь увидел, что она все понимает. Это — мудрость на склоне лет. Плохо ли, хорошо, но рядом полвека прожили. Теперь дотянут помаленьку, помогая друг дружке.
Так я думал.
Но уже через неделю тетка Фрося отправила своего немощного супруга в дурдом. «Сама — больная, за мной бы кто глядел…» — постановила она с прежней твердостью. Там старик прожил недолго. Схоронили.
Теперь вот и она померла. Господи, упокой…
Но умирала тоже непросто. Страдала, кроме прочих болезней, повышенным кровяным давлением. Глотала таблетки. Нынешней зимой случился инсульт. Отнялась правая сторона тела: рука и нога. Шевельнуть не может. Плашмя лежит, но головой соображает и языком ворочает.
Ухаживали за ней наследники: племянник мужа с женой. Воды поднести, лекарство подать, покормить и прочее.
Уже на другой ли, третий день, помыслив, тетка Фрося спросила:
— А если я есть не буду, то сколь проживу?
Ей что-то ответили, успокаивая, но она гнула свое:
— А если я и воду не буду пить?
В ответ опять уговоры да успокоенья.
И тогда, как всегда, слушая лишь себя, тетка Фрося постановила:
— Не буду ни есть, ни пить. Не троньте меня.
Она закрыла глаза и больше уже не открывала их, не отзываясь и отвергая всякую помогу.
Неделю она вроде все слышала, чуяла, но молчала, не открывая глаз и плотнее сжимая пересохшие губы, когда пытались ее хотя бы попоить. Потом впала в забытье до самой кончины.
Нынче — весна. Птицы с юга летят. Вот-вот и мы тронемся от городского нашего жилья на летованье, в поселок. Там — первая зелень, тишина, покой.
И снова о тетке Фросе.
Последнее лето, оставшись вовсе одна, она вдруг вечерами приладилась песни петь.
Солнце сядет, отступает жара. Тетка Фрося выбирается из дома на крылечко. Посидит, повздыхает, потом начнет:
Я по батеньке плачу. Ой да плачу-горюю…Поет она, конечно, лишь для себя. То — громче, то — тише. Порою вовсе слов не разобрать. Но зачем слова? Это — не песни, это — жизнь, далекие дни ее. Такие далекие, что уже и не разглядеть.
Тетка Фрося на рассказы о жизни своей была скупа. Что-то если и скажет, то ненароком. Знаю, что росла она без отца на хуторе Ерик.
Ой да плачу-горюю… Я по родной сторонке грущу…Революция, белые, красные… Долго на Дону полыхало. Пока не выгорело. Где-то там затерялся, пропал родной батенька.
О себе тетка Фрося говорила скупо. И то лишь под конец жизни. Что-нибудь вспомнит, скажет слово-другое:
— Жили в коммуне… Кулеш в бригаде давали. По два черпака. Юшка… Пашанина за пашаниной гоняет с дубиной. Через край пьешь. Мамушка меня жалела, свое отдавала…
Я по мамушке плачу, Я по родной горюю… Ой да плачу-горюю… По родной своей.А потом и мать куда-то исчезла. Кажется, в тюрьму посадили. Тяжкие были времена.
Ой да плачу-горюю… Я по родной сторонке грущу.Летние вечера долги. Светлые сумерки. По двору топает ежик, шуршит, что-то ищет, потом хрумкает — значит, нашел поживу. Кошка трется о ноги, мурлычет, прощается перед сном. Тишина.
В соседском дворе, на крылечке, старая женщина негромко поет о жизни своей:
Я помню тот вечер холодный, Когда ты на фронт уходил. В шинели солдатской, в фуражке военной Меня ты домой проводил.Это — про войну. Тетка Фрося в войну кашеварила у военных. В наших же краях, вот здесь. Кашеварила, таскала еду прямо в окопы.
И естественно — дело-то молодое, житейское — конечно, была любовь. Лет ей сколько было? Сейчас — восемьдесят три. Значит, тогда — двадцать шесть. Не молоденькая. Из себя незавидная, на лицо — рябая. Но кто-то голубил. Теперь все иное забылось: страх, кровь, окопная грязь, — все ушло, осталась лишь память любви. Кто он был — лихой старшина или вовсе молоденький, с тонкой шеей солдатик? А может, и тот, и другой…
К тебе я вернусь, дорогая подруга, И нежно тебя обниму.Нет, не слезы в ее голосе, а лишь светлая память. Хотя и не вернулся, и не обнял. И надо было жить дальше.
Вот и жила. Теперь померла. Хотя могла бы, наверное, и протянуть еще. Не захотела. Серьезная баба.
Человек грешный, я ее недолюбливал. Было за что.
Но буду помнить последнее лето. Вечера. Тихие песни.
Ой да зародилася на свет Сиротина горькия…Наверное, так и есть.
НА ЛЬДУ
Городское зимнее утро. Обычная прогулка, чтобы продышаться да сон разогнать. Берег Волги. Январский крепкий мороз. На том берегу поднимается в тумане багровое солнце.
Ледяной панцирь реки изломан. Медленно плывущие ледяные поля, прибеленные снегом, там и здесь секутся широкими трещинами, разводьями, просторными майнами. Пассажирские теплоходы да их помощники ледоколы прокладывают путь от берега к берегу.
Льдины с хрустом ломаются, наползают одна на другую, скрежещут и тянутся вниз по теченью. Багровые, розовые, желтые морозные дымы курят над зябкой водой. Утреннее солнце с трудом пробивает холодный туман.
Уже месяц стоят холода, и пора, давно уж пора могучей реке застыть, а потом еще снегом укрыться и дремать до весны, в покое. Но не дают. Недалеко, вверх по течению, гидростанция. У нее зимы не бывает. А здесь еще — переправа. Ломают лед и ломают.
Январское утро. Над рекой — ледовый скрежет и треск, морозные дымы. Нет покоя реке даже в зимней стылости.
И сразу вспоминается родина. Дон, озера: Нижнее, Бугаково да Назмище. Там сейчас покой. Лед лежит толстый, а сверху — снег. Где берег, где вода — не поймешь.
Во взрослой поре чем нас, добрых людей, порадуешь, чем удивишь? А вот мальчишками с таким нетерпеньем ждали мы первых морозов, льда. И не потому что — рыбалка, коньки. Просто ждали первого льда. Это ведь — радость.
Вначале застывают малые озерца: Кондол, Гусиное, Мужичье. С вечера проясняет. На закате свет солнца режуще желт. Чуется стылость. Ночью — звезды. Земля задубеет. Хорошо, когда погода ясная, тихая, мороз — без снега. Тогда лед ложится зеркалом. Кинешь камешек — он скачет, подпрыгивая, а лед звенит, поет. И чем дальше камешек убегает, звон тоньше, хрустальней.
На берегу — ребятишек ватага. Чей дальше камешек убежит, прозвенит? А кто-нибудь сдуру бухнет булыгу, она — бурк! И нету. Пробила молодой ледок.
День-другой миновал, лед крепнет. Звук становится глуше. И вот уже можно ногой пробовать первый лед. Осторожно прокатиться возле берега. Потрескивает, гнется, но держит. На то он и первый лед. Смелые, вперед! Сколько радости…
И не только в детстве. Нынче, когда морозы встали, я глядел-глядел — и не выдержал, поехал. Надо на первый лед взглянуть. Завел машину и покатил. Восемьдесят верст — не дорога.
В поселок и заезжать не стал, а прямиком на Нижнее озеро, к гирлу его, к протоке, что выходит к Дону. Добрался, вышел на берег, вижу: к самому сроку попал. Дон стоит. Посередке — шершавый лед, от шуги; к берегам — гладкий. А озеро — словно зеркало: ни морщинки. Светит, переливаясь зеленым стеклом, от берега к берегу. И там, на озерном молодом льду, уже сети ставят, «зарубаются», как рыбаки говорят. Значит, можно смело идти, не опасаясь.
И пошел. По берегу — полоса мутной белесой наледи. Это днями раньше волной ледяные забереги набивало. Потом они смерзлись. Но это лишь край, кайма. А дальше покатил по прозрачно-зеленоватой чистейшей глади. Он тонок, молодой лед; шагаешь ли, катишь по нему — он потрескивает, звенит, но не здесь рядом, а дальше, у берегов, отзываясь на твой шаг и вес.
Ясный день, белое искристое солнце, чистое голубое небо, морозец. По берегам озера щеткой стоит сухой чакан-камыш, выше — старые обомшелые вербы, белесой коры осокори, черные дубы. Все в покое. Птицы убрались на юг да к жилью человечьему. Будто нет ничего: пустой займищный лес, прибеленная снегом земля, солнце, небо, молодой лед… Но так хорошо, так славно — на душе ли, на сердце.
Зеленое, в два пальца всего, ледяное стекло. Под ним — темная глубь и глубь, шесть ли, семь метров. Здесь — родники. Сияющий гладкий лед насколько хватает глаз, по всему окружью, украшен узорчатыми снежными цветами. Словно одуванчики разметал по льду тихий вей. Приглядишься — и вправду волшебный цветок: стрельчатые кристаллы, иглы, веточки. Жарко дыхни — нет его.
Это — ночная изморозь. Тонкий лед еще не в силах сдержать дыханья воды; оно пробивается там и здесь тончайшими струйками, превращаясь на морозе в иней, куржак. И получается волшебный цветок, который во тьме ночной помаленьку рос да рос. Теперь вот открылся. Ветер подует — сметет его. Но нынче — тишь.
Ложусь на лед и гляжу. Хрупкие кристаллы, узорное кружево, словно в детстве на окошке разглядываешь морозный узор.
А лед прозрачен и гладок. Ясно вижу себя, словно в зеркале. Приглядевшись, замечаю, как подо льдом вода течет, струится, какие-то пылинки ли, пузырьки ли воздуха движутся по теченью, порою золотисто вспыхивая под солнцем. Если долго смотреть, то, кажется, видишь, как по нижней кромке нарастает лед. Мороз градусов двадцать. День-другой — и окрепнет ледок. А сейчас прогибается и трещит. Но держит.
Поодаль один из рыбаков спешит вдоль пробитых лунок с веревочным урезом через плечо, он бежит, а озерный лед звенит в такт шагам его.
Первые рыбаки. Вдвоем сети ставят. Другие пока соберутся, а эти уже с уловом. Местечко тут неплохое, у гирла, у выхода из озера в Дон. Тут — щука и лещ, судак, жерех попадается, крупный окунь да нахальная рыба «гибрид» ли, «душман», слепленная и разведенная ученым народом. Настырный этот «душман», говорят, рыбью икру жрет. И потому с каждым годом его все больше, чего о другой рыбе, привычной, донской, увы, не скажешь.
На молодом тонком прозрачном льду хорошо лежать, разглядывая таинственную глубь, перебираясь потихоньку с места на место. Какая-то рыбка пройдет, сверкнув серебряной чешуей. Возле берега порою углядишь клешнястого рака. Мальва ходит, как и летом, стайками. То одна блеснет, то другая. Им кормиться, расти. И где-то здесь караулит их зубастая щука. В такую пору потрошишь щуку ли, окуня, в них мальвы — как в кошелке.
Большая рыба сейчас на ямах стоит. Сом да сазан. Сбились в глубокую яму там теплей — и дремлют во тьме, сонно шевеля жабрами. Зимний покой…
Зимний покой и в мире земном. Легкий снег на придонских холмах и в займище. Желтый камыш по берегам, местами пробитый кабаньими тропами. Голые деревья. Ни ветра, ни птичьих голосов. Далекое небо ленивыми кругами меряет коршун-зимняк. И — все. Окрестные хутора далеко. Звуки людской жизни сюда не донесутся. И слава Богу.
Белое холодное солнце, просторные, скованные ледяным панцирем воды. Тишина.
Потихоньку побрел к рыбакам. Надо поздороваться да новости собрать. С осени не видались.
Пока к ним добрался, они уже третью сеть ставят, протаскивая веревочный урез подо льдом, от лунки к лунке, словно шнурок в ботинке. Продернут на всю длину, привяжут сеть за верхнюю обору — и под лед ее. Ловись, рыбка…
Начались обычные разговоры: кто, где да чего. Оказалось, что успел я вовремя. Вчера еще по Дону шла шуга. А ночью встала река.
В лунке я померил толщину льда. Угадал — два пальца. Даже не верится, что ходим и даже втроем стоим, а лед потрескивает, но держит. А ведь внизу — шесть ли, семь метров. Представишь эту темную холодную глубь и гибкую корочку льда, всего в два пальца, — жутковато становится. Но — дело привычное.
Зимний день, за полдень перевалив, быстро спешит к вечеру. Рыбаки мои сети поставили и убрались. А я через займище выбрался к Дону, потом вернулся на озеро. Лунки уже затянуло льдом. Потянул ветер. По берегу, по льду — желтый свет солнца. Оно уже склонилось к закату, вот-вот на холмы ляжет. От подножий деревьев по снегу тянутся долгие синие тени. От придонских круч до середины реки — вечерние сумерки.
Пора уезжать. Жалко… Так быстро день прошел. Но и — детская радость: к первому льду успел. Хоть и камешки не кидал…
Вспомнил, сыскал на берегу невеликий камень и запустил его через все озеро. Камень подпрыгивал, молодой лед звенел все тоньше и тоньше. И наконец смолк.
А в душе остался этот серебряный звон. Остался надолго, до следующего перволедья. Светлая память долга.
У ТЕПЛОГО МОРЯ
Крым. Приморский поселок Коктебель — место известное. Справа высятся громады Карадага, Святой горы, слева — покатые холмы степного Крыма.
Осень. Середина сентября. Курортный сезон кончается. Море еще дышит теплом, ласково голубеет. Днем жарко светит солнце. Вечерами уже прохладно и по-южному быстро темнеет. Но люд отдыхающий под крышей сидеть не любит, и потому на набережной, на невеликом ее протяженье, которое издавна зовут «Пятачком», собирается народ праздный со всего поселка. Лениво прогуливаются, беседуют. По берегам этой нешумной людской реки, на гранитном парапете, на скамейках, возле зеленого плюща веранды, разложил и расставил свой товар народ торгующий. Продают всякое. Крымские сувениры из морских раковин; сушеных крабиков; браслеты, бусы, подсвечники из пахучей древесины крымского же можжевельника; всякого рода живопись: акварели, холсты, на которых конечно же крымские, коктебельские пейзажи: Карадаг, гора Хамелеон, скала Золотые ворота. Много изделий из коктебельского камня: сердолик, халцедон, опал, яшма, агат. Перстни, сережки, кулоны, броши, заколки. Сувенирная керамика: изящные амфоры, колокольчики, пепельницы, чаши. И даже какие-то «шмындрики» появились нынешней осенью. Прежде их не было. А нынче гляжу — написано «шмындрики». Стоят рядами забавные глиняные и раскрашенные люди не люди, звери не звери — словом, шмындрики.
Это не базар, а вернисаж, коктебельский Монмартр. Мастера, художники… Народ праздный гуляет, разглядывает, дивится, покупает на память.
Между тем темнеет. Но люди не расходятся. От моря веет теплом, доносится плеск волн. Хорошо гуляется. Насидимся еще дома зимой. Нынче — воля.
Здесь много знакомых лиц. Они — из года в год. Художник-пуантилист Игорь, волохатый и бородатый. Много лет он удивляет народ белым холстом начатой картины с двумя ли, тремя точками. Молодой красавец мулат, одиноко сидящий на парапете, отвернулся от людей к морю, словно вовсе не он раскрыл для продажи чемоданчик с брошами из камня. А Рюрика уже нет, умер. И знаменитый «Дом Рюрика», над обрывом, нынче сгорел, ушел к хозяину. Одни уходят, другие появляются.
Нынешней осенью появилась на коктебельском «Пятачке» старая женщина с букетиками сухих трав. Каждый вечер она устраивалась на краю «Пятачка» с товаром не больно казистым: сухая полынь да несколько простых цветочков, из тех, что растут вокруг. Что-то желтое да сиреневое.
— Повесите на стенку, — убеждает она редких любопытствующих. — Повесите, так хорошо пахнуть будут.
Но что-то не видел я, чтобы брали ее изделия. Рядом — перстни да серьги с сердоликом, броши из яшмы, пейзажи с морем, с луной. Привезешь домой — будет память. Всякий человек поймет: это — Крым. А что сухая полынь? Ее везде хватает.
Старая женщина в темном платочке, в потертом пальто одиноко сидит на краешке осеннего, но еще праздничного крымского вернисажа, порой объясняет:
— На стенку повесите… Так хорошо пахнет.
Осень. Быстро темнеет. Фонари теперь редки. Говорят, что платить за них нечем и некому. Пора разоренья. Сумерки «Пятачок» сужают. Первой с него исчезает старая женщина. Она еще не ушла, но как-то стушевалась, сливаясь с серым гранитом и темным асфальтом. Народ еще ходит да бродит, разглядывая сувениры, картины, подсвеченные фонариками. Старая женщина — во тьме, сгорбленная, возле невидимых уже пучков полыни. Потом она вовсе исчезает.
После моего приезда прошел день, другой, третий. Все было хорошо, все рядом: море и горы, дорога через пустынные холмы и низом, по самому берегу к Мертвой и Тихой бухтам, долгий подъем на вершину, откуда открывается просторный вид на многие километры — не только на море, но и в сторону гор, в долины. Там к вечеру рано густеют сиреневые сумерки. Когда-то ходил туда, через горы, к Старому Крыму. Теперь гляжу, вспоминаю лермонтовское: «Тихие долины полны свежей мглой… Подожди немного, отдохнешь и ты…» Нет, это — не о смерти стихи и раздумья. Это — лишь о покое.
Словом, и нынче хорошо в Крыму, в Коктебеле. Хотя времена иные, шумные. Вдоль набережной — сплошные магазины-скворечники с яркой пестрядью этикеток и оберток, кафе, шашлычные, закусочные. Сизый чад, орущая музыка до утра, по ночам порою грохот петард ли, выстрелов, повсюду — горы мусора, стаи бродячих собак. Но остались — море, небо, горы, степь; их молчание, ропот волн, шелест травы — словом, главное.
А вечерами — шумный «Пятачок» от затененной диким виноградом веранды до музея Волошина. Прогулки, разговоры, толкотня. Занятные безделушки на парапете и лотках. Что-то поглядишь, что-то купишь. Себе ли, родным и друзьям в подарок.
Все — славно. И лишь старая женщина с букетами полыни отчего-то тревожила меня. Она была так ни к месту и своим видом: потертое пальто, темный плат, старость, — и своими жалкими, никому не нужными букетами. Вечерами она, сгорбившись, одиноко сидела на скамейке на самом краю «Пятачка». Она была лишней на этом осеннем, но все же празднике на берегу моря.
Сразу же, на первый ли, второй день, я, конечно, купил у нее букетик полыни, выслушав: «Повесите на стенку… Так хорошо будет пахнуть». Купил, словно долг отдал. Но от этого не стало легче. Конечно же не от хорошей жизни прибрела она сюда. Сидит, потом тащится во тьме домой. Старая мать моя обычно, еще солнце не сядет, ложится в постель. Говорит, что устала. Ведь и в самом деле устала: такая долгая жизнь. И такой долгий летний день — для старого человека.
Старые люди… Сколько их ныне с протянутой рукой! И эта, на берегу теплого моря. Просить милостыню, видно, не хочет. Хотя подали бы ей много больше, чем выручит за свои жалкие сухие веточки и цветки. Но просить не хочет. Сидит…
Прошел день, другой, третий. Догорало крымское лето: солнечные дни, теплое море, голубое небо, последние розы, яркие клумбы оранжевых, желтых бархоток, разноцветных цинний, пахучих петуний, зелень деревьев. В Москве — слякотно, холодно и даже снег прошел, а здесь — лето. Днем — хорошо, вечером приятно погулять по набережной, постоять на причале возле рыбаков, ожидающих осеннего пришествия рыбы.
И всякий же вечер была старая женщина, одиноко сидящая возле букетов сухой полыни.
Но однажды, выйдя на набережную, увидел я, что возле старой женщины, на ее скамейке, сидит пара: бородатый мужчина — на краешке скамьи, на отлете, мирно покуривает, а супруга ли, подруга его живо беседует со старушкой. Сухой букетик — в руке, какие-то слова о пользе полыни и всяких других растений. А разговоры «о пользе» весьма притягательны.
Здесь же, неподалеку, почтенный человек который день бойко продает сушеные травы, коренья, четко обозначив каждое: «от головы», «от сердца», «от бессонницы», «от онкологии». Покупают вовсю.
Вот и возле старой женщины, у ее букетиков, заслышав что-то «о пользе», стали останавливаться. Дело — вечернее, день — на исходе, забот — никаких. Самое время побеседовать «о пользе». Беседуют и, гляжу, покупают. Дело-то копеечное.
Поглядел я, порадовался, побрел потихоньку своей дорогой. А на душе как-то спокойнее стало. А то ведь — словно заноза.
Следующим вечером — та же картина: женщины беседуют, бородатый мужичок спокойно покуривает рядом. Слышу, старушку уже по имени-отчеству величают. Значит, познакомились. Это — вовсе хорошо.
Текли дни. Хоть и долгое, но все же кончалось крымское лето. Жалуются, что нынешний год оно было ненастным: в августе — сплошные дожди, холода. В сентябре потеплело. Но осень помаленьку уже бредет с севера. Вот и в Киеве непогода. Скоро сюда доберется. И потому каждый день — в радость: море, горы, тепло. Как не радоваться, ведь впереди — зима, еще назябнемся. Вот уедем…
В последние дни сентября резко похолодало. Прошел дождь, море денек поштормило, вода стала по-зимнему стылой. Народ разъезжался, набережная и весь поселок пустели на глазах. Кафе, ресторанчики закрывались. Стихала музыка. И мне пришла пора уезжать. Еще день-другой — и до свиданья.
Перед отъездом, в дни последние, все как-то остро чувствуешь, видишь. И хоть знаешь, что приезжал ненадолго и, наверное, не в последний раз, но все равно будто щемит на душе. Все же здесь хорошо: море, запах его, волны плещут, рядом — горы. Покой.
В один из последних вечеров видел я и старую женщину с сухими цветами, и ее новых друзей. Последние, видимо, уезжали. Мужчина что-то записывал на бумажке. Наверное, адрес.
На следующий день — гроза, ливень, потом моросило. И к вечеру словно все смыло: лето, людей отдыхающих, шумный «Пятачок» на набережной, коктебельский Монмартр. Вышел я вечером — никого. И старушки моей, конечно, нет.
Но тогда, в тот последний мой крымский вечер, и теперь, от Коктебеля вдали, я вспоминаю о старой женщине без горечи и печали. Нашлись люди добрые, посидели возле нее, поговорили. А что еще нужно старому человеку? Теперь она зимует и ждет весны. Как и все мы, грешные, ждем тепла, небесного ли, земного. Любое — в помощь.



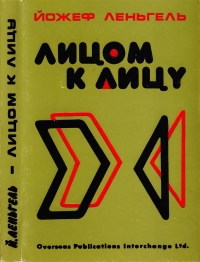

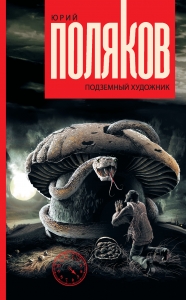







Комментарии к книге «Житейские истории», Борис Петрович Екимов
Всего 0 комментариев