Игорь Кудрявцев Десять новелл и одна беглянка
«Он будто хочет создать совершенный, замкнутый в себе мир, одновременно движущийся и неподвижный, мир-воспоминание и мир-настоящее; создать и никогда более к нему не возвращаться, чтобы мир этот существовал уже сам по себе, не теребя по пустякам отца-основателя, как мудрый, печальный, одинокий ребенок. К. и любит и ненавидит его, как любит и ненавидит свое писательство, которое никогда в случае И. К. не случается просто так. И в это „не просто так“ веришь».
Антон Нечаев
А. Б., другу, учителю
и первому читателю,
с любовью посвящаю
Пролог в бегах
В тридцать семь лет, на тринадцатом году совместной жизни и на третий день отпуска за свой счет Г. сбежал от жены. Сбежал, потому что не хватило толку уйти. Потому что боялся. Боялся, что его остановят и вернут (однажды остановили). Потому что сбежать — значит взять верх.
Его брат потом скажет: «Если бы не отпуск — ты бы никогда не ушел: тебе некогда было об этом подумать».
Ну, во-первых, Г. не ушел, а сбежал (есть разница). А во-вторых, для принятия решения необходимо не время, а мужество. Собраться с мужеством Г. действительно было некогда (если, конечно, корректно рассуждать о мужестве применительно к побегу). А подумать… он многие годы только и делал, что думал.
В первые дни после побега Г. не чувствовал ничего кроме страха: дикого, панического. Он спрятался (слава богу, было где), затаился (благо, не нужно было никуда, ибо у него был отпуск). Еда ему не требовалась, потому что есть он перестал. Единственное, что ему было нужно — кровать (правда, спать он тоже не мог). Кровать была. Г. лежал, почти не дыша, и ждал, когда пройдет страх. И страх прошел, вернее, сделался намного терпимей.
Но лучше Г. не стало. Ибо страх сменился беспокойством, которое согнало его с кровати и довольно долго носило по городу, казавшемуся Г. до странности красочным и ярким, как будто сияющим. «Вероятно, токсическое действие эмоций», — подумал Г.
На смену беспокойству явились апатия и вялость, а еще — сильное желание найти место, где бы он, наконец, смог начать жить.
А жить он хотел один. Совершенно. Это было его настоятельной потребностью. И Г. удовлетворил ее: снял милую квартирку на окраине. Дешево, отдаленно, одиноко — самое то, чтобы никто не видел, как он отвратительно терпит боль. А было больно: он отходил от брака, как от долгой, мучительной болезни.
Его одиночество не исключало походов на работу: нужно же где-то брать деньги. Впрочем, работа его не была публичной. Если быть точным, у него был всего один коллега, да и тот молчун. Больше Г. никуда не ходил. Хотя нет, он встречался с дочерью.
У него была дочь.
За три месяца к нему в дверь звонили три раза: приходили брать плату за уборку подъезда. В четвертый, прежде чем открыть, Г. взял деньги.
«Я живу один и могу делать все, что хочу, — думал он. — Вместо этого делаю то, что люблю: сижу дома — и читаю книги».
Ему было почти хорошо. Почти…
Нестерпимая похоть стала властно захватывать его, одинокого горожанина. Ибо нет ничего эротичнее города. Бывали дни, когда Г. почти бегом возвращался домой, не в силах больше терпеть сумасшедшее сексуальное напряжение. Но дом перестал спасать его. Г., если честно, страдал.
Есть мужчины — их немало — которым чрезвычайно трудно решить свою «сексуальную проблему». Г., вероятно, был из их числа. У него было все непросто.
Во-первых, повторим, Г. хотел жить один.
Во-вторых, он считал себя дремучим женоненавистником; были, очевидно, причины.
В-третьих, если он и обладал женщиной, то, как правило, страстно ее любил. Остальных можно было пересчитать по пальцам (кстати, всех его женщин можно было пересчитать по пальцам). Страстная любовь не входила в его планы, да он и не надеялся, чего греха таить.
А было еще в-четвертых и в-пятых (но не все сразу)…
«Нужно как-то отвлекаться», — решил Г. — Искусства, безусловно, отвлекают».
Чтение не помогало: почти все хорошие книги (а он читал только хорошие) были о любви.
«Есть еще другие искусства: изобразительное, например», — вспомнил он. Рисовать, слава богу, очень не хотелось, лепить — тем более (а он умел, в принципе). «Можно же смотреть альбомы». Стал смотреть: пролистывать Каналетто и подолгу разглядывать женщин с красными лобками Климта, милых девушек Вермера, красоток не первой свежести Рембрандта…
Музыка помогала: культивировать тоску…
Театр отпадал. Там были женщины. К тому же, в театр нужно было идти. По городу полному женщин.
Кино, важнейшее из искусств. Его можно было смотреть дома. Но в хорошем кино (а Г. смотрел только хорошее) были героини — и они были так прелестны. Для Г. это было настоящим мучением. А героев, вне зависимости от того — старые они или молодые, уродливые или не очень, окружали стаи сексапильных красоток, всегда готовых вступить с ними в связь. В половую.
Г. за шесть месяцев только три раза говорил с женщиной. Одна была женой его клиента, у нее была экзема. Вторая была хозяйкой его квартиры, она годилась ему в матери. Третья собирала деньги за уборку подъезда, ей было лет сто.
Периодически Г. задавал себе вопрос: «Сколько я уже не был с женщиной?» Подумав, с тоской задавал еще один: «А сколько еще не буду?..» Порой его охватывал страх: «А вдруг у меня больше никогда не будет женщины?..»
А потом он начал болеть. Соматическими заболеваниями. Одна болезнь сменяла другую, им не было числа. «Вероятно, гормоны», — предположил А., его коллега. Врач спросил: «Женщина есть?» Г. подумал, что это его личное дело. «Без женщины нельзя», — сказал врач, вздохнув. «Чрезвычайно сложно найти женщину, — думал Г., — особенно, если ее не ищешь».
«Плохо выглядишь, — сказал В., его знакомый. — Думаю, тебе нужно сходить к б. Если хочешь, я могу пойти с тобой, за компанию». «Нет», — отказался Г. «Я домашнее животное, — подумал он, — на воле не размножаюсь». В. не унимался, он хотел помочь: «Можно просто позвонить — и они приедут. Не мучайся — позвони…»
Г. долго мучился. А потом позвонил. Чтоб не сойти с ума.
Приехала. Молода, неплохо сложена — вполне даже ничего. Но Г. был физиономист, а ее лицо о многом говорило, даже кричало. Во-первых, что она тупица, беспробудная и неизлечимая; во-вторых, что лжива и порочна, — да, у нее было лицо подлой, лживой твари (а чего он, собственно, ожидал увидеть?).
А затем она открыла рот. Через пару минут Г. страшно захотелось быть где-нибудь в другом месте или, чтоб она поскорее его покинула. Она и покинула. Весьма скоро. Назвав его дикарем и пещерным человеком.
В магазине Г. встретил одноклассницу. На следующий день она позвонила и напросилась в гости. Пришла в двенадцать ночи, принесла литр водки. За сорок минут выпила почти всю бутылку, накурила, разбила унитаз и обозвала Г. ничтожеством…
«Страшнее одиночества — плохая компания, и худший вариант — компания плохой женщины», — подумал Г.
Новый год, семейный праздник, он провел один. В кругу семьи.
«Одиночество похоже на трясину: засасывает, и ничего не можешь поделать», — сказал он (по телефону) брату. «Ну что, ты на необитаемом острове», — ответил (по телефону) брат.
«Я почему-то всегда знал, что когда-нибудь буду жить один, — размышлял Г., — одного я не знал, что когда-нибудь мне придется жить одному».
Но постепенно он стал привыкать: к глухому и тоскливому одиночеству, к изматывающей неудовлетворенности, к страху. «Еще не счастлив, но уже не несчастен». Он даже нашел способ отвлечься, старый, как мир: Г. взял ручку, взял бумагу — и стал сочинять истории. В основном про себя, ибо про других он не так много и знал.
Вот эти истории…
Миллионы бактерий
Мой отец не любит фамилию «В*», терпеть не может.
А не хрен было так рано жениться! Впрочем, если б не женился, тогда б и меня не было. С другой стороны, женитьба к этому не имеет никакого отношения: ведь родился я через пять месяцев после свадьбы…
И когда отец уже был в армии.
Увидели мы его с мамкой ровно через два года; я, кстати, в первый раз. Представляю, как ей было тяжело одной. И вначале, когда я делал в пеленки — и потом, когда в горшок. Да и вообще ей было, я думаю, фигово; мамка была молода, мила и очень хотела целоваться — целоваться было не с кем, разве что со мной, — но это уже не то.
Когда я стал в горшок, мамка вышла на работу. В клуб. Ничего себе такая работка: все время на людях. А целоваться-то ведь хотелось ужасно. И тут — В*. Нет, ничего не было, я вас уверяю. Мамка и не думала изменять солдату. Просто чрезвычайно любила целоваться.
Донесли, конечно: мир не без добрых людей. Хотя, там и доносить-то было нечего, если честно. А не хрен было оставлять мою мамку одну, когда она так сильно хотела целоваться!
Я пошел в мать.
В юности друзья часто слышали от меня: «Скорее небо упадет на землю, и все реки повернут вспять, чем я женюсь». Но я женился (и небо почему-то не упало на землю, и только некоторые реки повернули вспять).
Женился я не то чтобы поздно, но позже, чем отец: сперва утолил сполна свою страсть к пылким лобзаниям, ну или, может, приглушил слегка, — женился по любви, разумеется. А до этого, конечно, бывал часто одинок — как все, вероятно. И целовался: часто, охотно и самозабвенно. Без интима и продолжения.
Одно время (когда я учился в институте) у нас вообще образовалось что-то типа клуба, «клуба одиноких губ». Два-три французских поцелуя в неделю — и одиночество уже не так тягостно (мама, я тебя понимаю). Здоровье опять же: эмоциональная сторона, кровообращение и, конечно же, миллионы полезных бактерий.
Бывали и недоразумения. Целовался я с Маринкой К*, просто так, для удовольствия. А у нее папа — профессор, с нашей кафедры. Вдруг замечаю: что-то стал он странно добр, оценки мне завышает. Приходим с другом как-то к Маринке в гости (а друг Маринку клеил). Папа дома. Меня увидел — обрадовался, стал по комнатам водить, усадил за стол, говорит, мол, надо выпить и поговорить. Ушел за рюмками — вернулся в шоке: Марина с другом на кухне целуются…
Целовался со стоматологом: она удаляла мне зубной камень, источник зловонья, средоточие мерзких бактерий; одна говорит: «Целоваться с тобой приятно, но дыхание у тебя — не очень свежее», — а сама курит как Джеймс Бонд.
А другая: «Ты совершенно не умеешь целоваться. Я знаю, меня, мол, учила искусству поцелуя лесбиянка». Стала учить.
А затем была натуралка. Красивая. Говорит: «Ты как-то странно целуешься». Стала переучивать. «Надо, — говорит, — технику осваивать». Осваиваю, а сам все свою первую вспоминаю, Т*: ее мягкие губы и юное дыхание, миллионы ее вкусных бактерий. Она была мила, и только — я был привлекателен в еще меньшей степени: прыщи, пальто с капюшоном, — я даже не был в нее влюблен. Но как мы целовались… аж шапки падали.
Поклонник Терпсихоры
Сидим. Пьем. Компания нормальная: каждый второй — писатель, каждый третий — читатель.
Вдруг… появляется она, худенькая богиня. С ней спутник. Тоже худенький, но смертный.
Почему я решил, что она — богиня? Ну, во-первых, она не вошла, как ее спутник, а, натурально, явилась. А во-вторых, она была божественна. Спутник был красив, даже чересчур для мужика, а она — божественна.
В волнении спрашиваю у Б*:
— Б*, кто это?
— Это сын А*.
— Да нет, — говорю, — с ним кто? Кто это? Почему она с ним?
— Это его жена… — отвечает Б*.
— Б*, не говори ерунду, — перебиваю я его, — она не может быть женой сына А*!
Богини не могут быть женами сыновей А*!
— И, тем не менее, это так, — говорит Б*. — Они вместе учились в балетном училище. Красивая пара, не правда ли?
Я промолчал.
Тем временем все разбились на красивые пары. Чтобы танцевать.
Пил с артистами: пьют шумно. Напившись, орут, поют громко и сольно, танцуют буйно и в одиночку. С писателями не так: пьют тихо. Напившись, идут танцевать парами.
Я один не снискал себе пары и не пошел танцевать. Я артистично наблюдал за танцующими. Я не танцую. Никогда. Крутые парни не танцуют? Да нет, крутой я вряд ли. Просто не люблю? Пожалуй, больше: я не хочу любить танцевать. Ощущаете разницу?
Это у меня давно. Я тогда под стол пешком ходил. Был у меня друг, Андрюха. Вот, играем мы как-то у него дома: машинки катаем. Приходит с работы его худенькая мама, устало садится на диван, смотрит на нас. Потом, только на меня. Долго — на меня. Встает, отнимает у меня машинку и говорит: «А ну-ка, дружочек, встань так… сделай эдак». Встал, сделал. Хватает меня за руку и тащит к моей маме. «Ваш сын, — говорит, — непременно должен танцевать… у него данные». У меня данные. Естественно, обе мамы вцепились в мои данные, с целью их эксплуатации: моя — неуверенно, худенькая — мертвой хваткой. На следующий день я уже был в балетной школе. Андрюхина мама встретила нас в зале. Там я впервые увидел маленьких худеньких богинь. Они мне понравились. Не понравились мне только мальчики в трусиках и маечках. У них был такой жалкий вид. Нет, я решительно не желал быть одним из них, я не хотел быть жалким мальчиком в трусиках и маечке. А тут еще худенькая мама: «Ну что, дружочек, любишь ты танцевать? У нас — непременно полюбишь». Я посмотрел в глаза своей маме и в отчаянии воскликнул: «Мама, я не хочу любить танцевать!»
Спасибо, мама!
Итак, все пошли танцевать. Пошел даже Б*. Ну, с ним все ясно: он поэт. Пошла богиня, и спутник с ней пошел. Это был танец. Танцевали все, но танец был только у них. И все расступились, чтобы не мешать танцу. А потом все стали, потому что захотели видеть танец. И они закружились, пользуясь освободившимся пространством. Он, конечно, ведет, как и подобает партнеру. Но, лучше бы не вел, лучше б отпустил.
А я смотрю, во все глаза смотрю. Потому что это красиво. А затем… встаю и разбиваю эту красивую пару. Чтобы танцевать. С худенькой богиней. И она пошла со мной… и сказала, что я хорошо танцую. Я хорошо танцую. А я ничего не сказал, я не проронил ни слова. Я не дышал.
Хотел ли я ее? Как можно хотеть богиню?! Я вообще, если честно, сомневаюсь, есть ли у богинь все то, ради чего, собственно, хотят. Так что, моя жена могла быть спокойна.
И я вернул богиню ее спутнику, поклонился и пошел к жене, потому что мне больше нечего было там делать. Я шел и думал: «Теперь я знаю об этой жизни почти все: я видел море, я целовал в попку своего ребенка, и я танцевал с богиней…» Хоть я вообще-то и не танцую. Никогда.
«Тысяча и одна ночь»
Моя дочь во втором классе написала порнорассказ. Ну, не порно — эротический. Хотя нет — пожалуй, порно. Обнаружили случайно, училка нашла. Хотела, дура, скандал устроить. «Я вам, — говорю (по телефону), — устрою! Предоставьте дело мне — у меня большой педагогический опыт». И жене говорю: «Предоставь все мне… у меня, поверь, большой опыт».
Но я-то начал гораздо раньше: даже писать еще не умел (только читать), — я это делал устно.
Конечно же, все началось с книг. Когда ты читаешь с пяти лет (существует легенда: с трех, — что, признаться, маловероятно), в шесть возникает естественное желание попробовать сочинять самому, — я и попробовал. Публика — средняя группа детсада № (?) — была в восторге, меня обожали, вернее, не меня, а мои сочинения.
Повторю: все началось с книг, — которые я читал вслух, сидя на стульчике посреди жующего козявки и сосущего подолы платьиц круга (ленивые воспитательницы регулярно подобным образом эксплуатировали мой юный дар, пропадая тем временем невесть где; думаю, пили чай или трепались, собравшись вместе), — а в большей степени — с книг, которые я читал в уединении: других книг.
Так вот, вслед за уходом воспиталки меня останавливали (кому охота в шесть лет слушать про зайчиков и курочек), всегда одной и той же фразой «расскажи лучше свое». И я с удовольствием рассказывал свою «Козетту», своего «Бульбу», своего «Чингизхана» (двух последних — недочитанных, но, разумеется, досочиненных). Кажется, я чересчур увлекался: «Козетта» у меня получалась сентиментальнее и, я бы даже сказал, легкомысленнее что ли; про «Бульбу» я уж вообще молчу. Но хитом, безусловно, были «Приключения Бабы-яги», сочинение, целиком и полностью принадлежащее мне (конечно же попурри, винегрет из всего мною прочитанного), весьма и весьма фривольного, надо заметить, содержания. Этому сочинению неизменно сопутствовал шумный успех — фурор, другими словами.
А я купался в лучах славы. Недолго, впрочем: в один прекрасный (ужасный) день мне всыпали (всем талантливым сочинителям рано или поздно всыпают).
Подвела поклонница (нас одевали рядом), — говорит своей маме: «Он (я) нам так интересно рассказывал про то, что…».
Так быстро меня мама никогда не одевала.
Что, я был испорченным ребенком? Не думаю. Ничуть не более остальных детей — и уж точно, не больше окружавших меня взрослых, которых, кажется, я в детстве не особо жаловал. Подсознательно я ощущал, что почти все взрослые хуже меня: злей, лживей, порочней, несдержанней и т. д., — и может быть, хуже почти всех других детей. (Потом, через много лет, я узнаю, что на самом деле все так и есть: большинство взрослых действительно хуже большинства детей.)
Полагаю, в моих рассказах не было ничего непристойного. Я, собственно, ничего такого и не мог знать: я был домашним ребенком. И книжки читал всё приличные…
Например, «Тысячу и одну ночь». Ее я нашел, случайно, во втором ряду, на верхней полке (пришлось встать на стул). Книга мне очень понравилась, особенно «Рассказ о трех яблоках» (я только не понял, что такое «зебб», ну и еще там кое-чего не понял). Немного, правда, удивило, что она раньше не попадалась мне на глаза: я полагал, что знаю все книги в доме.
Так вот. Приходит мама с работы. Гладит меня по голове, ласково спрашивает: «Ангел (уже падший, по всей видимости), чего так увлеченно читаешь?» Я показал. «О-о, малыш, — забирая у меня книгу, сказала она, — боюсь, тебе еще рановато. На, почитай пока вот это». С этими словами она сунула мне в руки томик Пушкина.
Пушкин так Пушкин. Я вспомнил, что дядя Саша, мамин двоюродный брат, очень хвалил «Графа Нулина».
«Нулин» мне понравился. Правда, мама сказала, что его мне читать тоже рановато. Пушкина забрала. Я не обиделся, но подумал: вот, например, Том Сойер добился же поцелуя у Бекки Тетчер, а граф у Натальи Павловны — нет, — так почему же тогда «Тома Сойера» можно, а «Графа Нулина» — нельзя? Парадокс.
Уверяю, я не был не по годам развитым вундеркиндом. Просто был очень начитанным. Я владел массой информации, смысл которой был еще не совсем мне понятен, и интерпретировал ее по-своему, по-детски. В том числе все то, что касается взаимоотношений полов. Нет, ну меня, конечно, все такое чрезвычайно сильно интересовало — как всех, быть может — но волновать… волновать меня это начало немного позже, классе в третьем что ли (или во втором, как дочку?)…
Например, у меня была тематическая коллекция марок — живопись. Разрешенная эротика, так сказать (впрочем, живопись я действительно всегда любил). Любимая марка — «Источник» Энгра. Безусловно, источник на этой картине тоже изображен, но на марке этого не было видно совершенно. Я даже пытался срисовывать. Если бы мама обнаружила мои попытки, я бы ни за что не смог объяснить, что это источник. Не скрою, эта марка меня чрезвычайно сильно волновала; в некотором роде она долгие годы служила мне идеалом (позже я узнаю — практически недостижимым).
А что, думаете, у детей меньше эротических переживаний, чем у взрослых? Как бы не так. У меня — точно было не меньше, что я расцениваю как абсолютную норму.
Когда дочке было лет пять (или шесть?) — кстати, она в то время уже сама читала — я прочел ей «Козетту». Она плакала (я тоже, хоть и читал в сотый раз). Рассказал на работе: вот, мол, читали — плакали. Ф* говорит: «Читаешь ребенку разные гадости! Извращенец!»
Вот так. Все дело в «Козетте», — некоторые думают, — или во мне, извращенце. Ну да, у меня открыто стоят на полке «Декамерон» и томик «Тысячи и одной ночи» (тот же). Я никогда не боялся, что дочка возьмет его и прочтет (может, прочла? я же прочел), зато всегда опасался, как бы она не заглянула в один из тех женских журналов… не моих, разумеется. (Впрочем, «Тропик Рака» я все ж убрал на верхнюю полку, во второй ряд.)
«…Вообще-то, если честно, люди занимаются этим и когда не любят друг друга, — продолжил я, — но это, на мой взгляд, не особенно интересно; хотя, многие об этом пишут… многие взрослые; тебе же, боюсь, писать об этом пока не стоит… ну, хотя бы, потому что ты об этом еще не имеешь ни малейшего представления; это, как если бы я стал вдруг описывать в подробностях, в самых мельчайших деталях, город, в котором ни разу не бывал — получилось бы неинтересное вранье, — вот и у тебя такое же получилось… — немного подумав, я добавил, — кроме того, это еще и неважно сделано: сюжет банален, фабулы нет (хотя, Чехов писал, фабулы не надо), юмор прямолинейный…»
Я сильно переживаю, не сказал ли я тогда дочери лишнего, был ли в меру строг и достаточно ль корректен. Не навредил ли, не отбил ли у нее охоты творить…
Ведь пришлось же мне, например, наступить на горло своей песне, замолчать — на какое-то время.
Впрочем, через какое-то время я взялся за старое. Вслух, правда, больше не пробовал; да и благодарной, жующей козявки аудитории у меня уже больше никогда в жизни не было…
Только вот боюсь, за нынешние мои сочинения мама мне снова всыплет.
(А вот интересно, какую книгу моя дочь, когда сама будет иметь детей, уберет на верхнюю полку, во второй ряд?)
Сын учителя пения
В юности я был тенором и дураком. Пел как соловей — и вел себя как осёл. Не люблю вспоминать себя в юности — стыдно. А вот жена — напротив, любит. «Ты знаешь, — говорит, — какая я была? Я была такая…» Какая-какая?.. Думаю, дура была, как и я… и танцевала…
А я пел. И не я один. В период полового созревания завыли все парни в нашем классе, и забрякали на гитарах. Слухом, естественно, обладали не все, только некоторые. Впрочем, это обстоятельство мало кого расстраивало: пели — кто как мог.
Помню, я до последнего сопротивлялся инстинкту: запел чуть ли не последним из класса (ведь еще свежи были детские переживания: чувство брезгливого омерзения, связанное с уроками пения, отвращение ко всяким школьным мероприятиям, на которых почему-то всегда заставляли петь хором, — «петь» — это слово для мальчишки почти ругательное).
Но я все ж запел. И оказалось: у меня абсолютный слух, и голос, почти как у Робертино Лоретти, что неудивительно…
Ведь мой папа — учитель пения.
В нашем классе учились «три „Шу“» (фамилии, разумеется, у них были разные — такое бывает, в небольших населенных пунктах) — не красавцы, но, в общем, парни хоть куда, особенно Шу-1 — хоть куда: выше всех ростом и самый сильный в классе (пожалуй, и во всей школе).
Шу-1 пел и играл на гитаре. Лучше всех. Даже лучше Шу-2 и Шу-3, по всеобщему мнению.
Все девчонки были влюблены в него; за исключением тех, которые были влюблены в остальных «Шу». А он дружил с И*, самой красивой девочкой в классе, естественно.
В меня никто не был влюблен (через много лет я узнаю, что нравился В*, самой некрасивой девочке в классе, немного — К*, самой толстой, и, о боже, очаровательной Л* — она ушла после восьмого — самой большой любви моего детства, тайной конечно же).
Я стал учиться играть на гитаре, благо она у нас дома была (а еще: два баяна, аккордеон, труба, балалайка, гармошка, бубен и треугольник).
Так вот. Кто-то придумал однажды провести в нашей школе конкурс художественной самодеятельности, иными словами — конкурс талантов (до этого у нас не проводилось ничего, кроме смотров строя и песни). Участие — по желанию, так сказать, более или менее.
«Три „Шу“» немедленно заявили о своем желании участвовать. Никто в классе не сомневался, что они победят; и, казалось, никто больше не собирался выступать (бороться с «тремя „Шу“» — абсурд).
Но на следующий день ко мне на перемене подошла И*, самая красивая девочка в классе:
— Ты ведь играешь на гитаре, я знаю, — сказала она.
— Немного, — ответил я, смутившись — и было от чего: она назвала меня по имени (чего никогда раньше не делала) и тихонько дотронулась до моего плеча (хорошо, что этого не видел Шу-1, самый сильный в классе). Она знала, что делает.
И* мне нравилась; она всем нравилась.
Мы стали репетировать после уроков. В спортзале.
На первой репетиции И* напела мне мотив песни, которую собралась исполнять; оказалось, она неплохо поет. Подобрав тональность, я тут же сыграл. «А у тебя хороший слух», — удивилась она.
На второй репетиции И* говорит: «Не хватает второго голоса. Может, ты попробуешь подпевать мне в припеве…»
Я попробовал. «А у тебя хороший голос», — удивилась И*.
Особо мы не скрывались, но и не афишировали своей подготовки к конкурсу. И* знала, что делает.
Нашему дуэту было присуждено первое место, нам же достался приз зрительских симпатий. «Три „Шу“» заняли почетное второе. На их лицах читалось недоумение. И досада.
А учитель пения прослезился (он аккомпанировал на баяне некоторым участникам из других классов). Мой диплом лауреата он повесил дома на стенку; свои он хранил в шкафу.
С тех пор И* пела только со мной (целовалась, правда, с Шу-1).
На меня стали посматривать девчонки. А я втрескался в И*; петь дуэтом — это ведь так романтично, я уверяю.
Однажды мы с И* пели в клубе на День лесоруба. Когда мы замолчали, на лицах зрителей были слезы. «Какая пара», — говорили бабки. Слез не было только на лице у Шу-1; он сидел в первом ряду, злой.
После Дня лесорубов мы больше не пели.
В институте я тоже пел; когда в колхозе после работы я брал в руки гитару, все сбегались к костру послушать меня, — девчонки, работавшие в столовой (их у нас на физтехе было совсем немного), стали класть мне в тарелку больше мяса.
И в армии я пел, в ансамбле. И играл в духовом оркестре на большом барабане. Вместо того чтобы чистить картошку, драить полы и топать по плацу.
И в другом институте тоже. Так как это был педагогический, то девушек у нас было много: большинство. А мне даже удавалось завоевывать внимание самых красивых. Не всех, конечно — у меня были конкуренты: например, К* — кроме того, что он тоже неплохо пел, он еще был чертовски хорош собой (в отличие от некоторых); потом, Ш* — если б он еще и пел, у него вообще бы тогда не было конкурентов; еще М* — ума не приложу, чего они в нем находили. В общем, мои музыкальные данные помогали мне ощущать себя если не завидным, то, во всяком случае, вполне конкурентоспособным женихом. И я отлично понимал, что пение — безусловно, средство обольщения (одно из многих), довольно действенное, а самое главное — легкодоступное для меня, так как дано мне от природы.
Но потом я влюбился, сильно. И мои музыкальные способности мне ни хрена не помогли (как и тогда, в школе): она выбрала другого. Мой счастливый соперник пел и играл на гитаре гораздо хуже меня.
Больше я никогда не полагался на пение.
А потом, слава богу, у меня пропал голос. Зато вернулось чувство брезгливого омерзения ко всему, что связано с пением («петь» — это слово для меня почти ругательное).
Ту, что стала моей женой, я обольщал, разумеется, уже не пением.
Говорю одной как-то: в юности, мол, я хорошо пел. Не поверила. Докажи, говорит, — спой. Рад бы, отвечаю, да голос пропал. Не поверила!
А меня заело.
Повел к своим старым друзьям. Скажите ей, говорю, что я хорошо пел. Сказали. Смотрю, сомневается.
Повел к другим. И те сказали. И все равно сомневается.
Слышала бы она, как поет моя дочь — сразу бы поверила.
Дочь спрашивает однажды у своего капельмейстера в музыкальной школе: «Почему вы никогда не ставите меня солисткой?» Та отвечает: «Потому что ты нужна в хоре: все настраиваются по твоему голосу, как по камертону, ты ведешь весь хор».
Ничего удивительного, — ведь ее дед — учитель пения, и отец когда-то пел как соловей. Хоть и сам в это уже с трудом верит.
О козлах, особенно — красивых
Леха С* был красивый. Не симпатичный, а именно красивый. Симпатичный — это я. Маринка К* мне так прямо и сказала: «Вроде, посмотришь на тебя — урод-уродом. Но симпатичный!» И не красавец-мужчина. Таким у нас на худграфе был Миша К*: плечи, усы, улыбка — красавец-мужчина.
Я, признаться, ни хрена не понимаю в мужской красоте, но Леха… Объективно, Леха был самым красивым. Даже Катька Б*, славная Катенька Б*, «Мисс Пединститут — 90», на фоне Лехи выглядела… так себе.
Караваджо бы все отдал за такую натуру — его лютнист отдыхает: Леха был милее и краше. Предполагаю, подобная внешность была у Феба, сына Зевса. На мой взгляд, ни одному художнику не удалось достойно изобразить этого красавца-бога: у одного он похож на педика в шлеме, у другого — на прапорщика в бане…
Леху тоже рисовали. Лучше б Катьку.
Но не об этом. Не об этом. Не было у Лехи девушки. Никогда у него не было ни одной девушки. А было ему уже далеко за двадцать. Двадцать два, если быть точным.
Уж не знаю, сводило ли его это с ума, а то ведь некоторых очень…
Пожалуй, стоит рассказать. Был у меня в С* корешок Ника. Так вот его — сводило. При всем при этом — выглядел: сокол, как моя мама говорит. С ним бы любая пошла, запросто. Потому что сокол. Это мы, симпатичные, должны через зад выворачиваться — чтоб хоть какая-то заметила.
Я знаю, что говорю: я симпатичный, а папа у меня — сокол, как мама говорит (природа на птенцах соколов отдыхает). Впрочем, о папе не буду. О папе не теперь.
Так вот. Ника паниковал: дни идут, месяцы пролетают — девушек нет. А те по нём сохли, все. Ника этого не знал, не знал, что робеют девушки в его присутствии. Попытки были, с его стороны — неудачные крайне: что-то там все время было не так. «Она, вроде — да, — рассказывал он мне, — а я не могу, что-то меня останавливает. Она сказала, что я козел».
«Это несправедливо, — говорил Ника, — все вокруг спят с прекрасными девушками — один я до сих пор мальчик». Все вокруг действительно спали с прекрасными девушками. Большинство, правда, только на словах.
Потом меня в армию загребли. Ника писал: «Здравствуй. Я пока еще девственник… и т. д.» Вскоре и Нику забрили. Писал: «Здравия желаю! Я все еще девственник… и т. п.» А потом переписка заглохла. Надолго. И вдруг, получаю как-то от него письмо: «Здравствуй. Я женился, ее зовут Вика, я ее люблю…» Даже забыл сообщить мне: девственник он, или уже нет — от счастья, наверное.
No comment, в общем: мораль сей притчи ясна как день.
А по Лехе девушки не сохли — они хотели от него родить. Красивого ребеночка. Все, кроме Таньки Г*.
Г* была дрянь — есть же на свете дряни. К тому ж, по-моему, нехороша собой: все ее пороки были нарисованы поперек лица, наглого и неблагородного ее лица. Гадина она была, если честно. Говорят, гашиш откуда-то с юга рюкзаками возила. А ведь муж был мент. Делала, дрянь, что хотела; захотела — завалила Леху. Их роман был короткий, но бурный. Три дня они не выходили из Лехиной комнаты в общаге. А на четвертый — он ей надоел: «Красивый, но скучный».
Изменился Леха с тех пор. Замкнулся. Достоевским увлекся: лучше его, мол, о грехе никто не написал. Захожу к нему как-то, за солью вроде. «Соли нет. Почитай, — говорит мне, — „Бесов“, „Бесов“, — говорит, — почитай». Затем, разумеется — Лесков: никто лучше, мол, о праведниках.
Стал Леха в храм похаживать. Старославянский выучил: чтоб Книги читать.
И вот однажды по худграфу пролетел чудовищный слух: «Леха С* в монастырь ушел!»
А он ушел.
Сижу как-то раз в мастерской: натюрморт пишу. Заходит А*, говорит: «Какого я в церкви монашка красивого видела! Чудо». Пошли вместе в церковь. Монашка смотреть.
Конечно, это был Леха, я и не сомневался. Красивый такой. И ряса ему идет, и борода. Стоит посреди храма: молится. Очень красиво молится. И на колени красиво встает, и крестится, и лбом об пол красиво стучит.
А* говорит:
— Вот бы от этого монашка ребеночка родить, такого же красивого…
«А я, кажется, понял, — думаю, — почему он в монахи ушел: не смог никого полюбить, кроме Господа, красивый такой».
— Для тебя, — хамлю, — он слишком красив.
Знаете, что она мне ответила?
— Вы все, мужики — козлы! Особенно — красивые.
Совсем особый сок[1]
В отличие от некоторых, Ш* был благородных кровей: голубых, как моя мама говорит, — голубых и стопроцентно не русских. И по матушке, и по батюшке — всё немцы да поляки; и сплошь аристократы: курфюрсты и бароны, да магнаты и шляхтичи. Сам дагерротипы видел: Ш* мне с апломбом показывал. Один пращур — то ли градоначальник, то ли губернатор чего-то польского; другой — из немцев — тоже какой-то знатный вельможа, — все при саблях, при усах, с аксельбантами — никого в партикулярном. Дамы с барышнями — прабабки с бабками — изящно убраны, с веерами, с мопсами. И все в перчатках.
Ума не приложу, как Ш. дожили до наших дней, как их всех не истребили? как класс.
Ш* мне был другом, я ему — вряд ли. У таких не бывает друзей, только вассалы. Расстались мы из-за бабы: из-за моей. К сожаленью, без дуэли, хоть я во гневе и грозился надеть ему на голову тумбочку. Не было никаких оснований Ш* пачкать себя дуэлью с такой личностью, как я, тем более — из-за бабы.
Ш* был юноша светский: его в городе все знали. Все девушки. Красив был? Полагаю, что очень. Портрета не будет: их довольно написано — возьмите хоть Вронского (из нее, из «Карениной»). Ш* — вылитый, только блондин, постройней и повыше. «Сплошные зубы», соответственно. Даже кодекс нравственный у Ш* был как у графа: мужикам врать нельзя, но женщинам можно; обманывать никого нельзя — мужа можно; чужого брать нельзя — бабу можно. Обманывал, уводил.
Но не в красоте дело — ежу понятно. Мой друг обладал тем, чего не имели все красавцы; и нет такой силы, которая бы могла это дать. Именно ее… голубую, как моя мама говорит.
Бабы ее чувствовали, что ли? Ш* ведь не просто нравился — у девиц соски твердели (рассказывали, девицы мне сами рассказывали), когда он появлялся: спокойный, ладный, в джинсовом «ментике»[2] внакидку, сановитый чувак с полотен Ван Дейка, — и они сразу же готовы были ради него совершать всякие глупости, и сразу же совершали, и ни одна (насколько я знаю) впоследствии об этом нимало не жалела. Некоторые вообще на второй день приходили к нему с вещами: уже не могли без него жить. Ш* пускал, он всех пускал. И его мама тоже пускала, она всех пускала. Эта старая, добрая немка весьма благородных кровей, вероятно, считала, что общение с девушками полезно для здоровья ее мальчика. Уж она-то знала, что полезно, а что нет, ибо всю свою жизнь служила в аптеке. Она и лечила его сама, когда общение заканчивалось неприятными последствиями, она всех лечила. И меня однажды лечила. И его папа ничего не говорил. Этот старый, добрый поляк, в жилах которого текла, возможно, кровь королей, всем улыбался. Поднимал от книжки свои ласковые глаза, улыбался, а затем снова продолжал читать книжку на польском, французском, немецком, чешском или другом каком-нибудь языке.
Ш* тоже знал английский, но плохо. Умен был? Пожалуй, умен, по мнению некоторых, в основном дам. Описывать не стану — возьмите хоть Онегина (из него, из «Евгения…»). Все то же: «всему шутя», «огнем нежданных эпиграмм» и, конечно же, «тверже всех наук» — «наука страсти нежной». Копия, словом.
Играл, конечно. Я сам видел, как он играл в трясучку. Ушел, позвякивая, с целыми карманами медяков.
Как все аристократы, Ш* был меломан. В музыке он разбирался, что и говорить. Он и сам был, как «хорошо темперированный клавир»: добавляя к каждой ноте чуточку фальши, всегда, через все октавы, неизменно приходил к ноте до. В отличие от некоторых, которые вечно все испортят.
В свои неполные восемнадцать лет (на момент нашей встречи) Ш* успел устать от жизни совершенно, ну просто байронически[3]. Я был старше и восторженнее — я был ему нужен.
Мы вместе учились на худграфе, точнее, вместе не учились: весь первый семестр мы кутили. Впрочем, я все ж иногда брал кисти в руки. Ш* это удивляло. Он не рисовал. Как поступил? Так же, как и я.
Начну с него. Пошел как-то Ш* поступать в институт. И в вестибюле познакомился с приятной девушкой, приезжей: из какой-то автономии. Она подавала документы на худграф. На худграф так на худграф. На просмотре нужно было что-то показывать — девушка поделилась с ним своими рисунками. Звали девушку Лена Ч*; на экзамене по живописи их посадили рядом, по алфавиту. Лена нарисовала два горшка и два огурца.
Я был художником в армии, рисовал на стенах «Слава КПСС» и «Перестройка — дело партии, дело народа». К тому же, у меня дядя художник. На просмотре я показал его этюд. Сложнее было на экзамене по живописи: мне никак не удавался огурец, да и с горшком пришлось помучиться. За пять минут до конца экзамена наблюдатель вышел из студии. Две девочки, что сидели рядом, вдруг как зашипят на меня: ты, мол, все испортил, — быстро смыли мой горшок и, в две кисти, в стиле «a la prima»[4], наваляли мне натюрморт.
На сочинении нас с Ш* посадили рядом. Он писал — «Мастер и Маргарита», я — «Вишневый сад». Написали, Ш* тянет мне свой листок: проверь, мол. Проверил: исправил десять тысяч ошибок. «Должник», — говорит. Я думаю, это и стало началом большой дружбы.
Мы с Ш* с блеском поступили. Двух девочек отсеяли на втором туре, Лену Ч* на третьем. На другой день она пришла с чемоданом к Ш* жить; не могла забыть, как он носил ее после экзаменов на руках.
В первую же сессию Ш* вытурили — меня оставили.
Тогда Ш* решил стать художником: заперся дома и стал писать картину. Писал два месяца. Так себе картина, висит у них в гостиной на стене. Потом Ш* запил. Картин он больше не писал. Ш* не создан был ни для труда, ни для учебы. Его предки только служили: королям, отечествам. А тут настало время и Ш* послужить: пришла повестка из военкомата. Но его папа был старый битломан и пацифист, а у мамы — уйма связей в медицинском мире. Мама его отмазала. Пришлось, правда, месяц в дурке полежать, в отделении для депрессивных художников и писателей. Вышел — и снова запил. Предки кутили — Ш* спивался.
Ну и бабы, конечно. Где были бабы, там был Ш*, вернее даже, наоборот: где был Ш*, там были бабы. Они его обожали. Ш* был идеальным любовником: красивым, мягким, неконфликтным… и совершенно холодным и бесстрастным (некоторые — полная и безнадежная противоположность). Он нисколько не походил на прочих прелюбодеев: вечно озабоченных, беспокойных и бесстыдных. Его равнодушная, спокойная порочность была во сто крат ужаснее. Женщины не были для него ни предметом чувств, ни предметом долга. Вероятно, они были для него просто предметами. Полагаю, у меня есть все основания так думать: я был свидетелем. Скверно то, что он портил «предметы», он их пачкал: с женщинами, с которыми был Ш*, больше никто не хотел иметь дело, они считались опозоренными. Его ж реноме только упрочивалось.
Действительно, у него была репутация чуть ли не эксперта. Доходило до курьезов. Приходит к нему как-то знакомая девица, всего лишь знакомая, между прочим (Ш* рассказывал, он любил — рассказывать), и с порога заявляет:
— Ш*, сделай меня женщиной. Прямо сейчас. Мне позарез нужно стать сегодня женщиной.
— Но почему я? — удивился Ш*.
— Ты, Ш*, слывешь фантастическим любовником и не сделаешь мне больно, — отвечает девица. — Понимаешь, я люблю одного молодого человека, и он меня тоже любит. Я обещала ему, что завтра вечером ему отдамся. Но по дурости я наговорила ему про себя всяких глупостей, я такого про себя насочиняла. Я же не знала, что все так далеко зайдет. Он поймет, что я девочка и бросит меня. Он сказал, что все простит, кроме лжи.
Ш* не сделал ей больно.[5]
А потом он увел мою бабу.
Однажды в дедовском доме я нашел дагерротип. На нем — мои предки. Двое. Лица, конечно, не ахти какие благородные, но свирепые. Баб на фото нет. Бабы дома: ткут, прядут и стряпают.
А недавно я встретил «свою бабу». Которую увел Ш*.
Сильно повзрослела, малость пополнела; давно замужем. Стоит, смущенная, отводит взгляд: кажется, ей стыдно, что тогда, много лет назад, она меня бросила — подло, изменила мне. Ради нескольких дней с Ш*.
А я ее понимаю, теперь. И тогда, кажется, понимал — но злился. А теперь вот не злюсь. Может, в ее жизни ничего лучшего и не было, чем те несколько дней с красавчиком Ш*… которого я тоже встретил, намедни. И еле признал: рыхлый, почти лысый, глаза белесые, — видать тестостерон свой весь истратил. В отличие от некоторых.
Как Лев Толстой
В ** лет, на ** году совместной жизни и на пятый день жуткого, непрекращающегося скандала моя мать сбежала от моего отца. Сбежала, потому что не могла больше терпеть, потому что боялась. А еще, потому что сбежать — значит отомстить.
Она появилась у меня ранним утром, возбужденная и напуганная, с небольшой дорожной сумкой в руке.
— Пожить пустишь? — спросила она смущенно. — Я сбежала от отца. Как Лев Толстой. Ты не будешь меня осуждать?
— Мам, как я могу тебя осуждать? — отвечаю, — я же сам сбежал от жены…
Но сначала я убежал от него. Я это сделал первый. Как только закончил школу — сразу уехал учиться, чтобы никогда больше не жить с отцом под одной крышей. От него нужно держаться подальше, — таково было мое решение, продиктованное инстинктом самосохранения. Мой отец — настоящий ветхозаветный деспот: необузданный, жестокий и несправедливый. Его бесит и пугает все, что хоть малость отличается от него: его бесит и пугает все и вся. Он, если честно, невыносим.
Это наша семейная беда. Вообще беда.
Не представляю, как мать так долго его терпела. Очевидно, сильно любила, если конечно можно назвать любовью чувство, похожее на мазохизм.
Впрочем, я ее понимаю, всегда понимал и, разумеется, всегда жалел. Я даже отца пытаюсь понять, вникая во все обстоятельства его безумного существования. И зла на него не держу, хоть он и лишил меня родителей, эдип твою мать. Почти не держу…
— Ничего не бойся, — сказал я матери, — тебя здесь никто не тронет.
Недели две она выглядывала со своей кровати, как затравленный маленький зверек, почти не ела и не спала. Она боялась. Наконец страх прошел, но лучше ей не стало. Страх сменился злобой. Она проклинала отца, как могут проклинать только женщины. Как могут проклинать только женщины, умеющие беззаветно и преданно любить. Я слушал ее; матери нужно было, чтобы кто-то ее слушал.
А потом мать начала плакать. Она затопила слезами всю мою маленькую квартирку, горькими слезами обиды и жалости к себе. Я гладил ее седую голову; ей нужно было, чтобы кто-то ее гладил. И слезы промыли ей глаза. Она успокоилась.
«Красивые мужики — сущее наказание», — сказала она. «Некрасивые тоже не сахар», — подумал я.
Успокоившись, мать начала совершать от своей кровати маленькие вылазки. Сначала на кухню, чтобы сварить суп (она привыкла каждый день его варить). Потом — на ближайший рынок (надо же было из чего-то варить). Я ел этот суп: матери нужно было, чтобы кто-то его ел.
Наконец, когда мать начала уходить от дома достаточно далеко и подолгу где-то гулять, а в глазах ее вновь появилось беспокойство, — я понял, что ей надоело прятаться. Мать всегда была деятельной натурой. Очевидно, что ей захотелось начать, наконец, жить. Возможно, одной.
— Поеду я, сын, — сказала она как-то утром.
— Куда? — спросил я.
— Поживу немного у брата; может, еще чего придумаю. Если что — к тебе вернусь, — ответила она.
Я не сильно ее удерживал, понимая, что с ней происходит. Лишь горько пошутил:
— Одному, мам, жить хорошо, только невыносимо трудно. И вместе с кем-то жить хорошо, но невыносимо трудно. Никакой разницы…
И мать уехала. Пожила немного у своего брата… а потом сняла маленькую квартирку, купила телевизор и мягкую мебель, — попробовала жить одна.
Впрочем, через полгода мать вернулась к отцу. Звонит мне:
— Ну что, сын? Что скажешь по этому поводу?
— Ничего я тебе, мам, по этому поводу не скажу, — отвечаю. Я немного помолчал, а потом добавил:
— Знаешь, мам, слава богу, ты тогда сбежала не как Лев Толстой.
Люди веселого нрава
Жена говорит: «Ты меня обманул: я выходила за веселого, жизнерадостного… а ты оказался зануда, скучный, молчун».
Ну, во-первых, я не скучный, а спокойный, — надо различать. А во-вторых… я ей говорю, улыбаясь, мол: сердце мудрого — в доме печали, сердце глупого… ну и так далее. «Дурак ты, — говорит, — печальный. И не лечишься».
В молодости у моей жены было две подружки: С* и Э*, — вместе учились в N. «Вместе все время ржали», — говорила она.
Есть люди — их немало — испытывающие прямо-таки болезненную потребность в веселье. И есть производящие веселье люди, — таких, к сожаленью, меньше. Такой была С*, вне всякого сомнения…
Ее образ в рассказах жены производил приятное впечатление. Несмотря на то, что, кажется, она была нехороша собой. С* мне, в общем, нравилась; заочно.
С Э* было сложнее; что-то в рассказах о нем настораживало. И чем дальше, тем больше. Какой-то он был не такой…
Э* был истеричен, болтлив, жеманен, трусоват; он думал вслух и совершенно не скрывал своих чувств, любил шмотки до самозабвения и с трепетом относился к своему тщедушному телу. Но главное — он совершенно не боялся девушек, он с ними дружил, в прямом значении этого слова, — дружил, и только.
Сопоставив все факты, я рассудил, что модель его поведения удивительно похожа не женскую: он был бабой. Я так жене и сказал:
— Ваш Э* — как баба. Педик[6] какой-то, извини за выражение.
— Ты зануда, — разозлилась жена. — Ты просто не любишь веселых людей. — Немного подумав, она добавила:
— А еще ты гомофоб.
— Вот и неправда: я, между прочим, почти всего Пруста прочитал; и Жида, половину, — возразил я. — И потом, у меня есть знакомый гомосексуалист, З* (тоже все в молодости жеманился, ладошками наружу ходил).
— Видела я, как ты с ним общаешься. Руки не подашь.
Пожалуй, первым не подам. Я не брезгую, нет. И не боюсь. Я соблюдаю дистанцию, разговариваю холодно и на расстоянии, как с женщиной, контакт с которой нежелателен.
И, разумеется, то, что я не люблю веселых людей — неправда. Я и сам веселый. Только это не все понимают.
А потом от С* пришло письмо. В нем сообщалось, что она вышла замуж… за Э* (тот приехал к ней погостить да так и остался), а еще, что они все время ржут…
«Что, съел!» — сказала мне жена и пошла писать ответ.
Пришло еще письмо. С* писала, что Э* нигде не работает, только шляется, все деньги тратит на шмотки, в доме жрать нечего, но несмотря на это, они все время ржут…
«Вот так, — сказала жена, с укоризной. — Не то что некоторые».
А спустя полгода С* написала, что какой-то мужчинка полюбил Э*, тот ответил взаимностью и ушел к мужчинке жить.
Я ржал. Жена спрашивает, смущенно:
— Как ты догадался?
— Что я, мужика от бабы что ли не отличу? — отвечаю.
— Но им же было так весело вместе… — сказала жена.
А я подумал: «Половой вопрос — штука серьезная. Поржали, и хватит».
Следующее письмо пришло через год, в красивом конверте, и на марке — Иммануил Кант. С* писала, что ни хрена не понимает по-немецки, что она лохушка и ей никогда не выплатить долг «черному», который уговорил ее поехать работать официанткой в его баре, что все немцы придурки и особенно — один старый урод, что все время на нее пялится, а еще, что она все время ржет: на днях она обнаружила, что беременна…
Потом С* замолчала, на письма жены ответов не было. А года через два пришло письмо с фотографией. На фото — С* (действительно, нехороша собой) с коляской, в коляске Kinder. В письме она сообщала, что господин, который все время на нее пялился, сделал ей предложение, она подумала — и согласилась, господин заплатил «черному» ее долг и помог ей с документами. Теперь она Frau *, муж ее обожает, дочку считает своей. Муж старый, скучный, надежный.
Непритворная любовь
Надо мной кто-то поселился: этажом выше. Как минимум двое. Я их ни разу не видел, но слышу постоянно. Я думаю, они очень любят друг друга, ибо целыми днями занимаются любовью; разумеется, и ночами. Скорее всего, они молоды и бедны, потому что только у бедных может быть такая скрипучая кровать и только у молодых — столько задора. Я бы не сказал, что они уж очень сильно мне мешают, разве что некоторые страницы приходится по несколько раз перечитывать. А ночью, ночью я и сам часто думаю о любви — как все, быть может. Хотя, после их приезда что-то уж больно часто стал думать, — постоянно. Это ведь ничего, правда? Но…
В воскресенье ко мне приедет дочка. Потому что я воскресный папа. Она уже почти девушка, я же не слепой. Боюсь, звуки страсти ее могут сильно взволновать, а меня, при ней, — смутить, хоть я и не ханжа. «А ты музыку включи», — говорит В*. Какую музыку! Я люблю Альбинони, а дочка — какой-то «Бумс-бамс-Peas». Потом, так громко музыку мы никогда не слушаем; а в-третьих — вопрос: спать нам тоже под музыку? А есть еще в-четвертых и в-пятых.
Воскресенье не за горами — даже не знаю, что и делать. И чего они так любят друг друга? Самое плохое, что это — хорошо.
Со мной уже такое было: и то, что одинок… и то, что все слышу… и то, что, кажется, смущен…
Ну, родители — это понятно. Бывал смущен, хотя, чего, вроде бы, естественнее. (Что естественно, то и безобразно.) И еще было, а потом еще. Запомнился один случай.
Живу в общаге с Т*, в одной, что называется, комнате. За стенкой Р*, живет один. У Т* — подружка А*, у Р* — Н*. У меня — «Девушка с жемчужной сережкой» Вермера на стенке, — больше никого. Н* училась со мной на одном курсе, недолго. Ей было не до учебы: страстная. Но мы сначала этого не знали. Она меня даже как-то к себе звала: чаю попить. А я был занят. Если о чем и жалею в жизни — о том, что был занятым дураком. Потому что, когда Н* стала ходить к Р*, мы узнали о ней многое и в частности, что у нее редкий дар. А я даже локти кусал. Хотя, может, дар был у Р*.
И было так. Сидим втроем: я, Т* и А* — беседуем; а в это время за стенкой Н* пришла на свидание к Р*, это невозможно было не услышать. Я не представлял, что свидания бывают такими громкими. Продолжать беседу было бессмысленно; бессмысленно и по той причине, что А* мгновенно возбудилась, да и Т* стал несколько игрив. Разумеется, я оставил их одних и вышел в коридор, где, оказалось, слышно было не меньше, а стыдно было больше. «Хоть кому-то хорошо», — сказала Светка Г*, выходя из кухни.
Гулял я достаточно долго. Когда вернулся, Т* с А* уже спали, думаю, обнявшись (как еще можно спать вдвоем на односпальной кровати?). «Мы уже спим», — шепотом сказал Т*. Я тоже лег; на свою объективно-односпальную. За стенкой было уже тихо. Вскоре Т* и А* засопели. А мне не спалось: я думал о Н*, мне грезилось, что я все еще слышу ее голос… и — чудо: я вдруг подлинно его услышал.
Свидание, как видно (слышно), не закончилось. Я лежал, не шевелясь, и ловил каждый звук, каждую ноту. Это было потрясающе. Ни до, ни после ничего подобного я в жизни не слышал. И по степени, и по качеству.
Первая проснулась А*, я уверен (мне б, дураку, зашевелиться). Вторым проснулся Т*, я думаю (мне б хоть тогда пошевелиться). Обрадовавшись, что я так крепко сплю, тоже занялись любовью. Шевелиться было поздно. Эти хоть старались не шуметь. А я — не дышать.
Это было ужасно, как все чрезмерное. Мне было так плохо; когда вокруг всем было так хорошо.
Утром я проснулся позже всех. Чувствовал себя совершенно разбитым: так долго не шевелиться… и почти не дышать. Деликатность — это нелегко.
Сели с А* пить чай. Никогда не умел скрывать свои мысли. Что-то меня всегда выдает. Боюсь, лицо.
— Ах, ты все слышал! — смутилась вдруг А*.
— К счастью, — говорю, — нет. Мне мешала Н* все слышать.
Через неделю Т* от меня съехал. А через месяц А* мне, при встрече, говорит: «Свидетелем чего только ты не был — будь уж свидетелем и на нашей свадьбе».
В воскресенье дочка не приехала: мама не отпустила. Ну и слава богу, потому что это воскресенье было особенно громким. До следующего еще далеко — может, эти, сверху, еще съедут. Или разлюбят друг друга. Хотя, слышу — вряд ли.
Заходил К*, говорит: «А ты дай снотворного».
Может, этим, сверху?
Я понял: мне нужно самому принять снотворного. И уснуть. И проспать все воскресенье: ведь во сне не стыдно. А дочка, дочка уже большая; она уже почти девушка, я же не слепой.
Третий день надо мной ругаются: эти, этажом выше, — гораздо громче, чем занимаются любовью. Это что-то невообразимое (кстати, некоторых слов я никогда раньше не слышал) — а ведь они так любили друг друга. Даже не знаю, что и делать: в воскресенье ко мне приедет дочка. Я наверно сгорю со стыда. Придется позвонить ей и сказать, что я заболел. Заразной болезнью. Скажу, что у меня чесотка, или свинка, что я в детстве не болел краснухой, а теперь вот подхватил.
Слава богу, слышу, помирились; весь день занимались любовью. И, разумеется, всю ночь. Громче прежнего, пожалуй. «Любовь да будет непритворна», — в Писании сказано, в принципе.
Маленькая крепость
Я влюбился в маленькую тридцатилетнюю женщину. Практически с первого взгляда. В умную, красивую… да еще и еврейку.
Но сначала-то я даже не понял, что произошло. Смотрю на нее, говорю с ней — волнует она меня. Волнуюсь.
Домой пришел — и дома чего-то волнуюсь. Ну, думаю: пройдет — одичал просто, женщины давно не видел. Не прошло.
За четыре месяца я видел ее четыре раза: разумеется, искал встречи. На пятый — я перестал жрать и спать. Я уже знал, что со мной. Ничего подобного не приключалось со мной лет пятнадцать. Я уж думал, что больше никогда не испытаю этого чувства; я поставил на себе крест. Оказалось — рано.
Знал же я о ней совсем немного: лишь то, что зовут М*, что не замужем и, что еврейка.
Маленькое, ладно скроенное тело, носик сливочкой, семитский, голосок каркающий… и темперамент, — как можно не влюбиться в такую?
Я, дремучий женоненавистник, не подпускающий к себе женщин на пушечный выстрел, научившийся прекрасно (ужасно) без них обходиться — загнан был в угол. Затравленный любовью, я решил ей признаться…
А где искать еврейскую девушку, имея о ней столь скудные сведения? Риторический вопрос. Я пошел в синагогу. Меня встретил один хороший человек, по лицу видно, что хороший. Говорю:
— Я ищу девушку. К сожалению, я не знаю ее фамилии, знаю только, что ее зовут М*…
— Зачем она вам? — спрашивает тот.
— По делу. По очень важному.
— А почему я должен вам помогать? — говорит. — Может, вы шпион.
— Нет, — отвечаю, — я не шпион. Я хороший человек.
— Я тоже хороший человек, — говорит мне хороший человек. — Есть у нас такая девушка. Только, лучше бы у вас, молодой человек, к ней было не дело, а личная симпатия. Потому что М* у нас очень хорошая девушка, и мы ее очень любим.
Мне хотелось сказать, что я тоже ее очень люблю, но, конечно, я промолчал. Сказал только, что не испытывать к этой девушке личной симпатии невозможно.
— В шесть. Приходите, — говорит, — в шесть.
Почти все мои романы были буквально в течение четырех лет: такой бурный период; а потом — жена, только жена, долгое-долгое время только жена. А вероятно, если б я не учился в пединституте, то все могло сложиться иначе…
Например, в С* (на физтехе) девушек у нас почти не было. Романов тоже.
А в пединституте было много девушек. К тому же, каждый год прибывало пополнение. Все моложе и краше. Многообразие, так сказать, ситуаций и, при этом, почти полное отсутствие конкуренции.
Совершенно очевидно, что предпочтительнее ошиваться в местах, где «они» водятся стаями. Cherchais, как говорится, les femmes.
NB: в кои-то веки выбрался в филармонию, музыку послушать — и влюбился, в маленькую тридцатилетнюю женщину. А ведь даже не искал. Во всяком случае, изо всех сил пытался себя убедить, что не ищу.
Оказывается, когда тебе почти тридцать девять — страх быть отвергнутым возрастает почти в тридцать девять раз.
Но не прогнала: интересно же, чего еще этот странный тип, которого она всего несколько раз видела, скажет. А я говорю, страстно и убедительно говорю. А чего мне еще остается делать; если счастье без слов невозможно.
Говорю ей, мол, влюбился я в тебя: не сплю ночей, и есть совсем перестал. А она мне: «Попей „Глицин“ — и все пройдет». Эти таблетки, мол, активизируют процессы защитного торможения в центральной нервной системе при психоэмоциональном напряжении.
Стресс, короче, у меня. Все пройдет. А я-то, дурак, думал!
Но гуляем, автобиографии рассказываем. Стараюсь понравиться, изо всех сил. Она — не старается (даже, вроде, наоборот).
В кафе зашли. С питанием тоже непросто: ест только кошерное. То есть чего-то нельзя, чего-то с чем-то нельзя. Чего с чем, я так и не разобрался. Но, вроде, покормил.
«А ты, — говорит, — взрослый. Это приятно».
Кажется, больше ничего приятного она во мне не нашла.
Очевидно, поэтому она предложила мне быть ее другом. Только другом. Это самое унизительное предложение, какое мне когда-либо делали.
«Зато, — говорит, — мы теперь оба знаем, что мы хорошие».
Я хороший. Только некошерный.
Она отвергла меня. Разбила мне сердце и пошла исполнять шестьсот тринадцать заповедей иудеев.
А я пошел и в одиночку напился. Кажется, плакал. А вроде, всех мужеству учу.
Пришел брат.
— Влюбился я, — говорю, — брат.
— Кишки болят? — спрашивает.
— Болят, — отвечаю. — Все болит.
Попробовал пить «Глицин». Разумеется, ни хрена не помогло.
В* говорит: «А я думаю, что это только начало».
Может быть, и начало. Но так похоже на конец.
«Нужна, — сказал В*, — грамотная осада. Узнай, чего она любит, чтобы делать правильные подарки».
Я провел небольшую разведку. Сразу же выяснилось, что она любит одного певца. Давно и безответно.
Из любопытства, мы с братом пошли в филармонию, посмотреть на моего соперника. Певец был и впрямь ничего: сокол, как наша мама говорит. Пел, правда, на мой вкус, неважно. Зато он был стопроцентно кошерный. Она, конечно же, была там: стояла у стенки и влюбленными глазами пожирала певца.
— Эта женщина не для тебя, — сказал брат. — Оставь надежду.
— Хрен… — ответил я.
И начал осаду маленькой, неприступной еврейской крепости. (Не другом же ее, в самом деле, становиться.) Осада была не столь грамотна, сколь изнурительна. Наученный горьким опытом, на открытый штурм я не решался, предпочитая пассивные стратегии. Но цветы, конечно, дарил.
Крепость была неприступна. Абсолютно.
Отчаявшись, я совсем уже было хотел отвести все свои силы, как маленькая крепость вдруг пала.
Эпилог с беглянкой
В сорок лет, на десятый месяц совместной жизни и на третий день Хануки Г. стал отцом, — любимая родила ему сына. Через неделю мальчику сделали обрезание — все как у них там и полагается. Сына назвали Давидом.
Или дочку. Назвали, естественно, Сарой.
Так должна была закончиться эта история. Но закончится немного иначе.
Они прожили вместе целый год. Всего один год. А потом она сбежала.
Сбежала, потому что не хватило толку уйти. Потому что боялась привыкнуть и остаться. А еще, потому что сбежать — это ведь так нормально.
В пятницу, на закате, она, как всегда, колдовала своими маленькими ручками над свечами, тихо тараторя какую-то абру-кадабру, ломала хлеб на тарелке, разливала вино. Потом они ужинали и занимались перед сном любовью. А в субботу она сбежала. Ее не мог остановить даже запрет «не делать в шаббат более двух тысяч шагов»… ни даже запрет «маке бэ-патиш»[7]…
Беда обрушилась на Г., когда, казалось, счастье так реально (как это зачастую и бывает в жизни), — и потому отчаянию его не было предела.
Разумеется, Г. пытался ее вернуть. Они встретились, чтобы поговорить: и он говорил, говорил, говорил. Он просил, умолял, жаловался, плакал. Даже встал на колени, прямо в центре города. Она его не останавливала, она его больше не слушала.
«Прости, — сказала она, — я любила тебя, как могла».
А затем она ушла.
Г. совершенно потерял голову: ему казалось, что он сходит с ума, что произошла какая-то нелепая случайность. Что небо упало на землю, и все реки повернули вспять…
Г. снова остался один. Разочарование его было столь сильным, что ему не хотелось жить. Нет, Г. не собирался убивать себя. Просто желал забиться куда-нибудь в угол и гнить там в полном одиночестве.
Но не было такого угла.
Он не мог существовать в пространстве: о ней напоминало все. Все улицы, люди, дома, все предметы в его доме. Отчаяние просто душило его. Он был отвратительно несчастен.
Его друг Б. как-то сказал: «Может быть, страдание — это лучшее из того, что с нами происходит. Страдание меняет нас, очищает от скверны, обид, лжи… — немного подумав, Б. добавил, — к сожалению, утешением это является слабым».
Г. и вправду был безутешен. Безутешен и несносен. Если честно, он сам себя еле терпел.
«Нужно беречь людей от себя», — решил он. По возможности он так и поступал.
Но порой его страдания становились невыносимы. Он звонил кому-нибудь, например, В., и просил: «В., скажи чего-нибудь… чего-нибудь утешительное». Ну чего тот мог ему сказать? Разве что: заходи, выпьем. Г. заходил, они выпивали. И он говорил, говорил, не останавливаясь. Очевидно, у Г. была глоссолалия, болезнь, при которой люди говорят без умолку, оттого что они несчастны. Слова не помогали, как и водка. И тогда Г. разражался горькими, успокоительными слезами. И ему почти не было стыдно.
Однажды В. сказал: «Если взрослый, в здравом уме, сорокалетний мужчина плачет от любви, — не от потери денег или работы, — то этот мир, ей-богу, небезнадежен…», — фигню, если разобраться, сказал, но все равно было приятно.
«Мы, мужчины — жалкие существа, — думал Г., — так просто лишить нас мужества».
Как-то раз, в городе, Г. увидел бывшую жену, впервые после побега. В тот же вечер он послал ей sms-сообщение, в котором просил прощения за причиненные страдания. Совершив этот немного сентиментальный, но, в общем, совершенно искренний поступок, Г. вдруг понял, что ушел от нее, через три года после побега, ушел.
«Жить не скучно, нет, — с горечью думал он. — Но ежели не скучно, то почему ж так тоскливо?..»
А потом Г. начал болеть. Как Йов, он покрылся болячками с головы до пят. «Колись, чего у тебя произошло?» — спросил врач. Г. ничего не ответил, лишь с тоской посмотрел на врача. «Попей „Глицин“, — сказал врач, — ты должен хотя бы спать».
Он должен был спать. Но почему-то не спал. И ничего не ел.
«Ну, нельзя же так, — говорили некоторые, — нужно держать себя в руках». Таких было много, они были особенно омерзительны Г.
«А я понимаю, что с тобой происходит, — сказал Д. — Мой брат, когда от него ушла жена, повесился».
В общих чертах Г. знал эту грустную историю.
«Ты давай, это, завязывай, — сказал ему брат. — Попробуй отнестись к произошедшему по-философски». «Не могу по-философски, — ответил Г., — я был счастлив». «Да уж, — сухо заметил брат. — Ты даже поглупел».
«Хорошо живете, — сказал В. А., — жена пришла — жена ушла…»
Б., как всегда, был чуток и деликатен. «Наверное, нужно быть благодарным за то, что это было в твоей жизни…» — сказал он. «Пока я чувствую только боль», — пожаловался Г. «Боль уйдет… — ответил Б., — останутся только печаль и нежность». Б. всегда умел найти самые простые и нужные слова. Он продолжал: «Можно попробовать описать то, что ты чувствуешь». «Думаешь, это поможет?..» «Я не знаю», — вздохнув, ответил Б.
«Не удалось стать счастливым, придется книжки писать, — с грустью думал Г. — Так себе перспектива».
Что было дальше?
А дальше… дальше было вот что.
Г. спрятал все вещи, что от нее остались, убрал из платяного шкафа пустые плечики, один вид которых повергал его в полнейшее отчаяние, запер на ключ все ее фотографии, перевесил обратно, повыше, все вешалки и зеркала…
Оглядев свое жилище, Г. нашел, что оно стало почти таким, как прежде, до нее.
«Ну, что… — вздохнув, сказал он сам себе, — к одиночеству готов».
Не просто так
Гоша «не писучий». Он и не писатель — в самом прямом, натуральном смысле. Писатель — это тот, кто любит писать, а Гоша не любит; всеми способами избегает; манкирует; не снисходит. Гоша предпочитает для наших дней гораздо более элитарную деятельность — чтение; «зачем еще множить книги, если и так столько всего написано, а среди написанного так много хорошего?» — одна из вероятных Гошиных установок. Внутренний диалог между автором и его genius в нашем случае представляет собой непрестанное препирательство, унизительные уговоры, скандалы до мордобития (глядя на Гошу, действительно иногда возникает ощущение, что он только что с кем-то крепко подрался, причем с кем-то личным, глубинным, страшным). Возможно, с этим же страшным бился в ночи Иаков (и стал на всю жизнь хромым); от такого же страшного другой уже ночью отрекался Петр (и заболел навсегда виною). Наш герой не самонадеянный мальчик, он знает прекрасно, что этого внутреннего «уговорщика» не одолеть, но Гоша упрямый — без единого шанса, без всякой надежды в каждой схватке он стоит насмерть, неведомо что отстаивая. И лишь когда превосходящая сила необходимости тащит его к письму, и нет в запасе ни хитрых приемчиков, ни лазеек, Гоша делает вид, что смиряется и кропает что-то, совсем чуть-чуть, чтоб силища эта отстала. В этой тяжкой борьбе, состоящей из каверз и лобовых столкновений, вынужденно складывается литературный стиль моего друга Гоши Кудрявцева: стиль малых форм, сдержанных фраз, до упора напичканных эмоционально-интеллектуальным содержанием; это манера максимально ценного слова; одно слово Кудрявцева сопоставимо по ценности (конвертируемо) с циклом рассказов практически любого современного классика. Добрая половина этих «классиков» без всякой натяжки, играючи может быть списана в раздел «журналистики» (а зачастую списана и реально), где слово преходяще, сиюминутно и суетно; но Кудрявцев и журналистика… это сочетание можно представить лишь как следствие трагической катастрофы, сокрушительного — до основ — перерождения. Рассказы Кудрявцева — это скорее стихи, по насыщенности и изяществу одни из самых искусных. Но — не буду притеснять жанр — все же это проза, рассказы (известно, что на самых вершинах жанры смыкаются), полные драматики, быта, игры, иронии и самоиронии, подлинной биографии. Проза эта тяготеет к замкнутости, к закругленности (цикл новелл И. К. начинается и заканчивается побегом); склонен И. К. и к перфекционизму. Он будто хочет создать совершенный, замкнутый в себе мир, одновременно движущийся и неподвижный, мир-воспоминание и мир-настоящее; создать и никогда более к нему не возвращаться, чтобы мир этот существовал уже сам по себе, не теребя по пустякам отца-основателя; как мудрый, печальный, одинокий ребенок. К. и любит и ненавидит его, как любит и ненавидит свое писательство, которое никогда в случае Гоши не случается просто так. И в это «не просто так» веришь.
Антон Нечаев
Союз российских писателей
Русский Пен-центр
Примечания
1
«Blut ist ein ganz besondrer Saft». («Faust», Goethe) — «Кровь есть совсем особый сок» (нем.)
(обратно)2
Ментик — гусарская куртка
(обратно)3
Автор знавал одного байрона, лучшие годы которого «пришлись» вообще на 11–12 лет.
(обратно)4
A la prima — живопись по сырому, выполненная в один сеанс.
(обратно)5
Фридрих Энгельс писал, что эксклюзивным «правом первой ночи» польские и немецкие феодалы пользовались вплоть до восемнадцатого столетия включительно. Энгельс ошибся: некоторые — до двадцатого (включительно).
(обратно)6
Пардон. Автор за неполиткорректное высказывание своего героя ответственности не несет. Автор бы, безусловно, сказал «гомосексуалист», если что.
(обратно)7
Запрет «завершающего удара».
(обратно)



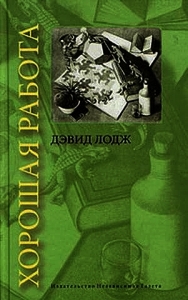

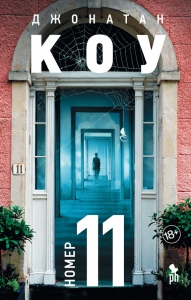


Комментарии к книге «Десять новелл и одна беглянка (СИ)», Игорь Федорович Кудрявцев
Всего 0 комментариев